Африканский капкан Рассказы Николай Бойков
© Николай Бойков, 2016
Редактор Александра Быстрова
ISBN 978-5-4474-0384-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Жажда
…Меня томит жажда… Радоваться и любить!
Точка. Точка. Запятая
Старик занимает одну комнату в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома. В двух других комнатах живет молодая семья — муж, жена и их четырехлетняя дочь Танечка.
Каждое утро, выпив неизменный стакан чаю с кусочком сахара, садится у окна. Последние пятнадцать лет он находит особое удовольствие — смотреть на жизнь.
С высоты девятого этажа хорошо видны и окраина города, одноэтажная, огородная, с заборами и сараями, многоцветными лоскутиками на бельевых веревках, и коричнево- полосатый склон совхозного виноградника, ощетинившийся рядами кольев, и аллея тополей — длинная стена сверкающей листвы, накрытая плющом и светом, или дождем. Как смело тополя уходят в небо! А голая земля проселочной дороги тонет в луже.
Сараи, виноградник, тополя — все наклонилось и сползает к морю, но кто-то остановил их веселым и категоричным окриком детской игры: « Замри!». И не замерло только море. Оно гудит, как полчище варваров перед штурмом, катит на приступ, выстреливая из прибоя окатанную гальку, леденящие дротики острых брызг, опутывающие кружева пены, тараном из тысячи «и-э-эх!» ударяет в обессиленный, осыпающийся, оседающий пыльными обвалами обрывистый берег.
В комнату старика безбоязненно заходит и привычно влезает ему на колени четырехлетняя Танечка. Он гладит ее по голове. Ей интересно, что он увидел в окне. Она сплющивает о стекло любопытную мордашку, катает со щеки на щеку: вправо — влево, влево — вправо. Стекло скрипит. С крыши над головой срывается кубарем круглый воробей. Замирает на уровне подоконника, отчаянно отбиваясь крыльями от неба. Забарабанил. Отвесно упал на уровень еще двух этажей. Что-то кричит оттуда.
От дыхания старика и девочки на стекле появляется матовый налет. Старик вдруг отстраняется. Рука его ищет руку девочки, поднимает ее, завладев маленьким пальчиком, водит по стеклу:
— Точка, точка, огуречик, — говорит тихо, — вот и вышел человечек.
Девочка упрямо вырывает руку:
— Сама! — Дышит. Водит пальцем. — Точка, точка, огуречик.
Старик слышит, как на кухне, в который уже раз, муж успокаивает жену: «Он сам говорил, что у них все в роду живут до восьмидесяти пяти. А ему уже восемьдесят четыре. Потерпи… — Да он ничего, но знаешь, все сидит и сидит у своего окна. Бррр…»
— Дедуля, ты куда смотришь? — спрашивает Танечка.
— В окно.
— А что там?
— Что вижу.
— Зачем?
— Чтобы помнить.
— Зачем помнить?
— Чтобы любить…
…Он помнил дом на краю аэродрома. Дом был построен в войну саперами, весь деревянный (непривычно для этих мест, где и сейчас строят исключительно из дикого камня), с деревянною же тесовой крышей. Непривычность материала и отдаленность от поселка и дороги объясняют, видимо, и отсутствие жильцов, когда, после войны уже, расформированная воинская часть передала дом сельсовету. Боялись воров, пожаров, дождей. Бесхозный дом быстро остался без рам в окнах, как близорукий без очков. Без дверей. Печку разобрали и вынесли по кирпичику. И долго торчала худая железная труба в шляпке, стыдливо прикрыв лохмотьями крыши и стен пустоту украденного тела.
Старика со старухой вселили в этот дом зимой, перед Новым годом. Их прежняя квартира в поселке была востребована под какое-то учреждение.
По утрам старик ходил вокруг дома, трогал размякшие доски стен, вздыхал и повторял одно слово: «Ничего… ничего…». И трудно было понять, что именно он в себя успокаивает и чего ждет, то ли весны, оттепели, то ли смерти, то ли чего-то еще. Чего? Может увидеть нас: меня, вас, его? Но важность ожидания придала значение тысяче мелочей, которые он выполнял теперь, точна обряд. И которые помогали ему жить дальше.
Упираясь, как муравей, буквально по листочку и веточке стаскивая в одно место, он ежедневно убирал сад — десяток деревьев, посаженных неизвестно кем. При этом он низко наклонялся к земле, будто кланялся или будто глазам его было трудно разглядеть и выбрать тот единственный посильный для него лист из сотни ежедневно осыпающихся. Его галоши, ватные штаны, ватная куртка, шапка — были для всех оберегающей упаковкой с надписью: «Не толкать!». Он мог затратить полдня, а то и день, на то, чтобы, пробираясь меж густыми зарослями терновника, добраться, наконец, и убрать обрывок газеты или смятую пачку из-под сигарет, бог весть откуда занесенные и застрявшие там после ветреной ночи. Отрезать сухую веточку на акации, смести снег с крыльца, разложить под кроватью картошку, чтобы проросла на посадку, — все это долго, утомительно, мелко и обязательно, как ежедневно читать обе стороны календарного листка.
Потом ожидание приняло другую фирму. Он стал нетерпелив. Возбудим. Горяч. Жене он объяснял это неожиданным вторжением в тишину их жизни массы людей, шумом бульдозеров и машин, запахом бензина и бетона, визгом механических пил, смехом девчонок, матом шоферов и прорабов — началось строительство какого-то большого объекта. Лес положили на землю, как вечерние тени. Бульдозеры содрали траву и кустарник, и земля сжалась и покраснела, насильно раздетая. Бетонные капли вошли в ее тело. Потом вдруг все кончилось. Стало тихо. Прошел год. Потом опять осень. Зима. Весна началась дождями. Ржавели куски металла. Светлели черные пятна солярки на просеках. Рубчатые следы гусениц зарастали травой. Красную землю оплодотворяли сбегающие по склонам молодые ручьи. Лопались почки. Шелестел ветер. Скрипели, просыпаясь и потягиваясь, мощные ветви. Птицы кричали, кричали, кричали. Суетились над гнездами, над деревьями, над облаками, над еще замурованными муравейниками. За их суетой наблюдал первый, только что раздвинувший влажную листву голубыми ладонями, подснежник.
Строители вернулись через пять лет. Старик помнит, как апрельским вечером проурчал мимо калитки, мигая подфарниками, зеленый газик. Хлопнул двумя дверцами, дуплетом. Двое в плащах и сапогах вышли на пригорок, прошли до леса, что-то долго высматривали в сумерках, вернулись к дому. «Ну, здравствуй, хозяин! — Крикнул тот, что постарше. — Принимай на ночлег!»
И все началось сначала. Старик никогда не вникал в эти понятия: первый проект, второй проект, дополнение к проекту, изменения проекта, смета, объем… Для него было достаточно того, что он видел, как бетон заливали в землю, а потом выковыривали из земли, как в стенах прорубали окна, а потом замуровывали. Как людей заселяли в общежитие, поздравляли, завидовали. Общежития строили современные, со всеми удобствами, но в коридорах стояли ведра, корыта, тазики с водой, горели керосиновые лампы, топили буржуйками. На холодные трубы парового отопления складывали одежду, детские игрушки, или, на Новый год, сосновые ветки. Люди приезжали и уезжали. Приезжали веселые и уезжали тоже веселые. И те и другие завидовали друг другу.
По одному из проектов дом старика подлежал сносу. Землю вокруг дома — сад, огород, сараи — давно срезали, так что дом остался как на полутораметровом постаменте. Внимательные строители сделали удобную лестницу с перильцами, но старик со старухой почти не спускались со своего островка. О хозяйстве они не жалели. Корову пришлось зарезать через полгода после возобновления строительства, ибо пасти теперь надо было гонять далеко, а пустишь одну — вечером придет уже кем-то подоенная. Куры исчезали сами собой. Сначала исчезали только яйца, а потом исчезли и куры. Но старики не обижались, они понимали, что молодым хочется и пошалить и поесть, что, как говорил начальник постарше: «Лес рубят, щепки летят». Иногда старику было даже интересно, чем кончится это строительство, что все-таки будет построено, кто останется жить здесь. Он спрашивал об этом жену. «Мне уже все равно», — шептала она. Спрашивал начальника постарше. «Все! Все построим! — Зачем-то кричал и обязательно хлопал старика по плечу. — Увидишь, хозяин. А тебя с женой переселим в новый дом. Со всеми удобствами. А хочешь — хоть сейчас в общежитие?». Но старик не хотел. И жена не хотела.
Прошло еще четыре года. Завод, а это оказался завод, начал давать продукцию — лепить и обжигать кирпичи: «А ты, старик, сомневался».
Старики так и жили в своем доме на островке. Вокруг него, на полтора метра ниже, лежала огромная бетонная площадка. По ней шуршали машины, тянулись рельсы, катался на двух ногах, как мальчик на роликах, высокий П-образный кран, цвели простенькие цветы на круглых клумбах, стояли шеренгой портреты передовиков, трехэтажной солнечной батареей отражало солнце здание из стекла и бетона.
Старик знал, что в городе уже построены два пятиэтажных дома для строителей и рабочих. Но начальник постарше все объяснял:
— Понимаешь, дед, люди работали в поте лица. Приехали сюда черт знает откуда. С семьями, с надеждами. Они молодые. Им все невтерпеж, им все положено. Они знают законы — вот вынь и положь им ключи от квартиры. Варвары. Скандалисты. Кляузники. Потерпи. Мы вас в девятиэтажный вселим. Первый девятиэтажный дом в городе!
Старику было безразлично. Что ему эта квартира? У него было много дел. Он ухаживал за больной женой. Она уже не вставала с постели. Он ходил в столовую, которую открыли в стеклянной батарее. Приносил оттуда немного супа, каши, котлет или рыбы и обязательно пакет молока. Пакет он выбирал долго, не обращая внимания на ворчанье молоденькой продавщицы, перекладывал бумажные пирамидки, подозрительно осматривая каждый пакет. Наконец, выбирал, платил деньги и шел мимо застывших фото передовиков, мимо солнечных стекол витрин, за которыми показывала на него пальцами смешливая продавщица: «Этот старик совсем чокнутый. Другой бы давно получил квартиру и еще денежную компенсацию. Чего он ждет?» — Старик не слышал. Он думал о солнце. Ждал лета. Летом жена обязательно поднимется, будет выходить на крыльцо, сидеть, греясь…
Прошло уже три года, как он один.
В комнате на девятом этаже он отчетливо помнит переваливающийся хруст птичьих шагов на весеннем снегу. Запах прелой листвы. Защитно извивающегося червячка под тенью прожорливой птицы. Крик вороны, от которого замирал лес. Помнит жену… Но прошлая жизнь осталась позади, как отплывшая за окно вагона станция. А он не покинул поезда. Остался. И опять у окна. И глаза его не устают рассматривать рвань беспризорных листьев на взрыхленной земле, бегающие пятна кур меж сараев, чьи-то маечки и чулки на веревке, газету, летящую с обрыва в море. Он смотрит и никак не насмотрится. Никак не устанет. Будто не может надышаться.
С кухни опять слышны голоса: «А где Танечка? — Опять у старика сидит. — А он что делает? — Что-что, в окно смотрит. У него и занятия другого нет. Только комнату занимает. Когда же это, наконец, кончится? Когда он оставит нас в покое? — Ну, что ты так? Чем он тебе мешает? — Мешает… Таня! Таня, доченька моя, иди сюда!»
Таня слезает с дедовых коленей. Машет ему ладошкой, улыбаясь. Уходит.
Он слышит, как она громко рассказывает на кухне:
— Мы с дедушкой рисовали на окне. Я сама могу. Точка, точка, огуречик… И еще могу. Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Меня дедушка научил, потому что эта рожица смеется. А когда смеется, то — лучше.
Глупенький
Сегодня ему двадцать два года. Его новая меховая куртка украшена орденами и медалями, какие у него есть: которые покупала мать, которые менял у дядек и пацанов, которые делал сам из разноцветных тряпочек, флотских пуговиц и вырезанных из жести парусников. Он заслужил все в морских путешествиях и сражениях. И море теперь принадлежит только ему, и плещет и кувыркается у ног его счастливее, чем портовый щенок Клотик.
Громадные черные глыбы травянистых прибрежных камней китовыми спинами выныривают из пробегающих волн. А чайки хохочут и дразнят их, и, пугливо взлетая, прячутся за низкими тучами, как цирковые шуты за занавес.
Сегодня его праздник. Его берег и его море. И сосульки, и камни, которые с каждым ударом россыпью скатываются вниз, в море, а с накатом новой волны снова вбиваются в берег, в искры и звон, — для него. «Для меня-а! — кричит он. — Я — геро-ой… моря-а!» — добавляет, хрипя и приседая. И эхо утопает, как берег в набегающую волну. Все замедляется. В секундной пустоте между гребнями — убегающим белым и стремительно падающим на него сверху зеленым — вода исчезает, всасываясь в свистящие водовороты, в мелькнувшие стебли морской травы, в кипящий песок… и бесцветные птицы успевают упасть и взлететь, выщипнув ошалевшую рыбу из пузырчатых глаз грязной пены.
Ноги скользят и разъезжаются по мокрым обледенелым камням, проваливаются в коричнево-черные заломы морской травы. Отдельные водяные обвалы, алчно заглатывая берег, дотягиваются и до него, мгновенно обвивая и облизывая голенища высоких резиновых сапог.
Сердито шипит, оседая, выдавливая из-под себя убегающие струи, пена. Какой-то кусок дерева или пробки долго летит на гребне волны в берег, исчезает и появляется вновь уже далеко от этого места, бумерангом возвращается в море.
Он бредет по бесконечному нагромождению веток, досок, деревьев, стеклянных и пластмассовых бутылок, мазута, тряпок, которые в невероятном количестве остаются после каждого шторма на берегу и потом исчезают неизвестно куда так же неожиданно, как и появились. И эта кошмарная полоса берега и прибоя дразнит и манит щедрыми осколками жизни: флакончики и пузырьки с таинственными именами и знаками, детские игрушки и обувь, полные следов океанского странствия, рыбацкие кухтыли, как запаянные в стекло солнечные брызги, просто ветки и камни, или обрывки канатов, или натруженные обломки корабельных весел — все мокрое, отяжеленное морем, перламутровыми нашлепками мелких ракушек, — все это появится, полежит на берегу, дразня и издеваясь над нашим покоем, и, однажды, исчезнет, подхваченное новыми штормами и ветром.
Он вырос у моря и привык к тому, что оно всегда рядом. И волны далекого детства, подбрасывавшие тело его выше обрывистого берега или проглатывавшие и переворачивавшие в мутной пучине, пугали лишь на секунду, пока снова не вспоминал, что это море, одно только море…
Какой длинный февральский день! Голубое за фиолетово-синими тучами солнце почти не отрывается от пляшущих гребней, низко плывет над морем мишенью для дождя. Двухминутный порыв как из душа. Грохот прибоя как будто бы тише. Промокшие ноги не ощущают уже холодных прикосновений воды и пены. Серый многоэтажный и многоточечный поселок медленно растет перед глазами, словно чудовищное животное показывает свои более и более крупные и грязноватые зубы.
На бело-оранжевом от льдистого снега и яркой ржавчины голом причале стоит местный капитан Петр Вольнов. Бородатое лицо его похоже на перевернутый желудь. Издалека. Вблизи — кожи на лице многовато и она сбегает множеством смеющихся морщин, винтом закручивающихся в коротко остриженную бороду на открытой и красной шее. На ветру кажется, что фигура и вся его мешковатая одежда, и пружинки морщин вот-вот расправятся и взлетят. Но он жует вяленую тюльку, как семечки, разглядывает приближение «море-героя с медалями», усмехается, и плюется крылатой шелухой: «Красота — это море, паря! — кричит восторженному медалисту. — Его умный мужик придумал! Для простоты понимания. Чтобы не в очереди за колбасой пролетела жизнь. Ищи свое море, паря… Ты помнишь?..»
Сам капитан Вольнов помнит хорошо, как шестнадцатилетний пацан, еще «не герой» и еще без медалей из жести, попал к нему на портовый буксир «Верный» — низко сплющенный утюг с высокой черной трубой, торчащей прямо из палубы за деревянной шифоньерообразной рубкой. Тесная надстройка еле вмещала рогатое колесо штурвала, беспардонно вдавившееся, за неимением иного пространства, в белый с золотыми пуговицами кительный живот кэпа.
На траверзе Дообского маяка гудел норд-ост. Утюг уходил в волну как подводная лодка. Но шифоньер вдруг обнаружил свою дубовую крепость и завидную плавучесть. Небо над берегом было оранжево серым и смазывало очертания гор и города. Море взрывалось вихрями пены и убегало из-под борта сверлящими глубину сине-зелеными водяными ямами. Нервно метался в этой пустоте ветер. Взвизгивал пропеллером оголявшийся винт. Догоняла, тяжело наваливаясь на фальшборт, цепкая волна. В миг — задыхался из-под растекающейся по палубе воды двигатель. Под ногами тряслось и скрежетало, а из трубы вырывалось горячее дыхание.
В мокрых сапогах, в мокрой тельняшке поверх брюк, стоял пацаненок в рубке, зажатый между переборкой и плечом Вольнова и, носом к стеклу, снизу вверх, пытался проследить за полетом серого одинокого в небе орла, уже отнесенного ветром от берега.
Кэп на секунду наклонился, следя прищуренным глазом, и снова выпрямился:
— Не дотянет…
— А как же?… — в глазах молодого стояли слезы.
— Что как же?! Это же море, паря! В нем знаешь, какая сила! Ого-го-го…
Серые крылья касаются волны и бьются отчаянно, не желая погружаться.
Капитан отводит глаза. А молодому матросу кажется, и он уже готов весь, молодой, гибкий, рванувшись из рубки и выхватывая крылья из очередной водяной ямы, разогнуться над планширем и подкинуть, ловко взметая в небо, кричащую птицу… Ох, молодость и ее бесконечная вера в собственные силы! Кто из нас не совершал этих мысленных подвигов: я выплыву с тонущего корабля… я выживу на необитаемом острове… я смогу, сумею, спасу…
Орел еще дважды взмывал вверх, пытаясь дотянуть до мыса, но, опрокинутый ветром, только над самой водой, едва успевая расправить крылья, уходил вдоль берега низким экономным полетом.
— Воробей бы давно на трубу сел, а этот, видишь ли, гордый! Строп-перестроп… Орел, словом… — Кэп выдвинул подбородок и почесал горло, — или просто форс держит. Моря не знает, дурень…
Форштевень высоко задрался, и вода побежала с носа на корму, освобождая от голубого ярко-белую с черными смоляными бороздками деревянную палубу.
Море будто ушло. Форштевень полз в небо. Матрос посмотрел на капитана, но вокруг шевелящихся в насмешливо-ругательном или песенно-любовном шепоте тонких губ была привычная гримаса: «Соображай, паря!» — И палец у виска для наглядности… Вдруг стало темно. Солнце пропало. И небо пропало. Буксир вползал в чудовищную по обе стороны рубки вращающуюся воронку. Стало тихо. И ветер сюда не проникал. В открытые двери рубки матрос вытянулся на руках, повисая над палубой. Под бортом журчала вода, пропуская посудину в прозрачную глубь. Две бесцветные горы поднимались сзади и спереди. Между ними вверху небо казалось бледным просветом. Мачта свисала с неба.
— Дядя Петя-а-а!
— Не шуми. За мыс вышли. Хочешь подержать? — кивнул на штурвал и потянулся в кулек за вяленой тюлькой — тема насмешек, клеймо рыбацкого происхождения и, возможно, причина не сложившейся морской карьеры.
Матрос устыдился своей растерянности и, вместо ответа, только сглотнул комок в горле.
Гора впереди стала уменьшаться, потом зеленеть, потом белым взорвался гребень, и покатилось, купаясь в пене, как мячик по волнам, солнце. И опять все провалилось и стало темно. На мачте сидел, широко расправив перистые крылья, орел. Громадные крылья — как руки танцовщицы — цепляются за воздух.
— Если он упадет, я прыгну за ним в море, дядь Петь! — кричит молодой и восторженно скалит зубы в улыбке…
— Паца-а!.. — но тело, подхваченное волной, уже крутится в водовороте, бьется о борт, всплывает над ушедшей в волну палубой и исчезает. Белый китель мелькнул из рубки, руками вперед провалился в волну и догнал красное. Корма покатилась с волны лагом. Мачта легла на гребень. И крылья побежали по нему, страшно крича, и, не сумев оттолкнуться, пропали… Расторопный механик разворачивал «Верный» на обратный курс…
— Здравствуй, орел! — насмешливо кричит «герою-матросу на зимнем пляже» Петр Вольнов, пьяно пошатываясь навстречу. Ржавый причал за его спиной, в пене бегущих волн, как мостик корабля.
Прошло уже много лет после того, как он выловил пацана, локтем под горло подхватив его окровавленную голову. Потом их подобрали ребята с сейнера, но спасенный затравленно на всех вскидывал руки, как подбитая птица. «Совсем без соображаловки пацан остался. Пришибло. Тьфу, господи прости, кого тащил?! Спасибо, не даром, — ухмыляясь и тяжело дыша, тянул руками к себе белую эмалированную кружку со спиртом. — Эх, строп-перестроп, Люся девочкой была… За здравие скорой помощи! И за безголовую молодость»…
— Стой, паря! Покажи свои медали, герой…
Парень ему подчиняется. Они садятся на большую черную корягу, лицом к морю. Вольнов достает начатую бутылку водки и протягивает:
— Пей, бестолковка! — Зла нет в его голосе и «герой» пьет, хотя ему нельзя, наверное.
— Тебя тоже по голове ударили? — спрашивает.
Старый капитан смеется громко и весело:
— Молодец, паря! А все тебя дурачком считают. Я еще тогда говорил: в жизни все не зазря. Хоть выпить с дураком, когда пить не с кем. Ох, зачем ты так любила, Люсь-ся?! — Он запрокидывает голову и буквально переливает из бутылки, не касаясь губами горлышка. Водка вытекает, булькая и струясь, прямо в открытый рот. Мимо. По бороздкам морщин в рыжей шкиперской бороде к жадно дышащей и грубой шее. Ноздри его раздуваются, но лучики морщин вокруг прищуренных глаз бегают, кривляясь или смеясь, как у клоуна:
— А хотел бы и я получить такой удар по бестолковке, от которого в мозгах остается одно детство. Хорошо тебе жить. У тебя только море. Вся душа для него. Дай тебя обниму, дуря! Ведь душа для чего? Чтоб топтали ее? Чтобы мучили? Чтобы тот, которого я в глаза не видел, мне визу закрыл?! Нет! Для гордости душа! Понял? Мне визу закрыли — а куда я без моря?! А как мне — без моря?! — Глаза его вдруг открылись и стали самыми важными на всем его большом и подвижном лице. Они кричали — глаза! Лицо — болело. Губы — шептали: «А каково без меня — морю?! Вы спросили его? Ему аглицких слов не надо. Ему родословная и анкеты мои — не надобны. Оно — море — оно меня на руках вынянчило. Я его настроение по запаху, как ребенок по материнскому молоку, чую… Кто работать пойдет? На ком флоту держаться? На кого меня променяли — на шмоточников? Не горю-уй, Лю-уся… А ты помнишь орла, пацан? Ты помнишь?! Флот уже не орел… Море мне надо. Море! Ты меня понимаешь?! У тебя ведь была закваска. Морсковатость была у тебя, геройский ты мой… Ты орла спасал, паря… Эх, что говорить…».
Он сплевывает, и плевок его остается замерзать на ледяной поверхности большого серого камня. Встает и идет по хрустящим, брызгающим ледяными корочками веткам к воде. Набежавшая волна вдруг высоко обнимает его тело, пытаясь свалить с ног. Он нелепо раскидывает руки. Устоял. Волна отступила, унося грохот камней и оседая пеной. Капитан громко смеется вслед:
— Шалишь, море?! Шали-ишь, ми-ило-йе… — Поворачивается и идет из воды. — Я тебе расскажу, паря… Все расскажу… — Он будто не чувствует мокрой одежды, холода стекающей воды. Подходит совсем близко, но вдруг останавливается: «А-а! Все равно — бестолковка…», — махнул рукой и пошел прочь, к поселку. Удаляясь, он похож на перекатывающуюся по ветру мокрую и измятую шляпу. Жалко его. Он идет и оглядывается, останавливаясь, машет… Пацану в мокрой куртке с медалями… или морю? Прощаясь?.. А пацан кутается от холода, морщится от привкуса водки, вспоминает или видит сон… Сон?
Рама упала вниз с глухим стуком, и в вагон ворвался поток ветра, свежего и сырого, как брызги моря. Я улыбаюсь. Подставляю ему лицо, шею, открывая навстречу ему, как другу, поднятую вверх ладонь. Он смеется и шепчет в уши мне мягким шорохом, ревниво сдувает со щек моих лучи солнца. Он проказник и плут. Нам приятно узнавать друг друга.
Поезд мчит меня к морю. И облака вздрагивают, упираясь в стекло, будто пытаются остановить меня.
Замки старого города, башни старых соборов и крепостей, и корабли, корабли, корабли в белом овале утренней бухты, тихо плывущие над городом.
И не терпится потрогать руками море. И, кажется, каменная лестница снова вертится меж деревьев, и зеленые солнечные пятна и тени дышат и раскачивают ее в такт ветвям. И девочка смотрит удивленно в расцвеченные солнцем листья.
И мяч огромный, весь будто из желто-голубого воздуха, лежит на траве, даже не смяв ее. И, кажется, бегу по аллее. И арочный мост отражается в воде и сливается с собственным отражением в черное глянцевое колесо. Покатилось. Направо светофор: красный, желтый, зеленый. Идите! Сквозь сито машин и мозаику стекол смеются на противоположной стороне улицы чьи-то глаза, может и не мне, но улыбкой втягиваюсь в поток автомобилей. Взлетает и скользит, переворачиваясь, серебряно-зеленый лист меж визгливыми шинами. И булыжная мостовая горбится, как надутый ветром платок. Спешу. Тороплюсь. Боюсь, будто, что море может исчезнуть до моего прихода…
И гавань стремительно обнимает запахами, шумом и оранжевым суриком подкрашенного металла. Увеличиваются высокие борта клепаных пароходов. Гигантский портовый кран уперся одной рукой в солнце, и растопыренные ноги бессильно заскользили по масляным рельсам. Кто-то стукнулся о мое плечо. Где-то плеско и тяжело ухнула в воду и дробью щедрой и радостной рассыпалась якорная цепь. И море, не над трубами и домами, а прямо у ног моих отступило, голубое и мягкое. Живое.
Я снова возвращаюсь к морю. В такт вагонам покачивается горизонт. И тень моя в светлом окне скользит по нескончаемому откосу. И маленькой кричащей птичкой улетает в поля тишина. И упрямый, упругий как ветви цветущего дерева ветер ласкает мне руки. Треплет, теребит, манит. И снова и снова, открывая ладони навстречу ему, приветствую: Здравствуй! Мы встретимся завтра. Над синевой тесно бегущих волн. Ты разгладишь наш парус! Пусть скрипучие сходни принайтованы прочно. И приятно приветствие заскорузлых ладоней. И весомо привычное: в море пять баллов и верно, что ветер крепчает под вечер. Здравствуй! Я уж вижу, как вахтенный вытянул губы и кричит капитану счастливое: «Все на борту!». Здравствуй, море…
Становится темно. Холодно. «Я — герой моря-а… герро-ой», — шепчут замерзшие губы. Тело его дрожит. И, обнимая замерзшими пальцами холодные камни, он чувствует, как дрожит берег. И снова он слышит грохот прибоя и шум ветра. Ветер задирает на спине полы расстегнутой куртки. Ветер норовит оторвать от щеки теплый меховой воротник. Ветер доносит до него голос матери, которая ходит по берегу и зовет его. Ветер. Ветер. Ветер мешает разобрать слова, которыми он бросается, как камнями:
— Не подходи ко мне близко. Только море мне надо. Море. Не забирай мою визу и гордость… Я хочу быть всегда с морем! Как Петр Вольнов… Орел… Как хххолодно-а…
Она обнимает его, растирает его ладони и часто и горячо на них дышит. И поправляет на курточке ордена и медали. Но сын пытается вырваться из ее рук: «Я с морем! Я сильный!» — Кричит. Но она или не верит, и все продолжает укрывать от ветра. Или не слышит. По щекам ее текут слезы. Ему она кажется самой красивой. И он поддается ее попытке поднять его. Поднимаются и идут, обнимая и поддерживая друг друга: «Глупенький, никто у тебя ничего не заберет… Будет тебе твое море…»
— И корабли с парусами?.. И гордость? Никто не заберет мою гордость?
— Никто не заберет твою гордость. — Она вздыхает и добавляет устало и выстрадано. — Ты у меня, слава Богу, глупенький…
И он успокаивается окончательно этим сладким последним словом. Защитившим его.
Выжить!
Человек в бушлате лежал вмерзшим в февральский лед, распластав руки и ноги, будто упал с необозримой высоты и влип…
«Влип я», — подумал Леха, не открывая глаз, а только предчувствуя
просыпание. Его так учили… Когда оставили голого в каракумских песках: не делай движений, не открывай глаз, не шевели губами, пока не ощутил, что скорпион или тарантул не сидят на твоем лице, а змея не свила гнезда на теплом и кровеносном мужском корневище, упругом перед рассветом… Его учили выживать на снегу и в тропиках, в джунглях и городах, но все это — на территории потенциального врага и скрытно. Он выжил. Он был лучшим специалистом-инструктором по выживанию: в Анголе, Гватемале, в Афгане…
Сейчас он находился в собственной стране, на самом виду… и в мерзлой уличной луже. Но сознание работало четко: Родина учила его выполнять приказы. Был приказ ползать змеей — ползал, прыгать с парашютом — падал, лечиться в госпитале — подставлял свои ягодицы и сдавал кровь стаканами… Он приказы получал за свою жизнь самые разные: «Взвод! Сухую траву и камни перед казармой выкрасить зеленой краской!…» — от старшины в Каменец-Подольске, до «Пленных не брать! Раненых живыми не оставлять…» — от советника в Нигерии. А закончилось, когда майор-врачиха в госпитале сказала почти ласково: «Вам, капитан Ягодка, новый приказ: все забыть. Армию, я имею в виду… Чем быстрее, тем лучше. Ты еще молодой, сможешь. Собирай грибы или бутылки… — А бутылки зачем? — Процесс поиска и собирания похож на вашу главную военную специализацию — поиск минных сюрпризов. Понимаете, больные рефлексы надо успокаивать… Собирай и сдавай. Это лучшая в твоем случае терапия и реабилитация. Надо жить дальше, сынок… Без войны».
Трое мужиков на автобусной остановке приплясывали от холода и ругали городское начальство за нерегулярность движения транспорта. Лужа с вмерзшим в нее мужиком была в поле их зрения: « Глянь, в бушлатике-то, влип, кажись…», — сказал один… — «Не шевелится…», — добавил другой. — «А может, не живой?» — «Сейчас солнышко припечет — ледок подтает, и все станет ясно: живой — поднимется, а не поднимется — то не испортится». — « Если трезвый был, то хана! А если груженый — как ледокол выплывет, пузырь ставлю». — «Красного?». — «Обижаешь. Если выживет — «бескозырочка»! Сорок градусов!» — «По рукам?!» — «А на работу?». — «Не каждый день такой экстрим стриптизируется». — «Так надо тогда погреться, чего ждать впустую?» — «Грамотно. Тебе и бежать…».
…«Бушлат оказался живым… и при деньгах!!! А с водкой и пивом, как говорится, «нос — как слива, я — красивый!». Выпили, посмеялись, что легко отогрели, сбегали — добавили…
— Мне, — рассказывал Леха, придя в себя и улыбаясь, — вчера гробовые выплатили, за то, что в интернационале выжил… — Мужики рядом слушали и понимали искренне. — Мне военком не верил?! Не воевали, говорит, мы никогда в тех странах, какие у тебя, у меня то есть, в наградных указаны. Мне не рубли на ящик водки — мне майора этого слова обидны… Вот и нагрузился я по самые уши… Первый раз, поверьте, сил не хватило… А воевал, так не считал тех сил — всегда хва-та-а-ло! — Леша доверчиво улыбнулся, расправляя грудь, — как в песне, слышали, ягодка — малина в гости звала…— пропел…
— А в лужу кто тебя зазвал, герой?
— Смеетесь?!. Не поверишь… Луна в лужу упала, на моих глазах, бах!.. Я за ней, бац!.. — Сам засмеялся и за ним остальные.
— А может, к нам на завод работать пойдешь?
Он посерьезнел:
— Нет. Мне работать нельзя. У меня приказ: выжить! Собирать бутылки и выжить…
Кто-то повертел у виска пальцем, но Леха, к счастью, этого не заметил. Он вдруг задумался: «А чего это я был в госпитале?.. Ягода-малина, я тебя любила… Прицепилась песня…». — Леха повернулся к старшему по застолью:
— А на бутылках прожить можно?
— На бутылках? В России? Да бутылка в России — это самая устойчивая валюта. Банк, прямо сказать! Тару принимают в любом магазине. Но лучше — у Зинки на рынке. У нее, как в кино про капиталистов! Все честно и четко, оптом и в розницу. Постоянным клиентам — скидка, жаждущим — стакан… Обслуживание — круглосуточно: сама или хромой «мент-защита» … Где собирать? Скверы, парк, набережная… В кафешки не заходи — там свои, еще и в милицию заметут… Чужие территории — не суйся, побьют как собаку… Сколько можно собрать? Штук двадцать — без проблем. Утром и вечером, после рабочего дня. Можно и пятьдесят, но это ходить надо, а пьющему ходить — гроб! Думать и изобретать не напрягайся, не надо. Бутылка располагает или к компании, тогда не до философии, или к философии, но тогда не до практики сбора пустой тары…
Леха опять начал пьянеть, и крутились-повторялись в голове знакомые фразы: «…в интернационале выжил… силы не рассчитал… ягодка-малина… на бутылках прожить можно… мне слова обидны… Россия…».
«Старший по застолью» бутылочную перспективу оценил правильно, и к концу года город обрел достопримечательность: «лихой умник прикалывает пляж и речку — ловит бутылки петлей на удочку, циркач!». Клиентов, любопытных к чужому таланту, оказалось достаточно. Любители распить на природе шли «на удочку», выпить и развлечься. Промысел грозил перерасти в представление, да обломился. Какая-то пьяная компания, как молва сказывала «в пиджаках малиновых», подкатила к Ягодке, отдыхавшему в тени после трудов праведных и любимой сливяночки и, растолкав, стала бросать бутылки в воду — показывай! Леха сел, протирая глаза и приглядываясь, выискивая заводилу. Определил. Встал. Подошел ближе, спросил: «Тебе, что ли?» — «Мне». — «Показывать?» — «Показывай-показывай, герой бутылочный…», — просмаковал Эдик, улыбаясь бомжу и своей компании. — «Тогда извиняйся и проваливай…» — «Ты на кого встал, мышь дрессированная?!» — «Я — капитан Ягодка…», — с этими словами неказистый бомж взял Эдика за мизинец (это потом вызывало особый резонанс у обывателей) и тот, странно присев двухметровым молодым телом, покорно пошел с ним к парапету набережной. В метре от края, «малиновый» будто споткнулся, нелепо взмахнув взлетающими в воздух ногами, и перелетел, как потом говорили, на водную гладь, обильно фонтанируя…
Постсоветский фольклор гласит: «если беспредел в городе не заметен, значит он хорошо организован». Мафия, на городском уровне. Видимо, за инцидент с «малиновым» Леху «организованно» признали, прозвали «ягодкой-малиной», но ограничили территорией — конечная остановка трамвая у трубного завода…
Положение стало — «труба» — хуже некуда. Питье-то несли на территорию за забор — рабочий человек пьет на рабочем месте, без отрыва от производства, можно сказать… А значит, и тара оказывалась за забором, попробуй — возьми ее?! Другие на нее хозяева-сборщики. Леха осознал и сформулировал тогда свое первое на гражданке умозрение: чужого не бери. Не построить счастья на чужом несчастье. В природе, глянь! Ни воробей, ни ворон, ни орел, когда строят свои гнезда, из чужих гнезд ветки не таскают… А бутылочному коммерсанту как жить?!. Начал искать пути. Думать. Ведь верно говорится, «хочешь не хочешь, а хотеть надо!» … надо собрать силы и изобретать деловой успех…
Первой удачей стал рыжий щенок по кличке Рюмочка. «Не будь угрюм, Рюм!» — ласково приговаривал хозяин. Рюмочку, за недостатком харча, он подкармливал спиртным коктейлем: из каждой пустой бутылки можно выкапать, установив ее вертикально горлышком вниз, двадцать восемь капель, — это тоже «из школы выживания» или полузабытых журналов типа «Сделай сам» — «Наука и жизнь» периода советской юности. « Пережили-выжили, пол слезинки выжали…“ — напевал хозяин. Щенок рос, креп и приобщался к бизнесу одновременно. В дрессировке дворовые городские собаки самые талантливые. К четырем месяцам щенок стал носить пустые бутылки с соседних улиц и Леха вздохнул облегченно: бизнес стал доходным. Но, будучи по природе справедливым, Леха не мог есть чужой хлеб, тем более — собачий, и потому — зверел и работал мозгами. Сначала, в кустах за остановкой, он соорудил деревянные скамью и столик. Три стакана унес с газировочных автоматов у проходной и надел, переворачивая, на ветки. Сам — прилег на травке, напевая любимую „ягодка-малина… птицы на рассвете..“ Прождал впустую до вечера. Надо было менять тактику выжидания на проверку боем. Утром, встречая выходивших из троллейбуса, выбрал на глазок предмет эксперимента и предложил просто: „Уважаемый, извините, не поддержите здоровье подлечить портюшей, один — никак не могу…». Уважаемый мгновенно оценил ситуацию и, нисколько не удивившись, крикнул в толпу: «Серега! Тут человек страдает — лечить надо! Третьим будешь?..». Лечение затянулось. Место понравилось. В обеденный перерыв забежали компанией пятеро — пустые бутылки сложили у ног спящего «хозяина заведения», и бегать никуда не надо и полстакана ветерану интернационала — «в законе». Через неделю он уже вынужден был прикатить со свалки старую детскую коляску — великое изобретение для перевозки тары, цены нет! А над скамьей и столиком какой-то шутник написал и повесил фанерку с кривыми буквами: «Приказано выжить? — Заходи!»
При такой вольной жизни и таких доходах мужчина впадает в то расслабленное состояние, когда его можно брать голого. Первым это ощутил верный пес Рюм, когда хозяин и «какая-то Кисочка» не пустили на кровать. И первым испытал перемены жизни тоже он, когда понял, что бизнес стал расширяться в части расходов, а женщины смотрят в корень и сосут до косточки. Хозяин стал озабоченно-веселым и все приговаривал: «Любовь требует времени, а секс — места… Ни того, ни другого, Рюм, у нас с тобой нет — будем строиться…».
Утешением для Рюма стало то, что «кисочки, рыбоньки, лапоньки, белочки…» всегда практичны и «за пустой тарой не бегают…». А с учетом темпов строительства и сезонности чувственных позывов, можно было надеяться что зимой, по крайней мере, место «в ногах» на хозяйской кровати для хвостатого компаньона сохранится. Не будь угрюм.
В стране этим временем шла смена мэров, председателей и президентов, посредством отстрела или выезда их за границу. Участковые милиционеры и школьные учителя потеряли привычно-советские ориентиры и растерялись, от насмешек малолетних и жалостливого презрения власти… но остались патриотами. С похудевшими лица- фигурами, правда…
Кумачовые советские лозунги поперек улиц заменили на рекламно-неоновые трусики и лифчики выше домов… Города и проулки замусорились парусами дырявых газет и кучками плутающих демонстрантов… Дрались за флаги, рвали из рук и на полосы, топтали ногами и жгли… Шалели от демократии и свободы, и стреляли фейерверками в тишину неба и звезды, будто и звезды надо было сбивать, как лампочки… Спиртное стали разливать в пластик. Бизнес кончился. Стеклянная тара росла горой.
Леха понял, что надо маскироваться в бутылочный цвет и начал копать траншеи под фундамент. Это напомнило ему курсантские будни и рытье окопов, отвлекало от мрачных мыслей. Он снова напевал и насвистывал: «ягода-малина, я тебя любила…». Но он еще сам не верил, что строит дом.
Строительство затянулось на все перестроечные годы. Дом из бутылок особенно нравился Рюму утром, когда стены ловили солнечные лучи и разбрызгивал их на цвета радуги, медленно от этого нагреваясь.
Но дом притягивал не только осколки света, но и осколки жизни. Сначала Леха привел бывшего летчика. Его встретили они с Рюмом в кафе-пельменной у вокзала. Шел дождь. Хозяину хотелось горячего, а верному псу — сухого тепла под столом. Незнакомец был одет прилично, но сидел одиноко. На внимательный взгляд хозяина собаки кивнул и спросил:
— Служил?
Леха-хозяин ответил откровенно и коротко:
— Спецназ.
Незнакомец протянул руку:
— СУ— 27, летчик. Служил на Байкале, вернулся на Украину. Не прижился нигде…
— Жилье тебе надо, квартиру свою, чтоб от людей не отбиться.
— Отбиться? Отбиваются от врагов.
— Я в том смысле, чтобы по-человечески. По людскому закону. С людьми вместе, а не отдельно… Ген выживания, что ли…
— Выживания? Где ты выживание видишь? Жадность это. Жадность и зависть. Посмотри вокруг, какие хоромины на бывшем пшеничном поле. От природы? Зверь берлогу или гнездо только для защиты своей или для заботы о ком-то строит, а человек — дом «для продажи!» Зачем?! Такой ген природа дала, а человек потерял. Мне на поле аэродромное самолетом садиться, а там кошку с бантиком на прогулку вывели — куда садиться? Зачем аэродром под кошку продали? Это полюс в мозгах сбился, винтик какой- то, сломался. Который от бога в человека вложен был… Был ген, а теперь хрен — жадность в душе выросла, деревом эдаким. Видал?! — Показал двумя руками, растопырив и шевеля пальцами. — А зачем сквозь меня дерево?
— Сам придумал?
— Нет, прочитал в газетке, ученый открытие сделал и в лес жить ушел…
— Понятно. Ну, мы не ученые. Открытий делать не будем. Жить хочешь — ко мне идем, места хватит… — заключил Леха просто.
Летчик задержался до весны и каждый вечер, после бутылки на двоих, повторял только эти слова: «Ген сломался…», других слов, кажется, он или не знал, или забыл.
Леха летчика не искал, но вспоминал часто: «Гляди, Рюм, самолетом наш летчик управлять научился, а людские слова забыл, почему? Обиделся. А на людей обижаться нельзя. Если что и сломалось в нас, человеках, так от этого не отворачиваться, а пригреть надо. Может и ген этот, который сломался, пригреть… Муравей к муравью. Клеточка к клеточке… Ты ко мне почему ластишься? Теплу рад. Вот я и другое мое открытие делаю: главная от человека польза — тепло. Ты меня понимаешь, Рюм?..
Это было второе собственное умозаключение гражданского Лехи.
Потом был бывший старший механик танкера «Балашиха» — вальяжный, спокойный, разговорчивый: «…во Франции, в Бресте, стояли на ремонте мы четыре месяца! А я познакомился с дамой — француженка! — пригласила она меня домой, все по полной программе и вдруг — муж приходит! Я — к балкону! Еле она меня удержала. Оказывается, у них так не принято, через балкон. С мужем своим смеялись они надо мной каждый раз, когда встречались мы с ним за общим семейным столом… А работал муж на судостроительном заводе, где в одном конце наше судно стояло, а в другом — французская подводная лодка. Получил я через консула важное задание, приказ родины, можно сказать, пройти через цех, где лодочные винты обтачивали, и на подошве вынести металлическую стружку… Я — выполнил. Обещали мне медаль КГБ дать, но кто-то доложил в пароходство, что я «морально не устойчив по женской части…». Мне и вовсе визу прикрыли, не обидно ли? Я во Вьетнам четыре рейса под бомбежками сделал, «Медаль Хо Ши Мина» и «Орден Дружбы народов» имел, обидно… а на жизнь обижаться нельзя, парень… Как быть?.. Наливай! За твой дом бутылочный, да за рожу твою улыбчивую, ягодка ты моя… У меня ген простой: при женщине — мужиком, при мужике — напарником… Тебя учили, что ты смелый как тигр, и сам ты силен, потому что — тигр. А я — моряк. На море моя сила от тех, кто рядом. И здесь моя сила — от лая собаки на кошку, от крика петуха на зарю, от твоих шагов к калитке, или от этого дождя по листьям. Прислушайся… Кто тебе скажет это еще?..».
По вечерам заходил дядя Ваня «Теркин». Дядя Ваня работал сторожем на лодочной станции, часто кашлял «от фронтового ранения в сорок пятом» и был желанным в любой компании за природный артистизм и душевную готовность декламировать Твардовского с любого места и по любому случаю: «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда… Разрешите доложить коротко и просто: я большой охотник жить лет до девяноста…». Но когда поведет его рюмочка, переключает пластинку на одно и то же: «Одесса… Дача Ковалевского, знаешь? Музей обороны Одессы… 408 — я батарея… 12 тысяч лошадей, 40 тысяч раненых, ежедневно… Эвакуация — 136 судов за одну ночь. Ни одного гражданского… История!.. А забор из стволов артиллерийских орудий, участвовавших в войне на Балканах 1880 года… Помнишь?.. Как у поэта про войну?..» Есть война — солдат воюет, Лют противник — сам лютует. Есть сигнал: вперед!.. — Вперед. Есть приказ: умри — умрет…». За Дядей Ваней прибегает внук и кричит деду от двери: «Тула! Тула!» — «Это я!»… — отвечает ему Теркин-Ваня, — «Тула — родина моя! — смеется внук и падает деду на колени, поясняя: «Баба зовет…». — Дед поднимается идти и гордо выпячивает грудь, улыбаясь: «Есть приказ: умри — умрет…» — Внук смеется и смотрит влюбленно…
«…Даже собачьего ума достаточно, чтобы понять, что жили мы весело и любопытно…», — сказал бы Рюм, если бы умел это. И это было бы его, собачье умозаключение о гражданской жизни. Но хозяин его все больше грустил и нервничал, ждал, что его позовут, и скрипел по ночам зубами, не понимая… Он хотел подвига и говорил Рюму, поглаживая собаку за мохнатую шею: «Здоровый человек лишнего не берет. Лишнее — еда, ноша, гнездо — это только ожирение, грыжа, суета и одышка… Каждый воробей знает, что и крошка бывает лишней, потому он бросает ее, чтобы взлететь. Воробью, главное, махать крыльями. А нам с тобой, Рюм, что главное? Приказ выполнить… Не будь угрюм, Рюм… Делай, как я!»
Весной, когда в зеленой траве нарисовались желтые, белые и сиреневые цветочки, а птицы кричали в небе так громко, что качались ветки деревьев, Рюма поймали пятнадцатилетние пацаны и захотели посмотреть, как собака заплачет. В них, видно, проснулся ген предков-охотников, жаждущих крови, чужой. Может агрессия души, по Фрейду? А может сдвиг по фазе в мозгах?.. Рюм не заплакал, а взвыл тонко, испугавшись лезвия ножа и своей собственной крови, брызнувшей на лица пацанов. Леха услышал, и ген старого десантника выбросил его, как команда ротного, как пружина выбрасывает патрон к выстрелу…
Когда Ягодку вывели из зала суда и сажали в машину, другие молодые со свастикой свистели и кричали угрозы ему вслед… Милиционеры заламывали Лехе руки. Женщина-судья перебирала бумаги у себя в кабинете и успокаивалась, довольная, что процесс прошел быстро, и она успеет домой к обеду…
Рюм, еще слабый от ран, стоял на тротуаре, покачиваясь и не понимая происходящего. Гены его были девственно мудры от природы, не затронутые эволюцией человеческой жизни… Один глаз слезился…
Дом из бутылок дважды пытались развалить бульдозером. В первый раз милиционер — руководитель акции пожалел собаку, вставшую с бушлата-подстилки и зарычавшую на людей и трактор. Во второй раз, было утро, и солнце играло лучами на разноцветных стенах, бульдозерист вылез из кабины, обошел странное сооружение и сказал, улыбаясь: «Ну, и живучий же человек жил — за всех!.. Так что, приказа „валить!“ я не слышал… Пусть еще постоит — бутылочка!».
И дом остался стоять. Памятник блиндажу и застолью.
Через год его обнесли забором «от администрации» и стали показывать туристам. За деньги…
На каждую подъезжающую к забору машину Рюм поднимает уши. Голос экскурсовода будто повторяет знакомые собаке слова: «А третий мой закон и вовсе прост. Успеть надо кого-то полюбить. На то и дана жизнь. Хоть один день живешь, а хоть век — а не всем дано… Другой, смотри, трех жен сменил — никого не любил — разве так можно? Вот ты, Рюм, любишь меня, собака ты рыжая?!. Как красивы эти, птицы на рассвете…»
И тогда заюлит пес, от хвоста до кончика улыбающегося носа, скуля и повизгивая от радости. И побежит за припрятанной под забором бутылкой… как тогда… Собирать на жизнь, ягодную! Будто она еще только начинается…
Рюм лежит на зеленой траве и радуется теплу. Тело его пронзают токи весеннего электричества, идущего из самой земли, как лечебная аура. Зрение стало слабеть, но слух не подводит. Рюм слышит чужие шаги и странный грудной хрип: «Эй, Рюм! Не будь угрюм… — шептал странный человек, держась рукой за калитку и за собственную тень. — Живой?..»
Из левого, живого, глаза собаки течет радостная слеза.
— И я, Рюм.… Пережили-выжили, полслезинки выжали…
Ему снились маки…
Михаилу Степановичу ГлинистовуКаждый раз, когда дед улыбается во сне, я знаю, какой сон ему снится. Это потому, что мы с дедом «кровиночка», как он говорит, что я очень похож на него в детстве, хотя этому нет доказательств — не сохранилось ни одной фотографии и ни одного дедова родственника или сверстника, кто мог бы подтвердить или усомниться. А в чем сомневаться? Мне нравится считаться похожим на деда. Я хочу быть похожим. И даже когда мама ругает меня за походку «под деда», танцевальную, с протягиванием ноги, как в вальсе, за манеру опустить и выдвинуть вперед плечо, как в боксе, за привычку переспрашивать собеседника вопросом на вопрос, ставя человека в тупик, — я не сержусь, а радуюсь: кровиночка… Я тоже во сне вижу маки.
Дед мало говорит, он уже мало ходит. Кожа на лице его стала какой-то просветленно-прозрачной, словно солнце проникает и высвечивает каждую клеточку его теплой жизни, пульсирующую… Веки совсем не слушаются и поминутно опадают, прикрывая голубые глаза, и дед их берет за ресницы пальцами и приподнимает, как фокусник, только мягко шевелит розовыми губами, улыбаясь и приговаривая: «Нагляделся я, Вань, нагляделся, а никак еще, мил, не нарадовался… Будто только проснулся в родной Любимовке, только глянул за окно на весеннее солнце, на маки по склону… и жить мне и жить снова… только немцы пошли во весь рост, побежали, стреляя… Бой мой длился всего-ничего — атака, а в плену потянулись годы, а победа пришла — так она для других: мне — лагерь дальний да степь мангышлакская… за тот плен…».
Я тоже люблю солнце. Я родился и вырос в казахской степи, где земля не кончается, кажется, сколько бы ни старался бежать к горизонту, сколько бы ни пытался заглянуть дальше: только небо и ветер, да змеится ковыль, и колючки качаются, да маки облетают лепестками по ветру, за несколько дней успевая расцвести и осыпаться… Казахские маки. Других я не видел. А дед помнит крымские, где вырос и воевал он… один день. А вздыхает: «Я, Вань, будто всю жизнь в той войне… Не жалели людей… И теперь — не жалеют…».
И потому я совсем не удивился, когда дед спросил:
— Ты поедешь со мной?
— Куда, дед?
— В Севастополь.
— Ты же не хотел… Ты никогда не возвращался туда и в советское время, а теперь, когда нам из Казахстана через пол-России и еще по Украине… чего ты надумал?
— Письмо вот пришло, зовут… Раньше вызывали только: «с вещами на выход!»…
— А сил хватит? Здоровья тебе хватит, дедуля? — и я рассмеялся, пытаясь смягчить этот удар ниже пояса. Но дед улыбнулся в ответ:
— Так ты же со мной будешь, Вань…
И мы поехали. Через Казахстан и Россию, автобусом, поездом, в молчании и разговорах, с попутчиками, чаем и рюмками, дождем по стеклу и просторами и просторами… от поселка до города и от города до поселка…
Я знал всю историю деда. Все в доме знали. Что в том странного? В той стране все знали многое и друг о друге, и о победе, и о заборах из колючей проволоки… Весной 42- го, на родных его сердцу крымских высотах, он стоял в строю сводного батальона ополченцев. Плохо слушая говорящего что-то командира в бушлате и черной форменной фуражке, он смотрел на долину реки Бельбек, куда бегал с пацанами купаться, на дым над поселком, на море, далеко-далеко видимое, на виноградники у татарских домиков справа, среди известковых обрывов и серых камней. Его волновало, что ему не досталось винтовки, и он должен идти рядом с пожилым дядькой, усатым, с усталыми от долгой бессонницы глазами. Командир в бушлате сказал, что оружие еще подвезут. Дядька суетливо оглядывался и всех спрашивал, а нет ли у кого покурить… Винтовку свою он держал на плечевом ремне и постоянно ощупывал, на месте ли, приговаривая молодому и безоружному: «Ты, парень, не торопись, главное… Достанется и тебе пострелять… Немец сейчас жадный до нас… Зверь…». Перед строем бегала собачонка, будто кого-то искала. Командир на нее цыкал, а ребята тихонько подсвистывали, подзывая. Оружия не имели многие, но успокаивали друг друга:
— Главное — на передовую попасть…
— А в атаку на немца бежать без оружия как? Докажи, что не в плен сдаваться?..
— А в морду за такие слова хочешь?!.
Где-то в поселке пропел петух, и это развеселило многих: «Веселый! Что живой еще… А в супец его… пусть живет!..». Дед удивлялся насмешливой обыденности разговоров в строю и стыдил мысленно своих новых товарищей-ополченцев за эту несерьезность. Сам он постоянно думал о предстоящем бое, который представлялся обязательно героическим, как князю Андрею в «Войне и мире», и потому дед внимательно все осматривал и запоминал, полагая, что все может оказаться важным, для его подвига… Впереди были окопы, земля и камни, да холмилась весенняя степь алыми маками по склону. Тысячи людей ковыряли эти склоны лопатами и давили эти маки сапогами и ботинками. Рыжего парня, перематывающего портянки на ноге и крикнувшего кому-то в траншее весело: «Кашу мою не жри! Я и сам — мастак…», — дед вспоминал, улыбаясь. Про дворнягу перед строем и петуха-певца дед рассказывал мне раз двадцать, как о родных… А родных не осталось у деда: все в войну полегли и сгинули… Не нашлись.
Бой начался неожиданно. Кто-то крикнул: «немцы!» — и из-за холма выполз черный танк с крестом на башне и шевельнул пушкой, как таракан усом. Потом все смешалось. Дед в шинели лежал рядом с усатым дядькой, который прижался щекой к прикладу своей винтовки и ругал безвинтовочного молодого: «Чего ты за мной ползаешь, як моей смерти ждешь… А я ще и сам не настрелялся…». Выстрелил. Молодой выглянул из-за камня: впереди — все шевелилось и рвалось пополам… Пополам переломился стебель мака, пополам согнулся и упал командир, роняя фуражку… Пополам задымилось небо, закрывая море…
Когда приехали в Севастополь, оказалось, деда действительно ждали: какие-то новые лидеры то ли за воссоединение с Россией, то ли за отделение от всех и провозглашение республики, то ли просто понадобилось собрать бывших оборонцев, выживших на фронте, в лагерях, в миру человеческом… По одной улице шла к морю горстка бывших десантников, по другой — приглашенные гости из новой Германии, где-нибудь в сквере выступали перед хлопцами дядьки-западенци, а кто-то отыскивал по архивам таких, как дед, земляков, но с войною и пленом… Новая жизнь? Политика? С десятью инвалидами-стариками впереди, как щитами прикрытия перед новой атакой?.. Агитка…
Митинг проходил на холмистом поле. Далеко было видно море, расстроившийся город белел вдали. Долина реки, слева, была застроена яркими коттеджами и пестрила сине-красно-зелеными крышами. Доносились гул и сигналы машин на шоссе. Далекий склон впереди словно преклонился перед сотней людей с флагами, полем волнующегося ковыля. Солнце растеклось по небу, жовто-блакитному…
Дед подошел к микрофону и снял фуражку:
— Атаку я помню. Винтовки у меня не было — не успели подвезти еще, а атака началась… Мой немец, как из-под земли вырос, дядька! — уперся в меня автоматом, да опешил, что я без оружия. Замахнулся ударить, и попал большим пальцем мне в рот. Я палец ему откусил, с испугу. А может потому, что так жить хотел? Рвануло нас взрывом. Очнулся я — немец рядом. Обнимает меня рукой, мертвый. У меня во рту его палец. Шевелится! Стошнило меня, все нутро вывернуло, я из окопа потянулся — воздуха глотнуть, тут бабахнуло снова… Как очнулся — забор, сарай, немцы, сам в крови весь. Вся война моя, значит… Не довелось геройствовать… Теперь вот землицы приехал взять с собой в Казахстан, чтоб роднее лежать… А где она для меня — родина?.. поле маковое…
Никто нас не провожал.
…В автобусе до Керчи было весело. Пассажиры смеялись. Парни студенты ехали на футбол в Феодосию и предвкушали победу. Рабочие-строители загрузились в заднюю часть автобуса и обсуждали предстоящую работу в России, с надеждой. Две девушки громко разгадывали кроссворд и вертели головами, спрашивая и заигрывая.
— Спросите меня! Меня спросите, — вскакивал и тянулся через два кресла морячок с пивом.
Двое военных, сосредоточенно наклоняясь, разливали в пластиковые стаканчики и, вместо закуски, допытывали друг друга: «Ты за кого? — А ты за кого?». Дед — улыбался, слушая. Будто помолодел. В руках держал, не выпуская, баночку с крымской землей. Лукаво посматривал на меня: нравится ли? А почему не понравится? Все мне нравилось: и паровоз-бронепоезд на вокзале, лестницы и дома, и дорога над морем и городом, как в прощальном полете, и море, печальное… Дорога петляла, стелилась, ныряла и поднималась вверх. На стареньких арках и стрелках мелькали названия чудные: Приветное, Сирень, Веселое, Доброе, Счастливое… Из какой это жизни? Вдоль дороги стояли и стояли бесконечно, как в очереди, молчаливые женщины рядом со своими ведерками фруктов, баночками грибов, соленьями, салом и хлебом. Озабоченно смятые лица глядели устало…
В Керчь въехали ночью. Света на улицах не было. Когда фары автобуса выхватывали из темноты мусорные баки, из них выпрыгивали и бежали в стороны фигуры и тени:
— Что это?
— Люди! Город-герой проезжаем…
В автобусе стало тихо.
Подъехали к переправе. Всех попросили из автобуса. Началась процедура проверок, досмотров, бумажные бланки и строгие лица. Заспанные.
По одному отрывались от очереди, как листики с дерева, и шли с вещами. Со стороны это напоминало какой-то документальный фильм — лагерный или военный? Дед сгорбился и постарел. Землю держал обеими руками.
— Что у вас? Покажите… Проходите… Откройте сумку… Проходите… Покажите карман… Деньги… Гривны, рубли, валюта… Проходите… Что у вас в банке? Земля? На могилу? Шутник, дед? …Высыпай! В вашей степи собственной земли на всех хватит… С кровью твоей, говоришь?! А мне не чем проверить — земля это или кровь… А может — взрывчатка?! Высыпай и проходи, не задерживай…
Процедура заняла полтора часа: вопросы, анкеты, очереди, погоны, ограды, толпа людей, край земли… На пароме растеклись по палубам и салонам. Соединялись трудно. Листики с дерева… Слабый свет освещал диваны, чемоданы и сумки, лица… Где-то внизу заурчал двигатель. Прозвучала команда… Палуба вздрагивала. За черным окном шевельнулся причальный огонь.
— Мы на нейтральной полосе, граждане! Подходи, не стесняйтесь! — улыбалась и звала женщина в платке и с двумя сумками в руках. Поставила сумки, раскрыла, доставая термоски и разовую посуду, надевая на себя фартушек. — Подходите, пассажиры, подходите! Наша земля, хоть и на воде. Хоть и полоса, а все-таки светлая, поесть можно. И надо поесть. Девушка, что вы хотите?.. Все свежее, все домашнее, для людей стараемся. И к закуске чего надо — найдем, хлопцы! — достала маленький магнитофон, поставила на скамейку рядом, щелкнула, впуская голос Высоцкого: «…Что за свадьба без цветов — пьянка и шабаш… А на нейтральной полосе цветы…».
Стало совсем по-человечески. Я тронул деда за плечо:
— Хочешь картошечки горячей с огурчиком, дед?»
Он покачал головой отрицательно:
— Подремлю чуток, милый… Ты иди-ка, на море глянь…
— Так темно, дед. Что там видно?
— Ты понюхай его, — он попытался улыбнуться, — скажешь мне, как оно пахнет… Я его всю жизнь помню. И как оно шепчет…
— Шепчет? Что оно может шептать, дед? Вода.
— Грех тебе так, степному человеку вода жизнь дает. А море — живое и умное… — Усталые веки закрыли глаза, дед на ощупь нашел мою руку и потянул ее, будто указывал путь. Я погладил его пальцы, тонко вздрагивающие. Вспомнил вдруг, как нашел в траве птенчика, слабого, взял его в ладони, поднес к губам, согревая дыханием, и он шевелился и тыкался клювиком в мои пальцы… Дед отдыхал, слегка наклонив к плечу голову. Я вышел на палубу. Шум двигателя, плеск, поток ветра, шершаво-холодный металл борта и совершенно черное небо над головой — все стало реальным. Какие-то крики, словно плачет ребенок, носились в сыром воздухе. Вдруг ночь просветлела: увидел огни берегов: одного и другого. Из темноты веером мне махнуло белое крыло птицы. И еще одна, молниями, вверх-вниз… Это чайки метались и кричали из самой глубины ночи и плакали. Внизу вспыхнуло отражение иллюминатора и побежало по волне. Я наклонился над бортом, пытаясь рассмотреть воду, и вдруг я вдохнул и захлебнулся, аж слезу из глаз вышибло, запах йода, будто все мои царапины заныли в душе…
Дед сидел в той же позе. Знакомая баночка лежала в открытой ладони, открытая. Остатки сухой красноватой пыли сыпались на палубу и разбегались крупицами. Я подошел и сел рядом.
Я знал, что случилось. Дед улыбался, будто во сне, будто опять видел: маки, огромные, облетают… Я остался один, «кровиночка». В этом поле.
Жажда
Федора Ипполитовича похоронили в субботу. Без оркестра и помпезности.
Было мокро и грязно. Снег скользко размазывался под ногами людей, несущих гроб. Упавшая веточка траурного венка дважды переломилась, втоптанная в желтую кладбищенскую грязь, проступившую сквозь подтаявший снег… Обычные скромные похороны.
Вдова, одетая в черное, как и положено, не проронила ни слезинки. Красивая в своем сорокапятилетнем возрасте особым сочетанием утраты и достоинства. Когда наклонилась и целовала мужа, все, кто стоял рядом, услышали отчетливо: «Я тебя не оставлю надолго одного». И все.
Саша сидел теперь в кабинете умершего шефа и перебирал содержимое ящиков. На знакомство с делами заведующего отделом ему дали один день.
Он почти не успевал просматривать содержимое папок, тетрадей, потертых записных книжек разного формата. Бумаги попадались, старые, уже отработанные, и непонятно зачем еще хранимые.
Бросилось в глаза «Личный дневник» — вспомнил вдову на кладбище — стал читать:
…Началось первое студенческое лето. Я принят на работу в геологоразведочную экспедицию. Еду сопровождать две платформы со взрывчаткой. Дорога будет проходить между соляными озерами и расположенными через 10—15 километров один от другого поселениями для ссыльных (лагеря без охраны): мужской — женский, мужской — женский. От лагеря до лагеря солончаки и пустыня…
Перевернул несколько страниц:
Пески распадаются золотыми, заманчивыми, как нарезанный торт, волнами, по обе стороны узкоколейки. Мотовоз грохочет гулким металлом колес, рельсы, буферов и платформ, груженых взрывчаткой. И весь этот грохот пронизывает до костей, заставляя вздрагивать.
Мы с Мишкой — напарником — лежим на ящиках, выставив оголенные животы небу, и кричим кто громче: «Не-э-бо!» Небо ушло высоко вверх, поглотив в синем солнце. Стоит поднять взгляд, и оно мгновенно обрывается прямо в глаза. Больно. Искрами носится под ресницами белое. И не скрыться нигде. Солнце. И красный песок. И черная тень состава плоским изгибается по ступенькам шпал, и тоже краснеет, отлетая за последней платформой. Протягиваешь руку и черное опадает вниз и бежит по песку. Рядом.
Остановки. Какие-то крики. Обе платформы со взрывчаткой отцепили и состав покатил дальше, за стрелку, к деревянным баракам женского поселения, которое зарылось в песок длинными ребрами серых крыш. Внизу, между крышами, аккуратный овал высохшего соляного озера. Лица людей будто разъедены солью и солнцем. Даже небо бесцветно.
— Мальчик! Дай мыло.
Пока я повернул голову, Мишка, он между нами старший, уже грохнул затвором, как инструктировал завхоз: «Стой! — и, вскочив на ноги, — не подходи!»
Человек тридцать женщин, все в грубых костюмах (брюки заправлены в сапоги, куртки наглухо застегнуты, косынки, туго охватывающие лицо, — все покрыто соляной коркой, ломкой, как набелы известки), тащили с платформы ящики. Аммонал квадратился в них брусками хозяйственного мыла.
— Дурак еще. Молод… — негромко сказала высокая женщина и, сжимая одной рукой черные кругляшки защитных очков (две стеклышка, вшитые в полоску материи), другой уже выхватила из ящика маслянистый брусок, осторожно надкусила и, грубо, по-мужски выругавшись, бросила опять в ящик:
— Аммонал это, бабы.
— А чего это… Чего — аммонал?
— Взрывчатка.
— А горький какой, тьфу.
— Трусы-то короткие, мальчик.
— Да не мальчик, уже.
— Может, в гости пойдешь, а?
— Мальчик! Идем, молокосос.
— А какой загореленький.
Мишка весь как-то сжался. Он не был готов к встрече. Напуганный слухами и разговорами о лагерных женщинах, сейчас, раздетый, он не смел им дерзить и не знал, куда спрягать мальчишеское свое тело.
Я, сидевший на другой стороне платформы, одетый и ничем не вооруженной, чувствовал себя, безусловно, лучше. Я мог даже наблюдать за ними, женщинами, за их улыбками, взглядами, когда они, обходя платформу и удаляясь в сторону озера, говорили о чем-то отрывисто и неприлично. Лишь одна подошла ко мне, потрогав осторожно за колено, спросила: «А мыла нет?» Лицо у нее было настороженное, будто она боялась, что я сейчас ее отпихну или ударю ногой. И только когда я ответил, что мыла нет, но я могу отдать свое, и попробовал подняться, она жалостливо как-то улыбнулась и прижала ладонью мое колено: «Сиди. Спасибо», — тихо очень. И отошла, оглядываясь. Глаза у нее были задумчивые.
Потом приехал завхоз. Очень быстро нашел временного сторожа, старика- туркмена. Вручил ему из Мишкиных рук винтовку, предварительно проверив, что она не заряжена, и повторив дважды: «Стрелять нельзя, не дай бог убьешь кого. Нельзя». Терпеливо проследил за губами старика, которые, будто перекатывая камешки, долго и почти беззвучно повторяли приказ и, наконец, внятно подытожили: «Начальник понял». Так что непонятно стало, кто из них был начальником. Но завхоз, маленький и сухой рядом с маленьким стариком-туркменом, довольно живо взял у Мишки оба выданных накануне вечером патрона, уже не глядя на старика, сунул их в свой карман и быстро зашагал впереди нас, зачарованных его распорядительностью. А старик, не сделав ни единого шага в сторону, опустился на песок, положил винтовку на раскинутые по- азиатски колени и замер, лицом на запад.
Наступила ночь.
Завхоз привел нас в маленькую комнату одного из бараков. Указал на четыре заправленные койки: «Любую, — сказал. — На улицу не выходить. Ждать меня. Закройтесь», — и, бросив на ближайшую койку ключ, ушел.
Молчали. За стеной было тихо. Но там были женщины. Это чувствовалось по каким-то едва уловимым признакам. По стуку упавшего на пол карандаша, по мягко прогнувшейся и снова прилипшей к плинтусу половице, будто там, за перегородкой, кто- то невидимый нечаянно наступил на нее, по скрипу кровати, по возбуждающемуся, как камертон, от почти неслышимого звука воздуху… Мы боялись шевельнутся. Эти незнакомые и невидимые женщины уже имели над нами ту неспокойную власть, которая звала и пугала одновременно. Как глаза той, которая подходила и трогала меня за колено.
— Ребята, откройте! — Голос завхоза подчеркнуто бодр и галантен. — К вам дамы.
— Не дамы, а дама, — поправляет она и входит, широко раздвигая низ юбки босыми ногами.
Знакомимся. Она заглядывает в лицо каждому и громко смеется, будто и вправду смешно ей. Уголки губ у нее неприятно влажные от постоянного смеха, мелко трясутся под тоненькой тканью оплывшие плечи. Она садится к Мишке на кровать.
— Миша, милый, я хочу с вами выпить. Какие у вас красивые брови. Миша, — гладит его брови.
— Брови молодого демона, — отзывается завхоз, наливая в единственный стакан, и самодовольно хохочет.
— Да-да. Брови демона… — моментально обернувшись, с готовностью подтверждает женщина, — прямо демон. Миша, вы демон? — И берет его за руку.
Я смотрю на Мишку. Мне неловко за него и не хочется, чтобы Мишка оплошал. Но стыдно, ужасно стыдно за женщину. Понятно, зачем она здесь, но почему же она? Почему не другая, та…
Я боюсь, что сейчас она отвернется от Мишки и приблизится ко мне закудрявленным лбом. Вино кажется липким и почти не течет. И стакан тоже липкий.
Завхоз что-то шептал женщине и потом только переспросил:
«Маша или Клава? Маша? Чернявая такая? Тим-там-тара-там…», — поднялся к выходу.
Мишка тоже подглядывал за мной и, думая, что я не вижу, прижал свою ногу к ноге женщины и покраснел.
Я поднялся:
— Мне надо выйти, — и вышел с завхозом.
— Ты куда? Я с ней договорился, что вас двое…
— Иди, ты…
— Ну, — совсем не обиделся завхоз, — ты парень не промах. — И пошел, пошатываясь, по коридору, длинному и плохо освещенному.
Я вышел следом. Где-то рядом прятала ночь красивые женские глаза. Окон было чересчур много. Однажды показалось, что это она. Осторожно подошел к окну и ждал, пока обернулась. Отступил в темноту и, стараясь не шуметь, пошел дальше. Вышла какая-то женщина, постояла у стены, произнесла что-то неразборчивое, глядя на звезды, и снова ушла.
Звезды, то мелкие и частые, то зеленым и сиреневым вытянутые на ярко- фиолетовом небе, были как плывущие и ломающиеся на волне блики. Все дышало. Песок уже был холодным, а из степи упруго давили, изгибаясь, струи горячего воздуха. Плоско упало на песок отражение внезапно вспыхнувшего окна. И черным клубилась вокруг золотого ночь. И сыпались с громким шорохом песчинки, каждый шаг выдавая. И длинно, как поезд, светились бараки. Ряды поездов. И хотелось спешить.
Тело начало мерзнуть. Я повернул назад. Но назад идти было некуда. Не время. И не хотелось. И еще часа два или три я бесцельно бродил по окраине поселка, то согреваясь, то замерзая снова, когда пытался присесть.
Подошел к своему бараку. Света в коридоре уже не было. На ощупь нашел двери. Попробовал — открыто. Вошел. Рукой поискал на стене выключатель. Выключателя не было.
— Миша! — позвал тихо.
— Что? Какой Миша? — Кровать испуганно скрипнула, отделив женский голос от тишины, как лист от дерева.
— Миша… мой друг, — и, будто сообразив, добавил, — парень. Мы взрывчатку привезли днем на платформу у стрелки.
Пауза.
— Вы барак перепутали…
Потом очень долго все было тихо. Наверное, мы не дышали.
Надо было уходить. Куда? Черт разберет эти сараи. Женский голос сказал:
— Проходите. До утра все равно ничего не найдете.
Я начал вдруг волноваться. Долго закрывал дверь. Что-то мешало на пороге. Наклонился, поправил половую тряпку у двери, дверь поддалась и закрылась.
— Вы одна?
— Да.
— А остальные?
— Я здесь одна.
Я спрашивал шепотом, и она шепотом отвечала. Я почувствовал, что весь взмок. Увидел темное пятно портрета, две кровати, стул и на него что-то наброшено, наверное, одежда, стол у окна. За окном черно блестел освещенный уличным фонарем, одинокий столб.
Казалось, прошла вечность. Я спросил:
— Вы не спите?
— А ты долго так будешь стоять?
— А куда идти?
— Сюда… Я разглядел вдруг, будто зрение стало в тысячу раз сильнее, ее запрокинутую на подушке голову и вытянутую ко мне руку. — Иди… Только не говори ничего и не спрашивай…
Мне чудится лес. Утро. Веревки качелей тонко и высоко взлетают в листву дерева. Ветки качаются, прогибаясь под упругими петлями. И все выше полет. И уже не скользишь вниз, замирая в падении. Только вверх. Когда же падение? И солнце мелькает, сжигая листья. Выше! Когда же падение? Выше!..
— Еще… — она напряглась, и, вдруг расслабившись, засмеялась у меня под подбородком.
— У тебя красивые плечи. И руки. А что это за ранки?
— От соли.
— Пройдет?
В ответ она жадно и нескончаемо целует меня:
— Соскучилась я по человеческому, — говорит, будто извиняясь. — Хочешь знать, как я сюда попала?
— Не надо.
— Надо… Всего два месяца проработала. Школу закончила — курсы продавцов. Работала со своей тетей. Она — завмаг. Двое детей. С мужем в разводе. Пил. Бил. Конечно, она жила не только на зарплату. Разве она одна? У всех знакомых кто-то сидел или сидит. Тут ревизия. Растрата. Я взяла вину на себя — у нее-то дети. Она поплакала и согласилась. «Что делать, племяшка, два года отсидишь, тебе только двадцать будет. Помогу…»
— Это же бесчестно.
Она накрыла мой рот маленькой ладошкой и неожиданно улыбнулась:
— Я хочу, чтобы у меня был ребенок.
— Сейчас?
— Глупый, это не происходит так быстро.
Я смутился еще больше:
— Разве об этом тебе думать?
— Я просто думаю о счастье.
— Какое же сейчас счастье?
— Какое? Желанное! Я желаю его. И буду желать несмотря ни на что. Даже здесь! Назло тем, кто не хочет быть счастливым. Я не откажусь от себя… Я завелась. Мне не важно, что происходит вокруг — магазин, лагерь, очередь… Важно — в душе что? Я завелась, как пружинка. Насколько меня хватит? Но я хочу так. Только так… Стыдно, что у вас, которые на свободе, не достает желаний. Сыты полуобманом, полуудовлетворением, полусчастьем. Не смей уподобляться им! Меня томит жажда. Радоваться и любить!
Вдруг затопали за стеной, по коридору, зашлепали босыми ногами, застучали в двери:
— Дождь! Дождь! Ведра несите! У кого ведра?!
Она вскочила и, чмокнув меня, напуганного этими криками, закричала:
— Здесь! Здесь! Я сейчас… я сейчас, миленький, — зашептала мне. Забегала по комнате, хлопнула дверью, вбежала опять, смеясь и целуя, и дергая меня. Сияла. Шептала:
— Сейчас наберем воды и будем купаться. Хочешь купаться? Жуть как люблю мыться дождевой водой. Буду чистенькая. Вот увидишь. Солнышко взойдет — ты меня и увидишь. Хочешь?
Саша перестал читать и откинулся на стуле. Закурил. Вышел в коридор. Вернулся минут через двадцать с картонной коробкой из-под печенья — взял в буфете — и, уже без любопытства и излишнего беспокойства, складывал бумаги Ипполитовича одной плотной массой. Тетрадный листик выпал из старой папки и медленно лег на пол. Пришлось наклониться за ним и, невольно прочесть несколько строк:
«Целую. Целую. Здравствуй. Соскучился. Не могу сосредоточиться. Не могу ничего делать… Теперь уже немного осталось. Ты скоро узнаешь все из официальных бумаг. Скоро. А на жизнь у нас хватит сил. Ты сама говорила: жить легче, чем переживать. А я буду рядом. Я хочу, чтобы ты смеялась…».
Женщине снится босоногая девочка верхом на лошади. Лошадь медленно ступает в воду. Разноцветные камешки на дне реки струятся сквозь прозрачные волны и распадаются под копытами. В белом, наполненном солнцем тумане, просвечиваясь, угасая, останавливаясь, плывут сиреневые столбы, голубоватые фермы моста, и, совсем близко, вздрагивают, сопротивляясь водяному потоку, упругие зеленые стебли.
Девочка ищет кого-то глазами, оборачивается назад, покачнувшись, вытягивает шею. Вдруг чье-то лицо рядом. И губы открываются, говоря что-то. Но нет ни единого звука. Ни всплеска. Ни голоса. Только знакомо двинулся, выгибаясь под тонкой кожей, треугольный кадык, вверх-вниз.
Женщина открывает глаза. Смотрит на фотографию мужа.
Федор Ипполитович чему-то смеется, приоткрыв рот. Кусок черной ленты на верхней стороне рамки оборвался и свисает вниз. Кажетcя, Федя сейчас вздохнет и лента всколыхнется от его дыхания. В углу рамки — маленькая любительская фотография: они вдвоем, взявшись за руки, стоят на вершине песчаного бархана…
Резко зазвонил телефон. Саша поднял трубку. Звонил Юрка, приятель:
— Привет, старина! Как жизнь? Кочуешь? Поздравляю. Местечко ничего. Не жмет в плечах? Да, брось ты эти сантименты. Мебель поменяй, прежде всего. Шеф твой зануда был насчет мебели. Как поменяешь, звони, приду к тебе пиво пить. Бокальчики, так и быть, куплю. А то ты не раскошелишься… Шучу… Ба! Здесь что-то интересное рассказывают… Подожди-подожди. Слушай, кошмар какой-то. Ты только это, не волнуйся. Жена Федора Ипполитовича в реанимации… Ночью бегала по квартирам и всех будила, кричала: «Дождь, дождь…». Насилу успокоили. А утром кинулись — нижний этаж водой залит — она ночью краны у себя пооткрывала… Увезли ее… Але?!
Он быстро набрал номер реанимации: «Реанимация? Меня интересует… — долго ждал ответа, дождавшись, не поверил и переспросил: — Умерла?»
Опустил трубку. Ни слов, ни мыслей не было. Только растерянность. Будто взмахнула крыльями над самым его лицом неожиданная птица… И улетела.
Чудо мое
Одесса. Улица. Мужчина.
Старый морской рыбак-капитан Семен Иванович двигался в сторону порта, привычным противолодочным зигзагом протраливая некоторые заведения и места, где могли бы оказаться друзья-знакомые. Так он пытался оттянуть время прибытия на судно, ибо ночевать на стоящем в ремонте траулере — тоска и неустроенность, и было бы счастьем кого-нибудь встретить и посидеть в компании. А вот уже и мост на перекрестке улиц Черноморского казачества, Приморской и спуска Маринеско. Близкая Пересыпь гудела и звала обычной предвечерней сутолокой, трамвайным металлическим накатом, сигналами машин и криками торговцев под мостом: «Чулочки-носочки… Цветочки, цветочки… Семечки, семечки, покупайте семечки… «Шаланды полные кефали…», — пел под баян высокий мужик в потертом пиджаке и без кепки. Кепку его, как кассу для пожертвований, держал одной рукой рыжий напарник, другую напарник артистично, от груди, разгибал вперед, как Ленин на сцене, но потом медленно опускал поперек движения на манер гаишника на дороге: «Давайте, граждане! Кто сколько может… Тетя! Тетя! Не на выпивку, тетя…». Оба, музыкант и кассир, совершенно трезвые, пританцовывали. Над их головами висел лозунг на листе ватмана: «Господа продали флот Одессы, а мы построим флот Перессы!»
— Эй, морячок, не стесняйся тоже! — окликнул рыжий Семена Ивановича.
— Так я не моряк — я рыбак?
— Моряк рыбака видит издалека… Я не рэкет, не таможня — подкупить меня не сложно…
— А баянист твой может.
«…Еще ее мелькают огоньки1…»? — баян резко сжался, фыркая воздухом из-под клавиш, и высокий мужик легко растянул его в новой мелодии: «В тумане скрылась милая Одесса…2».
Семен Иванович улыбнулся обоим, слушая слова песни и легко расставаясь с пятью гривнами: «Это же не рэкет — артисты!..»
Был какой-то кураж сегодня, и в этом баяне про море, и в этой толпе с работы, и в этом настроении, когда выгребешься с парохода, а дома нет. А музыка — и в душе, и на улице. И в каждой женщине, на тебя глянувшей… Эх, Одесса!
Только загляделся капитан и стал пристраиваться в кильватер миниатюрной мадаме в шляпке и с локотками прижатыми к талии, как она оглянулась — верная примета, что мужской интерес и кормой чувствует, — вздернула головку, и правый локоток ее отстегнулся, взлетая, потому как появилась необходимость поправить шляпку: кокетство женское… А у Семена Ивановича запершило в ноздре — аллергия на женский парфюм: бог шельмеца метит газовой помехой, можно сказать, мешает бравой атаке при выходе на торпедный залп. Эх, перекресток Маринеско и Черноморского казачества! Труба телеге, или достаньте, Сеня, носовой платок, апчхи!..
Семен Иванович, конечно, успел увидеть, что второй локоток дамочки тоже оторвался, как пуговичка, и дамская сумочка, прижимаемая прежде локотком к талии, вспорхнула птичкой за чьей-то рукой и нырнула в толпу так естественно, что даже шарканье ног и каблучков цоканье с ритма не сбились и хода не нарушили: тик-тик, как часики. «Ой!» — только и вскликнула дамочка, будто споткнувшись. Оглянулась она на Семена Ивановича, а через мгновение — повисла на нем, как шарфик на вешалке: «Где моя сумка?!» — Он даже платочек в голубую клеточку от носа оторвать не успел. Но дамочка поняла уже, что у него ее сумочки нет, и попыталась отлипнуть. Однако, сменив гнев на милость, она просто распласталась и расплакалась на его груди. Тело и душа моряка горячо завибрировали на грани желаний успокаивать и ухаживать, и он засопел от важности момента.
«…Я вас держал, как ручку от трамвая…», — пел из магнитофона на прилавке мужской голос…
Пересыпь. Вечер. Одесса. Женщина и мужчина.
— Это вы здорово придумали, мадам, по моему фраку, можно сказать, слезами мазать, — приговаривал Семен Иванович, осторожно выводя ее из толпы, обеими ладонями оглаживая ее маленькие пальчики.
— Сами вы к моей груди пристроились…
— Это грудь? Простите старого моремана, я полагал это самая приятная пристань, к какой я когда-либо швартовался.
— Посмотрите, какой галантный оказался, лучше б ты тогда за моей сумочкой присматривал, чем на мои ножки и каблучки пялиться.
— Что, так много пропало?
— Состояние!
— Сумочка-таки золотая была?
— Состояние души, морячок! Такой вечер испортили. Думала, пойду в загул, кутну на три рубля, может, понравлюсь кому-нибудь.
— Так ничего не потеряно: кутнем, гульнем, понравимся друг другу.
— Хватит трепаться, — она вдруг перестала бравировать и играть, — сумочка старая, ее давно менять надо было. Да в ней было триста гривен — месячная зарплата.
— Не густо.
— Теперь и того нет. Пусти. Не по пути нам, — она повернулась и шагнула с тротуара на асфальт.
— Стой! — Его окрик и скрип тормозов слились с матом шофера: «Ты! Мать… Я же на машине! Не затопчу, как петух курочку, а по асфальту размажу!» — Движение замерло, и все повернули головы: шляпка катилась по асфальту, упала, и неустойчивый мужик с пивной бутылкой в руке по инерции и нечаянно оступился на нее ногой с тротуара, только пыль дорожная пыхнула. Дамочка глянула на раздавленную красоту, театрально качнулась, восстанавливая равновесие души и походки, и сказала шоферу небрежно, махнув рукой, как на муху: «А-а, мужики, вы так теперь слабо топчете, что лучше задавили бы сразу…» — «Ох, ха-ха-у!» — загудели и заулыбались вокруг одобрительно.
— А вам лучше не отрываться от меня, дамочка, — заворковал Семен Иванович, подхватил ее под руку и с нарастающей симпатией повел, куда сам правил. Она не сопротивлялась:
— Правда твоя, морячок. Нападение на меня сегодня какое-то. Веди меня, парнишка седенький. Мне, видно, выпить надо.
Но выбор ресторанчика она определила просто:
— Чтобы не далеко идти, не шумный зал и музыка хорошая… уж если тратить деньги, то там, где это приятно.
— И с удовольствием, — добавил он, на что она тут же поправила:
— С удовольствием, позже и чуть дороже. И, кстати, не надо меня путать: то дама, а то мадам. Возрастом моим меня не испугаешь, и сама давно не бунинская Лика, и не рыбачка Соня, а Таня, просто, Таня.
— Бунина знаете?
— Повторяю: я девочка давно и сначала советская, а потом уже — перестроечная. Мастер спорта по акробатике и высшее советское — это в прошлом, а челноки, торговля на рынках, уборка квартир и песни по рюмочному настроению — теперь пришло…
— Прости. Я не хотел обидеть.
— Это и не удалось бы. Я из поколения, где отцы всю Европу сапогами промеряли, а матери по два — три мужика потеряли: по тюрьмам, по войнам, по морям и трудовым будням. И сама я, имей в виду, одесская вдова с двумя детьми. Дети взрослые, правда. Дочь работает. Сын в мореходке учится. А только горбатиться приходится на десяти работах. Вот — с работы иду, а через два часа на работу снова.
— Давай, не все сразу, — он остановил ее, тронув за руку, нервно мявшую салфетку на столе. Она смолкла, посмотрела, успокаиваясь, сказала просто:
— Поесть бы и выпить чуток. Иначе разревусь… Что-то я нервная стала сегодня…
— Не волнуйся. Кутнем, гульнем, понравимся друг другу…
— Местами поменяй. Я с теми, кто мне не нравится, за стол не сажусь.
— Хорошее правило.
— У тебя не так?
— На море принято: с теми, кто рядом — с теми надо и жить, и выжить.
— Тогда заказывай. Я согласная. Только мне обязательно первое, а пить, что и сам будешь.
— Обижаешь. Ты же дама моя, — протянул через стол руку, взял ее пальчики и поцеловал.
— Ладно, не гони лошадей, — провела рукой по воображаемой прическе. — У меня когда-то такая фигурка была — закачался бы! — и впервые улыбнулась откровенно и доверительно.
— Я уже закачался.
«…Там были девочки — Маруся, Роза, Рая — и с ними Костя — Костя Шмаровоз…» — приблатненно шелестел магнитофон.
Через час пришлось, действительно, сниматься с теплого ресторанчика и двигать куда-то вверх, к современно отреставрированному особнячку, с решеткой-оградой, наружным освещением и цветами на клумбах, где ей предстояло отдежурить ночным вахтером. Но вид у нее был совсем усталый, а настроение — не рабочим, а потому Семен Иванович взял инициативу в свои руки и продуктивно переговорил с ночным шефом — тридцатилетним балбесом у ворот. Балбес обнимал двух девочек одновременно, а пересмеивался с третьей, стоявшей у двери охранного помещения. Шеф резюмировал кратко: «Гони дед двадцать гривен и забирай свою старушку до утра, мне все равно не спать, видишь, какая на меня очередь…».
Когда вышли из ворот, Таня доверительно потерлась лицом о рукав неожиданного ухажера: «Спасибо тебе, рыбачок-морячок. Как на свежий воздух вышли, буквально…»
Но город засыпал уже, и самим надо было искать место:
— Куда пойдем?
— Я сейчас позвоню подруге.
— Можем ко мне, на судно?
— Еще чего?! Я тебе кто?!. Подруге позвоню сейчас и все будет… Пойдем. Это рядом. Не поздно, не поздно! Там сегодня соседа их в рейс провожают…
Подруга, чистая одесситка, встретила просто:
— О-о! Танюха с самоваром и пиджак на плечах!?
— Самовар — это, надо полагать, я…
— Морячок гуляет и ухаживает?! Одобрям, как говорят болгары, — и сама себе подпела «Хороша страна Болгария…», продолжая высказывать радость. — Гости дорогие, да не с пустыми руками… — успевала вывернуть принесенные нами кульки, — о-о! По закуске и коньячку — наш человек! Заходите, бездомные, найдем коечку…
Дальше пошло-поехало. Крутилось — лица, окурки, тарелки, улыбки и взгляды, какие-то фразы, рюмки и тосты. Кто-то просил устроить кого-то в рейс. Кто-то рассказывал верный способ зарабатывать тысячу баксов. Кто-то приглашал в другую комнату… на улицу… поговорить… выпить… быть верным другом. Высокий красавец, черноволосый, в одной руке рюмка, в другой — потухшая сигарета, в зубах — фикса всех агитировал за пиво известной марки. «Всем! — торопился сказать он, — всем надо ходить на эти их дегустации-презентации, там дают полный абзац: майка, пепельница, пивные стаканы и кружки, подстаканные салфетки — Фир-рм-ма! — все вот с таким лейблом! Бесплатно! Пиво — на шару! Мы с женой теперь и детей, и мою тещу с тестем — всех с собой берем! Надо! Это как на парад, как на демонстрацию при старой власти! Скоро — могут принять в члены клуба. Надо только собрать еще тысячу пивных крышечек. Нам ништяк осталось, да мне рейс помешал. Ничего, я этот клуб достану. Это уже — присяга! — Он встал, ковырнул пальцем в красивом зубе. — Наливай! В натуре! Такая жизнь начинается… За дегустацию…
Таня вошла из другой комнаты и оборвала неожиданно резко и насмешливо:
— Вам надо и собачку брать — ей тоже печать поставят… Дегустаторы дерьма! Какой ты моряк? Пробочник…
Кругом зашумели, засмеялись, возмутились. Хозяйка успокаивала. Кто-то икал. Громко упала бутылка… Таня наклонилась и тихо сказала, будто попросила о помощи:
— Пойдем отсюда…
И снова на улице было свежо и вольно. Она прижалась к нему молча, и они стояли так, будто никуда и ничего не нужно было.
Вдруг рассмеялась:
— Представляешь? Этот пивной лейблщик — это и есть, которого в рейс провожают. Зачем ему в море? Совсем я вас, мужиков, понимать не умею. Такие вы все разные…
— Тебя кто-то обидел? Подруги?
— Подруга. Говорит (о тебе речь, конечно): раскошелить надо, такой морячок должен золото дарить, понимаешь?
— А ты что же?
— А я говорю: он у меня сам — золото. Не веришь? Так и сказала. Только оставаться там не хочу больше. Ко мне пойдем.
— А я тебе кто? Соседи, вопросы, разговоры…
— Не язви. Мои проблемы.
— Я проблем тебе не хочу — пойдем в гостиницу.
— Не хочу в гостиницу. Женщина должна встречаться с мужчиной у себя в квартире. Это правильно… Размечтался, крепенький, а я не навязываюсь… Мне просто хорошо с тобой, и я боюсь, что в другой раз, я уже не сумею так доверять и расслабиться. Пойдем…
…В ее комнате было хорошо и уютно. Старые обои, старая мебель, старые лоскутные коврики… Окно светилось ночным небом. Музыкальный центр из темноты серванта разноцветно подмигивал в такт тихого джаза. Женщина лежала головой на груди мужчины и говорила, шептала, чему-то смеялась и говорила снова:
— Что-то я разболталась с тобой, будто прорвало меня. А кто ты мне: хахаль? Любовник? Дядя в кителе? Чудеса и только. Вовик, муж-покойник, царство небесное, такой молчун был. С рейса придет, бывало, с утра припарадится и идет на Пересыпь, дружков угощать, пока все не пропьет. Ночью заявится — матери радость, она и борщ со сметанкой ему, и туфли с носками, от входной двери и до кухни разбросанные — все приберет, помоет, постирает. Меня не подпускала. «Сынуля…» Первое утро после свадьбы я хорошо запомнила. Вовик спал — отсыпался. Я на кухню прошла, а там свекор со свекровью завтракали. Смотрю — второй столик на кухне стоит, откуда? Свекровь прояснила: ваш — сама готовить будешь, когда посуду и продукты купишь, больше у вас пока ничего нет. Сообразила я, кинулась в магазин за тарелками-ложками, крупы-масла… А какие деньги? Не успела с борщом к обеду. Вовик за маминым столом обедать сел… Но добрый был, когда хоронили, по всем забегаловкам мужики поминали. И сейчас, в обиду на дают, грех жаловаться…
Дочь умницей выросла, сама институт вечерний закончила, только с работой не сладилось. Мотается челноком. Не олигархи мы, сам видишь. Сын в мореходку баллы не добрал, не приняли. Только я поревела чуть, набралась наглости, юбочку покороче, блузочку откровеннее, траурную ленточку на шею, да на прием к начальнику, прямо от дверей к столу, грудь из декольте кулачками выдавливаю: «Не погубите морскую династию, — говорю, — дед боцман, муж старпомом умер, сама поваром на буксирах ходила, — и красуюсь перед ним — морячка! Дедушка-начальник, седенький, душа к женщинам мягкая, я сразу это заметила, не устоял — приняли сыночку моего. Учится мальчик… Ой, не поверишь, я когда поварихой работала, неумеха была неумеха! Кашу варю, а она у меня из кастрюли лезет. Ребята уже стучат ложками, есть хотят, а я половником кашу из кастрюли и за борт, и за борт. А там дельфины прыгают и жрут-улыбаются мой рис недоваренный. Смеху-то!.. Смех и грех. Помню, в детстве, мы с мамой пропалывали огород. Я вижу зеленую веточку — деревце проросло на картофельной грядке, маме показываю: «Оставить? — Пусть растет. — Это яблонька или слива, мам? — Пусть хоть яблонька, пусть хоть слива. Спасибо соседке за брошенные в наш огород косточки…». Так жили.
— А ты не задумывайся. Не усложняй жизнь. Она сама разберется — куда тебя вынести, на какой берег. Ты, главное, себя не теряй. Видишь, красивая какая…
— Красивая, скажешь еще. Скоро бабкой буду. Руки, смотри, в морщинах все. С этой перестройкой забыли, о нас — бабах… Не целуй, не целуй. Не подлизывайся. Сам сегодня меня то мадамой, то дамочкой звал, сам путался… Я уж думала: тронутый морячок какой-то, не настоящий…
— Так и есть — тронутый. Жизнью тронут. Но тронут-то, заметь, с любовью.
— Заметила, — улыбается ему, — Бог с тобой.
— А это может быть самая сильная моя сторона: Бог со мной… Чувствуешь? Уже и тебе лучше…
— А яблочко хочешь? У меня яблоки есть. Сейчас принесу.
Он не успел ответить. Она вскочила, накинула халатик, повторяя с улыбкой: Яблочки…— А через секунду в коридоре загрохотало и запрыгало, как при землетрясении…
Он вскочил, натягивая брюки и выглядывая из комнаты.
Дверь в кладовку была распахнута настежь, оттуда катились кастрюльки и баночки. Таня барахталась на полу, пытаясь подняться, хватаясь руками. Над головой ее висел, как на складе, всякий домашний скарб. Яблоки катились из опрокинутого ящика. От ее неловких движений со стен поочередно срывались, висящие на гвоздях и веревочках, сумки, мешочки, свертки, связки…
Босой капитан в брюках, которые никак не хотели застегиваться, непонимающе оглядывал странно взъерошенные стены кладовки и, наконец, разглядел:
— А зачем эти гвозди?
Таня пыталась собрать с пола, но, услышав его вопрос, зашлась хохотом, села среди этой разрухи, пытаясь ладонями у лица унять нервные смех и слезы, и виновато пыталась объяснять:
— Туповатый мой! Это мое же изобретение! Вовчик полки не мог сделать, а кладовка нужна — вот я и навбивала гвоздей в стены. А на гвозди — кулечки, горшочки, тапочки — все, что у других на полках. Понятно, седенький?.. Брось это барахло…
Семен Иванович попытался собирать в кучу, но она рассердилась вдруг:
— Брось, говорю! Не для того тебя на ночь звали. До утра еще уйма времени. Или отступать будешь, бравый?!
Он опустился, спиной по стене, присаживаясь рядом с ней:
— Отступать не буду.
— Сдаешься, парнишка мой?
— Может еще поборемся?
— Крепенький?!!
И оба повалились, смеясь и обнимаясь, среди пахнувших раем яблок…
Год спустя Семен Иванович отчаянно шагнул по трапу на одесский причал. За кормой был шабашный рейс, ибо сказано давно и не нами: уходить надо вовремя и «шабаш!».
Все изменилось в порту и на Пересыпи. Бабушек с корзинами разогнали с улиц. Цивильные ларьки, магазинчики, барчики, чистые «шопники». А куда делись уличные рэкетиры-баянисты с жестами вождя пролетариата? Кто вместо них? Откуда ждать теперь грабежа-нападения? Все устроено. Все — пристойненько.
Он завернул на остановку трамвая, в поисках цветов, и вдруг остановился настороженно. Что-то было тревожно знакомо. Две женщины поочередно спросили у продавщицы овощного лотка:
— Я могу морковку выбрать?
— Конечно, дамочка.
— И я выберу, — потянулась рукой другая.
— Конечно, мадам.
— Почему она — дамочка, а я — мадам?!
— Я же вижу, кто как морковку держит…
Семен Иванович узнал бы этот голос и через тысячу лет, и глянул улыбаясь. Продавщица была «наша девушка», в том смысле, что сразу почувствовала мужской взгляд и повернула голову:
— Сеня?! — и растерянно потянула вверх руки в грязных овощных перчатках. — Сенечка, — засмеялась мечтательно. — Ты сдаваться пришел?
Он только кивнул в ответ и улыбнулся. А по ее лицу текли слезы, и расползалась дешевая тушь. Но она смеялась:
— Чудо мое…
Бетта
Это был курортный роман.
Банальный, как миллионы других романов, случающихся во все времена и во всех солнечных местах мира, где уютно, тепло и тихо. Где музыка таится в тишине и в бликах неба по стене и полу. Где все события — кран капнет, машина скрипнет тормозами и дверцей хлопнет, кого-то выпустив. Шмель в комнату влетит, как гром на крыльях, но спрячется за тиканье часов на полке. То летний дождь прошелестит по листьям и каплями блеснет на подоконнике. То чей-то разговор, как мясо на шампур, нанизан на шаги в саду. И съеден тишиной опять. Симфония. Струится ветерок в раскрытое окно, а потолок — вздыхает. Контрабас. Все — ждет и слушает. Вот скрипка — хочет жить, а плачет. Устав с дороги, сумка на полу раскрыла рот. Одежда разлеглась на стуле, на столе, на пол упала. Все — шепчет, шамкает какие-то слова, мелодии. Вздыхая и смеясь. Руками лиственных ветвей в окне и ликом облака, похожего на обезьянку — все грезит про любовь. Грозит. Заманивает. Соблазняет. Дразнит. И нагло-нагло нас толкает к этому соблазну. Жутко приближаться. Как к пропасти. И видишь этот край, панически предчувствуешь паденье. Но — ужас! — приближаешься к нему, как глупый лягушонок в пасть удава. У змей — улыбка на лице, заметили? Вот жажда жизни: там, где смерть — улыбка…
Это был курортный роман.
На мгновение только. Потому что нельзя жить на бегу, задыхаясь друг другом, не есть и не спать от ненасытного голода поцелуев и ласк. Любовь тела должна отдыхать, меняясь на любовь разговоров и мыслей, доверия и покоя. Прятаться в игру. Любовь, как игра. Или игра в любовь. Или просто игра, в чью-то жизнь и чужое счастье. Но жить каждый день только нотой любви — все равно, что тянуть на одном выдохе: а-а-а… Кто выдержит? Да и зачем? С годами и ласки — нежнее и вскользь. В годах и заботах любовь растекается в страх, что кто-то уйдет раньше, а другому останется жить, вспоминая последнее слово, последнее соприкосновение на тесной кухне, чай на двоих или свечечку на серванте, как закладку в пушкинском томике: «…Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я…». Рай — это другая сторона ада. И только любовью в нас — снова и снова звучит скрипка, и вечность — замирает и слушает…
Это не положишь, как могильный камень. Это остается, как река или плеск моря. Жить.
А говорили — «курортный роман…».
Каждый из них заполнил его своими воспоминаниями. И каждый сожалел, что, оглядываясь назад, мог вспомнить только незначительное, будто слова из случайной книжки: «родился… умер…». Как из чужого рассказа. А что можно вспомнить, когда только дышали, дышали, дышали. Торопились и бежали друг к другу, торопились. Торопились к концу жизни? Не заметили, как состарились. В этом — вера, надежда, любовь и… долгое ожидание. Прибежали. В одиночку умирают быстрее…
Он помнил. Всем телом он помнил и ощущал те далекие дни…
…Капли дождя текут по моему лицу. Мне кажется, я бегу в небо по точечным ступенькам падающих к земле капель. И весь — мокрый. И купаюсь в воде. И плыву в воде. И качаюсь. И берег, и горы покачиваются на волнах. И небо голубое качается, никуда не спеша. Я уже знаю, где я и когда это со мной было. И выползаю на берег. Молодой. Гибкий. Девятнадцати лет. И иссыхаю, как воздух. Медленно. Качается голова в такт раскачиванию гор и опусканию неба… Качка. Запах бензина и аппетитно съедаемого за моей спиной персика. Пыль, фонтанчиками бьющая с пола автобуса. Оранжевая тьма болтающейся на окне занавески. Муха, пикирующая из облака занавески в стекло. Дрожание этого стекла, отчего и поплывшая за окном груша, обвешанная плодами и пылью, мелко тряслась, как в тике. Но ни плоды, ни пыль не сыпались. Тормоз. Пыль за окном обгоняет автобус. Издалека, как из тоннеля, голос водителя: «Остановка. Туалет. Базар по-кавказски…».
Толстые листья грецких орехов висят над головой. Сухая земля прогибается под тяжестью неустойчивых ног и теней. Черноглазые базарники освещены желто-зеленым лиственным светом и тоже похожи на пассажиров автобуса. Спелое разноцветье овощей и фруктов горками рассыпано на длинных деревянных столах. Старые доски исцарапаны и исписаны словами, бегущими из-под яблок и винограда, как паучки… На счастье.
Светлая дорога уходит вверх. Над ней — каменная церквушка, без стены и крыши, как раскрытая иконка. Провисшие нити проволочной изгороди подцепили зеленый занавес пригорка, и нарисованная на нем корова медленно перебирает ногами, постепенно закрывая собой и зеленую траву и церковь.
Горы поднимаются с трех сторон. Глубокое пространство справа, все в лиственном узоре сада, стало расступаться, и в такт шагам над ним взмахнуло, оголяясь, сабельное лезвие атакующего моря. Серебристо ликующего и большого. Набегающего на меня…
Осторожные и многочисленные туристы — с надувными матрасами, сетками, детьми и полуодетыми женами — вереницей тянулись вниз по ступенькам выложенной из пластов дикого камня лестницы.
Заросли дуба и кизила, все более густые к глубине ущелья, обтянутые зеленью плюща, мелкого винограда, шиповника, глета постепенно нависали над тропой, оттеняя ее ровным зеленоватым мраком. И редкие солнечные лучи были издали заметны на камнях слепыми пятнами или прожекторно пронзали сверху внезапным светом, как яркой шпагой. Пахло влагой, сыростью, травой. И становилось тише. Крик цикады в этой тишине занозил и сливался с писком комара над ухом. Тропа змеилась меж стволов и веток, солнца, паутины, бархата камней и мхов, упругих корневищ, пружинно разорвавших землю и высоко подбросивших стволы и стебли. Как высоко над головой, как далеко кусочек неба. Маленькая ящерка смотрела одним глазом, задрав узенькую головку…
Иная душа не выдерживала долгого лесного мрака и — прочь от уютных ступеней! — ноги сами шагали в хрупкую неразделимость травы, цветов, подозрительных шорохов, вспорхнувших, но так и не увиденных глазами птиц. Руки упирались в шиповник, листья били в лицо и неожиданно, как бутон, раскрывали плен и давали взгляду насладиться снова высотой и пространством. Тогда опять были видны горы, горы, сонный уголок ущелья, лагерные палатки с флагами одежд на оттяжках креплений, неустойчивый столбик дыма, утыканный разноцветными зонтиками галечный пляж, который отсюда, сверху, скорее напоминал белую с яркими ягодами тарелку, наполовину под лапами и языком моря, лениво облизывающим ее.
И не казалось удивительным неспокойное желание увидеть, угадать, придумать. И ты была придумана воспаленным воображением задолго до первых слов, до первого взгляда, как мячик прыгающего среди плавающих лиц… Тогда еще, когда море увлекло от пляжного шума, от женских голосов, от скрипа уключин спасательной лодки за оранжевый буй, за мыс, с игрушечной, как божья коровка на камне, красной крышей над обрывом… В заманчивую границу из безветренной глади в нервную рябь открытого моря, где глубина становится черной и вязкой, и ноги пугливо рвутся к поверхности, кипящей от горячего ветра… Вода извивается, тысячами холодненьких змеек кусая сопротивляющееся тело… И вдруг — все необозримое море заворочается с боку на бок, словно возмутится, что я его оседлаю, и первая настоящая волна выскользнет из-под моих ног с наглой невпроворот силой…
Я плыл уже к берегу. Усталость и удовлетворение были в каждом движении разгребающих широко в стороны рук. Ноги сами вытягивались, вдавливая острое тело в шелестящий поток разрезаемой воды. Голову я не поднимал. Глаза, привычно раскрытые, проникали туда, где стайки живых рыбок расчесывали купающееся солнце. Вскоре выплыло дно. По коричнево-красному вздоху морской травы, отделившемуся от голубого песка и желтых дыряво-ракушечных камней, скользнуло, проваливаясь в расщелину и распадаясь на множество плавающих раздельно и снова собирающихся кусочков, мое неустойчивое отражение. Вдруг такая же тень раскорячилась рядом. Ударился головой! Увидел испуганное лицо, стянутое по краям к подбородку бело-резиновой шапочкой. Одной рукой девушка потянулась потрогать больное место — от руки брызнул серебристый дождь.
— Простите, — выдохнул я, опережая ее раздражение. Но она резко нырнула, под водой поворачивая ко мне исчезающее лицо, и, плавно вытянувшись, стремительным кролем пошла по моему еще не потерявшемуся на воде следу в открытое море.
Оглядываясь, я доплыл до берега. Яркое солнце текло по волнам и прятало тебя. И все мне мешало: голые ноги поперек пляжа, купальники, шляпки, лица с арбузными корками или вареной кукурузой в зубах… толкнувшее меня платье с огромными желтыми цветами, вылезающая из цветов спина, спина в купальнике, спина без купальника… губы, наполняющиеся помадой… губы, разглядывающие себя в зеркале… круглые черные очки на лысине… щеки и уши, надувающие резинового крокодила… прямо на песке, как тень, длинное женское тело без головы — вместо головы на плечах сидит девочка и ест яблоко…
Вечером снова пришел купаться. Народа было поменьше, и я пошел по берегу, вглядываясь в лица, пока не оказался на самом мысу, где и вовсе почти никого не было. Продолжая оглядываться, но уже без надежды, сбросил рубашку, туфли, джинсы, громко ударившиеся о камень пряжкой ремня.
Море уже успокоилось, и было послушно и ровно. Моя собственная голова цветным отражением плавала у моих ног, и жутко было бы наступить на нее. Белые кольца играющих в карусель бабочек тоже тонули в воде или в небе, покрытом прозрачной водой. Из-под мохнатого зеленого камня выдвинулся, ничего не нарушив, подводный краб. Уставился на меня сквозь отражение облака.
Золотисто-зеленый хребет на другой стороне бухты погрузился в тень ближайшей горы. В двухэтажном корпусе наверху, как в волшебной лампе, загорелись стекла. Там же, на территории дома отдыха, дважды просигналил автобус. Из-за мыса неожиданно вышел прогулочный катер, решительным салютом развесив в небе мелодию танго. И эта громкая музыка сразу изменила все. Вместе тонкой и непрерывающейся волной от катера к берегу покатилось напоминание о близком вечере, огнях, танцах — многообещающие соблазны летнего взморья.
Исчезли бабочки и краб. Я тронул рукой воду — сморщились облака и лицо. Наклонился и поднял зеленый мохнатый камень — краба там не было. Выпрямился. Пошел в воду. Краем глаза заметил слева женскую фигуру. Вдруг что-то мелькнуло — остановился и посмотрел внимательно: она надевала белую резиновую шапочку. Почувствовала взгляд и посмотрела на меня. Я показал рукой на мою голову, машинально вспомнив про столкновение в море. В ответ — она повертела пальцем у виска: «сам дурак!» И побежала по песку, по воде, споткнулась, упала, брызгая во все стороны. Но вдруг встала опять, вода была чуть выше колен, теперь внимательно меня разглядывая, и сказала спокойным, разделившим вечерние звуки голосом:
— Я сначала не узнала вас. — И так откровенно улыбнулась, что я, как счастливый болван, зашлепал по воде к ней. — Конечно же, это я, — продолжала она, указывая на свою голову, и сама рассмеялась нелепому смыслу жеста.
— Вы одна здесь?
Она оглядела берег, стягивая с головы резину и освобождая волосы, и опять улыбнулась:
— Нас, кажется, двое. Но больше никого нет…
Медленно одевает спину и плечи в вечернюю воду. Черно-золотистую. Плывет. Тоже плыву. Вижу опущенные ресницы, полуоткрытые губы в ярких капельках, зубы, осторожно надкусывающие край моря. Море совсем маленькое. Близкий горизонт зарябило от моего дыхания. Большое оранжево-голубое с короной облако приблизилось. Кажется, ударимся головой. Но долго плывем под ним… под небом, меняющим голубое на синее, на котором серебрятся или вспыхивают золотом яркие звезды…
Потом была длинная ночь. Самая длинная и самая удивительная. Мы лежали средь бусинок берега. Наши ноги из общего нашего тела, наши спины и локти (будто стали мы с нашим объятием больше, чем каждый из нас до встречи), распростерлись на галечном ложе. Море тщетно пыталось укрыть покрывалом выбегающих на мелководье волн наши плечи и руки. И снова отступало. Золотая Луна освещала дорожку на воде, твои бедра и мокрую грудь. Звезды стекали с твоего лица, путались в волосах, блестели на губах… Звезды. А губы искали друг друга, и соленая морская влага делала поцелуй вкусным и желанным. Два дельфина совсем близко плавали и вздыхали громко, будто делали тяжелую работу. Фыркали, распугивая рыбу и дразня нас. Или призывая к себе. Или забыв и про нас, и про рыбу, и тоже наслаждаясь луной и морем. Луна сияла. Хотелось запрокинуть голову и увидеть высокий обрыв берега, уходящий вверх, тоже освещенный, будто облитый серебряно-золотой влагой. Высоко-высоко в лунном небе бежало облако, а маленькая сосна над обрывом, утопала в этом облаке, как девочка укрывается в мамину шубу, смеясь и мечтая о взрослом…
Постепенно — усталость и удовлетворение… Близость утра. Совершенно притихшее море. Уплывшая тайна дельфинов. Поблекшие звезды. Громкий цокот прыгающей по камням чайки и глаз ее в нашу сторону. Струи тумана и сосенка, летящая над скалой — куда?.. Словно она заблудилась. Вдруг — стало прохладно. Я шевельнулся, меняя положение тела. Захрустели, щелкая, мелкие камешки. Плеснула волна. Глазастая птица — взлетела. Другая, невидимая, запела над нашими головами. Все — нас будило и звало, радовало и пьянило. Захотелось подняться, идти, двигаться… Смеяться! Говорить громко!.. Смеяться? Чему? Чему мы смеялись? О чем говорили? Тебе захотелось бежать в гору. Карабкаться. Скользить, но бежать вверх: « Я хочу это утро встретить на вершине горы! Первой увидеть солнце! Осветиться и освятить! Это утро! Тебя! Нас! Ты хочешь? Ты хочешь сказать это в лучах солнца: «Согрей меня! Полюби меня! Останься со мной!?. Можешь сказать?..». — И мы бежим вверх. Падаем, скользим и цепляемся. Тропа опадает из-под ног, как веревочка с неба. Вниз — сыпятся камешки… звуки… пот капает… Внизу — шелестит и вздыхает — море ли… утро ли… Травы блестят росой и скользят под ногами. Ты бежишь впереди. Смеешься и дразнишь. Запыхиваясь, успеваешь подставить губы и снова торопишься вверх: «Только бы успеть! Я хочу успеть!» — хватаешься за ветви куста, за ствол дерева — сыплется роса, как дождь. Мы оба смеемся и лезем вверх. Обувь, мокрая от росы и от влажной земли, грязная. Тропа над головой уже освещена ярко и пронизана небом. Вершина совсем близко. И утро совсем близко. И ты — твои губы, улыбка, глаза, дыхание и запах твоих волос — все было совсем рядом. Но бежишь от меня. Дразнишь. Зовешь. Заклинаешь. Ты — шаманка и жрица, ты — роса на моем лице, ты — голос далекой скрипки… Я бегу за тобой! Как громко закричали птицы. Как качнулась и вспыхнула паутина над тропой, пронзенная светом солнца. Как треснула ветка под моею ногой… И как ты закричала: «Мы успели! Успели!!!» — ящеркой выскользнув из тропы на вершинный камень, выпрямляясь на нем, как пружинка, все выше и выше! Вытянула вверх руки и обернулась ко мне. Ты не могла этого видеть еще, а я уже видел, что ладони твои загорелись на солнце. И руки. И волосы. И ты вспыхнула вся, как свечечка…
Мы лежали-летели на вершине горы весь следующий день, как на облаке.
На губах до сих пор не остыли твои поцелуи.
Потом было много и дней и лет.
…Я сижу у входа на пляж. В трех шагах от меня питьевой фонтанчик и наша девочка пьет, став на цыпочки и старательно надувая щеки. А глаза ее продолжают все видеть вокруг. Вдруг отскакивает и бежит, хлопая в ладоши и пытаясь поймать бабочку. Вместе с бабочкой убегает в синюю стену моря… Возвращается: «Я еще немного попью, мама!», — кричит, оглядываясь… Мы втроем уже идем к морю, держа в руках эскимо осторожно, как свечи…— «Мне нужны эти фантики от мороженого, бабушка… Ой, смотрите какой жук сидит на дороге… Дедуля, вы с бабулей должны мне помочь, расскажите, как все бывает…».
Как все бывает?
Много лет утекло. И ничего больше не было, кажется, кроме нескольких дней… Повзрослели и дети, и внуки. Ты ожидаешь меня на вершине, будто никогда не спускалась с нее. Любовь познавательнее, чем само познание, сказал, умирая, мудрец…
.…Я слепо иду над самым обрывом. Сосны толпятся на гребне. Заглядывают в пропасть. Одна наклонилась почти горизонтально, повисла на медленно разгибающихся корнях, будто готовясь к прыжку. Тень ее уже долетела до воды и плавает там пушинкой. Волны кажутся маленькими и прозрачными, чуть прикрывающими коричнево-голубое дно. Крошечные фигурки пловцов барахтаются в этой пустоте, падают, цепляясь за ниточку береговой пены.
Паучок спускается с неба. Качнулся от моего дыхания и полетел в сторону. Молния-паутинка потянулась за ним.
По зеркалу моря опять бежит катер. От него катятся, разбегаясь в разные стороны, и никак не могут разделиться, две тоненькие волны, как руки в распахнутом танце…
Ты ждешь, когда я подойду и помогу тебе встать и идти вниз. Ты сердишься на себя за свою возрастную слабость, за свое слабое зрение, за свое нежелание есть персик, вернее, заедать им таблетку… Я держу тебя под руку. Мы стараемся идти в ногу. И, наверное, кажемся со стороны неуклюжим и медленным существом.
— Какая я стала нерасторопная, — говоришь и улыбаешься виновато.
— А мы никуда не торопимся, Свечечка…
Игра
А жизнь имеет тот смысл, какой вы сами ей придадите. Хоть бабочек ловите
Игра
Родон Герасимович Плексигласов толкнул наружу дверь передвижного вагончика,
вдохнул, счастливо щурясь, полную грудь раскаленного солнцем воздуха, сморщился, пережевал и выплюнул вслед пропылившему блоковозу цементную муть.
— Товарищ прораб! — окликнули.
Он повернулся. С удовольствием выругался, не стесняясь смотревшей на него красавицы:
— Чтоб твою пылевоза мать!.. — Кивнул. — Как дела, Маша? — И совсем уже громко. — Чего там?!
Шагнул по земле: голубые джинсы, белая рубашка, белые с красными полосами бегунки на ногах; улыбка — белая бусина в толстых вывернутых губах.
Людей не обходил. С удовольствием ждал: уступят или не уступят дорогу. Кого-то хлопнул по плечу:
— Как дела, Коля?
— Я не Коля, я Саша
— Не серчай, Саш. Так надо, Сашок. Начальству положено интересоваться: что? как? Ошибся — не велика беда, — зато внимателен. Я в трест приезжаю, меня и Кириллом, и Васей, и Львом Парамоновичем зовут, а я улыбаюсь: согласен. Так-то, Сашок. Закуривай.
— Товарищ прораб!
— Иду-иду.
У растворного узла два бригадира отгоняли друг друга от самосвала с раствором.
— Карафулиди! В чем дело? — легко перепрыгнул через траншею под фундамент и подошел к черному в желтой майке Карауфулиди.
— Послэдний раствор… Песок кончился… Ты товорыл, послэдний раствор мой будэт… — слова сыпались барабанной дробью.
— Не горячись, — потрепал старика Карафулиди по плечу, — разберемся.
— Но…
— Молчи, Зайцев. Я тебе что сказал? — заговорщицки подмигнул Карафулиди. — Нэзамэтно возьмешь, твой будэт. Не сумэл? Молчи тепэр.
«Нет, — самодовольно думал Плексигласов, шагая по участку и разглядывая беспорядочно разбросанные по строительной площадке кирпичи, блоки, доски, — нет, дурак был великий комбинатор, что пошел в управдомы. Милое дело — прораб».
Уже у вагончика его опять догнал Зайцев:
— Родон Герасимович, мне-то что делать. Шесть человек стоят. Действительно, шестеро стояли за спиной Зайцева.
— А-а, — почесал затылок. — Слушай. Найди где-нибудь экскаватор. Вот так надо, — провел пальцем по горлу.
— Где я его найду?
— Найди. Точка.
— Экскаватор найти сейчас… это червонец, — недовольно начал кто-то из шестерых.
— Что-о? — Плексигласов от неожиданности даже закосил на один глаз. — Я вам сколько закрыл в том месяце? Мало? Другие дугой выгнулись — столько не получили.
— Да я ничего.
— Ничего… то-то. Мастер! — крикнул в окно вагончика. И тотчас черноволосый парень выскочил на крыльцо. — Ты почему не обеспечил бригаду раствором? — Плексигласов постепенно повышал голос. — Почему бригада стоит?! За чей счет им закрывать наряды?! Молчишь? Сопляк, понимаешь. Не подскажешь — ничего сам не сделает. — И уже спокойно, почти устало, — иди, Зайцев, иди. Сообрази там… — Поднялся на крыльцо, подталкивая за плечи мастера.
Вошли. Плотно закрыл дверь. Оба расхохотались.
— Ну и артист ты, Родон Герасимович.
— Так надо, — развел руками. — Принял меры. Подстегнул мастера. Мы же понимаем друг друга, а? — Довольно потер руками джинсовые ляжки. — Я еще и не то могу, Славик. — Подмигнул. — Короче, мне в одно место надо по делам… — Растопыренной ладонью покрутил у виска, будто завел воображаемую пружину. Продекламировал.
«Нам солнца не надо — нам партия светит. Нам хлеба не надо — работу давай!»
— Родон Герасимович, сам придумал? — восхищенно спросил Слава.
— Что ты! Что ты, Слава! Я только присматриваюсь к общественной стезе… В общем, я пошел. А ты работни как-нибудь… Привыкай принимать самостоятельные решения.
Компания была сбитая. Видно, не впервые собирались вместе.
Роль Славика определил Родон:
— Ты, старик, сегодня ухаживаешь за этой девушкой. Идет?
— Маша меня зовут.
— Значит, Машенька. Очень приятно.
— Ты смотри, какой шустрый. В отца пошел. У него отец в пятьдесят шесть ушел к другой женщине. По любви. — Родон со значением поднял палец и рассмеялся. — Не обижайся, старик, — хлопнул по плечу. — Это я больше для Маши. Предупредил, так сказать. Танцуем, друзья! Музыка!
«Я спросил у ясеня, где моя любимая…». — И что же вы теперь, живете с матерью?
— Да.
Было приятно танцевать с ней. Спрашивая, она смотрела ему в глаза, чуть откидывая голову. И хотелось погладить и выпрямить вздрагивающую спиральку волос у нее на виске.
— Извините, вам, наверное, неприятно, когда говорят об отце?
— Отчего же. Нет вовсе… Я странно отношусь к нему, будем еще танцевать? — Вы хотите?
— Очень хочу. Только я ничего не могу, кроме танго.
— Стоять и покачиваться мы можем под любую музыку. Кому какое дело. — Спасибо.
— Глупый.
— Я не глупый.
— Извини.
— Это ты меня извини. Я бываю неловким.
— А бываешь и ловким?
В ее вопросе он уловил скрытый вызов. Смешался и торопливо поцеловал ее в зеленоватый от света торшера висок. Она чуть помедлила, потом прошептала:
— Не надо сейчас.
— Угу… — Их глаза опять встретились. — Ты красивая.
Она усмехнулась.
— Отец интересный мужик был, — сказал, чтобы что-то сказать.
— Почему был?
— Как-то привык так, — пожал плечами. — Он в армию с пятнадцати лет ушел. По комсомольскому набору. Но службу считал хотя и важным, но не главным делом в своей жизни. А главным для него было участвовать в большом государственном строительстве. Говорил: «Страна коммунизм строит, а я в армии задержался». И учился у новобранцев любому ремеслу: «На гражданке пригодится». Он все мог: сшить костюм, перекрасить пальто, привить черенок на яблоню, сделать табуретку и даже построить дом… Конечно, бывали курьезы. Мама как-то лежала в больнице, мы одни с ним остались, как раз на Первое мая. Он говорит: «Испечем пирог и печенье на праздник. Порадуем мать». Я, конечно, засомневался, а он: — «Я старый солдат…». Короче, надел белый фартук, — он все любил делать красиво, — засучил рукава, взял самую большую миску и вылил в нее трехлитровую бутыль молока. Насыпал муки, помешал — жидко. Еще подсыпал, помешал, снова подсыпал… В общем, сколько дома муки было, столько и высыпал, а все равно жидко. Послал меня у соседа одолжить, потом у другого соседа… Уехал я в школу, вечером приезжаю: на столе гора печенья. И на холодильнике гора. А он говорит: «Еще два противня и все!». Доволен собой. Я обалдел. Попробовал — не могу раскусить. Говорю отцу: «Твердовато». Кивает: «Да, твердовато, но это хорошо. Не испортятся». «Ну, а пирог?» — спрашиваю. — «Еще печется». Поверишь, пирог этот пекся ровно полдня и ночь, а утром его выбросили собакам вместе с кастрюлей…
— Забавно. А что у него произошло с матерью?
— Понимаешь, я много об этом думал. Это даже не столько с матерью… Он ведь почти тридцать лет в армии был. Вышел на гражданку, с этого и началось. Мотался с одной работы на другую и отовсюду со скандалом уходил. Ему казалось, его не понимают, обижают, или он не понимает в этой жизни что-то. А причина в том, что он очень честный. Лично ему ничего не надо, пенсия у него хорошая, чужого брать не привык. Завидовать тоже не приучен: солдат солдату не позавидует. А тут: одному доски нужны, другому шифер, третьему просто с работы уйти. У нас ведь как: «Петрович, нужны гвозди». — «Нема гвоздей». — «Да мне домой, чуточку». — «Там в углу ящик, выбери». — А отец на каждом собрании выступает, за честность ратует. Ну, однажды ему и влепили: легко, мол, быть принципиальным, когда у тебя дом есть и пенсия, и жизнь прожита, и ничего не хочется. Отец просто заболел после этого: «Коммунизм строим, а я со своей принципиальностью всем мешаю? Может, что-то во мне не так?». И убедил себя, что действительно жил не так, как страна живет. А, следовательно, и с семьей не так жил. Вот и решил: «Начну вес сначала. Один буду жить. Может, с прежней жизнью найду концы — завяжу узелок». Мать, конечно, поплакала и смирилась: пусть так побесится, другие вон пьют да пьют…
— Странно. Родон о нем совсем другое говорил.
— Родон? А что он может знать! Он про себя говорил: «Я технарь. Все остальное для меня игра».
Слава вдруг оживился.
— Вот послушай. Его однажды хотели прокатить на собрании. Может, заранее сговорились, не знаю, но получилось дружно. «Вы, Родон Герасимович, не вверх растете, а в землю. Корешками обрастаете. Только кореша у вас скользкие…». В чем только не обвиняли: в мошенничестве, приписках, халтуре… Я думал: хана ему. А он всех внимательно выслушал, встал и говорит: «Что за непонятная кругом мода: начинает на собрании один хвалить — и все хвалят. Начинает ругать — все ругают. Но это я так, к слову. Теперь обо мне. Участок у нас трудный, но по показателям второй в тресте. Текучка невелика — заработок держит. На каком еще участке такой заработок? Политучеба и агитация — на уровне. Чья заслуга? Я думаю, и моя тоже. Но вот я вас послушал и понял: много еще надо работать, многое исправлять, о многом думать…». Про какую-то колонну вспомнил, разбитую при разгрузке, про раствор, который ночная смена вывалила в кусты, целый самосвал… А закончил и не поймешь: то ли покаянием, то ли призывом к новым трудовым свершениям. «Время, товарищи, сейчас стремительное, тесное, — сказал. — Задачи, обязанности — все требует внимания, риска. Рискуешь потерять премию, репутацию, потерять себя! И вот в такой сложный, ответственный момент так необходима уверенность в коллективе, который подскажет, поправит. Сегодня я могу вам сказать: у нас такой коллектив есть! Спасибо этому коллективу!» — Все опешили… и начали хлопать. Артист!
— Тебе не кажется, что мы остались одни.
— Действительно. — Слава покрутил головой. — А куда все делись?
— Наверное, ушли. — Маша улыбнулась.
— Что ты смеешься?
Он опять поцеловал ее в висок. Она подняла глаза и потерлась щекой о его подбородок.
Плексигласов плотно закрыл за собой дверь вагончика.
Вернулся к столу, за которым сидел понурый Слава.
— Да что с тобой? Что случилось? — Родон подождал ответа, но Слава молчал…
— Да говори же! Дома что? С матерью? С отцом, может? С отцом, да?
— Отец домой пришел ночью. Сам-то я утром вернулся. Радон хмыкнул, что должно было означать: «Мне ли не знать, когда ты вернулся».
— На работу спешил, минут десять и поговорил всего.
— Ну и болван. Мог бы задержаться сегодня, раз такое дело. — Помолчал. — Что с отцом? Заболел? Деньги нужны? Да что я из тебя как жилы вытягиваю!
Слава поворачивается, смотрит Родону в лицо.
— Ему с работой помочь надо. Увольняют его.
— Что значит — увольняют? Пьет, что ли?
— Нет.
— Прогуливает? — Слава отрицательно мотнул головой. — Тогда не так просто человека уволить. Я сколько работаю, уж таких оторвил встречал — их не увольнять, а выгонять надо с треском, — но попробуй! Они в местком и в горком, и на тебе же, в конце концов, отыграются. Самое лучшее, если «по собственному желанию» уговоришь. Сначала сам ему работу найдешь, бутылку поставишь, разопьешь с ним, и под это дело уговоришь. Дескать, работа есть мировая, только тебе, как корешу, могу устроить. Ну и устраиваешь.
— Ему тоже по собственному желанию предлагают.
— Так это другое дело. Нет проблем! К нам и устроим. Учетчиком на карьер. Работенка не пыльная. Когда машины будут, скажешь ему, он выйдет. А не будет машин, так и выходить не надо. Для пенсионера работа. Себе берегу.
Слава тяжело поднимается со скамьи.
— Приходи сегодня вечером к нам. Поговоришь с отцом. Ты его, кстати, видел?
— Нет.
— Ну, вот и познакомишься.
— А что такое?
— Увидишь.
— Это я пенсионер? Меня учетчиком? Ха-ха! Ну, даешь. Гляди! — Славин отец, сухой, поджарый старик с военной выправкой, легко соскальзывает со стула и делает на нем стойку. Снова встав на ноги, тяжело дышит. — Я, брат, еще и тебя переживу. А уж костлявую с косой… — он делает жест, будто хватает кого-то за горло. — Ха-ха!
Слава и Родон слушают без улыбок. Мать вышла на кухню.
Отец, отдышавшись, садится. Говорит:
— Не в этом дело, уважаемый Родон Герасимович. — Разливает водку по рюмкам. — Я по глупости своей устроился в эту художественную мастерскую, нелегкая меня дери. Мастером по сбыту. Они делают, а я продаю. Первый год ничего было. Посудка всякая, статуэтки, кувшинчики, вазочки, пепельницы — разное барахло, короче. Но и красивые вещички были, не буду зря хаять. А в том году разнарядка пришла на мастерскую: делать бюсты. Думаешь, женские? Не-е, всяких философов, полководцев, одним словом, деятелей. Причем, любых размеров: от карманного, вот такусенького, до во-от такого. Я думал — кинется культурная публика. Дудки! Ну, в школы там… много ли надо? Короче, план по реализации не выполняем. Что делать? Руководство мастерской долго мозговало, прикидывало так и этак. Решили двумя путями идти. В этом году план не выполним все равно, но хоть на следующий год переориентировать производство на прежнюю продукцию: вазочки, пепельницы. Первый путь — жалуются. Во все инстанции. Пишут. Ездят. Поят, кого надо. А то и памятник сделают — тоже, кому надо… А второй путь — запасной вроде. Оправдываться в невыполнении плана надо? Надо. А как? Чтобы премии коллектив не лишили, чтобы кого из руководства не турнули — причина нужна. Выбрали меня. Я пенсионер, терять мне, дескать, нечего. План такой: гружу всю продукцию в вагоны и отправляю во все концы страны. На деревню дедушке. Фиктивным заказчикам. Заверяю администрацию в полной гарантии выполнения плана и увольняюсь с работы по собственному желанию на заслуженный отдых. А они на меня потом все валят. Оправдываются. Вроде бы! Такая тушенка…
— Ну, мудрецы! — Родон откровенно хохочет. — А лучшего ничего не могли придумать?
— Не придумали, — старик долил в рюмку. — А я уже все, отдумался. Без парашюта лечу. Летал без парашюта? — Опрокинул рюмку, зажевал соленым огурчиком.
Долго молчали. Отец потянулся за гитарой. Снял со стены. Несколько раз провел по струнам, прислушиваясь. И запел тихо:
Полетели к земле,
Как дождинки дождя,
А в предутренней мгле
Там никто нас не ждал.
И не выдержав тяжести,
Рвалась земля
И шептала:
Все ляжете
Скоро
В меня.
Сапоги. Сапоги.
Автоматы в грязи.
Кто уполз. Кто погиб.
Кого снайпер сразил.
И остались лежать сапоги на снегах.
Сапоги.
Сапоги.
Только пусто
В ногах.
Уж давно батальон
Заменили речами.
И победно «Ура»
Над столом прокричали,
И гниют сапоги где-то в поле ночами.
Только ноги
Мои
Убежали
Ручьями.
Рванул последний аккорд. Гитара тревожно загудела и смолкла. Все молчали.
Вошла мать Славика, сказала мужу:
— Пойдем в кино сходим, а? Я, кажется, тысячу лет в кино не ходила.
— В кино? Можно и в кино. — Поднялся из-за стола. — Что, молодежь, пойдем?
— Сходите, сходите. Мы посидим, — ответил Родон.
— Пап, так ты к нам пойдешь? — спрашивает Славик. — Ты ведь не ответил.
— Я отвечу, сынок, отвечу, — говорит отец, одеваясь. — Я только подумаю.
— Хватит думать, — вмешивается жена. — Будет ломать голову-то. Давай поживем хоть на старости.
— Да не стар я еще. Не стар! — с силой бьет кулаком по столу. — Я им докажу, что не стар. И эту продукцию их, портянка ее завоняй, — снова кулаком по столу, — одни черепки от нее! Одна упаковочка и осталась. Под суд меня хотели. За черепки. А вот вам! — Повертел кулаком.
— Неужели побили все? — изумился Радон.
— Побил, — с вызовом. — Не все, правда. Все не дали. — Снова присел к столу. — Дали полмесяца сроку. Хоть сам лепи, говорят, а убыток восстанови и задачу свою по реализации выполни.
— И что же вы?
— Да чтобы я чепухой этой занимался? Я?!
— Почему же чепухой? Это государственный план.
— Липа это: кому они нужны, эти идолы? Кому? Только время на них рабочее тратить, да средства.
— А вот вы и не правы. В таком количестве, может, и не нужны, но не нам с вами решать. А вообще, эти, как вы говорите, идолы, часть нашей идеологии.
— Идеология утверждается делами, а не символами.
— Так вы и от знамени откажетесь.
— От знамени?
— А почему нет? Тоже ведь символ.
— Ты мне голову не морочь! Я за знамя это… Я за коммунизм…
— Э-э, батенька, с вами все ясно. Это слово, что вы произнесли, давно следовало забыть.
— Забыть?!
— Забыть. В соизмерении с вашей жизнью и моей жизнью, и его, — кивнул Родон на Славика, — коммунизм — это идиллия. Красивые слова и не больше. Живите, батенька, пока живется. Дышите глубже. А я пошел…
— Куда?!
— Пора. Засиделся. И разговор мне не нравится, опасный разговор.
— Нет, ты сначала ответь?
— Чего еще? — вяло отзывается Родон.
— По-твоему я должен продавать этих кукол?
— Если вам не нравится эта работа — найдите себе другую.
— А кукол все равно продавать будут?
— А может, они нужны кому-нибудь? Почему вы исключаете? Вам никто не мешает, и вы не мешайте. Я уже говорил — живите. Не нравится что-то — не делайте. Но и не кричите о своем желании. Соблюдайте правила игры, дорогой.
— Но ради чего, если все это, как ты говоришь, идиллия?
— Для нас, смертных, это идиллия, но для истории это может что-то и значит.
— Значит, меня всю жизнь обманывали?
— От вас никто ничего не скрывал. Читайте. Слушайте. Анализируйте. Делайте выводы. Для себя.
— Но в чем смысл жизни тогда?
— А жизнь, уважаемый папаша, имеет тот смысл, какой вы сами ей придадите. Хоть бабочек ловите.
— А как же тогда верить?
— Во что верить? Кому? Живите, еще раз, говорю вам. Раз уж не довелось родиться королем банановым или нефтяным, то и живите тихонько, танцуйте среди гипсовых бюстов. И не раздумывайте. Что после вас будет — плевать. Вас не касается. Ваше дело — сориентироваться. Вписаться в закон. Не вписался — лети, дорогой, будто тебя и не было на этой земле. А вписался в норму, в порядок — тут ты бог. Про себя-то ты и начхать можешь на все эти правила. Опять же, как на дороге: не видно инспектора — гони на красный, на желтый, по левой стороне, по правой — лови свое время, дыши свободой. Но появится инспектор, ты уж ему не только аккуратность свою продемонстрируй, а еще и мозги вправь: где это он, дескать, прохлаждался в рабочее время-то. Чтобы не ты его, а он тебя уважал. Понял смысл?
— Т-ты, падла… А на войне как?!
— Стоп! Стоп, папаша. Я знаю, когда что говорить. Опьянели вы уже. Оставим. Идите в кино. Сходите. Завтра поговорим.
— Нечего с тобой говорить.
— Оставь, папа! — крикнул Слава.
— И ты с ним? — повернулся к сыну. — И ты?!
— Не трогайте мальчика. Слава у вас парень хороший. Сдержанный. Вдумчивый. Он сам решит.
— И без тебя! — выкрикнул отец в лицо Родону.
— И без меня. И без вас, — спокойно парировал Родон.
— Почему без меня?
— А вам некогда о нем думать. Вам, дай Бог, себя обуздать.
— Что я — лошадь?
— А что же вы всю жизнь тянули и не думали, да вдруг опомнились? Задумались. Поздно думать, папаша. От пенсии-то не откажетесь?
— Не трожь мою жизнь. Не тебе в ней копаться.
— А сами вы не выкарабкаетесь.
— Тебя не позову.
— Так на похороны не приглашают.
— Что-о?!
— Родон Герасимович… — в молитвенном изумлении сложила руки мать.
— Ты что, Родон, это же отец мой, — прошептал Славик.
— Вон! — Вскинул над головой стул отец. — Подлец!
— Отец!
— Папа!
Но отец вдруг медленно опустил стул и сел на него. Долго непослушными пальцами расстегивал пуговицы на рубашке. Все от горла до пояса. Откинулся на стуле, плетьми свесив руки. Сказал, глядя в потолок:
— А впрочем, ты прав. Судить меня будут. Судить. И надо судить. Люди делали, а я взял и побил.
— Что побил, пап?
— Все. Все я разрушил.
— Ты же говорил, что не все.
— А все хотел. Спросят на суде, и я скажу: все хотел. Так и судите. За все.
— Успокойся, отец, успокойся. Сходим в кино, как решили, и все забудешь, — мать уже хлопотала вокруг него, поправляла рубашку, гладила волосы.
— Да, да. Пойдем. Сейчас пойдем. А вы не говорите, куда я ушел. Не говорите. Если придут… Если будут искать…
— Ты что, пап? Ты что?
— Отец?!
— Да-да-да. Сейчас. Сейчас я. Да…
Он дает себя поднять со стула, надеть пиджак. Из кармана пиджака выпала пачка бумаг, рассыпалась по полу веером: квитанции, бланки, счета… Все кинулись собирать.
— Сынок, помоги, сынок, — шептал отец. — Помоги, сынок. Выручи. Родон Герасимович… нет, тебе нельзя. Нельзя тебе доверить. Сынок, помоги отцу, прошу. Возьми все, — он совал бумаги Славику в руки. — Не дай им надо мной посмеяться. Продай эти статуи. Найди покупателя. Не хочу, чтобы меня обманщиком поминали. Ты пойми… Пусть и меня хорошо помнят…
Голос его слабел. Он стал заговариваться. Мать с помощью Славика уложила отца на кровать. Лоб у него был горячий, взгляд замер, губы и нос резко выделились.
Прошла неделя.
— Что ты сказал? — Родон в ужасе смотрит на Славика. Они только что встретились на улице.
— Это он сказал, а не я.
— Да мне наплевать, кто из вас. Идиоты! С кем я связался? Обшарить три камеры хранения, четыре склада. Неофициально. За красивые глазки. За наличные денежки. И вдруг этот полоумный папаша вспомнил. Они изволили вспомнить, что никаких бюстов нет. Что они их уже куда-то отправили. Куда? А может, он действительно их побил? Не знаешь? А что ты знаешь? Что есть бланки договоров, с организациями на куплю-продажу памятников? Эти бланки надо заполнить? Чем заполнить?! Изложением биографий твоего папаши?
— Родон Герасимович…
— Хватит. С меня хватит.
— Да мне отца жалко. Если б вы видели, как он переживает, как хочет сделать эту работу. Это последняя его работа. Ведь действительно, его нигде не вспоминают хорошо. Он всем портил жизнь правильностью и принципиальностью. Он так хочет, чтобы хоть здесь кончилось хорошо, — трогает Родона за руку. — Родон. Ты же можешь. Придумай. Пожалуйста.
— У меня такое ощущение, что папаша нас водит за нос. Только нервничает он натурально. И где он только работу такую отыскал? Бред какой-то, а не работа.
— Ты сам говорил, что на работе ничему удивляться не надо.
— Только это меня и успокаивает: все как везде. Значит, работу свою папаша твой не придумал. Ладно. Хоть это выяснили. Папы разные нужны, папы разные важны. Где эти договора? Давай сюда. — Берет. Читает. — Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны,.. с другой стороны… настоящий договор о купле-продаже по безналичному расчету бюста… в количестве… обязуемся… гарантируем… подписи… Ну, дают, пентюхи.
— Разве что-то неправильно?
— Конечно, неправильно. Надо так составить, чтобы не мог человек не подписать этот документ. Червем извивался, зубами скрипел, волосы на голове дергал, а подписал бы. Да ручку пожал мне, как благодетелю. А? Вверху надо поставить цитату. Например: история — поворотный рычаг идеологии. Подпись. Посолиднее. Цитата из… том такой-то, страница такая-то. Соображаешь? У нас документ не просто юридический, но социально- значимый. И поэтому в конце припишем обязательно: руководитель, отказавшийся приобрести указанный памятник, обязан подписать документ об отказе полностью и собственноручно, что я, такой-то, отказываюсь… и так далее.
— Это кто же такое напишет?
— Нам и надо, чтоб никто не писал, а подписывал, да печать ставил. Уловил?
В прекрасном расположении духа Родон Герасимович Плексигласов вошел в солидное учреждение. Усатый вахтер поднялся со стула и двинулся навстречу Родону, сделал останавливающий жест рукой и шевеля усами. Родон поймал эту руку и добродушно потряс:
— Как самочувствие, папаша? Молодцом держитесь. Спешу-спешу. Сам-то (кивает головой вверх) приехал? Спешу. — И уже шел дальше.
Папаша виновато крутил ус: «Никогда вроде не ошибался…». Махнул рукой и пошел за стеклянную дверь. Пить чай.
Родон вошел в приемную директора:
— Доброе утро, товарищи! — Сказал бодрым голосом, подражая голосу диктора утренней радиозарядки.
В приемной подняли головы. Покивали в ответ. Кто-то улыбнулся и стушевался сразу. Было человек пять. Секретарша отсутствовала. Радон подошел к ее столику, огляделся, но придумать ничего не успел: вышла худая и в коротенькой юбке (страус в очках). Пропела:
— Приема не будет, товарищи. Сергея Владимировича срочно вызывают на бюро. Извините.
Присутствующие поднимаются, суетятся, выходят. Родон Герасимович спрашивает вежливо, но твердо (рука уже тянется к телефону на столике секретарши):
— Вы позволите позвонить?
Набирает номер прорабской:
— Обком? Это я. Станислав Палыч. Машину за мной присылать не надо. Я вместе с Сергеем Владимировичем приеду. — Кладет трубку.
На другом конце провода Слава обалдело пожимает плечами. Родон секретарше:
— Я на минутку. Сергей Владимирович знает. — И секретарша, так же как и вахтер, не успевает среагировать. Родон уже в кабинете:
— Вы позволите, Сергей Владимирович? Добрый день. Я на минутку. Это может иметь отношение к бюро.
— Простите, с кем имею честь?
— Родон Герасимович Плексигласов. Мастер по реализации. Центральная художественная мастерская. Спецзаказ. Ваше управление должно приобрести два бюста видных политических деятелей. Общая стоимость, условия доставки, гарантии — все в этом договоре.
— Позвольте, какие бюсты? — Но договор берет. — Что значит должны? — Читает. — У нас и денег таких нет.
— Я понимаю. Я очень хорошо вас понимаю. Но это общее указание. Возможен и отказ. Здесь, видите, и примечание есть: об отказе руководителя. Распишитесь, пожалуйста.
— Что за ерунда? Зачем расписываться?
— Распишитесь, что вы не желаете.
— Не могу.
— Не можете, не желаете. Распишитесь.
— Да не могу я.
— А вы так и напишите: я не могу. Вот здесь.
Директор задумывается, досадливо морщит лоб. Включает селектор:
— Софья Павловна, можем мы найти полторы тысячи рублей на культурно- бытовые или оформительские работы?
— Надо посмотреть.
— Посмотрите, пожалуйста, и завтра мне сообщите. — Выключает селектор. Родону Герасимовичу говорит с плохо сдерживаемым недовольством:
— Оставьте договора. Мы вышлем подписанные экземпляры.
Родон Герасимович идет по улице. Улыбается. Обгоняет группу девушек и юношей, видимо, студентов. Девушка в голубом платье чуть повернула голову, и Родон, машинально отметив нежную прелесть ресниц и овала щеки, кивнул ей. Она удивленно задержала на нем взгляд. Родон улыбнулся и ускорил шаг. Обогнал. Но подождал на остановке. Компания ввалилась в троллейбус. Родон искал глазами голубое платье. Ресницы оказались рядом, но были повернуты к модному парню с гитарой. Парень пел, аккомпанируя себе, и все подпевали: «Черное море, чудное море. Ах, этот блеск, плюс плеск близкой волны…». Родон приблизился и присоединился. Его приняли. Потом пели «Коробейники», потом кто-то затянул: «Я сегодня дождь, и я ее поймаю, зацелую золотую прядь…». Ресницы повернулись к Родону и нацелились копьями. Он шутливо поднял руки и улыбнулся: «Сдаюсь». Копья взлетели вверх. О, какое небо они охраняли! Родон заворожено протянул руки к ней, призывая или приглашая. Но она чуть заметно мотнула головой и улыбнулась, а парень, не поняв, протянул гитару. Родон понимающе усмехнулся. Ресницы волновались, щекотали его завороженный взгляд, прикрывались качающейся улыбкой, как веером. Он пел:
Не дай мне Бог,
Родиться королем.
Не дай мне Бог, родиться президентом.
Я сам не плох.
Ох, я не плох.
Я буду самым перспективным претендентом
На короля и президента.
И выдаю я всем патенты
На обладание судьбой.
Ах, подходите, подходите, подходите
К своей судьбе,
И руки протяните,
Скажите ей:
Любимая, с тобой,
Я буду Богом, королем и сам собой.
Любите, как люблю.
И смейтесь, как смеюсь я.
Любимая, с тобой,
Я буду Богом, королем и сам собой.
Любите, как люблю
И смейтесь, как смеюсь я.
Любимая, с тобой.
Лю-би-мая, с то-бой…
Выскочил из троллейбуса. Напротив — почтамт. Взлетел на второй этаж. Ощущение удачи и какой-то стремительной полноты будоражило и подталкивало лететь. Выше! «Я сам не плох. Ох, я не плох… Любите, как люблю. И смейтесь, как смеюсь я. Любимая, с тобой».
Остановился. Кабинет начальника почтового отделения похож на сейфовый инкубатор, а сам почтмейстер, кажется, только вылупился и даже еще не полностью вылез из торчащего за его спиной стального ящика.
— Что вы принесли? Не понял?
— Я говорю, договора я принес.
— Не понял.
— Вы должны купить бюст политического деятеля.
— Не понял.
— У вас нет в зале.
— Не понял.
— В зале должен стоять бюст.
— Почему должен?
— Разнарядка у меня. Сверху.
— Понял (протягивает руку, берет договор, читает). Все правильно написано. Одобряю.
Родон Герасимович облегченно вздыхает:
— Прекрасно. Договор подпишите. Оформите. Вышлите по указанному адресу.
— Не понял.
— Чего не поняли?
— Имя не указано.
— Чье?
— Деятеля.
— А вам не все равно?
— Логично.
— Вот и подписывайте
— Момент (пишет).
— А что вы там пишите? Это же договор. Здесь нельзя ничего писать.
— Почему нельзя? Дополнение к договору.
— Дополнение к договору пишется отдельно.
— А мы здесь напишем (продолжает писать).
— Что вы пишете?
— Момент (читает вслух). К указанному памятнику должны быть приложены в трех экземплярах следующие документы: биография героя, цитаты из его работ и речей, указатель упоминаний данного героя в документах форумов, съездов и печати последнего пятилетия. Общий объем указанных документов, — смотрит на Родона, усмехается, дописывает, — двадцать печатных страниц.
— Десять, — перебивает Родон Герасимович.
— Двадцать, — мягко поправляет почтмейстер и загадочно улыбается. Откидывается на стуле к сейфу, уменьшаясь, будто влезая в него. Наставляет оттуда:
— Да не вздумайте меня провести. А то тут ходил один с аналогичными бумагами, а потом оказалось, что хотел бюст хирурга какого-то мне подсунуть. А зачем на почте хирург?
— Логично. И что вы с ним сделали?
— С кем, с хирургом?
— Нет, с моим предшественником.
— В сопровождении милиции отправил в сумасшедший дом.
— Так-таки прямо?
— Оттуда мне сообщили, что в диагнозе я не ошибся.
— Феноменально. Я, пожалуй, пришлю вам бюст одного известного психиатра. Бесплатно. Карманный экземпляр. В виде презента.
— Я в долгу не останусь. Момент. А это что?
— Где? — Перечитывает. — Этим письмом настоятельно рекомендуется приобретать бюсты политических деятелей и брошюры об их деятельности для распространения в качестве ценных подарков за отличные показатели в труде. Перечень, стоимость… — все прилагается. Указан еще и вес, габариты — для соблюдения условий транспортировки.
— Продумано.
— А как же, мы ведь «Специальные художественные мастерские». Специальные, понимаете, — глазами показал куду-то наверх. — Понятно. Как не понять. Емкая идея. И это, знаете ли, не какие-нибудь слоники на комоде, не китайские там болванчики.
— Очень точно замечено,
— Не фикусы там, например, — продолжал развивать свою мысль почтмейстер. При этом он вертел головой, таращил или узил глаза, мимикой дополняя каждое слово…
«Сам ты — китайский болванчик, — думал о нем Родон. — Транжира народных средств. Извращенец государственной думы, в смысле мысли».
— А можно и бюстики делать в нескольких уменьшающихся размерах, как слоники. Так сказать, новый социальный заказ.
— Очень интересная мысль. Зримая. Политическое эхо, слушайте. На поэзию тянет. — Родон Герасимович поднял для выразительности руку. — Сам сочинил: «Люди сделали глыбу из камня и стали… Люди камень, как бога над собою поставили… — « Опасно занесло», — подумал, и продолжать не стал.
Спустя два месяца городская общественность чествовала и награждала ценными подарками передовиков строительных организаций. В числе награжденных были и наши герои. Славе досталась целая композиция «Головы казненных декабристов». Родону Герасимовичу — полновесный бюст в натуральную величину. Лицо Родона светилось азартом и умом, когда он обнял на сцене сверкающий новизной камень и повернулся к заинтригованному залу:
— Друзья! Сегодня в этом зале я сделал для себя замечательное открытие. Когда несколько минут назад молодого коллегу наградили скульптурной группой «Головы казненных декабристов», я отчетливо увидел размах идеологического фронта, который сметает герани и прочие цветы бытового мещанства с подоконников наших бабушек и устанавливает бюсты и памятники. Вот и меня наградили, можно сказать, памятником из нашего парка. И я обязуюсь найти ему достойное место в моей скромной квартире и, в отличие от паркового оригинала, охранить от непристойных нацарапываний. И я понял узость моего прежнего взгляда на жизнь, я любил мою профессию и ценил свое место прораба. Но я был слеп и не дальновиден. Я не видел необходимости рождения новой профессии — общественный лидер, политик. Я хочу этой волны. Я хочу этого простора. Наградите меня вашим доверием. И я выведу вас на улицы! Я найду тогда место всем: и уважаемым военным ветеранам, и молодым энергичным людям, и женщинам с неустроенной судьбой. Потому что жизнь — интересная, многоцветная и тяжелая, как этот бюст. И будет законом страны — голос улиц!
Родон Герасимович обнял бюст обеими руками, прижимая к груди, поднял под громкие аплодисменты, сделал шаг и… рухнул со сцены под бурную реакцию зала.
Праздник
Началось это лет двадцать назад…
Был вечер. Дождь. Улица большого города… Тени на стенах от зонтиков, фигур, шляп — двигаются, смешно меняясь в размерах и формах. Звуки шагов смывает вода. Капли барабанят по напрягшемуся металлу подоконников.
— Сережа?
— Кубик? Василий Спиридонович! Вот это встреча. Откуда-куда?
— Домой. Я ведь теперь здесь живу, — отступая под дерево, снимая и отряхивая кепку, — три года, как новую квартиру получил. Зайдем?
— Неудобно ведь…
— Что?!
— Поздно. Разбудим…
— И будить некого. Дети разъехались. А жена на заводе, смена у нее… Четвертушечка есть. Нет-нет, не отказывайся, не отказывайся. И-ии, — тянул за рукав…
Василий Спиридонович Кубиков и Сергей Ильич Поливанов не виделись года три. Познакомились в больнице. Поливанов только пришел в сознание после операции и первое, что увидел — за большим наклонившимся почему-то окном махал крыльями, боясь сесть на ветку, маленький воробей и косил одним глазом. Потом окно поползло вверх, и воробьиная тень мелькнула стремительно, будто падая прямо в лицо. Зажмурился. — «Сестра! Сестра!» — кричал чужой голос. Воробья уже не было, только качалась, на сотни зеркал дробя солнце, редколистная ветка. Сорокалетний детина в белье на одной пуговице смешно прыгал у кровати на костылях, будто танцевал на ходулях, и улыбался розово-вывернутыми губами, над которыми живым ежиком балансировали артистические усики.
Никогда не был Кубиков детиной, каким тогда показался, а теперь и совсем обычный, с бело-сизой щетинкой под выразительно пухлым носом, аккуратно одетый мужчина. Выглядит моложе Поливанова, хотя по возрасту одногодки.
Пока шли, Поливанов пытался вспомнить какие-нибудь далекие подробности и устыдился, что никогда не искал встречи и теперь, будто из прошлого, слушал сегодняшний голос Кубикова, расторможено улыбался в темноте, поддаваясь чужой заботе, покоряясь настроению и поддакивая в тон возбужденному Василию Спиридоновичу:
— Да-да, Вася, сторожем. Куда еще?
— А куда еще? Хитрец? Беспокойная служба, а доходец дает, а? — Кубиков хлопнул приятельски по плечу. — Ну-ну, не скромничай. Молодежь от нас ускакала, а-а и пусть скачет. Мы-то устроились. Дождемся теперь.
— Чего дождемся?
— Жизни хорошей! Наша будет, Сереж! Ты что не весел? Сколько не виделись? Такую операцию пережили — как братья теперь… Сюда, пожалуйста. Во! — на ходу пытался обнять за плечи. — Сережа… Сережа! А процедурную сестру помнишь?! Ха-ха- хи, — залился счастливым смехом, будто вспомнил лучшее в своей жизни. — А ничего не было, веришь? Приятно… — Машина с шумом проскочила в темноту переулка… — Слыхал, Карпов — чемпион мира, а? Молодой какой! Я в газете читал: «память феноменальная!» Понял? Фе-номе-нальная-яа… Прямо так и написано. Во дает! — Наклоняясь и дыша в лицо Сереги. — Как думаешь, сколько он получил? О-ох, представлю… голубь…
— Тебе б эти деньги?
Кубиков неопределенно хихикнул и вдруг изменил тон:
— Не, Сережа, мне лишнего не надо. Общество лишнего не одобряет. — Глубокомысленно умолк и обнял Поливанова за плечи. — А я и не тороплюсь, подождать могу. Мне помирать — рано. Глянь! — Весело поправил кепочку и, заглядывая в витрину с пластмассовыми колбасой и булочками, пригладил мокрый воротник плаща. — Но я от общества за всеми доглядываю… По справедливости! Другим — по справедливости, и мне — отдайте…
Они просидели около полутора часов. Кончилась четвертинка и бутылка самодельной терновочки.
Пришла жена его, Кавалерия Климентовна, грудью и фигурой как галоп конармии, но улыбчивая, как перед свадьбой.
— Калерочка! У нас Сережа. Сережа Поливанов, — пьяно улыбаясь, поднялся Кубиков из-за стола.
— Очень приятно, — протянула руку. — А ты опять с работы удрал? — И, обращаясь к гостю, — посмотрите на моего хорошего: работает через трое суток на четвертые…
— П-по инвалидности… П-пожарник я!
— Пижамник! Вдруг пожар на заводе?
— Услышу! Глупая моя, рядом ведь… если гореть…
— Ну, тебя. Картошечки поджарить вам?
— Гостя потчевать…
— Не тебя спрашиваю. Уже б и поджарил сам. Или руки отвалятся?
Но видно было, что она не сердится… ни насчет работы мужа, ни насчет картошечки.
Ушла на кухню.
Ее появление отрезвило Поливанова. Ему с семьей не повезло. Жена ушла после его операции. Детей не было. Смотрел на Кубикова и удивлялся: вроде и невзрачный, пухловатый, будто надутый весь, а жена ему после второй-то смены — руки, небось, отваливаются — идет жарить картошку? Задумаешься. И в квартире порядок — гарнитур, телевизор, диван с подушечками — мечта деда-буденовца.
Сергей все более грустил, то ли от воспоминаний, то ли пожалел просто, что пришел. Он смутно улавливал речь хозяина, вспомнил, что в палате посмеивались над Кубиковым за речистость, страсть зачитывать из газет и глубокомысленно водить пальцем. Вспомнил даже, что прозвали Кубикова «генералом» за грудастую подпрыгивающую походку. Наверное, и сейчас перед кем хочешь «генералом» пройдется, отчета потребует.
— Сторожишь, значит, хе-хе… От кого сторожишь, голубь? Все вокруг народное! Все вокруг мое! По-другому научились… Сижу тута, а рублики мои ко мне, голуби, прыг- прыг … — Хитренько плескал из-под припухших век бегающими зрачками. — Что рублики?! Чего на меня глядеть? Машинами гребут, голубь! Начальники! Рука руку моет …А я себя в обиду не дам. Нам премию зажали, так я на собрании, из горкома товарищ Подунец сам сидел, кому, говорю, жалеете?! Рабочему? Да государство, говорю, для своего рабочего человека — ничегошеньки не пожалеет! Лазарет, школу, дом отдыха — все! А чего ты хотишь? — кричат. Чего я хочу? Я чего захочу если, то вы мне отказать не посмеете. Хоть… хоть в партию захочу!.. Хлопали мне. Премию, правда, не дали, а в партию — дак я еще и подумаю. Может и пойду. За ними давно присмотреть надо. Вот. Учись, голубь. Я — человек общественный, я за то, чтобы на виду! Грудью! На собраниях профсоюзных — в президиум! На демонстрацию два раза в год — обязательно! — тяжело передохнул и набычил голову. — На демонстрац-ци-у!.. Этот вот, Корягин Пантелеймон, знаю, под чужим именем пишет, скрывается… А я как?! Вот оно все! — неожиданно вскочил, вернее, хотел вскочить, но получилось неуклюже и долго, так что громко упал стул. Кубиков нагнулся, чтобы поднять, но голова, видимо, закружилась, и он так и стоял, согнувшись и раскачиваясь. Вошла Кавалерия Климентовна. Подняла стул. Бросила на стол какие-то папки и вышла.
— Голубушка ты моя, — нашептывал Василий Спиридонович ей вслед. — Тут вся его критика на учете, даа-а. Все газеточки. И ответы. А как ответа нет, я сразу отмечаю. Да я… Государству, конечно, власть! Отдаю. А мне — по справедливости чтобы. Я любую власть приму, а только, чтобы и мне — как всем. Живи, Василий Спиридонович, не кашляй. Работа — есть. Жилье — есть. Пенсия — будет. Чего еще надо? За справедливость…
Снова вошла Кавалерия, внесла и поставила на стол сковородку с жареным картофелем, предварительно пододвинув под сковороду одну из папок Кубикова.
— Ничего ей не сделается, — бросила на обиженный взгляд мужа.
— Сидят тут, как заговорщики… Все воруют! Все воруют! — Передразнила. — Самые честные нашлись? Мужики пошли — хуже баб. Только бы про политику им день-ночь трепаться. Трепачи. А работать кто будет? Чего уставился? Наблюдатель! Жить надо, а не сомневаться и проверять. Пройдет жизнь — не заметишь… Ешь, давай, пока горячее. Ешьте, ешьте, Сергей Ильич. Вы на меня внимания не обращайте. И Васю моего не слушайте. Он много чего болтает. Будто право у него теперь все судить и оценивать. И правительство, и государство. Устраивают они его или нет? Прямо, премьер какой-то? Министр! Кухонный!..
— Липа! Все — липа! — шептал Кубиков и делал жуткий взгляд на жену.
— Не гляди, не гляди, Васенька, а слушай. Не обидное говорю. Не веришь ничему. Неправду выискиваешь. Людей не видишь — одну корысть. А жизнь какая пошла? Сытная да красивая. В обувном туфли югославские опять давали.
Она все говорила, подкладывая в тарелку и мужу, и гостю. Появились грибочки и помидорчики. И дымящиеся кусочки утки в маленькой чугунной кастрюльке.
Но мужики уже опьянели. Василий Спиридонович то и дело ронял голову на одну из своих папок, но бодрился и пытался петь: «Сме-ло-о мы в бой пойдем…». Гость молчал. Он тоже чувствовал себя неважно. Но не от спиртного, а от морозного беспокойства: почему они говорят об этом и почему он вообще здесь? Он вспомнил, как захотел курить, но не было спичек и пришлось выходить под дождь. Встретил Кубикова. «Скользкий какой-то. И согрешить хочет и присовестить. Тьфу!» Он посмотрел на поющего Василия Спиридоновича. На серых стриженых усах хозяина висели капельки соуса. И большая усталая женщина ухаживала за ним, как за маленьким, и успокаивала: «Не воруешь… Не воруешь. Васенька… — А Васенька ловил Поливанова «генеральским» взглядом, будто требовал отчета: Ппо-чему не на работе? А!..»
«Уходить… уходить…», — как шарик каталось в засыпающем сознании Поливанова одинокое слово, и мысли путались, устало, безвольно.
— Я власть поддержу, будьте уверены. Порядок, продукты… Только и меня чтобы… Как бюрр-герра-герро… Героя-геморрроя…
Только женщина с конармейским именем чувствовала себя уверенно. Казалось, она вдруг открыла в себе что-то и спешила высказаться. И этот стол с закуской и выпивкой, ночные ее хлопоты — все было ощущением чего-то простого и ясного. Совсем близко! Она оглядывала пьяных мужиков, но вскользь, будто не узнавая. Налила себе из графинчика, выпила, усмехнувшись чему-то. Вышла в ванную. Умылась и почистила зубы. Когда вернулась, оба, и Сергей Ильич и муж, спали, сидя рядышком на диване. Она положила им две подушки и накрыла одним одеялом: «Работнички… — Жизнь-то к лучшему побежит вот-вот… Только чуть-чуть подождать осталось…». — «Кто сказал «ждать»? Почему опять «ждать»? — пьяно, сквозь сон, ронял Спиридонович, шевеля ослабевшим усом.
«Ждать» растянулось на много лет.
Простое и ясное рубанула перестройка, как шашкой махнула. Направо-налево, наотмашь. По людям! Потоки их хлынули кто куда: в поиске, в страхе, в отчаянье или надежде… Как говорят острословы: «Слуг народа все больше, а народа — меньше…».
Последний раз Поливанов увидел знакомую пару в аэропорту Шереметьево с билетами в Бразилию и удивился:
— Зачем далеко так?
— Так у них жизнь спокойная, в сериале показывали, — ответила за двоих жена и поправила на голове панаму с картинкой из «Ну, погоди, заяц!»
— Так там стреляют на улицах, мафия и полиция, война настоящая!
— Не на всех улицах, правда, Вася? Найдем фазенду — поживем, как люди. Правда, Вася?
Василий Спиридонович крепко прижимал к животу дорожный пакет с ярким рисунком кремлевских башен и кивнул важно:
— Честно робыли и честно ждали. Подождем на Бразилии.
— Чего — подождем?
— На России порядку.
— В Бразилии — российского порядка ждать? На чужбине?! На 9 Мая за Победу стопоря поднять не с кем? Вы же другую жизнь помните?..
Спиридонович в ответ «по-генеральски» спружинился и оттопырил губу с дрессированным усом:
— Помним?! А зачем помнить? Забыть надо! Мешаем здесь, с нашей памятью и оглядкой. Детям. Внукам. Всем мешаем! Мы для них — доживающее поколение. Мешаем, потому что оглядываемся, сравниваем. Было лучше? Балеты, ракеты, котлеты по-киевски в рабочей столовой? А было ли? Помнишь, на любой кухне до полночи трепались? Политику за бутылкой правили. Ошибки в газетках выискивали. Зачем? Разве родину заменить хотели? Дождаться хотели… Казались такими умными, оказались — смешными. Не верю теперь никому. Ни здесь я не верю… Ни в Бразилии той… Бежать — стыдно, а остаться — где? Заполитикувались геть. Запутались.
Сергей Ильич долго смотрел им вслед, вспоминая:
…Первомай, трибуны с колоннами… Оркестры. Солнце было таким ярким, что маленький горнист, казалось, держал в руке не металл, а сверкающий луч. Пионеры шли строем. Люди на тротуарах оглядывались, улыбались. Везде — транспаранты, шары, улыбки.
Супруги шли по другой стороне улицы, в потоке колонны. Кавалерия Климентовна крепко держала покачивающегося мужа под руку и махала маленьким красным флажком… Строем. Под музыку. Ждать? Жить? Сесть со сковородкой на кухне?
Кто-то кричал рядом громко и радостно: «Наливай! Догоняй! Праздник!»
Лед в бокалах
Лед рвался от боли и трещал, разрываемый горячими пальцами антарктических гор, молодых и прорастающих из Земного шарика, как зеленые пучки из луковицы… Ледниковая корона Полюса кренилась и падала, дробясь и растекаясь ледниковыми реками… Гигантские жемчужины раскалывались на куски, айсбергами сползая в океан и шипя… Ледяные поля размерами в пол-Европы, вскипали и переворачивались, как мясо на вертеле, не вмещаясь в бушующий океан, ныряли, выпрыгивали из воды и снова погружались, будто пытались спрятаться. Но люди, самолеты, космические лаборатории — находили и преследовали. Самолеты визгливо жужжали, поливая нещадно аэрозолями красок, как цели для будущего бомбометания. …Подводные лодки пронзали пульсарами гидролокаторов, примериваясь… Крутились километровые ленты кинопленки… Щелкали и молнились миллионами вспышек профессиональные и любительские фотоаппараты, будто изучая и планируя поле боя… Молотками, ломиками, бурами — били, кололи, сверлили и препарировали, вонзаясь безжалостно… Лед плакал. И таял. Таял. А слезы его плескал океан… соленые, как у человека…
За первые сутки перелета, с антарктической станции на Кейптаун и прыжок над всей Африкой на Дакар, Данил отупел и оглох буквально от шума моторов и криков людей, от тесноты замкнутого пространства и множества афро-евро-азиатских улыбок и лиц, сжался и сморщился от неприятно нахлынувшей близости чужих запахов, и глупо, по-мальчишески, перевозбудился: «Скоро буду в Москве! Три года Антарктиды кончились!»…
Но верно говорится, чем ближе к дому, тем забот больше обязанности, обязательства, волнения, предчувствия… Предчувствие его не обмануло и он, оказалось, не зря пошел проверять в Дакаре экспедиционный груз. Агент-сенегалец в белой рубашке, шортах и сандалиях на босу ногу, с полным желтых зубов ртом и желтоватыми же белками огромных глаз на шоколадном лице — долго вел Данила по коридорам, через ограждения и калитки, к багажным тележкам, прямо на летное поле, к грузовой пасти винтокрылого монстра, где два негра пыхтели, распихивая коробки, чемоданы, ящики. Из-под приметного двухметровыми габаритами блока с надписью «Академия наук …Антарктида — Москва…» текла влажная струйка. Данил бросился к ящику и стал ощупывать его, как больное живое существо:
— Температура? Какая температура? Рефрижератор?!
Агент заулыбался, закивал часто и подтверждающее:
— Но рефреджерейтор! Нот нид! Не надо! Понимай?
— Надо! Надо, Том!
— Нет надо! Том знаешь! Том райт! Олл райт! Лук!
Данил не понял последнее слово, пока агент не достал из портфеля копию телекса: Лук! — «Смотри!» — догадался Данил, заглядывая в бумажку. По-русски и по-английски было написано, что в связи с прекращением финансирования, получатель груза — Институт… Российской Академии наук снимает требование по соблюдению температурного режима во время транспортировки груза.
У Данила мгновенно начало чесаться все тело, а перед глазами поплыли радужные круги: «Ошибка? Опечатка? В Москве этот груз никому не нужен?.. Институт… Российской Академии наук снимает требование по соблюдению температурного режима во время транспортировки груза…».
Содержание телекса ударило по голове, развалило сознание: «Что там у них происходит? Почему?! Керн антарктического льда, мерзлая слеза тысячелетий, ценнейший гляциологический материал — никому не нужен?! Конечно, опечатка. Конечно, недоразумение. Я сам все исправлю. Нужно! Это живой лед. Нельзя его губить. Он может сказать… Он скажет! За Антарктиду и холод собачий, за нашу работу и вьюгу, за наших мужиков, за орден по имени Геология! За Землю, летящую в звездах!..».
Данил стал теребить агента:
— Нет стоп! Температура минус двадцать — нот лесс! Не меньше! Сколько надо платить?.. Я заплачу… Кэш! Я плачу кэш! Наличными! Делай, Том, делай!..
Том сделал. Что-то подписал, куда-то сходил, что-то сказал, ящик опять поместили в рефконтейнер. Данил слушал урчание морозильной машины, ощупал ладонями, чувствуя холод, поднял вверх большой палец, одобряя. Том оскалился в улыбке, тоже поднял палец. Двинулся на выход, немного сутулясь и широко расставляя длинные худые ноги, слегка запрокинув черную голову с открытым губастым ртом. Данил удовлетворенно вздохнул, тихо и искренне…
Потом объявили чартерный рейс Дакар — Москва. Пассажиры гудели, как улей. Данил оглядывал рязанские лица и не мог понять их суетливой говорливости и жадного откровения.
— Здорово, славяне! До Савеловского далеко?
Мужик, лет тридцати пяти, крепкий, в белой рубашке и джинсах, протискивался по проходу, выискивая свое место, устало упал в кресло рядом с Данилой и продолжил, поясняя:
— Москва! Савеловский! Радость и тоска на лицах, будто по грибы от Торжка до Кашино полстолицы двинулось! Смотри-ка, — он с удовольствием крутил головой, будто оказался в театре. — А лица-то?! Родные, как соленый огурчик к случаю! Водочку — скоро подавать будут? Раас-се-я?!. Меня Олегом зовут… Когда из Москвы разлетались, никто и ни с кем не разговаривал, будто перед новой жизнью медитировали… Когда на африканском базаре толкались — отворачивались, будто боялись, что кто-то попросит взаймы, хоть пять долларов… А только в самолет на Москву сели — родны-ия! Наговориться не могут… Откуда летите, простите?
— Из Антарктиды.
— Да?! Первый раз такого попутчика Бог послал. Что везете пингвина? Китовый зуб? Холод? Грибочки-ягодки? Ха-ха, ха…
— Лед.
— Лед?! Для коктейлей?! С накладными расходами или таможенной скидкой?.. — сосед рассмеялся собственной шутке.
— Нет, — смутился Данил, — это антарктический керн, лед из скважины, для исследований.
— А-аа, а я думал для коктейлей…
— Нет, вообще-то, — начал Данил, — антарктический лед очень здорово, когда его в стакан с жидкостью бросишь. Он шипит, будто шепчет что-то… — Данил улыбнулся, вспоминая. — Красиво.
Сосед ухмыльнулся.
— Красиво — это не коммерция, это только романтика! А много его там? — Сосед уже успел сделать знак стюардессе, и она поняла его, принеся два стаканчика с жидкостью.
— Антарктида покрыта двухкилометровым слоем материкового льда, — как на экзамене ответил Данил.
— А какая от него может быть польза, кроме исследовательской тайны и шепота? — сосед улыбнулся, показывая прекрасные зубы, будто готовился откусить что-то. И протянул один стаканчик Денису.
— Пейте, студент!
Но Данил, взяв в руки пластиковый сосуд и пытаясь определить содержимое, все еще отвечал на вопросы.
— Вода. Пресная. Ее не хватает на всей Земле. Полмира страдает от этой проблемы.
— Что вы говорите? Серьезно?
— Я где-то читал, — серьезно ответил Данил, — что пять миллионов человек гибнут ежегодно от недостатка воды. Были идеи буксировать айсберги к берегам Африки и поить. Если иметь айсберг, то можно заниматься и коммерцией, — улыбнулся собственной мысли молодой исследователь.
— Фантастика! — Похвалил его опытный сосед. — Только, смею заметить, чтобы зарабатывать деньги, лед у вас должен быть здесь, — показал на голову, — запомните! Никакого романтического бреда — только лед. За это! — и медленно выпил, пальцами проведя по горлу и груди, будто сопровождая поток до места.
Данил сделал глоток и вдруг сжался, крича больше глазами, чем захлебнувшимся голосом.
— Водка?!!
— А ты думал вода? Или полярникам спирт дают? К спирту привык? Отвыкай, студент… Дома — проще! Извини, без огурчика. — Он расслабленно распластался, расстегивая верхнюю пуговичку рубашки, вздохнул, улыбаясь, как солнышко.
— Но с душой, друг, с душо-оий!.. А на сон лучшее средство — стакашек. Учись. Он вынул из целлофанового пакетика черную повязочку для сна в самолете и натянул ее на глаза. — На длинных перелетах самое разумное и здоровое — отоспаться. Или придумать коммерческий ход, как в шахматах. Вот — про лед, например. Шучу. — И всхрапнул неожиданно, а проснулся, кажется, уже перед самой посадкой в столице.
Данил тоже пытался заснуть, но, то не давала покоя хозяйско-покровительственная интонация собеседника, то лезли в голову воспоминания, голос Петьки, который вдруг стал назойливо прорастать в сознании, будто он не остался там, в Антарктиде, а вселился внутрь Данилиной головы и смеялся теперь оттуда, подначивая: «…Ты как это устроился среди туристов и шмоточников? Тебе больше делать нечего? Ты работу нашу забыл, что ли? Сбежал, может быть? Меня бросил? Лед наш? Только там наша жизнь! Только — там! Парень…».
Когда стюардесса объявила о скорой посадке и температуре воздуха в Шереметьево, сосед потянул повязку со лба, открывая сначала один глаз, как пират, и зорко кося на Данила:
— Вы здесь, герой дня? Это хорошо, а то я бы подумал, что мне все приснилось, про белые вьюги.
Данил приготовился ответить, но Петька из него аж взорвался своими горячими эмоциями и бескомпромиссной интонацией, как он всегда бурлил, что-то доказывая, и Данил сказал громко словами друга, за двоих, будто:
— Лед заставляет быть чище! Сильнее! В Антарктиде легко поскользнуться и трудно выжить! Это вам не Москва…
Но сосед приоткрыл другой глаз и из пирата превратился в добродушного дядю, припухшего, насмешливо откинувшегося в кресле, шевельнул челюстью, будто поставил на место крупные зубы и ответил спокойно, медленно:
— Выжить требуется везде, в этом смысле — в Москве ли, на льду ли — жизнь одинакова. Где легче — большой вопрос. Вот. Эта жизнь — наш смертельный танец. Бабушкины частушки с картинками помнишь, а?! А танцы в чужой деревне, когда знаешь, что подловят на дороге и бить будут, а танцуешь! Танцуешь! Танцуем?! — и зубы его улыбались…
«…А меня-то зачем в самолет втиснули?! — заскрипел и пошел трещинами лед в контейнере. — Я вам что сделал плохого? Что вы меня преследуете?! — И лед шевельнулся, как зверь в клетке. Но сил было мало уже. Аэродромные пересадки и ожидания под солнцем будто выжали и иссушили ледяные мышцы, рассыпающиеся в мелкие бусинки, быстро тающие. Контейнер терял вес и самолет начал крениться…
Качнуло. Данил схватился за кресло. Он вспомнил вдруг совершенно отчетливо: крик миллионов пингвинов, обезумевших тюленей и полярных птиц, когда тело скалистого берега затрещало, провалилось и двинулось под ногами Данила и Петьки навстречу холодному океану, ныряя в него и вспенивая, взлетая под низкие облака, где тоже кричали и метались перья, глаза и крики… Крики! А со стороны ледяного откоса, уходящего своим вздутым парусом в снежный туман и небо, пофыркивая, как разбегающееся мохнатое чудище, неслась вниз, взрываясь и подпрыгивая, дробясь и раскалываясь, километровая стена отколовшейся ледниковой горы… Рядом с Петькой бежали и падали, спотыкаясь как дети, красноклювые пингвины и орали, оглядываясь на топчущих их. Рыжий тюлень толкал носом детеныша.
…Огромный ледяной скол обогнал всех, проехав по головам, оставляя медленно краснеющий след на бегущей массе, и утонул совершенно бесследно, то ли в воде, то ли в барахтающейся суете тел, голов, ласт, плачущей пары глаз одинокого в испуге и непонимании морского льва. Все это бурлило, дрожало, дышало одним рвущимся от натуги всхрипом, и падало. И опять поднималось и бежало. Ползло. Зло! Отплевываясь и хрипя. Умирая. Падая в океан. Холодный и родной. Спасительный. Родящий. Страшный. Принимающий живое и мертвое. Как сама жизнь принимает и тело, и душу. Качая тела усопших рядом с плывущими по воде чайками. Выталкивая на поверхность китовых детенышей, глотнуть неба и воздуха…
— Данил-и-ыл! — успел крикнуть Петька и обнялся, падая, с усатым тюленем в море. Данил продолжал бежать вслед за другом, но глыба под ногами предательски шевельнулась, поднимаясь полого вверх, будто питерский мост на родной Неве начали разводить. Берег наклонился, поехал вправо. И они — посыпались вправо… Тюлени, пингвины, камни и лед…. А за ними и на них сыпались снег, звуки, крики, перья, шорох, тишина.
…Лед стал на место. И берег. И небо. И птичий базар, и тюлений пляж, и две рыбки, догоняющие друг друга в прозрачном водоплеске. И след пары ботинок на мокром песке. Песок застывал, смерзаясь. Зеленовато-травянистый мох на прибрежном камне был испачкан птичьим пометом, как кляксами белой извести. Из-под шапки тек пот и слезил глаза. Данил тер их дрожащей от усталости ладонью и долго смотрел на море, качающее живое и мертвое, и на след на песке. Собственный. Других следов не было. Друга не было больше рядом. Кусок льда в ящике вспоминал Антарктиду одновременно с человеком в самолете, будто у них была в этот момент одна общая память.
— Пассажиры приглашаются на выход, — сказала стюардесса.
— Счастливо вам! — напутствовал добродушный сосед.
«Не пропадем, Данька!», — прошептал Петруха, поддерживая.
«Пойдем», — мысленно успокоил себя Данил и поднялся навстречу другой жизни.
Москва встретила дождем. Шумом ревущих авиатурбин. Русским голосом авиаобъявлений, и русским порядком, сразу заметив Данила и выделяя его в категорию уязвимых:
— Гражданин! Вы почему по этой дорожке пошли?
— Это же зеленый коридор, — заулыбался бывший полярник.
— Зеленый коридор — это не для вас. Понятно? Вернитесь и идите, как нормальные люди.
— А тот, впереди пошел.
— Это депутат.
— А как вы определили, что я нормальный, а то пошел депутат?
— Умный? Давно на Родине был? Поговорить хочешь?
— Хочу, конечно, — я с Антарктиды.
— Примороженный? Сейчас согреем.
— Уже не хочу.
Беду Данил чувствовал нутром, но теперь только не мог понять, откуда она: беда чувствовалась со всех сторон, как нарастающий снежный заряд. Милиционеры косилась на него и что-то говорили в свои радиостанции. Таможенник завел в кабинку и заставил раздеться. Выворачивая носки, Данил вспомнил, как провалился в полынью и переобувался на заснеженном льду, приплясывая от колючего холода, и радуясь, что легко отделался. Таможенник, когда отпускал его, имел вид недоуменно-расстроенный, будто перепутал собственные карманы.
Настоящая беда ждала в багажном отделении. Высокий, лобастый, рукастый таможенник в такой яркой форме с погонами, что было непонятно, как он умудряется вставать, наклоняться, щупать, смотреть, выворачивая голову, и не запачкать новенький китель, этот «рукастый от сохи, и в форме» спрашивает:
— Что там? — показывая на драгоценный институтский груз.
— Лед.
— Вскрывать будем?
— Зачем?
— Затем, что взвешивание груза подтверждает только вес тары. Там что — лед или воздух?
— Воздух?! — Переспросил с ужасом, осознавая катастрофу. С этого момента он начал постепенно осознавать, что его возвращение не так благостно. «Танец не складывается, — как сказал бы его самолетный попутчик, — не поскользнись, герой…». Данил решил поиграть с таможней:
— Согласен. Там воздух.
— Антарктический?! — уточнил таможенник, явно издеваясь.
— Антарктический, — прошептал.
— Но пошлину будем брать, согласно веса, указанного в отправных документах. Понятно?
У молодого ученого поехала крыша, и он сам не понимал, откуда он знает такие слова:
— Пошлина?.. Почему так дорого?
— Приехали. Тебе объяснять, что ли? Потому что это Москва — самый дорогой город мира.
— А по-другому нельзя? — Данилу показалось, что этот вопрос произнес Петруха, наблюдая и посмеиваясь где-то рядом — подсмотрщик.
— Можно. Имеем нарушение Правил международных перевозок: вместо задекларированного в документах груза «лед антарктический» обнаружен другой груз. Контрабанда?! Статья…
— Это лед! Геологический образец! Уникально ценная собственность!
— Уникально ценная? А где разрешение правительства страны на вывоз?
— Это из Антарктиды. Антарктида находится под защитой ООН.
— А санитарное разрешение где? Может быть этот лед отравлен радиацией или антарктической малярией?!
— Малярией? Разве бывает антарктическая малярия?
— У нас все бывает. Деньги есть?
— У меня?
— А у кого же еще?
— Зачем?
— Платить! За вес! За отсутствие разрешения на вывоз, разрешения на ввоз, санитарного сертификата, сертификата происхождения груза… За контрабанду.
— Какую контрабанду?
— Несоответствие…
Точно, Петруха был где-то рядом и хохотал во все горло, наблюдая за другом. И полнолицый с зубами — он тоже наблюдал и смеялся: «В Москве надо выжить, парниша! Это тебе не на льду, не в зимовнике, не с пайком антарктическим — сам выкарабкивайся. Вас забыли на льдине? Цветочки! Ваша Академия лопнула? Цветочки! Столица вас не узнает и не принимает? Выплевывает назад? А ты ползи, ползи, прямо в зубки ей, пусть надкусит, попробует…». Данил посмотрел в глаза человеку в погонах и попробовал:
— Понял. Я все понял. Сколько?
— Сейчас все посчитаем. У тебя сколько в наличии?..
— На такси-то оставьте?
— Соображаешь, — похвалил рукастый. — На автобусе доедешь, бизнесмен хренов. Свои ящики с воздухом забирай сразу, иначе еще и за хранение платить будешь, понятно?
— Как же я их заберу? У меня же денег нет.
— А здесь ни у кого денег нет. Москва! Здесь все только передают их из рук в руки. Чтобы не прилипали, ха-ха, — рассмеялся лобастый, снимая фуражку и вытирая пот со лба. — Устал я с тобой. Отсчитывай деньги и линяй…
…Попросил грузчиков приоткрыть ящик. Сделали. Он заглянул, но ничего не увидел. Ящик перевернули — потекла струйка водички и выпал кусочек льда. Антарктического. Данил взял его машинально и пошел к выходу.
— Эй, парень! Ящик забирать будешь?
— Через полчаса.
Что делать? Первым делом позвонить в Институт… Секретарша соединила с новым директором, но тот оказался не в курсе: «А как вы смогли долететь, мы же перелет не заказывали?.. В Институте денег нет… Заработали деньги на польской станции? А так можно?.. Про лед спросите у вашего завотделом… Всего хорошего…».
Завотделом оказался на даче, но узнал и ответил сразу: «Рад, что вы выбрались… Лед? Забудьте. У нас этих проб на полвека исследований — растаяли, хранить негде. Времена изменились. Мы сами никому не нужны, нам самим места нет… Куда идти? А куда все идут в таких случаях?..».
Куда идут? Эх, Том, наколол ты меня. А так ведь хорошо работал рефрижератор! Значит, телеграмма была крепкой, крепче наличных. Век живи — век учись. Зубастый прав — и здесь выживать трудно. Что будем делать? «Я бы выпил, сказал друг Петька, как всегда оказавшись рядом и помогая, как всегда. «А я бы…», — начал мысленно Данил, но задумался и согласился.
Бар оказался в двух шагах. Бармен был просто блестящий: рубашка с блестками, пальцы с перстнями, на ушах сережки с камушками. Девочка или мужик?! Витрина! Данил поймал себя на мысли, что вся вокзально-московская внешность стала какой-то рекламно-прилизанной и онемела, будто, прикрываясь чужими словами: Cola… Kent… Peгfume… Wisky… И по-русски: Блин! Бля!..
Он сел за стойку. Попросил скотч. Витрина заулыбалась, чувствуя деньги.
— Вам со льдом?
— Да.
Зазвенел лед, падая в стакан из ледовой ложки-зажима. Данил выждал секунд десять, потом сказал доверительно:
— Видишь мой лед? — Открыл ладонь. — Смотри теперь! — Бросил.
— Ох, ты! Откуда столько пузырьков и шипение? — искренне удивился москвич, и его сережки с камушками померкли.
— Это антарктический лед. Из Антарктиды.
— Шутишь?
— Нет. Из кремлевской партии откололся ящик.
— Из кремлевской? А он что, какой-то особый?
— Целебный! Ему же тысячи лет. Он такой обладает энергетикой! Шок! Кремлевские старцы специально вечерний коктейль только с этим льдом пьют. Прыгают до утра, как молодые. Ты что, никогда не слышал, что ли? Это же все «наверху» знают. Кто не лох, конечно.
— Да нет, я-то слышал. Но разве достанешь…
— Это верно. Спецрейсы. Сопровождение, охрана. Специально оборудованный самолет. Раз в год летаем. Раньше чаще было, но так раньше и старичков в правительстве больше было. И с топливом, сам понимаешь, не нынешние времена. А главная беда — журналисты. Вот народ гадостный — ни себе, ни кому. Сам знаешь…
— Понимаю. — Бармен наклонился поближе. — А нельзя?..
— Нет, что ты… Мне голову оторвут. Хотя… можно подумать…
— А сколько у тебя есть? — лицо бармена заблестело от пота.
— А смотри документы. — Данил небрежно положил на полку бара листики с таможенной печатью. Бармен смотрел и не мог прочесть сразу, от волнения. Сконцентрировался, прочел:
— Все точно: антарктический лед, триста двадцать килограмм. Сколько хочешь за него?
— Меня партнер подвел. Не встретил. А мне же и летчикам пришлось заплатить, и охране гэбешной — волки на баксы. Из трехсот килограммов таких кубиков для бокалов можно наколоть тридцать тысяч. По доллару, надбавка за оригинальность плюс по три за целебные свойства, а? Мне — три тысячи на руки, и я отдаю накладные на получение. Груз внизу, уже растаможен. Можешь позвонить и проверить.
— Подожди. Вот тебе кофе, посиди в зале…
Позвал вместо себя девицу, сам отлучился минут на пятнадцать. Данил заволновался было, но бриллиантовый вернулся. Довольный:
— Дежурный таможенник подтвердил: есть такой груз — можно получить. Пойдем вместе?
— Зачем? Мне светиться нельзя. Не дай бог, появится партнер, а я с ним делиться не хочу. Да и чем делиться? Три штуки — не деньги! Так что, ты — баксы, а я тебе — накладные, идет?
— Согласен.
— И я согласен. Гони, брат…
«…Это ты лихо! — похвалил его Петькин голос. — Танцор, однако. Просто — Герой дня!». «Уважаю… — будто совсем рядом подтвердил голос самолетного спутника, но предупредил сразу: не забурись! Первый закон коммерции: умей делиться! Запомнил? Пацан…».
— Пацан! Эй, парень… Молодой человек! — два милиционера подходили к Данилу, ощупывая его взглядами. — Документы есть? Откуда? Куда? Карманы покажи? Показывай, показывай! Так, паспорт, деньги… Ого! Три тысячи, говоришь? Зелеными?! Только прилетел? А декларация твоя где? Бабки откуда? Ну-ка — пройдем с нами. Пойдем-пойдем, проверим, сверим… — повели Данила по каким-то помещениям.
Он шел покорно, плохо понимая происходящее и не находя выхода.
— Ребята, в чем дело? Я же только с самолета, вот мой билет… командировочное… В чем дело?
В комнате со столом и диваном, где стены были завешены чужими фотографиями, объявлениями и приказами, двое передали Данила третьему, толстому в черной кожаной куртке с погонами, гоняющему короткий окурок из одного угла рта в другой, пишущему со скоростью автомата и дурашливо переспрашивающему:
— Полярник, говоришь, ха! Артист… Деньги вернуть? Паспорт? Паспорт — проверим. Деньги — не пропадут. У нас сейф, протокол, распишемся… Не торопись… Ты же в Москву летел? Прилетел. Мы тебя, стало быть, встретили, ха!..
«Ха-ха-гыы! — Ржал голос попутчика. — Выживать везде трудно… Танцуй!».
Данил крутил собственные мозги так, что в голове скрипело и рвало, как в игровом автомате, но выхода не находил. «Петя! Выручай, друг», — молил мысленно. Но и друг разводил руками и вздыхал только: «Прости, я из другой жизни. Не те правила… у нас в Антарктиде…».
«Иди ты, со своей… Прости…».
Вдруг дверь открылась, вошли два мордоворота, «в погонах с сигаретой» вскочил, закрывая протокол ладонью:
— Какие люди в Голливуде?! Серега — Паша!..
— Замри, лейтенант. Бриллиантовый! — Окликнули в коридор, — топай сюда… Твой клиент?
Бармен рванулся к задержанному:
— Ах, ты, гнида! Кинуть хотел? Да я тебя…
— А ну попробуй, — Данил развернулся навстречу и бриллиантовый притормозил, но старший из мордоворотов уже протягивал руку к лейтенанту:
— Баксы давай! — Лейтенант полез в стол и выразительно посмотрел на помощников — те молча вытягивали из карманов свои доли.
«Когда же они успели? — оторопело подумал Данил и глянул на спасителей, но те уже повернулись к выходу.
«А твои собственные пятьсот на польской станции заработанные и от таможни заныканные, где?», — спросил голос Петрухи, но задержано-опустошенный только вздохнул вместо ответа и собирался бежать к двери, как только можно будет.
Равнодушные мордовороты и шибко злой бармен вышли, но план-побег от троих в погонах не состоялся: они, видимо, давно тренировались в этом помещении, потому что так тесно и больно Данилу еще никогда не было…
В Москве шел дождь. Опять. Только теперь бывший полярник ощутил это всем телом, приходя в сознание на разбитом асфальте, под светом фар подъехавшего грузовика:
— Долго будешь лежать, хлопче! — окликнул его шофер, вышел из кабины и подошел на два шага. — Живой?.. Перепил, чуток? Ни? Гасфальтовую полосу преодолеть не смог, а, ползун? — Он наклонился, помогая подняться. — Так тут, як как на границе: бьют и стреляют без предупреждения…
— Я полярник! Из Антарктиды!
— А-а?! З Антарктиды?! Куяльник?! Так я може тож со Жмеринки, хе! Понаихалы тут — гарному москалю ступить некуда…
Данил встал на ноги и обреченно разглядывал мокро— грязные свои брюки и свитер, зло сплюнул:
— Гады! Я три года на льдине… Там люди-герои! А здесь — подонки…
Дядька-шофер развел руки в стороны и присел, приговаривая:
— Дывись, яка цаца. Так тебя як челюскинца — на руках носить трэба? Геро-ой… цаца… Ось я — то ж герой: три года у Москви, пашпорт россиянина купыв, прописан у Москви… я — герой! Бо я — живу кажин дэнь. Чи у Жмеринки, чи на Харькови, а чи на Шереметьевском родроме, во! Уразумел? Не?.. Ту-то твоя беда, хлопчик: ты со льду того спрыгнул и порешив, шо теперь ты можешь, як кот на солнышки: лапки до небу, та глазки жмур… А хиба жизнь остановилась? А хиба кончилась? А може, кумекаешь, тута не жизнь? Може тольки на льду тоим грудью прягись та мужиком стой?! Не, хлопчик. И тута жизни живут, та мрут от усталости. Героически! Это я тебе говорю, ба сам кажен день, як тот Саша Матросов на амбразуру, так ото за баранку и-иы! — крутю в москали! Легко ли? Тут тоби ни на льду, посередь птичек какающих, тут тоби середь моря людского. Горького-оо… То тоби учить и учить еще, полярничок!.. Ох, картыну с тэбе писать зараз — москаль посеред асфальту чистого, гы-ы!.. Улыбнись, хлопчик… Кончай беду думать! Москва вокруг, чего и не жить-то?!… Не Нтарктыда под микроскопом тут — дождь як у Жмеринки! Слышь, москаль… — Он одной рукой поддерживал парня, а другой ловил капли на грязную ладонь…
Это и было спасением: дождь, холод, голос и жить… хочется.
Через месяц, случайно, встретил на Тверской самолетного попутчика. Тот обрадовался искренне, сразу представился: «Олег Игоревич». Сказал, что часто вспоминал и жалел, что не обменялись телефонами. Когда сели за столик и выпили за встречу, открылся:
— Я быка за рога беру сразу, крутить не буду. Я вам, Данил, предложение хочу сделать.
— Вы, простите, не голубой? — Данил никак не мог найти нужный тон и потому злился на себя и пикировал собеседника. Но тот понимал и посмеивался:
— Нет, я не в том смысле. Бизнес-предложение. Вы ведь, как-никак специалист по Антарктиде? А у меня своя фирма. Со всеми бумагами и лицензиями, вплоть до ООН.
— Ого?! А ООН-то зачем?
— Бизнес, дорогой мой, теперь и коллега, надеюсь…
— И что мы производить будем?
На маленькой эстраде, медленно вращающейся посреди зала, яркая блондинка, полуодетая и посасывающая микрофон, шептала в него осовремененное ретро: «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, полная червонцев и уе…».
— Воду. Питьевую воду. Вы же говорили мне сами, что полмира страдает от недостатка воды. Помните? Ваши слова и идея ваша. Все честно. Я только кое-кого привлек, кое-кого уговорил. Идея витает в воздухе! Тает, можно сказать, играя на теме и созвучиях, а? Африка, Азия… Тут — больша-а-йя программа. Больши-и-йе деньгии! Деньги идут через всякие фонды, проекты, благотворительные организации и комитеты спасения… Им, конечно, совершенно неважно — каков результат… Им надо вложить капитал… Кому-то это дает послабление от налогов… Кому-то — красивую рекламу. Имя международного спасителя… гуманного спонсора.
— Подождите-подождите! Вы плохо себе представляете — эта идея со льдом — это такое затратное производство. Спонсоров не хватит.
— Хватит!!! Какое производство?! Зачем? Антарктида покрыта двухкилометровым слоем льда — это сколько воды?..
— Но ее невозможно доставить туда, где она нужна?
— И не нужно. Сегодня — важна идея, миссия. Месси-йяа!!!
— А ООН? Юнеско?! Они-то причем?
— А там тоже нуждаются в глобальных проектах. Мирового масштаба и времени! Мы им это даем, и они существуют в своих кабинетах и креслах. И они нам дают не ту мелочь, которую пальцами пересчитать можно, а Капитал денег… Финансовый рынок! Весь мир!.. Фонды! Президенты и секретари. Банки и наблюдательные советы! Газеты! Программы! Космический круговорот денег. Косми-и-ческий! И всем — хорошо!
— Но воды-то не будет?!
Размечтавшийся шеф откинулся в кресле, разглядывая Данилу взглядом снисходительным и, слегка, досадуя на него:
— Разве я вам не говорил: Шо-о-уу! Барабаны и трубы! Карнавал вселенского шоу завладел миром. Затопил выше крыши! Песня и танец. Смех и Потоп! Ликование в горькой маске! Ниагара сквозь пальцы… Гольфстрим и торнадо… Без бомб и насилия. Никакого насилия! Только бой барабанов на празднике масок. Разум — растаял. Шоу-ууу!
«…Ландыши, ландыши! Светлого мая приве-ет…», — шелестела губами блондинка и слала кому-то воздушный поцелуй.
— Но воды-то не будет?
— Не будет! — добродушно улыбнулся в ответ Олег Игоревич, не смущаясь собственного откровения и облизывая губы… — Будет Красивое ожидание, только не надо говорить — чего… — и помахал блондинке-пластинке.
Данил отрешенно смотрел на шикарный интерьер ресторанного зала, на огромную и сверкающую рекламу на улице за окном, на далекие купола над крышами. «Церквей-то, церквей понастроили — грехи, что ль замаливать?», — отчетливо произнес Петруха из жизни-памяти.
Официант во фраке менял на столе приборы. Олег Игоревич продолжал говорить что-то и смеялся, сам себя слушая… Две девочки на диванчике за угловым столиком с двумя бокалами сосали тонкие сигаретки и оценивали мужчин…
Самая дорогая столица мира блистала сверкающими и дорогими машинами. Гудели в небесах над ней серебристые лайнеры из далеких стран. В шахтах могущественных банков перегружали банкноты и золото. «…А здесь ни у кого нет денег, их только передают из рук в руки…», — вспомнил слова таможенника. Газеты миллионами крутились в гудящих типографиях и выплевывались на улицы, как сосиски и пиво, как липучая жвачка ненужных соблазнов. И город жевал эти газеты и бросал под ноги на тротуар, в кожуру от бананов и на порванные презервативы. Все торопились и бежали мимо. Мимо витрин, стен, афиш, лиц… Мимо друг друга. Не слушая и отворачиваясь. Плача и смеясь… Никто никому не был нужен. Как не нужны были горы безвкусных продуктов, безумно красивых и дорогих платьев, математически совершенно составленных текстов и умных речей. Никому…
Олег Игоревич повернулся к громадному экрану настенного телевизора. Данил посмотрел тоже, но неожиданная слеза накатилась, настоящая, будто Антарктида была рядом: «…Смейся, дружище, смейся! — кричал Петька. — К этой жизни нельзя относиться всерьез! — Он подмигивал, корча гримасы и улыбаясь рязанской своею рожей… Петруха- Петруха, ни пера и ни пуха… Со скалы далеко было видно море. Начальник экспедиции сказал речь. С соседней станции приехали поляки, и девочка-радистка беззвучно плакала, сжав ладонями рот. И парни потели, укладывая пирамидой холодные камни. Над Петиным мысом…».
— Ну, что, Данил, — Олег Игоревич разливал в бокалы, — согласны?
— Я хочу настоящего дела, — Данил был серьезен, — настоящей работы и жизни. А это…
— А это, хотите сказать, блеф? А где деньги возьмете, на настоящее? Кто даст? Буксировать айсберги и растапливать воду с них лампой паяльной? Или вы солнце используете через увеличительное стекло, как мальчик смышленый, а? Или выпаривать лед лазером, подвесив над ним спутник? Пар поднимется облаком, в него дунет ветер и понесет бедуинам в пустыню, так? Так, я вас спрашиваю?! Глупости! Вы — не школьник на уроке, проснитесь! Деньги можно получить только аферой, большие — большой аферой… И это, уверяю вас, не игра — это самая настоящая жизнь. Деньги придуманы были большим умником, который не любил копать землю, я так понимаю, — улыбнулся сам, — и который смеется до сих пор, оставшись без своего расплодившегося наследства, а? А куда его возьмешь? Там, — посмотрел на лепной потолок модернового заведения, — ничего не нужно. Ни-че-го! … О-оо! — Он вдруг выпучил глаза, как рак:
— Опоздали! — привстал над столом, указывая рукой на стену телевизора, — опоздали!!! Даня…
Данил повернул голову к экрану. Последние новости мира бизнеса начинались сенсацией: «Международный валютный банк организовал фонд спасения «Жажда!». Фонд планирует контроль и реализацию всех будущих программ по использованию льдов Антарктиды и Арктики для населения обезвоженных районов земного шара… Сумма фонда превышает…».
Блондинка-пластинка смеялась голосом примадонны: «Ха-ха, ха-ха-ха! Ха-ха, ха-ха-ха! Арлекино, Арлекино…».
— Обошли! На повороте обошли. — Казалось, он заплачет сейчас, но зубы сжались, нижние к верхним, и откуда-то из-за них, как из-за глухого забора, прозвучало отчетливо. — Говорил мне товарищ «меняй паспорт, меняй…», — Олег ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговичку на рубашке. Обреченно упал в кресло.
— У вас тоже нет московской прописки? — спросил его Данил, вспоминая москаля- шофера.
— Ша?! Что?— Опешил всегда официальный Игоревич, — ты как догадался? — И зачем-то потрогал свои зубы, словно проверяя порядок на лице.
— Случайно, — улыбнулся Данил.
Олег на секунду задумался, вглядываясь в антарктического попутчика, словно впервые его увидел, и сказал, о своем думая:
— Москва вокруг, — улыбнулся, расслабляясь, — деньги летят из рук в руки… А что делать? Надо бежать дальше, если не любишь копать землю, а?.. Такие деньги ушли из- под носа?!
— Первый закон коммерции, Олег Игоревич: умей делиться…
— Ха, молодец! Поделились?! — Олег Игоревич опять, казалось, стал прежним, добродушно энергичным, только чуть-чуть замедленнее двигался и становился на место волевой подбородок, словно перемалывая преграды, улыбался. — Слушай, а иди, все равно, ко мне. Ведь не сможешь один. К кому попадешь? А вместе — мы такой бизнес закрутим — Антарктида распарится… Идет?! — И Олег протянул руку.
«…Ха-ха, ха-ха-ха… Ха-ха, ха-ха- ха…», — смеялась Пугачевая смена.
— Я подумаю…
«Похоже, эти сегодня в выигрыше, — подумали девочки в углу, — надо не упустить…», — и, согласно улыбнувшись друг другу, повернули головы к мальчикам, подбираясь… Но мальчики глотнули виртуального риска, как водочки в жару, и смаковали потерю несостоявшегося бизнеса… Потерю смаковать — себя полюбить…
«Ха-ха, ха-ха-ха! Ха-ха…», — крутилось по залу. О чем жалеть?! Не стал миллионером — не обанкротишься. А не обанкротился — умный!.. Ничего не потеряли, значит!
«Ха-ха, ха-ха-ха! Ха-ха…!»
— Эх, огурчиков бы! — крикнул Олег — «президент ледовой Компании» и глотнул слюну:
— Где эта жизнь?! Ма-маа!..
Лед таял в бокалах…
…А в подсобке за стеной лили в формочки воду из крана, запихивали в морозильник, доставали, били молотками, раскалывая и приговаривая: «Будешь антарктическим! И шипеть будешь! Понял?! …А мы его газировочкой сейчас… Он у нас так зашипит… Ужалит!».
Бармен с блестками пота и камешками, приколотыми в мочку правого уха и на крылышко носа, скалил зубы в улыбке и приглашал громко, как в цирке: «Только у нас! Вы получите коктейль с антарктическим льдом! Вся энергия Солнца и Космоса! Слеза радости оживающего Тутанхамона! Сотрясающий смех раскалывающихся ледников! Последним спецрейсом с ледникового полюса! Спешите!!!».
Водопроводные трубы гудели и гнулись, вибрируя от напряжения. Вода разливалась и брызгала.
Морозильники грелись и сотрясались в конвульсиях, выдавливая из себя лед. Нож-дробилка поднимался и падал… Лед плакал.
…Данил смотрел на слезу в бокале и не мог пить…
Африканский капкан
…Контракт подписан. Завтра улетаю. Жалею всех, кто не может уехать… Еще больше жалею тех, кто, уехав, не сможет вернуться. Мы не можем без Родины. Мне стыдно смотреть в глаза маме…
Родственные узы
«Дед» взял свою чашку кофе, вышел на крыло и истошно закричал: «Кэптэн!» — Я выглянул. Легкий норд передергивал макушки зюйдовой зыби, и они пушились седоватыми прядями назад, против лобастого бега волн, придавая им вид упрямый и немного обиженный. Две чайки висели в воздухе неподвижно, будто магниты океана и облака уравновесили их. Отчетливо пахло йодом морских растений, глиной берегового обрыва и терпкой зеленью мангровых зарослей, хотя берег еле угадывался в дымке и солнце. Пиратская пирога, мощное тридцатиметровое чудовище с двумя навесными двигателями на корме, ревущими и взрывающими под узкой навесной кормой лодки пену и брызги, летела огибающим полукругом в полутора кабельтовых от судна. В лодке размахивали оружием. Я взял бинокль: человек восемнадцать с автоматами Калашникова приплясывают от нетерпения, трое радостно ворочают в нашу сторону спаренными стволами крупнокалиберного пулемета, Миша — в ярком халате и подаренной мною несколько дней назад фуражке, бело выделяющейся над крупным черным лицом — тоже разглядывал меня в бинокль, увидел, расплылся в улыбке и помахал биноклем (широкий рукав халата при этом взмахнулся оранжево-пестрым крылом, оголив черную поднятую вверх руку). Миша крикнул что-то пулеметчикам, те, понимая, тоже зубасто оскалились- заулыбались и упругая трассирующая очередь побежала над водой, часто-часто задолбила фонтанными брызгами, отсекая от нас океан, потом отчетливо засвистела над мостиком, необыкновенно легко продырявив над моей головой щит с названием судна. В лодке заулюлюкали на африканский манер, празднуя удачу: в буквах «У» и «Н» нашего гордого «ДУНАЙ» сквозило солнце. Я повернулся к стармеху:
— Будем сбавлять, дедуля…
Этот рейс не заладился с первого дня. Все началось с лоцмана.
Речной лоцман должен был прибыть на борт в Дакаре. Но в последний момент агент сообщил, что до бара — океанического мелководья в месте впадения реки — мы пройдем самостоятельно, а лоцман подойдет к судну на пироге. Следовать к устью агент рекомендовал на значительном удалении от берега, для исключения опасности нападения разбойных банд, довольно активных в этом районе. С этой же целью рекомендовалось не пытаться звать лоцмана по радио, а на траверзе реки круто повернуть к берегу и идти в точку встречи с лоцманом, ориентируясь на время максимального прилива — шесть пятьдесят утра. Конечно, как и следовало предполагать, согласно лучшим африканским традициям лоцман не появился. Вернее, лоцман не появился на пироге. Зато нас активно вызывали тремя разными голосами радио-лоцмана. Каждый выдавал себя за настоящего и советовал не доверять и не слушать никого другого, но все трое рекомендовали ни в коем случае не пытаться удаляться от берега. Почему? Разъяснение пришло неожиданно телексом от агента: «По информации береговой охраны за судном следует моторная лодка с вооруженными людьми. Лоцман будет ждать на шестой миле вверх по реке. Рекомендую пройти бар самостоятельно, используя полную воду и защиту берегового полицейского поста…».
Бар резко выделялся смешением воды разных оттенков. От светло-зеленого до сине-темного, и от ядовито-желтого до бурого. Слабый бриз носил над водой ее разные сырые запахи, то соленый, то пресный. Там и там бурлила, дыбилась, крутилась пенными водоворотами и лопалась брызгами и радугой энергия океана, предательски надрезанная, как ножом, подводной отмелью. В линии берега река не просматривалась, скрытая деревьями, туманом и волнами берегового песка. Но и туман, и песок, и далекие деревья все шевелилось и плыло вместе с океаном, носом судна и растворенным где-то впереди солнцем. Валко поднимающие и раскачивающие нас волны казались упругими кольцами борющихся друг с другом и с нами гигантских водяных змей, которые вполне могли быть настоящими.
Фарватер на баре просматривался синевой и отсутствием вспенивающейся океанской зыби. Эхолот показал минимальную глубину под килем. Я прикинул осадку на обратный путь — грузиться следовало строго на ровный киль и, оставляя достаточный запас под килем. Мелководный участок тянулся более трех кабельтов, и волна по нему прокатывалась отменная, то поднимая, то опасно опуская судно. Следовало учитывать это возможное « проседание» на волне, и потому предстоял не простой бой с отправителем по вопросу максимальной загрузки на фактории. «Попадание» в реку было сразу отмечено двадцатиметровой глубиной под килем и совершенным отсутствием какого- либо волнения. Вздохнули с облегчением.
После очень глубокого континентального устья река делала неожиданный поворот и шла параллельно берегу океана, отделенная от него дюнами, редкими высокими пальмами, остовами полусгнивших судов и полуразрушенных глинобитных хижин. Континентальный берег был покрыт живописным и густым лесом, в котором стволы и лианы соперничали друг с другом в толщине и высоте, а свистящие, хрюкающие и поющие звуки были настолько громкими, что их, казалось, произносили сами деревья, цветы и листья. Так неразделимо и естественно они сочетались. Ничто не шевелилось, но и ничто не казалось самим собой. Лианы и стволы — змеились. Листья и цветы — свистели. Блики солнца, вода, радуга испарений и летающая паутина — все было улыбкой, ядовитым оскалом и следящим в охоте зверем. Большие хищные птицы парили высоко-высоко в небе, где их никто не мог достать, но откуда сами они, медлительно и оценивающе, высматривали себе живую добычу. Бог знает, какие опасности таила в себе река, и все мои чувства обострились и напряглись, пытаясь звериным напряжением уловить легчайшую струйную рябь, которая зримо выдает глубинную середину потока. Пришлось самому стать на руль, и я буквально осязал через дерево штурвала легкое шевеление водяных пальцев, потрагивающих рулевое перо, оглаживающих корпус, упруго огибающих форштевень и направляя его. Будто не судно, а сам я плыл против речного потока. Я чувствовал вибрацию маленьких рыбок, открытыми прозрачными ротиками обсасывающих зеленоватые водоросли на скуловом киле судна. Я чувствовал тень птицы, когда она пролетела над нами, и тень, казалось, накренила судно с борта на борт. И рефлексирующая волна побежала от нас к обоим берегам, переламывая солнечный луч на множество сверкающих осколков, снова собирая их в одно целое и выстилая на воде девственно замирающим и хрупким глянцем.
Мы сбавили ход и, продолжая внимательно осматриваться, осторожно продвигались. Старший помощник продолжал звать лоцмана, прижав микрофон к губам. Дед стал на телеграф, предупредив машину о возможных реверсах. Боцман и двое матросов застыли на баке, настороженно осматривая поверхность реки, и оба берега, прислушиваясь к звукам, которые на мостике были заглушены работой двигателя. В таком напряжении прошло больше часа. Река постепенно стала расширяться, сначала до полумили, потом на милю с четвертью. Глубины скользили от пяти до тридцати с лишним метров под килем. Глаза понемногу привыкли к естественному ландшафту, и я стал довольно точно и своевременно замечать искусственные знаки, безусловно определяющие фарватер. Идти стало легче. Или спокойнее. Впереди угадывался плавный поворот в глубь континента. За этим поворотом что-то происходило. Первыми заволновались на баке. Боцман передал по судовой связи, что слышат громкие крики и барабанный бой. Потом послышались выстрелы. Утренняя солнечная дымка мешала разглядеть происходящее. Согласно лоции и карте, река в этом месте быстро и значительно меняла свое русло, как ползающая змея или брошенный под напором водяной шланг, но где-то между шестой и девятой милями она успокаивалась. Там должны быть далеко видимые развалины старого форта с высокой колокольной башней и несколько выделяющихся своими размерами деревьев, под которыми, говорилось в лоции, собираются рыбные и соляные базары, и ритуальные собрания местных племен.
На баке и мостике увидели одновременно, вскрикивая и показывая руками: десяток узких пирог, как стрелы, вылетели из солнечной пелены и неслись нам навстречу. В каждой — гремел барабан, и пестро-разноцветное множество полуодетых аборигенов ритмичными движениями коротких весел, будто разгоняя себя в паутинном танце, бежали по воде. Все происходило так быстро и так завораживающе естественно, что никто всерьез не испугался. Было мандражно и интересно, как за просмотром остросюжетного боевика.
Солнечный туман-занавес начал подниматься или рассеиваться, и мы увидели сцену во всем ее африканском великолепии: белый песчаный холм, трехэтажная каменная башня с колоколом под верхним сводом, пять громадных раскидистых деревьев, бросающих пятнистые тени на башню, на песчаный холм, на тысячу чернокожих людей, нетерпеливо ожидающих на берегу нашего приближения. Барабаны умолкли, и маленькая моторная пирога с двумя одетыми в яркие халаты мужчинами круто развернулась и остановилась, закачавшись на собственной волне, на середине реки в двух кабельтовых впереди нас. Один из мужчин встал на носу лодки, поднял руки вверх, потом медленно начал разводить их в стороны до положения «крест». Стрелы-пироги по обоим бортам судна замерли на воде без движения. Мы медленно уходили вперед перед их строем.
— Стоп машина. На баке! У правого якоря стоять, — отдал я команду.
— Что это, Палыч? Как думаешь? — Дед почесывал рыжую бороду.
— Похоже на какой-то ритуал. Может мы попали на местный праздник? — Было необходимо как-то успокоить команду. — Не думаю, что это непредвиденные военные действия. Агент бы предупредил.
— Сандр Палыч, может приготовить пожарные шланги для отбоя возможного нападения? — спросил боцман с бака.
— Отставить. Внимание экипажа! Сохранять всем спокойствие. Представьте, что мы попали на съемки фильма или на большую свадьбу.
— Как жертвенные петушки, — съязвил боцман с бака, и один из матросов там засмеялся.
— Дедуля, машину держать в готовности.
— Принято.
— Чиф, пошлите матроса разбудить всех отдыхающих после ночной вахты, чтобы все были наготове. Бог знает к чему, правда.
— Есть, — на полном серьезе ответил по-военному.
Следующие десять минут мало что изменили. Судно почти остановилось в зеленой и глубоко просвечиваемой солнцем воде. Вышел на крыло. Странные вещи замечаешь в минуты сильного напряжения. Стаи рыбок выстроились вдоль борта и шевелили хвостами и раскрытыми челюстями, будто пробуя танкер на вкус. Пироги с людьми стали плотно окружать нас под монотонный бой барабанов. Маленькая лодка первой подошла к борту, крупный и достаточно проворный негр, придерживая полы широченного халата, выпрыгнул на нашу палубу и быстро начал подниматься по трапу переходного мостика на крыло. Чувствовалось, что на судне он не новичок.
Вошел в рубку:
— Здравствуй, капитан. — Сказал громко и отчетливо по-русски.
Оглядел всех и улыбнулся, широко разводя руки, будто для объятия.
— Извини, если боялся.
Лучшее, что можно было сделать, чтобы снять напряжение с лиц матроса и старшего механика, замерших истуканами, было — принять объятия:
— Здравствуй, дорогой. Будь гостем.
— Зачем гостем? Я твой лоцман. Я Миша. Я десять лет учил русский язык Херсоне, Киеве и Москве. Дружбы народов учился. Медицинском и фельдшерском учился. Севастополе на подводника тоже учился, но папа сказал: « Подводную лодку покупать не будем — учись ВПШа. Знаешь ВПШа — высшая партийная школа? Тоже выгнали — гулять любил, волейбол любил, девушек любил очень. Я имею семь жен и только две из них русские. Хохлушки. Чи не мае у вас самогона, хлопцы? Вы попали на мою восьмую свадьбу, и теперь пленники моего народа, пока я и мои женщины не отпустим вас. — И совсем лихо, показав на репитер эхолота, по-морскому скомандовал: — Отдать якорь, капитан! Восемь метров под килем, четыре смычки в воду! Машине отбой!
Вот, кто такой был Миша. Но это не все.
Когда мы погрузились в пирогу, и она отошла от борта, туземцы в других лодках и толпа на берегу — дети, мужчины, женщины — все радостно закричали, поднимая вверх руки, пританцовывая и стреляя вверх из автоматов Калашникова, которые оказались достаточно у многих.
На борту остались девять человек во главе со старшим помощником. Мы со стармехом, второй помощник, донкерман и третий механик смотрели на приближающийся берег и орущую толпу с любопытством и некоторой тревогой. Что-то Миша темнил, прикрываясь восточным гостеприимством, намеками и фразами типа «Гость свинье не товарищ… Мамка папке не указ… Все мы вишни из народа…». Где он наслушался этих мудростей? Я уже не думал о погрузке и риске самостоятельного перехода через бар. Я думал об экипаже. Не от хорошей жизни согласились они на этот контракт. Каждому надо и заработать, и вернуться домой, и быть готовыми снова уходить из семьи в море, оберегая родных успокоительной байкой про хорошую погоду, отличную пищу и курортный режим. Этому надо немного помочь. Чуть-чуть. В первые минуты. Покатиться по рельсам душевного хулиганства, мальчишества, приключений. А всерьез оглядеть все потом. Когда останутся позади тревога и неизвестность, и можно будет просто расслабиться шуткой или помолчать, просто. Потому что нельзя поворачивать назад, не обеспечив своей семье тыл, а себе — следующий контракт. Только так.
— Веселее, ребята! — подбадриваю своих. — Вы сейчас первый раз на африканский песок выйдете. Как древние мореходы. Лет четыреста назад. Им страшновато было. Могли и съесть. А у нас что? Дружеский визит. Наивная любознательность. Сейчас практикуют из развитых стран специальные туры в отдаленные районы Центральной Африки или Амазонки, или Австралийской пустыни. Бешеные деньги стоит. Потому как крокодилы, слоны и змеи — все натуральное. И риск настоящий. И ядовитые стрелы аборигенов. А у нас — смотрите! — за эту красоту и редчайшую натуральность — нам еще и зарплату платят… Глотайте пищу живой истории! Смотрите на красивых женщин…
Ребята смотрели. Пока выпрыгивали прямо в воду, шли по пояс в воде, выходили на прибрежный песок. И они разглядывали нас. Женщины и дети смотрели не таясь, обсуждая между собой, показывая на нас пальцами, самые смелые пытались пощупать. На темных телах выделялись светлые ладони и светлые подошвы ног, постоянно пританцовывающие. Ярко белые зубы в улыбке и яркие глаза, любопытные у детей и очень уж игривые у женщин. Дедушка даже крякнул:
— Однако. Контингент, скажу я вам. Маслице, а не губки. Второй помощник и донкерман, молодая кровь флота, крутили головами и глазами зыркали совсем не робко. Довольно ухмылялись.
Перед нами расступились, показывая направление, и мы шли как бы в свободном потоке, но по бокам и сзади неотступно следовали человек пять босоногих туземцев в одних только закатанных штанах и с «калашниковыми» в руках.
В тени дерева, на странном сооружении из грузового автомобиля с кабиной без крыши и по самый кузов погрузившегося в песок, стояли и сидели женщины разного возраста, от совсем девушек до полнолетних красавиц. Африканская красота своеобразная, особенно с непривычки, но собранные отдельно от толпящихся на холме, они действительно выделялись особым достоинством. Среди них мы увидели и простодушно-родные украинские лица, с разноцветными лентами в русых косах, но одетых по местному обычаю в одни юбки и множество бус. Смотрелись колоритно. Мишины жены. Те, которые определялись как «красавицы» были, уж как это сразу почувствовалось, не замужние. Даже не могу объяснить, каким образом мы это поняли.
Миша возник неожиданно и совсем рядом. Он все объяснил. По-афррикански, иносказательно:
— Мой народ нужно кровь. Это жертвенный холм моего народа. Здесь пролилась кровь белого человека, который первый раз ступил эту землю. Этом холме пили кровь буйвола, змеи и птицы. Тогда не болеть дети. Теперь снова болеть. Нужна кровь белого человека. Вы пришли. Белый человек нравится черной женщине. Даже крокодил любит крик обезьяны. Черный человек не будет болеть. Белый человек будет хорошо. Ленин хорошо. Интернационал хорошо. Русский калашников хорошо. Семейный социализм — очень хорошо.
После этих слов он что-то затарабанил на местном наречии, и воин справа от нас, подняв автомат на вытянутой в небо руке, выстрелил длинной очередью. Люди вокруг замерли и умолкли. Миша продолжал говорить, и они слушали, лица стали серьезными, и дети не улыбались, а только смотрели на нас с неподдельным ужасом. Я окончательно поверил, что он учился на медицинском и фельдшерском, дружбы народов и подводного плавания. И понял, что он хочет построить общество семейного социализма. Может быть, даже в мировом масштабе.
Дед, похоже, тоже это понял и скреб бороду, исподлобья оглядываясь по сторонам. Молодая кровь флота у наших юных товарищей спала с лиц. Я прикидывал различные варианты развития событий и не мог отделаться от ощущения, что я не боюсь. Что-то бутафорское было в этом представлении. Что-то не реальное. Не настоящее. Дед спросил тихо:
— Думаешь, сначала зарежут, или живьем зажарят?
— Надеюсь, что убьют с красивыми девочками, которые на подиуме.
— С девочками, да такими красивыми — умирать не страшно.
— А может у них другой план? — спросил донкерман, с надеждой кося глазами на пышногрудую красавицу цвета черного дерева и весьма недвусмысленно оглядывающую всех нас по очереди, как на смотринах.
— Тебя, конечно, оставят на развод молодого племени, — парировал дед, — вот только пару подыщут, попородистее, чтоб без осечки и много.
В этот момент Миша снова прокричал нечто командное, толпа вокруг нас стала сортироваться. Дети отодвинулись. Мужчины (вооруженные тоже) отошли на задний план, вокруг нас образовался хоровод женщин, причем не только «красавиц». Они не танцевали и не пели, но ходили вокруг нас, и между нами, некоторые — дотрагивались, иные — старались заглянуть в глаза каждому, будто пытаясь что-то понять или быть понятой. Но мы не понимали.
Наконец, Миша снова скомандовал и все отдалились от нас. Движение и суета прекратились. Мы остались стоять в кругу. Но поднялся многоголосый гвалт. Наши гостеприимные хозяева вдруг забыли о нашем присутствии и бурно обсуждали нечто друг с другом. Английский парламент под открытым небом. Еврейская свадьба без шляп и галстуков. Цыганский базар без лошадей. Чужая жизнь. Это затянулось так надолго, что даже самые молодые из нас устали бояться и открыли рты от любопытства. В толпище на холме, между тем, возникали собственные клубки, группирующиеся и рассыпающиеся, как синоптические вихри в океане. Один из таких вихрей потянулся к нам, во главе его была экзальтированная красавица в тряпичной шляпке, длинной огненно-красной юбке, такими же красно торчащими сосками на упругой груди и яркими губами, которые были искусаны собственными ее зубами, породистыми и страстными, как у необъезженной кобылицы. Она подошла к деду, стала напротив него, широко расставив ноги и запрокинув голову, прокричала на своем языке, пронзительно и беспощадно, но гул соплеменников ее не одобрил. Тогда она прокричала еще что-то, дети засмеялись, а взрослые зацокали языками. Но другая женщина, тонкая, гибкая, курчавоволосая, с маленькими сосками-мордочками и глазами нападающей гиены встала перед ней, вытаптывая песок маленькими пяточками, будто подготавливая место для боя.
Вооруженные мужчины снова оказались рядом с нами и, подталкивая плечами и жестами, повели нас в сторону от интригующего представления, на другую сторону холма, за искусственную ограду из длинных зеленых листьев, под ветвистый навес низкорослого кустарника. Местные бои без правил шли без нас. Нам достались звуковые аккорды и нарастающий гул зрителей. Иногда слышался топот множества ног, будто все племя снималось с места и пыталось бежать в нашу сторону дружным аллюром, но вдруг останавливалось, будто подчиняясь усвоенным Мишей в морском училище командам: «Поворот все вдруг! Следовать противолодочным зигзагом!», валилось на песок и шуршало по нему змеиным ползком. Короче, через пару часов дебатов и слушаний, мы были уверены, что Мишино племя, с благоговейным восторгом внимающее про Ленина, Калашников и социализм, не имеет никаких конкретных планов в отношении нас, но и нет для них никакой разницы: отрубить ли нам головы, как жертвенным цыплятам, или уложить нас в постель с самыми красивыми женщинами народа в процесс африканского клонирования, то есть примитивного кровосмешения и установления родственных связей между великими цивилизациями. Второе нам нравилось больше, но Миша определил нечто третье. Он вообще удивлял буйством фантазии и немудреных знаний.
— Я учился дружбы народов и ВПШ. Я видел Советский Союз на Украина, река Волга и проводником поезда Москва — Владивосток. Был студент проводником. Веник знаю. Чай с сахаром знаю. Песню «Иди геолог, шагай геолог…» знаю сам. Сам думаю. Советский Союз потому большой, что все ехали. Далеко поедешь — близко найдешь. Поезд ехали. Рыбак ехали. Геолог ехали. Космос Гагарин тоже ехали. Красивые девушки за женихам-мужем Магадан колымили. Две жены хохлушка за мной в Африка ехали. Самогон варить научили. Борщ бананом варить научили. Вареники научили. Песни петь «Ой ты, Галю, Галю молодая…» — слезы плачут. Другие жены — еще черней. Все — уважаемых вождей. Миша не просто женится, а социализм строит. Семейный. Дети счастливы. Жены счастливы. Миша счастливый муж тоже. Мне Союзе очень нравилось: черная, белая, косая глаза, японский лица, московский девушка, моя хохлушка, друг бекистан, Сенегал, Панама — все любили и строили семья. Семейный социализм. Миша думал, что так нужно всем людям. Не будет война. Не будет дети болеть. Не будет плохой кровь. Не будет плохой человек. Все будут один родственник. А зачем граница и нация? Я не знаю зачем. Политику играть. Людям глаза завязывать. Немножко красть. Из кармана красть. Из души красть. Из жизни хорошие дни тоже красть. Такой политик я не хочу. Сегодня мой племя мешает кровь. Ты мне немножко твоя кровь. Я — тебе. Он — ей. Немножко кровь. Немножко радость. Немножко будущий год память. Очень хороший праздник. Такой социализм Миша любит. Кушать идем. Пить идем. Зыкина Волга петь будем. Подмосковные вечера петь будем. Всю ночь гулять-пить. Огонь костра душу греть. О своем думать, горько вспоминать. Утром вечера умнее знать. Мишина невеста смотреть завтра твоим пароходом ехать будем. Далеко ехать. Много думать. Много думать дураком быть. Айда, хлопцы, конив запрягать! — засмеялся черной своей рожей московского гостя подводного плавания. Ох, Миша. Темная душа…
Старпом по портативной рации передал с борта, что агент прислал телексом «Следовать указаниям лоцмана. Мишин отец контролирует масляный бизнес дальних факториях. Фрахтователь заинтересован максимальном контакте и развитии перспективы». Вот и стали мы при исполнении дипломатической и коммерческой миссий. Далеко заехали. И смех и грех.
Ночь прошла как на приеме великого посла: питье, фрукты горками на больших блюдах, возбуждающий бой барабанов и фигуры вьющихся к небу женщин, в красно- синих отблесках танцующих костров. Миша пел: «Не слышны в саду даже шорохи…». И плакал как нормальный русский мужик в горьком запое. Но говорил связно, командами. Я понял, что лучше всего он владел командами. Совершенно без ошибок и акцентов произносил: «в походную колонну шеренгой по четыре равнение на середину — запевай!» и сам пел, подражая голосу великой певицы: «…Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти…» и опять плакал. О чем он думал? Что вспоминал? Что он запомнил на многосуточных перегонах поезда через Урал и Сибирь под маршевый ритм «Любовь, комсомол и весна!»? Великий кормчий реки и народа. С сердцем на восемь счастливых жен.
С рассветом погрузились на судно. Мишиных гостей и спутников было человек двести. На грузовой палубе растянули полотняные навесы и расстелили бесконечное многоцветье ковриков. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Миша на мосту, как и подобает лоцману. Грустно подождал, пока снялись с якоря и развернулись против течения, взял из флажного шкафчика сигнальный флаг большого размера, расстелил его в правом углу, разулся, опустился на колени лицом к восходящему по носу солнцу, и забылся до самого обеда в скупой на слова мусульманской молитве. То лоб на ковер, то ладони к небу.
Река петляла между кустарниками и большими деревьями. Сужалась. Разливалась под самый горизонт. Только цапли, буйволы и одинокие деревья стояли в ней на дрожащих в плывущим солнечном мареве тонких ножках. Стадо антилоп гнали два пастуха-мальчика в набедренных повязках на черных худеньких тельцах. Антилопы и мальчики, по щиколотку в затопившей долину воде, равнодушно глядели на судно, петляющее меж деревьев, на шатры и навесы меж леерных ограждений и мачт, и продолжали свой путь, будто видели это по десять раз на день. В одном месте река снова входила в русло, сужалась и делала крутой поворот между глиняными откосами, на одном из которых стоял слон. Он стоял не шевелясь, когда судно проходило в тридцати метрах от него и волны заплескались между бортом и берегом, не находя себе места бежать дальше. И земля зашуршала с откоса в воду. А слон стоял.
За другим поворотом река будто кончилась, переполненная таким количеством оранжевых птиц, сидящих на воде, что дед потянулся к телеграфу и испуганно спросил «Тормозить? — Нет!». И нос судна вошел в розовое оперение и стая начала подниматься, закрывая бак, солнце, небо тысячью хлопающих и шелестящих крыльев, мешая обзору, пряча реку и берега. «Куда править? — крикнул матрос. — Брось штурвал! Судно само чувствует середину потока. Не бойся. Лоцман продолжал лежать головой в коврик. У него был трудный день и большая ответственность. Он был кормчим своего народа. Судно пошло вправо. Или стая ушла влево. Река открылась. Только на обед он прервал молитву с мудростью вечного студента: «Дорого яичко в своем желудке. — И спросил ласково: я бы бульончик с курочкой очень захотел…». Пообедав и выпив чашечку кофе на мостике, снова помолился и просто уснул, смяв коврик-флажок своей широкой щекой и раскинув босые ноги с розовыми подошвами.
Было к пяти вечера, когда открылось пространство, будто судно входило в гигантскую чашу. Горизонт расширился, медленно, дымчатым маревом приподнимаясь в небо. Шли полным ходом по зеленой реке, меж горящими розово-фиолетовыми цветами на ветках густого кустарника, растущего прямо из воды. Пахучего. Сочно зеленого. С громадными черными птицами, сидящими на далеких деревьях и спинах стоящих в воде буйволов. Живописный поселок на взлете лесистого холма открылся неожиданно. Запахло дымом. Навстречу судну неслись по реке пирόги с людьми, гружеными горками фруктов. Усталой птицей полетела над рекой мелодия барабана и песни. Сидящие на палубе, высунулись из-под навесов, облепили поручни лееров, кто-то стал подпевать и барабаны на нашей палубе тоже заговорили на чужом языке.
— Держи ближе правому берегу, здесь глубже и нет затонувших деревьев, — неожиданно трезво скомандовал Миша, стоя босиком на флаге-ковре и показывая рукой направление, — здесь родина моей невесты. Им понравился мой приезд. Хорошая весть бежит быстро. Красивая девочка ждет твоего Сашу.
— Какого Сашу?
— Сэконда. Красивый мальчик скоро будет мужчиной. — Да ты что, Миша. У него девочка в Одессе.
— Настоящий мужчина имеет большое сердце. Большое сердце не обидит женщину. — Сел на флаг и начал обуваться и думать о предстоящих хлопотах.
Ночь простояли на рейде. Палуба очистилась. Все, во главе с Мишей, ушли на берег. Слава богу, а то устали мы от гвалта, суеты и улыбок, как можно было бы устать только при проходе Суэцкого канала, например. Немного отоспались. С рассветом Миша вернулся на борт, скомандовал «сниматься» и, прилипнув толстыми губами к кофейной чашке, занял место на правом крыле. Речная экспедиция продолжалась.
Мы благополучно дошли, загрузились, снялись в обратный путь. У поселка невесты Миша опять нас покинул, чтобы догнать у выхода в океан. Белую мою фуражку примерил, с прощальной тоской воскликнув выученную фразу: «Прощайте девочки, мы были из Одэссы!», попросил просто: «Подари!» — я подарил.
Без хорошего знания местных условий плавания идти через бар с грузом и без лоцмана было рискованно. Двое суток прождали Мишу на подходе к бару. Стали забывать суету, крики и перспективы кровных уз в семейном социализме. На третьи сутки получили слезную просьбу-указание фрахтователя, рискнуть преодолеть бар, так как вся река парализована свадьбой и других лоцманов не будет. А груз ждут срочно.
Почитали лоцию. Посмотрели в натуре. Рискнули. Прошли. На тебе! Миша догнал. Что нужно? Или стал на тропу войны?..
Тридцатиметровое чудище с двумя навесными двигателями и пулеметом на носу резко крутанулось и мягко приблизилось к нашему правому борту, уравнивая свою скорость с нашей. Миша прыгнул на борт, придерживая полы халата и фуражку. Быстро поднялся на мостик и широко распростер руки:
— Здравствуй, капитан! Узнаешь Мишу. Снова женился. Праздновать надоело. Еду хулиганить. Водка есть, капитан? Шучу, капитан. Не надо водка. Я тебя арестовываю. Не сейчас. Отвезешь груз, вернешься ко мне. Будем другую свадьбу гулять. Твой Саша и моя Маша женить будем. Ай, молодец! Я не углядел. Ты не углядел. Они углядели. «Синица в руке… бревно в глазу… шумел камыш, деревья гнулись…».
— Ты чего придумываешь, Миша?
Саша поднялся на мостик, будто ждал за переборкой и подслушивал.
— Говори. — Обратился я к сэконду.
— Чего говорить? Она сама пришла.
— Когда?
— Когда на рейде стояли.
— А ты что?
— Вы же сами говорили: «Молодая кровь флота… Русские эскадры оставляли матросов по туземным островам, если те находили любовь…».
— Так ты любовь нашел?
— Она говорит по-украински.
— Что говорит?
— Мой коханий, мой миленький, чи не хочешь мий вареник…
— Что не хочешь?
— Вареник.
— С глаз моих вон! Молодая кровь. Это дурная кровь играет, понял!?
Сэконд кивнул головой и смылся. Дед смеялся в бороду. Миша радовался:
— Я подарки экипажу привез. От моей новой жены мамы. Еле догнал вас. Мы теперь родственники. Надо помогать друг другу. Папа сказал, пароход останется фрахте сколько я захочу. Разбойники не бойся. Пулеметы не бойся. Это мои пулеметы. Дырка прости — шутил просто. Союз был, калашников-автомат всей Африка дарил. Если тебе плохо — стреляй. Тебе хорошо — от радость стреляй. Все и стреляют. Никогда не поймешь — от чего? Русский свистеть, когда денег нет. Зачем свистеть, когда «калашников» есть? Ты обязательно приходи. Бизнес будем. Планы будем. Родственные узы обязательно будем. Как ВПШа. Что мне подаришь?
— А что ты хочешь?
— Дай флаг, на котором тогда молился. Подари Мише. И еще должен что— нибудь подарить. Следующий раз. Как по-русски говорить: «Плати дважды, лучше будет не скупой?».
— Скупой — платит дважды, — поправил я.
— Нет, капитан, Миша лучше плати дважды. И ты лучше плати дважды.
Рассмеялся, сверкая улыбкой, как самым дорогим бриллиантом. И пошел походкой президента африканской жизни и мужа восьми счастливых жен. Непредсказуемый, яркий, лукавый и верный, готовый убить и миловать. Этакий Пугачев. Отелло. Переросток- студент в цветном халате. Босой. И щедрый.
Морская кровь
Здесь можно найти очень красивые африканские приключения — предупреждал агент, когда назначал нам встречу в баре «Звезда Востока», и закатывал свои черные маслянистые глаза таинственно, как выныривающий перед вами крокодил. Живот агента при этом пытался танцевать.
Мы уже почти час ждали его появления.
Женщины — африканки, пакистанки, филиппинки, китаянки — входили с улицы и уходили из бара с клиентами, такими же, как мы моряками. Портовый бар был полным отражением жизни и порядков самого африканского города. Здесь все понимали друг друга с полувзгляда. Назначали цену и торговались. Платили и получали деньги. Предлагали товар, не пряча и не стесняясь. Не стараясь замечать или отвлекать вас без вашего намека или вопроса. Пили, смеялись, обменивались взглядами, танцевали, соблазняли, обкуривали, уводили. Пожалуй, могли и убить даже кого-то за соседним столиком, когда никто бы не смотрел в ту сторону. Если бы это не нарушало общей гипнотизирующей атмосферы тропического вечера, в меру охлажденного кондиционером и пивом, или разбавленным виски со льдом, музыкальной мелодией и редким кружением пар. Здесь был свой порядок и свои правила нарушения этого порядка. Подходить к столикам разрешалось только официантам. Даже дамы, интересующиеся клиентами, подходили по приглашению пальцем или кивком головы. Визит к столу незнакомого мужчины, как правило, сулил неприятности одной из сторон или обоим. Короче говоря, в этом баре был устойчивый колорит остроты ожидания и непредсказуемости событий.
И то и другое оправдалось вполне.
Ожидая агента, мы вспоминали друзей и курьезные случаи морской жизни. Вспомнили Гену-боцмана, добряка и работягу, с неизменной присказкой «Что такое? Что такое?», с которым случился форменный психологический сдвиг в памятном рейсе с дынями на палубе, сильно шевельнувшими, помнится, возбужденное мужское воображение всего экипажа…
«Что такое? Что такое?», — совершенно неожиданно среагировала юная африканка за нашими спинами. — Вы — русские? Вы знаете боцмана Гену? «Что такое? Что такое?». Мне нравится Гена. Я знаю по-русски «что такое» … Я люблю Гену…
— Это интересно. Как вас зовут? Где и когда вы видели Гену?
Она с готовностью пересела к нам, стараясь подчеркнуть, что не ищет клиентов. Только тело ее гибко изгибалось в движении и округлые груди, будто наполнялись магнитной энергией, привлекая наши глаза и пошевеливаясь под тканью облегающей блузки, когда девица усаживалась за наш столик. Губы, казалось, смеялись над нами, дразня кончиком языка меж двумя жемчужными рядами зубов. Похоже, она просто одурманивала нас, и верить ей было нельзя. Но грудь и улыбка делали свое дело, и мы были согласны обманываться. Говорила она на смеси английского с русским:
— Меня зовут Элизабет.
— Шоколадная Элизабет? — спросил самый горячий из нас.
— Шокирующая Элизабет — ответила она и продолжала. — Может быть, это не ваш Гена. Но это мой Гена. Он большой и добрый. У него на руке, вот на этом месте, — показала на запястье, — маленький якорь и слово «Одесса». Он из Одесса. Вы знаете Одесса?
— А здесь у него щербинка, — уточнил дед и поднял палец к своему рту, обнажив верхние зубы.
— Я не знаю, — ответила Элизабет. — Я его не видела до того, как ко мне прицепился один клиент, которого я не хотела. Гена проходил мимо и остановил его. У клиента была компания. Завязалась драка. Нас всех забрали в полицию. Я там его разглядела и говорила с ним. Но у него уже не было двух передних зубов. Он стеснялся и прикрывал рот ладонью.
— Нормальная история. Когда это случилось?
— Два месяца назад.
— Что было потом?
— Два дня он сидел в тюрьме, пока я заплатила выкуп и забрала его.
— Потом?
— Потом было ужасно. Ему не нравилось, что я платить за него в полицию, а у него нет денег, чтобы вернуть мне долг. Элизабет тоже не любит долг. За меня защищать ни один мужчина. Ни разу в жизни. И я не совсем проститутка. Я студентка. Учусь в университете. Мой папа имеет хороший бизнес в Гане. Папа платит мои расходы. Но я должна иметь мою жизнь и мои деньги. Я должна немного работать сам. Каждая женщина может сам…
— А где теперь Гена?
— Он хотел отдать долг. Их судно давно стоит арестованное. Денег не платят. Уехать в Россию нельзя. Нет денег и нет документов. Он подписал контракт с местной компанией, получил аванс, чтобы вернуть мне долг, и ушел на рыболовном судне под Конакри. Я поняла тогда, что он подписал бы любой контракт, только бы вернуть мне эти проклятые деньги! Но я должна была ему помочь!
— А там документы не нужны разве?
— Это русские хозяева. Все знают друг друга. Но русские хозяева всегда обманывают своих моряков. Я говорила — Гена мне не поверил. Я узнавала, это очень плохая компания и плохое судно.
— А как называется компания?
— «Звезда Востока», как этот бар. А судно не имеет названия. Компания имеет больше двадцати судов. Это старые русские, китайские, французские фишботы и траулеры. Очень старые. Они уходят и никогда не возвращаются.
— Погибают, что ли?
— Нет. Погибают только люди. Работа и малярия. Их никто не ищет. России нет. Они никому не нужны.
— Как это — России нет? А мы откуда? Как это — никому не нужны? Ты чего говоришь, девочка?
— Все так говорят.
Она сказала это так обыденно, что возражать стало бесполезно. Мы забыли, что она проститутка. Забыли, что ждем агента. Не думали уже, что ее Гена может оказаться совершенно незнакомым нам. Но он был уже нашим. Потому что отдавал долги. Помнил честь. Был моряком. Русским. Незащищенным. Это мы понимали.
Покой в баре нарушился приходом большой компании, видимо, с одного судна. Худенькие улыбающиеся корейцы, человек восемь, и двое наших, то ли с Украины, то ли русские. Какая разница? Наши. Бывшие соотечественники не бросаются друг к другу на шею при встречах на чужбине, только кивнут или спросят коротко: «Славяне? Давно с Родины? Удачи, братишки…» Эти тоже наметанным глазом заметили нас, обменялись взглядами, но пошли своей компанией.
Южно-корейские траулеры и тунцеловы заскакивали в порт на сутки — другие, для смены экипажей или ремонта оборудования, работали на причалах от зари до зари, руками перебирая многотонные сетевые куклы, стальные тросы в руку толщиной, донные грузы и разноцветные поплавки. Контракты у них по два-три года, выход на берег редкостное благо, которое берегут крупицами.
Эти ребята времени не теряли. Сразу забегали официанты. Заняли места на указанных коленях или на стульях рядом выбранные компанией девушки, и веселье началось в темпе опаздывающих на самолет.
Элизабет сходила куда-то по своим делам, вернувшись, пояснила:
— Большой корейский траулер пришел из Чили. До этого работали под Антарктидой. Уходят утром. Под Кергелен. Двое русских — второй помощник и электромеханик. Расплачиваться будут все вместе, уже сделали заказ почти на тысячу долларов. В баре зажглись огни и яркая вывеска «Звезда Востока» с неоновыми фигурами девушек на неоновом фонтане улыбающегося от удовольствия неонового кита. С момента появления большой и дружной компании бар перестал быть отражением мафиозного порта. Ибо это был не просто бар-забегаловка типа «Первый и последний бар», из тех которые начинают улицу к воротам порта или заканчиваются рядом с ними, смотря «откуда-куда» идешь. Это был бар, приют, базар, хранилище и бутафорская крепость, где тайны, желания и традиции торговались как питье и застолье. Здесь был лишь один Бог — океан, одна монета — удача, одно время и один закон — время моряков. От греческой триремы, арабского самбука, испанского галеона, немецкой подводной лодки или учебного парусника. Это было вечно качающееся и кочующее знамя республики моряков, всех наций, оттенков кожи и цвета глаз, искусных или однобуквенных татуировок, с одинаковым будущим в воспаленных глазах: дверь дома, волна, смерть друга и снова — волна или бутылка пьянящей радости… И черный лоснящийся полнотой и удовольствием бармен смотрелся одноглазым дьяволом. А яркий джаз-банд танцевал, гремел, завывал трубой и пел мелодией плачущей львицы, словно последний раз в жизни.
Наконец-то пришел наш агент, полный шоколадный сенегалец с крокодильим аппетитом в маслянистых глазках. Сразу начал извиняться за опоздание, отсутствие времени, лопотать об адских муках работы — все это чередовал повторяющимися просьбами купить что-нибудь в подарок его жене и детям, а ему самому — бутылку хорошей водки и блок «Мальборо». Глянул в сторону гуляющего экипажа, небрежно поясняя:
— Много русских моряков застряли на африканском берегу. Русские чиновники продали и флот, и экипажи. Теперь другие русские скупили эти суда и основали по мелким портам закрытые колонии, где русских охраняют африканцы с «калашниковыми». Документов ни у кого нет и нельзя убежать или вернуться легально. Чиновники во всех странах теперь научились воровать по-русски: «политики в свой карман», — заключил агент явно услышанной где-то фразой и виновато улыбнулся, будто просил извинить его.
Корейско-рыбацкое застолье набирало обороты. Стали очевидны лидеры — одетый во все черное (брюки, рубашка, черная шляпа под кино-героя) кореец и белокурый полноватый наш парень, с улыбкой и висящими усами пройдохи хохла. Чувствовались определенные традиции компании, знать сидели не первый раз. Говорили на смеси корейского, английского, русского, не особенно заботясь о понимании. Но говорили от души, от души раскланивались и улыбались. Произнеся тост, выпивали стоя и начинали разноголосо петь либо известный вальс «На сопках Манчжурии», либо «Катюшу». Это было как восточный обмен любезностями. Ритуал. Первую песню пели кто словами «Тихо вокруг, сопки покрыты мглой…», а кто бодрым мычанием мелодии, при этом каждый старался дирижировать руками. Вторую песню, страшно уродуя произношение слов, старались воспроизводить на русском языке: «Расцветали яблони и груши…» Старались. Но хохол, видать, и в море и за столом не прощал халтуры и входил в азарт:
— Учитесь, кореезы! — Радостно кричал и обнимал рядом сидящих друзей- корейцев. — Камсамида3, корееза-сан! Учитесь, мореманы! Если выучите все слова правильно — я плачу за сегодняшний стол!
— Мы платим! — поддержал второй славянской наружности. — Потому как моряки — эта лучшая нация!
— Это смесь всех времен и племен человеческих — вместе! — подхватывал первый.
— Together! Месте! — кричал улыбаясь и показывая вверх большой палец кореец в черной шляпе.
— Всем запоминать слова: «Ой, ты, песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед и парнишке в море безграничном от Катюши передай привет»… Не «ясы соце сед», а «ясным солнцем вслед». Солнце — the Sun — Ке по-корейски, понимаешь? Давай, мужики, еще раз… — не унимался хохол.
Получалось то хуже, то лучше. Кореезы улыбались и тоже радовались. Смеялись при словах про оплату, но понимали и поддерживали настроение:
— Drink! To us — from ocean! To ouers best condition — together! To Catyusha!4 «…пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет…».
— Молодцы, кореезы! — стонал вислоусый и обнимал корейца в шляпе, которая сначала сдвинулась на затылок, потом упала, оголив лысину «кино-героя». — Катюша — это моя родина. Россия — Корея, понимаешь? Моя мама. Девушка моя — Катюша. Понимаешь, мастер Ли?!
Мастер Ли тоже расчувствовался и повторял:
— Катюша-Корея… Катюша-мама… Девочка моя…
— Камсамида, мастер Ли… За Корею и Россию.
Восточные люди понимают слово «Родина» и пьют за нее. Как мы.
Когда компания пела, джаз банд пытался аккомпанировать и выражать всяческую симпатию. Товарищ вислоусого хохла поднялся в очередной раз, нащупал глазами джазменов и показал руками и пальцами клавиши и меха воображаемой гармони. Те поняли и притащили откуда-то настоящий баян, может проданный за стакан водки загулявшим славянином, а может забытый в угаре моряцкой драки. Товарищ присел, тронул меха, пробежал пальцами, и знакомая мелодия заплакала по-русски: «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали, товарищ мы едем далеко — подальше от русской земли…» Корейцы тоже понимали смысл песни про оставленную родину и «напрасно старушка ждет сына домой…» Вислоусый поднял тост: «За мам». Все встали и выпили стоя. Кореец в шляпе долго говорил на корейском и потом запел соло.
Все слушали молча. Песня напоминала мелодией нашу есенинскую грусть: « Клен ты мой опавший, клен заиндевелый…». Девочки-проститутки сидели смирно, грустили и чувствовали вместе со всеми. Будто жили одну жизнь. Кто-то успокаивал, целуя. Кто-то гладил или смотрел в глаза, пытаясь унять моряцкую боль. Этот бар стал заплеванным чистилищем грешников и молитвой смертных. Только смертные молились, поднимая бокалы с разбавленным виски и роняя пепел с обгоревших сигарет. А грешницы расстегивали морякам вороты летних рубах и целовали загорелые груди и шеи, шептали слова на непонятном языке, унося в поцелуях угасающие блики сознания, печали, восторга…
Тогда баянист рубанул меха, а вислоусый подхватил песню: «Распрягайте, хлоопцы, конив… а я выйду в сад зелений…». Вдруг чистый девичий голос подхватил с улицы: «…В сад криниче-еньку ко-опать…». Вислоусый встрепенулся, как конь на привязи, но бежать уже не нужно было, ибо девица явно русского происхождения вошла в бар и остановилась, выискивая глазами. Сколько нашего народа раскатилось и растерялось по странам и континентам, как яблочки по траве. Да только известное дело про «яблоко от яблоньки недалеко падает», а славянская душа одна только умеет тосковать по родной стороне, и голосу, и славянскому понятию слова «попутчик». Когда и собака у ног, и скрип колодезного журавля в памяти, и песни мелодия, и собеседник за столом случайный — все это попутчики нашей жизни. Маленькие крылышки любви и грусти. Как глаза славянской души. Вислоусый встретил ее вопросительный взгляд и показал рукой напротив себя, где понятливый кореец уже подставлял ей стул и приглашающе улыбался. Умеют восточные люди улыбкой заменять слова и сближаться мгновенно. Женщина, было ей лет за тридцать, полнолицая, загорелая, с живым белым цветком в черных волнах роскошных волос, смотрела на вислоусого, как на долгожданного родственника, где-нибудь средь дороги, ибо никого не замечала более. Он сам налил себе и ей водочки. Подал. Пододвинул тарелку с рыбой: «Звеняй, бо нема ни огиркив ни сала». — Поднялся над столом: «За дом, та дивчину в ем». — Улыбнулся ей и оба выпили, медленно, продолжая поедать друг друга глазами. Она хватала ртом воздух, в поисках подходящей закуски, но он осмелел, протянул руки и обнял ее: «А чи не лучшая закуска — поцелуй?!», — и она только засмеялась в ответ и подставила губы. Крепко и любя. А когда он отпустил ее — трудно было тянуться через стол — она упала на стул и заплакала, лицом в ладони. Это была хорошая минута. Понятливые джазмены заиграли аргентинское танго и пары потянулись из-за столов…
Ночь подходила к концу. Мы давно присоединились к компании корейцев и соотечественников. Потому что есть это славянское слово «попутчик». Есть это человеческое понятие «помочь и облегчить душу». А чем ее облегчить? Рассказать про опустевшие родные причалы, города без света, женщин-челночниц и таможенные кордоны на Керченской переправе? Не нужна эта правда позорная. Не поможет душе. Но не можем без слов о политике. Сидит в нас этот ген — ответственности и боли. И мы колупаем его, как гнойную рану, пока не пойдет кровь:
— Почему Севастополь отдали?
— Да что Севастополь, когда целую страну, как семью, разрезали: брат — в Казахстане, сестра — в Прибалтике, могилы родителей — в Крыму остались…
— Демократия! Теперь достаточно, чтобы «адвокат шустрый попался», а «честь и совесть» — теперь не в моде.
— Нет потому что такого субъекта — «родина», есть — «государство». Государство чиновников и политиков. Они его кроят и обрезают, подгоняют под себя, как костюмчик. Плох будет — другой найдут…
— На Кипре.
— Ты тоже не дома.
— Я дело свое знаю и делаю. И только «при деле» я нужен и семье и стране, если об этом речь. И себя не уроню.
— Ты из дома ушел, потому что там тебе копейки платят.
— Там ничего не платят. А я — мужик. Мне семью кормить надо. И ждать, когда государство обо мне вспомнит, не буду. А если в чем отдельно от него выгляжу, так это оно меня изжевало и выплюнуло. И меня, и тебя. Только без нас это и не государство уже, а свалка. Дурное место. Безрадостное и пустое пространство. Оно обескровило без нас. Жить перестало. Как океан, когда был бы, представь, без чаек, рыб и кораблей. Мы — кровь!
— Резон.
— Каждый живет свой вариант. Выбирает свой риск. А когда меня просят родственники: помоги устроиться. Помоги уйти на контракт. Помоги получить сертификат. — Плати деньги, — говорю, — учись, получай сертификат. — А где гарантия, что я получу контракт и верну деньги? Это же риск!? — А риск будет всегда, — отвечаю: уйти на контракт — это еще не значит получить деньги, получить деньги — это еще не значит, что довезешь их домой, потому что и таможня, и рэкет, и собственная глупость. А привез домой — новые проблемы семьи уже их, считай, израсходовали. Так что, объясняю, риск в нашей профессии будет всегда. А шторма, корабли-«калоши» 5 или малярия в тропиках — это мелочи, норма. Как говорил наш капитан: за все приходится платить: зубами, волосами, нервами, семьей… Деньгами, когда они есть, конечно, — это самая дешевая плата. И никому не буду помогать от этого риска увиливать.
— Согласен.
— А риск есть у каждого. У шофера, бухгалтера, у строителя, под кирпичом падающим… Только я выбираю — море. А что там, в этом море, со мной происходит — это мое. Не трожь!
— Согласен!
— И этот мандраж, когда весь как струна вытянут, и нервы звенят и вот-вот лопнут — это мне как чечетка души. Как второе дыхание. Как ген! Ген нации! Отличающий нас во Вселенной. Как «ура!» или «авось!» Как русское «занюхать корочкой!». Да с огурчиком бочковым! Да чихнуть «на здоровье!» Да уши надрать, чтобы отрезветь в момент. Народное средство и проверено — народом! Чувствуешь ген в себе? Конгломерат! Не можем мы затеряться. Не имеем права. Права не имеем — пропасть и сгинуть. Не пропадем! Хрен им пройдет! Мы — умнее! Талантливее! Мощнее! В нас, в каждом, крупицы души Менделеева, Пушкина, Разина, Теркина… Широта и размах, как степи на фоне гор. Ген — смеяться и выживать. Возрождаться! Мыслью и делом. Как в Штатах, представь, есть Одесса, Москва, Петербург! Будем жить, мужики!
— И дай бог — с родиной!
— Ох, любишь красиво говорить! Родину ему. Пей, давай.
— А за женщину?!
— Конечно.
— А за моряков?
— А за пароход?
— А за…
«Мы вернулись домой, в Севастополь родной…», — потянул кто-то. Корейцы пели свое. Мы — свое. Шоколадная Элизабет просила спеть какие-то Генины песни, про «красивых девочек» и про «птичку». Первой песней оказалась «Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь».
Вторую песню угадать не удавалось. Ребята слабели. Оркестранты собирали инструменты. Бармен устало протирал фужеры и пялился в экран телевизора. Братья корейцы устали, и кто ушел к девочкам, а кто спал. Девочки не расходились, отрабатывая присутствием предстоящую плату. Товарищ вислоусого с трудом выводил на баяне обрывки мелодий. Вислоусый обнимал землячку и говорил громко:
— Ты подывись, Галю…
— Я не Галю, мой хлопче. Я Люба.
— Ой, ты Люба… Люба ты голуба… Приголубе Люба молодца за чуба…
— Умаялся хлопче. Пидем домой.
— Куда ми пидем? Где наш дом, Люба? — И вдруг запел тихо и так душевно, что и корейцы подняли головы и заулыбались бестолково и дружески: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю…».
— Вот песня моего Гены, — залопотала Элизабет. Но она тоже путала уже слова английские, русские и африканские. Да никто и не слушал ее. Все слушали песню: «Чому я ни сокил? Чому нэ литаю?…» — Это песня моего Гены. Он поет ее сейчас и ему плохо. Так плохо ему одному. Без меня. Без товарищей. Без земли. И акула его где-то рядом с ним. Я это чувствую. — Она вспомнила их поход на песчаную косу. Как она плыла и видела акулу рядом, а Гена не видел. Как она отвлекала Генкино внимание, чтобы он не испугался. Он смелый среди людей. Но у него нет тех животных инстинктов, которые еще живут в ней — африканской девочке, внучке старого шамана. Она обязательно должна научить Гену чувствовать и понимать опасность. Животную опасность. Люди цивилизации умеют подключать электричество, летать на самолетах, но они заблудились в вещах, как в супермаркете. И начинают воспринимать жизнь и себя в ней, как картинку в компьютере. А истина в том, что миллионы лет была жизнь. И гены этой многомиллионной жизни, если их не использовать, начинают прорастать в человеческом теле и сознании уродливо, как волос начал бы расти из ладони. Как мужик бы поверил, что настоящая женщина ждет его на каком-то «сайте», а не в соседней комнате. Нет! Элизабет, научит своего любимого, как нужно ходить по Африке, не жмуриться от солнца и не боятся акул. — Девочка утерла слезу, будто почувствовала боль: что такое? Что такое со мной и Геной? Где он? Далеко ли? Жив ли?..
У жизни и человека всегда разная мера и сил, и времени. И надо рассчитать свои силы. Рассчитать свое время. Чтобы хватило определить свой вариант жизни. Определить и одолеть. И чувствовать людей рядом. Как зов крови. Как птицы летят на юг, и возвращаются на север. Как рыбы собираются в стаю. Как зов предков. Как тетива лука, оттянутая назад, чтобы спрессовать энергию и выстрелить далеко вперед. К тому, кто будет читать эти строки, представляя или вспоминая нас… или только мечтая о кочующем в океанах Морском братстве.
Еще не вечер
Гена стоял на баке траулера, у брашпиля, в ожидании команд с мостика. Судно лавировало между мелких островков, пытаясь войти в них и спрятаться. С моря вел по нему прицельный огонь легкий береговой катер.
Обычная рисковая ситуация с ловом рыбы в запретных водах. А где здесь не запретная зона? Если весь бизнес построен на том, чтобы продав вчера лицензию на вылов в определенном районе, сегодня объявить этот район запретным, конфисковать рыбу, судно, снасть, арестовать экипаж… Судить, угрожать, штрафовать, заставлять отрабатывать вину бесплатно в море или сидеть в африканской тюремной яме. Вон сколько статей дохода можно организовать вполне законно. Сколько людей оказываются при деле. Одни продают лицензии, другие — аннулируют. Одни отбирают рыбу, другие — ее продают.
Бабахнул последний выстрел из маленькой пушечки сторожевого катера, и траулер скрылся от него за лесистым островом. Солнце уже садилось в океан. Тропические закаты стремительны. И катер не имел светового времени на погоню и поиски в опасной рифами прибрежной зоне. Гена облегченно вздохнул и повернулся лицом к мостику. Именно в этот момент маленький снаряд перелетел через крону деревьев и звонко — даже заложило в ушах — взорвался в глубине ходовой рубки. Там сверкнуло. Судно резко пошло в сторону рифов и острова. Палуба под Генкиными ногами полезла вверх, и он вынужден был ухватиться за рукоятку стопора. Но движение судна замедлилось, из машины выскочили оба югослава-механика, ухватились за планширь, и широко раскрытыми глазами взирая на задранный к небу бак, буквально поползли по планширю и палубе вверх, к носу судна. Корпус заскрипел и заскулил совершенно по-щенячьи. Что-то металлически лопнуло внутри. Траулер начал сползать кормой в воду, медленно, пока на поверхности не остались лишь пеленгаторный мостик и наклоненная мачта, да бак, от палубного среза до правого клюза, одинокого, как виноватый глаз. На темной вечерней воде заплясали жировые пятна, и плавал оранжевый жилет, Бог знает, когда и какими путями попавший к ним. На судах Компании спасательных средств не предусматривалось. Кто-то, с бака не было видно — кто именно, прыгнул в воду и поплыл к оранжевому спасению. Все происходило очень быстро, но сознание фиксировало события заторможено: маленький снаряд лишил судно управления, оно напоролось на риф, и корпус наполнился водой в считанные секунды, как распоротая консервная банка. Собственно, тридцатипятилетний корпус и был уже давно консервной банкой. И поддерживался на воде лишь стараниями экипажа — старика капитана из бывшей советской Литвы и лысого одессита чифа, двух югославов и одного молдаванина механиков, русских тралмастера и боцмана, да восьмерых темнокожих матросов- рыбообработчиков.
Темнокожие братья первыми покинули борт и дружно поплыли к берегу, в темных сумерках змеились по воде серебристые струи от их вяло размахивающих руками тел, пока не скрылись. Югославы-механики сначала поймали всплывшую поролоновую подушку дивана с мостика и, только держась за нее, рискнули плыть, благоразумно рассудив, что ночной прилив все равно все накроет и что утром это место могут обыскивать посланцы с катера.
Капитан был мертв. Старый литовец сделал за свою жизнь двадцать восемь рейсов в Атлантику на всех типах рыболовных судов. Последний советский рейс затянулся на долгие четыре года. Было ли это прежнее прибалтийское госпредприятие или частная фирма — на борту толком не знали. Работали. От Канады до Кергелена, от Намибии до Антарктического полуострова. Долго не мог получить расчет, наконец, заплатили. В аэропорту Буэнос-Айреса узнал от таможенников, что вся его долларовая зарплата за четыре года, полученная им у представителя компании (молодой человек с безупречными манерами и московским выговором) в новеньких стодолларовых купюрах, что должно было составить безбедную старость и утешение семье — все это было фальшивой бумагой. Хорошо еще, что был в карманах некоторый запас мелочи. Фальшивые деньги он пережил. Фальшь людей, которых он почитал за земляков и товарищей, которым он показывал фотографии своих жены и детей, — этого он переживать не захотел. Вернулся на побережье и пошел опять в море, потому что не знал иного наполнения и лекарства души, кроме морской работы. Он хотел найти прежнее свое судно и прежнюю фирму, чтобы рассказать об унизительных стыде и обиде, но фирма избегала его. И ни одного его, очевидно. Теперь он лежал на мостике старого затонувшего траулера, укрытый полутораметровым слоем прозрачной океанской воды, в меру соленой, и самой родной. Роднее далекой и надругавшейся над ним родины.
Гена доплыл до торчавших из воды верхних контуров рубки. Заглянул в иллюминатор, который медленно утопал с приливом. Старший помощник Витя, моряк в пятом поколении, стоял по горло в воде и смотрел из лобового иллюминатора прямо в Генкины глаза. Взгляд у Вити был совершенно равнодушен. Гена проплыл к приподнятому правому крылу и поднырнул в распахнутую дверь рубки. В темной от сумерек воде он не увидел старика капитана на палубе затонувшего мостика. Только почувствовал что-то тревожно-отпугивающее в глубине под собой. Будто кто-то смотрел на него снизу. Вынырнул под подволоком, поплыл к Вите. Нащупал ногами твердое — штурманский стол. Встал рядом и опять удивился равнодушному взгляду чифа и нелепой позе. Снова нырнул, пытаясь осмотреть и ощупать Витины ноги: обе поломанные голени белели в черной воде разорвавшими кожу костями, ступни придавило сорвавшимся с крепления радаром. Гена освободил их. Витя застонал и одновременно Гена почувствовал запах крови, расплывающейся по воде от ног раненого. Вспомнил об акулах. Обнял Витька левой рукой и потянул к выходу. Нужно было подныривать, чтобы оказаться на свободе. Гена зажал двумя пальцами нос товарища и этой же ладонью сдавил ему рот. Второй рукой придавил вниз его голову и сам нырнул, сразу пытаясь нащупать освобождающейся рукой верхний срез двери и торопясь пронырнуть в него. Вдвоем. Получилось немного неуклюже и, наверное, опять больно, потому, что Витька забил своими руками, как курица крыльями, когда ей пригнут голову. Вынырнули. Отдышались, держась за козырек мостика. Поплыли к баку. Генке казалось, что плыли целую вечность и он, было, испугался, что в темноте проплыл мимо и они уже далеко от судна, но в этот самый момент буквально выполз щекой и плечом, больно ободрав кожу, на палубу бака. Срез уже был под водой, прилив делал свое дело. Вспомнив об акулах, Гена вытащил товарища из воды полностью, омыл и перетянул кровоточащие его ноги фалом от якорного шара, не нужного теперь. Смыл кровь с палубы. Южная ночь уже сияла тысячью звезд, и было совершенно невозможно определить направление на берег. Голова немного кружилась, и мысли путались. Вдруг вспомнил, что ел только утром, и было бы не плохо нырнуть на камбуз. Но это глубина не менее четырех-пяти метров и лучше дождаться рассвета, все равно в темноте ничего не нащупать, да и страшно в черной воде. Слава богу, что не было холодно. Витю он своевременно укрыл брезентовым чехлом с брашпиля и тот спал в беспамятстве.
Гена вспомнил Элизабет. Девочка из «Звезды Востока». Конечно, как у всех других девушек из бара ее настоящее имя было другим. Ее звали Нойми. Это потом, когда она выкупила его из полиции, и они пришли к ней домой, она ему призналась. А когда он пришел первый раз в бар и увидел, что двое держат ее за руки, а третий выкручивает ей губы толстыми пальцами, он просто полез на рожон. Он еще не видел ее лица и ласкового эбонитового тела, будто наэлектризованного чувственным магнетизмом. Не видел ее улыбки. Просто мужской рефлекс сработал: бьют — надо защищать. Но когда она пришла в полицию и его вызвали на свидание к ней, он просто обалдел от ее обаяния и не знал, куда спрятать свой дырявый окровавленный рот. Полицейские парни давились от смеха, показывая на него пальцем. Но это лишь первые минуты, пока она не крикнула на них, зло и громко, как на уличных собак. И они, странное дело, присмирели и посматривали теперь с интересом и некоторой завистью. В ее голосе и манере держаться были независимость и врожденная гордость. Ее дед был шаманом, и она умела держаться среди людей так же естественно и непринужденно, как кошка. И глаза у нее были кошачьи. И кошачий изгиб спины, когда она протягивала руку к нему и спрашивала в темноте: «Ты в порядке?». Она и в нем будто разбудила звериные чувства. Он стал слышать полет ночной бабочки. Он звериным взглядом останавливал взгляд птицы, когда она, пролетая за окном, нечаянно видела их, лежащих друг у друга в объятиях. Он стал ощущать ночное время по звездам, будто жил на земле тысячелетия прежде. И она жила рядом. Он запомнил тот день, когда она повела его на берег океана. Показала рукой:
— Там, — махнула небрежно, — остров вольных женщин. Когда-то туда приходили пиратские парусники, прятать добычу, покупать женщин, собирать новые экипажи. Мужчины громко кричали, грозили друг другу, убивали друг друга, пока женщины, которые правили островом, одурманивали мужчин, отбирали у них все ценное, и выгоняли опять в океан, на опасный промысел и разбой. Судили и правили. И остались жить в городе, который сами построили на золото пиратов, тех самых, которые думали, что именно они «гроза океанов», но которым не нашлось ни приюта, ни места у этих стен. Потому что они были дикими.
— А я?
— Ты? Ты — мой. Смотри! — На бегу сбрасываешь одежды. — Делай как я! — И вместе бегут они, обнаженные, в волны ленивого океана. Плывут. Целуются и ласкают друг друга на плаву. Устало переворачиваются на спины. Вдруг она приближает к нему лицо и шепчет, прижимая палец к губам. Он не понимает, но следует за ней к берегу. Она кружит вокруг него, подталкивая на мелководье. Встает и выводит его на песок. Обнимает и целует. Опять шепчет что-то таинственно, но опять Гена не понимает этих слов и смысла. Тогда она поворачивает его лицом к океану, и только теперь его пронзили одновременно догадка и страх: совсем близко, по их растаявшему на воде следу, кружат две акулы, белобрюхие в прозрачной воде, одна странно косит глазом и улыбается полуоткрытой пастью.
— Не бойся, — говорит Элизабет-Нойма, — у каждого человека есть своя акула. Она ждет только его. Это не твоя и не моя акулы. Мы не нужны им.
— А как ты узнала? Почему не испугалась?
— Африканец не боится умереть. Африканец боится потерять друга. Я всегда буду чувствовать и оберегать тебя. Где бы ты ни был…
Гена очнулся. Витя пришел в сознание и разговаривал сам с собой:
— Я в пятом поколении моряк. Два прадеда и дед в Одессе похоронены. Отец на подлодке погиб.
— Давно очнулся? Нужно тебе жгуты ослабить.
— Не нужно. Быстрее отмучаюсь.
— Брось дурить. Утром нас подберут. Доставят тебя в госпиталь.
— Какой госпиталь, боцман? Это Африка. У меня открытые переломы обеих ног. Ослабишь жгуты — продолжится кровотечение из порванных переломом сосудов. Я и так уже потерял кровушки. С рассветом припечет солнце. Захочется пить. Всякая тропическая зараза ускорит процесс. Так что, думай о себе, друг. Тебе надо с рассветом плыть к берегу и подальше уходить от этого места. Акул не бойся — с отливом опасные твари уйдут за риф.
— Я тебя не брошу.
— Со мной не будет забот утром. Я о себе позабочусь.
— Утром нас снимут аборигены или полиция.
— Помолчи. Дай сказать. Никому не рассказывал. Пять лет в Одессу не возвращался. Придешь — поклонись за меня Дюку. Мне без него грустно. Кому-то нет разницы, что терять? А меня учили: с кем — «вместе». И каждая потеря, как отрезанный палец. Я такое понимание уважаю. В католический храм заходил, свечки ставил. И в мечеть заходил, Бога молил. О чем? Бог с аллахом рассудят. Ты помнишь, как пахнут акации? Как звучит скрипка на еврейской свадьбе… Жаль, что я не научился играть на скрипке. Сколько моряков по чужим землям лежат. Так и написано на камнях и крестах: «Здесь покоится русский моряк».
— Рано ты умирать собрался. Погоди, Витя…
Но раненный уже начинал бредить. Тело его лихорадило. Гена наклонился и ослабил жгуты. В темноте было видно, как по палубе потекла кровь. Лоб чифа был горячим, и тело мелко трепетало, ослабевая. Только голос еще узнавался:
— Люблю песни украинские. Спой мне, друг. Спой мне, когда я уйду: «Дывлюсь я на нэбо, тай думку гадаю». И прости меня. И простят пусть меня на родной земле… А дома у бабушки сейчас цветут яблони. Ласточки гнезда вьют. «Чому я ни сокил? Чому не литаю?..» То украинские слова или русские? Нет разницы. Нет границ в человеческой душе. Всю жизнь меня учили жить, но это было легко — жить со всеми. Самым главным оказывается умереть — это приходится самому… Ты слышишь, дружище, кто-то гребет веслами?
— Тебе показалось.
— Гребет. Стань повыше на бак, послушай. Может, и увидишь их.
Гена засомневался, но встал и сделал несколько шагов к борту, перегнувшись через планширь, всматривался в темную воду. Только звезды отражались в них, да шевелилась, искрясь фосфорицирующим блеском, медленная большая медуза.
— Ничего не слышно. И не видно, — сказал Гена, продолжая всматриваться. Повернул назад. — Тебе это показалось, Витя. Или ты сам придумал?
Витя не ответил. Он уже не имел времени и сил и спешил все сделать сам, оберегая товарища. Последнее напряжение оказалось для него совсем безболезненным. Наверно, душа отделилась уже от тела и не чувствовала его боли. Поэтому боцман ничего не услышал, когда руки одессита уперлись, бесшумно сталкивая собственное тело с палубы и из жизни, оставляя товарищу теплый брезент и полную свободу на пути к берегу… Гена испугался неожиданной тишины и ускорил шаги. Он скорее почувствовал, чем увидел: Вити на палубе больше не было.
— Витя! Витя-аа! — Заорал Генка. Наклонился к самой воде, стараясь уловить малейшее движение струй. Витька был где-то рядом. Видел его? Следил за ним? Где? Откуда? Разве — с неба. Генка задрал голову и будто по самые плечи вошел в звезды и закричал снова: «Витя-а!» Небо молчало. Стало страшно и холодно. Застучали зубы. Рядом с бортом плеснулась большая рыба. И снова все стихло. Генка опустился на пустой брезент, и слезы покатились самопроизвольно, как капли дождя. Он вспомнил последнюю просьбу друга и беззвучно повторял над бескрайней могилой: «Я б зэмлю покинув, тай в нэбо взлитав…»
Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, он уснул. Но и во сне он мысленно просчитывал каждый предстоящий шаг к берегу. Витя был прав. Уходить надо быстро и по возможности далеко. Компания не прощает беглецов. Траулеры потому и работали с минимальным запасом топлива, чтобы не могли уйти. И продуктов никаких не было, кроме пойманной рыбы, банки соли и литра кокосового масла, да бочонка с водой, которые подвозили им каждый день охранники на моторных лодках. Они же и курсировали вдоль берега, контролируя работу добровольных рабов и пресекая любые пути к побегу. Полиция тоже была в доле. Он должен многое учесть и суметь, если собирается выжить. Добраться до берега — это только полдела. Но на этой половине нужно полностью сосредоточиться. Потом — будет время сосредотачиваться на другом.
До рассвета просидел молча, кутаясь в брезент. Когда небосвод начал светлеть и запели первые птицы, сразу определилось направление, и Гена медленно погрузился в воду. Решительно оттолкнулся и поплыл. В воде стало легче. Так как все страхи вмещались в ограниченное пространство, которое ощущал каждой клеточкой энергично работающего тела. Он и акулу почувствовал вибрацией воды под самым животом, и только потом увидел всплывший впереди плавник. Она сделала большой круг. Совсем так, как это обычно описывают наблюдатели. Гена задержал дыхание и погрузил голову, стараясь разглядеть на расстоянии приближение смерти. Но акула опять пронырнула под ним и опять пошла на циркуляцию, лениво помахивая над водой треугольным плавником. Гена вспомнил, как несколько лет назад они стояли на рейде Адена и самые молодые и дерзкие прыгали с борта, торопясь выскочить из воды на трап быстрее, чем трехметровые ленивицы, в двадцати-тридцати метрах от судна, повернут в их сторону. Сам пробовал несколько раз, испытывая шокирующее возбуждение от собственного страха и криков товарищей. Игра прекратилась мгновенно, когда акула вынырнула одновременно с прыгнувшим смельчаком, которого буквально выдернули на трап, и он только спрашивал с истерической улыбкой: «Как мы ее не заметили?»…
Когда акула в третий раз поднырнула, и тугая подводная волна от ее морды упруго шевельнула под живот, боцман озверел и нырнул ей навстречу, выставив обе руки и растопырив пальцы. Глаза ее оказались совсем близко, и он рванулся достать их и вырвать, но дыхания не хватило, и он только выдохнул в морду весь запас воздуха, громко вспузырившегося, и всплыл, совершенно готовый к схватке. Он даже забыл, что не может дышать под водой! Он стал зверем. Беспощадным. Голодным. Злым! Он нырнул еще несколько раз, вращая головой во все стороны и пытаясь высмотреть чудовище. Видимость была достаточной, но акулы не было. Вынырнул. Огляделся. Нырнул снова и опять вынырнул без добычи. Акула ушла. Он продолжал плыть. Равномерные движения руками из стороны в сторону и навалившаяся усталость наполнили его безразличием и апатией. Солнце поднималось все выше. Прошло много времени, когда он сообразил, что берег уже близко, а акула больше не появится. Снова зашептал в уши страх: «Что может составить ему опасность теперь? Чего он не видит или не знает? К чему надо быть готовым? Кто поджидает его впереди?». Несколько раз пробовал нащупать ногами дно. Разглядывал песчаный обрыв, большое зеленое дерево с торчащими прямо из моря кустообразными корнями. По корням ползали мелкие красные крабики. Гена коснулся этих корней ладонями, корни оказались скользкими. Крабики разбегались и следили за ним круглыми глазками. Ощутил дно ногами. Коралловый песок был очень шершавым и жестким. Когда вылез на обрыв и увидел широкую песчаную отмель, за которой начинался девственный лес, снова поднялся и сделал несколько шагов. Мысли были только абсолютно практические: «До наступления дневной жары надо уйти в лес. Больше всего боюсь змей. С людьми можно выжить. Надо искать речку. Какой жесткий песок. Надо чем-то обмотать ступни, чтобы след не кровил и не привлекал зверя. Как далеко по этому песку мне идти домой, но я дойду… Яблочку до яблоньки — не далеко…».
Сердце колотилось бешено. Перед глазами плыли радужные круги. Он вспомнил уроки девочки-шаманки: «Если хочешь пройти лес и остаться живым — ощути свою прежнюю жизнь. Кем ты был раньше? Спроси себя. Ты был рыбой? Ты был пауком? Ты был пантерой? Спрашивай себя и слушай, что говорит тебе твое тело».
Элизабет кладет свою ладонь ему на грудь и спрашивает:
— Ты помнишь, как журчит вода? Ты хочешь пить? Как ты подходишь к реке? Ты оглядываешься? Кого ты боишься?
— Я боюсь змеи.
— Хорошо. Значит ты не змея и не крокодил. Ты не рыба. Может ты — обезьяна? Нет, я чувствую, как напряглись твои мышцы от этих слов — ты хочешь биться и готовишься к схватке. Ты крупный и опасный зверь. Может быть, ты — человек. Ты самый сильный. Ты видишь глаза хищника в листьях дерева? Не смотри на него. Тебе нет нужды драться с ним. Ты идешь мимо. Иди мимо. Только не подходи близко и не подставляй спину. Остановись. Осмотрись и восстанови дыхание. Постарайся услышать, как шелестит трава под телом скользящей змеи. Не бойся ее. Она тебя видит и скользит мимо. Не делай резких движений. В лесу много того, что может лишить тебя жизни. Но самая большая опасность для тебя — ты сам. Слушай и контролируй себя. И другие почувствуют сразу твою силу, и будут обходить тебя. Сила заключается в том, чтобы чувствовать себя, слабого или сильного. Так выживает все живое. Научись жить в равновесии с самим собой, таким как ты есть. Обезьяне не стать львицей, а слону не лазить по деревьям. Дедушка-шаман говорил просто: «Попугаи живут попугаями, змея только ползает и шипит, огонь может быть большим и страшным, а вождь племени не ходит походкой пастуха коз…».
Гена давно уже шел под большими деревьями какой-то звериной тропой, и внезапное чувство заставило остановиться. Свисающая в двух шагах справа древесная гадюка скользнула на нижнюю ветку и утекла по ней желто-серебристой струйкой. Мохнатый паук в паутине ожидал жертвы. Ветка впереди продолжала качаться, будто с нее только что взлетела птица. Но птица не взлетала. Он бы услышал ее крылья. Глаза стали буквально прощупывать каждый лист и лиану, отделяя траву от ее тени, а блик света раскладывая на спектры. Слух обострился так, будто каждая клеточка кожи была сонаром. Головка змеи появилась рядом с плечом, но и змея — слушала. Воздух вибрировал комариным полетом и слоился потоками разной температуры и запахов. Генка увидел: за большим деревом стоял африканец в камуфляжной форме. Гена потеснил плечом ветку со змеей, косясь на нее одним глазом. Змея не шевельнулась. Он тенью протиснулся под нее и листья, уполз в сторону. Выглянул, разглядывая лицо противника: человек спал, облокотившись на ствол дерева, автомат торчал из-под руки, как палка. Первым желанием было — напасть и отобрать оружие. Голос Элизабет сказал совершенно отчетливо: пройди мимо. Он замер. Двигаться было нельзя, но и долго сохранять неподвижность — тоже невозможно. Гена продолжал поглядывать на змею. Осторожно начал наклонять ее ветку к другой, уходящей под ноги спящего. Змея приподняла головку и глаза ее встретились со взглядом боцмана. Несколько мгновений они смотрели один на другого, потом — змея отвернулась и заскользила с ветки на ветку, в сторону спящего. Оттуда, из листьев и теней взмахнула крыльями птичка и уселась над головой. Спящий открыл глаза и резко ударил ногой. Целый рой звуков, будто ветер вздохнул, разбудил чащу. Кто-то побежал по воде совсем близко. Стая обезьян запрыгала в макушках деревьев, и над головой неслись визг и шуршанье потревоженных листьев. Голос окликнул со стороны на непонятном языке, и Генин сосед в камуфляжной форме выпрямился, потер лоб ладонью, и только тогда ответил длинной и монотонной речью кому-то за деревьями. Потом он двинулся в сторону напарника, продолжая что-то бубнить, будто разговаривал сам с собою, и шаги его громко отдавались в Генкином сознании, как утихающий сигнал отзвучавшей тревоги. Потом стало слышно, как двое рубили кусты и листья, удаляясь, и боцман, совершенно не рискуя быть услышанным в этом шуме, пошел, сохраняя безопасную дистанцию, но и не теряя противника. Теперь у него были и его тропа, и позиция, и явно обозначенный враг. Он почувствовал свой кураж: «Держать удачу, как говорил капитан! — шептал боцман. — Еще не вечер», — и зло сжимал губы.
Побег
«Опасность!» — мелькнуло в сознании. Но было уже поздно: тугая петля в траве подсекла ногу, и тело мгновенно перевернулось в воздухе, подлетев и повиснув в трех метрах над тропой. « На такой глупости попался, дурак!» Шедшие впереди охранники продолжали свой путь, ничего не услышав. Наверное, они знали о капкане и обошли его. А может, заметили и обошли. А он — Генка-боцман! — не заметил. «Что такое? Что такое?! Сколько теперь висеть? Час? Два? Сутки? Спокойно. Нож висит на поясном ремне. Вынуть нож из кожаных ножен, изогнуться и достать петлю левой рукой, правой — пытаться резать. Скорее, пока голова не затекла…» В тот же миг увидел под собой двух чернокожих, деловито растягивающих под ним тонкую сеть. Эти были другими — без автоматов и униформы, в шортах и босиком. Один — палкой — выбил из его руки нож, другой — проворно за что-то дернул в листве, и Гена упал в сеть и был мгновенно завернут в нее: «Однако, — успел подумать, — отработана техника». Чернокожие просунули в петли сети длинный шест, вскинули на плечи, и Гена заболтался под шестом в такт шагам носильщиков, как обезьяна в веревочной клетке. «Обезьяна и есть, — продолжал рассуждать мысленно. — Тупой. Теперь только смотреть. И запоминать. Дорогу. Приметы. Приемы ловцов. И ждать».
От ритмичного покачивания и затекших рук-ног стало убаюкивать. Но комары облепили лицо и оголенные части тела, попискивая и покусывая. «Малярию бы не подхватить». Ловцы торопились, почти бежали по еле видимой тропе. «Торопятся. Или скрываются». Минут через двадцать вышли на берег узкой протоки. Небо над головой все еще не просвечивалось, закрытое плотной кроной деревьев.
Боцмана в веревочной клетке бросили на землю. Сами нырнули в траву и вытянули оттуда, направляя в воду, небольшую пирогу. Положили в нее пленника и соскользнули сами, на ходу, один сел на носу с шестом, другой сзади, успевая подгребать коротким веслом. «Ловкие парни», — отметил боцман.
Протока быстро расширялась. Лес прорезался. Показались небо и солнце. Все стало светлым и ярким. Гена приподнял голову, стараясь лучше видеть. Носовой оглянулся на него и сказал что-то певучее кормчему, тот плавно вынул весло из воды, приподнял, так что веер сверкнувших на солнце капель рассыпался над пленником, и резко ударил по голове. Гена отключился.
«…Кажется: работает судовой двигатель. Покачивает». Открыл глаза: свет палубной лампочки освещает корму и кильватерную струю, убегающую в темноту. Он сидит в узкой деревянной клетке. Еще три стоят рядом. Две — пусты. В последней — сидит и смотрит на боцмана, не моргая, полуголый соплеменник. «Люди в клетках смотрятся грустно», — машинально подумал.
— Живой? Ну и, слава богу. — Сосед заулыбался и показал на свою щетину: — неделю не брился уже, представляешь? Все отобрали гады. — Гена молчал, медленно приходя в себя и прислушиваясь к добродушному голосу. Сосед продолжал: меня на пути с парохода в аэропорт взяли. Думал, что закончились мои приключения и через пару дней буду дома, но не судьба. У них этот бизнес торговли моряками хорошо налажен. Меня Николай Лукьянович зовут. Можно просто — Лукьяныч. Из Туапсе. Точнее — был из Туапсе. Теперь я здесь — старожил. Третий год. На этот борт уже четвертый раз попадаю. А ты?
Гена хотел ответить, но получилось одно мычание и боль во рту.
— Помолчи, если больно. Успеем наговориться.
— Гена потрогал рукой лицо и зубы, во рту было одно крошево. И боль.
Сосед сострадательно пояснил:
— Ты, когда тебя вывалили на палубу в веревочной сети, оказалось, зубами ее погрыз всю. До дыр. Это без сознания-то! Ну, туземцы и поработали веслом по лицу и телу, чтобы вещи не портил. Терпи казак. Злость есть — это хорошо. Но зубы береги. Вообще себя береги. И характер, главное, на показ не выставляй. Умнее будь — сиди в панцире, береги зубы. Ты же моряк? А у моряка панцирь, как мозоль, как десятая шкура нарастать должен. К друзьям притираешься ли, к каюте привыкаешь, с семьей не порядок — вот мозоли и шкуры твои. А что в клетку посадили — так дикий народ потому что, Африка. Ты уж прости. С юмором относись. Дикий народ. Но будет, что на старости внукам рассказать. До внуков-то тебе далеко еще, жить да жить. Или с корешами за пивом, представляешь, воблочку разломишь и небрежно так: «Дааа, — протянешь, — когда в Африке в клетке сидел, так пивка захотелось». — Будут, будут еще и друзья, и пиво с воблой. Не кисни. И не возражай. Помолчи. Тебе отлежаться надо… Я, можно сказать, соскучился по разговору. А сам с собой поговоришь разве? Это все равно, что пить в одиночку. Не модно. Не по-морскому. Нам сейчас без трепа никак нельзя. Понимаешь? Моряк без трепа, как краб без клешни. Всякое дурное положение имеет одну, как минимум, положительную сторону. Какую, спросишь? Клетка? Зато есть время поразмыслить. Очень способствует философствованию. Была у тебя такая возможность последние месяцы? Точно отвечаю — нет. Иначе не попал бы сюда. Посиди, оглянись, вспомни и подумай, где и почему ты поступил как пацан. Очень наглядно демонстрирует сидение в клетке человеческую глупость. Кто нас сюда загнал? Сами. Ты же сам в море шел? Просился, наверное? Может, и взятку давал кому-то? Поверь, земляк, по себе сужу. Здесь тысячи нашего брата, а послушаешь, что говорят — так одно и тоже. Того дядька обещал устроить на хороший пароход, но надо сначала на плохом сходить. Тому брат «золотой рейс сватал», но сертификата одного не хватило. Этого на такой хороший контракт звали, но английский учить надо было. Ловчили «проскочить на шару». Проскочил? Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот и вся философия… Философствовать, делаю я первый мой вывод, хорошо в кабинете или гальюне. Факт. Второе: философствовать лучше молча. А то — какой резон громко и красиво обосновывать аргументы своей правоты, сидя за решеткой? Чего ты там, спрашивается, оказался, если такой умный? Третье, как в старом анекдоте про обезьяну и банан, знаешь? Обезьяне экспериментаторы палку подсовывают и говорят: думай, как банан с ветки достать… А обезьяна палку отбросила: чего думать, говорит, когда дерево трясти надо! Вот это для нас, которые мозолями думать привыкли. Молчи, копи злость и силу. Отсыпайся, пока время есть… Спишь что ли? Молодец. Спи… Спи парень. Выберемся.
Гена попытался задуматься, но было устало и безразлично, и сознание снова поплыло в приятные воспоминания и голос Элизабет: «Гена, я тебя люблю. Я никогда не целуюсь в губы. Секс — это секс. А поцелуй — это любовь. Мне так нравится целовать тебя в губы. Хочешь пить? Я тебе принесу в клювике, как птичка, хочешь? Подставляй губы, русский мой…» — Сама набирает в рот из чашки и наклоняется к его лицу. Целует в губы. Он чувствует, как маленький ее язычок просится к нему в рот и следом приятная влага перетекает из нее в него. Ласково. Становится тепло и уютно. Он расслабленно улыбается. Что такое? Что такое?..
— Открывай! Открывай рот! И глаза открывай, хватит придуриваться!
Гена открывает глаза, медленно осматривается: утро, судно мерно раскачивается на широкой зыби. «Значит, вышли за риф. Стоим на якоре или лежим в дрейфе. Голова работает, значит — жив».
Волосатый кавказец в спортивных трусах, сидел перед ним на корточках и промывал ему лицо обрывком старого бинта, периодически смачивая его в палубном ведре. Вода была горько-соленой, океанской.
— Очухался? — голос кавказца потеплел. — Я тебя так долго жду, слушай.
— Неужели? Попить дашь? — спросил боцман.
— Конечно. — Протянул пластиковую бутылку с мутноватой жидкостью.
Гена припал к горлышку и выпил все, не отрываясь.
— Спасибо. Почему не нарзан?
— Шутишь? Молодец. Привыкаешь.
— К клетке?
— Зачем клетке? Ты где, слушай?
Гена осмотрелся. Клетки стояли за спиной. Он лежал на палубе. Теплой и вздыхающей, как грудь живого существа. Родного.
— Ты на борту. Как дома почти. Ранки прополощи морской. От заразы.
— Губы болят. И зубы… — попробовал улыбнуться.
— Не беда. Не морщись. Пару дней морской водой пополощешь, ушицы попьешь, все пройдет. Гоша меня зовут. Георгий. Из Сухуми. Сухуми знаешь?
— Бывал. До перестройки.
— И я — до перестройки. Теперь там война прошла. Знаешь? Дома нашего и нашей улицы нет. Трава и камни. И людей нет. Я земляка встречал, он рассказывал. Слушай, все вместе жили. Грузины, мегрелы, абхазы, греки. Как соседи, как родственники жили. Эти политики, слушай, брата с сестрой врагами сделают, если на этом заработать можно. Я в море ходил, чтобы заработать. Отец мой — кирпичи клал, строил. Брат — баранку крутил, слушай. Эти политики — чем зарабатывают? Войной. Бог видит? Почему не накажет? Здесь тоже порядка нет. Такая земля красивая. Как Сухуми. Мы на супере6 стояли под берегом. Ночью. Я на вахте был со вторым7. На шлюпках часто местные подходили, закурить, воды попить. Почему не дашь? Дашь. Зачем плохо сделали? Как они меня в шлюпку сняли? До сих пор не понимаю? Представляешь? В яме сидел, в клетке был, ногу вот, — показал левую ногу, бугристо и неправильно изогнутую и покрытую грубыми шрамами, как чужой кожей, — крокодил изжевал. Но не по вкусу оказался, слушай, — засмеялся сквозь короткую бороду. Глаза были веселые.
— Может не по зубам крокодилу морской народ, — улыбнулся в ответ и протянул руку. — Меня Гена зовут. Боцман. Одесса. — Обменялись рукопожатием. — А где мой ночной сосед по квартире?
— Лукьяныч? На камбузе. Проворный мужик. Не пропадем.
— Что за « корыто» 8?
— Бункеровщик. Экипаж сборный. Пересыльная тюрьма. И карантин. От малярии. С берега — сюда. Отсюда — продают на траулеры. Можешь удачно попасть. Может, и деньги платить будут. Может, и домой попадешь.
— А ты — чего же застрял?
— Три раза убегал, слушай. Последний раз до самого аэропорта в Дакаре добрался. А документов нет. Поймали, вернули.
— А деньги где брал?
— В компании платили. У меня в советских9 сумма была не малая.
— В каких?
— В советских, — Гоша сам засмеялся. — Представляешь, мы, дураки, и подумать не могли здесь, что Союза-то нет, значит и денег советских нет. Ты мог себе представить, что Союз развалится? И я не мог. А нам компания исправно в советских платила. Могли мы подумать, что нам туфтовые деньги платят? Советские, но туфтовые? Никогда не могли. Смехота. Дурные были.
— Мы же верили.
— О чем говоришь, слушай! Как можно обмануть было? Грех! Мамой клянусь!.. О, Лукьяныч идет — завтрак будет…
Лукьяныч осторожно нес кружку. На голове была пилотка из старой газеты. На голом животе подвязан кусок цветной ткани — фартук. Остановился в двух шагах:
— За освобождение из клетки надо было бы чего покрепче, но — прошу извинить. За неимением. Ушицы глоток, больному. Рыбу любишь?
— Он из Одессы. Боцман. Геной зовут. Мамой клянусь, — ответил Гоша за больного и сам потянул руку. — Пробу снять. Положено. — И первым глотнул из кружки.
— Ты, я смотрю, парень не промах. Гене оставь. Пробуй, Ген, не стесняйся. А минут через десять приходите завтракать. Команда уже ест. Мы сегодня, как вновь прибывшие, в последнюю очередь.
— Гена оглянулся на три пустые клетки за спиной:
— Снова не посадят?
— Здесь работать надо. Зря не кормят. Работать не будешь — самого на приманку используют. Коммерческий поток. — Лукьяныч снял пилотку, протер ладонью седой пух на лысине, продолжил, — пока не высовывайся особенно. Гоша позовет тебя, когда надо будет. Основная работа ночью. С ним в паре на шланговке будешь. Работа не сложная. Жить можно.
— А бежать?
Лукьяныч глянул на Гену, потом на Георгия, усмехнулся, взял в руки палубное ведро с остатками воды и, резко развернувшись, выплеснул за борт. Продолжал держать пустое ведро и смотрел на пенистые брызги, которые медленно таяли на волне. — Смотри! — Метрах в пятнадцати от борта приподнялся плавник. — Видишь треугольный перископ? То-то. Со шланговки тебя не продадут куда попало. И сам будешь видеть многое, потому что на палубе. Старайся больше знакомиться, говорить, спрашивать. Нам смотреть и выбирать ситуацию — самое важное. Пошли завтракать. — Сам пошел впереди, походкой «не пастуха коз». Утром он был не похож на себя вчерашнего.
Гена не удержался и тихо спросил Гошу:
— Гош, а ты Лукьяныча давно знаешь?
— Встречались.
— А он кто?
— Как кто?
— Повар? Капитан? По профессии — кто?
— Может и капитан. А может и повар. Но главный. Мамой клянусь…
Лукьяныч оказался старпомом с большого морозильного траулера, захваченного местными властями и угнанного куда-то на продажу. Часть экипажа сняли с борта и распределили по судам, обеспечивающим местный рыболовный бизнес. Хорошие специалисты получали зарплату и даже отпускались с деньгами домой, если по дороге им удавалось избежать других криминальных группировок, как правило, владеющих информацией и возможностями, чтобы перехватить «вольного счастливчика» и вернуть на «свое» судно. Капитанами судов, формально, были назначенные из людей охраны. Работу выполняли плененные специалисты. Лукьяныч был за главного на бункеровке и мостике. Капитан-охранник только следил за повиновением, с виски и сигаретой в руках, и пистолетом в поясной кобуре. Гена увидел его в деле на третий день. К вечеру.
Заканчивали бункеровку малого траулера с закопченной тряпочкой вместо флага и замазанными иероглифами на носу. Это был восьмой или девятый с начала суток. Трал они взяли на борт перед самой швартовкой, и африканцы на корме траулера продолжали сортировать рыбу из вываленной на палубу кучи. Два механика, оба африканцы, следили за шлангом, воткнутым прямо в открытую горловину топливного танка. Технология бункеровки была упрощена до безобразия, чтобы залить двадцать тонн в максимально короткое время: двадцать пять-тридцать минут. До конца суток ожидалось еще два-три «рыбака». Крупная зыбь раскачивала суда, и приходилось держать швартовые концы и бункеровочный шланг свободно, чтобы суда не сближались и не сталкивались бортами. Свисающие с бортов и два небольших плавающих на воде кранцев, предполагали защиту от возможных навалов, но грозили зажать шланг, который, в этом случае, мог лопнуть и выплеснуть топливо на палубы обеих судов и в воду. Первое грозило пожаром. Второе — загрязнением моря и уходом рыбы. Лукьяныч сидел на монифолде10 у бункеровочного счетчика и держал на коленях переносной пульт дистанционного управления насосом. Швартовые команды на баке и корме оставались в готовности и следили за концами.
Капитан траулера наблюдал за бункеровкой из рубки.
Капитан-охранник бункеровщика, прозванный почему-то сухопутным словом «шакал», вышел на крыло мостика, высматривая что-то на траловой палубе «рыбака». Крикнул капитану траулера, который немедленно прокричал по-своему на корму. Африканцы-тральцы, перестали возиться с кучей на палубе и наперегонки бросились выбирать по сортировочным ящикам, затребованный с бункеровщика сорт рыбы, покрупнее и лучше. Нашли несколько, в отдельном ящике, на двух концах «телефоном»11 начали передавать посылку с борта на борт. Все следили за успехом операции. Вздохнули облегченно, когда подбежавший повар бункеровщика принял рыбу и выразил свой восторг. Старший тралец повернулся к капитану-охраннику и, заискивающе улыбаясь, прокричал просьбу дать сигаретку. Все заинтересованно замерли. Стало слышно, как плещет меж бортами вода, скрипят кранцы, кричат чайки, всегда особенно многочисленные и наглые, когда выбирают трал и придавленная рыба в избытке плавает под кормой. «Шакал» поставил свой стакан с виски на планширь, на минуту ушел в рубку, вернулся на крыло с пачкой сигарет, целой и завернутой в целлофановый пакетик, оглядел всех, испытывая ожидание, взял снова стакан и на его место положил приготовленный подарок. Сказал громко: «Это — после бункеровки. А пока — вот!» — и выпустил неожиданно, как фокусник из горсти, три сигаретки. Наверное, так бы смотрели на падающие с неба долларовые бумажки. Сигаретки крутились в воздухе и падали между бортами. К ним тянули руки оба механика у горловины со шлангом, к ним бежали тральцы с кормы, скользя на рыбной слизи и падая. Один из рыбаков-механиков поймал первую, подхватил в полете вторую, но не смог удержать и рухнул под ноги напарника. Оба повалились на шланг, который мгновенно выскочил из горловины, упруго ударив в фальшборт. Голубая маслянистая струя плесканула по палубе и надстройке. — «Стоп! — сам себе крикнул Лукьяныч, вжимая кнопку « стопа» большими пальцами обеих рук одновременно. Шланг обмяк. Механик, поймавший сигарету, держал ее на открытой ладони и виновато смотрел вверх, на обоих капитанов. Другой ползал на коленях по палубе и вытирал ветошью потеки топлива. Капитан траулера незатейливо выругался и скомандовал передать шланг на бункеровщик и отшвартовываться. Один продолжал лазить на коленях, другой, с помощью двух матросов, передавал на оттяжках шланг. В этот момент «шакал» размахнулся и бросил стакан в сторону механиков. Стакан ударился в надстройку траулера, рядом с механиками, громко лопнув.
— Пожар! — крикнул кто-то, и все увидели, что по надстройке траулера в месте удара стакана, вспыхнула и побежала розово-фиолетовая струйка.
— Горловину закрывай! — крикнул Лукьяныч на траулер. — Сбивай пламя курткой!
Черные тела с траулера начали прыгать на бункеровщик. Кто-то упал в воду. Ползавший на коленях у горловины, упал на нее своим телом, неуклюже подсовывая под себя руками тяжелую крышку и не попадая отверстиями на шпильки. Капитан траулера крикнул: «Отдать швартовы!» — и кинулся в рубку, чтобы отвести судно от бункеровщика. «Шакал» выхватил пистолет и целился в барахтающегося меж бортами.
— Не стреляй! Отводи танкер! — крикнул Лукьяныч. — Гога! Гена! За мной! — и первым прыгнул на качающийся рядом борт траулера. Двое прыгнули за ним. Носовой конец уже был отдан. Кормовой натянулся и некому было потравить на кнехте. Все тральцы-африканцы уже перебрались на борт танкера и смотрели испуганно. — Кормовой отдавайте! Живо! Три якоря в глотку! — Гена и кавказец вмиг отдали кормовой, и суда начали отдаляться. Краску на надстройке и часть палубы лизал огонь. — Рыбу давай! Ящики с рыбой подавай, быстро! — Командовал Лукьяныч.
— Накой тебе рыба? Огнетушитель ищи! — крикнул Генка на бегу к рубке.
— Рыбу! Рыбу давай! — заорал чиф и сам опрокинул ближайший ящик с пересыпанной льдом рыбой на огонь.
Сообразили. Содержимым нескольких ящиков завалили палубу и сбили пламя с надстройки.
— Как оно вспыхнуло? От стакана? Никогда не поверю.
— Главное не огонь, а паника. Паника была — блеск!
— Может он спирт пил?
— Разбираться не будем.
— А вдруг не погасло и рванет?
— Под таким слоем рыбы? — Стоя по щиколотку в рыбе улыбнулся Лукьяныч.
Траулер тем временем отдалился от танкера на пару кабельтов и пошел на циркуляцию.
— Хорошо, что механик успел набросить крышку. А ты — огнетушитель?! Где и когда ты его последний раз видел?
— Да, чиф, ну и голова у тебя. Мастер… Не завидую рыбакам-пассажирам. «Шакал» их живьем в море сбросит, пока успокоится. Везет тебе, Гена? — развел руки кавказец, пританцовывая.
— Что такое? Что такое?
— Побег это, вот что такое, — продолжал тот.
— Какой побег? Танкер вон, рядом.
— А мы возвращаться не будем.
— Так тут свой капитан есть и кто-то еще, наверное?
— Посмотрим. — Лукьяныч направился в рубку.
Капитан траулера, стоял у штурвала и встретил их появление улыбкой и поднятым вверх большим пальцем: «Русские? Калашников — хорошо. Горбачев — хорошо».
— Куда направляешься теперь? — спросил его чиф по-англйски.
— Надо забрать моих людей.
— Мы не хотим на танкер. Мы хотим остаться здесь. На траулере.
— На траулере? Почему? На танкере плохо? Плохой капитан? Стреляет?
— Мы хотим вернуться в Россию. Надо уйти от берега. Надо встретить грузовой пароход и добраться до большого порта. Там есть консул.
Капитан посмотрел внимательно на каждого. Взял в руки микрофон и заговорил на африканском наречии. Выслушал ответ «шакала» и разразился длинным ругательством. Повернулся к Лукьянычу:
— Матрос?
— Капитан, — ответил за него Гена.
Рыбак улыбнулся: «Окей! — и снова закричал в микрофон, одновременно направляя судно в кильватер танкеру. — Смотри! — показал рукой.— Правый борт готовим».
С борта танкера прыгали в воду африканские рыбаки. Траулер сбавил ход и осторожно приближался к ним. Беглецы поняли замысел и спустились из рубки на палубу. Стали вдоль правого борта, свесив до воды обрывок крупноячеистой сети вместо трапа. Капрон резал руки, но рыбаки оказались с мозолистыми ладонями и ступнями ног и достаточно проворно взбирались на палубу. Вид у них был виноватый, и они первым делом снова принялись за рыбу.
— И акулы их не жрут, — удивился Гога, пристально вглядываясь в темные волны.
— У каждого человека своя акула, — заметил боцман, вспоминая Элизабет.
Тропические сумерки быстро сменялись наступлением ночи. Несколько рыболовных судов крутились под берегом. Скоростная моторная лодка с охранниками прошла впереди и скрылась в дымке. Траулер быстро удалялся в океан. Воздух посвежел и постепенно освобождался от береговых звуков и запахов. Скоро только звук судового двигателя и плеск под бортом нарушали ночь. Трое стояли на крыле мостика и вглядывались в темноту. Говорить не хотелось. Каждый думал о своем. Жизнь приучила воспринимать только реальность. Которая так быстро менялась. И заставляла беречь силы.
Кресты и звезды
Корейский капитан мистер Ли оказался порядочным мужиком и действительно вывез их в безопасное место. Маленькая бухта в устье реки была невидима с моря за россыпью мелких островков, густо поросших мангровыми деревьями, и длинной песчаной отмелью.
Население состояло из пары сотен африканцев и десятка корейцев, обслуживающих мелкие промысловые суда, забегающие на день — два для ремонта, пополнения запасов пресной воды, короткого отдыха.
Мистер Ли торопился на промысел, объяснил, что вернется за ними через неделю, что бояться здесь некого, но знакомиться и выживать им придется самим. Лукъянычу, на прощанье, оставил крючки, моток лески и старую кастрюлю без крышки — богатство фантастическое, по их положению полуголых беглецов.
Гоша, в своих спортивных трусах, стал местной достопримечательностью с первой минуты, когда сейнер только ткнулся носом в песок, и волосатый сухумец, не удержавшись на баке, от легкого толчка вывалился по инерции за борт, в прибрежное мелководье. Толпа черных ребятишек повалилась на песок от смеха. Гоша, мигом оценил ситуацию, а он более всего не любит оказываться объектом насмешек. Объектом обожания — пожалуйста. Увидел на песке мяч, вскочил и побежал к нему, пнул ногой, догнал, финтанул вправо-лево, подцепил носком — пяткой, носком — пяткой, над головой, головой, головой, головой… Восторгу пацанов предела не было. Через четверть часа вся деревня знала, что его зовут Гоша, что он — русский из Сухуми — «Сухумрус!», и что на нем растут волосы, как… Уточнений Гоша не любил, но гордился, когда потрогать его кучерявую достопримечательность подходили голопузые пацанчики-африканчики. Проходя мимо женщин, сдерживал шаг, демонстрировал. Потенциал его незатейливого обаяния и организаторских способностей оказался грандиозным. Через три дня в поселке было уже три или четыре футбольных команды разновозрастного состава. В одной команде играть на воротах выходили две девушки, черные как Гошины глаза и ловкие, как кошки.
Лукъяныч, в первый же день, облюбовал каменистую гряду в устье реки и демонстрировал аборигенам и корейцам шашлык из свежепойманной рыбы. К нему тоже потянулись поклонники, посмотреть и попробовать.
Гена, пока Гоша пробивал себе популярность на спортивном поле, пробовал, спекулируя на разбитых зубах и потребности в медицинском уходе, культивировать ниву сострадания и гуманитарной помощи. Народ оказался отзывчивым, особенно, старики и некоторые женщины. Его провели к местному эскулапу, и тот добрых часа два заговаривал, точнее, запевал монотонными завываниями зубную боль пациента. К концу процедуры Гена прочувствовал простую истину: «не умеешь петь — не пей!». Но боль, к удивлению, прошла и захотелось есть. Как попросить? Не умеешь просить — улыбайся! Идиотов везде кормят. Улыбался так, что повели его под пальмовый навес и вполне гостеприимно попытались угостить из медного таза, вокруг которого сидели и стояли человек десять-двенадцать: сгорбленные, полуголые, улыбающиеся и кивающие головами неистово, почти трясясь. При этом худыми черными руками они тянулись к тазу, выбирали из него, соединив пальцы щепотью, мелкие кусочки какой-то пищи, будто выклевывали, как птички. Гена, сохраняя достоинство, с маской-улыбкой на лице, тоже потянулся, отщипнул что-то из общей массы и готов был уже поднести ко рту, но ощутил вдруг живое шевеление в ладони и взглянул на этот комочек экзотического угощения: комочек расползался у него по ладони и пальцам. Вспомнил кем-то сказанную злую шутку: «Поймал мыша — ешь не спеша!». Успел только отвернуться и сделать шаг в сторону — его вырвало. Где тошно, там и рвет, как говорится. Подбежавшие собаки мгновенно слизали с песка пролившееся содержимое человеческого чрева. Есть расхотел. На время.
Когда вернулся на берег к Лукъянычу, объявил категорично, демонстрируя выученный урок в обычной своей манере:
— Я, командир, понял и разделил, как учили: маникюр — медикам, педикюр — педагогам! Вечером делаем танцы. Под аккордеон. На твоих камнях у костра.
— Аккордеон откуда?
— Я в одной хижине обнаружил. Мне там зуб заговаривали, а я деду-заговорщику поясничный массаж сделал, так он мне автомат показал, разбитый гидросамолет в зарослях у реки и аккордеон. Следы французского десанта.
— А ты играть умеешь?
— Я думал, что вы умеете.
— Нет.
— А Гоша?
— Не думаю.
— Может, я научусь? Быстро. Для такого дела.— Гена и впрямь верил, что у него может получиться.
— Для какого дела?
— Для сближения наций и физического выживания.
— А как же ваша Элизабет?
— Так это для выживания. Терапия, можно сказать. Не отвлекаются, любя, — как говорится.
— Стратег. Любя, действительно, не отвлекаются. Некогда.
— Понял?
— Вон вы о чем, Лукъяныч. Понял. — Гена засмеялся. — Так, — как говорится, — любишь кататься — люби и катайся, Лукъяныч? — И опять засмеялся.
— Гляди, как быстро ты ожил. Молодой потому что, наверное, — сам себе пояснил и тоже улыбнулся. — Будем вылезать из этого положения. Как говорят в Одессе: даже если вас съели, у вас есть два выхода…
— Не говори про еду, Лукъяныч! — и Гена побежал в сторону…
Вечером все решилось само собой. Плавник для костра заготовили с запасом на всю ночь.
— Надо костер соорудить, как в пионерском лагере на открытии сезона, помните? «Взвейтесь кострами, синие ночи, мы — пионеры, дети рабочих!». Агитка! Они, как мотыльки на свет, прибегут, — хорохорился Гена.
— Хорошо бы, если с лепешками, да? — подзуживал голодного товарища сухумский футболист, вытирая руки о свои яркие в прошлом трусы.
— Издеваешься? Друзья познаются в еде. — Гена смотрел грустно: опыта у меня не хватает, иногда.
— Опыт, Гена, приходит сразу, как только в нем отпадает всякая надобность. Слышали такую мудрость?
— Ага, слышал. Там еще есть типа «Ничто так не красит женщину, как перекись водорода».
— Шоумен, вы, Гена, как я погляжу, — улыбнулся Лукъяныч. — Просто, звезда шоубизнеса. Но, по существу, выбора у нас большого нет. Как в Одессе говорят: «Улыбка — понятие растяжимое! Чем шире наши рожи, тем теснее наши ряды!». Будем завоевывать место под африканским небом. На море нам путь закрыт, пока. Попробуем вариант с танцплощадкой. Согласен. Даешь, открытие африканского сезона!
— Салют, Мальчишу! «Любишь пить — люби и памперсы носить!», — засмеялся, дурачась, боцман и рванул меха аккордеона. Но туш, даже не очень бравый, не получился. Гена стыдливо обнял инструмент и притих.
— Гена, ты не умеешь играть?! Отдай эту дорогую вещь мне, я же король сухумской танцплощадки.
— Ты?
— Вы, Гоша?
— Вы меня плохо цените. Меня на суператлантике от работы в рыбном цеху освобождали, чтобы я только сыграл и спел. Я в рейс-то пошел на квартиру заработать. Я в море укачиваюсь. — Продолжая говорить, он взял в руки аккордеон, провел, осторожно, по клавишам и вдруг запел, как на сцене в рыбацком клубе, совсем давно: «Тот кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде, в дымке морской города…», — пел он совершенно без акцента.
У Лукъяныча по щеке потекла слеза.
Любвеобильное население поселка приобрело вечернюю танцплощадку, юное поколение — пионерский костер, трое беглецов — музыкальную тоску. По Родине. Как говорится: «Мужчины, женитесь! Женщины, мужайтесь! Юноши и девушки, овладевайте друг другом!»
Талантливый мы народ, хлопцы!
Так прошли десять дней. На одиннадцатый — пришел с моря Мистер Ли, и они сели под тентом на палубе обговаривать условия их предстоящей работы в море. В тот момент и появился длинноногий африканец со шрамами племенной татуировки на лице и плечах, и сообщил тревожную весть: «Русский. Моряк. Болеет. Зовет». Это все, что поняли из сумбурной речи темнокожего африканца. Но это, в принципе, и было главным.
Идти собрались втроем, чтобы не разлучаться. Лукьяныч ковырялся в судовой аптечке, Гена собирал одеяла и инструмент, который мог пригодиться, Гоша упаковывал скромные продукты и наполнял водой пластмассовую канистру. Южнокорейский шкипер, мистер Ли, улыбаясь со дня их счастливого появления на его траулере, одобрительно нахваливал: Калашников — карашо, матрешка — карашо, Горбачев …— оглянулся на Гошу, который учил его новым словам. Гоша подсказал:
— Сука.
— Цука, — повторил мистер Ли старательно.
— Пойдет, — одобрил произношение корейца учитель в спортивных трусах.
— Гоша, чему ты его учишь? В русском языке так много хороших слов. А вы выбираете черт знает что.
— А я, Лукьяныч, ни словам хорошим учу, а политграмоте. Как первый помощник.
— Какой помощник? — вскинулся боцман.
— Первый помощник капитана! — Гоша почесал спину и живот, отгоняя мух, и пояснил: — Нас скоро, может быть, станет четверо.
— Каждая пипетка мечтает стать клизмой, — засмеялся Гена и закончил: — А место клизмы изменить нельзя. Знаешь?
— Не бросай товарища в бидэ-э, ладно? — обиделся Гоша.
— Не в бидэ-э, Гошенька, не обижайся. — Смеялся Гена. — А в беде. Бидэ-э — это в женском туалете, знаешь?
— Нэт. Нэ знаю.
— Извини меня, не хотел тебя обидеть. Просто, настроение почему-то веселое, — сказал Гена, подошел и полуобнял Гошу, — я же тебя люблю, чертяка ты волосатый. — И ты действительно первый помощник в любом нашем деле, живучий ты наш!
Лукьяныч смотрел на них и тоже почему-то не испытывал беспокойства о состоянии здоровья больного, а постоянно ловил себя на радостном ожидании встречи с новым соотечественником. Предчувствие важности этой предстоящей встречи полностью затмевало все возможные опасения. Может оттого, что набор медицинских средств был мизерным, можно сказать, никаким, если дело коснется чего-то серьезного. Вся надежда на то, что само их появление, троих, подействует на больного лучше всякого лекарства. Почему-то они были уверены в своих силах. После удавшегося побега им казалось, что они все могут. Опасений путешествия по реке не было вовсе, будто нервы устали и притупились, неспособные реагировать более на страх и неизвестность.
Сборы заняли меньше часа.
Пирога была небольшой, с мощным подвесным двигателем. Африканец с татуировкой сидел на корме, рулил длинным кормовым веслом. Двое других с автоматами Калашникова сидели на носу. Один из них, время от времени, брал в руки бамбуковый шест и резким движением направлял нос пироги по только ему видимому каналу или отталкивал плывущие по воде бревна.
— У них автоматы вместо столовых ложек, — острил Гена, — в руки взял и, считай, что уже сыт.
— Карандаш во всей деревне не найдешь, — продолжил Лукъяныч, — а автомат вместо толмача, на любом афро-идиотском понятно: пришел, увидел, убедил.
— Конечно, — хохотнул боцман, — заряженному танку в дуло не смотрят!
— А мы не попадем снова в клетки, под этими автоматами, командир? — спросил Гоша, и Генка тоже вскинул на Лукъяныча глаза вопросительно.
— Не думаю. Ли не отпустил бы нас с ними.
— А может, они тоже хотят танцплощадку организовать, — усмехнулся боцман, — слава о нас впереди бежит?
— Эх, — с досадой хлопнул себя по колену «Сухумрус», — баян не взяли, дураки!
Главный на корме посмотрел на них пристально и сделал понятный знак пальцем прикрыв рот.
— Не шуметь, — шепотом перевел Лукъяныч. — Какая-то опасность, видимо, есть.
— У них здесь демократия: кто поспел, того и съели, — хохотнул опять Гена. — Естественный отбор.
— Перерестройка-перестрелка, как у нас в Сухуми.
— Точно. «Кто первым встал, того и тапки», ха-ха! А что по этому поводу сказали бы в Одессе, Лукъяныч?
— Следуя вашему сленгу: пожуем — увидим…
Гена и Гоша подняли вверх большие пальцы, одобряя. Ребята явно восстановились после плена и были в хорошем настроении. Лукъяныч тоже поднял большой палец. Да! Их было трое! После деревянных клеток и долгих унижений бушевала в душе эйфория свободы. Беспредельной свободы и хулиганской веры в собственное «можем!».
Пирога вышла из-под высоких деревьев и, неожиданно, левый берег будто кончился, далеко отдалившись, и пирога оказалась на середине широкой поймы, поросшей мелким зеленым кустарником, с плывущими по воде гирляндами цветов. Кое- где скользили, извиваясь, шустрые змейки. Совсем рядом, плеснула хвостом по поверхности большая рыба, но быстрая вода мгновенно стерла ее след зеленоватыми струями. Лучи солнца уходили под воду, косо изламываясь и сверкая. Резкий свист раздался впереди, и пирога мгновенно повернула к правому берегу, а двое на носу нервно водили стволы автоматов из стороны в сторону. Главный на корме, лицо его было совсем близко, казался вырезанным из такого же черного дерева, как весло в его руках и сама пирога. Лукъяныч вдруг вспомнил и понял, что настораживало его, когда длинноногий говорил свою короткую весть: рот его почти не открывался, губы не шевелились, и слова произносились как будто изнутри лицевой неподвижной маски с тотемными шрамами. «Идол. Точно, черный идол», — мелькнула мысль. — Когда это кончится? Чем? С кем и куда мы двигаемся? С того момента, как развалился Союз и началась перестройка, мир будто потерял равновесие и зашатался. Остановите Землю — я сойду! Куда? «Человек уникален тем, что составляет род массовых убийц», — вспомнил прочитанные когда-то слова12. Словно в подтверждение, с берега раздалась длинная очередь тяжелого пулемета. Но лодка уже разрезала зеленые ветви и вошла в мягкие, ползущие по лицу и телу листья, и только взлетевшее облачко бабочек и мошкары, да несколько закричавших на взлете птиц, выдавали их место и путь. Лодка продолжала двигаться, сидящие в ней пригнулись инстинктивно, защищаясь от веток и свинца. Только кормчий оставался несгибаем. Пулемет продолжал бить, но звук его отдалялся и, наконец, затих. Громче зашуршали листья, и слышно стало, как бурлит вода. Лодка неожиданно ударилась носом в берег. Вооруженный экипаж и белые пассажиры упали на дно пироги, прямо в грязную воду на деревянном днище. Мотор продолжал работать. Лукъяныч оглянулся на кормчего: тот лежал лицом вниз, голова его показалась плоской, потому что затылка не было вовсе, вместо затылка ярко сочилась серо-красная провалина, как миска с кашей и кетчупом. Рука кормчего еще тянулась к движку и пальцы на ней, шевелились, как черные щупальца, каждый сам по себе, затихая. В миску с красно-рваной мякотью упал зеленый листик. Лукъяныч схватил травяную циновку с сиденья и набросил на голову кормчего. Потянулся и выключил двигатель. Стало слышно жужжанье и шорох крыльев, быстрые шаги на берегу, чужие голоса.
По одному, они выбрались из пироги, попав в окружение чернокожих с такими же изрезанными глубокой насечкой лицами, как у кормчего, на которого, кстати, никто и не взглянул будто. Их повели по тропе, едва различимой в высокой траве и кустарнике. Под низким, но раскидистым деревцем сели в тени его. Африканцы молчали, будто ждали кого-то. Трое пришельцев пытались скрыть волнение. Может, и страх. Там, откуда они пришли, раздался монотонный голос, как напев или стон. Плач. Удар в барабан. Медленно. Чаще. Еще чаще. Сплошной барабанный гул, не громкий, но ползущий под душу, как крадущийся к жертве зверь. Трое, казалось, онемели и впали в транс усталого безразличия к происходящему и собственной судьбе. Земля опять крутилась так быстро, что не сойдешь и не спрыгнешь. Лукъяныч первым нарушил молчание и сказал тихо:
— Похоже, придется нам опять играть в подобие героев?
— Зачем? — с усмешкой спросил Гена.
— Чтобы выбраться отсюда.
— Зачем?
— Хотелось бы, дорогие мои, придать хоть какой-то смысл своей жизни.
— Какой у меня смысл, командир? — Гоша виновато показал на разорвавшиеся по боковому шву трусы, почти знаменитые недавно. — Эйфория свободы отлетела в сторону, как те маленькие птички некоторое время назад, взлетевшие над пирогой от пулеметной трескотни.
— Экипаж прощается с вами и желает приятного полета, да? Командир? — боцман оскалил поломанные зубы. — Оркестр играет траурный марш?
— До этого еще не дошло.
— Но может?
— Нет такой плохой ситуации, которая не может стать еще хуже.
— Так какой смысл? Какой смысл, командир, можно придать нашим жизням под траурный марш-барабан?
— Как в одесском анекдоте: «Доктор, я буду жить? — А смысл?»
Гена опять засмеялся и продолжал:
— Я уважаю вашу мечту, командир, добраться до Родины и горбатится на ее благо. Только чего же вы так далеко от нее? За куском хлеба?.. Родине-то на нас наплевать. Мы высыпались из страны, как лишние люди из шлюпки, накренившейся под их тяжестью. Мы — лишние в той стране сейчас. Кто нас ищет? Кому мы нужны? Достоинство мое ни в том, чтобы умереть бомжом на родном дворе, а в том, чтобы выжить самому и достойно обеспечить семью. Для этого мы все здесь. Для этого, по мне, лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Нам так легко укосить в наемники, потому что нас Родина постоянно наемывала!
— Я в два раза старше. Мне на твою народно-политическую обиженность наплевать. Жизнь на обиженных не оглядывается, и бежит дальше. Свой вариант жить надо. Свою жизнь живи, Гена!
— Ну, да. Еж птица гордая: пока не пнешь — не полетит.
Гена повернулся к сухумцу:
— А ты себе какой смысл хочешь?
— Я верю, что вернусь домой.
— Вера двигает горы, она колоссальная баба, слыхал?
— Что ты все шутишь? Разве такими словами шутят? Вера-а? Родина-а? Россия-а?
— От России у тебя одни трусы остались, рваные.
— Зачем говоришь так. Я сам для себя — Россия. И для этих африканцев я тоже — Россия.
— Какая Россия? Ляжем здесь и имен наших никто не узнает. Никто не напишет «русский моряк…», никто нам и крест не поставит.
— Напрасно вы так, Гена, — Лукъяныч тронул его за руку. — Вы вспомните свою сенегалку-подружку. Как вы о ней рассказывали. Разве она, приведи ей Господь родить от вас, не будет каждый день этому ребенку рассказывать о далекой стране и о вас? Можете такое представить?
— Так то Элизабет! Эта девочка меня не предаст. Не забудет. Сенегалочка моя, черноглазая.
— Вот. Так и вы для нее — русский, дорогой. Получается, в каждом из нас, простых смертных, нашей родины, африканской ли — русской, больше и ощутимее, чем во всех политических партиях. Вот и смысл. Жить и выживать. Назло всем демократам и политикам. Что они? Шелуха. Отвалятся.
— Отвалятся. Когда насосутся досыта, да? Политики-пиявки.
— Ты не переживай за них, отвалятся вовремя. У них своя жизнь, а у тебя своя. Зубчатки сцепления с жизнью у вас разные. Тебе с ними за одним столом не сидеть…
— Они из меня душу вынули!
— Так, может душа мелковата, что так легко вынули? Или ты ее рядом с открытой форточкой держал? Любому мелкому домушнику — соблазн. Теперь другую наращивай. Пожестче и злее, Гена. Нельзя отдавать им того, что в душе. Это, — положил руку себе на грудь, — мое!
— Понял, Гена? — Гоша покрутил пальцем у виска, — соображать надо!
— Ага. Звонко шифером звеня, крыша съехала с меня! А ты, Лукъяныч, чего темнишь? Ты на демократов и политиков зубами крокодилишь, не любишь! А они ведь — власть? Закон? Государство твое любимое?
— А для меня, Гена, закон — это еще не совесть. Власть — не отечество. Демократия — кусок дерьма, который обходить надо. Испражнение жизни, которое лишь свидетельствует о том, что все в организме работает нормально. Но пользовать эти испражнения можно только как удобрения на огороде, и то, изрядно перемешав с обычной землей и высушив. А уж наступить ногой — не дай Бог! А у нас что? К любому столу и блюду — пожалуйста: демократия, как рекламная добавка. По мне, больно запах у нее не аппетитный. Не всякому некоторые подробности нашей физиологии показывать. Так и демократия — не каждому судить о ней. Сильно испачкаться можно. Самое дорогое и чистое испачкать можно. Так я думаю. Есть такие слова, Гена, которые сами по себе — бомба. Если к ним, таким словам, каждую кухарку, пацана или голодного мужика допускать — беда! Оружие массового психоза. Это тебе не алкоголь с наркотиком, а мозги вдребезги. Так, думаю.
— Да? Ну, ты даешь, командир. Все по полочкам.
— С наступающим вас опьянением, как говорят в Одессе. — Лукъяныч довольно расслабился, — умом Россию не понять…
— Конечно, — засмеялся Гоша: Полэ Чудэс. С усами… — И безо всякого перехода спросил вдруг: где русский наш? Долго ждем?
— Явно, что-то случилось. — Лукъяныч оглянулся на стоявших поодаль африканцев. — Чтобы узнать перспективу, надо ее пощупать, верно, ребята?
— Как говорил Наполеон: главное — ввязаться в бой.
— Правильно, Гена. А кстати, ребятки, мы чуть от страха не онемели, а им, кажется, и нет до нас дела, видите?
Африканцы, действительно, даже не смотрели в их сторону, были заняты чем-то своим. На поляне собрали громадную кучу хвороста. Барабан бил неистово. Прошло уже часов пять. Бой барабана прекратился и через минуту монотонно поющий голос потянул траурную мелодию. Смысл происходящего стал яснее. Подошел мальчик и позвал за собой. Пошли цепочкой, Лукъяныч — впереди. На поляне высокий черный старик с косматыми волосами протянул им завернутый в тряпицу сверток, длинно объясняя и спрашивая на африканском наречии, поясняя слова жестами. Только сейчас трое увидели, что рядом с убитым кормчим лежит тело белого человека, накрытое такой же травяной накидкой. Лукъяныч развернул принятый от старика сверток, увидел тетрадь, раскрыл: это была тетрадь умершего соотечественника с его записями. Бросились в глаза строки, написанные отдельно и крупно: «…Контракт подписан. Завтра улетаю. Жалею всех, кто не может уехать из этого сумасшедшего пост-советского дома. Еще больше жалею тех, кто, уехав, не сможет вернуться. Мы не можем без Родины. Мне стыдно смотреть в глаза маме…». Закрыл тетрадь. Попытался прислушаться и понять слова и жесты старика. Догадался:
— Они спрашивают, как мы будем хоронить его? Вместе с соплеменником на костре? Или в земле, по-нашему?
— А чего же он не дожил? Мы ведь приехали? — выдохнул Гена.
— Хоть бы слово сказал: откуда? кто?
— Не спросишь теперь, — ответил Лукъяныч. — Так как, христиане?
— Надо место посуше выбрать, на холмике где-то, — Гоша говорил задумчиво, будто сам себе. — Я слышал от стариков дома, что место захоронения должно быть высоко и тихо, чтобы успокаивало и вспоминалось.
— Это верно. Самые ностальгические воспоминания: дом родительский, родительский погост, сирень…
— И первая любовь, Лукъяныч.
— Такие слова помнишь, Гена? — шепотом, от изумления, спросил сухумский друг.
— Не обижайте, Гоша, товарища. Святое у хорошего человека всегда в душе. С собой. Дай-то Бог…
— Я разве?.. — начал Гоша, но только неуверенно перекрестился и пошел за всеми, искать место.
Под большим раскидистым деревом согласно остановились. Листва высоко над головой тихо шелестела, будто шептала, доверительно ласково. Сладко жужжали лесные пчелы, прочерчивая в воздухе волнистые ленты, напоминая далекое и родное. Но большие яркие цветы, смотрели с ветвей, слезясь тропической влагой. И реальный африканский лес обступал высокими стволами и обвисал ветвями, тенями, бликами света. Давил в уши миллионами звуков, одушевляя и шевеля каждый ствол, лист, тень…
Гена взял в руку нож, раздвинул ногой густую траву, присел, потрогал пальцами и ударил землю, вогнав лезвие по самую рукоять. И земля, казалось, вся выгнулась и напряглась, сопротивляясь этому человеку, который не знал точно, кого он должен бить и одолеть, чтобы победить и выжить. И бил эту землю. Вымещая беспомощность, боль, силу и злость? И жажду убить. Кого?.. Обхватил ручку ножа двумя руками и потянул на себя. Плотные корни трещали, распадаясь. Ударил еще и еще раз. И снова потрескивали корни, и трава распадалась, сначала пробором, потом — полосой, квадратом. Запахло сырой землей. И черное чрево стало увеличиваться и углубляться, раскрывая голодный зев…
— А с тетрадью что делать будем? Может там адрес есть? Просьба? — развернули осторожно. Это была обыкновенная общая тетрадь в клеенчатом переплете, в каких обычно ведут свои записи судовые артельщики, или молодые штурмана, или добросовестные курсанты ведут дневники плавпрактики, описывая подробно и события дня, и характеры своих товарищей, и набрасывая письма любимым девушкам. Обычная тетрадь, последняя попытка умирающего придать смысл его короткой и не совсем удавшейся жизни. Без имени и адреса. Голос и душа безымянного человека.
Гоша и Гена, помогая друг другу, копали могилу. Лукъяныч, разложив тетрадь на коленях и водя пальцами по строкам, читал. Никто не перебивал его.
Могилу закончили только к вечеру. Несколько африканцев принесли тело, завернутое в травяную циновку, помогли опустить.
— С тетрадкой что делать будем?
— С ним положим. Это его. Часть души.
Каждый, по очереди, по христианскому обычаю бросил мягкую горсть, «чтоб земля была пухом». Африканцы тоже подошли по очереди к краю могилы и, стараясь повторить в точности, наклонялись, брали горсть влажной земли, бросали, отходили и становились рядом с тремя русскими. Потом все вместе сыпали землю в ненасытное чрево могилы, пока не вырос под деревом рыхлый холмик.
Лукъяныч сказал слово:
— Прости, друг, если сделали что не так. Имени твоего не знаем. Но помнить будем. Прости, прощай… Печальные слова. Бог даст, до дома догрести, поднимем за тебя, по- русски…
Молчали. Свежий холмик стал новой их точкой отсчета.
Куда?..
Возвращение души
Трое сидели у костра молча. Лукьяныч помешивал ложкой в кастрюле. Пахло вареной рыбой. Гена в который раз уже перекладывал плоские камни походного стола. Гоша раскладывал бананы на три кучки.
После похорон соотечественника прошли сутки. Все трое находились в состоянии депрессии. Почти не разговаривали между собой. Не шутили. При этом казалось, избегали друг друга в течение прошедшего дня, но старались и не удаляться далеко, не выпадать из поля зрения.
— У меня глаза от этих бананов зеленые, — сказал Гена без интонации.
— Не ешь, — вставил Гоша.
— Что такое, не ешь? Бананы не ешь, рыбу не ешь… Что такое?
— Гена, — улыбнулся Лукьяныч, — ты чего занервничал?
— Я не занервничал. Я загрустил.
— По девочке-сенегалочке, да? — съязвил Гоша-грузин.
— По дому, — ответил Гена и все опять замолчали.
В африканском поселке сегодня было тихо. Будто и там тоже грустили. Или действительно были эти туземцы чернокожие такими чуткими к чужому горю. Но — факт — даже мальчишки сегодня не шумели с мячом и не звали Гошу постоять на воротах.
— Я подумал, — начал Гена нерешительно, — если у этого парня была душа, то куда она полетит сегодня? На ветки деревьев или к облаку над рекой?
— Она домой полетит, — сказал Гоша уверенно. — Туда, домой, — показал рукой в сторону севера.
— Ты откуда знаешь?
— Лукьяныча спроси, если мне не веришь.
Гена посмотрел на старшего. Лукьяныч вынул из котелка ложку, поднес к носу, нюхая, опять опустил ее в варево.
— Чего ты молчишь, Лукьяныч? — спросил Гена нетерпеливо. — Чего его нюхать и на вкус пробовать. Соли все равно нет. Обман желудка — это варево!
Лукьяныч повернулся к Гене лицом.
— Ты тетрадь этого парня в могилу не положил?
— Я положил, Лукьяныч. Но несколько листиков сами мне в руки выпали, будто просились. Я их и взял.
— Я почему сказал, что в могилу положить надо? Потому что эти листики, как душа его, потому и должны с ним быть. А если ты их с собой взял, то это как тайну чужую взять. Можешь ты ее сохранить, не растерять? Если ты сейчас и себя самого уберечь не можешь, не знаешь, что с тобой завтра будет…
— Оно так, Лукьяныч, — вмешался Гоша, — но с другой стороны посмотреть если, то плоть соотечественника нашего умерла, а душа-то жива. Как живую ее — в могилу?.. Правильно Гена взял. Ты читал, что там? Я сегодня увидел эти листики на камнях, когда Гена читал их. Он не видел меня. Поверишь, листики шевелятся от ветерка, а мне кажется, что живые они. Веришь? Чуть мозги не зашевелились! Мне читать трудно, глаза болят. А увидел раскрытыми два листочка, да стрекоза на них присела, поцарапалась лапками, да улетела куда-то. А мне, веришь, показалось, что все она прочитала и поняла, божья тварь! Мистика! А я верю!
— И я с этими листиками головой тронулся, домой хочу! — Скрипнул поломанными зубами бывший боцман. — А что такое? Хочу!
— Значит, дойдешь, — успокоил его Лукьяныч.
— Дойду!
— И тетрадь сохранишь?
— Сохраню. Мне эти листики, поверь, единственный документ, по которому каждый поймет, что я из России. — Гена показал рукопись.
— А ведь прав боцман! Мы как с флагом теперь, — засмеялся сухумский грузин.
Лукьяныч взял из рук боцмана чужое письмо на тетрадных листочках:
— Дай, — сказал, — я почитаю… Начал читать:
«…И нет покоя душе.
И дела ей нет до совести или рассудка, до голоса любви или зова предков.
Есть только крик.
Нет дела ей до того, что не найти равновесия и опоры. В сознании человеческом или в жизни.
Есть только боль.
И жаль человека, разорвавшего собственную душу, как рубаху на груди, оттого что забыл он, что и душа одна, но и она — рвется.
И жаль мне того, кто потерял свою душу, гоняясь за катающимися кружками рассыпающихся монет или купаясь беспечно в опьяняющих струях коварных страстей, забыв, что и душа — может слезиться. И капать. И утекать. Как вино из наклонившейся чаши. Чистое вино — на грязный пол…
И нет места душе, если потеряла она сосуд свой.
И уйдет она.
И никто не заменит ее.
И ничто не заменит.
Ни ум. Ни благополучие. Ни слава.
Ни слова о великой Родине или историческом предназначении.
Ничто не стоит рядом. И не стоит цены своей. И теряет цвет свой.
И увядает. Как цветок без весны. Как птица без полета. Как песня, потерявшая голос… Ибо сказал мудрый: «Что есть душа? Не ответит никто».
Но трава без души — сено. А дерево без души — дрова. А человек без души — мертв.
Что ж ты плачешь, душа?
Что ж ты плачешь…
Растерялась душа моей Родины. Растерялась.
Растерзалась. Отплакалась. Откричалась.
Не дождалась.
Не позвали тебя, родимую. Не назвали душой — в Отечестве.
И осталась ты только песнею (песнями):
«Зову тебя — Россиею, единственной — зову…», «Светит луна или падает снег…», «Синенький, скромный платочек…», «Течет река-Волга…», «Деревенька моя, деревянная, дальняя…», «Мой милый, если б не было войны…»
Без души — обесцветили флаги.
Без души — онемели гимны.
Без души — обезножили воины.
Без семей вырастают дети. Без души.
Без души — потеряли совесть. Без души — воровать обессовились. И из Родины тянут. И у собственных отца с матерью. И ни детям своим даже. Просто — за заборы. За замки. За решетки на окнах. В квартиры — с собаками и охранниками.
И самый престижный дом стал похож на музей в тюрьме.
А самый незащищенный — на «Гуляй-поле».
А верха — вороватое гульбище, где не говорят — а токуют. Не живут — а «в бегах». И те, кто думают, что «они властвуют», и те, кто боится думать, «что будет завтра»… В бегах от души своей. И не властвуют, а властью пользуются, как молотком над глиняной кошкой-копилкой. Чужой. «Домушники» правят.
Мундиром чиновника и лозунгом демократа орудуя будто фомкой.
И место ли в этих домах душе?
И запоется ли спьяну иль трезво: «Ой, полна, полна коробушка…» или «Я люблю тебя жизнь…» или, незабываемое, «Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд…»
А было.
Какая была душа!!!
У песни. У города. У парня с нашего двора. У всей страны.
Когда свадьбы гуляли на всю улицу. А день Победы — семейный праздник.
В каждом доме. И по всей стране. И если уж делать День независимости, то я бы его в этот день праздновал — Победы, Памяти и Независимости! И Скорби… От размаха души или тупой исторической инерции? Когда нам раскачать историю-матушку, что дедовский сарай ломать. Когда, если воевать, то собственного народа крови и славы — без меры. Рекой. А если революцию, то «Мирового масштаба!». А трудовые будни — от ребенка до заключенного. И будущая мать — как каторжница, с мозолями и слезами. А подвиги — от «Варяга» до блокадного Ленинграда. А Перестройка — так и «Перестрелка» … А была, коль колючая проволока, так — не извольте сомневаться — от границ и лагерей до каждого дачного огородика. Но коль пошла сегодня мода в тюрьме сидеть, или «под крышей жить», или в русских деревнях вывешивать над магазинами вывески «Шоп», а вместо «Открой окно» говорить «Открой виндовочку», то разве поймешь сразу — это у народа «мозги поехали», или он, народ, поголовно юродствует или просто смеется — над правительствами, над собой, над «европо-американо-благоразумным» к нам снисхождением? Это плач? Или шоу в театре абсурда, незатейливое, как объявление в привокзальном буфете: «Хот дог холодный!»… Где самый главный актер — бандит. А самая расхожая роль — проститутка. А самый счастливый зритель — «бомж» — бывший отечества моего житель.
Исстари на Руси к юродивым прислушивались. Особенно, когда никакого разума не хватало понять происходящее. Никакой надежды не оставалось на светлое. Никакой веры. Сколько раз это повторялось: неужели конец? И тогда появлялся ниоткуда и некто, кто говорил в душу: «Даю установку на добро. Приготовьте свои тазики и банки. Будем наполнять…». И, хочешь — верь, а не хочешь — смейся, но полстраны бежали к телевизорам со своими банками, склянками, ведрами. Потому как легче самому считать себя свихнувшимся, чуть-чуть, чем поверить, что мы никогда уже не сможем чувствовать себя спокойно в своем Отечестве. Ни в отпуске у моря. Ни в собственном доме. Ни на работе, независимо от того, начинается ли она с «нового утреннего анекдота», или улыбки женщины, или новой «по радио» песни…
Грустно.
Какая же душа выдержит?
Ан нет — жива. Еще и изворотлива. Да темна.
Ох, темна русская душа! Ибо, как понять — по прошествии целой эпохи социалистической поют с одинаковым чувством патриотизма и соучастия, и бывший коммунист, и бывший зек, и бывший (советский!) интеллигент:
«Раздайте патроны, поручик Голицын. Корнет Оболенский — надеть ордена!».
Ни ордена, ни медали, ни офицерские кортики, ни даже именное наградное оружие, хотя все это было, в том или ином сочетании, в доме родителей и в домах моих близких друзей, и было осмотрено нами, детьми, с должным вниманием, уважением, гордостью, трепетом… Но не это осталось в памяти, как самое главное и дорогое фамильное достояние — фотографии. Боже! Сколько фотографий запомнилось, наслоилось, перепуталось. И стало совершенно не важно — из чьей это семьи? Чей отец? Ибо запечатленные позы и выражения лиц, и надписи на обратной стороне — все было похоже. Усатые казаки осанисто сидели на витых венских стульях или на табуретках, одной рукой опираясь на эфес шашки, а другой обнимая сидящего на коленях ребенка, глядящего в объектив испуганно. Рядом стояла жена. Гордо подняв подбородок и придерживая на высокой груди шаль. Будто фотографироваться на память всемирной истории — обычное дело для любой казачки. Старшие дети стояли по обе стороны от родителей, напряженные, как на экзамене. На других фотографиях эти дети улыбались легко и свободно, будто научились дышать, в гимнастерках или в морских кителях, или в шлемах и в свитерах, на фоне нарисованного самолета… И в какой бы дом я ни заходил, я видел такие же фотографии в настенных рамках или в лежащих на виду альбомах. И слышал привычные слова: «Это после гражданской… Это на Дальнем Востоке… И он — служил… Это на вокзале, перед отправкой на фронт… Это дети, после института… Это — на море. Он тоже служил…» И бог мой свидетель, эти фотографии сделали больше, чем весь последующий поток привнесенной новым временем «перестроечной» информации — я ни на одну минуту не усомнился в том, что мы жили одной страной, одной жизнью, одной семьей… Мы все — жили Отечеством. Мы хотели сделать его лучше. Мы были наивными романтиками его. Каждая душа была открыта, как кувшин на дегустации. Мы сами были его вином и кровью. Мы все — служили Отечеству! Настоящему и романтическому. Полагая его — неделимым…
Я помню деревню бабушки — семь изб, два старика, семь баб. По субботам собирались на спевки. У каждого была своя роль, известная. Если в деревне были гости — приглашали. Обязательно ждали, если кто-то задерживался: «Корову доит…» или «Капустки принесть обещалась квашеной…». Песенный репертуар не меняли, начиная от «Хаз-Булат удалой» и «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра…» до современных советских из популярных фильмов. Пели «по голосам», серьезно. Переживали искренне, если «не пелось». Ну, да я такого не помню. Если что — добавляли «красненькой, магазинной». Пили бабушки по глоточку, как птички. Ставили на стол недопитые рюмки, утирая платочком уголки усмехающихся губ. Частушки пели «с картинками», как тогда говорили, то есть с дословными выражениями. И с приплясом, обязательно. «Мы с миленочком моим целовались горячо, целовались бы еще — да болит…».
С настенных фотографий смотрели на них родные лица. Их тоже обязательно вспоминали: кто за кем ухаживал, кто как пел или танцевал, над кем в деревне посмеивались. От этих разговоров и воспоминаний компания получалась и веселее и многочисленнее.
Помню такие же вечера на Украине. Только начинали, обычно, с других песен: «Ничь яка мисячна зоряна ясная…», «Расцвела под окошком белоснежная вишня…», но потом переходили на те же кино-советско-народные:
«Каким ты был — таким ты и остался…» или «Мы с тобой два берега у одной реки…». И тоже были фотографии на стенах. Невесты в свадебных платьях. Младенцы в кроватках. Мужчины в кителях и шинелях. На настоящих тракторах или в нарисованных танках: «В настоящем нельзя, — пояснял чей-то дед, — секрет!»…
И в этой похожести — фотографий и песен, надписей и слов, судеб и воспоминаний — было неподдельное единодушие. От дома к дому. От города к городу. От Украины до Камчатки. Была удивительно благоприятная, поддерживающая человека среда. И это именно то ощущение, которое вспоминается при наших разговорах о прежних летних отпусках, поездках на юг, остановках на трассах, или вынужденных ночлегах у реки, или на окраине провинциального городка, одинокие огоньки которого, излучали те же настроения успокаивающей, поддерживающей, обнадеживающей близости.
Разве кто-то кого-то боялся? Неуместный вопрос. Глазами выискивали номера машин со знакомыми (Москва, Ленинград, Краснодарский край) сериями. Первые слова при знакомстве: «Откуда? Куда? Есть знакомые? Есть где переночевать?». Кто кому больше радовался: «Бабушка, — кричала девочка, — дачники приехали! Танцы будут!.. Бабушка, гости приехали! Случайные! У них машина застряла…».
Откуда что бралось и куда подевалось? Или спряталось, как улитка? Насторожилось, как душа? Ведь это и была душа. В песнях. В фотографиях. В покое у большой воды. Это была наша настоящая душа. Но теперь она сжалась, как лужицы на дне убежавшей по другому руслу реки. И вроде бы это река еще, но уже от нее не покой — а грусть… Беспокоит. Напоминает. Говорит что-то беззвучно, одними глазами. О чем она говорит? О чем она помнит? Милая и усталая душа. Такая надежная и родная. Как ветер из родного сада. Как знакомая мелодия. Как улыбка моей мамы…
Родной стороны — душа.
Мы еще не знаем, что — приобрели. Но уже чувствуем, что — потеряли.
И это осознание потери — наше первое перестроечное приобретение. Как первая любовь.
А разве бывает вторая любовь к Отечеству?
Разве мог мой отец ответить по-другому, тогда, на берегу Севастопольской бухты, когда я — пятилетний — спросил: «Почему эта земля на обрывах такая красная? — От крови, сынок. От крови за Родину».
Разве теперь эта земля может стать для меня менее дорогой, менее легендарной, менее кровно моей?!
Когда много раз спрашивали меня иностранцы, что сделала перестройка для России (они надеялись услышать слова «демократия, свобода, благополучие»), я отвечал неожиданными для них пояснениями: «Ни в том беда, что огромную страну, как ножом, на куски разрезали, но — каждую семью!!! Сын — остался в России, сестра — на Украине, брат — в Казахстане, друг — в Прибалтике, могилы родителей — … Каждую семью, каждую душу — на куски искромсали. И топчут.
Деньги переслать — проблема. Встретиться — проблема. На похороны приехать — и то через границу. И что же мне теперь — с моей первой любовью? Подниматься на войну? Плеваться в правителей? Ложиться и умирать в знак протеста?..
И Бог мой свидетель, эти фотографии сделали больше, чем весь последующий поток привнесенной новым временем « перестроечной» информации — я ни на одну минуту не усомнился в том, что мы жили одной страной, одной жизнью, одной семьей… Мы все — жили Отечеством. Мы хотели сделать его лучше. Мы были наивными романтиками его. Каждая душа была открыта, как кувшин на дегустации. Мы сами были его вином и кровью. Мы все — служили Отечеству! Настоящему и романтическому. Полагая его — неделимым…
Это странно и удивительно, но даже первая мировая война, и революция, и гражданская война — не разделили Отечества. Поранили, порвали, как собаки медведя, но отступили — от вздувшихся кровью и силой мышц и могучего, как из тьмы веков, взгляда. Яркого. Ярого. Ненавидящего и любящего. Ждущего. Жаждущего. Животного и человеческого. Многоликого: скифского, греческого, Батыя и Невского, Пушкина и Петра Первого… Сестры моей. Друга. Попутчика. Взгляда верной собаки из-под куста цветущей сирени. Взгляда девушки моей. Когда мы сидели с ней, еще школьники, ночью дождливой, укрывшись под большим и шумящим листвой деревом, и мечтали о будущей нашей (мечтали) семейной жизни, с детьми (мечтали), радостными праздниками (мечтали), пельменями по субботам… « Будут тебе и пельмени, — сказала, — если на мясо заработаешь“ … И собственные глаза мои открылись на самое главное предназначение меня в мире: долг и ответственность. Ответственность! За историю скифов. За славу Петра. За слово об Анне Керн. За любимую девушку. За мужчину — в пилотке, в шинели… В строю. За город, „в котором я жил и дружил…», — как пелось когда-то в песне.
И что же мне теперь — с моей первой любовью? Подниматься на войну? Плеваться в правителей? Ложиться и умирать в знак протеста?..
…Мы работали с американцами в Антарктиде. Американцы — работяги со странностями: кофе — в постели и в сауне, сэндвич полуметровый (горчица, варенье, кетчуп, колбаса, мясо…) — где-то рядом лежит или подразумевается, «хэпи бес дэй» — обязательно… Но при этом, и тоже — обязательно, приходили к нашему Олегу Анатольевичу заранее, по очереди, и просили: «Олег, у нас сегодня (завтра… через два дня…) день рождения. Пожалуйста. Please… We kindly ask you… We should appreciate you… Просим не отказать в любезности… Мы были бы очень признательны… Придите к нам в гости со своим аккордеоном, спойте нам… И он шел, прихватывая двух-трех друзей для компании, для куража. И пели, по специально-американскому заказу:
«Такой лазурный небосвод сияет только над тобой, Тбилиси мой, любимый и родной… Расцветай под солнцем, Грузия моя…», «Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки…», «Дорогой длинною и ночкой лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня…». И учили американцы всерьез полузабытые НАМИ слова, записывали на листиках бумаги и на компьютерах: «Деревенька моя, деревянная, дальняя… Душой не кривлю я о том говоря, тебя называю по имени-отчеству, святая как век деревенька моя…».
Как вернуть эту веру? И верность? Душевные силы… А разве они ушли? А разве Отечество кончилось? Господи, как хочется душе выговориться. Будто мусор из сада выгрести, после зимы. Такая «куча-мала» в голове. Оттого и усталость. И цепляется память за далекое слово, за ранимые строки, как ветер в саду за обрывок бумаги… Смеяться хочется. Смеяться и плакать. Мучиться бессонницей и засыпать на рассвете. Обижаться и обижать. Спорить до хрипоты или петь до одури. Да и все нам одно, что петь — что молиться. Такой менталитет у народа. Считать, что никто лучше меня не понимает. Никто больше меня не любит. И каждый поет, не произнося слов, и думает, что это только его душа чувствует и поет: «Счастьем и болью связан с тобою, нет не забыть тебя сердцу вовек… Здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй русское поле, я твой тонкий колосок…».
≈≈≈
Трое у костра смотрели на огонь.
— Моя девочка сказала бы, что у нас теперь стало четыре души, вокруг костра: нас трое и душа этого парня. Рядом, — прошептал Гена.
— А если я, например, грузин, но из Сухуми? А если я из той страны, которой уже нет, но от которой моя душа такая большая… если душа моя привыкла видеть и чувствовать на одну шестую часть суши, то разве можно из нее сделать карлика? Никогда!
— Этот парень, которого нет с нами, — сказал старший из них, — будто напомнил нам что-то такое, после чего появляется цель. Домой нам пора. На Родину…
— В трусах? — засмеялся Гоша.
— До Элизабет доберемся, а она нам поможет! — уверенно парировал Гена. — Нам, главное, с места двинуться…
Лукьяныч усмехнулся:
— Как в Одессе шутят « для героического шага вперед хорошо помогает пинок в зад, да?
— Дойдем, мужики?!
— И пусть я сегодня приснюсь моей маме, — прошептал сухумский грузин.
Стало слышно, как дым от костра поднимается в ночное небо.
Гоша потянул к себе аккордеон, который громко и протяжно вздохнул при этом басами, как живой. Гоша погладил его и запел тихо:
«Поле… русское по-оо-ле!…».
Но не пелось, и Гоша обнял аккордеон, вздохнувший вместе с ним будто:
— Чего там, дома происходит?
— Чего-то не так, видимо, если такие, как этот, парни, вдали умирать вынуждены, — продолжил Лукъяныч.
— Может, нам и торопиться не надо в ту сторону? — спросил Гена.
— Как говорят в Одессе: «Если вы проснулись на улице, значит вы там заснули!», — засмеялся интернациональный Гоша.
— А это не от нас зависит, — вмешался опять самый старший, — это, братцы мои, как душа затребует-скажет. Побежишь босиком, если кошки на душе заскребут»…
— «Не болтайте ерундой», Лукьяныч! «Свято место бюстом не бывает», как на нашем пароходе смеялись. «Кузькина мать зовет!».
— О Родине так не надо, Гена. Мы еще перед ней на коленях стоять будем…
(Если бы они тогда знали, какие пророческие слова сказал Гоша, но никто этого не заметил).
— Нам только выход найти бы, — прошептал Лукъяныч, — из африканского капкана…
— Нашедшего выход… — начал, улыбаясь, Гоша…
— Затаптывают первым! — засмеялся Генка, продолжив.
— Как говорят в Одессе! — закончил Лукъяныч, мысленно обнимая друзей. «Вернемся!» — подумал…
…Лукъяныч вернулся домой через два года, прилетел на военно-транспортном самолете с желто-голубым («жовто-блакитным!») флагом на фюзеляже, укрытый под ворохом старых комбинезонов и тряпок. Весь перелет он весело трепался с экипажем — пятью тертыми мужиками, без лишних расспросов принявших его на борт на пыльном сенегальском аэродроме. «Ты только, земляк, перед посадкой, прячься куда тебе скажем и терпи, пока не позовем, потому как на встречу с Родиной, тебе не смотреть лучше…», — сказал старший.
— Почему это?
— Чтобы сразу назад не проситься! Украина — это уже не Россия, дядя!» — засмеялся самый молодой из них. Но Лукъяныч его не понял…
...Гоша въехал на территорию Грузии, с усталой радостью разглядывая пограничников из салона туристического автобуса и подчиняясь приказу сопровождающего группу земляка-кавказца с командирским голосом: «Никому с мест не вставать! Из автобуса не выходить! Ни с кем не разговаривать! Всем — улыбаться!» — И улыбнулся, показывая, как это надо делать. «Настоящий инструктор, — подумал Гоша и с готовностью улыбнулся. — Почему нет? Дома!». Но домой он не попал никогда — группу «новобранцев» ожидали в Понтийском ущелье…
…Гена вернулся с турецкой рыболовной шхуной, промышлявшей контрабандой черноморскую камбалу на траверзе Анапы. Пересадили его на азовский сейнер, а утром следующего дня, туманным и сырым, спрыгнул он на разбитый причал в районе Тамани. «Как лермонтовский контрабандист, — подумал Генка… — еще и прятаться придется? Дома? Дуррдомм!».
Но смеяться было рано и совсем не к месту… Сейнер с душевными хлопцами, быстро отскочил и скрылся в тумане, и он остался один на один перед развалинами бывшего рыбцеха, перед голым впереди полем, перед двумя дворнягами, рыжей и черной, встречающими его, как родного. Он протянул руку к ним, и рыжая подошла, виляя хвостом и дрожа от холода. Черная — осторожно принюхивалась. «Репейник! — прошептал он, отрывая от собачьей шерсти знакомый с детства цветок-колючку, — родной…». И только теперь он испугался от мысли: «Куда идти? К кому…».
— А что такое? — сказал громко, будто подбадривая сам себя. — Я дома!
Но черная дворняга залаяла на его голос, от лая собаки взлетели испуганно две вороны у разбитой дороги. Голое поле впереди качнулось, сухая трава зашевелилась от холодного ветра.
— Что такое, дворняги? — спросил Гена и опять испугался: «Чего это я у собак спрашиваю? Или людей не осталось?..».
Он сделал несколько шагов в сторону развалин, присел, осторожно на старую деревянную скамейку со множеством нацарапанных и полувыгнивших надписей на ней, прислонился спиной к глинобитной стене, ощущая ее запах сквозь запахи сухого камыша, пыльной дороги, собачьей шерсти, воздуха, морозного и сырого. Ему показалось, что он только родился на свет божий. Обе собаки прижались к его ногам. Рыжая лизала его руку своим шершавым и горячим языком. Он вспомнил запах домашнего молока… Заснул.
— Руки вверх! Предъявите документы!..
Родина.
Нормальный риск
Риск есть везде, но я выбираю море.
Нормальный риск
Мы шли из Дакара на Мохамедию в балласте. Танкерок бежал резво, будто чувствовал каждым шпангоутом и каждым оборотом винта, что это началась для нас дорога в сторону дома, к родному Черному морю, а домой, как известно, и лошадь бежит без кнута, и собака юлит впереди хозяина. Да только не знали мы еще нашей судьбы и перспективы, и шли мы не сушей, где колея на дороге или благостный просвет впереди меж деревьев, а бежали, позвольте напомнить, Атлантическим океаном.
Справа и до самого берега, зашторенного рыжеватым песчаным туманом, пахнущим жаром пустыни и осыпающимся на палубу с шорохом летящей саранчи и оранжевой пыли, тянулась знаменитая марроканская рыболовная зона. В пяти-семи милях слева быстро менялась на горизонте нескончаемая вереница многочисленных и разномастных судов, двигающихся с попутными пассатом и течением, спускающихся вниз, к экватору. Подчиняясь закону сложения встречных скоростей, суда эти, быстро появлялись на горизонте и так же быстро исчезали, не в пример тем, которые двигались, как и мы, на север, наши попутчики. Они сутками висели у нас за кормой или полночи маячили своими освещенными надстройками у нас по носу, пытались выходить на связь и коротали вахтенное время вопросами типа «кто? куда? откуда?..» или, если попадались земляки, обычным морским трепом о контрактах, крюинговых компаниях или портовых достопримечательностях.
Многочисленные рыболовные суда, ярко выделяясь прожекторным освещением траловых палуб, малыми скоростями и белой кипенью мелькающих над тралами чаек, на разговоры транспортных судов старались не реагировать, гордо отделяя себя сознанием настоящей морской работы.
— Пахари моря! — Кивнул в сторону траулера старпом. — Настоящие моряки.
— А мы разве не настоящие? — спросил, улыбаясь, молоденький третий помощник.
Оба стояли на мостике и смотрелись полной противоположностью друг другу: третий — юный, стройный, улыбающийся и розовощекий; старпом — ссутулившийся, бородатый, с выпуклыми полушариями глаз, каких-то обесцвеченных и полузакрытых от усталости.
— Мы? — Сначала одно веко поползло вверх, потом — другое, и глаза приоткрылись неожиданно голубым морем. — Мы, Веничка, разные… — тихо ответил старпом и, будто, задремал опять.
Веня хотел что-то ответить или спросить, но вдруг схватил бинокль и рванулся к выходу на крыло мостика, крикнув восторженно: «Акулий плавник! — И с крыла продолжал совсем по-мальчишечьи, — два! Два плавника. Ух, какие здоровенные… Уходят. Уходят, Семен Романыч…»
Старпом опять приоткрыл глаза, посмотрел на океан, бегущий навстречу судну, ярко-синий, с белыми барашками крутящихся волн и тенью высокого облака где-то впереди и слева, заговорил медленно и с удовольствием, словно пережевывал лакомый кусочек бережливой памяти.
— Здесь самое акулье место. Рыболовная зона. Когда пришли сюда тралить, было это году в семидесятом, из Калининграда, Мурманска, Севастополя, Новороссийска, из Керчи и Поти, Риги и Таллинна, из Болгарии и Польши — как города в океане светились, столько судов работали одновременно, и всем рыбы хватало. Вайера не выдерживали — лопались — так наполнялись тралы.
— А что такое вайер?
— Тяговый трос на трале. Вот такой толщины, — старпом вытянул свою руку, показывая. — А там где рыба, там и акулы. Кто кого съест. Всё кормится в океане или других кормит. За тралом и чайки летят, и акулы стаями, потому что и из сети сыплется, и с палубы за борт, из рыбцеха течет жировая водичка. Акулят сотни штук стайками под бортом снуют, плавниками птиц бесят. А в небе крики — жадные, радостные, сытые, победные или устрашающие — все счастливы! Зверье, когда есть начинает или к еде торопится, все остальные инстинкты забывает напрочь, не подходи! Как собака, схватившая кость…
— А как же кошка с собакой из одной миски? — Спросил хитроватый третий и прищурился, будто крючок подкинул.
Но старпом не успел ответить — взволнованный голос по УКВ начал передавать сообщение о выпавшем за борт матросе, координатах, просьбе ко всем судам в районе усилить наблюдение и помочь в поисках.
— Координаты записал? Это где-то совсем рядом. Зови капитана, — сказал старпом. Его глаза, плечи, руки, крепкие пальцы, сжимающие бинокль, — теперь выглядели совсем не старыми, а просто крепкими и выразительными.
Капитан поднялся на мостик в ту самую минуту, когда Веня поднял трубку судового телефона. Была у капитана эта особенность — подниматься вовремя. Даже если случалось эта необходимость после суточной бессонницы, погодной или портовой, отяжеленной суетой, документами, агентами, сюрвейерами, представителями компаний и прочим и хлопотами, даже если в это входили регламентные приемы и фуршеты, — все равно, имел капитан способность выбрать двадцать-тридцать минут и вернуться на мостик уже отдохнувшим и готовым к вахте. В этом рейсе компания перетасовала экипажи двух судов, непонятно зачем и надолго ли. Капитану было за пятьдесят, лысоватый и полнеющий, говорить старался без лишнего педалирования голосом, но мог вставить и крепкое слово, правда, непременно смягчив для стоящих рядом: «Команда, отданная матерком, как правило, понимается без искажения…». И его понимали.
…AII ships! AII ships! AII ships! The тап overboard in position… Please sharp look— out for search and rescue… — Продолжало сыпаться из эфира на русском, английском, польском и испанском языках. Видимо, экипаж на судне был смешанный, и ребята торопились использовать любую языковую возможность для поиска и спасения своего товарища.
— Место нанесли на карту? — спросил капитан и подошел к штурманскому столику. Старпом показал на карте. Точка была в десяти милях впереди, но на три мили бережнее. — Сместите курс на три мили и ложитесь параллельно через указанную точку. Здесь пассатное течение порядка одного узла. Наш курс будет точно против течения. В сторону парнишку не понесет. Если он на плаву, конечно… — добавил, глядя на старпома, который уже стоял около авторулевого и корректировал курс.
— А что значит — если он на плаву? — спросил третий, с мальчишеским азартом, осознавая важность происходящего и свое участие.
— Если жив, — ответил капитан коротко и через паузу добавил, обращаясь к старпому, — вызовите на мостик двух матросов и боцмана. Биноклей у нас три плюс два пеленгатора на крыльях. Надо по максимуму использовать световое время, которого осталось немного. Всем свободным от вахты — наблюдать. Слушать эфир… Когда ляжем на курс, ход уменьшить до среднего… В районе интенсивного траления могут быть и плавающие обрезки сетей, концов… Не хватало еще на винт намотать. «Бойся в море рыбака…».
— «И вояку-дурака», — закончил за него известную присказку старпом и понимающе заверил:
— Будем смотреть, капитан!
Поисковая операция привлекла внимание всех судов, пересекавших район с юга на север и промысловых траулеров, ведущих лов рыбы. Как всегда это бывает в подобных случаях, напряжение и внимание, с каким с борта или мостика следят за поверхностью моря, стараясь заметить любой плавающий предмет, до рези в глазах, до слез, до тупого непонимания и усталости, от собственного бессилия и неудачи, — все когда-то кончается. Истекает время. Наступает ночь. Судам необходимо продолжать плавание. И даже судно, потерявшее своего члена экипажа, не всегда задерживается в поиске, а часто — не задерживается вовсе, ограничившись брошенным в эфир сообщением с приблизительными цифрами места и времени потери человека.
— Риск — это специфика работы на море, — объяснял старпом молодому помощнику, помогая преодолеть усталость и снимая разговором излишнее нервное напряжение. — Нам за это деньги платят. Шли мы как-то Индийским океаном. Я тогда вторым был. А матpocoм-yбopщиком взяли парнишку из Владивостока, пацан пацаном, и без рук совсем.
— Как без рук? — открыл рот третий.
— Руки из задницы, значит, — пояснил боцман, облокотившийся на полку смотрового иллюминатора, наблюдая и слушая одновременно, долговязый, расслабленный в любой позе, сидя ли, стоя, расслабленно — так выглядит со стороны развалившийся на ступенях пес размером с теленка.
— Вот-вот, — продолжил чиф, — только возьмет ведро с тряпкой переборки мыть — или ногой сам вступит или опрокинет, швабру выжать и повесить — обязательно за борт уронит. Боцман матом кроет, команда смеется. Короче, перед завтраком было, вышел он на палубу со шваброй, за борт макнуть и на палубе выкрутить, обычное дело, — и опять уронил швабру. А океан — зеркало. Пацан наш, боцманским матом пуганый, крикнул истошно: «Человек за бортом!» — и сиганул вслед за шваброй. Хорошо, что старпом на крыле стоял. Сразу тревогу сыграли. Развернулись. Все, как положено. Шлюпку на воду. Подгребаем. Я на корме шлюпки, ни жив, ни мертв, улыбаюсь пацану, который держит руками вертикально деревянный шток швабры, и дурацки улыбается, «поймал, мол», а за спиной у него три акульих плавника лениво колышутся…
— Спасли?
— Спасли. Хорошо, что сам он ни разу не оглянулся. Как на море говорят: «Дуракам и пьяницам везет».
— Видно, акулы в тот момент сытые были, — ухмыляясь, заметил боцман. — Мы, аналогично, под Кубой, году в восьмидесятом, заметили в море человека. Пока развернулись, застопорили, шлюпку смайнали, подгребли, руки протянули к нему — он к нам… главное, никакой акулы никто не видел, а в шлюпку втянули уже без ног, только дернулся весь, и в секунду вся кровь из него вышла… Так полную бутылку ударь донышком, и вино вон… Страх! Век его взгляд не забуду, не понимающий — он так и не успел понять, что же произошло с ним?! И мы ее — гадину, так и не увидели. С борта судна ребята видели, а мы — нет…
— В войну, я читал, были случаи, когда несколько раненых плыли рядом, и акулы одних терзали и рвали, а других так и не тронули…
«Всем судам! Всем судам! Всем судам! Человек за бортом… Широта… Долгота… Усилить наблюдение, оказать помощь в поисках и спасении…».
— Ищут еще. Мы уже прошли точку?.. Может, еще жив?..
— Рефмеханик у нас упал за борт, часов в десять вечера, никто не видел, на переходе из Австралии на Японию, в экваториальной зоне. Погода — штиль. В шесть утра третий механик зашел к нему в каюту, разбудить, а его нет — начали искать, весь пароход облазили, доложили капитану, легли на обратный курс — живучий рефик оказался…
— Спасли? — человек шесть экипажа были на мостике, продолжая вести наблюдение, и прислушивались к рассказчику. — Представляешь, почти восемнадцать часов на плаву был, на борт подняли — а он улыбается и ни слова. Мы-то вокруг него: «Как себя чувствуешь? В душ горячий давай! Водочки!..». А он молчит и улыбается. Сутки молчит. Двое суток. Ну, думаем, поехала крыша. Понятное дело. Через неделю пришли в Кобе, стали к причалу, приехала скорая с доком и двумя медсестричками, а он их увидел и, будто, в себя пришел — зачирикал перед ними, как канарейка…
— На японском?
— Не подначивай! Он хоть и по-русски, но японки сразу догадались, о чем речь.
— Понятно… Конечно… Восемнадцать часов в океане…
— А этот, которого ищут, сколько уже?
— Кто знает точно? Может никто и не видел, когда он упал.
— У нас на Черном море был случай, на хамсовой путине, осенью, сейнер начал сыпать кошелек, сеть значит, триста метров длиной, и сыпется с кормы на полном ходу, по кругу, чтобы весь косяк рыбы захватить… Понятно? Один матрос зазевался и с этим кошельком ушел за борт. Не просто упал в воду, а запутался ногой в сети и ушел с ней на глубину, в этот самый косяк. Вот мы спешили тогда — за двадцать минут кошелек на борт выбрали. Но он и сам молодец оказался. Под водой из своих сапог и куртки, как змеюка из кожи вылез и вынырнул на поверхность. Иначе — не спасли бы. Так на пробках и подняли на борт вместе с кошельком. И хоть бы ему что — никаких травм, только водки стал пить больше…
— Дались вам эти истории. Не к добру… — подвел итог капитан.
— Через полчаса сумерки. Усилить наблюдение…
— Александр Палыч, — обратился старпом к капитану, — мы уже на пять миль выше точки…
— Я знаю, Семеныч. Еще полчаса посмотрим. А вдруг? Все под Богом…
— Упаси его душу… — ответил чиф.
Пять траулеров крутились у нас за кормой в поиске. Еще два шли с тралами за бортом немного бережнее. Большой контейнеровоз обгонял нас слева на дистанции четырех-пяти кабельтовых, не снижая своей двадцати четырех узловой скорости. Еще два транспорта шли мористее милях в двух-трех. Океан жил своей жизнью. А жизнь и смерть, как известно, всегда рядом, и тоже — кормят друг друга. Печально, но факт. Надо жить дальше. Мы и так потеряли два часа, которые надо наверстывать, за это нам платят деньги… Включили ходовые огни. Сняли наблюдение. Увеличили ход до полного. Сообщения о поиске упавшего за борт больше не повторялись… Но мы уже летели в свою неприятность, как в пропасть, хоть и не знали этого.
Было двадцать два десять по судовому времени, когда судно ощутило толчок, будто споткнулось, потом резко снизились обороты, потом забегали на мосту и в машине, прозвенел телеграф и замер на «Стоп», капитан и старший механик появились на корме, перегнувшись через планширь, смотрели под корпус: еще отсвечивал зеленоватым в черной воде след двигающегося по инерции судна, но в нем переливался чужеродным телом длинный кусок рыболовной сети, выходящий из-под кормы.
— Намотали на винт, — резюмировал дед. — Что будем делать?
— Попробуем подцепить кошкой и стянуть с винта, вращая вал в обратную сторону вручную. Получится?
— Попробуем. Должно получиться.
— Если не получится, то придется нырять, хотя — на таком течении и волне — это будет не просто.
— А акулы? — спросил подошедший боцман. — Тут акул — тьма. Дураков нет.
— Когда нырнешь, там столько работы будет, что об акулах забудешь сразу, — сказал капитан. — Но, надеюсь, до этого не дойдет… Готовьте кошку с хорошим фалом, поднимайте ребят, эта затея может затянуться на полночи. В лучшем случае.
— А в худшем?
— А в худшем — на рассвете придется нырять. Начинайте… Чиф! Дайте команду на мостике включить прожектора, палубное освещение и сигнальные огни «Не могу управляться», чтобы никто на нас не наехал, на самой дороге улеглись, можно сказать…
К началу первого ночи оставили последнюю попытку сбросить сеть, пытаясь вытянуть ее кормовой лебедкой на палубу. Надо было дожидаться рассвета и пробовать нырять. Боцман приготовил акваланги, ножи, шлюпку, фалы — все, что должно было использоваться или могло пригодиться. Экипаж затих в ожидании выбора — кому нырять? И тем, кто оставался на ночной вахте, и тем, кто пытался уснуть, — всем без исключения не давали покоя мысли о близких акулах и связанной с ними опасностью.
Капитан лежал у себя в каюте на диване, одетый, слушая судно, пытаясь в мерном раскачивании его на волне угадать, как сейчас выглядит эта сеть, опутавшая винт и перо руля, как действуют на нее струи океана, как эти же струи сносят судно на юго-восток, в район активного рыболовства. Судно все более и более будет создавать проблему для многочисленных траулеров, а само будет все больше походить на огромное и беспомощное на воде раненое существо. Вспомнил мертвого кита, встреченного ими в Гвинейском заливе. Вспомнил фильм о гладиаторах, один из которых дрался копьем и боевой сетью, которую набрасывал на противника. Потом плыл он в подводном каньоне, со стен которого скатывались в глубину, срывая со склонов клубы разноцветной пыли, огромные рыбины, с круглыми глазами. Яркие оперения плавников вздыхали совсем близко от его лица, щекотали, касаясь, низ живота. Медуза всплыла над головой, как луна в небе, сжалась в комок и вдруг, будто взорвалась вся, сделавшись бесформенной и большой, шевеля оранжево-волокнистыми краями и уплывая вверх. Только дунул на лицо порыв ее живого дыхания, от которого стало холодно. И он проснулся…
Часы показывали три пятьдесят пять. Он должен был быть на мосту в четыре утра. На полпятого намечали погружение. С первыми лучами солнца.
Капитан поднялся на мостик. Старпом уже принял вахту. Второй помощник пошел будить боцмана. Матрос был где-то на палубе.
— Доброе утро, чиф!
— Доброе утро, Александр Палыч! Надеюсь, оно будет добрым. Какая программа?
Ответить капитан не успел — на мостик поднялся возбужденный стармех. Стармех был сравнительно молодым, тридцати с небольшим лет, стройным, с мелкими зубами на тонком лице и тонкими, будто нарисованными усиками. Накануне вечером он был похож на актера-любовника, удачливого, сейчас — на обиженного. Это ему не шло, но он не видел себя со стороны и продолжал некрасиво:
— Меня-то зачем разбудили? Мне вообще эта сеть «по барабану». Механиков касается только то, что внутри судна, а то, что снаружи — разбирайтесь без нас…
— Доброе утро, дорогой «дедушка», — капитан смягчил тон голосом, словно шаг сделал стармеху навстречу. — Извини, что побеспокоили. Положение у нас с тобой такое. Да и машины касается, как ни крути. Сам говорил ведь, что и подшипник греется, и дейдвуд разбить может… Говорил? И говорил-то все правильно…
— Правильно, правильно, Александр Павлович. Доброе утро. Чего суетиться? Я бы сейчас, если честно, и не думал бы о том, как от сети избавляться.
— А о чем бы вы думали? — изумился капитан.
— О том, куда бы лучше на ремонт проситься.
— На какой ремонт?
— Доковый ремонт. Подшипник может быть разбит, сальник может потечь, всю винто-рулевую группу смотреть надо. Мы в прошлом контракте Малакским проливом шли и на плавающее дерево наехали. Точно под винт попало…
— Вы что — задним ходом по проливу торопились?
— А это не важно… Зато в Сингапуре двадцать суток в ремонте отстояли.
— Вон ты о чем… А здесь, где хочешь стоять? В Лас Пальмасе? В Дакаре? Или на Кабо Верде? А что ремонтировать — у нас пока все в порядке.
— Плохая стоянка лучше хорошего плавания. А механикам ремонт — хоть каждый день. Нам всегда работа найдется.
— А наши контрактные обязательства? Мы для того на борту ведь, чтобы судно двигалось.
— У меня таких слов в контракте нет. И ни у кого другого в экипаже ничего не сказано о том, что надо к акулам в пасть нырять или с разбитым дейдвудом в океанское плавание пускаться. Или у вас особый контракт и особая доплата? Или долг перед этим иностранным фрахтователем? Какой долг?
Капитан минуту помолчал, оглядел столпившихся вокруг. Жалел, что нет в этом рейсе рядом дорогого ему деда «с маслицем», и многих других, с кем ходил в море прежде. С горечью вспомнил еще раз, какой завидной и прочной была «школа российского флота». Где этот флот? Где молодые и жадные, готовые на риск и на крик — первыми?! Теперь по-другому: оплата, страховка, гарантии. А какие гарантии в море?.. Спросил всех:
— Кто еще так думает? — все молчали. И молодой старший механик смолчал, красивые усы приглаживая, ждал следующего шага капитана. Капитан сказал просто и неожиданно спокойно, обыденно как-то:
— Конечно, можно вызвать буксир, на это уйдет двое суток, еще суток трое-пятеро займет буксировка, в зависимости от того — куда? Потом — водолазный осмотр, по самой широкой программе — док, от двух до пяти суток максимум… Что потом? Надежды на то, что вместо фрахтовых работ с грузом на афро-европейских линиях, экипажу повезет стоять месяц в порту, уверяю вас, просто нет. Так что, давайте считать, что никто этой темы не поднимал. Это первое. Второе: ставить меня в крайнее положение против экипажа — не надо. Я давно уже знаю, что капитан — всегда один. Один — в принятии решений и ответственности. Третье: долг у меня есть. Один. Перед отцом с матерью, которых уже нет в живых. Перед друзьями, которые никогда не узнают, где и как я себя вел. Перед детьми моими, для которых никогда я не буду капитаном, но, дай Бог, останусь отцом. Один это долг, как на него ни смотри. И еще хочу сказать: капитан на борту — это очень неудобная фигура, в том смысле, что всем приходится с ним считаться. Прошу вас. А я, в свою очередь, постараюсь уважать мнение и гордость каждого. Тогда у нас и будет складываться то, что согласно хорошей морской практике называлось на флоте — экипаж. Добро? Если вопросов нет, то вопрос у меня: кто владеет в достаточной мере аквалангом, чтобы идти под воду? Вопрос надо решить быстро, не откладывая.
Молчали. Капитан выждал минуту, потом подытожил:
— Добро. Ситуация понятная. Не расстраивайтесь. Как говорится, не такие города сдавали. — Повернулся к трапу и бросил на ходу, — боцман, за мной…
Вместе с боцманом прошли в помещение аврийно-спасательного снаряжения, капитан впереди, боцман сзади. Акваланги, ножи, фал, ласты, маски — все лежало в порядке.
— Хорошо, боцман. Спасибо. — И повернулся уходить.
— Сан Палыч, — начал боцман и замялся.
— Говори, говори, — капитан почувствовал важное. — Говори, дракон, чего уж там…
— Во-первых, не серчайте, что я не могу сам под воду. Не могу. Честно говорю — боюсь.
— Это я понимаю. Не беда, — похлопал его по плечу. — Если честно, то я еще больше боюсь, ведь кого послать? Кто справится? А, не дай Бог, случится что — кому отвечать? Перед кем? Матери и родным — что сказать? Как объяснить? Так кому больше бояться надо?
— Так кого готовить? Кто пойдет?
— Сам и пойду, — улыбнулся капитан.
— Смеетесь? — заулыбался боцман и снова стал похож на себя, теленко-породистого и неторопливого.
— Может и смеюсь. Что еще? Что-то еще есть? Нет? Тогда я на мостик. Готовьте шлюпку. Будете готовы — скажете. Тянуть не стоит — нервы на взводе.
Капитан поднялся на мостик. Нервы, действительно, были напряжены до предела. Разговор со стармехом вывел из себя. Но сейчас надо было думать о спуске. Кто? Как? Есть ли здесь акулы? Будут ли? Не акула опасна. Опасен страх. От страха человек может просто порезаться, что, в свою очередь, может привлечь запахом крови и далекую тварь… От страха можно растеряться, удариться о корпус, захлебнуться…
Старпом встретил улыбкой, широко раскрыв свои небесно-голубые выпуклые глаза, еще более увеличенные стеклами очков, и начал без предисловий нормальную морскую психотерапию простоватым трепом:
— У меня есть хороший товарищ, всю жизнь на рыбстане работает, бригадиром, Боря Кадыр. Работяга — мир не видел таких. А гостей любит — кавказская школа — даргинец. С гор спустился и стал рыбаком — смешно? Короче, гости оттуда, гости отсюда, начальник один, начальник другой, главный начальник, да? Кавказские люди очень почитают начальников. Все вокруг стола с ушицей и водочкой сидят, тосты говорят, один другого похваливают, а Боря в сторонке все видит, прикидывает в уме и товарища на ушко спрашивает: этот начальник и тот начальник, а кто главнее? — Они разные начальники: тот директор завода, а этот хозяин города… — Что ты мне объясняешь? Ты мне прямо скажи, как с рыбой понятно чтобы: кто кого съест?.. Ха-ха-ха! — засмеялся старпом первым и капитан поддержал его улыбкой. Но мысли были не радостные: кто кого съест…
На мостик пришел боцман. Вид у него был озабоченный. Капитан спросил:
— Что-то случилось?
— Во-первых, ночью на корме ловили рыбу и поймали акулу, не большую, правда.
— А во-вторых? — напряжение возрастало.
— В аквалангах кто-то стравил запас воздуха.
— Когда? Когда это произошло?!
— Не знаю. Вечером давление в баллонах было нормальным, я сам проверял.
— Слава Богу, — капитан неожиданно успокоился и теперь улыбался совершенно свободно — теперь все стало на свои места.
— Почему? — удивился боцман.
— Потому что теперь, как говорится, карты розданы, остался только прикуп.
— Знал бы прикуп — жил бы в Сочи, — повторил старпом известное выражение преферансистов.
— Кто не рискует — тот не спит с королевой, — подхватил капитан и продолжил другим тоном:
— На тренировочном посту есть учебный акваланг, в нем должен быть воздух. Проверьте и в шлюпку. Первым нырять буду я. А там посмотрим… Объявлять не надо, обойдемся без зрителей, только два человека в шлюпку, для поддержки. Добро?
Шлюпка закачалась на волнах, удерживаемая носовым фалом. Борт судна показался гигантским и опасно нависающим. Капитан надел маску, ласты, предварительно намочив их за бортом. Проверил крепление ножа (второй нож оставался в шлюпке). Проверил страховочный фал (течение чувствовалось по тому, как стремительно проносило их вдоль борта). Открыл клапан и вдохнул резиновый спертый воздух. Оглянулся: солнечные лучи под косым углом уходили в глубину, освещая обросший ракушками и травой корпус метра на два-три вниз. Дальше — начиналась бездна. Было прохладно. Небо казалось необыкновенно высоким. Но смотреть на него было уже некогда. Он торопливо, чтобы никто не заметил его волнения, спиной к морю, соскользнул в воду и сразу пошел к корме, погружаясь от поверхностной волны, которая могла опасно ударить о корпус. Сразу миллион иголок стали ощупывать его тело, обжигая, обжимая, оглаживая. И миллион зрительных импульсов помчались в сознании и перед глазами, смешиваясь с пузырьками воздуха, путаясь в мелких струйках и ломающихся от прикосновения лучах, рассыпаясь и снова выстраиваясь в корпус судна, красно-рыжий, изгибающийся, переходящий в нечто сине-зеленое и глубокое. Он торопливо искал глазами то, что более всего боялся увидеть, но ЕЕ не было видно. Еще не осознав невероятное, он только краем глаза отметил, а сознание уже работало автоматом, и все его тело изогнулось в напряжении, подхваченное течением, руки и ноги рвались к поверхности, которая плясала над головой и, вдруг, разорвалась плеском и криками, к которым он был равнодушен теперь. Фал натянулся, и капитан только в этот момент понял, что без этой веревки, связывавшей его с судном, как пуповина, он бы не выгреб. Руки подхватили его и втащили, счастливого, в шлюпку.
Он сдернул маску и закричал на борт:
— Заводи-и! Запускай главный, дедуля!..
Когда шлюпку подняли на борт, главный двигатель уже набирал обороты. Боцман помог капитану снять гидрокостюм. Старпом топтался рядом на палубе, ожидая подробностей.
— Подробностей? — смеялся в ответ капитан. — Будут тебе подробности. Потом, сначала — душ. И двигаться, двигаться, до полного хода, ясно? Полный вперед! А потом, у меня в каюте, будут подробности. По-морскому. С друзьями. Одну бутылку — в океан, Нептуну на удачу. Остальное — нам, на здоровье. Годится? — Они шли вдвоем в сторону капитанской каюты.
— Как скажешь, капитан. Как скажешь. Но почему быстро управился?
— Стыдно сказать… — шепотом.
— Почему стыдно? — тоже шепотом,
— Только нырнул, глянул, а сеть с винта сползла медленно и уплыла. Веришь?
— Неужели?
Оба смотрели друг другу в глаза и улыбались.
— Ну, ты, капитан, везучий. Три якоря в глотку! Бегу на мост…
Минут двадцать спустя, капитан вышел на шлюпочную палубу, в руках что-то держал. Никто не видел его. Он посмотрел на горизонт, на кильватерную струю за кормой, неуверенно перекрестился, будто первый раз в жизни, и сказал отчетливо, словно кто-то его мог слышать: «Спасибо, друг-океан», — и бросил за борт, от души размахнувшись, запечатанную бутылку водки.
Потом поднялся на крыло мостика.
Судно уже легло на курс и набирало ход. Старпом стоял рядом с боцманом и матросом и, не видя капитана, травил, прикрыв от удовольствия круглые глаза и почесывая рыжую бороду:
— …И кто-то из этих начальников решил устроить Борю в техникум, а может даже в институт. На экзамене Борю спрашивают: «Кислород в воде есть? — Какой кислород в воде, а? Зачем спрашиваешь? — А рыбы как дышат? — Жабрами дышат, слушай! — Как жабрами? — Вот так! — И показал всем двумя вывернутыми ладонями около рта, как двумя опахалами. Все засмеялись. — О, капитан на крыло вышел. Все по местам. Я к капитану…
— С легким паром, капитан.
— Спасибо, чиф. Все в порядке?
— Порядок. Крепим вахту крепким словом, согласно морской традиции.
— Надо крепить. А то ведь гляди, какие все разные.
— В море, капитан, камни со скалы падают все разные, а когда их море назад, в шторм, возвращает на берег, видел — на галечном берегу — они все, как друг под друга, окатаны. Видел? Так и мы. Будет у нас экипаж.
— Будет?
— Уверен. Капитан уже есть, — чиф игриво загнул один палец, с почтением вытянулся во фронт и отдал честь. — Может, и я пригожусь? — Открыл свои удивительные голубые цвета морской волны глаза…
— Добро, — произнес капитан свое любимое слово, и добавил, — спасибо, друг.
— Александр Павлович, можно спросить? — подошел третий помощник.
— Спрашивайте, Веня. Спрашивайте! — капитан ждал с интересом.
— Многие в экипаже волнуются: парня этого спасли или нет?
— Трудный вопрос. Шансов у него — почти никаких. К сожалению. Дай Бог ему сил и удачи, конечно, а кто его ждет — надежды… Рыбаки продолжают искать его. Но мы, вероятнее всего, результата не узнаем … — Продолжал с раздумьем. — С морем, Веня, один на один не тягаются. Есть — беда, как она есть в любой жизни. А есть — риск, нормальный морской риск. Заманчивый привкус мужской профессии. Бояться, но делать! Потому что всегда есть что-то более страшное и недопустимое для мужика, чем акулы или кровь, или глупость какая-то — что?! Замечали или нет, Вениамин Максимович? Вы на чифа и себя посмотрите, какие вы внешне разные. А в чем разница? Морщины, усталость, кожа у чифа дряблая? И у вас это все будет. Поверьте. Ибо приходится платить — молодостью, нервами, эмалью зубов, семьей, шрамами за то, что — ты мужик. Потому что — мужик. И только душа от этого становится просторнее, как растянувшийся свитер. Это какая должна быть душа, чтобы всю вашу жизнь обмерила?! Чтобы всему находилось в ней место — друзьям, океану, горю, страхам, собственному непониманию, и даже этому парню, которого вы никогда не видели, но никогда не сможете забыть теперь… Дай Бог, чтобы маме его не плакать.
Ураган
«С неба звездочку достану и на память подарю»… — напевал он, мурлыкал и снова напевал. И сам себе казался красивым киношным героем из известного фильма. А мое присутствие только помогало ему ощущать полное уже отсутствие его на борту. Он уже летел в самолете, входил в ресторан отеля или давал швейцару чаевые. При этом успел он, не выходя из состояния прострации или эйфории, куда-то сбегать постричься, принять душ, сбрить бороду, переодеться, сменив белый судовой комбинезон на новые «из магазинного пакета» рубашку, брюки и китель с непривычными русскому глазу британскими нашивками капитана. Рядом с койкой в каюте валялись пустая коробка из обувного магазина и мелкие разорванные упаковки. Стояла его огромная сумка с вещами и моя, еще не распакованная. Он выглядел шикарно. Маленький, улыбающийся, новенький. Нарочито небрежно пояснил, показывая на форму:
— Стояли в Лондоне. Двое суток. Я заказал через агента. Дома скажу, что это компания меня премировала. Нравится? — И не дожидаясь ответа, но заметив мой взгляд на приемо-передаточный акт, засмеялся:
— Слушай. Ты — капитан и я — капитан. Нет у меня сейчас времени кассу считать и по судну бегать. И настроение не то, пойми. Заполнишь сам, если что-то не так. А бланки я подписал, — и виновато улыбнулся.
Я его понимал. Понимал, что никакие документы, судовые или грузовые, никакие вопросы по экипажу или судну, фрахтовым условиям или контактам с судовладельцем — все это ему не только не интересно, но так оно ему осточертело за девять месяцев, что он в одно мгновение выбросил это из головы. Забыл. И вспомнит, может быть, через неделю- две дома, проснувшись однажды от кошмарного сна и разбудив жену: «Мама! Я же коносаменты не в ту папку сунул! Они без коносаментов груз не сдадут!..». И потом неделю еще будет морщить лоб: «Или в ту папку?..».
— Слушай! Смотри! Я сверху надену эту куртку, — показал нечто из болоньи попугаечно-яркое: зелено-оранжево-желто-голубое. Надел на себя, явно рисуясь.
— Ну, как?
— Не слишком ли привлекательно?
— Так задумано. Точно. Представляешь, — он был как ребенок, — я войду в самолет в этой куртке, когда другие пассажиры уже рассядутся и будут меня видеть. Прием такой. Иду по проходу между кресел, а на меня все смотрят. В такой-то куртке. Клоун. Я останавливаюсь. Поворачиваюсь. Расстегиваю молнию и снимаю. И все видят шикарную форму. Золото погон. Женщины — ах! Мужики — собственные губы кусают. Как тебе?
Мне это было никак. Когда меняешь человека после восьми-десяти месяцев работы в море, то привыкаешь ко всему. Да и нет сейчас времени на отъезжающих. Отъезжающих «крышей» — тем более. Не пропадет. Моя проблема сейчас — судно. С первой моей минуты на борту. Моя работа.
Я вспоминаю, как много лет назад, с началом перестроечной вакханалии, когда каждый пробивался своими силами, как мог, я вырвался в первый контракт. Горящее чье- то место. Кто-то чего-то не успел, и я занял его перспективу. Сборы и проводы бегом. Жена в слезах. Автобус на Краснодар. Перелет до Москвы. Снова машина агента и встреча с будущим экипажем. Опять перелет. Вечером вылетели и вечером прилетели. Только другого дня. Время сдвинулось. Из аэропорта несколько часов на машине агента к месту стоянки судна. Маленький порт. Пять танкеров на рейде, наш — у причала. Солнце на заходе. На борту один человек — капитан, старший механик, суперинтендант — все в одном лице. Греко-японец. Объявил сразу:
— Десять минут, чтобы перенести на судно ваши вещи. Потом час на знакомство с судном под моим руководством. Здесь все документы и надписи на японском. Будем делать маркировку фломастером прямо на приборах, ручках и выключателях. Смотрите внимательно. Мобилизуйтесь. Я все покажу один раз. Сейчас — личный багаж на борт!
Танкер был маленький, дедвейт две тысячи, но изящный и с гордым названием «Океанский боец». Старый — 28 лет. Но очень ухоженный внутри. Каждая вещь — спецодежда, ключи, посуда, цветы в горшочках на иллюминаторах, документы, карты, венички и щеточки — все старое и пользованное, но чистое и ухоженное, лежало на своих местах так аккуратно, будто было оставлено минуту назад. В каютах — на переборках, столах, шкафчиках — нигде не было привычных по нашим судам царапин, надписей, наклеек и прочих «автографов» прежних хозяев. Но эти детали рассмотрели и осознали гораздо позже, когда уже бежали через океан. А тогда, после сумасшедшего перелета и смещения биологических ритмов было только давление оглушающей тишины (движки на судне не работали) и слова представителя компании: Attention! I'II show for you опе time only. You will bе аble to sailing tomorrow in the morning after check everything okey bу yourself service. Maximum attention please13.
Он действительно провел нас по судну (мостик, машина, палуба, помповое отделение, камбуз, подсобные помещения), хотя заняло это часа три — четыре. Время плохо контролировалось. Но солнце уже давно сменилось луной и звездами. Шла первая ночь в Японии. Мы все опробовали — радар, машину, вспомогачи, швартовые лебедки. Около полуночи улеглись спать. В шесть начали подниматься, так как необходимо было многое сделать: еще раз все осмотреть, приготовить карты, прокрутить швартовые испытания, перебить порт приписки на корме. В семь часов привезли продукты. Перегрузка отняла время и силы. В девять пришли портовый инспектор и агент проверить документы экипажа. В 09.40 начали крутить машину на швартовых. Инспектор, агент и суперинтендант стояли на причале. Остались довольны: «Окей! Стоп».
Потом произошло нечто непонятное. Суперинтендант, так и оставаясь на причале, позвал капитана на крыло и сказал: Poгt of your destination is Коbе. Voyage time four hours about. The pilot w'll bе waiting for you in time. Let go fore and aft! Good voyage! See you soon14.
Так начался первый контракт.
Поэтому и сейчас меня больше занимали проблемы с окончанием погрузки и готовностью судна к переходу. Старпом забыл заказать туалетную бумагу. Старший механик сетовал на проблемы с дейдвудом и просил дозаказать сальниковую набивку. Электромеханику позарез понадобились лампочки с особым цоколем для надкоечных светильников. Или, как это обычно бывает, всем хотелось «прощупать» нового капитана на мелочах. Отъезжающий капитан суетился с одной заботой «успеть попрощаться с товарищами». Тоже понятно, ведь собственной жизни прошло рядом, день и ночь, месяцы… А, может у них и вправду хорошие отношения, и хочется еще минутку вырвать для душевного «прости»… — «А ты прости, капитан. Ты прости, капитан…» — не вовремя вспомнилось из известной песни. Все не вовремя сейчас. И сальниковая набивка, которую шипчандлер привез другого диаметра, и лампочки электрические, и проводы капитана, которые тоже должны быть, и замеры по грузу у старпома и отправителя не сходятся и надо перепроверить… Но все это «на бегу» и коротко. Уж ты прости, капитан… А капитан уже приготовил рюмки:
— Капитан! Не обижайся, капитан. Я понимаю, что у тебя другой порядок, но по традиции… — и смотрел вопрошающе. Он уже не боялся помять дорогой фирменный китель и широким жестом приглашал за столик. Дед тоже улыбался, но ждал моей реакции. Новый капитан — это действительно новый порядок, слова, служба. Трудный момент. Мне отвечать.
— Добро. Традиции надо чтить. Но, я на минуту. С уважением. К капитану, его труду и ответственности, которые высасывают из нас все здоровье, испытывают властью, и ничего не прощают. А взамен дают только море. Которое, как известно, «дальше в море больше горя», и что-то еще про романтику. Вам — отдыхать. Дай Бог — долететь, отдохнуть. И снова захотеть вернуться.
— Спасибо, капитан. За тех, кто в море! — он выпил стоя и вдруг опять засуетился:
— Ты мне сразу понравился. Слушай. Я покажу тебе кое-что. При нашем с тобой неказистом росте — бывает важно. Вот! Подушечка, — он достал из угла кожаную подушку, — подкладываешь ее под себя, смотри! — сел за капитанским столом, при кителе и погонах, в руке трубка. — Совсем по-другому на подушке смотришься, согласен?
Что было отвечать? Мягко. И геморрой не давит. Самая морская болезнь. После болезней от береговых контактов.
— Смотришься морсковато. Сразу и в плечах шире. Не давит в плечах? А трубка — мечта! Куришь?
— Будешь смеяться, но не научился. Табак держу в каюте для запаха. Трубку купил, чтобы дома покрасоваться. Подарю кому-нибудь. Хочешь — тебе подарю? На удачу. Хочешь?
— Не надо дарить. Удачу пожелай просто.
— Принято. За удачу…
— С маслицем, — добавил старший механик.
— Не понял? — я действительно не понял.
— Это у дедушки присказка «с маслицем», чтобы, дескать, крутилось легче, — пояснил отъезжающий капитан и опять встрепенулся. — А женщины какие красивые на берегу — «разойдись — посторонись, я первый»! — И кому-то воображаемому погрозил шутя трубкой. Незажженной, нераскуренной.
Наверное, мы все бываем немного пацаны, немного смешны. Но чертовски хорошо, когда мы не боимся показаться такими друг другу.
— А бороду, почему сбрил? Колоритно дополняла бы погоны и трубку.
— Жена не любит. У нее аллергия на бородатых. Ха-ха-хи…
Понятно. Капитан возвращается под домашний надзор. Можем понять. И простить. И посмеяться вместе над собой. Над своими слабостями. На слабостях мир стоит… Я вспоминаю на миг собственные двухсуточной давности фантазии и настроение, с которыми мчался из родного города:
«Прощай, любимый город, уходим завтра в море!» — пела душа… «Мы вернемся домой, мы вернемся к любимым…», — расслабленно улыбалась душа каждому женскому взгляду, мало осознавая, что до этого «вернемся» теперь минимум восемь месяцев впереди. Это не ждать. Это — прожить надо. А мы будем торопить это время, будто у нас его — собственной нашей жизни — тысячелетия впереди! Гони и трать, как мелочь из кармана. Не задумываясь. Не сожалея. Чего жалеть?! Там, куда мы уходим, одно только море. Океан. От неба и до неба. Волны. И нет им числа. А числа нет — нет и страха. Бояться — кого? Много волн — это рябь только. Когда одна волна — то бывает, чего скрывать, похолодеет спина. Будто шерсть моих предков на ней поднимается дыбом и оттого по самому хребту засквозит будто. Под самое между ног. Змеюкой. О-ох! Неприятно. Когда одна волна закроет все: палубу, небо, жизни половину… Ту половину, которая может впереди быть. Но может и не быть. За такой волной. Но нам о ней не думать, не страдать негоже. И некогда. Время другим масштабом для нас тикает: «ушел» — «вернулся». Вот правильный размер отсчета. Нам в эти рамки уложиться. В просторе не пропасть у океана в пасти. Не измельчать пред ним. Пусть он подавится, как костью. Крупнее, парни! Становись, крупнее! Так незатейливо придуман мир. Что самый крупный шаг — разбег души.
Душа дает размер всей жизни. Как гармонь. Грудь — колесом, улыбка — в голос. Песня! Живи, друзья! Крупней улыбки. Голоса — крупнее. Крупней и крепче. Тверже. Как мозоль под весла. Соль — из волн. Как гордость — сопли пацана рукой размажет и скажет зло: вставай! — И кончился пацан — мужик поднялся. Веселей, ребята. Океан соскучился нас ждать. Уходим в океан…
Кто из нас, уходящих в моря, не клокотал внутри этими словами и мыслями. Не пытался говорить о них. Сбивчиво. Вспыльчиво. Страстно. С сарказмом. С иронией. Злостью. Смехом ли. Разливая в стаканы на купейном столике. Тайно рисуясь перед симпатичной попутчицей. Или дружески обнимая товарища. Подвыпившего. Расслабленно улыбающегося. Не все понимающего в этих словах. Но такого надежного в море. Что даже попутчица, прощая высокий слог и мальчишество, скажет потом тихо, только мне: «Вы из какой-то другой жизни. Вы даже не понимаете, что здесь — «на земле» — нет вам места. Вы его для себя не находите. И торопитесь пробежать, как девчонка по темному переулку.
Скорее-скорее. Пробежать. По городу. По друзьям. По домашним пирожкам и хлопотам. По вокзалам. Ступенькам. Причалам. Чтобы оказаться опять в море. Вашем. Быстрее. Зачем только? Ведь потом вы опять будете торопить время! Чтобы быстрее вернуться? Разве надо вернуться? Разве вам не хорошо там? Разве можете вы полюбить что-то здесь? Я хотела бы тебя ждать, если была бы уверена, что ты вернешься, и не будешь уходить больше. Но ты ведь опять уйдешь. Ты придумаешь тысячу веских причин и уйдешь. Разве это не правда?».
Правда…
…По десятому градусу к западу от Гринвича мы двигаемся на юг. К вечеру стали вытягиваться из Бискайского залива и в 19.35 прошли траверз мыса Финистерры на удалении пятьдесят миль. Учитывая ожидаемое ухудшение погоды, пришлось уйти правее рекомендованного пути, оставляя запас пространства для погодного маневра, если потребуется. Ураган надвигается справа, от Азорских островов, и, прикрываясь облачной синевой быстро опускающегося вечера, он уже целится в нас гигантским вращающимся маховиком атлантического циклона, но законы физики медленно отклоняют его к северу и остается слабая надежда, что мы разминемся с ним. Слава Богу, проскочили Бискай. Для половины экипажа, впервые попавшего в Атлантику, это серьезное психологическое облегчение. Даже дед не скрывает радости: «Я, — говорит, — этот Бискай в гробу видел. В маслице. Не переношу, Господи. Боюсь, если честно сказать. Животным страхом боюсь…». И я его не переубеждаю. В каждом из нас живет какой-нибудь страх: к темной комнате, глубокой воде, кошке на дороге, пустоте под высоким балконом или мостом… Дед — моряк. И страх у него нормальный. Моряцкий. Проблем с нашей старенькой судовой машиной он не боится. Он ничего не боится, что можно руками пощупать, раскрутить до винтиков, обмыть и обтереть ветошью, каждую деталь трогая как ребенка, приговаривая ласково: «Вот и славненько, красота моя, вот и хорошо в маслице…».
У меня-то другие страхи. Погода из Атлантики стремится выдавить нас к берегу. В Бискайе мы имели огромное пространство залива для маневра и дрейфа в случае, если наша старушка-машина не потянет против волн и напора ветра. А здесь, вблизи испанопортугальского обрыва, на протяжении трехсот шестидесяти миль от Финистерр до Сан Висента нам необходимо держаться на постоянном курсе, не допуская дрейфа в сторону Пиренейского полуострова, который, казалось, уже грохотал под ударами волн и содрогался огромным телом из громады камней, неприступных расщелин, извилистых и фыркающих, когда в них врывалась ураганная мощь океана, взлетая шипящей пеной под самые облака и скатываясь назад — как водопады и реки — до последней капли, снова оголяя стены и башни острозубых скал. И снова дрожала пучеглазая бездна, будто это не скалы и полуостров, а упрямый оскал захрипевшего в пене коня, который вставал на дыбы, с трудом поднимаясь на неустойчивой грани воды и неба. За которой начиналась земля. Начиналась Европа. С садами. Виноградниками. Склонами пастбищ. Тихой мелодией утренних колоколов и запахом дыма над черепичными крышами. И голосом женщины, наклонившейся из открытого окна и терпеливо рассказывающей кому-то слушающему внизу, под ветками деревьев, странный сон про морских путников. Будто она видела нас с небес и хотела рассказать всем. О нас. В этот рай невозможно поверить. И трудно дожить. Когда под ногами шевелится палуба, а переборки скрипят и кренятся, будто хотят на меня наехать.
К двум часам ночи стало ясно, что от циклона уйти не удалось. Волны росли на глазах. Ветер прижал облака к нашим мачтам, хлестко бил в лобовые иллюминаторы ливневыми потоками дождя. Скорость упала до четырех узлов. Палуба скрылась под бурлящей водой полностью. Где-то в районе грузовых манифолдов на переходном мостике лопнула конструкция и сыпались искры, когда било металл о металл. Как электросварка, которую каждая новая волна гасит. Далекий от мостика бак и носовая мачта на нем казались плавающими отдельно от всего судна и даже кренились в каком-то диссонансном ритме. Ничего не было слышно — кроме волн, ветра и ударов по корпусу, таких мощных, будто судно уже лежало на скалах и билось в конвульсиях. Изображение на экране радара было задавлено низкой облачностью, дождем и волнами. Берег был далеко. Я знал это по показаниям спутниковой навигации. Но дед, поднявшийся из машины «глянуть на море», мне не поверил:
— Не маслице, — сказал и посмотрел на меня вопросительно.
— До утра будет трудно, — ответил я, — с рассветом легче ориентироваться по направлению волны и ветра и удастся уменьшить нагрузку на машину и корпус. Теперь только на машину надежда.
— Да уж я понимаю, — сказал он и вдруг ухмыльнулся. — Уж так у вас заведено, что как в порт пришли, так значит вы — судоводители — дело сделали, а как куда встряпались, так значит «машина выручай».
— Так ведь «машина — сердце», — улыбнулся я ему. — И народ в машине железный, как на море положено, если что — встанет и сработает вместо поршня, а?
— Знаешь, чем подкупить.
— Как ты учил — маслицем.
— Мастер.
— Пока капитан, но может, доживу и до мастера15 в кителе из Лондона. Сейчас дома, наверное, в аглицком сукне за пивом ходит.
— Ты не смейся над ним. Он мужик не плохой. Только раздухарился напоследок. Крыша шевельнулась.
— Все под Богом.
Помолчали, прижав лица к лобовым стеклам.
Мы начинали привыкать друг к другу. Хотя шли только четвертые сутки совместного плавания. Другие члены экипажа были еще мало заметны. Всех, это чувствовалось даже в кают-компании, смущало несоответствие малых размеров судна и дальность океанских пробегов. Так уж случается, что дома, в состоянии поисков работы, большинство соглашается на любые условия, даже не спрашивая и не уточняя деталей. И только прибыв на судно, начинают задавать вопросы о районе работ, возрасте судна, страховке, условиях дополнительной оплаты. Бывают и такие, кто никогда не ходил в море, но поверил, горемычный, что можно «заработать на всю жизнь сразу», правдами и неправдами получил морские сертификаты и «айда, хлопцы, Америку топтать». Помню, в Японии стоял рядом с нами в ремонте танкер с экипажем из наших бывших республик. Настоящих моряков на нем — капитан, старший помощник и повар. Остальные — таксисты, бульдозеристы и прочие сухопутные. Что только капитан ни пробовал, чтобы попытаться подготовить их к работе и морю — все прахом. Слушались бывшего майора ГАИ, боцмана по судовой роли, и вместо судовых и ремонтных работ день и ночь тащили на борт с городских улиц и свалок велосипеды, мопеды, ковры, приемники, колеса и дверцы автомашин, холодильники. Кто-то постоянно ходил встречать в порту пассажирские суда с нашими «челноками» и туристами и приводил их на борт. На борту шла торговля. Японцы долго не могли понять, что происходит. Потом появились хозяева разворованных машин и угнанных мотоциклов. Пятерых человек, включая боцмана-милиционера, увели и они больше не появились, но с остальными пришлось капитану уходить в море. Закончилось печально. При первой же погрузке в Иокогаме произошел выброс восьмисот литров груза за борт по вине экипажа…
К четырем утра мы «попали ушами в капкан». Все предыдущее показалось забавой. Сначала сорвало и унесло одной волной рабочую шлюпку. Практически без звука и усилия со стороны моря. Просто поднялась волна, прошла над островным баком, гулко ударив по короткой одинокой мачте, перевалила через шипящую белыми круговоротами меж трубопроводов, переходных мостиков и площадок грузовую палубу и высокие кильблоки оголились уже без рабочей шлюпки и кое-каких мелочей. Будто облегченные. Через полчаса, так же неожиданно, но с утробным металлическим скрежетом, приподнялся на волне, словно был деревянный, трехметровый пролет трапа, плавно проплыл над переходным мостиком и бортовым леером и, медленно погружаясь, пропал навсегда. Была бы беда, если бы конструкция выдержала какой-нибудь своей частью или зацепилась и зависла на борту, грозя быть подхваченной новой волной и в миг разорвать будто торпедой металл палубных деталей и трубопроводов.
— Слава Богу, сломалось хорошо, — прокомментировал боцман. Двое матросов, измученных морской болезнью и легким страхом, вцепились руками во что попало, лишь бы никто не смог увести их с мостика. Пусть стоят. Мостик — лучшее место в море. А страх? Кто не боится в такой ситуации первый раз? Кто может спать, когда койка выскальзывает из-под тебя как мыло из рук? А палуба и переборки меняются местами как карты в колоде шулера. Тело летит то влево, то вправо, то оседает резко. Будто земное тяготение потеряло ориентацию, и законы Ньютоновского яблока перестали действовать. Куда бы оно полетело здесь? На палубу? Вниз? Где он — низ? Под нами? Над нами? Под толщей взбесившегося океана? Потому в океане и нет яблок. Чтобы законы великие не смущать. А с койки падаешь головой в рундук. И шлепаешь по коридору, не удивляясь воде под ногами, которая неведомыми путями проникает внутрь судна. Хотя наружные двери и иллюминаторы задраены наглухо. Дохнуть нечем. Воздух прокис чьим-то вывернутым нутром и стонами. И слышно, как бурлит вода за переборкой. Тонкой. Вибрирующей. Упруго сопротивляющейся прессу могильно-холодной воды океана.
— Вода дырочку найдет, — опять комментирует боцман. Как большинство старых боцманов он невысок, крепкая лысая голова на горделивой шее зорко и назидательно показывается то одним, то другим оком, как у надзирающей птицы. И пальцы, такие же крепкие, как когти у птицы, постоянно что-то пробуют или сжимают. Он смотрит сквозь лобовое стекло на волны и палубу и небрежно рассказывает:
— Мы так же, как сейчас, загрузились из Англии на Дакар. В Бискайе прихватила погода. Дело обычное. Задраился и терпи. Как в подводной лодке. Жди, когда погода пройдет. Нашей машиной с погодой не надо тягаться. И плакать не надо. Судно маленькое. В грузу — корпус весь под водой. Волне зацепиться не за что. Два стотысячника подавали SOS. А мы — ничего. Большое судно на себя весь удар принимает, каждую волну — как таран. Поэтому и ломается пополам. Бывает. Маленькое — отыгрывает на волне щепкой. Все великие морские открытия на небольших судах делались. На тридцатиметровом бриге до двухсот человек находили место. А плевать полагалось на палубу. Не дай Бог — в океан плюнуть — грех! К беде!
— Как же они помещались, если плюнуть-то места не было? — оскалился матрос, который постарше.
— У каждого были и место и назначение. В этом вся суть. Одних боцманов по числу мачт и палуб. Потому и порядок был.
— Чем больше боцманов, тем и больше порядка, — попробовал вяло съязвить молоденький. Но боцман простительно принял замечание и назидательно поучал:
— Школа была. Настоящая морская школа. Не на берегу, которая «четыре месяца и получите сертифификат», — последнее слово произнес нарочито неправильно. Продолжил: — Этих сертификатов теперь у каждого больше, чем у собаки блох. И все на английском написаны. Академики просто. А узла морского завязать не могут. Becлá в руке не держали. Унитаз за собой не смоют. Боцман за ними ходить должен. А боцман в судовой роли необязателен стал. Три эбл симана — три способных матроса, по-русски говоря — считают достаточно. А кто считает? Штурман с дипломом — еще не моряк. Ему дядька- боцман, как отец, нужен. А то приходят штурмана такие, что слово «школа» понимают как слово «фарцовка, шмотка». Пока пол-Европы до судна проедут — полная сумка сувениров: пепельницы из вагонов-ресторанов, пивные стаканы с лейблами привокзальных баров, наушники из аэробусов. Наушники им зачем? Куда их втыкать? Вместо названий звезд они названия фирм и магазинов в любом порту на зубок шпарят. Слава Богу, бывают ребята с пониманием. А по-английски спикают — иной лорд подавится. У нас был один головастый штурманенок в прошлом рейсе. Мы в Бристоле в такси садимся, он таксисту как выдал полное хаудуюду, так тот аж взмолился: «хлопцы, — говорит, — а проще никто сказать не может? Шоп? Симанс-клаб? Бордель? — Вот мы посмеялись тогда. Боцман на море — фигура. Это вы потом поймете. Хороший боцман на борту — Бог! Или, как раньше говорили: «Лишняя шерсть блохе не помеха». Простите за слово шерсть, — закончил он, неожиданно стушевываясь.
— Ну, товарищ боцман, — начал один из матросов, — тут ураган, а вы про гальюн и швабру…
— Для меня ураган — это когда унитаз смыть не могут и «бычки» на палубе. Понял!
Матросы учения не поняли, но промолчали. Тем более что осознавали полную свою непригодность по настоящему моменту: стоять на руле они не могли по причине облегченных качкой желудков и полной потери реакции. А ворочали судно волны и ветер так, что приходилось нам с боцманом меняться каждый час. Второй помощник тоже укачался, но в каюту не уходил, мучился в штурманской рубке. Старпом отдыхал до четырех утра. Я уже решил, что раньше рассвета его поднимать не буду. Все равно мне не спать при такой погоде и такой видимости.
— А чтобы не укачиваться, — продолжал поучать боцман, — самое простое — это спичку в зубы и не проглотить чтобы. А самое по-морскому — так это при деле быть. Придумать дело, если прямого назначения нет. На руле не стоите, так дуйте на камбуз. Картошки начистить, пережарить с лучком и лаврушкой. Банку с огурцами откройте.
Второй помощник из штурманской рванул бегом, зажимая рот руками, вниз по трапу.
— В гальюн, — понимающе резюмировал боцман. — Не хочет про еду слышать. Кто следующий? Не буду вас мучить. Идите на камбуз. Море любит сильных, а сильные любят поесть и поспать. Ночь отканителимся, с рассветом, глядишь, вы окрепнете и нас смените.
— Как же картоху жарить при такой качке?
— Вот и хорошо, что не просто. Зато и морскую болезнь забудете.
— О! Отличная мысль, — подключился дед, входя в ходовую рубку. — Я по такому случаю огурчики с собственного огорода открою. Баночка сохранилась после отхода. — Глядя на недоверчиво озабоченных матросиков, добавил, — вы, парнишки молодые, поверьте старому на слово. Я по молодости так укачивался, что каждый рейс клялся сойти на берег и забыть это море, как кару небесную. Меня кочегар надоумил, ты, говорит, носи в кармане болт с гайкой. Как укачиваешься — бери болт в одну руку, гайку в другую и крути-раскручивай пока про желудок забудешь.
— Помогло?
— Разве не заметно? Картошку почистите — сами есть захотите…
В шесть начало светать. Поднялся старпом. Вместе с боцманом и дедом они пошли осмотреть судно. Ахтерпик, дейдвуд, машина, переборки и двери — все держалось пока, дай бог удачи. Жирных пятен на палубе тоже не замечалось, значит, горловины и лючки обжаты и держат. С экипажем похуже, но вахту обеспечивали. Качка изматывала не так, как ощущение покорности судна. Скорость упала до двух узлов. Хотя, при этом, судно достаточно спокойно отыгрывало на крупных волнах и приспособилось к ним, как опытный боксер приспосабливается к тактике превосходящего противника, опережающее-покорным «маятником» уходя от ударов. У меня, во всяком случае, появилось уважение к судну. Некоторое беспокойство вызывал бак, на который нельзя было пройти и осмотреть внутренние помещения. Но день уже начинался. А ураган летел. Значит, должен пролететь. Рано или поздно. Уже у нас за кормой переговаривались суда, обмениваясь информацией…
Семь часов утра. Скорость ветра тридцать восемь метров в секунду. Счетчик уже не трещит, а воет вместе с ветром, будто шестерни механического редуктора разлетелись, и сам он вот-вот рассыплется. Я мысленно себя похвалил за своевременное удаление вправо от рекомендованного пути. Там теперь образовалась толчея из судов разных размерений и типов, вынужденных маневрировать курсом и скоростью, обгоняя друг друга или уклоняясь друг от друга. В штормовых условиях мы бы, с нашей малой подвижностью, были многим помехой, и себе бы усложнили жизнь необходимостью следить не только за волной, но и за близко идущими судами.
До обеда ощутимых изменений погоды не произошло. Но вахты наладились. «Переболевшая» молодежь устало пыталась проявлять инициативу. Старики пошли спать. Но, оказалось, ненадолго. Второй разбудил меня в 13.40: сухогруз в шести милях к югу от нас дал сигнал бедствия.
Все, кроме машинной вахты, столпились на мостике. Немецкий сухогруз со смешанным экипажем просил суда приблизиться к нему и попытаться снять экипаж. Мы слушали голоса в эфире, обмен названиями судов и причинами невозможности спасательных маневров: фрахтовые условия, спасательный договор, согласие судовладельца, отказ фрахтователя, опасный груз на борту… Через сорок минут все смолкло. На мостике установилась гнетущая тишина. Я попробовал позвать «немца». Он ответил мгновенно, будто ждал нашего вызова. Обменялись обычной информацией: кто? куда? откуда? тип судна, флаг и национальность экипажа… У них было трое славян: двое с Украины и второй помощник из Питера. Остальные — индусы и немцы. Интернационал. Говорили через их второго, чтобы исключить возможные при радиообмене неточности:
— Что случилось?
— Неожиданно пошла вода в машине. Машинная вахта выскочила на палубу. Причина не ясна, но спускаться в машину отказываются.
— Так главный заглох?
— Непонятно. Сам заглох или заглушили. Паника сразу. Груз — трубы. Прогноз — ураган.
— Да ураган в стороне проходит.
— У нас судно трещит. Смещения и крена пока нет, но судно раскачивается так, что каждая минута кажется последней.
— Мы сможем подойти к вам часа через два с половиной. Не раньше. По такой погоде…
— Капитан спрашивает: вы сможете к нам приблизиться?
— Приблизиться сможем. И удержаться поблизости сможем как можно долго. Но самое разумное, что можем посоветовать — преодолейте страх. Спуститесь в машину и пробуйте все проверить и запустить главный. Прыгать в море в такую погоду да с декабрьскими температурами — лучше сразу в холодильник залезть. Самое безопасное — это не плот спасательный или гидротермокостюм плавающий. Самое безопасное — собственный пароход. На него надежда…
— А у вас большое судно? Мы поняли только, что танкер. Большой танкер?
— Сынок, тебя как зовут? — дед взял микрофон. — Ты второй помощник у них?
— Да, второй. Меня Герой зовут.
— Слушай Гера. Ты должен понять. У нас портовый бункеровщик. Дедвейт три тысячи тонн. Семьдесят метров длиной. Надводный борт полтора метра. Мощность главного двигателя полторы тысячи лошадей. Это не ваши двадцать тысяч. Ты понял — у нас портовый бункеровщик. Мы в десять раз меньше вас. Ходим от Бомбея до Ирландии, от Скандинавии до Бразилии. Это наш дом и кусок хлеба. У вас экипаж на борту давно?
— Мы только пришли на контракт неделю назад в Гамбурге.
— Понятно. Еще не обвыклись. Не притерлись. Это бывает. Ты своим объясни, что машину надо попробовать запустить. Что за вода в машине? Откуда? Что с главным? Пароход-то у вас надежный. Большой. Ведь не утонули до сих пор. И не перевернулись. Значит еще продержитесь. Только пароход с парализованным экипажем — гроб железный. Ты понял? Ему помочь надо. Пароходу помочь.
Эфир затих. Мы пробовали звать еще, но ответа не было. Цель на радаре хорошо просматривалась. Неподвижная, но на воде. Значит живы. Мы добавили обороты насколько позволяла волна, и медленно приближались к ним. Видимость в пределах полумили. Ветер уменьшился до двадцати восьми-тридцати метров. Дед поднялся на мостик с давно ожидаемой вестью: потек дейдвуд. В румпельном тоже вода появилась.
— Пока справляемся, — подытожил свой доклад старший механик, дедушка по- морскому, Григорий Мартемьянович по судовой роли. При дневном освещении остро выделялись голубые усталые глаза на небритом и бледном после бессонной ночи лице. Только сейчас я увидел, что лысина у него совершенно черная от загара и с венчиком редких и очень мягких, наверное, седых кудрей. Как у гнома на детской картинке.
— Спасибо, дорогой. Ты бы пошел, покемарил пока подгребемся. Часок есть еще.
— А сам?
— Я в седле уже. Вот-вот покажется. Надо определиться с маневром заранее. Проскочим — развернуться не сможем.
— Я в машине буду.
— Добро.
Через полчаса заметно изменилось направление зыби. Ветер уменьшился до двадцати двух и теперь шел порывами. Похоже, ураган уже бился в Бискайском заливе или на полуострове, а нам оставался атлантический шторм. Хрен редьки не слаще, но терпеть можно.
— Танкер «Дунай»! Танкер «Дунай»! Ответь «Ангелине-2»…
— Я «Дунай». Слышу пять баллов. Вижу вас на дистанции восемь кабельтовых. Иду на сближение. Как ваши дела, Гера?
— Мы вас хорошо видим. Только теперь поверили, что вы — это портовый бункеровщик. Капитан и стармех ругаются, показывая на вас. Дед попросил у меня трубку радиопередатчика и заговорил отечески:
— Гера, дружище. Вся эта затея с оставлением судна — кто бы за ней ни стоял — одна только смерть. Пойми, сынок.
— Я понимаю. Но машинная команда боится спускаться в машину. У нас уже крен четыре градуса.
— Четыре градуса — это ничто после трех часов такого насилия над судном. Да оно у вас сопротивляется, как может. А вы не хотите ему помочь. Сам спускайся в машину. Тут не важно — механик или штурман. Тут ступор психический ломать надо, понимаешь?
— Они не пойдут вниз. Все стоят одетые в гидротермокостюмы и ждут вас.
— Гера! — Я снова взял микрофон. — В спасательных костюмах вы как смертники в саванах. Возьми пацанов, кого можешь взять, и спускайся в машину. Ваши механики тоже все понимают, но только очень трудно перебороть страх. Не важно, что первыми пойдут вниз не механики. Важно, что кто-то пойдет и покажет механикам, что это возможно. Скажи своим, что мы будем около вас столько времени, сколько нужно. Это большим пароходам тяжело маневрировать малым ходом, а мы не уйдем. Давай, дорогой. Делай!
Мы приближались с кормы. Были хорошо видны уже неподвижные фигуры. На крыльях мостика и на кормовой палубе. Они разглядывали нас с высоты своей мощной надстройки и островоподобного, по сравнению с нашим, корпуса океанского судна, заметно накренившегося, но по прежнему внушительного. Из-за высоких надводного борта и надстройки амплитуда колебаний на волне была жуткой, и можно было понять этих ребят. Но волны до них доставал редко. И самым ужасным, что веяло от этого судна даже на нас, была тишина. Мертвое большое железо в ожидании смерти. У нас колотилось машинное сердце. Но наша грузовая палуба почти не освобождалась от воды, а только показывала из волн то неуклюжий бак, то бортовые леера и уродливый переходной мост, то вдруг приподнимала высоко незамысловатую кормовую надстройку с трубой, мачтой и оранжевой спасательной шлюпкой, которой — дай-то Бог — никогда бы нам с вами не пользоваться. Мы так понимали, что нас разглядывают и сравнивают. Сравнивают и оценивают. Оценивают и выбирают. Но психика человека в море устроена так, что если он не прошел школы маломерных судов, то более всего будет бояться воды на палубе. Им сейчас будет казаться, что это мы тонем, а они наблюдают за нашим последним вздохом с высоты круизного лайнера, как птица за ослабшей рыбкой. Выбор будет не в нашу пользу. Пока их пароход на плаву, никого не затянешь и краном на наш полуплавающий поплавок. Да моряку с большого флота оскорбительно просто предложение помощи от какого-то там портового бункеровщика. Но нам не обидно. Нам даже нужно такое воздействие на их психику. Пусть почувствуют себя более защищенными и более в безопасности на своем высоком борту. И все получится. Наши парни, чего греха таить, тоже с трудом привыкали. Только Ламанш прошли, третий механик — десять лет на пассажирах, на танкере впервые — выглянул на палубу, а палуба под волной. Он как закричит во всю глотку: «Тонем!!!». И смех, и грех…
Темные клубы дыма, неожиданно вырвавшиеся у «немца» из оранжево-черной высокой трубы, вызвали крики и свист, и радостные размахивания руками на обоих судах. Еще через минуту под кормой сухогруза забурлила вода и корма поползла медленно, подчиняясь чьей-то команде. Неуклюжие фигуры начали покидать сначала корму транспорта, а потом и крыло мостика. Кто-то один еще пытался махать нам рукой. Но судно уже удалялось, сильно качаясь с заметным акцентом на левый борт.
— Дойдут?
— Захотят жить — дойдут.
— Неужели не скажут ни слова? — спросил недоуменно птицеподобный боцман.
— Скажут. А не скажут — в обиде не будем.
— Russian tanker «Dunay»! Russian tanker «Dunay»! Captain spiking. How do you read mе? Over.
— Okey, captain. Go ahead. Russian captain оn brige.
— I'm deeply indebted to you and your crew for your cooperation and professional assistance. 1'11 never forget our meeting. All the best mine friend.
— Never mind, captain. It's осеаn rule. It's our duty. Good trip16.
— «Дунай», «Дунай»! Это второй помощник, ребята.
— Слушаем, Гера. Слушаем.
— Спасибо за науку, капитан. Скажите свои фамилии, ребята. Я дам вам свой телефон и адрес. Мы спустились в машину… Там такой пустяк оказался… Вода из пожарной магистрали рванула, а они подумали, что кингстон охлаждения вырвало, и бросились наверх с криком «Тонем!».
— Молодец, сынок. Может, потому тебя отец с матерью Герой назвали, что надеялись — будешь сегодня «герой». И дай тебе Бог стать капитаном. А адресов нам не надо. Потеряем-забудем. Встретимся — не разминемся. Счастливого плавания и возвращения домой.
— И вам всем счастливо от всех нас.
Сухогруз быстро набирал скорость и удалялся, растворяясь в вечерних в сумерках. Только теперь стали заметны погодные изменения: ветер неожиданно почти убился, снова пошел дождь. Волна стала размашистей и ровнее. Лаг показывал четыре с половиной узла. Но бак почему-то глубоко зарывался и плохо отыгрывал, словно отяжелел. Сбывались плохие предчувствия.
— Боцман. Пока не стемнело совсем, надо пройти осмотреть бак. Похоже, что помещение носового подруливающего поста полно воды. Так и нырнуть недолго. А впереди ночь.
— Сделаем, капитан. Григорий Мартемьянович, — деду, — я возьму донкермана Витю — он парень смышленый и шустрый.
— Если там вправду вода, то попробуйте определить откуда. Ночью откачать полностью не удастся, но попробуйте пустить носовую помпу, хотя бы установить и ликвидировать течь. Они смогут запустить насос? — спросил я у деда.
— Сейчас закрутим двойку. Если насос не в воде — смогут.
— Фонарь возьмите. Там может не быть света. От таких ударов половина лампочек на пароходе рассыпалась верно. Аварийное имущество у тебя там под рукой. Должно быть. Жилеты наденьте.
— Жилеты зачем, капитан? Дольше мучиться?
Отвечать на такие вопросы трудно. Но ответ и не нужен был.
— Не волнуйся, капитан. Туда-сюда бегать не будем. Понимаем.
— Возьмите рацию… и на палубе осторожно. Спасать вас будет некому.
— Сами с усами. Справимся.
Мы с дедом остались ждать. Из рубки было хорошо видно, как боцман и моторист ловко преодолели провал на переходном мостике и добежали до бака. Укрылись под срезом, отдраивая вход во внутренние помещения. Скрылись. Через какое-то время оттуда послышались глухие удары, блеснул фонарь в проеме открываемой двери. Подождали, присматривая момент для пробега по переходному мосту. Все равно окатило их, так что оба завизжали на пол океана. Но — весело завизжали. Мокрые поднялись в рубку. Доложили:
— Воды в носовом посту тонн восемь. Набралась через вентиляционные отдушины. Хоть их и задраивали по погоде, но, очевидно, прогнили внутри. Пока заглушили пробками, паклей и ветошью. До утра выдержит. Электрощиты от воды высоко еще. Не опасно. Насос заработал.
— Добро. Спасибо за работу. В душ и отдыхать.
— Согреться бы.
— Согреемся все, когда выгребем. А сейчас не время. К утру будем пытаться найти укрытие. Но это, если ночь переживем… И машина не подведет, и удача не отвернется. Верно, дедушка?
— Если хватит здоровья и бог даст.
— Вот-вот. На бога надейся, а вахту стой.
— А я помню, — начал боцман, жестом привлекая всеобщее внимание и громко высмаркиваясь в носовой платок, который он вынул из кармана мокрой куртки. Дед остановил его:
— Подожди, я расскажу первый, а то забуду… Мы в Феодосию пришли. Поставили нас в базу. Дежурный по базе — капитан первого ранга с нашивками, звездами, значками, отглаженной повязкой на рукаве — идет по судну в поисках малейшего нарушения Устава морской службы. Начался обычный морской треп. Не переводимый на нормальный язык и непонятный народу сухопутному, но безоговорочно свидетельствующий о наличии на борту людей отменного психологического здоровья, склонных к юмору и любому поводу посмеяться, что, впрочем, вполне соответствует регламенту хорошей морской практики. Общий смех был долгожданной разрядкой. Дед остался доволен и барски разрешил:
— Продолжайте треп, боцман… Передаю эстафету. Эстафета оказалась долгой, часа на два. Со сменой рассказчиков, общего состава и численности слушателей. Разошлись, когда старпом и боцман проверили еще раз бак.
— Утром закончим, капитан. Идите, покемарьте. Я на вахте.
Мы с дедом направились вниз.
— А парни наши — загордились. Моряками себя почувствовали, — неожиданно сказал он, когда мы остановились перед моей каютой.
— Так и должно быть. Неделя в океане. Пора осваиваться.
— Поработаем еще.
— Поработаем.
Похоже, мы поняли друг друга. Экипаж становился экипажем. Сон был неспокойным. Прислушивался. Выглядывал в иллюминатор. Поднимался на мостик. Ночь опять захватила нас прожорливой пастью и жевала, жевала, дыша преисподней и усталым безразличием, с которым и тело и голова тупо реагировали на ветер и волны. Слух притупился, и погода казалась заснувшей. Только палуба под ногами все так же ходила ходуном. Проваливаясь в пропасть или подпрыгивая, и больно ударяя в ноги, которые не успевали уже пружинить и беречь тело. И рубка летела в пустоту или валилась на меня бортовой переборкой, опрокидывая и нависая, готовая раздавить. Потом уходила куда-то в темноту, подозрительно скрипя. Штурвал сам подсказывал рукам, куда его нужно крутить. И крутился. Матросы, молодой Веня и солидный Глеб, научились стоять на руле вполне прилично. Второй помощник, с вяленой рыбой в зубах, (очень помогает мне, Палыч, можно?), занял место у лобового иллюминатора и смотрелся, если не волком морским, то ротфеллером точно. В стойке перед наивной болонкой.
У них все еще только начиналось. И еще путались мечты и фантазии их с бравадой, растерянностью и первыми в жизни разочарованиями. Но дорога уже легла. По воде и разлуке. И пути назад нет. Ведь жизнь не прокрутишь на задний маневр. Ее только вперед одолеть можно. И лучше — как в море: не против, а вместе. Подняться. Размахом и песней. Как даль горизонта. Простором. Размером. Как волны — крупнее. Как крик урагана, подхваченный птицей. Крупнее, ребята. Не надо мельчать нам. От слова « ушел» и до слова « вернулся» — нет меры в часах и минутах, есть только — в слезах и удаче. В голосах и руках. Рядом. С кем ушел — с тем и должен вернуться. Вместе. Этим коротким и емким понятием вместе — промерены наши пути. И дни и недели. Это лучшее наше с тобой обретение — вместе! Лучшее время. Талант и открытие. Дай бог, и здоровья и лет капитану, который сказал нам об этом:
— Это лучшее время, ребята… Дай Бог, еще спеть, обнимая друг друга: «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход…», и хулиганисто крикнуть океану: «Три якоря в глотку! Зеленая муть…». И рассмеяться. Всем вместе. От души рассмеяться… Дай Бог вам, ребята!
Дыни
Тунис. Порт Сфакс. Солнце. Какое яркое оранжевое солнце! И дыни! Дыни были всему виной. Когда привезли их, за два часа до выхода в море, и выгрузили на палубу — женским веером взмахнул по пароходу этот аромат. Не запах — аромат. Запах — это когда лет тридцать назад нас, курсантов, вели строем, морозным осенним утром, из казармы в училище мимо пирожковой, и кто-то из строя закричал, дурашливо зажимая пальцами нос: «Тетка! Закрой форточку! Запах пирожка по улице гуляет — кушать хочется…». А это был — аромат. Дыни — колдовство и наваждение! Огромные. Круглые. Оранжево-желтые. Притягивающие взгляд… А разрезали первую — сочная! Липкая! Сладкая! Как — женщина! Сразу все заулыбались, расслабились, глазки заблестели… Мысли, слова, приятные ассоциации — не побежали, а потекли, подобно медовому соку, по губам, пальцам и по широкому ножу, уже вскрывающему тайны второй красавицы. Звучало шутливое: «Гюльчатай, открой личико. Вспоминалось как собственное, «Шаганэ, ты моя, Шагаэ…», «В том саду, где мы с вами встретились…». И, конечно, «Если нравится флот красавице никуда она не уйдет…». Такая волна душевного смятения и беспокойства, что руки потянулись к биноклю — оглядеть еще раз набережную и балконы домов на противоположной стороне бухты в надежде увидеть силуэт, гордо посаженную головку в платочке, легкую походку… Ах, женщины! Как вы нужны. Как желанны. Как мучительно далеки… Как легко вспоминаем вас, даже… глядя на дыни!
А довершил эту дразнящую волну воображения, воспаленного солнцем, ярким городом и морем, телекс: «…максимальной скоростью следовать Одессу предъявления Регистру …частичной смене экипажа…».
Как я не люблю преждевременные заходы в родные порты, да еще — с частичной заменой экипажа. Только все притерлись, успокоились, уравновесились, а теперь — что кого ждет? Как кого встретят? Проводят? Кого пришлют? Как долго мы будем настраиваться снова на рейс, на работу, на наше взаимное — на борту и вместе…
Свободные от работ срочно побежали к ближайшему береговому телефону — звонить домой, предупреждать, радовать, успокаивать…
Дыни перенесли на корму, ближе к камбузу. В машине и на палубе уже готовились к отходу. Ждали властей. Боцман Гена, по прозванью «что такое», за странную привязанность к этой фразе из какой-то песни, уже дважды безуспешно пытавшийся дозвониться домой, поднимался по трапу. Обычно добродушное выражение лица его было стянуто маской недоброй вести.
— Гена, что случилось?.. Дозвонился?..
При численности экипажа двенадцать человек — все на виду и все не чужие.
— Чем расстроен, Гена?
— Домой дозвонился… С соседкой разговаривал… Что такое — все такое… — Он замолчал и прошел мимо спрашивающих, опустив голову и пряча глаза. Гена был крупного телосложения, но достаточно складен и сноровист в работе, потому так нелепо чужими показались его длинные руки, будто стали они в один миг лишними на его большом и рабочем теле.
— Что это с ним? — Дома, наверное, что-то случилось. Витек, ты его кореш, так иди, дорогой, за ним. Узнай, в чем дело…
Через час, уже в море, весь экипаж говорил об одном — проблеме боцмана:
— Жена его с каким-то мужиком живет, соседка сказала. —Соседка сказала, так это еще не факт. Мало ли чего в жизни бывает?.. — Он поверил. — Ну и дурак. — Дурак не дурак, а оказаться на его месте никому не пожелаешь. — Это верно. — Теперь зависит оттого, как он сам себя поведет. Во-первых, ему надо до нее дозвониться… — Это не во- первых и, даже, не во-вторых. Потому что до нее можно звонить и звонить, а ее то ли дома нет, то ли еще что… Может и хорошо, что не может дозвониться. Может она и сама не знает еще, что с ней действительно происходит и как дальше быть, и что мужу ответить. Встретятся — разберутся! Поэтому главное сейчас — ему — не потерять себя! Крыши у нас у всех, после шести месяцев рейса, как паровые клапана, на подрыве. В работу ему надо. Ни минуты перерыва. А звонить он, конечно, будет. И дай Бог… — Может ему погадать? — Скажешь еще… — А что? И это не исключено. Если он так легко поверил, значит легко поддается внушению, а значит, если правильно все подать — он во что хочешь поверит. — А вот что надо? Ты знаешь, что там действительно произошло? И к чему боцману готовиться надо? И чего ему желать?.. То-то.
Тема гадания всплыла не случайно. В каждом рейсе и в каждом экипаже всегда есть свои особые случаи и особенные типы. У нас был Веничка. Вениамин Иванович. Второй помощник. Сорока четырех лет. С азиатско-монашеской прической длинных седых волос, стянутых на затылке в тоненькую косичку. Лицо у Венички моложавое, усы и борода почти не растут. Он не женат. Считает, что женщины питаются мужской энергетикой. Увлекается Веничка статьями и книжками по парапсихологии, астрологии, хиромантии и прочим ненормальностям. Сам на себя гадает ежедневно. Без этого на вахту не выйдет. А если, не дай бог, в пятницу или понедельник в море — беда! На эти дни особый амулет есть — засушенные в целлофановом пакетике крылышки майской бабочки. На вещи и разговоры обыденные реагирует своеобразно, без житейского юмора. Например, когда на мостике впервые пошутили насчет необходимости « мужского размагничивания» в море — имелось в виду: как мужику без женщины выжить? Обычный морской треп про буфетчицу, сексжурнал, бордель… Вениамин Иванович подошел к вопросу серьезно: сделал себе металлический браслет на руку, на ночь вывешивал в иллюминатор присоединенный к браслету медный провод. Тоже самое на вахте: раз в час выходил на крыло и свешивал провод на несколько минут за борт. Размагничивался…
За месяцы рейса, к всеобщему удивлению, Веничка сблизился с боцманом. И сошлись они, в общем-то разные, неожиданно. На длинном и утомительном переходе из Дакара на Англию, как вирус, пошел кочевать по судну с вахты на вахту, из машины на мостик, с мостика на палубу, треп о степени защищенности мужского организма в смысле сохранения мужской силы и способности к воспроизводству. Диспут. С усмешками, подначками, издевками и обязательными примерами. Ток-шоу. Но, по сути, серьезно. Мужики-то, если подумать, а моряки особенно, — ох, и слабый народ на эту скользкую тему. Механики наши, ребята башковитые, решили определенно, что любой организм, мужской или женский, устроен как машина: главное — не останавливаться. С возрастом — особенно. Остановился — труба. Любой шофер знает, что машина работает пока едет. Останавливаться нельзя! Но Веничка с боцманом — аккуратисты. Что для одного навигационные приборы гонять, что для другого краску в два слоя класть — ресурс! — говорят. Счет вести надо. Отработал свое — суши весла. Может боцман и дома эту философию проводил — экономил ресурс? Может оттого все и случилось?..
— Как там боцман? — спрашиваю у чифа, поднявшегося на мостик.
— Крыша поехала… Слезы текут. Головой в переборку бьется. Бред какой-то несет…
— Пьяный, что ли?
— Трезвый! — восклицает и разводит руками, подчеркивая собственное непонимание. — Все о жене своей плачет… Никогда от него такой реакции не ожидал. Валерьянка не помогает.
— Никто от этого не умирал еще, — вмешивается стармех, почесывая бороду и ухмыляясь. — Если к другому уходит невеста, напевает известный мотив, — то не известно, кому повезло. Опять чешет горло и бороду. — Придет домой. С ресурса своего тормоза снимет и все станет на место. — Подмигивает чифу и, обращаясь ко мне, продолжает уже серьезно.
— Когда грузовые танки мыть начнем?
— Сразу после ужина. Пока погода позволяет. У нас двое суток на мойку, до Греции. А там, между островами и в проливах, опять же, дай Бог погоду, начнем краситься…
— Нам вспомогач перебрать надо… и один шланг на гидравлике крана сифонит…
— Надо аварийное имущество проверить на приход… — добавляет чиф.
— Вспомогач, гидравлику, аварийное имущество — это все вы лучше меня знаете и сделаете. Но самое больное наше место — на сегодня — ситуация с боцманом. Первый закон моря: с кем ушли — с теми и вернуться. Всем и здоровыми! Поэтому ему — ни минуты без чьей-то компании. А значит, если сможет он работать — хорошо, а не сможет — мы ни одного, а двух людей в работе не досчитаемся, потому что за Геной тогда еще и приглядывать надо будет.
— Дела… — тянет чиф с неудовольствием.
— Дела, — поддакивает дед, подмигивает мне и опять напевает: «Если к другому…».
Есть у меня один береговой родственник, очень далек от моря, в станице живет, так он, когда бы к нему ни приехал — кроликов ли он кормит, о гусях ли своих говорит, корову ли в стадо гонит или выезжает на тракторе в поле — встречает меня одним и тем же вопросом: «Ты мне объясни толком, что можно мужику на этом вашем корабле цельные сутки делать? Ну, работу свою или как она там называется… — Вахта. — Во-во, вахта. Ну, поел. Поспал. А более что? Это же с ума сойти от безделья?! Так и сходим с ума. — От безделья? — Ага. — А вам за такое лентяйство еще и деньги платят? — Ага. — Так ты поделись опытом, или как это назвать — не придумаю даже. Может и я тут, на селе, этой методой заработать могу?..».
Как объяснить? Что? Теперь вот шесть суток до дома одна забота — боцман Гена и его проблемы. Ночью и днем. До самого причала. А стоять вахту, мыть танки, красить надстройку и перебирать вспомогач в машине — это, как пить и есть, само собой…
Ночь. Матросы и донкерман закончили мыть танки моечными машинками, ушли мыться в душ и отдыхать до утра. Выключили освещение на грузовой палубе. Сразу стало темно и тихо. Низкая облачность. Звезд не видно. Бак обозначен белыми струями усов из пенисто взрезанных волн, длинно вытягивающихся вдоль обоих бортов. Звука нет. На экране радара две малоподвижных цели в шести милях к северу, очевидно, рыбачки. Обычно, при хорошей видимости, их кормовые огни на слипах проблескивают миль за шесть — восемь, а когда на лов выходят десятки мелких судов, то промысловые банки в заливе светятся маленькими городами. Но это не сегодня. Клочья тумана или низких облаков выплывают из черноты ночи и снова пропадают в ней, молчаливо-лохматые. Эфир молчит. Ровно жужжит гирокомпас. И, слабо подсвеченная, бежит по кругу стрелка на штурманских часах.
Пришел на вахту Вениамин Иванович.
— Добрый вечер!
— Добрый! Посмотрим, какой он добрый… Что там боцман — слезу пускает?
— Затих. Смотрит в одну точку. Ребята пробуют его разговорить, но он, как в трансе. Не видит и не слышит. Может, это его психика защищается от перенапряжения, и отключила восприятие? Я читал о таких случаях, в статье о шаманах и оракулах.
— Дай-то Бог. Но я, лично, после столь бурной первой реакции боцмана, не очень обнадеживаю себя в отношении прочности его психики. Боюсь, нам следует за ним присматривать. И вы, Вениамин Иванович, тоже подумайте. Ведь вы у нас кто? Маг. Кудесник. Духовная защита. Вы уж тоже придумайте что-нибудь. Боцмана поддержите. Правда-неправда… Меня не интересует. Важно, чтобы он свои силы вернул. В себя поверил.
— Я на картах ему погадать могу…
— На картах, на кольцах, на кофейной гуще — на чем угодно. Главное, повторяю, чтобы он поверил.
— Во что? Ведь, если она на самом деле к другому ушла…
— Ушла — так и бог с ней. Жизнь на этом не кончается. Баб много. Это мужиков настоящих мало.
— А во что он должен поверить?
— Что он — настоящий. Вот такой! Моряк! — показываю вытянутую руку со сжатым кулаком.
— Я попробую…
Спускаюсь в каюту. Навстречу поднимается дед:
— Саш Палыч, я к тебе.
— Говори, дедуля. Пойдем в каюту… Что у тебя?
— Я к боцману заходил. Витек — моторист мой там. Думаю, лекарствами Гене не поможешь.
— Думаешь, покрепче надо?
— Само собой. Ты пойми меня, Саш Палыч, с ним разговаривать надо, а какой же разговор без этого самого…
— А Витя справится?
— Обижаешь. Молодая кровь флота. Я за него, как за себя.
— Молодая кровь, говоришь? Не перехвали. — Достаю из холодильника бутылку водки. Протягиваю деду. — Я понимаю, что сейчас не просто разговор нужен, а по душам. А главное, чтобы боцмана разговорить. Он, когда говорить начнет, все для себя и прояснит. Сам для себя. Сумеет твой Витек, такую задачу осилить, как думаешь?
— Я объясню ему. Ты туда не ходи. Отдыхай. И это… Почесал опять горло и бороду, — не беспокойся….
— Закуску возьмите… Хоть дыню…
— Ясное дело. Слушай, а дыни эти — просто сексуальные какие-то. Даже мухи, которые над ними вьются, обалдели и все, представляешь, непотребным делом прямо на лету занимаются…
— На лету? Ночью?
— Точно. Сам видел. Там же, на корме, свет горит… Ой, домой нам надо скорей! — Подмигивает, теребя бороду и закручивая ус. Там я вспомню эти дыни…
Ах, женщины! Теперь все разговоры на судне будут о вас. Теперь полетят тормоза к черту. Надо остуживать экипаж. Кончай расслабляться, мальчики! О чем размечтались!? О женах? О встречах? О домашней яичнице? Не торопитесь. Чего домой рваться? Что вас там ждет? Кто? Поймите, мужики, зелень несмышленая, это на пароходе хорошо: спишь ли, жуешь или на горшке, пардон, задумался, а зарплата идет. Плюс, плюс… А дома? Первое утро проснулся, хлоп по карману, а уже минуса пошли… Минус, минус… Заботы, хлопоты, расходы… Чего там мужику делать — дома? Ему торопиться надо, работу не проморгать. Он только работой — и красив, и нужен, и в себе уверен. Вся история человечества тому учит. Война ли, крестовый поход, великие географические открытия, стройки коммунизма, угольные шахты или подводные лодки — чего только мы ни проходили и ни осваивали ради этого самого «женский взгляд… мужское достоинство… она еще пожалеет… вернется… посмотрит…». И запоминают, бедолагу, по фотографиям, портретам, газетным вырезкам… И дети нас по фотографиям узнают, пальчиками показывают… И жена меня такого, как на фотографии, помнит и любит?!.
Теперь-то обо всем говорят. И в части семейного интима. Что заменить? Как? И какое при этом удовольствие получается… Я это фото — семейный секс, можно сказать, всю жизнь осваиваю, а вот с удовольствием — не получается. Или, как моя жена говорит, с удовольствием — дороже?.. Да уж. Не о цене. Какая цена — коль о собственной жизни! О собственной… любви.
Или это не любовь? Или это не жизнь?.. Потому и сам так боюсь возвращения домой. Поймите правильно. Боюсь первых минут, первых реакций. И вы бойтесь. И вы готовьтесь и будьте терпимее к неожиданностям. Я не о том, что приходишь домой, а жена не одна… Конечно, все может быть — предупреждать надо. Телеграмма, звонок — много способов есть, зачем же без предупреждения? Так можно и на инфаркт нарваться, и на скандал, и на, извините, синяк под глазом. Зачем это? Это не нужно. Культурно предупреди: буду… позвоню… жди. Ей ведь тоже останавливаться нельзя, помните?
И все равно боюсь. Женщины — непредсказуемы. У них свой путь мышления. Особенно первая реакция. Я к дому подхожу — позвоню дважды: первый раз — за две трамвайные остановки (цветы покупаю), потом — за две минуты до входа в подъезд, из углового автомата. А иначе как? Звонишь в дверь, представляешь, что сейчас жена (любовь — можно сказать) двери откроет, бросится в халатике, халатик распахнется… А она — открывает дверь, в чем-то несексуальном, на лице маска из зеленых огурцов… Голос — чужой. Это мне-то?! «Раздевайся на пороге. Марш в ванную. Целоваться потом. Свою идиотскую бороду оставишь вместе с грязным бельем и прочей дорожной дрянью на вынос…». — Я хотел бороду детям показать… — Выбирай: или я — или…».
Секса нет. Поэтому я этих первых минут боюсь, как черт ладана. Понятно, что женщина ждет. Хочет выглядеть красивой. Хочет показать себя хозяйкой. Но лучше тогда встретиться на улице, на виду у прохожих. Чтобы у нее подкосились ноги от радости, и слезы потекли, и глупые слова: «Я не успела в парикмахерскую… Дома картошки нет… Я хотела тебе сметанку купить, и укроп… Ты любишь… Ты так пахнешь. Самолетом. Поездом. Я так соскучилась по твоим запахам…».
Это целое искусство — приготовиться к встрече. Этому учиться надо. Возьмите проституток. Чего смеетесь? Думаете, зря эти девочки тысячелетия пережили? Они на первооткрывателях и инквизиторах, на королях и коммивояжерах свое искусство шлифовали. В чем это искусство? Ни в том, что вы думаете. Эти женщины не телом берут. И телом, конечно, но, главное — отношением. Отношением не к мужчине — она тебя не знает, не к ситуации — ситуация примитивная: плати и получай. Отношением к предназначению — дать. Заметьте, счета еще нет, еще не известно, чем все закончится — банальным сексом, выпивкой, удивлением, разочарованием, мордобоем или любовью… А почему — нет? Из проституток, между прочим, тоже хорошие жены получались. Ведь от этой предрасположенности — дать! — женщина видит и ведет себя по-другому. Она ни умнее, ни красивее. Она — осторожнее, внимательнее. Она — чужая, но чуткая. В ней что— то от жрицы и врача. Доброжелательность? Нет. Поощрительность? Да. Поощрение. Во взгляде. Голосе. Движении рук. Дескать, да! Ты все делаешь правильно… Ты делаешь это лучше всех… Это я-то?.. Она ломает наши представления о разности в возрасте, физических возможностях… Но ломает — навстречу. Ломает, как если бы она ломала лед вокруг вас, чтобы вы могли двигаться к берегу. И от этого сразу: «Какая женщина!..».
Я говорю не о славе древнейшей профессии. Не ловите меня на слове. Я о женщине говорю. Умной. Красивой. Красивой, не смотря на ситуацию. Красивой в смысле умения красиво выглядеть в ситуации. Достойно выглядеть.
К сожалению, от многих любимых бегут мужики искать минутного успокоения. А находят — возвращаются к женам. Ибо, обратите внимание, не телесного ищут, а душевного… И — минутного, повторяю. Ведь глупые рассуждения, что, мол, мужику только « это» надо… Не умные рассуждения. Мужику очень важно увидеть себя со стороны. Тогда он сразу понимает — кто ему нужен рядом. Помните русское «не по Сеньке шапка», вот!.. Это жизнь нас дурачит и путает, а в принципе мы — мужики — очень сообразительные. Вы вспомните, как на курорт приезжаем. Вечером — слепенькие, хроменькие, красивые, длинноносые, русые, черные, в крапинку — все по стенкам стоят, присматриваются. А утром — гляди-ка! — слепенькие к слепеньким, хроменькие к хроменьким, красивые — тоже парами. И так до последнего денечка. И такая любовь?! Почему? Потому как время ограничено и каждый со стороны, как на ладони. А мы ведь все, и мужчины и женщины, более всего и именно со стороны, боимся смешными выглядеть. Вот, наука! А у жизни-то срока нет — этого самого двадцати четырехсуточного, курортного. Как без срока определиться: чего хочется? Чего успею? Кто меня в этой жизненной карусели разглядит, и заметит, и осудит? Бабушки перед подъездом? Контролерша в троллейбусе? Таксист мимолетный?.. И только, когда рядом с другой женщиной себя увидишь, тогда и задумаешься. А задумался — полдела сделал, считай. Это же неспроста, народная мудрость: левак укрепляет семью… Мы же не про тех говорим, которые на чужих ошибках учатся, те — умные. Мы — о больных постоянной влюбленностью… правда, жены это по-другому называют. Ну, так, ясное дело, — женщины!..
— Александр Павлович!
— Кто там?
— Это я … Витя-моторист… Извините…
— Что-то случилось?! С Геной? Живой?
— Живой. Не волнуйтесь…
— Ну, говори, что там?
— Александр Павлович, нам это… нам водки не хватило…
— Как не хватило?.. Вы что там, всем экипажем клюете? Как воронье на чужую беду?
— Мы же, как лучше хотели… каждый по-своему…
— Что он? Успокаивается?
— Непонятно. Глаза красные, как у карася пойманного. И мозги, похоже, как у карася, будто тиной набиты… Слышит ли? Понимает нас? Не знаю.
— Вы пытались его из состояния выбить: разговоры, анекдоты, житейские истории?..
— Рассказывали… что неизвестно, кому повезло… что худа без добра не бывает… что одному — еще лучше…
— А это пели: без женщин жить нельзя на свете нам…
— Нет…
— То-то. Не охать и вздыхать вокруг него надо, а нацеливать. Понимаешь? Женщин красивых знаешь сколько? Особенно у нас. В эсэнговии. Умницы. Умелицы. Самые красивые в мире. Это я тебе абсолютно точно говорю. Национальное достояние! Африканки, вьетнамки, японки — тоже, конечно, хороши. Но у нас-то все перемешаны. От Камчатки до Польши! От Севера до Азии! Коктейль! Все — самое лучшее! Дыню видел? Сверху корка, а аромат вьется. Только улови его. Только помоги ему наружу прорваться. Чуть-чуть помоги. Для этого ты и мужик. Понимаешь?.. Вот о чем ему говорить надо. И в этом вопросе пошутил нету. Некогда раскисать. Пришел на эту землю — делай свое мужское дело: расти, работай, люби. Но так делай, чтобы и тебя — любить хотелось! Ведь женщина без достойного мужика, как бутон без солнышка — не расцветет. На нее смотреть надо. Вздыхать. Стихами говорить с ней. Чтобы она улыбнулась. И все человечество от этой одной улыбки будет множится и улыбаться. Знаешь, почему мамонты вымерли? Не знаешь! Она говорит: давай, миленький, будем любить друг друга. А он отвечает: давай еще поспим. Гад такой! И вымерли. Понимаешь?! Понимаешь, какая на нас ответственность. В глобальном масштабе, а?! Бери бутылку и начинай все сначала. И выгони всех из каюты. Это не пьянка, а дело серьезное. Понял? Смелей, Витя, вы наша смена — молодая кровь флота! Вам останавливаться нельзя…
Эх, молодо-зелено. А мы без женщин не могли ни дня. В том смысле, что хоть поговорить о них, хоть вспомнить. И все мои друзья до этого дела жадные были. Потому что без женщин — беда. Куда без них? Как?! И вино не течет без них. И песня не в радость. А водка? Кому она нужна была бы, если бы не за женщин пить надо? Надо! За любимых!.. Были и мы рысаками когда-то…
Эх, хорошая штука — жизнь!
К полтиннику, после тридцати лет плаваний, перестали сниться полеты с крыльями и без крыльев, над домами, деревьями или под потолками бесконечно открывающихся комнат. А стало сниться, что я хожу по воде, и вода меня держит, а с берега кричат и удивляются. А я не удивляюсь. Как не удивлялся когда-то, когда летал… Я не удивляюсь. И иду себе, и иду. И только иногда, когда качнусь, оглядываясь на берег, и одна нога зависнет на мгновение в воздухе, а другая — продолжает мягко погружаться… начинаю автоматически считать, вспоминая условие полузабытой школьной задачи про давление под гусеницей танка и под женским каблучком. И сразу просыпаюсь, понимая, что это уже не сон. Ибо женский каблучок — это такая реальность, такое начало, такая глубина чувств и воспоминаний, что только попал — тонешь…
Как приятно погружаться в свои воспоминания…
…При ста сорока килограммах веса она была удивительно подвижной и легкой на подъем:
— Пойдем завтра в горы? За тюльпанами. Уже тепло и тюльпаны отходят, но я такие места знаю. И у меня уже кеды новые есть. Чего ты смеешься? Про кеды? Я же не могу плохо выглядеть. Я же женщина кокетливая. И хочу тебе нравиться. Если не хочешь на горы — пойдем на море. Я хочу, чтобы меня видели с тобой… Хочешь, я с этой вышки прыгну? Не веришь? — И уже поднимаешься по лесенке, одной рукой придерживая широкополую шляпу, и с верхней площадки бросая ее театральным жестом: Держи-и! — и шляпа летит, привлекая внимание всего пляжа такая габаритная дама на вышке для прыжков в воду — море из берегов выплеснется! — но ты уже вся в движении: воздушный поцелуй, руки над головой, широкие бедра взлетают вверх, ноги плотно вместе, носки вытянуты — откуда в тебе эта легкость и смелость? Понравилось? Не ожидал? Я хотела тебе понравиться… — Ох, женщина! И какой же это каблучок? Это откровенное забивание гвоздей в гроб холостяцкой жизни. Но ножки? Ножки были. И розовые пяточки. И пальчики, такие же игривые, как и все остальное в гипнотизирующем облаке щебетания и ласк: тебе нравятся мои ножки?.. А выше?..
Но меня не проведешь. Я знаю, что женщина — это совсем другой мир. Это генетически, клеточно, от мозга до тембра голоса другая галактика. И другое тысячелетие. И другой способ выражать себя. Ведь, как они смеются!? Смотрят! Как пальцами касаются… Змея! Луч солнца! Кошка! И перо взлетевшей перед носом птицы… Фантастика. И яд. И мед. И колдовство. Нам, мужикам, как в темноте над пропастью идти и вдруг зажмуриться от вспыхнувшего света — так женщину увидеть! Нельзя — расслабиться, поддаться и ослепнуть! Не верь, мужик! Ищи в ней слабое звено. Противное. Чем хуже — тем спокойней. Найдешь — она твоя. И будет не опасна, как у змеи ты знаешь яд, у кошки — когти, а у солнца — жар. У женщины есть женская душа. Она — и богу тайна. Ты должен эту тайну раскусить. Как яблоко. Увидеть косточку. Ее никто не ест, но из нее, заметь, растет и расцветает сад. И даже червячок внутри — не портит плод. Когда ты неприятное о женщине узнал, допустим, что не любит гладить брюки, селедку чистить не умеет, или от шляпок летних без ума… Достаточно! От этих безопасных слов вся женская душа вдруг проступает, как берег сквозь туман, как только слышен стал прибоя шум или туманный буй нам место обозначил. И все уже не страшно. Коварство, тайна, красота, и поцелуй, и вздох — все можно пережить теперь. Игра уж не опасна… Меня не проведешь… я знаю твой изъян… Он есть. Он в каждой. Он в любой. В тебе —нашел! Теперь ты — можешь быть прекрасна. И чарами своими колдовать. Просить подарки, сладко ворковать, закатывать глаза, немножко врать. Теперь ты — милая! И можно целовать, расслабиться и философствовать. О, проза философии мужской!
— Женщина должна уметь варить борщ, штопать носки и знать, сколько метров ситца нужно мужу на трусы, — говорит наш старший механик, почесывая бороду…
— Мужчина должен быть худой и бегать, а женщина должна быть полной, лежать и ждать мужа, — говорят арабы…
— Ой, дурят вашего брата эти бабы. Ой, дурят! — говорит мамуля. — Они же хитрющие, а вы — дураки против них. И так вам и надо.
— Не слушай своих друзей, не читай пословицы. Слушай свою маму. Мама правильно говорит. Ты очень доверчивый. Очень нежны. Тебя легко обмануть. И я тоже хочу тебя обмануть и заманиваю в свои сети. Но я говорю тебе это откровенно. — Смеется моя тяжеловесная и продолжает меня целовать. И я не сопротивляюсь. А чего сопротивляться? Я вижу ее изъяны. Я себя предупредил. Она толстая — это раз. Это первый недостаток. Но мне, правда, это нравится. Я люблю видеть ее тело во всех зеркалах. И во всех зеркалах она мне улыбается. Как она это успевает?
— Я заметила, что ты любишь меня в зеркалах подглядывать… Я еще одно зеркало купила, ты заметил? Я у тебя, как целый гарем. А лицо одно, только для тебя, любимый… — И опять улыбаешься мне со всех сторон…
Как она умела это сказать: лю-би-мый. Музыка, а не слово.
И как откровенно она пытается меня завлекать. Даже не скрывает. Другие женщины молчали, ждали, вздыхали, таинственно закрывали глаза, а эта — давит напролом. Как танк. Вот. Второй недостаток. Она на меня давит. Не в буквальном смысле, конечно. Я не против тесного общения. А психологически:
— Не можешь ничего мне сказать — не говори. Мне достаточно, что ты со мной, любимый… Любимый. Мне так травится это повторять (а мне — слушать). — Ты мой любимый. Я знаю, что ты уйдешь, что это не надолго (я тоже знаю). — Но зато я успею тебе сказать это столько раз, сколько буду это чувствовать… Любимый… и мне не хочется уходить…
Это третий недостаток — мне не хочется уходить. А я должен уйти. Женщина — это другой мир. Другая галактика. Это чуждая биологически и клеточно микрофлора и фауна. И энергетически!.. Предупреждали меня: смотри, кореш! Эта баба хочет тебя охмурить. Осторожно! Эта веселая баба — ох, опасная штучка! Ей лишь бы петь, танцевать, радоваться. А чему радоваться? Впереди, как бильярдная луза — семья. И ты собственным кием, можно сказать, сам себя в эту лузу гонишь. Зачем? Тебе жить. Думай. И на мать посмотри. Ты ее послушай:
— Ой, сынок, думай сам. И любит она тебя. Вижу. Очень любит. И красивая. Но такая большая! Такая большая! Красивая девка. Ой, погубит…
А танк свое давит:
— Ты о чем это все думаешь, милый мой? Или считаешь что? Так нечего считать. Вот ты — вот я. Чего нам считать-то? Богатство наше все в том, что тебе со мной хорошо, я с тобой — просто счастлива. Ой, пережили голод — переживем и изобилие! Задавлю сейчас!
Надо искать недостатки. Жениться можно только тогда, когда точно и осознанно знаешь недостатки. Ну и конечно, если с этими недостатками ты сознательно готов примириться. Отец мой как говорил? «Женщины делятся ровно на две половины: которые для семьи и которые для блуда. С первыми — надежно, с другими — весело. А как определить — где какие? — тут, сын, как отец тебе говорю, никакой жизни не хватит…». Опять думать надо. Опять искать. Шарада какая-то…
С утра продолжали мыть грузовые танки. Стационарно установленных моечных машинок у нас нет. И потому операции сводятся к довольно трудоемкому процессу перетаскивания шлангов, присоединения их к моечным или пожарным палубным трубопроводам, одной стороной, и к опускаемым в танк моечным машинкам, другой. Бригадир моечной бригады — боцман. Работа физически трудная и ответственная, поскольку перед погрузкой, качество мойки проверяется инспектором и только после его положительной оценки разрешается прием груза, а экипажу — дополнительная оплата за выполненную мойку. А если вдруг танки не приняты под груз по причине некачественной мойки, то судно попадает под штрафные санкции вплоть до снятия фрахта или замены экипажа…
Я ждал — выйдет ли Гена. Вышел. Молчаливый. Но, как обычно, собранный и работоспособный. Тянул за двоих. С каким-то остервенением, никому не доверяя, сам лез в горловину, проверяя качество работы. Вылезая из танка, он либо показывал большой палец, и тогда два матроса демонстративно разводили руки в стороны и улыбались, либо — кулак, и тогда они, подхватывая скребки, ведра и ветошь, вместе с боцманом исчезали под палубой.
Пароход жил своей жизнью. Бежал, покачиваясь. Охал, проваливаясь или больно ударяясь на волнах. Свистел из машины напряжением турбин и металла. И был напряжен, состоянием большого и раненого зверя. Который ежеминутно прислушивается и присматривается сам к себе: что болит? где болит? выдержу? И осторожно продолжает двигаться, оберегая больное место и, как это бывает с каждым из нас, когда, например, поцарапаешь палец, или занозишь ногу, именно больным местом касаешься предметов окружающей жизни.
Стараясь не говорить в присутствии боцмана о больном, мы, естественно, как только его не было рядом, только о женщинах и говорили. Все. И я, конечно, тоже не святой — вспоминал аппетитно большую и улыбающуюся мне мою любимую и очень большую женщину, ее бесхитростно-откровенные знаки внимания, над которыми когда- то смеялся. Но, даже в воспоминаниях, я не позволял себе «потерять бдительность» и поддаться ей полностью. Даже в моих воспоминаниях, наши слова, мысли и обоюдные влечения были подобны упругим потокам двух мощных магнитов, ежесекундно путающие свои полюса и потому, то проникающих друг в друга своими струями, то отталкивающихся:
— Что тебе приготовить? А варенье хочешь?.. И такое тоже есть. И это я умею. И пирожное тебе будет. Я люблю готовить, а для такого классного мужичка готовить — одно удовольствие. И «наполеон» будет — пальчики оближешь. Будешь, как я! Хорошего человека должно быть много… — и показывает, смеясь, себя всю…
Наконец-то! Тысяча недостатков! Закормит! Буду толстый! Одышка появится. Печень сядет от жирной и обильной пищи. Нет! Дураков нет. Это не жизнь — самоубийство какое-то…
— Может, ты хочешь телевизор посмотреть? Последние известия? Включай. Смотри. Я совсем не обижусь. Ты же мужчина. Это нам, женщинам, политика неинтересна. У нас другой мир. Мы о другом думаем. Я все понимаю. Включай. Или хочешь перед сном газету почитать? Или книгу? Не стесняйся. Это же жизнь. Как есть, как спать. Я подожду… Я подожду.
Агитка. Хоть плакат рисуй: «Даешь — брак!»… Дураков нет. Хорошее дело — браком не назовут…
А чего ждать? Во сне уже не летаю. По воде хожу. Чего еще ждать? Сам лысый. Живота, правда, нет. Зато волосатый. Как обезьяна. « Все дяди и тети от пап и мам появились, — говорит наша внучка, — а дедуля — от обезьяны и возьми нашу внучку, к при меру. Это уже не танк — ракета! Ох, достанется кому-то. Любого облапошит. А каблучок— то, каблучок! Еще и ножка-то детская, а, вишь, как вышагивает рядом с бабулей… Как каблучком-то… цок-цок, цок-цок… У-у, галактика… Система! Против нашего брата.
— А что это ты и телевизор не хочешь смотреть и читать не хочешь?.. Да не надо мне от тебя ничего. Отдыхай. Отдыхай. Набирайся сил. И не намекаю я ни на что. И не трогаю я тебя. И ты меня не трогай. Лежи… Лежим. Обнимаемся. Летим! Вместе… Здесь другой мир. И ты здесь другой. И думаешь по-другому. И ведешь себя по-другому. Умный. Ласковый. Добрый. Доверчивый. И умеешь быть большим и щедрым. Правильно: мужчина возбужден — голова не работает. Смелее, любимый! Пережили голод — переживем и изобилие…
Я снова нащупываю дорогу к тебе. Женщина моя! В полете. На воде. Взлетая. Утопая. Проваливаюсь. В другой мир. В другое тысячелетие. В другую галактику. К запаху твоих волос. К телу и улыбкам из тысячи зеркал. К прикосновению твоих пальцев. К… соприкосновению нашему…
Боже, как долог этот рейс…
Третьи сутки. Закончили мыть танки. Кажется, можно вздохнуть с облегчением. Но, не даром говорили в старые времена: когда кажется — крестись…
— Саш Палыч, беда. Боцман говорит, что за борт выбросится. Жить не хочет.
— Что? Где он? В каюте? Сам им займусь сейчас…
— Ты что это дурью маешься!? А ну, кончай! Все хорошо в меру. Можно и поскулить, можно и пожалеть. Хватит! Себя пожалей. Самому жить надо. Подумаешь, жена ушла. Пусть теперь она пожалеет: такого мужика потеряла. Дура.
— Она не дура, Палыч. Ну, что такое? Что такое? Почему все говорят мне, что она плохая. Что она — гулящая. Что она… Она хорошая.
— Может и хорошая. Значит ты дурак. Не смог чего-то разглядеть в ней. Или услышать что-то. У меня вот подруга была — мечта! Сто сорок килограммов! Красавица. В кабаке танцевать выйдет — «Эх, Одесса, жемчужина у моря…». — Кабак гудит, палуба и стены волнами ходят. Столики с закуской подпрыгивают, как костяшки домино. А публика — ревет, как на стадионе. Вспоминаю — плакать хочется. Она мне прямо сказала: я, когда выпью, без мужика не могу… так что — никаких морей! Обижайся — не обижайся, а ждать тебя смогу только до первого праздника, до первой рюмки… Что же мне на нее обижаться? Она ведь тоже — живой человек. Пусть будет счастлива. А ты как думал? Только так.
— И мне жена говорила, что без мужчины не может долго… Что такого?
— А зачем же ты в море подался?
— Я же за заработком. Все такое…
— За заработком!? А она тебе говорила, что не нужны ей деньги? Что она и на копейки согласна, только с тобой чтобы. Говорила?
— Говорила. Но ведь это все женщины говорят. А деньги нужны в семье.
— Правильно. Соображаешь. Но тогда и сообрази, что за все приходится платить. Зубами, волосами, нервами, семьей… Женой тоже. Понимаешь? А всех денег не заработаешь. И это твое «за заработком» — не от нужды, а от зависти. Что, дескать, денег у кого-то больше. Так у этого «кого-то» денег, может быть, и больше, греют ее. Ей ты нужен. Она о слабости своей говорила тебе, просила остаться? То-то. Баба бабе рознь… я без первой жены остался — ушла — дело моряцкое, обычное, можно сказать. Намучился. Двое детей. Мать больная. Беда… Нагулялся, конечно. Меня на баб, как на мед, тянуло. Не мог без них. Но и остановиться ни на ком не мог. Не то, что не верю — не перегорел, не перебесился. А слегла мать совсем, говорит: Женись, не успокоюсь, пока рядом с тобой хорошую женщину не увижу. А где ее возьмешь, хорошую? Кто за меня пойдет? Голь перекатную. Что делать? Взял двадцать конвертов. Под копирку во все концы разослал старым подругам: так, мол, и так… двое детей, мать больная… мне в море надо… за матерью и детьми смотреть будешь, приезжай. Поехали. По две и по три одновременно приезжали. Мать опять плачет: «Бессовестный, — говорит, — разве можно так с женщинами?..». А они ничего. Все понимают. Вместе сидят, обсуждают ситуацию. Каждая, вроде, согласна… только согласна ни здесь оставаться, а забрать меня с моими детьми и мамулей и уезжать. А куда же я мать из родного двора, где она с отцом почти полвека прожила. В Москву? В Прибалтику? В Новосибирск? География большая, а только матушке моей, все равно, как в могилу. Понимаешь? Куда ехать?.. Такая жизнь.
— Что такое? — Нелепо повторил боцман свою обычную присказку и развел руками.
— И как же вы, Палыч?
— Я? А что я? Услышала моя сто сорока килограммовая любовь — приехала, разогнала всех невест, и стали жить поживать и добра наживать, как говорится.
— А море как же? А рейсы долгие? А что такое — она же говорила…
— Я тоже спросил. А она отвечает: «То ведь я любовница была, а теперь — жена…».
— Вот это да.
— Да. Это ведь для женщины разные ситуации. Разные силы. И разные резервы. Понимаешь. А рассчитывать силы близких — ох, какая наука. У тебя от твоих неудач и заскоков может второе дыхание открывается, крылышки прорастают — теперь, дескать, получится! Теперь смогу! — А у них, у близких и родных, только руки опускаются. Вот. Сам теперь знаешь, как женам трудно. Твоя-то…
— А что такое? Ну, почему вы думаете, что она плохая, что она непорядочная?
— А кто говорит? Я и не думаю.
— Правда? Правда, Александр Павлович?! Палыч — вы человек! Вы глаза мне открыли. Я теперь понял: она мне последнее предупреждение делает, чтобы я все продумал и не оставлял ее больше?!
— Ну, увидишь — спросишь. Если не сопьешься за эти несколько суток до прихода.
— Я?! Мне не наливать больше, Палыч. Все! И завтра с утра — в работу! А что такое? Сколько нам идти осталось — пустяк. Я — выдержу. Только меня, пожалуйста, в первый же день по приходу отпустите. Мне очень надо. Я успею. А что такое…
— Ладно-ладно. Давай, кофейку попьем. Удивил ты меня. Тебе сколько лет? Тебе же тридцать шесть, если не ошибаюсь. Ты что, никогда жене не изменял, что ли?
— Никогда. Она у меня единственная.
— Ты даешь. Тебе лечиться надо от идеализации излишней. Так нельзя. Жизнь — штука жесткая. Она расслабленности не прощает.
— Как лечиться? Изменять, что ли? Так я не хочу. А что такое? Мне только она нравится.
— Ты не изменяй. Но — вильни хвостом. Чтобы она заволновалась. Левак укрепляет семью. Слышал такую мудрость? Крутани разок — сразу и увидишь свою благоверную в истинном свете. Какая она есть. А до этого — тебя будто солнцем затмило. Ты и сам на мир смотреть перестал.
— Она сразу догадается, если я только посмотрю на сторону.
— И хорошо. И пусть догадается. Ты даже в наглую. А домой ночью возвращаешься — чесночину в зубы. Пусть у нее мозги набекрень съедут. Вроде ты и от женщины, но запах чеснока — какая женщина может быть? Алиби!
— Что такое? Разве можно? Разве так бывает? А вы?.. у вас?..
— А что у меня? И меня моя милая с моря выжать хотела, письма в местком писала. Что, мол, дома не бываю, семьей не занимаюсь… Лучше, говорит, я тебя каждый день из милиции забирать буду, чем на полгода из дома в море отпущу…
— Вы же говорили, что она изменилась?!
— Так не сразу. Сразу — это агитка только. Знаешь такое слово? Сколько мужиков хороших на этих агитках свои судьбы ломали. А жизнь долгая. Не такое бывало…
— Да ну?
— Вот тебе и «да ну»… Война была. С полной стратегией и тактикой. Но, правильно говорят, бабий ум — короткий, где им против нас. Они слишком серьезно гребут, а жизнь ведь — улыбку любит… я домой возвращаюсь. Поздновато, правда. Чесночину загрыз, для исключения лишних вопросов. Звоню. Моя — будто за дверью ждала — сразу открыла. Я насторожился. Молчит. Подозрительно! Я на кухню. Борща налил. Молчит. В коридор вышла. А у меня в прихожей зеркало висит — аккурат входную дверь с моего места на кухне видно. Смотрю — дверь открывается. Без звонка! Милиционер входит. Участковый. И моя его ведет: сюда, — говорит, — вот он. — На меня показывает. Только я-то не стал дожидаться, пока они из прихожей двигались. Тарелку с борщом себе на голову надел, благо — холодный, и жду реакции. Она — слов нет. С открытым ртом стоит. Участковый спрашивает: кто это тебе? — Она! — отвечаю. — Ну, говорит, — вы тут без меня разбирайтесь… — и ушел…
— А что такое, как же после этого?
— Что как?
— Жить как?
— Я же тебе говорю: веселее смотри! Ты слишком всерьез все воспринимаешь. Так нельзя. Так никаких сил на эту жизнь не хватит. Это же по любви. Соображать надо! И левак. И борщ на голове. И ее письма в местком и в милицию. У нее же вместо коврика под кроватью весы стояли, плоские такие, видел, наверное. Многие женщины имеют. И первый шаг, каждое утро, начинался с них. И первые слова: ой, на два килограмма похудела за ночь! Трудолюбивый ты мой! Дай, я тебя поцелую… Пережили голод — переживем и изобилие… Присказка у нее такая. А ты говоришь — как?
— Вы разыгрываете меня? Вы все это придумали, да?
— Придумал? Может, что и придумал, какой же морской разговор без этого дела, а? — Треплю его пышную шевелюру. — Хорошая штука жизнь, боцман. Хоррошшая!
Боцман улыбается. Пока еще нерешительно. Неуверенно. Но улыбается. Будет жить.
— Александр Павлович, а Веничка мне нагадал — к удаче. А что такое?
— На кольце обручальном, что ли?
— Нет. Он на гайке специальной…
— На гайке? Это что-то новенькое. Ну, отдыхай. Утро вечера мудренее…
Поднимаюсь на мостик. Веничка на вахте.
— Вениамин Иванович, вы что это боцману нагадали, что он так сразу поверил?
— Поверил? Правда? Я — как вы сказали — к удаче…
— Молодец. А что это за новый способ гадания — на гайке?
— Я вам сейчас покажу. Это специальная гайка нужна. Немагнитная. И я рассчитываю ваш меридиан. По дате рождения, знаку зодиака, фазе Луны… я еще дополнительно беру в расчет наши координаты… я сам этот метод усовершенствовал. Надо гайку точно над ладонью держать. Удача на ладонь, называется…
— Удача на ладонь?! Ну, молодец!..
В этот момент в рубку заходит старший механик:
— Ты здесь, командир? Пойдем дынькой побалуемся. Боцман на камбузе дыньку режет — аппетит у него, видите ли, проснулся. Всех приглашает. — Дедуля доволен и разглаживает бороду. — Аппетит к жизни, а? — Улыбается. Продолжает, подмигивая, — А может и на женщин?
— Дай-то Бог, дедуля. Дай Бог…
— Григорий Мартемьянович, — обращается Веничка к деду, — а я новый способ гадания освоил. К удаче…
— К удаче? Удачу, дорогой мой, руками брать надо. Как рыбу. И держать. Чтобы она не выскользнула. Видал, как ее командир держит?! — обращаясь ко мне:
— Ты что там боцману наговорил, признавайся?
— Не помню. Разве важно? Важно, что улыбается.
— Не помнит он? Умный…
— А ты мне леща не кидай… — улыбаюсь в ответ на его улыбку. Мы с дедом хорошо понимаем друг друга. И нам не нужны эти лишние слова, но я продолжаю, понимая, что это нужно для Венички, внимательно за нами наблюдающего:
— Что касается боцмана, то каждый сказал ему свое слово и сделал свое дело. И Витя, и ты, и маг и кудесник наш, — киваю в сторону Вениамина Ивановича. — И я тоже. Почему нет? Как дынька нарезанная — долька к дольке и все вместе.
— Вместе и на месте, командир. — Спасибо, друг. Согласен.
Мы опять летели в ночи. Море и небо сливались в один необъятный космос. 3везды горели, мигали и вспыхивали. Падали, пушистыми длинными хвостами зависая и угасая медленно. Исчезая. На их месте снова проступали чернота и синь, и новые звезды… 3везды сверкали под бортом и тонули. А улетающие в высь и глубину, и ширь, и разбросанные по неразличимым в темноте горам греческого берега мелкие огни, и красные и зеленые огни бегущих к Тенарону17 и от него судов, и чайка, схватившая лапами мачту и распластавшая крылья, словно она подняла и несла наше судно в небе, как собственную добычу, — все спуталось, окружило и сверкало живым пространством огромного тайного и восторженного мира. И судно вздрагивало, как часть его. Как бегущая секундами стрелка тысячелетий.
А дыни покачивались на палубе. И, наверное, виделись из космоса несколькими лежащими, спящими, необыкновенными живыми комочками, так напоминавшими нам женщин…
Лечили и учили потом боцмана и Зина из магазина в Туапсе, и Катя из Феодосии, и хохлушка-хохотушка Танечка, а продолжение я услышал в Дакаре, когда шоколадная красавица Элизабет (конечно, как у всех проституток из бара «Восток», где мы сидели в тот вечер, это было не настоящее ее имя) живо повернулась к нам из-за соседнего столика, сияя ослепительно-белозубой улыбкой и восторженно-доверчивыми глазами: You russian? You know bouswan Gena? Shto takoe… shto takoe? I like Gena. I know russian « shto takoe» …l love Gena…18.
Но это уже другая история.
Морское братство
…С кем ушли — с теми и надо вернуться…
Правило отданных швартовых
Двинулся перрон. Потекли в сторону струйки дождя на стекле. Застучали, ускоряясь, колеса. Стало тихо в купе. Вся прежняя Венькина жизнь тронулась и отъехала в прошлое. Вот он — молодой кадет мореходки — едет с капитаном, которого и увидел-то двадцать минут назад, в тамбуре вагона. Что — впереди?
— Ну, что? — будто читая его мысли, сказал капитан. — Новую жизнь, как и принято в дороге, начнем с ужина. Верно? Под это дело и поговорим. Есть о чем говорить?
— Я технику безопасности не успел прочитать. Там аж двести страниц было. Я начал читать, а ничего в голову не лезет. Расписался только.
— Это беда — еще не беда, — ответил капитан, успокаивая и раскладывая на столе припасы. — Эту науку всю жизнь учить — не переучить. Но главное, главное постараюсь тебе сказать, пока никуда не спешим и время у нас есть. Присаживайся, смелее. Еду надо уничтожать, чтобы нести легче было. Сумка у тебя, прямо скажу, не подъемная. Чего набрал, если не секрет?
— Мама положила всего: теплую куртку, носки шерстяные, свитер… Еды всякой. А у меня книг много, учебников. Одних английских словарей — два, толстенных. Надо?
— Может и надо. Если тебе так спокойнее, значит надо. Позже — сам разберешься. Дальше — меньше будешь возить. Чем старше, тем меньше вещей: все главное здесь, — показал на голову, — и здесь, — показал рукой на сердце. Добро?
— Добро, — подтвердил Веня, с удовольствием повторяя новое для него слово из новой своей жизни, — добро.
— И славно.
Дальше был разговор и ужин, ужин и разговор…
— Что касается техники безопасности? На море она проста. Потому что всего в несколько правил укладывается. Если правила эти усвоишь, то будешь на флоте и будешь жив. Если нет — «на суше суше и спокойней можно жить». Уловил? Какие эти правила?
Первое. Как древние греки говорили: есть люди живые, мертвые, и те, кто ходит в море. Ты, отныне, один из них! Пусть шкура и нутро твои каждой клеточкой и каждую минуту на борту помнят и ощущают опасность. Нутром, на уровне рефлексов! А душа пусть живет каждодневными малыми радостями, как ей и положено жить. С улыбкой. Потому что страхом душе жить нельзя. Запомни. «Глаза боятся, а руки делают». На море всегда так.
Второе. Инициатива на флоте наказуема. Ни боцман по ручкам бьет, а жизнь — по голове.
Правило третье. Не подставляйся и не подставляй других. Потому что на море всегда кто-то за тебя в ответе. Кто старше, кто на вахте, кто рядом. Даже, когда ты спишь. Всегда кто-то за тебя отвечает — за жизнь, аппетит, сон. Не подводи их! На флоте большой грех — подвести товарища. Запомнил?
Четвертое. Правило отданных швартовых, как я его себе отмечаю. С кем в море вышел, с теми и надо вернуться. Это — закон. Наш. Если ты с нами. Согласен?
— Согласен. — Веня улыбнулся.
— Молодец.
— Только я еще ничего не умею.
— А это, заруби себе в сердце, другой закон. Самые золотые — специалисты, умельцы, герои — остаются на берегу или на другие суда попадают. Всегда. Работать на море приходиться с теми, кто на борту. Рядом и сейчас. Это — наши самые лучшие и надежные, потому что с ними и жить, и работать, и вернуться, дай Бог, живыми. Усвоил?
— Я надежный, — сказал Венька робко.
— Значит — не робей и с Богом! Вениамин, как по отчеству?
— Максимович…
— Вениамин Максимыч! Давай, мальчик мой, давай! — Похлопал его по плечу. — Учись улыбаться морю. Оно любит улыбчивых.
Капитан улыбался, не стесняясь своих старых зубов под рыжеватыми бородой и усами.
Тюрьма или дом родной?
Капитан лежал на нижней полке и, по сложившейся за долгие годы привычке, подытоживал перед сном прожитый день.
Рейс начался. Под стук колес, от Одессы на Киев. Завтра, Бог даст, перелет на Париж. Потом в Дюнкерк ночным экспрессом. Утро послезавтра он встретит уже на борту. Какие там проблемы? Что-то говорили в хед-офисе о проблемах с меняющимся капитаном? Проблемы с поваром? Видимо, обычная у бывших советских тяга к продуктовым деньгам: вместо масла — маргарин, вместо мяса — хвосты и кости, вместо… А продуктовые деньги в карман. Стыд. Стыдно, за коллегу. Но — то ли еще будет? Рейс впереди восемь месяцев минимум, и все, что случается у людей в обычной жизни — стыд, боль, радость, любовь, разочарование — все это будет на борту обязательно, со всеми вместе или с кем-то из членов экипажа. Потому что ни рейс на борту тянется, а жизнь человеческая, «разорванная на вахты», как кто-то сказал об этой морской дороге. «Живем мы здесь»! — Сказал другой. И сколько народу пройдет и сменится рядом, на этом пути?
Организм, слава Богу, как верная лошадь, сразу перестроился на рабочий ритм. Капитан засыпал и просыпался — в поезде, такси, самолете, опять поезде и такси — мгновенно организованный к действию или в полудреме проигрывая ситуацию «на полшага вперед». У него давно уже выработалось понимание того, что чем выше мужчина поднимается по служебной лестнице, тем более он становится одинок в принятии решений и ответственности. Это был закон жизни, выстраданный им на собственных шкуре и нервах. Это было нормально. Что волновало? Волновали зубы, потому что за все в жизни приходится платить, а зубы у него самого оказались именно тем слабым звеном, которое приходилось более всего защищать и скрывать. Деньги, которые он на них ухлопал, в расчет не шли: деньгами жевать не будешь. Дай Бог здоровья тому дантисту, что внешнюю красоту навел идеально: улыбайся, капитан, улыбайся! А то он даже бороду и усы носил одно время, чтобы не ладонью прикрываться перед собеседниками, а рыжеволосой мохнатостью.
Предупреждение Федор Федоровича о напряженности в экипаже на почве продуктовых проблем его не пугало. Чьи-то личные нервозность и конфликтность, столь обычные при работе на долгих контрактах, были привычным состоянием мужского общежития. Работа как таковая, с вахтами, портозаходами, грузовыми операциями, погодами в смысле непогод — все это было не проблемами, а нормальными атрибутами его настоящей жизни, как поварешка и нож для повара. Он знал запах и вкус этой жизни. Он рад был языком лизать ее солоноватую суть, как одуревшая корова кидается облизывать камнеобразный кусок соли среди роскоши пахучего сена. С образом этой языкатой коровы он и заснул.
Все случилось, как и предполагал «на полшага вперед».
Мелькнули нескончаемые и ярко освещенные просторы ночного парижского аэропорта, по которым они долго мчались за убегающим агентом, торопясь выбраться наружу из множества багажных тележек, составленных одна в другую нескончаемыми вереницами или брошенных как попало, выбрались! Снова мчались, но теперь уже на такси, к отходящему поезду. Поезд отхлынул от длинно освещенного перрона, слизав с него суетливую толпу, как волна с пляжа. Успели. Присели. Дремали. Грохотали колеса и свистели турбины, как перед этим ревел самолет. Оглохли. Агент растолкал на конечной станции и снова бежал впереди, к такси.
На причал в Дюнкерке приехали около четырех утра. Танкер швартовался. Холодный сырой туман клочьями висел над освещенными палубой и надстройкой. Судно медленно приближалось, пока не заскрипели кранцы, принимая на себя его железную тяжесть.
С меняющимся капитаном проблем не было, если не считать проблемой его праздное нежелание составлять и подписывать какие-либо финансово-пересдаточные документы. Капитан был похмельно весел. Через двадцать минут, счастливо улыбаясь и подхватив свой легкий чемоданчик, уместный в салонах автобуса и самолета, он сошел на причал и сел в машину агента, беззаботно расслабленный. Экипаж его не провожал. И он этим не огорчился. Видимо, был он из тех, которые помнят постоянно, что капитан и экипаж — категории юридически разделенные и сближать их отношениями человеческими не желательно.
По информации агента, судно следовало на Амстердам после трех-четырехчасовой догрузки. Самое паршивое на море — это работа на коротком плече. Ни отдохнуть, ни поспать. Работа всегда нас выстраивает по стойке «смирно!», а отдыхать — проблема самоорганизации: можешь спать стоя — спи стоя! Не можешь — не спи!
Старший помощник спустился с мостика, постучал в каюту капитана, хотя двери были открыты:
— Разрешите войти?… Старший помощник…
— Очень приятно. Какие у нас проблемы, чиф? Что с грузом?
— С грузом проблем нет, и не будет, я справлюсь. На борту: продуктов нет, и может быть проблема с поваром. Грозит посадить всех на сухой паек, если не будем скидываться ему на дополнительный бонус от экипажа.
— Даже так?
— Так.
— Добро. Спасибо за лаконичность. Где дедушка?
— Дед в машине. У них там ремонт срочный. Дед не знает еще, что вы уже на борту.
— Ладно, с ним позже. Еще пара вопросов: шеф как готовит, откровенно только?
— Готовит хорошо, когда не в запое. Прежний капитан ему позволял раз в неделю, обычно.
— Когда у него контракт заканчивается?
— Только начался, всего два месяца на борту.
— Кто-нибудь в экипаже его заменить может? Я не про умение на вахте яичницу или картошку поджарить, а про полноценную замену на пару недель?
— Нет. Никто.
— Ясно. С кем в море вышли, с теми и жить. Добро. Занимайтесь погрузкой. Я потом найду вас. Сейчас сразу по судну пройду, сам. Не отвлекайтесь… И потом еще надо судовые документы проверить…
Прошел в столовую команды, заглянул на камбуз: кругом была неубранная посуда, В посудомойке лежали немытые после ужина кастрюли и рядом размораживался на утро кусок мяса. Спустился в машину. Там работали шесть или семь человек, видимо, вся машинная команда вместе со старшим механиком. Сам он сидел в ЦПУ и, развернув на столе какие-то чертежи, разговаривал с токарем. Посмотрел удивленно на вошедшего, представился в ответ на приветствие и добавил с недоумением:
— Впервые вижу капитана, извините, который в первые полчаса на борту спускается сам в машину? Чем заслужили?
— Так сердце ведь, — кивнул на машинное отделение капитан.
— А-аа, приятно. Спасибо, конечно. — Стармех был явно озадачен.
— Машина не подведет, товарищ капитан! — разрядил обстановку моторист-токарь, и тут же стушевался.
Капитан спокойно оглядел их, еще трое, увидев постороннего — капитан был без формы — заглядывали сквозь прозрачную переборку ЦПУ, сказал свое обычное:
— Добро. Не буду мешать. Спасибо за работу, — и добавил, обращаясь уже только к деду, пытаясь смягчить напряженность визита шуткой, — я бы на входной двери в машинное отделение набил трафарет типа «Прежде, чем входить сюда, подумай — надо ли?» Чтобы любопытные капитаны без приглашения не беспокоили, а? Не буду мешать больше. Закончите — зайдите, пожалуйста. Отход, ориентировочно, на десять утра. Переход часов десять-двенадцать. — И вышел.
Дед озадаченно смотрел вслед ему. Остальные — тоже.
Еще не ушедшего отдыхать после вахты и швартовки второго помощника попросил разбудить и прислать в каюту повара.
Разговор с коком получился не красивый:
— Говорить долго не буду, некогда. Главное. Через пятнадцать минут нужна заявка на продукты, десятидневный запас. Шипчандлер ждет у телефона. И до завтрака навести порядок на камбузе.
— А я заявку составлять не буду. Мне за нее не платят.
— Вы свой контракт читали?
— А на шо? Повар е повар. Не нравлюсь — давайте мине билет и до побачення. Я со своею квалификацией рестораны в Одессе выбирать могу, а капитанив та пароходы — тюуу! Ось так, товарищу капитан. — Он почему-то перешел на украинский язык, от волнения или демонстративно?
— Вы хотите, чтобы я вас отправил?
— Хочу. Очень хочу побачить, як вы без мине обойдетесь. Контракта контракту, а кушать всем хочется, товарищу капитан, а?
— Сколько надо вам времени, чтобы составить список продуктовых остатков?
— Чего? Смишно мени з вас, товарищу капитан. То ж мои продукты. Я их экономил. А ваших продуктов на борту еще нет, ось так!
— Ну, что же, кок? С вами мне ясно. Время даю вам до восьми утра. Потом — не обессудьте.
— На то ваша власть. — Снова по-русски. — А я свое заработал, могу и уехать. Мне это море, как кость в горле. Я — птица вольная.
— На море, простите, про таких говорят «залетная», кок.
— Вам виднее. Пошел я. А вы, товарищу капитан, не забывайте, хороший повар многое может и капитану без него — беда. Ось так. На завтрак чай с сахаром. Масло кончилось. Джему никогда не было. Ну, ребята знают, сами справятся. Без меня…
Повар так и не появился.
Телефонная заявка шипчандлеру заняла у капитана следующие полчаса, но все, включая фрукты, мороженое и воскресные пиво и колу, тот обещал подвести за час до отхода.
Следующие телефонные разговоры с агентом и Федор Федоровичем насчет замены повара не привели ни к чему. Реальной возможности замены повара в ближайшие десять дней не было.
Потом закрутился с боцманом и дедом, надо было утрясти заявки на техснабжение. Опять встал вопрос о поваре. Где выход? Море любит сильных, а сильные любят поесть и поспать — так на море говорят. Деда, похоже, ситуация с поваром достала:
— Мы и ночью работаем ведь, жрать надо ребятам. Не до амбиций и реверансов. Харч на море — это и здоровье, и настроение, и работоспособность. Надо что-то делать, капитан?
— Что? Замены раньше, чем через полмесяца, быть не может. И это еще при том условии, что мы категорически сегодня потребуем эту замену? В чем я не уверен по двум причинам: во-первых, эти полмесяца надо готовить и кормить, а во-вторых, может можно этого повара поставить на место и работать дальше? Что скажете? Вы же к нему присмотрелись уже?
— Проспится, тогда придет извиняться и уверять в своей готовности работать без замечаний до конца контракта. Увидите. Просто, такой гад. Каждый раз, когда вижу его, думаю, что даже когда он шикарно что-то приготовит, мне его бифштексы и ростбифы на пользу не идут, не принимает их мой организм, как оплеванные прежде. Верите, Александр Павлович? Может я и не прав? Другие едят, хвалят? А я — без аппетита жру. Извините, за откровенность.
— Задача, — протянул капитан озабоченно. — Задача, — повторил, — обычная на море, впрочем. Сколько раз задаем мы себе вопрос, что лучше на борту: хороший специалист, но человек дерьмовый, или человек-душа, но специалист слабый, а? Спрашивали себя? Тот самый случай. А куда денешься? Ни его за борт, ни сам с борта.
— Тюрьма-аа, — засмеялся дед.
— Дом родной, — засмеялся в ответ капитан, подытоживая.
А время шло. В семь пришел боцман, доложил, что начали принимать пресную воду. Спросил его о беспорядке на камбузе и о поваре.
— А что повар? Испытывает судьбу, в очередной раз. Экипаж сокращенный. Переходы короткие. Все замотаны, каждый своей долей работы и ответственности. Повара заменить некем, — ответил дракон и посмотрел на капитана с надеждой, — кем заменить? Какой выход? Есть варианты?
— Пока нет. Разве… Вторые блюда заказать полуфабрикатами, чтобы разогревать только, как в самолете? Поставить поваром, временно, молодого матроса, Веню, который со мной приехал. Обойдетесь на палубе без него?
— Но надо будет помогать, конечно, и на камбузе, иначе парнишке не справится. А ударить его, молодого, лицом в грязь — не гоже. Как, боцман?
— Рисковый вариант. А с поваром что?
— Отправить его сегодня не получится, потому что агент не возьмет без команды Компании. А Компания быстро решение не примет. Переведем его в пассажиры, со всеми вытекающими: зарплаты — нет, питание — за деньги, обратный билет — за свой счет…
— Круто.
— Объявим. Посмотрим. За сутки перехода он нам себя проявит. Тогда и примем окончательное решение. Зовите, боцман, обоих: и повара, и молодого бойца. Его, разумеется, на амбразуру, как Александра Матросова, за славой. Справится?
— Я его еще не видел, — смутился боцман, но тут же добавил с хитрецой, — так ему, молодому бойцу, все равно сейчас, что осваивать? Хоть палубу, хоть мостик навигационный, а хоть камбуз судовой — все с нуля! Справится!
Еще через час «молодая кровь флота» бурлила на камбузе. Повар-профессионал написал заявление «по собственному желанию списать и отправить домой при первой возможности», был переведен в пассажиры и, чтобы не высчитывали из набежавшего контрактного заработка стоимость питания — пять долларов в сутки — мыл на камбузе посуду, чистил овощи и мысленно сочинял новое заявление. На работу! Желание работать приходит сразу, как только потеряешь работу. Закон взаимодействия сознания и желудка.
Бунт или демократия?
Переход до Антверпена, туман, поток телексных запросов из Компании, потребовавший его (капитана) срочных ответов, четыре часа с лоцманом от входного буя к причалу, швартовка, агент и начало выгрузки завершили, наконец, двухсуточное (считая от Киева) бессонное состояние. После короткого обмена мнениями по грузовым операциям и бодро-дружеского старпомовского напутствия: «Идите, капитан, хоть на пару часиков, поспите! Сам справлюсь, а вам к отходу надо быть в форме», — капитан согласился и ушел в каюту. Засыпал с мысленной благодарностью к старшему помощнику: «Слава Богу, с чифом повезло. Грамотный и добросовестный. Сразу видна пароходская школа»…
Проснулся от стука в дверь, глянул на часы: «Проспал, как вырубленный, почти два часа. А ведь не раздевался. Достаточно. Остальное наверстаем в море», — подумал, поправляя одежду и направляясь к двери: «Войдите!»
Вошел Веня. Вид у него был расстроенный. Александр Павлович сразу вспомнил основную проблему на борту и последний их разговор, сутки назад, когда он убеждал парнишку в производственной необходимости:
«Поймите, Веня, возникла такая необходимость. Считайте, что у нас нет повара сегодня. А судно, как на море говорят, не может выйти в море при отсутствии на борту только двух персон — капитана и повара. С капитаном все всем ясно. Но с поваром, уверяю вас, многие заблуждаются. От повара, я всегда говорю и считаю так, зависит здоровье, настроение, работоспособность, отношения в экипаже каждый день, желание встречаться друг с другом за столом и желать друг другу „Доброе утро! Приятного аппетита!“ Нормальный человеческий климат, а? Понимаешь, как многое зависит от повара? Да никакой капитан, сам по себе, этого не даст. Я бы, будь на то моя воля, хорошим поварам платил бы как хорошему боцману, а может и больше. Но, не могу. Платит Компания. Каждому из нас. Ты не умеешь готовить? Боишься, что ребята поднимут на смех твою стряпню? Не бойся. Во-первых, это — несколько дней. Во-вторых, в камбузном деле не мастерство важно, а душа. Как встретил и улыбнулся, как подал тарелку, как спросил о здоровье или предложил добавку? Все важно — в этом камбузном деле. Слышал морские присказки: „Моряки и собаки горячее не едят“, „Горячее — сырым не бывает“? Каждая женщина знает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но не каждая понимает, что хороший моряк, как собака, из плохих рук еду не берет, стороной обегает. Такие семьянины из семьи уходили, эх! Тема не та. На берегу, в ресторане, готовить легче, там не приходится с поваром встречаться в одной каюте или спорить по поводу киевского „Динамо“, например. Здесь, на борту, желание хорошо накормить бывает важнее умения приготовить. Я это же самое нашему дипломированному коку объяснял. Он, кажется, понял. Но амбиции ему мешают. Теперь — остался без работы. А кто не работает, тот безработный. У безработного мысли быстрее крутятся, и заметь, в нужном направлении: ему не амбиции крепить, а семью кормить надо. Поэтому, полагаю, твоя практика на камбузе желудки нам испортить не успеет. А повара, глядишь, вернем на место. Этого? Этого. Или другого. Это другая тема…»
Веня выглядел совсем беспомощным.
— Что случилось, хороший мой?
— Они говорят, что я не имею права работать поваром, потому что контракт подписывал на матроса.
— Кто говорит?
— Все. И повар. И матросы. И старпом тоже.
— Старпом? Ты не ошибся? Ну, ладно. Вернемся по порядку. Обед вчера получился?
— Мне боцман помогал. А салат я сам делал, по маминому рецепту.
— А ужин?
— Пицца готовая была, в коробках. Эти коробки только подогревать надо было в микроволновке. Фрукты помыл и раздал, как сказали.
— Справился? В чем вопрос тогда? Зарплата у повара выше, чем твоя контрактная. Не на много, но выше. В зарплате прав твоих не ущемили. Так какие права нарушили? Молчишь? Иди, ладно, попозже вернемся к этому разговору. Пусть ко мне повар зайдет.
Веня вышел.
Повар пришел так быстро, будто ждал за дверью выхода Вени.
— Вызывали, товарищ капитан?
— Вызывал. Как там на камбузе, в провизионках. Уборку сделали? Продукты разобрали?
— Все сделали, как положено. Помыли. Перебрали. Сложили. Продукты добрые. На десять дней — ешь не хочу. От пуза.
— Вам, кажется, даже понравилось?
— А чем не понравится? Когда есть из чего готовить, так и работать приятно.
— А почему было не так?
— Так хотели экономить, сэкономленные деньги делить.
— Много экономили?
— Много. Половину, я думаю.
— И где эти деньги?
— Известное дело, капитан держал. А теперь, мабудь языком злизав, як та корова. Ото нам хвостом и попало, по вусам. — Вытер, для наглядности, у себя под носом.
— Что, ни с кем не поделился? Все увез? Как же вы отпустили?
— Так он старпому казав, шо деньги у мэни, а мэни — шо у старпома. Ото его душу грец. Дурни мы дурни. Та я ще и выпив, як та курка в супи.
— И что будем делать?
— Ой, дядю, грех. Простите меня, товарищу капитан. Мне дома нельзя появляться, бо за квартиру платить, которую перед рейсом в долг купил. Там теперича жинка моя та двое ее пацанив. А что же я за два месяца заработал — пшик. Мне работать надо, товарищу капитан.
— Весь экипаж соглашался на эту экономию? Или только несколько человек? Остальных в счет не брали?
Повар лишь утвердительно кивнул трижды, в ответ на каждый вопрос. Ситуация стала проясняться.
— Дед был посвящен?
— Ни. Воны з капитаном, тим, шо уихав, не дружкувалы.
— Ясно. Идите. Ничего не обещаю вам. Мне самому надо подумать. Единственно, что обещаю: до завтрашнего утра все решим.
Но решать пришлось раньше. Пришел дед. Сказал озабоченно, что в столовой собрался весь экипаж, ждут капитана. Повод: назначение молодого матроса поваром, в противоречие с его контрактом. Так, может случиться, любого могут кем угодно поставить. А времена теперь изменились. Демократия. Судно в центре Европы работает. Можно за своими правами в любой момент обратиться. Профсоюзы и прочие правозащитники рядом, всегда готовы.
Капитан только спросил у деда:
— Ты о договоренности экономить продукты и делить деньги продуктовые знал?
— Знать не знал, но понимал, что такая экономия есть, а значит и деньги кому— то в карман складываются. Кому-то и деньги не нужны, достаточно бутылку поставить, или лишний раз в каюту капитана на закрытое застолье пригласить, лестно. Идея не хитрая. А человек, как известно, слаб.
— Ладно, пойдем к собранию. Народ ждет.
Два умудренных морскими ситуациями моториста сидели за последним столиком, оглядывали экипаж, собравшийся в столовой команды, и ждали продолжения. Комментировали происходящее, выпендриваясь друг перед другом в зубоскальстве, верный способ спрятаться за расхожую фразу и сохранить собственную независимость. Никому, впрочем, ненужную на борту, где все зависят друг от друга, как известно: «Сейчас капитан придет и все окрасятся. Власть! — Ага, чем дальше в лес, тем третий лишний. — Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать. — Под лежачий камень всегда успеем. — Под лежачий камень пиво не течет. А пиво по утрам не только вредно, но и полезно. — Умник! Лучше синица в руках, чем утка под кроватью. — Ша! Не плюй в колодец, вылетит — не поймаешь. Капитан идет…».
Капитан прошел между столиками к своему месту. Слава богу, на всех флотах сохранились еще традиции, по которым капитанское место никогда не занимается, даже в его отсутствие, капитанский бинокль на мостике даже уважающий себя лоцман берет только с разрешения капитана, все разговоры смолкают, когда говорит капитан. Хотя, за последним столом прокомментировали: «Улыбайтесь! Шеф любит идиотов. — Крепче за шоферку держись, баран!» — Капитан этого не слышал. Начал с вопроса:
— Что значит это собрание?
— Демократия! — неопределенно ответил чиф, сидевший напротив капитана.
— Понятно. Бунт на корабле «Баунти», «Броненосец Потемкин», продолжение всемирной истории мятежного флота… Скажу так, собственное мое мнение, демократия в форме блудливого коллективного собрания, как правило, на флоте испокон веку фиксировалась только в двух случаях: празднование победы и предстоящий дележ добычи или, второй случай, бунт на корабле и последующая экзекуция, проще говоря, наказание виновных. В том и другом случае, до последнего момента бывает непонятно: кого наградят, а кого бросят за борт? — За последним столиком обменялись: «Лучше пузо от пива, чем горб от работы. — Не стой под струей! — Хорошо смеется тот, кто ржет как лошадь». Капитан продолжал: «Поэтому собрания на флоте, по сути, всегда ближе к бунту и именно так должны расцениваться капитаном. Понятно? Демократия на судне, на мой взгляд, подобна коллективному голосованию за право очередности входа в гальюн, простите. Вы этого хотите? Нет? Правильно, свежий воздух всегда был, дай бог и останется, верным признаком настоящего моря и настоящего флота. Демократия, будем считать с этого момента, туалетная бумага обгадившегося политика. Пока мы на борту, забудем о ней. Вернетесь домой, вам столько использованной этой бумаги подсунут вместо чистых салфеток, рот вытирать, что сегодняшнее наше состояние на борту покажется многим, уверяю вас, лучшим местом на Земле и Море и лучшими днями вашей настоящей жизни. Дай бог, чтобы так это и было. По сути, скажу просто: когда вас на борту наемывали с продуктами — вы молчали. О европейских правозащитниках не думали, так? Повар, ответьте товарищам: наемывали?»
Повар встал, неожиданно красный и скорбный:
— Простите, хлопцы. Виноватый я.
— Да его самого надули!
— Так и надо ему!
— Он готовить умеет. А контракт его только Компания может перечеркнуть. Если каждый капитан контракты начнет переделывать, то, что же будет? Какое тогда наше право?
Капитан поднял руку и остановил реплики. За последним столиком молчали и слушали капитана:
— Запомните, первое: в Уставах и Положениях всех флотов и Компаний обязательно сохраняется фраза о том, что капитан имеет право производить любые должностные перемещения с учетом необходимости, здравой целесообразности и профессиональной готовности экипажа. Второе: море всегда оставалось и будет особым положением души и места, где законы сухопутного общества, зачастую, не нужны просто. Они — эти придуманные законы — бывают излишней помехой для нас. Все проще гораздо. Я не буду устраивать разборок сейчас по поводу того, кто и в какой степени виноват: капитан прежний ли, который за все отвечает, но уехал? Старпом ли, который за организацию судовой службы отвечает, но допускал? Повар ли, который и из малого количества продуктов готовить умеет, и зависим по рангу и должности. Сейчас разбираться, только дерьмом друг друга обмазывать, да береговым службам давать повод всех вас считать виноватыми, в той или иной степени. Отослать кого-то домой? Поставить пароход на прикол, а весь экипаж под разборки Компании? Лишить возможности работать и кормить семью? Вы этого хотите? Или, на пару дней, прислать на камбуз ничего не умеющего пацана, и показать зрелому дяде-коку, что каждый из нас пришел заработать, на своем месте — заработать. Один выпал, а все зашатались, как зубы от хорошего удара в скулу. В нокдаун захотели, мужики? Мы — на борту! Пошутил — нету! Мы — должны жить и выжить, сохранив друг друга. На том флот стоял и, дай Бог, стоять будет. А святых людей в море нет, как известно. Святые — только на иконах. В храмах. Наш храм — это наше состояние вместе. Вместе друг с другом! Вместе грести, дышать и, конечно, беречь друг друга. Это, по сути, лучшее творение создателя, когда нам дано самим определить наше хрупкое равновесие — вместе! На камбузе ли? В машине? На мостике? Вместе. Как объяснить это состояние береговому инспектору? Ревнивой жене? Завистливому недругу? На берегу. Так не рассказывайте никому. Сохраните в душе. Пейте с друзьями, когда можете расслабиться, доверяя друг другу: «За лучшие наши дни! Вместе!» Понятно? Кончай дебаты, по местам! А то и в город не успеете выскочить.
— А вы тоже хитрец, капитан! — Засмеялся старший механик, поднимаясь из-за стола.
Экипаж замер, ожидая ответа.
— Конечно. Я хитрю, но не обманываю, заметьте. Мы можем, но только «вместе». Я капитан, но только на борту и с экипажем. Капитана — без судна и экипажа — не бывает. Поэтому я стараюсь как можно быстрее этот экипаж по себе примерить и подогнать! И судно. Как пиджачок. По размеру. Добро? — Добро.
— А что с поваром делать? — спросил чиф.
— С поваром? Кок, вы что делать хотите?
— Простите меня. Я работать хочу. Я так вас накормлю, ребята… Простите, хлопцы!
— Ну, что, экипаж? Что ему скажете?
— Пусть работает. Конечно.
За последним столиком согласно подтвердили старым морским афоризмом: «Часами смотреть бы на море, на красивых женщин, и на то, как другие работают…— Капитан-то шустро расправился: советские поезда самые поездатые в мире. — Ага. И кок на месте: лежит боец — не справился с атакой, ха! — А чиф? Чуть капитаном не стал под шумок? — Не по Хуану сомбреро, факт. Нырнул с аквалангом — не прикидывайся шлангом».
На том и разошлись.
«Остальное подправим в море, — думал капитан, глядя на пустеющую столовую. — Скорее бы выйти из порта и оторваться от берега. Там воздух чище».
Вахта за вахтой
Капитан на минуту задумался.
…Вахта за вахтой пробежала жизнь. Незаметно. Только вчера, кажется, пятнадцатилетний, мог он бегом взбежать по вантам рыболовной шхуны на солнечном летнем Каспии. И видеть сверху простор необозримый неба, распластанного глубоко внизу по голубой и солнечной зыби моря. И ощущать себя юным Зевсом меж морем и небом. От восторга обняв и от страха вцепившись в теплое древо мачты, шатко падающее из-под ног его к далекой палубе, в бусины пены и брызг, скрипящей и вздрагивающей, и медленно наклоняющейся из стороны в сторону так, что он вместе с мачтой летел и качался, с восторгом и страхом прислушиваясь к шевелению центра вселенной, холодной змейкой шевелящемуся у него в животе и горле. Внутри! А рядом рассыпаются паутинки облаков, белые. И бело-голубой овал луны на дневном небе повис совсем рядом от его руки, потянись — тронешь! Легкое и вечно младенческое тельце. И звезды то тут, то там вспыхивают под солнцем в лопающихся глубинах смеющихся волн. И искрами отражаются в небе. Где плывет, укрывая его, перинное одеяло туманного облака, и далеко внизу справа тень этого облака стелется же по поверхности, сине-зеленым по солнечно голубому. И белыми точками взлетают испуганно и машут крыльями морские птицы над этой тенью беспокойного огромного неба…
— Александр Палыч! Смотрите какая тень от облака. Облака в небе не видно, а тень его на пол океана стелется, а? — Это говорит молоденький третий помощник, Веничка. Немного восторженный, немного наивный. Но приятно молодой и счастливый. Не шхуна, а танкер бежит океаном. Не мальчик на мачте, а состарившийся капитан сидит в кресле на мостике у огромного лобового стекла, прогретого тропическим солнцем Индийского океана.
— Вижу, Веничка. Вижу.
— Вам нравится?.. — И без всякого логического перехода, — Александр Палыч, а зачем сейчас мне эти высоты Солнца секстаном брать и всякие способы астрономических определений осваивать? Сейчас ведь на каждом судне приборы спутникового навигационного позиционирования стоят обязательно? Сейчас их на автомашины ставят? У каждого армейского спецназовца во время операции « Буря в пустыне» на руке такой датчик обязательно был и показывал ему самому и командиру в бункере личную позицию с точностью в несколько метров, а?
— Потому что моряку недостаточно этого позиционирования с точностью в несколько метров, Веничка. Моряку обязательно и постоянно надо ощущать себя в пространстве времени. Вся его морская и человеческая культура от этого ощущения. Я бы штурманов учил не по современным таблицам и компьютерным программам звезды считать, а примитивно, как Магеланн на своей каравелле, как японские рыбаки на джонках, или арабские мореходы на самбуках, или древние финикийцы и греки на своих судах, которым и судовой классификации не было, потому что они наполовину из дерева, тростника и ветра, наполовину из духа и мышц человеческих состояли и шевелились, живые… а названия звезд и ощущение времени у тех открывателей были?! На море говорят: «Морская профессия — весь мир». Это не только география в виду имеется. Это, на мой старческий взгляд, можешь верить — смеяться, но это время человеческое и всемирное, со странами, войнами, слезами и радостями, от египетских пирамид до Наполеона, от Крузенштерна и Лазарева до полетов на Луну. Улыбаешься? Не веришь?..
Веня улыбался и не верил. Несколько дней на камбузе не прошли даром.
Он уже третий месяц присматривался к капитану, половина экипажа сменились, и было очевидно, что капитан временами впадает в свою, им самим сложенную за жизнь оболочку, и смотрит из нее на мир, как пучеглазый краб из своего панциря смотрит на нас, когда мы пытаемся дотянуться до него рукой. Смешной капитан. Все на борту давно знают его тайны и хитрости. Если, например, он подолгу не спускается с мостика, значит опять переклинил его позвоночник или скрутили колени так, что спуститься по трапу с мостика он еще может, некрасиво корячась на руках по перилам трапа, а подняться не сможет, или боится, что не сможет. Но боится показать экипажу эту свою немощь и ждет на мостике сутками, когда приступ пройдет. Тогда будет сам рассказывать со смешными подробностями, как, случалось, за оброненным на палубу карандашом полчаса наклоняется или к туалету по переборке крадется на коленях. Со смехом над самим собой рассказывает: «Проверил. Продолжительность минуты, друзья мои, зависит от того, по какую сторону от двери в туалет вы находитесь!? Доказано! На себе проверил, ха-хаха! …Спустился с мостика в каюту, а подняться не могу, колени не гнуться. А ведь каждый мальчишка знает, чтобы подняться на капитанский мостик, надо все ступени пройти, наверх…» Но треп капитана и старшего механика, когда они вдвоем, на одну только эту тему, кажется. На каждой вечерней вахте, хоть одним словом: «Когда-то надо уходить с моря… моряку уходить надо вовремя… когда же уходить надо?..».
Капитан любит смотреть на зеленые волны, солнечно брызгающие над далеким впереди баком танкера, груженного до жвака, тяжело ударяющегося в эти волны и взрывающего их, вскидывая над баком и палубой, летяще осыпающийся поток волнового дождя, свежести и брызг, струящихся по лобовому стеклу. Вот и чайка смотрит на него, старика, в каких-то трех-пяти метрах удерживаясь постоянно над мостиком летящего танкера. Смотрит пристально, слегка покачиваясь неподвижными крыльями, кажется — неподвижными, ибо тоже летит вместе с судном, и ветром, и морем. И временем. Капитану всегда кажется, когда птица морская летит рядом, кося на него одним глазом, как птицы только и умеют смотреть на нас, что это мамулечка, царство небесное ей, смотрит на него и глазами материнскими ему радуется. А он говорит ей, как любит повторять это каждый день, поднимаясь на мостик: «Лучшее наше место — в море! А лучшее место на борту — судовой мостик! Эх, мама…».
Оглянулся на третьего помощника, уронившего циркуль. Недовольно заметил:
— С циркулем штурману желательно обращаться бережно. Это вещь хрупкая и живая. Из далекого времени. Им не в зубах ковырять, не банки со сгущенным молоком протыкать…
— Это не я делал, Александр Павлович!
— А я и не спрашиваю: кто? Мне помощник тот совсем не интересен. На море всегда так: нас сближают и объединяют на одном борту случай и необходимость. Оказались в одном рейсе. Надо отработать и прожить этот отрезок времени. Мы постоянно повторяем одни и те же фразы и выражения, как маразматики или попугаи. Ты слышал, типа: « Беречь каждого! С кем вышли в море, с теми и должно вернуться. «Лучшие» остаются на берегу, на других пароходах, нам — работать и выжить с теми, кто рядом. Для нас — это самые лучшие и самые главные специалисты, это самые близкие и надежные люди. Других не будет. В этом рейсе. Дай бог, так и будет…» Нас удерживают в равновесии или отталкивают требования работы и службы, чувство долга, характеры. Ты слушаешь? Тебе интересно?..
Веня и слушал и молодо не принимал монолог капитана. Было и интересно, и неприемлемо, одновременно. Будто очень хотел пить, открыл кран, а оттуда струя, как из пожарного брандспойта — голова откидывается.
— Ты говоришь, — продолжал капитан, — что хочешь на другой пароход, получше, на контракт повыгоднее, на порты евро-американские, позаманчивее… Вы, молодые, как считаете: «Тот рейс — родителям на подарки, этот рейс — себе на свадьбу, следующий — на квартиру заработать бы…» А того не поймете, что в каждом рейсе капитал складывается или теряется не тот, который зарплате по судовой роли соответствует. Знаешь, как один агент мне сказал однажды: что такое судовая роль? Значки и погоны? Должностной оклад? Нет. Скорбный лист. Когда пароход пропадет или утонет, тогда останется «скорбный лист». Так-то. Настоящий капитал в каждом рейсе — это друзья рядом, ваши отношения, ежедневные минуты за общим столом, разговоры и молчание на вахте, разбитые в кровь руки на палубе или в машине, улыбка товарища. Когда, бывало, придет кто-то с берега и скажет горько: «Квартиру — жене оставил, «жигуленка» — сыну на память, подарки со всех предыдущих рейсов — раздарил и забыли… Что мне осталось?» — «Мы!» — скажет какой-нибудь парнишка-моторист в запачканной робе, оказавшийся в эту минуту рядом, улыбнется виновато и добавит: «Прости, друг, в машину бежать надо…» И поймет бедолага, лишившийся квартиры, жены и коробки на колесах, что не обеднел. Не обеднел! Главный-то капитал его — рядом! Такое понимание — это только на море. Поэтому и говорят моряки: берег и море — это вещи не соединимые. Никогда и никто не поймет на берегу наших сегодняшних настроений, проблем, мыслей. Мы сами, когда на берег попадем, своих мыслей и ощущений морских не поймем и смеяться будем над ними. Над собой смеяться. За наше морское богатство и братство! Недаром, даже тост морской есть: «За то, чтобы мы узнавали друг друга на берегу…». Не слышал?
— Моряку пить нельзя, — молодо парировал третий помощник.
— Почему нельзя? — удивился капитан. — Говорить об этом только не следует, на берегу. Не поймут. А выпить? Иногда лучше выпить, чем рассудок потерять. А когда промерз на вахте, например? Или тропическое вино, которое, кстати, в питьевую воду добавляли для дезинфекции испокон веку? А джин, для малярийной профилактики? А коньяк в кофе?
— А Международная Конвенция и запрет на алкоголь? — съязвил Веня.
— А я говорил тебе, что на берегу и на море понимание разное. Но Конвенция, между прочим, не запрещает спиртное на борту, а регламентирует нормы употребления. Принимаемая доза должна вписываться в нормы способности организма усваивать алкоголь в течение определенного промежутка времени, четыре часа. Это, например, сто тридцать грамм пива, пятьдесят грамм вина, или двадцать пять грамм типа водки. Не всегда и не всем, конечно. А то, как кто-то у нас шутил: «Мы-то пьем, чтоб дурнее быть, а этому дураку зачем?..» Конечно, с каждым может беда случиться. У каждого есть свой «черный день». Никогда не знаешь, когда его ждать? Помнить и готовиться к нему надо. На море это не суеверие, а закон. Поэтому и тосты морские, как законы жизни: «За дом! За друзей! За наших мам! За любовь! За Родину…» А ты как думал? Есть вещи, какими не шутят. Можно жить каждый день шутя, а умрешь все равно всерьез. Как без этого?.. Ты вот о спутниковой навигации спрашивал? Согнутый циркуль мнешь? А знаешь, что точность твоего определения по карте соответствует уколу циркуля в масштабе этой карты. Это может быть, соответственно, и двадцать метров, и две мили, а? Хорошо, что знаешь. А точность определения по спутнику зависит от геодезических систем: запрограммированной в приборе и принятой на карте. Эта разница может тридцать метров составить, а может в несколько миль вылиться. Естественно, в океане это не так важно, а под берегом — смерть. Поэтому, мой тебе совет на будущее, у причала в порту стоишь, возьми и проверь свое место уколом циркуля, по соответствию спутникового позиционирования и рабочей в этом районе карты. Поскольку вблизи этих берегов, как правило, пользуешься картами в одной геосистеме, значит и ошибка будет одной величины. Понял? Я, кстати, как-то в антарктическом рейсе имел возможность сопоставить расхождения в нанесении некоторых островов и береговых линий на английских, бразильских, русских и чилийских картах — до шести миль! Зри в корень и карту читай как Библию. Душой!
Капитан говорил, смотрел на молодого помощника, слушающего и оглядывающего океан впереди, как и положено помощнику на вахте, но подленькие мыслишки о том, что ничего-то парнишка не запомнит сейчас, а придется ему, как большинству на судах до него шевелить мозгами и нервами, вырабатывая собственные стереотипы профессиональных оценок и навыков. Но сказал другое:
— Я вам расскажу, Веня, как когда-то давно, пришлось мне входить ночью в зашторенный ночным туманом Босфор. В светлое время суток мне приходилось несколько раз до этого ходить Черноморскими проливами, но ночью, в тумане, впервые.
— Я ни разу не видел Босфор. Красиво? — полувосторженно спросил Веня. — А течение сильное? — и, не давая ответить, снова вопрос, — а мосты и минареты видно ночью?
— Видно, если тумана нет. Очень красиво освещено прожекторами и специальной подсветкой. А течение местами, у мысов и поворотов, бурлит и струями вытягивается тугими, так что, кажется, пароход в этих струях запутается сейчас, как мужская рука в женских косах. Знаешь? Проходил уже?
— Нет, — молодой помощник смутился, — я вообще еще с косами девушек не видел. Только школьниц с косичками. Или на картинках.
— А-аа. Ну, ваше дело молодое, помощник. Все будет. И Босфор у вас будет свой. Да. А я тогда чуть не оплошал.
— Как?
— Цель на радаре непонятная высветилась впереди и не уходит с фарватера. Я бережнее подворачиваю, и она в берег.
— Помеха локационная? От мачты собственной?
— Нет. От носовой мачты помеха на постоянном расстоянии впереди судна стоит, не приближается. А эта — ближе, ближе… В бинокль смотрю — чисто. А старпом на мостике был, у радара, как закричит: «Врежемся сейчас!» У меня душа онемела, пот холодный, будто под дождь попал, и только тогда вспомнил, что это линия электропередач над проливом висит, от нее и помеха. Как я забыл? Помнил ведь, знал. А забыл. Карты читать до подхода к берегу так, чтобы не было необходимости подходить к ним в проливе — это правило вошло в меня тогда стержнем. Как на кол посадили. Веришь! Турецкая пытка и шрам в сердце на всю жизнь. Может, первый тогда был мой шрам.
— Разве еще были?
— Станешь когда-нибудь капитаном, узнаешь.
— Я может и не стану. Мне и третьим хорошо. Разве плохо? И английский учить меньше, и ответственности никакой почти.
— Это верно. Сейчас большая проблема во всем мире. Не хотят молодые на флот идти. Даже в таких морских странах как Англия, Германия, Греция не хотят пацаны в море. Пустуют классы морских колледжей. Или учатся в них дети эмигрантов из слаборазвитых Турции, Марокко, Ливана, да бывшие наши, из украино-россии- прибалтики… Не хотят в капитаны и старшие механики идти — ответственности не хотят…
— За деньги — всегда пойдут, — убежденно комментировал Веня.
— Всех денег не заработаешь. Слышал такую мудрость? — спросил, ухмыляясь, капитан, и продолжил своей всепогодной присказкой: За все приходится платить. Зубами волосами, нервами, семьей. Деньгами — это самая дешевая плата…
— Это, когда они есть. — Убежденно и, в который уже раз, видимо, парировал третий помощник. — За деньги на флот всегда найдутся добровольно желающие. Вот. Все наши пацаны в школе, кто во флот мечтал попасть, так только за ради денег. Заработать!
— А потом?
— Потом жизнь подскажет.
— Жизнь, Веничка, простите меня старика, штука жесткая и слепая, как паровоз. Она никого не ждет и не успокаивает. Только давит. И с нее не соскочишь в момент, когда и где вам захочется. Как на море шутят: куда ты с этой подводной лодки денешься?
— Почему не соскочишь? Рейс кончился — и пошел…
— Жизнь рейсом не кончается. Вы вот об английском языке напоминали, а в чем проблема? Как вы его учите? Что главное, на ваш взгляд?
Веня растерялся:
— В чем проблема? Учить надо. Без английского денег не заработаешь.
Ни одна крюинговая компания не возьмет. Ни матросом, ни судоводителем. Это каждый пацан в мореходке знает.
— И как ты этот английский учишь?
— Каждый день по десять слов из словаря. Подряд. А как еще? А вы как учили?
— Я учить, считай, в сорок лет начал. Потому что и без английского себя моряком считал не менее, чем тот англичанин, который моих десятилетки и «седовки» не прошел, моих любимых морских авторов, от Жюль Верна до Мелвилла, не читал, остров Робинзона Крузо во снах не видел, хотя, наверное, Куком и Дрейком себя этот парень представлять мог вполне. Но мог ли он быть более моряком, чем я, только потому, что по- английски разговаривал от рождения? Да они, англичане, один другого не всегда понимают и кичатся, кто в каком университете и графстве родному языку обучался? Да весь морской мир говорит на английском с японским, арабским, китайским, немецким, испанским, турецким акцентами. И не стыдятся! Могу я по-русски размазать английскую фразу? Могу! Конечно, сегодня морской профессионализм — это и знание международного языка. Но ведь Конвенции принимаются и издаются на нескольких, признанных за основу, языках, и на русском тоже. Чего нам стыдиться? Это надо, считаю, прояснить для себя обязательно. Для начала…
Капитан осознавал, что трудно им понять друг друга. Он уже подходил к тому периоду жизни, когда самыми важными становятся отношения с душевной ее составляющей, а молодой помощник любил сейчас то, что открывала перед ним перспектива хорошего заработка и молодого здорового аппетита к восторгу жизни. Как кто-то сказал: «Жить в условиях рыночной экономики — это значит переживать двойную трагедию, которая начинается с недостатка, а заканчивается нехваткой…» «Хотя, — думал капитан, — здоровый человек желает только то, что ему полезно, и в этом смысле желания наши есть наилучший ориентир правильного поведения…».
— Почему? — третьего помощника раздражало капитанское пренебрежение к английскому, будто он, капитан, не понимает, что весь мир скоро будет говорить на английском. И китайцы с японцами, и татары с турками, и русские с поляками. Потому что молодежь в развивающихся странах хочет слушать евро-американские песни, танцевать их танцы и получать одинаковую с ними зарплату. А лучше всего — просто пособие. Этого тоже достаточно. Сформулировав эту мысль, Веня сам для себя сделал первое в своей жизни собственное открытие, сразу осознав себя умудрено-взрослым. А что там будет с российско-украинским пространством, и на каком языке будут объясняться дедушки-бабушки со своими внуками и внучками — это ему, Вене, глубоко безразлично.
Это открытие, странным образом, мешало Вене слушать капитана и верить ему, когда тот пытался делиться с ним собственным опытом.
— Я, — продолжал капитан, — сначала поспешил подучить английский в рамках должностных обязанностей, чтобы профессиональную остойчивость свою закрепить. Далее, исходил из общеизвестного у лингвистов, что люди, разговаривающие на разных языках, только на двенадцать процентов объясняются за счет словарного обмена. Только! Остальное взаимопонимание складывается из эмоционально-лицевых гримас, голосовых интонаций и блеска глаз! Глазами, выразительно «обласкивая или поедая», понимают друг друга более всего. Тогда я попытался понять звуковую близость наших языков, чтобы интонационно понимать смысл. Не понятно? Я сейчас приведу примеры из моего личного «словаря звуко-ассоциативных совпадений»:
Eye — АЙ — глаз — (Ай! — кричим мы, если в глаз попадет что-то)
Ear — ЭЙ — уши — (Эй! — зовем мы товарища, окликая)
Spin — СПИН — хребет — (это понятно)
Wrong — ВРУН — неправильно, неправда
Privail — ПРИВАЛ, перевал — преодолевать, господствовать, достигать
Poise — ПОЗА — осанка, равновесие, держать голову
Pompous — ПОМПЕЗ — помпезный
Pagan — ПАГАНЫЙ — язычник
Stupid — ТУПОЙ — тупой — (тупица, ты!)
Stady — СТАТЬ — держаться
Rough — РУХ (укр.) — движение, волнение
Coil — КОЙЛАТЬ — свертывать, скручивать (катушку, барабан, бухту)
Harm — ХАМ — наглый, вредный
Safe — СЕЙФ — защита, безопасность
— Впечатляет? — капитан, похоже, очень гордился своими фонетическими открытиями. — Только не смотри на меня, как на Макара Нагульнова в «Поднятой целине», когда он английские революционные термины учил, к мировой революции готовился… Я просто хотел этот язык душой почувствовать, как первый моряк, например, ступивший на английскую землю и услышавший непонятную речь… Как он должен был эти звуки ушами ловить и мозгами прокручивать? Не задумывался? Как они, первые, могли понять друг друга? Не сразу пришло ко мне зрелое открытие. Мое собственное. Оно в том, Веня, что если хочешь, чтобы тебя понял иностранец, научись формулировать на родном языке, что ты хочешь сказать. Если ты на родном не можешь объяснить или выразить свою мысль, то никакой сверханглийский тебе не поможет, и никто не поймет тебя. Вот почему, так легко объясняются между собой специалисты. Не зная общего языка. Пальцами, карандашными схемами на бумаге, глазами и жестами, двумя общедоступными словами — объясняются и понимают! Извините, товарищ третий помощник, — капитан вдруг действительно сконфузился, встал с кресла, разминая поясницу и неуверенно проходя вдоль лобовых иллюминаторов с одного борта на другой, будто что-то увидел там, в океане, но оглядываясь и на Веню, одновременно, — извините, молодой человек, мое занудное учительство. Вижу, что утомил вас. Но, для разрядки, чтобы завершить тему по-морскому, как говорится, нормальным морским трепом, помните телефонные разговоры в эфире? О чем говорят? Не прислушивались? Очень познавательно. Я для себя фиксировал, — капитан улыбался, глядя на океан, будто все вокруг доставляло ему необыкновенное удовольствие и радость:
— Тридцать процентов разговоров о собаках, тридцать — о квартирных ремонтах, тридцать — о соседях. Остальное, между прочим, о внуках, детях и болезнях. Видимо, боятся расстроить или расстроиться. Пример разговора идеальной жены: «Хорошо, Ванечка… Как ты решишь, родной… Жизнь так течет безрадостно без тебя, Ванечка… Целую, любимый мой». О кошках не слышал разговора ни разу. О собаках, пожалуйста: «Как там мой песик (дома, имеется в виду)?» — Дети нормально, внуки нормально, а песик твой заскучал. Вчера колбаску любимую есть не стал, пришлось ему кусочек ветчинки купить и дать. Скучает без тебя… И вот извольте, этот моряк, по которому песик затосковал, счастлив разговором безмерно, будто со всеми своими родными переговорил и перецеловался, будто информации ему скачали в этом телефонном лепете, как из всемирной сети интернета. Может и так? Я распознал только малую часть информации в этом разговоре, потому что он не для меня предназначался, а сказана была — интонацией, голосом, привычно-условными словами и паузами — целая история радостная и домашняя. Как слова «домашняя колбаса» или «сало» для нормального нашего мужика, с просторов далекой родины. Чего он в этих словах слышит? Чего ему так приятно, как дома побывал? Чего ему беспокойно от этого хохлацкого «са-аа-ло?». Вкусно?!!
Так и шли у них вахта за вахтой.
Записки молодого помощника
Первое, что бросается в глаза в нашем капитане, стоит пробыть с ним более одних суток, так это его склонность слегка пофилософствовать. Слегка. А его страсть обобщать и типизировать, так это «для простоты понимания по каютам и палубам», как он говорит. Иногда за ним можно записывать.
Вчера он пришел на мостик, где я стоял матросскую вахту с чифом, и поздравил меня с первым месяцем в море. Подумать только, я и не вспомнил бы!? А он даже речь произнес, экспромт:
— Один месяц в море — много это или мало? Александр Грин ходил в море три месяца. Джозеф Конрад — пятнадцать лет. Герман Мелвилл — два года. Этого хватило на то, чтобы герои их книг остались жить на века. Такова была сила замечательного коктейля любви, моря и таланта. Желаю вам помнить и уважать эту силу. Самый большой и красивый мир — это тот, который мы сами создаем вокруг себя. Неважно, что половину при этом придумываем или наполовину заблуждаемся. Важно, что он наполнен нашими лучшими ощущениями и полуснами заманчивых парусов, риска и преданности, чести и чистоты. Умей радоваться миру и людям вокруг себя. Рядом с собой. Море учит нас жить и улыбаться на краю жизни. Море дает нам силу и стойкость тех, кто был здесь до нас, стоит только представить на миг, что они смотрели на эти же волны, этим же ветром дышали, так же томились о доме, поглаживая ладонями живое тело притихшего судна, сжавшегося от нашей неожиданной ласки. Не верите? Посмотрите, как отполированы нашими ладонями судовые леера и поручни… Мы так далеко и долго ходим за приключениями, которые у нас в душе… Колумбу хватило одного плавания к берегам Америки, чтобы стать «адмиралом моря Океана», а потом еще четыре, чтобы, вернувшись, умереть «при всеобщем равнодушии». Дрейку — всей жизни не хватило, кажется, чтобы славить в морях свое имя, он и умер на борту… от дизентерии. Вот плата?!
А вам? Сколько надо вам моря, мальчики?! Сколько хочешь ты моря, сынок?..
Вчера капитан затеял поднять весь экипаж на большую приборку, хотя судно иностранное, экипаж смешанный, традиции большого советско-российского флота утрачены. Кому это надо? Контракт. Начнется приходом на борт и закончится через строго определенный период. Нужна нам эта коробка? Эта тюрьма в океане? Нет. Это просто плавучий станок, выплевывающий нам в морды порцию валюты к окончанию контракта. Но капитан начинает с воспоминаний детства:
— Я, — говорит, — помню, что жили мы в гарнизоне. Каждый день играли с пацанами в войну: время послевоенное в Севастополе. В кустарнике были у нас окопы и штаб, шалаш из веток. Отец мой проходил как-то раз мимо, шел из части домой, увидел, спрашивает:
— Ну, сын, показывай, где тут твоя позиция? А что это окопчик у тебя мелковат? Лень копать? Или не учили окапываться? Или товарищами не дорожишь? Ведь убьют тебя в таком окопчике, а товарищам твоим, без тебя, меньшим числом воевать придется? Под пулями.
— Так мы, — пытаюсь объяснить, — только на минуту окопались, сейчас в атаку пойдем, зачем мне окопчик?
— Зачем? Затем, сынок, что и в окопчике жизнь, что и одна минута — большой срок, когда это, может быть, последняя в жизни минута. Потому, должны быть в этой минуте и этом окопчике место безопасное и уютное для винтовки, гранаты, минутного сна или минутной беседы с товарищем, который на эту минуту к тебе заползет. А как же? Твоему товарищу — это о тебе память! Твоей собственной жизни — дорогие мгновения! Хоть во сне, хоть в атаке, а нельзя «на бегу и кое-как» свою жизнь жить. Только — «хорошо и самому памятно». Тогда и минута — «года перетягивает». Так-то, сын. Понял?
— А вы говорите: контракт, восемь месяцев только. Только? Аж, восемь месяцев! Можно их как в тюрьме, а можно — как в родном доме. От нас зависит. Можно считать, что коробка железная, гроб плавучий. А можно — живое судно, живой дом. Как будем?.. Есть моряки-прогонщики, которые только гоняют суда из порта в порт, «прогоняя контрактное время». Есть моряки, которые живут на борту вместе с судном, слушая его вздохи, хромая и ударяясь вместе с ним на океанской волне, чувствуя его силу и возраст. Они одушевляют железо, дружат и старятся вместе с ним.
…На мостике капитан часто напевает в полголоса, совершенно не заботясь о том, хорошо или плохо его исполнение. Поет, как говорится, для себя. Для души. Репертуар совсем уж древний: романсы, морские и военные шлягеры, типа: «Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход… «Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня…». Или начинает излагать собственные соображения о трудностях и специфике морской службы:
…Самая большая беда, с которой приходится сталкиваться каждый день, — это нежелание учиться, нежелание ломать стереотипы, лень думать…
…Что отличает, на мой взгляд, командира от рядового: ответственность!
…Качества достаточные, как мне кажется, для определения кадровой перспективы комсостава: От младшего (третьего) помощника я требую исполнительность и желание! …от второго помощника — стабильность, предсказуемость и надежность. В работе и отдыхе! …Старший помощник, на мой взгляд, — организованность! Старпом, который сам себя организовать не может, никакой экипаж и никакую службу не организует. Не сможет! Особенно важно — организация собственно отдыха. Так жизнь устроена, что в работе она нас выстраивает по стойке «смирно!», и мы крутимся, сутки и более, пока ситуация не будет разрешена благополучно. Отдых, когда на него только пара часов или двадцать минут позволительны, требует огромных усилий и самодисциплины. Это трудно. Это удается не всем.
…Капитан! Что требуется от капитана? — умение видеть главное и не отвлекаться на мелочи. Чувство «слабого звена», которое вот-вот порвется. Жизненная ориентация, внутренняя организованность, здоровье! Дай Бог, здоровья! Только тогда можно, если не разглядеть, то интуитивно почувствовать, что сегодня самое главное — принять груз, а завтра — поздравить моториста или боцмана с днем рождения! Только здоровый, во всех отношениях, капитан может думать и беречь силы экипажа и судна.
Перед подходом к берегу или путям интенсивного движения, капитан повторяет и повторяет свои «излюбленное и выстраданное». Я записываю:
«Судовождение, буквально — манера управлять судном, отражает характер судоводителя: не мешать другим. Ты не один на морской дороге. Не озадачивать другое судно, вести себя предсказуемо. Управлять только своим судном, не диктовать правила и условия другим судам. Не насиловать машину и судно, не прессинговать людей командами. Не «лихачить» на дороге, не пренебрегать опасностью, не рисковать и не создавать рисковые ситуации другим. Все вместе это выражается коротким морским правилом: «Не подставляйся и не подставляй других!».
Я стараюсь слушать капитана, записываю некоторые его высказывания и, следуя его советам, веду собственный путевой дневник. Капитан говорит, что «делать записи по ходу морского плавания — это достойная морская традиция»: «Когда-нибудь, Веня, вы прочтете свои записи и поймете почти все о себе самом: что вы вокруг себя видите? что вас интересует и радует? что в вас самом самое дорогое и главное? А это каждому о себе понимать надо…».
Я и пишу:
14 апреля. SALOUM RIVER. Lundiane. Капитан на мостике разговаривает с лоцманом и переводит мне: о русских женщинах-женах. Они считаются у африканцев умными, красивыми и завидными женами. Но требуют очень многого. Заработок, положение, возраст — все быстро приходит в недостаточно приемлемое. Капитан рассказал лоцману суть сказки про рыбака, старуху и золотую рыбку. Сенегалец понял и долго смеялся. Женщины выбирают ни того, кто нравится, а того, кто может обеспечить. Как везде. Машину себе он купил за 500 долларов, а модные сапоги из крокодиловой кожи для своей красивой женщины — за 1000!
…Ночь на якоре близ KAMATANE. На карте отмечен большой поселок, но на берегу его уже нет. С тех пор, как первый европеец ступил на эти земли, люди побережья стали гоняться друг за другом, ловить, вязать и продавать друг друга. Копья и стрелы заменили автоматами, ловушки — вертолетами и ракетами. Улыбки перестали означать гостеприимство и безопасность, а просто — маска на лице… Ночью прошла примитивная лодка под парусом. Над лампой светлели крыльями тысячи мелких бабочек. На освещенной ткани, как на киноэкране, летали их тени. Бурлила вода в реке. Кричали миллионы птиц и лягушек. Звезды складывались в сверкающие города на небе и снова пропадали в струях горячего воздуха или берегового костра.
…Утром шли по реке. Европейские туристы, мужчины и женщины, на картинно раскрашенном каноэ ловят рыбу. Белые женщины в купальниках лежат, накрыв головы широкими шляпами. Лениво приподнимаются и праздно, без интереса, смотрят… Мужчины смеются и поднимают в руках, приветствуя нас, бутылки пива. Местные газеты пестрят рекламными объявлениями африканского туризма: « Дешево! Экстравагантно! Почти не опасно!» Цивилизованный мир платит солидные деньги за африканский экстрим: барабаны, аборигены, змеи, крокодилы, стрелы — все натурально! Выкрасть среди ночи и убить — «это редко и не у нас… но это придает экзотический шарм отдыху под пальмами».
…Большое африканское каноэ. Издалека слышен над рекой праздничный барабан. Черные женщины в ярких разноцветных нарядах. Зазывно машут и улыбаются. Мальчишка на корме, не отрываясь, смотрит вперед, привстав и управляя большим веслом. На какой-то миг прорывается шум мощного подвесного мотора. Огромный белозубый негр, не переставая, бьет в барабан. На самом носу сидит, накрытая белой полупрозрачной накидкой, невеста. Ее везут на свадьбу. Далеко по реке видны еще несколько праздничных каноэ, наполненных людьми и барабанами.
…Рыбный базар POINTE NDOBOI MARNIA. Семь миль от океана. Каждую рыбацкую лодку, приближающуюся к берегу, встречают толпой, бегут навстречу, смело входят в воду по пояс и глубже, окружают, кричат, размахивая руками, растопыривают пальцы, договариваясь о цене, замолкают, подхватывают лодку со всех сторон и вытаскивают на берег. Часто вспыхивают драки. Тогда торговля прекращается и, окружая дерущуюся пару (иногда это две женщины, таскающие друг друга за волосы), ждут окончания потасовки.
На рейде, кроме рыбацких лодок, катера и яхты туристов. Неожиданно — русская яхта «Пеликан», на борту никого не видно. Как она сюда попала?.. Громко гудит, подзывая рыбаков к борту теплохода «Sirena», сухогруз немецкого хозяина, транспортирующий лундианскую соль по маленьким речным портам африканского побережья. Экипаж российский, восемь человек, второй год на борту…
…27 марта. 24.00. Подходим к мысу Пальмас (CAPE PALMAS). Душно. Океан вымер. Ни птиц и ни рыб. Температура воздуха 33 градуса, вода в океане — 29! Сверкают молнии, приближается шквал от зюйда.
29 марта: появились рыбаки и киты…
30 марта. CAPE THREE POINTS в 25 милях. Рыбаки, рыбаки, огни, лодки, огни…
2 — 4 марта. Лагос. Старший лоцман — 3 надреза по углам рта, 1 — на щеке. Помощник лоцмана — крестообразный надрез на щеке…
Первый AGENT — по одному вертикальному надрезу над обоими глазами (над бровями). Очень деловой. Матроса с больным зубом мгновенно загрузил в свою машину и увез. Счет за вырванный зуб составил 440 долларов! — веселенькая « зубная боль» капитану: как объяснить эти расходы хозяину Компании?..
МEDICAL CONTROL — таракан (где они его нашли?)! Штраф 125 долларов! Отсутствие личной подписи в медицинских сертификатах трех членов экипажа — штраф по 150 долларов за подпись!
IMMIGRATION — Шесть женщин. Крупные, красивые, шоколадные, наглые: «Штраф — 100 долларов». Капитан! — «За что!» — «За наши улыбки, капитан!..»
CUSTOMS — Четверо мужчин. Выдержанные, осмотрительные, на мелочи внимания не обращают, долго продумывают свою цену… За шесть банок краски, которые боцман посчитал пустыми, а они — с остатками краски, штраф 150 долларов. За рассыпавшиеся из пузырька (пластиковый колпачок лопнул) таблетки, двадцать штук, штраф по двадцать долларов за таблетку. Спасибо, что не посчитали каждую таблетку наркотиком, как это принято при обнаружении любой таблетки без упаковки… За отсутствие подписи владельцев в дипломах и морских сертификатах штраф по 150 долларов за каждую отсутствующую подпись!
Итого штрафов больше двух тысяч долларов! Как капитан этих бандитов административных уламывать будет? Предупреждали нас от самого Дакара: в Лагос не ходите! Ограбят. Все соответствует.
GARBAGE — тонкий старик: «Мне 87 лет, я честный». Единственный честный, действительно. Памятник ему поставить!
SHIPCHANDLER — толстый, неуклюжий, ноги полусогнуты и вывернуты ступнями вовнутрь, молчаливый, неулыбчивый (для африканца большая редкость), тянет до отхода, половину фруктов и овощей пришлось вернуть по причине плохого качества.
Второй AGENT — знает десять русских слов: «Сашка, здравствуй, русский, девка, водка, надо, дай, хорошо, знаю, только мне (мине)». Всем улыбается, всех обнимает, преданно смотрит в глаза, перед отходом выпрашивает 10 долларов (для жены!): «Только мине, капитан!».
Рядом с нами стоит у причала мурманский пароход. Земляки. Просят три пустых бочки. Капитан дает «добро». Мурманский капитан — выглядит рыжим мальчиком в шортах — приносит нашему бутылку SMIRNOFF. Пить некогда. Наш капитан вручает мурманчанину бутылку ABSOLUT и желает счастливого плавания: «Прости, друг, что и поговорить не получается, прими «ченч по-капитански».
…Покинули Лагос.
…Бункеровка в океане. M\t ZIKKO. Ночь. Зыбь. Концы от очень новых до очень старых (лохмотья, буквально). Кранцы блестят и громко взвизгивают, со вздохом всплескивая кружева сине-серебряной пены. Черные тела африканских матросов сидят и лежат на палубе ZIKKO, почти сливаясь с чернотой трубопроводов и переходных мостиков, и только разноцветные трусы выделяются четко. Капитан на африканском танкере толстый, лысый, черный, в красной майке — сам замеряет, считает, крутит маховики, открывая и закрывая задвижки — работает за всех. Презент с нашей стороны: самая большая, выбранная им, бочка, пара сапог, ветошь…
…Тропическая ночь. Одна половина небосклона живая и звездная, другая — чернее черного от поднимающихся туч. Частые молнии почти ничего не освещают, такие они далекие и тонкие. Грома тоже не слышно. Лежим в дрейфе посреди океана, ждем указаний судовладельца. Два кита фыркают где-то совсем рядом, в черной бездне океана и неба, как из преисподней: «Уфф! Ухх! … Уфф! Ухх!..». Прошло полчаса. Все изменилось вокруг нас. Море кипит серебристыми струями. Звезды — разве они были?! Тучи несутся совсем низко, ярко освещенные постоянными всполохами молний, озвучены грохотом, раскатами и беспрерывным треском, будто на небе все рвется и рушится. С наветренного борта полнеба побелели от надвигающегося шквала. Ветер усиливается на глазах. Море побелело от летящей в глаза пены и ледяных брызг. Температура воздуха опустилась с тридцати пяти до двадцати двух, но привыкшее к тропикам тело замерзло, как собака под снегом… Капитан на мостике. Дали ход и успели вырулить носом на ветер. Судно задрожало, будто выскочили на мелководье. Вдруг бак и грузовая палуба пропали за стеной воды, рухнувшей на нас с неба. Было ощущение, что судно погрузилось под тяжестью потоков и закачалось, как умное существо, пытаясь сбросить непосильную тяжесть. Палуба и надстройка гудят от дождя и ветра, как электричка на железном мосту. Кажется, что сейчас лопнет, рухнет, вспыхнет, ахнет все вокруг. Капитан размешивает ложечкой варенье в своей чашке и смеется довольно:
— Вот это шквал! Вот это погодка! Красота-то какая… Повезло тебе, Веня!
— Почему повезло? Почему мне?
— Молодой потому что… Для тебя, красота эта!
Двигаемся в сторону экватора. Готовимся к празднику Нептуна.
Экватор!
Точка прохождения экватора, обнуленными значениями широты, забита в путевом приборе спутниковой навигации. По его показаниям экватор пересечем в тринадцать двадцать судового времени. Останавливаться не будем: фрахтователь торопит с приходом в Аргентину, а до нее еще пол океана «спускаться с горки», как шутит дед, подразумевая «спуск» от экватора в сторону южного полушария. «С горки легче бежать!..»
На камбузе готовится праздничный обед: шашлык «по-одесски!», фрукты и мороженое! Под особым секретом готовы соленые огурчики и грибы по фирменному рецепту нашего повара. После того, как его оставили в экипаже, он проявляет чудеса на камбузе и ни разу не заикнулся ни о каких прибавках к контрактному жалованью, наоборот, уговаривает: «Хлопцы! Вы, ото, фрукты та шашлык не фотографируйте, бо ваши жены та родичи, на берегу, не поверят, шо це в рейсе? Будут казати, шо вы на курорте булы? А як не курорт: воздух морской! Харч бугром! Солнце тропическое! Та ще и деньги кажый дэнь платют. Мериканские гроши! Курорт!..». Оказалось, он и улыбаться умеет.
«Хохол без улыбки, как горилка без сала — факт», — смеется над поваром старший механик. С капитаном они чаще всего вспоминают советское время. Только больше, наверное, врут, приукрашивая. Вчера вспоминали или придумали, как пришла на борт радиограмма из кадров: «…выбрать двух мотористов на Доску почета». — А у нас из пяти мотористов — пять пьяниц. Значит, понимаем, из пяти пьяниц выбрать двух лучших! Это просто. На «Судовом листе наших успехов» отмечен весь экипаж, посписочно. Против каждой фамилии отмечено цветным карандашом, кто как работает, каждый день: красным — передовик, желтым — хорошист, синим и черным — лентяи. Агент в порту спрашивает: « А получают одинаково?.. Так эти лентяи — умнее всех!?.»
Как они жили в этом советском времени? И чего они так болеют о нем? Или просто о молодости своей? Наверное. Скоро они уйдут с флота, и никто не вспомнит, был ли Севастополь российским? Кто основывал и строил Херсон и Николаев? И какой такой русский флот громил турок на Черном море и Средиземном, когда?.. Хотя? Мама рассказывала, что папу увидела на улице в Одессе в бескозырке с ленточкой «Черноморский флот», и ходил он потом на китобоях флотилии «Слава» и на научниках в Антарктиду. Папа? Капитан чем-то похож на него, особенно, когда начинает говорить:
— Каждая профессия обязательно привносит только ей присущие особенности в характер добросовестного практика. Бухгалтер становится с годами еще более аккуратным и внимательным к цифрам — «букво-цифро-ед». Старый учитель добрую тысячу взрослых людей помнит по именам и оценкам их в пятом классе и по этим оценкам судит о них взрослых — «идеалист-воспитатель» с вечно поднятой для ответа рукой. Инженер, пытаясь объяснить шестилетней дочери разницу поведения мальчиков и девочек на просторе улицы, будет непроизвольно сползать к сравнениям и аналогиям свойств цветных металлов или постоянного и переменного электрических токов. И аналогии будут! Конечно, я немного упрощаю, немного блефую, немного шучу. Слегка. Но если с таким же упрощенно схематичным подходом оценить профессию моряка? Что увидим? Какие особенности характера формирует морская профессия?
Во-первых, и, безусловно, — лень. «Море любит сильных, а сильные любят поесть и поспать», — гласит старая морская поговорка. Это, видимо, еще с тех времен, когда паруса шелестели под ветром, а моряки, развалясь благодатно на теплых деревянных палубах, пахнувших лесом, сладко подремывали.
Во-вторых, умение мгновенно самоорганизовываться. Ведь на этих тридцатиметровых веревочно-деревянно-парусных конструкциях находилось одновременно от ста до трехсот человек. И все успевали поесть и, простите, сходить в туалет. Найти на палубе свободное место и плюнуть, потому что плевать в океан — было равносильно осквернению иконы. А как говорится: «Морской волк во всем знает толк». Мгновенно, по сигналу ночного аврала, проснуться и найти свое место и дело, когда дождь или снег били в заспанное лицо шквальным ветром и щедрыми горстями холодного страха. «Море — открытая могила», — учили старики-матросы.
В-третьих, когда боцман скомандует: «Спать!» — в секунды — расслабиться и уснуть, следуя старым морским правилам: «Бойся бога и не спорь с боцманом», « Вахта с плеч — можно и прилечь», «Не выспаться всегда успеешь!». Ибо «У воды спина гибкая» и «Воду в узел не завяжешь». — Спать! — Накреняясь, скользя и проваливаясь. Обнимая, летящую койку. Чтобы, уснуть и проснуться готовым сменить других, обречено усталых и мокрых. Если, Бог даст, проснуться живым, конечно.
В-четвертых, изобретательность! Это, безусловно, от лени (смотри выше). Когда моряк спит, он видит во сне свою напряженную работу и представляет всякие измышления и варианты, как бы ему эту работу сделать быстрее или не делать вовсе, например, проснувшись уже в раю в окружении птиц с женскими головами. Ибо: «По морям плавать — не пряник жевать», но «Ни одно плавание не длится вечно», а «Счастливое плавание то, что счастливо закончилось». Вот и приходят тогда ему во сне незамысловатые морские истории, которыми станет он делиться с товарищами, и работа от этого пойдет веселее или покажется легче, и силы экономятся сами, а напряжение, боли, страхи и мысли всякие — все забудется. А друзья, посмеявшись, назовут его трепачем и травилой. Но быстро привыкнут к веселой болтовне, как к наркотику. Будут любить и беречь его. И хвастать на причале или за стойкой бара, если речь зайдет о достоинствах родного экипажа и судна, что есть, мол, у нас на борту такое, чего ни у кого нет. Тогда может дойти и до соперничества между экипажами и даже флотилиями. Создавая особый колорит, выразительный, как цвета морских флагов. Типа: «Нос судна и корму делают разными, чтобы моряки сами не путали» и «Если у тебя одна нить, каната из нее не свить».
Короче, как на море говорят: «Ветер в лицо делает моряка мудрецом». Поэтому пятым (порядок нумерации может меняться) качеством моряка, стабилизирующим его психику, а потому, безусловно, и положительно влияющим на плавучесть и остойчивость корабля, вошла и осталась в морской практике способность по команде «Покинуть судно!» непременно сдурашничать: «Ой, я к нему пуповиной прирос!» или «Мама, я холодной воды боюсь!» Треп в иные моменты, болтовня попросту, равноценны на флоте лестной рекомендации: «Балагур — морское качество хорошее».
Одним словом, поощряется на флоте способность шевелить языком. Чтоб работалось веселее. Чтоб душа грустью не обрастала, как дерево мхом. Чтоб радоваться умел чужому веселью и удовольствию. Глядишь — кто-то улыбнулся с тобою рядом. И — хорошо! Всем! «В морском деле мелочей не бывает», а «Каков экипаж — таков и вояж».
А у нас — экватор на горизонте!
Боцман на баке готовит с матросами пожарный шланг, для окатывания новичков в океанской купели. Показывает капитану на мостик, что у него все готово. Это и меня ждет. Нас, новичков, набралось на борту семь человек. «Целый хор ансамбля песни и пляски бывшего Черноморского флота! — смеется боцман, намекая на наше предстоящее исполнение на баке морских песен. — Капитан сказал твердо: кто песен не выучит и петь не будет — грамоту Нептуна не получит! А я, боцман и «Виночерпий» по совместительству, еще и другое наказание в резерве имею, все поняли?!» Намек понятен. Пришлось нам учить «Варяг», «Раскинулось море широко» и «На рейде большом легла тишина». Как минимум! По поводу «Варяга» много читающий матрос-электрик затеял, было, дискуссию: «Подвига не было, треп один, легенда и миф исторические!» Капитан, как у него это принято, сказал, не надрываясь и коротко: «Есть своя правда у исторических фактов, и своя правда и жизнь у исторических мифов. Одно другому не мешает, поскольку для потомков значение мифов и легенд, зачастую, важнее фактов бывает. Потому что в мифах исторического обобщения и оценки исторической всегда больше, чем в одном факте… Под другими именами корабли и экипажи не менее геройские были. Но факт, что один на один с целой эскадрой на бой «Варяг» вышел — этого никто не оспаривает. А много ли урону японской эскадре сделал? А мог не выходить вовсе и всю войну в Чемульпо простоять без риска? А мог без «Корейца» уйти? Так много чего теперь говорить можно. Сколько кораблей боевых не только свои флаги «Андреевские» спускали перед японцами, да японские поднимали на мачтах без единого выстрела, а «Варяга» не спустил. И вошел он в историю японского и корейского флотов с уважением к российскому флагу и подвигу. Я с корейцами на контракте работал, так они, когда мы, случалось, «Варяга» за столом пели, всегда вставали! Вставали корейцы! Факт! Так нам разве можно ронять эту честь, не нами «на флаг!» удостоенную?!.
Капитан, конечно, еще та штучка. Никогда не поймешь, говорит он всерьез или треплется. Особенно, если они с дедом на пару. Как сегодня утром. Разливает дед в чашки свежезаваренный чай. У каждого чашка своя. У деда — судовая, обычная. У капитана — домашняя, с рисунком: белое лиственное деревце на черном фоне. Капитан спрашивает: «Рассказывал я вам историю этой чашки? Нет? Сейчас расскажу, а то каждый агент от Бристоля до Кейптауна слышали от меня, а вы — нет. Рассказываю. Перед моим уходом в рейс, как-то, договорились с женой сделать незамысловатые подарки друг другу. Каждый — отдельно, не подглядывать! Договорились — сделали. Вечером жена приготовила торжественный ужин, при свечах, на двоих. Две коробочки, в цветной упаковке с бантиками, стоят соответственно около нее и около меня. Обменялись. Распаковываем. У меня: чашка с белолиственным деревом на черном фоне, вы видите ее сейчас. Жена улыбается, распаковывает свою: чашка с белолиственным деревом на черном фоне! А?! В разных магазинах покупали, не подглядывали и мнениями не обменивались. Двадцать лет супружеской жизни! Правда, через океан, чаще…».
Тяга капитана к песенному процессу тоже им обоснована любовно, будто он готовился заранее ее защитить от нашего молодого непонимания или нападок: «Взять, к примеру, любой морской рейс. Экстрим? Конечно! Мозги у нас плавятся натурально. Вопрос, можно сказать, стратегический, учитывая роль мужской половины в оборонно- наступательном комплексе. Потому в 60—70 годах военная наука создала целую программу исследований, как защитить здорового мужика в замкнутом пространстве ракетной шахты, подводной лодки, подземного бункера или аварийного поста. Как его от стрессовой напруги расслабить? Выпить? Спиртное только на третьем месте оказалось, потому что оно, как правило, усугубляет те настроения и эмоции, которые ты сдерживал: грустил, хотел женщину, жаждал смеяться или крушить стены… Секс? Это только на втором месте, потому что в этом замкнутом пространстве, о котором идет речь, минутное наслаждение может непредсказуемо перерасти в моральный конфликт… А что же на первом месте? Пение! В строю, как солдаты. У костра, как в походе. У алтаря, как в церковном хоре, или у стойки бара, перед экраном «караоке» … Не важно, ты поешь, подпеваешь или слушаешь только, но душой ты уже не один. Запомни, науку выживания: учись быть «не один», когда так одиноко…».
Мы продолжали бежать на юг. На баке поливали из брандспойта океанской водой браво поющих «Варяг» семерых молодых и смелых. Солнце зажигало радуги в высоких фонтанах пожарных струй и брызгах, отлетающих от загорелых тел и горячего металла. Клеймили счастливцев судовой печатью в положенное место, обнимали троекратно, по- русски, и вручали каждому долгожданный свиток, составленный капитаном и подписанный им в соответствии с традициями:
«Мы — Нептун — гроза морей! Покровитель кораблей! Мы — Нептун — хранитель злата флибустьеров и пиратов! Мы — Владыка страшных бурь, рвущих водную лазурь! Мы — Нептун — пучины Царь! Океанов Государь! Рыб и тварей Господин! Видим все и говорим: обладателя сего, за геройское его прохожденье за Экватор, в месте, сверенном по карте, искупать в морской купели! Вбить печать на мокром теле! Причастить отменно водкой с огурцом или селедкой! Называть отныне гордо ОКЕАНСКИМ МОРЕХОДОМ! И ходить по всем морям разрешаю лично Я, Нептун — Царь Морской (грозный)!!!
Широта… Долгота… Дата…
Поверенный Царя: Капитан…
Отметка царской таможни: мореход Вениамин Максимович …экватор прошел!»
Вручая грамоты, предусмотрительно вложенные в целлофановые файлы, чтобы не намокли и не потеряли вид, капитан спросил, хитро щурясь:
— А кто из российских моряков первыми в истории отечественного флота пересек экватор?
Веня, предупрежденный старшим механиком за неделю до события, отрапортовал браво, радуя всех и себя, в том числе, так ему это понравилось:
— 14 ноября 1803 года шлюпы «Нева» и «Надежда» под командованием Крузенштерна и Лисянского! Первое российское кругосветное плавание!
— Молодец, третий помощник! — В тон ему отчеканил капитан, молодцевато подбирая живот рукой и вытягиваясь: «Благодарю за службу и желаю счастливого плавания!».
Когда утихли и расслабились, разглядывая сертификаты и ожидая выключения пожарного насоса, чтобы уложить на палубу шланги, Веня добавил к своему рапорту несмело:
— На каждых трех?! — артистично парировал капитан.
— Ай, да помощник! — радостно поддержал боцман. — Ай, да память молодая и в корень!
— Добро, экипаж! — весело подхватил капитан. — Хорошо, когда все хорошо!
≈≈≈
На вечерней вахте Веня сделал в тетради короткую запись:
«Сегодня на экваторе, когда меня поливали водой из шланга, мне показалось, что моего плеча коснулся рукой отец. Он где-то совсем рядом. Может здесь, у экватора, он и погиб?»
Веня посмотрел в иллюминатор, за которым было темно и бесконечно, как тысячи лет назад. Задумался на минуту и продолжил: «Как странно сказал капитан сегодня деду- имениннику: «Спасибо тебе за то, что мы вместе. Что ценим не то, чего мы достигли, а что не разлюбили за жизнь. Как пацаны перед лужей с корабликом…».
Примечания
1
Слова известной морской песни.
(обратно)2
Слова известной морской песни.
(обратно)3
Спасибо.
(обратно)4
Пьем! За нас — с океана! За наше лучшее состояние — вместе! За Катюшу!
(обратно)5
Старые суда.
(обратно)6
Тип океанского траулера.
(обратно)7
Второй помощник капитана.
(обратно)8
Старое судно.
(обратно)9
Деньги периода СССР, до перестройки.
(обратно)10
Стыковочная часть палубного трубопровода.
(обратно)11
Груз крепится между принимающей и передающей оттяжек.
(обратно)12
Эрих Фромм «Анатомия человеческой деструктивности».
(обратно)13
Внимание! Я буду показывать только один раз. Утром вы должны быть способны проверить все сами. Максимум внимания!
(обратно)14
Порт назначения — Кобе. Рейсовое время примерно четыре часа. Лоцман будет ждать вас. Счастливого рейса. Скоро увидимся.
(обратно)15
master — капитан (англ.).
(обратно)16
Русский танкер… Русский танкер… Капитан говорит. Как меня слышите? Говорите, капитан. Русский капитан слушает. — Я чрезвычайно обязан вам и вашему экипажу за профессиональную поддержку. Никогда не забуду нашу встречу. Всего наилучшего, мой друг. — Пустяки, капитан. Норма океана и наша обязанность. Счастливого плавания.
(обратно)17
Мыс на юго-западной оконечности полуострова Пелопоннес (Греция).
(обратно)18
Русские? Вы знаете боцмана Гену? Что такое… что такое? Мне нравится Гена. Я знаю по-русски «что такое»… Я люблю Гену…
(обратно)




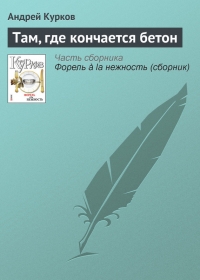

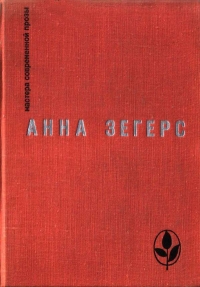

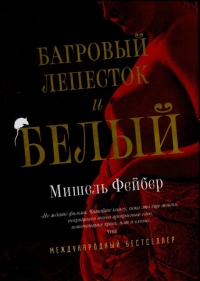



Комментарии к книге «Африканский капкан», Николай Бойков
Всего 0 комментариев