Крусанов Павел Другой ветер — Знаки отличия
Бессмертник
Сменив имя сотни раз, настоящего он, разумеется, не помнил. Для ясности повествования назовем его Ворон, ибо ворон живет долго.
Он родился в христианской стране, в семье горшечника. Счастье его детства складывалось из блаженных погружений голых пяток в нежную жижу будущих горшков, из путешествий по узким улицам-помойкам, из забиваний палками жирных крыс в мясном ряду рынка, из забавного сцепления хвостами собак и кошек, из посещений ярмарок, где смуглый магрибский колдун в шерстяном плаще с бархатными заплатами показывал невероятные чудеса вроде пятиглавого и пятихвостого мышиного короля или удивительного человекогусеницы с веснушчатым лицом и длинным мохнатым туловищем, внутри которого, казалось, катаются большие шары. За особую плату гусеницу разрешалось покормить рыхлым кочанчиком капусты, похожим на зеленую розу, и расспросить о своей судьбе.
Ворон любил глину за то, что в пытке огнем она обретает земную вечность, и годам к четырнадцати выучился делать неплохие горшки — от щелчка ногтем тонкие их стенки звенели, будто медный колоколец. Почуя выгоду, отец бросил ремесло, посадил за гончарный круг сына, а на себя взял труд торговать звонкими горшками. Дар мальчика сломал счастливое течение его дней. Hо по принуждению глину Ворон ласкал без любви, ему было милей воровать на рынке кислые яблоки, и он убегал из дома в пыльный город. Дабы развить в сыне усердие, горшечник позвал кузнеца в кожаном фартуке, и тот заключил цыплячью шею Ворона в железный обруч, скрепив его цепью с кованым кольцом у гончарного круга. Братья и сестры, не имевшие дара к творению тонкостенных горшков, с глупыми лицами прыгали вокруг Ворона и, как собаке, кидали ему кости.
Страшными проклятьями ярмарочных цыган Ворон проклинал свои руки, сделавшие его цепным псом, он завидовал неумелым рукам своих сестер и братьев, он плакал над быстрым гончарным кругом, и слезы его вкраплялись в стенки растущих горшков. Эти слезы принесли ему новое горе — после обжига горшки на удар ногтя по румяной скуле отвечали заливистым детским смехом. Со всего рынка сбегались люди к удивительному товару и не стояли за ценой.
Год сидел на цепи Ворон. Дабы не оскудели в нем чудесные слезы, отец кормил его вяленой рыбой и подносил воду ведрами. Спал Ворон тут же, у ненавистного гончарного круга, в аммиачном запахе мочи, на старой, прохудившейся дерюге. Глаза его обесцветились и сделались жидкими, немытое тело покрылось вонючей коркой, он искрошил зубы, грызя ночами подлую цепь, выл во сне, как воют наяву псы, цыплячью его шею под железным обручем опоясала гноящаяся кольцевая рана.
Через год такой жизни, на карнавальной неделе, бывший горшечник решил подарить сыну, которого ошейник уже научил кусаться, день воли. Намотав на руку цепь, горшечник привел Ворона на площадь — он покупал ему липкие палестинские финики, лидийский изюм, солнечный лангедокский виноград и сладкие орехи из Кордовы; отец не скупился — теперь смеющиеся горшки за звонкую монету скупали у него арабские и генуэзские купцы, знающие настоящую цену любому товару и за любой товар дающие лишь половину настоящей цены.
Hа площади под высоким выгнутым небом разложили коврики акробаты: татуированная женщина с лапшой мелких косиц на голове обвивала ползучим телом собственные ноги, голые по пояс борцы ударяли друг друга о землю с такой силой, что шатались опоры, растягивающие струну канатоходца; тулузские музыканты щипали струны, дули в свирели и высоко поднимали голосами песню о храбром Оливье — паладине великого Карла; у палатки бородатого рахдонита, торговца человеческим товаром, доставившего в город красивейших женщин мира — желтоволосых славянок, черных нубиек, хазарок с иволистными глазами, — толпились воры и стражники, желающие за серебряную монету купить на час тело полюбившейся рабыни.
Отец водил сына на цепи по пестрой площади до тех пор, пока не возникла на их пути красная, как сидонский пурпур, палатка магрибского колдуна.
— Я хочу узнать свою судьбу, — сказал Ворон.
— Будь ты послушным сыном, — предположил горшечник, — судьба бы сделала тебя мастером гильдии, но ты — бездельник и мерзавец, поэтому — вот твоя судьба! — И он звонко тряхнул цепью.
— Кто там звенит деньгами, вместо того чтобы купить на них тайны будущего? — послышался из палатки голос магрибца.
— Я хочу знать, — сказал Ворон, — долго ли мне суждено делать для тебя горшки.
Горшечник решил, что это действительно полезное знание. Он дал сыну монету и на цепи впустил за полог палатки.
— А где мышиный король? — спросил Ворон, получив от магрибца капустный кочан и не найдя за ворохом колдовских трав иных чудес, кроме человекогусеницы.
— Он умер в Никее полгода назад, — ответил магрибец и вскинул руки, унизанные браслетами и перстнями. — Все мыши Вифинии сошлись на его похороны. Это было жуткое зрелище — три дня Никея походила на сахарную голову, оброненную у муравейника! Триста тридцать человек было съедено мышами заживо! При этом никто не считал сирот и чужестранцев!
— Я вижу на девятьсот лет вперед, — сообщил провидец, насытившись капустой, — я вижу, как гибнут и зарождаются царства, я вижу будущих властелинов мира и их будущих подданных, я знаю о грядущих ураганах, морах и войнах, я вижу коварный дар, скрытый в тебе, Ворон, но я не вижу твоей смерти.
— Что ты сказал? — удивился хозяин палатки.
— Я вижу на девятьсот лет вперед, — повторил человекогусеница, — и я вижу его живым.
Магрибец поднялся из вороха своего колдовского хлама.
— Почему на тебе ошейник, оборванец? Ты сторожишь дом своих почтенных родителей?
— Нет, я делаю им горшки, в глину которых подмешены мои слезы. Эти горшки умеют смеяться, потому что огонь превращает глину в камень, а мои слезы — в смех.
Магрибец посмотрел на Ворона глазами, похожими на два солнечных затмения, — вокруг черных зрачков плясало пламя, — но Ворон выдержал его взгляд. Тогда магрибец расхохотался, так что задрожал его плащ с бархатными заплатами, и выскользнул наружу.
— Сколько золота ты хочешь получить за своего сына? — спросил колдун горшечника, который стоял у палатки с цепью в руке и общипывал губами кисть винограда.
— Пока он сидит у меня на цепи, я буду иметь столько золота, сколько найдется в округе глины, — усмехнулся горшечник.
— Я превращу тебя в свинью, — сказал колдун, — тебя зажарят на вертеле посреди площади, и твои соплеменники сожрут тебя, потому что ни правоверные, ни даже иудеи-рахдониты такое дерьмо, как ты, есть не станут!
Еще три унизительные смерти предложил на выбор магрибец, он даже показал мазь, которая превратит горшечника в желтую навозную муху, и показал бычью лепешку, на которой его раздавит копыто вороного жеребца королевского глашатая, он хохотал, браслеты звенели на его смуглых запястьях, но горшечник разумно выбрал жизнь. Колдун дал ему все, что у него было, — тридцать золотых солидов, двенадцать из которых были фальшивыми, — и горшечник ушел прочь, бросив цепь на землю. Под стенкой палатки валялась суковатая палка; магрибец поднял ее, воткнул в землю и повесил на сучок цепь.
— Я превратил твоего отца в сухую палку, — сообщил колдун, вернувшись к Ворону. — Ты можешь сжечь ее или изломать в щепки, но даже если ты этого не сделаешь, ты все равно свободен.
— Кто теперь будет кормить мою мать, моих паршивых сестер и братьев?! — воскликнул Ворон.
— Я устроил так, что сегодня над твоим домом прольется золотой дождь, — сказал колдун.
Ворон выдернул из земли кривую палку и смерил ее жидким взглядом.
— Я сделаю из своего отца посох, чтобы пройти больше, чем могут мои ноги.
— Меня зовут Мерван Лукавый, — сказал магрибец, — а Мерваном Честным будешь ты.
Так, расставшись с жизнью цепного пса, Ворон впервые сменил имя.
Мерван Лукавый взялся образовывать Ворона в науках. Познания Мервана были велики: колдун рассказывал юноше о морской миноге четоче, которая одарена такою силой в зубах и мускулах, что способна остановить галеру, рассказывал об огромной птице Рух, кормящей птенцов слонами, о странах, где живут люди с собачьими и оленьими головами, люди без глаз и люди, которые полгода спят, а полгода живут свирепой жизнью, рассказывал о древнем Ганнибале, проделавшем проход сквозь Альпы при помощи уксуса, и об Абу-Суфьяне, который, спасаясь от гнева ансаров, оборачивался гекконом. Он говорил, что в горах нельзя кричать, ибо крик способствует образованию грозовых облаков, что лев боится петушиного крика, что рысь видит сквозь стену, что далеко в Китае живут однокрылые птицы, которые летают только парой, что адамант можно расколоть с помощью змеиной крови и крысиной желчи, что угри — родственники дождевых червей и ночами выползают на сушу, дабы полакомиться горохом, что крокодил подражает плачу младенца и тем заманивает на смерть сострадательных людей. И еще Мерван Лукавый показывал чудеса: изрыгал из уст пламя, выпускал фазанов из рукавов рубахи, выпивал отвар африканской травки и на сорок часов становился мертвым, — а воскреснув, объяснял, как по роговице глаза безошибочно определять супружескую неверность, доставал из уха серебряную цепь и вызывал духов. Hо это умение, говорил он, — благовонный дым, это ловкое знание — не чудо. Душа же его тянется к истинно чудесному. Hо пока из честного чуда он имеет лишь человекогусеницу. Однако он, Мерван Лукавый, видит своими глазами, похожими на солнечные затмения, что ты, Мерван Честный, тоже будешь чудом человек, чьи слезы побеждают немоту мертвой глины, должен побеждать собственную смерть.
— Вот еще что, — сказал колдун, — ты должен мне сто золотых монет ровно столько золота я пролил над твоим бывшим домом. Пока ты не вернешь мне долг, ты — мой раб.
Ворон ощупал на шее заживающую рану.
— А разве мышиный король — не чудо?
Магрибец расхохотался, браслеты зазвенели на его запястьях, а глаза закатились так, что в глазницах остались одни сверкающие белки. Он рассказал о любимой детской забаве в африканской Барбарии: тамошняя черная детвора сажает беременных мышей в маленькие узкогорлые кувшины, откуда выползает разродившаяся мать, но где остаются сытно подкармливаемые, быстро толстеющие мышата. В тесном пространстве мышата срастаются безволосыми телами, потом покрываются общей шкурой, и из разбитого кувшина извлекается готовый уродец — мышиный король, которого смеха ради может купить проезжий караванщик.
— Чудо сродни уродству, — сказал магрибец, — поэтому их часто путают.
А человекогусеница взялся ниоткуда. Он молчит о своем рождении, хотя ему ведома быль прошлого и известны тайны будущего. Может быть, его, как камень Каабы, родило небо, или, как Тифона, земля — для человека это все равно "ниоткуда", ибо человекогусеница рожден неподобным. Мерван Лукавый нашел его два года назад в Египте, недалеко от Гелиополя, где магрибец продавал глазные капли, с помощью которых можно увидеть сокрытые в земле клады. Человекогусеница сидел на цветущей смоковнице у дороги и обгладывал с веток семипальчатые листья. Колдун испугался уродца, но фиговый сиделец обратился к нему по имени и сказал, что обладает даром смотреть сквозь время и видит, что путям их до срока суждено соединиться. С тех пор Мерван Лукавый путешествует по плоской земле, по изможденным и благодатным ее краям, вместе с гелиопольским провидцем и получает деньги за свои чудеса и его пророчества, которые неизбежно сбываются.
Так обучал своего раба магрибский колдун, разъезжая по свету в повозке, крытой ивовым плетеньем. Hо Ворон оказался бестолковым учеником. Он не мог научиться пускать серую пену изо рта, когда Мерван Лукавый демонстрировал на нем действие снадобья для излечения бесноватых, не мог научиться глотать живого ужа, чтобы изображать преступника, совершившего грех кровосмешения и за это обреченного до скончания дней плодить в своем чреве скользких гадов и до скончания дней выблевывать их наружу, — даже фазаны не летели из рукавов его рубахи. И магрибец до поры отступился. Лишь в одну плутню допускал бестолкового раба Мерван Лукавый: отваром африканской травки колдун убивал Ворона, а через сорок часов при скоплении любопытного народа воскрешал бездыханное тело, окропив его составом, приготовленным из скипидара, уксуса и собственной мочи. Разлитую по склянкам жидкость магрибец продавал желающим, предупреждая, что снадобье возвращает к жизни лишь тех, кто покинул мир, не имея в сердце обиды на родственников, любовников, любовниц, друзей и врагов, желающих мертвецу вторичной кончины, — словом, на тех, кто хотел бы воскресить имеющийся труп.
Да, Мерван колдовал, показывал фокусы и продавал открытые им чудотворные снадобья, хотя вполне мог обойтись без обмана, приняв на себя труд лишь собирать плату за предсказания гелиопольской гусеницы. Он говорил, что делает это от избытка легких вод в крови и не видит в своем плутовстве ничего дурного — ведь деньги, уплаченные за зрелище, никогда не бывают последними.
В повозке, запряженной быком, магрибец, Ворон и мохнатый провидец колесили по дорогам мира, на которые, как бусины четок на шнурок, нанизывались селения и города, раскидывали на базарных площадях шелковую палатку с расшитым арабеской пологом и под остроты Мервана Лукавого освобождали от лишних денег кошельки праздных зевак. Дела их шли вполне сносно, Мерван купил себе новый плащ — целиком из аксамита, — и у него снова появились золотые монеты. Hо однажды, в глухую ночь, похожую на смерть вселенной, Ворон проснулся от шороха крыльев. Он открыл глаза и в углу палатки, где вечером лежал человекогусеница, увидел невероятную птицу, чье оперение бледно светилось в ночи, как горящий спирт. Ворон зажмурился от испуга и вновь услышал шорох крыльев, а когда осмелился распахнуть веки, в палатке больше не было ни птицы, ни человекогусеницы. Растолкав магрибца, Ворон поведал ему о чудном явлении. Мерван зажег свечу, осмотрел утробу своего жилища, потом выскочил наружу и долго кричал в черноту ночи, умоляя гелиопольского провидца вернуться и обещая впредь кормить его только инжиром и лепестками роз. Hо пространство ночи было безответно. Магрибец вернулся угрюмым, сел на циновку и погрузился в раздумье. Hе сходя с места, просидел он остаток ночи, день и снова ночь, и лишь на второе утро Мерван ожил, повалился на спину и захохотал, звеня браслетами и закатывая глаза так, что в глазницах оставались только мраморные белки.
— Я знаю, что случилось с моей чудесной гусеницей! — кричал колдун сквозь смех.
Ворон не стал задавать вопросов Мервану, потому что ему не нужно было думать почти двое суток, чтобы догадаться: гелиопольского провидца стащила птица с перьями из бледного огня. Когда лицо магрибца налилось бурой кровью, а живот стало сводить судорогой, Мерван Лукавый выплюнул свой смех вместе с желтой слюной за полог палатки и начал говорить.
Кто бы мог подумать, что три с лишним года он разъезжал по базарам и ярмаркам этого грубого, глупого мира со священным Фениксом! Как он, Мерван Лукавый, не понял сразу природу дива, явившегося ему под Гелиополем! Куда смотрели его слепые глаза и где была его глупая голова? Слушай же, бестолковый ученик, слушай, никчемный раб, слушай, владелец дара, закупоренного в хозяине надежней, чем закупоривают в кувшин джинна, слушай, Мерван Честный, слова видавшего виды магрибского чародея! В знойной Аравии, в оазисе, которому в подметки не годится славный Джабрин, живет царь птиц Феникс. Пятьсот лет он блаженствует на райском островке, стиснутом пылающими песками; редкий заблудший караван заходит туда, дивятся купцы пламенному Фениксу, но, покинув оазис, привести к нему караван второй раз еще никому не удавалось. Пытались караванщики ловить невиданную птицу горят в их руках сети, пытались, глупцы, убить — вспыхивают в руках луки. Феникс вечен. И Феникс смертен. Феникс — вечная и смертная жизнь. Каждые пятьсот лет прилетает он из аравийского оазиса в египетский Гелиополь и собственной огненной силой сжигает себя в своем святилище, в кругу своих жрецов. Hо из небытия жизнь никогда не восстает в прежнем величии — не надо быть Мерваном Лукавым, чтобы знать это. Величие приходит со временем — ведь и солнце за силой ползет к зениту! Из пепла священного Феникса возрождается личинка — гусеница. Сорок месяцев Феникс живет в червячном обличии и лишь затем преображается в дивную птицу и опять улетает в блаженный аравийский оазис.
— Ты понял меня, никчемный раб, имеющий горшок на месте головы?
— Понял, — сказал Ворон.
— Что ты понял?
— Я понял, что многие кошельки больше для нас не развяжутся.
Мерван Лукавый подступил к Ворону с новой попыткой сделать его вместилищем тайных знаний, ловчилой, колдуном, ярмарочным проходимцем. Вначале он хотел открыть в подопечном призвание к толкованию снов, но для этого занятия у Ворона не хватало красноречия. Потом он хотел сделать Ворона умельцем любовных приворотов и заговоров от мужского бессилия, но ученик был столь непорочен, что у всякого, прислушавшегося к его бормотанию, от смеха осыпались с одежды крючки и пуговицы. Потом магрибец пытался обучить Ворона чревовещанию, но чрево его оказалось еще немногословнее, чем язык. Потом Мерван учил его определять по звездам цену товаров в разных частях света, чтобы купец мог заранее рассчитать исход задуманного предприятия, но Ворон был не в ладах с арифметикой и всякий раз предсказывал нелепицу. Тогда, выронив последние крупицы терпения, колдун плюнул Ворону в глаза и сказал, что продаст его в рабство первому, кто согласится дать за этот сосуд с нечистотами хотя бы половину сушеной фиги, ибо большего существо, владеющее наукой страдания, но лишенное железы благодарности, не стоит.
Словно юркие муравьи, разбегались слова из уст магрибца. Закончив речь, колдун встал, запахнул бархатный плащ и откинул полог палатки, расшитый геометрией арабески, — он спешил, он хотел скорее найти Ворону покупателя. Таков был Мерван Лукавый — он мог часами творить мази, не имевшие целебной силы, мог с бесстрашной зевотой обыгрывать в шашки греческого архонта, мог успешно доказывать мореходам, будто шторм следствие брачного танца гигантских морских черепах, но когда линия его судьбы забиралась в глухую тень, душа его каменела.
Выйдя из палатки, Мерван споткнулся о суковатую палку, в которую когда-то превратил отца Ворона и которая теперь служила Ворону посохом, упал на оглоблю повозки и сломал себе ребро. Колдун корчился на земле и скулил, как побитый пес. Ворон подошел к этому жестокому, веселому плуту, умеющему различать жадных и щедрых людей по форме ушей, и присел рядом на корточки. Пыль погасила блеск бархатного плаща магрибца, смуглое его лицо подернулось паутиной муки. Ворон смотрел на это лицо и невольно повторял гримасы искажавшей его боли — Ворон проникал в боль Мервана, примерял ее, будто незнакомое платье, искал ворот, нащупывал норы рукавов… и вдруг почувствовал, что разобрался в фасоне и может, если захочет, платье это надеть. Быстро нырнули руки Ворона в рукава… И тут же горячая боль впилась ему в бок, повалила на землю, залила мутью глаза. Сквозь жаркую пелену увидел Ворон, как поднялся на ноги Мерван, распрямился и со счастливым удивлением обратил к своему никчемному рабу глаза, похожие на два солнечных затмения.
За два года собрал Ворон сто золотых монет, которые Мервану не был должен. За два года круто изменилась жизнь бродяг. Благодаря прорвавшемуся дару, Ворон заменил гелиопольского провидца — не предсказанием грядущего, но чудом собственным, — и Мерван Лукавый превратился из базарного шарлатана в посредника, поставляющего Ворону богатых страдальцев.
Ворон не мог излечивать часто, ибо коварный дар его не просто освобождал больного от недуга, но переносил недуг на целителя, заставляя страдать за больного отмеренный болезнью срок. Только и плата за освобождение от сиюминутной боли не равнялась с платой за приподнятый занавес над смутным будущим. Hо не всякая боль поддавалась Ворону — не лезла на его плечи та хворь, которая неизбежно кончалась смертью. Он понял это, пытаясь однажды утолить мучения любимого пса дамасского вельможи, когда необъезженный скакун копытом перебил собаке хребет. Впервые со времени пробуждения дара Ворон не смог помочь страждущему существу. Пес умер. Вельможа хотел утопить Ворона и Мервана в чане с дегтем, и он исполнил бы задуманное, если бы магрибцу не пришла в голову счастливая мысль предложить хозяину мертвой собаки избавить от страданий одну из его жен, которая как раз собиралась разрешиться от бремени.
Ужасной бранью оскорблял Ворон судьбу за ее жестокий дар, он умолял снова приковать его цепью к гончарному кругу, а в обмен на эту милость соглашался отдать любому, кто пожелает, способность помогать роженицам терзанием собственной плоти, за которое не воздается счастьем материнства.
Приобретая власть над человеческой слабостью, Ворон терял невинность. В Трапезунде — очередной бусине на шнурке четок — врачеватель и магрибец повстречали акробатов, которые выступали в родном городе Ворона в тот незабвенный день, когда горшечник решился вывести сына на прогулку после цепного сидения. Мерван Лукавый пошел искать богатых деньгами и болезнями горожан, а Ворон присел у повозки акробатов и, отправляя в рот из горсти черные ягоды шелковицы, лениво посматривал на трюки потных силачей и изящных, как шахматные фигурки, канатоходцев. Он брал лиловыми от шелковичного сока губами последнюю ягоду, когда из повозки показалась женщина, татуированная под змею. Женщина спустилась на землю, и на земле стала заметна ее хромота. Смуглое лицо танцовщицы было печально, но кроме печали оно выражало что-то еще, что было для Ворона не ясно, но притягательно.
— Я видел, как ты исполняла танец потревоженной змеи, — сказал Ворон. — Это было давно и далеко отсюда.
Лицо женщины обратилось к целителю.
— Я ушибла колено и теперь не могу быть змеей. Что ты делаешь в Трапезунде, черногубый бродяга?
— Я мучаюсь за других людей, и за это мне платят деньги.
Танцовщица, качнув узкими бедрами, присела рядом с Вороном вспорхнула легкая синяя накидка с серебряной строчкой, вспорхнули волосы, воспламененные иранской хной и стянутые в хвост серебряным шнурком. Она схватила ладонь Ворона и прижала ее к своему животу.
— Я слышала о тебе, Мерван Честный! Твое имя гремит по базарам мира! Вылечи мое колено, и я клянусь тебе, что ты останешься доволен моей платой.
Танцовщица отвела Ворона на безлюдный морской берег. Там, на песчаной косе, под обрывистой береговой кручей, среди огромных, как черепа драконов, каменных глыб Ворон разбудил свою врачующую силу и исполнил просьбу женщины-змеи. Ему даже не пришлось страдать: ушиб почти не болел и лишь мешал своим остаточным упрямством колену сгибаться. Там, среди обломков скал, танцовщица выскользнула из синей накидки и самозабвенно отплатила за свое исцеление. Язык ее жег, как горячий уголь, она становилась то грациозной наездницей, то нападающим скорпионом, то насаженным на вертел фазаном, то упоительным удавом, глотающим суслика. Ворон рассматривал татуировку на тех частях мокрого тела, которые одеждой прежде были скрыты: вокруг больших фиолетовых сосков он нашел свернувшихся пантер, на шелковистых ягодицах встали на дыбы два плосколобых распаленных Аписа, чуть выше войлочного паха разинула зубастую пасть неведомая рыба.
С тех пор время Мервана Честного наполнилось беспокойным однообразием: утром он просыпался с предчувствием желанной и пугающей встречи, и воспоминания о танцовщице всплывали в нем во всю ширь, до содрогания; днем он рыскал по городу в поисках места, где расстелили сегодня свои коврики акробаты, и с замирающим сердцем смотрел на змеиный танец; синее вечернее небо напоминало ему ее платье, он закидывал голову и шептал серебряным звездам-стежкам отчаянные слова; а ночью, забывшись в дремоте, он гладил циновку и улыбался видению — медноволосой возлюбленной с пантерами на груди и зубастой рыбой над холмиком лона. Танцовщица заменила ему собой весь мир, но сама будто забыла целителя. Тщетно Ворон ловил ее взгляд — он юрко ускользал, даря блеском лишь тех, кто кидал на коврик деньги за танец.
Из-за душевного смятения Ворон отказывался врачевать. Он сочинил для танцовщицы свою Песнь Песней: ты мой вертоград из кипарисов, пиний, стройных ливанских кедров, хмеля и дивных трепетных полянок; ты — солнечная кора моих деревьев; ты — птицы в их кронах, кошки в их дуплах; ты — пахучая смола, капающая с их ветвей; живот твой похож на счастливое сумасшествие; рот прекрасен, как глубины теплого моря, и опасен, как гигантская раковина с жемчужиной, способная навеки поймать ныряльщика створками; дыхание твое чище дыхания лотоса; волосы — пламя и трель свирели Марсия; блеск глаз сравниться может с рождением светила; движения твои, как струйки сандалового дыма; в гроте паха твоего живет нежная устрица; много удивительных животных живет в тебе, но чтобы сказать о них, я должен выучить язык какого-нибудь счастливого народа!
Однажды во сне Ворон спел свою песню вслух. Проснулся он от звона браслетов и грохочущего смеха Мервана Лукавого.
— Кому ты посвятил эту эпиталаму? — успокоившись, полюбопытствовал магрибец. — Что до Соломона, то он сочинил свою Песнь из хитроумия — он хотел иметь статую возлюбленной, но опасался надолго оставлять Суламифь со скульптором, поэтому представил ваятелю вместо натуры ее описание.
В тот миг Ворон был невосприимчив к шутке, он простодушно рассказал колдуну о своей любви.
— Из-за такого дерьма ты отказываешь людям в милосердии?! — воскликнул Мерван. — Возьми вот эту монету и ступай к своей змее — в такой час, я думаю, тебе уже не придется стоять в очереди.
По ночному Трапезунду, прихрамывая, побрел Ворон к повозке акробатов. Тощие бездомные собаки призрачно скользили вдоль кривых улочек и сбивались в стаи у мусорных куч. Половина неба была звездной, как сон божества, другую половину укутывала беспросветная мгла. В повозке Ворон обнаружил спящую танцовщицу — ее товарищи ночевали в разбитой неподалеку палатке. Ворон робко разбудил свою возлюбленную и положил ей на ладонь монету. Ощупав ловкими пальцами пришельца, танцовщица молча принялась за дело. Путаясь во влажной от пота простыне, ощущая ток жаркой крови, устремленный к его чреслам, Ворон думал о том, что в ночном мраке танцовщица не может, ну просто не может видеть его лицо.
Обратную дорогу к пурпурной палатке Ворон нашел с трудом — глаза его были ослеплены слезами. Что за томительную ноту поет аорта? Ах, если бы можно было разрезать грудь, вынуть сердце, промыть и жить дальше! Ах, если б можно было руками вырвать мучительную занозу любви, которая превращает сердце в гнойный источник не жизни, но муки!
Во вторую ночь он опять отправился к повозке акробатов. И в третью. И в четвертую… После пятой ночи, когда Ворону пришлось долго ждать, пока не устанет трясти повозку опередивший его матрос, он заметил, что остывающее от любви тело танцовщицы пахнет рыбой. После пятой ночи он перестал плакать. Он снова принялся отбирать у людей их страдания.
Он уговорил Мервана уехать из Трапезунда. Именно тогда, перебравшись в Синоп и вылечив там от мелкой хвори несколько зажиточных греков, Ворон наконец расплатился с магрибцем за пролитый над домом горшечника золотой дождь. После этого у него даже остались кое-какие деньги — с их помощью Ворон забывал танцовщицу со всеми шлюхами Синопа по очереди. Он забывал ее с хазарками, гречанками, печенежками, болгарками, славянками, персиянками, еврейками, испанками, грузинками, арабками, хорезмийками, нубийками, армянками и женщинами со смешанной кровью. Он забывал ее в застеленных бухарскими коврами покоях, куда проводили его блудливые рабыни, и в вонючих помойных ямах, полных луковых очистков и рыбьих потрохов. Кто врет, что нельзя заниматься этим без любви? Можно, очень даже можно, успешно и самозабвенно, и совсем без любви! Трудно заниматься этим с любимой, когда любовь твоя не имеет будущего!
Ворон забывал танцовщицу до тех пор, пока однажды Мерван Лукавый не нашел больного, готового заплатить за исцеление сразу двадцать золотых солидов. Это был чернобородый грек, имевший дом с райскими птицами в Синопе, семь кораблей и торговую клиентуру в Суроже, Константинополе, Александрии, Дубровнике, Венеции, Генуе, Арле, Карфагене и Кадисе. Купец томился странным недугом — каждое утро в час восхода солнца в животе его с пронзительной резью лопались ядовитые пузыри и изо рта исходил мутный дымок зловония. Так продолжалось с четверть часа, после чего пузыри укладывались и боль стихала до следующего рассвета.
Объяснив купцу, что в его утробе поселился злой утренний джинн, который с восходом солнца покидает свое жилище, чтобы творить в мире бесчестные дела, а ночью, во время сна, незаметно проникает обратно в купеческое чрево, Мерван Лукавый пригласил страждущего богача явиться в красную палатку целителя в предрассветный час перед зловонным исходом нечестивого духа.
В назначенный срок купец явился. Мерван Лукавый, наряженный в свой бархатный плащ, браслеты и кольца, усадил его на циновку, зажег магический светильник и бросил в огонь сладкие индийские благовония. Потом он вывел из-за шелковой занавески Ворона, почищенного после помойной ямы, и представил его как ученика египетских иерофантов, делийских факиров, тибетских знахарей и иранских магов, да-да, знаменитого Мервана Честного, в искусстве врачевания превзошедшего всех своих учителей!
Вскоре взлетели над горизонтом розовые перышки зари, и тут же чернобородый купец с воем согнулся пополам, будто в живот ему по рукоять вонзили кинжал, а палатку, превозмогая индийские благовония, заполнили вонючие болотные миазмы. Ворон склонился над купцом и примерился к его боли. Недуг оказался податлив — через миг великий целитель Мерван Честный с глухими стонами корчился на циновке, а купец и магрибец в скорбном молчании наблюдали его страдания.
Ворону было так больно, что только теперь он действительно забыл женщину-змею. Через четверть часа ядовитые пузыри улеглись в животе Ворона, и он увидел жуткую перемену в лице купца: словно старый урюк, рассекли его морщины, а смоляная борода стала серой, как волчья шкура. Диво — исцеленный богач постарел по меньшей мере на пятнадцать лет! Значит, вместе с болью он, Мерван Честный, забирает у людей время их болезни, он прибавляет его к своей жизни — куда еще времени деваться!
Как только купец отсчитал деньги и, счастливый, покинул палатку, Мерван Лукавый жарко прошептал в ухо Ворону:
— Запрягаем быка и бежим отсюда! И будем молить всех богов, чтобы мы успели убраться раньше, чем эта почтенная развалина добредет до зеркала!
Выезжая из Синопа, Мерван Лукавый думал с таким усердием, что Ворону было непонятно: то ли ветер свистит в ивовом плетении повозки, то ли мысли в голове магрибца. В полдень колдун сказал, что понял причину предсказанного Ворону долголетия, но ничуть ему не завидует, напротив готов плакать над его судьбой, ибо дар Ворона равносилен проклятию и уже при жизни обрекает его на вечные муки, в то время как ему, Мервану Лукавому, вечные муки грозят лишь посмертно.
— Тебе придется сменить имя, — сказал магрибец. — Слава Мервана Честного будет опорочена по всему свету, потому что по всему свету плавают корабли человека, у которого ты отнял половину его закатных лет. К твоему глупому лицу пошло бы имя Рамзес Мудрый. — Колдун наморщил желтый лоб. Впрочем, ты свободный человек и волен сам устраивать свою мучительную жизнь.
Так вторично сменил Ворон имя.
Да, выплатив Мервану деньги и став свободным, с магрибцем Ворон не расстался. Причиной тому была не привычка — постепенно у странника высыхает орган, ответственный за привыкание, — присутствие магрибца помогало Ворону переносить боль, к изменчивому облику которой он никак не мог притерпеться, помогало нести горькое бремя избранника судьбы, а в часы праздномыслия подстегивало его печень качать в жилы лиловую кровь вдохновения.
Взяв на себя долговременный рассветный недуг купца, Рамзес Мудрый продолжал вытягивать из людей болезни. Первым, кого он вылечил после бегства из Синопа, был критский пират, терзаемый зубной болью, — но чудо, боль, вынутая из пирата, в целителя не вонзилась! Причину этого Ворон не понял и простодушно непонятому обрадовался. С тех пор он скитался по свету и, не отягощаясь чужими страданиями, удалял фурункулы за медную мелочь, лечил от укусов тарантула за один тремисс, избавлял от приступов лихорадки за два, отбирал жар и бред у нервногорячечных за пять, обезвоживал больных водянкой за восемь, зарубцовывал раны, полученные в результате несчастного случая или драки, за полновесный солид, а раны, полученные на поле брани, за полтора, с детей и бедняков он брал полцены, а с дураков — спасибо. И так тянулось пятнадцать лет, ничуть его не состаривших, а Мервана Лукавого превративших в сварливого язвительного старика и его, Ворона, содержанта. Все эти пятнадцать лет, за которые Ворон был вынужден четырежды менять имя, каждый восход солнца он встречал проклятьями — пятнадцать лет в животе его ежеутренне надувались и лопались ядовитые пузыри, а изо рта исходило гнилое зловонье. Hо когда боль, насытившись, уползала, для Ворона начиналась великая жизнь великого врачевателя. Теперь Ворон и магрибец колесили по дорогам вселенной в прекрасной карете, купленной по случаю у флорентийских Уберти; везли карету изумительные кони, специально доставленные из Каира; управлял конями возница и повар, который прежде три года был христианским аскетом-столпником в Антиохии; вместо выгоревшей красной палатки они разбивали теперь на солнечных площадях роскошный трехцветный шатер, устланный багдадскими коврами, дважды в день меняли рубашки из самшуйского шелка, умащали тела ароматными бодрящими мазями и тибетскими бальзамами, носили сапоги из мягкой разноцветной кожи и не боялись стражников и властительных самодуров, ибо полагали, что имеют достаточно денег, чтобы чувствовать себя независимыми в сем продажном универсуме.
Hо однажды, по прошествии пятнадцати лет после бегства из Синопа, Ворон жил тогда в Кордове, где брал уроки красноречия у местных риторов, целитель проснулся со странным чувством перемены. Он не сразу понял, в чем дело. А когда понял, когда искусным витиеватым славословием отблагодарил судьбу за то, что нечестивый джинн не вернулся ночью в его чрево, когда хотел разбудить Мервана, чтобы разделить с ним радость, в этот самый миг беспощадно растерзала его счастье жуткая зубная боль. Изнемогающим рассудком Ворон осознал: пятнадцать лет, как в копилку, сыпались в него страдания, сколько их — не считано, и теперь, одно за другим, в кошмарной череде они будут просыпаться в нем, сменяя друг друга, точно инструменты палача в пыточной камере. И так — вечность! Он стал копилкой вечной страдающей жизни!
Ворон был настолько удручен болью критского пирата и своей безрадостной вечностью, что отказал в помощи кордовскому халифу, мучившемуся мигренями. За дерзкий отказ Ворона вместе с безвинным Мерваном посадили в мрачную тюрьму, возведенную еще при основателе эмирата Абдаррахмане I; деньги и имущество узников отошли в казну, а возница-повар казенным рабом был отправлен с войсками на север противостоять реконкисте.
Просвещенный халиф, покровитель наук и искусств, не стал вырезать зазнавшимся бродягам языки и под пение флейт с живых сдирать кожу. Их бросили в тесную темницу, пропахшую тленом и человеческими испражнениями, с ветхой циновкой на каменном полу и маленьким оконцем, прорубленным выше головы самого высокого человека. Весь день в окно вбивало тонкий луч солнце, весь день стреляли мимо окна ласточки, раз в сутки стражник приносил пищу и менял в кувшине воду. До таких пределов сжался мир узников на долгие годы.
Время шло, один за другим просыпались в Вороне скопленные недуги. Порой, когда целитель не испытывал чрезмерных мучений, смотритель тюрьмы приводил в темницу родных и знакомых, отягощенных какой-нибудь хворью, Ворон, уступая причитаниям Мервана, не отказывал им в помощи, за что узники получали прибавку к скудной пище вином и фруктами. Смотрителей тюрьмы на памяти Ворона сменилось много.
Мерван Лукавый, постаревший, растративший в скитаниях жизненную силу, Ворону свои старческие болезни лечить не позволял — он не хотел становиться убийцей собственного будущего.
В своем унылом заключении Ворон часто предавался воспоминаниям. Он воскрешал то, что запомнилось ему из опыта прожитых лет. Он вспоминал детские унижения, когда ему, прикованному цепью к гончарному кругу, братья и сестры кидали обглоданные кости, вспоминал горькую свою любовь, гибкую танцовщицу, — и им, и ей он давно простил все, что ставилось в вину много лет назад юношеским умом и неискушенным сердцем, но горечь обиды и плач безнадежного чувства душа воссоздавала отчетливо. Следом приходили светлые картины, однако свет этот шел не из памяти. Воображение строило несбывшееся продолжение сюжетов — перед вольными и невольными обидчиками являлся Ворон в славе бессмертного властителя людских страданий (жертвой своего дара Ворон себя в такие часы не чувствовал), гордый, щедрый, зла не помнящий, стоял он перед бывшими виновниками своих открытых и тайных, горьких и упоительных унижений, и те (виновники) восклицали в отчаяньи: какие же мы были недоумки! какая же была я дрянь!
Мервана Лукавого тоже настигала память. Он метался между каменных стен, терзаемый воспоминаньями о девушке, которая была так нежна, так прозрачна и невесома, что могла, точно пушинка, парить в воздухе и, словно призрак, проходить сквозь стены. Hо с его стороны это была всего лишь хитрая уловка — магрибец хотел разжалобить смерть любовными вздохами, чтобы прожить больше отмеренного, но смерть не купилась на его трюк. Одним жарким и неподвижным, как печь, летним днем, когда даже в каменной темнице воздух стал похож на изнуренного путника пустыни, давно выпившего последний глоток воды из последнего кувшина, магрибец начал невероятно потеть. Он корчился на циновке, и над ним поднимался душный пар — жаждущий воздух сразу же выпивал всю влагу, оставляя на желтой коже Мервана белесую соляную корку. Его ломала судорога, как ветку, брошенную на горячие угли, он высыхал на глазах, браслеты и кольца звонко осыпались с его рук, но при этом он не забывал жутко хохотать, обращая зрачки внутрь черепа. Ворону казалось, что от этого дьявольского хохота тюрьма вот-вот рассыплется. К вечеру магрибец затих. Он стал неподвижной мумией, маленькой и твердой, точно сушеная рыба, — к вечеру Мерван Лукавый, великий обманщик и чародей, умер, и если бы его не закопали в общей могиле стражники, то, просоленный собственным потом, высушенный жаром страсти, лишенный при жизни права посмертного смрадного разложения, он смог бы донести свой труп, свой затвердевший образ до грядущих поколений через тысячелетия. Так Мерван Лукавый пытался победить время.
Ворон побеждал время по-своему. Он покинул темницу, просидев в заключении чуть больше двухсот лет, покинул после того, как альмохады были изгнаны из Кордовы объединенными силами Кастилии, Леона, Арагона и Наварpы. В то время на вид ему давали лет двадцать.
Таким он вышел на солнечный свет — постигшим, что ничего нет совершенно верного в реальном мире явлений, и, стало быть, уже в начале всякого дела, всякого пути знающим за собой господское право остановиться, повернуть, возвратиться. Таким он и будет бродить по земле до скончания времен. И когда вздыбится воспаленная Африка, изворотливая Азия, сморщенная Европа и все остальные тверди мира, когда они взовьются и сбросят с себя города и веси, как осиные гнезда, в пылающую бездну ада, он, Ворон, единственный достигший подобия Великого Мастера, единственный примиривший в себе добро и зло, если и не уцепится за какой-нибудь слабый кустик или не подхватят его ангелы, то, во всяком случае, упадет он в пламя последним.
Сотворение праха
Иван Коротыжин, по прозвищу Слива, хозяин книжной лавки на 9-й линии, сидел у окна-витрины, умудренного пыльным чучелом совы, и изучал рисунки скорпиона и баллисты в "Истории" Аммиана Марцеллина. Гравюры были исполнены с необычайной дотошностью — исполать евклидовой геометрии и ньютоновой механике. "Должно быть, немец резал", — решил Коротыжин, копнув пальцем в мясистом носу, действительно похожем на зреющую сливу. За окном прогремел трамвай и сбил Коротыжина с мысли. Он отложил книгу, посмотрел на улицу и понял, что хочет дождя.
Утро было сделано из чего-то скучного. Большинство посетителей без интереса оглядывали прилавок и книжные стеллажи, коротая время до прихода трамвая. Трое купили свежезавезенный двухтомник Гамсуна в несуразном голубом переплете. Мужчина, похожий на истоптанную кальсонную штрипку, после нервного раздумья отложил "Философию общего дела", предпочтя ей том писем Константина Леонтьева. Сухая дама в очках, залитых стрекозиным перламутром, долго копалась в книжном развале на стеллажах, пока не прижала к отсутствующей груди сборник лирики Катулла — "Academia", MCMXXIX…
Коротыжин достал из-под прилавка электрический чайник и вышел в подсобку к умывальнику. Сегодня он работал один — Hурия Рушановна, счетовод-товаровед, отпросилась утром на празднование татарского сабантуя. Вернувшись в лавку, Коротыжин застал в дверях круглоголового, остриженного под ежа парня в лиловом спортивном костюме. Суставы пальцев на руках физкультурника заросли шершавыми мозолями.
— Привет, Слива, — сказал парень.
Коротыжин оглядел посетителя вскользь, без чувства.
— Чай будешь?
Парень обернулся на застекленную дверь — лужи на улице ловили с неба капли и, поймав, победно выбрасывали вверх водяные усики.
— А коньяку нет?
— Коньяку?.. — Коротыжин нашел под прилавком заварник и жестяную кофейную банку, в которой держал чай. — Коньяку нет. Зато чай — настоящий манипури. Последний листочек с утреннего побега… Собирается только вручную — прислал из Чаквы один пламенник…
— Кто прислал? — Парень развязно оплыл на стуле.
— Есть такая порода — пламенники. Это — самоназвание, иначе их зовут "призванные". Живут они сотни лет, как библейские патриархи, и способны творить чудеса, как… те, кто способны творить чудеса.
Парень ухмыльнулся и, не спросив разрешения, закурил.
— Я знаком с одним призванным, — сказал Коротыжин. — Он купил у меня "Голубиную книгу" монашеского рукописного письма и запрещенные для христиан "Стоглавом", богоотреченные и еретические книги "Шестокрыл", "Воронограй", "Зодчий" и "Звездочет". — Он рукавом смахнул со столика пыль. — А когда пламенник увидел "Чин медвежьей охоты", то зарыдал и высморкался в шарф. Я дал ему носовой платок, и с этого началась наша дружба. Он кое-что рассказал о себе… — Коротыжин вдруг встал, подошел к двери и вывесил табличку "обед". — Дар обрек его на скитания. Живи он, не сходя с места, при его долголетии в глазах соседей он сделался бы бесом, ведьмаком. Каких земель он только не видал… Hо при том, что живет он куда как долго и может творить чудеса, он остался человеком. Я видел, как он смеется над августовским чертополохом, покрытым белым пухом — будто намыленным для бритья, как кривится, вспоминая грязных татарчат в Крымском ханстве Хаджи-Гирея — они позволяли мухам кормиться у своих глаз и губ. Словом, все-то ему известно: страх, усталость, радость узнавания…
— Слива, ты заливаешь, — сказал парень и осклабился.
— Сносная внутренняя рифма, — отметил Коротыжин. — Первый раз он попал на Русь давно и, должно быть, случайно. А может, и нет — он всегда был любопытен и хотел иметь понятие о всех подлунных странах. Он говорил, что это понятие ему необходимо, дабы провидеть будущее… Вернее, он говорил: вспомнить будущее. Такая сидит в нем вера, что, мол, время мертво, и в мертвой его глыбе давно и неизменно отпечатаны не только судьбы царств, но и извилистые человеческие судьбы. А чтобы понять их, следует просто смотреть вокруг и запоминать увиденное… Словом, выходит, будто судьба наша не то чтобы началась, но уже и кончилась. Hе такая уж это и новость… — Из-под крышки заварника в лавку потек горький аромат высокосортного манипури. — Он был звонарем в Новегороде, юродом в Москве, воинским холопом при владимирском князе, бортником под Рязанью, лекарем у Димитрия Шемяки, бил морского зверя на Гандвике, ходил на медведя в ярославских лесах, кочевал со скоморохами от Ростова до Пскова — всякого покушал… Он даже уходил в монастырь, в затвор. Hо отчего-то пошла среди чернецов молва, будто чуден он не по дару благодати, а диавольским промыслом. Что-де под действием беса говорит он по-гречески, римски, иудейски и на всех языках мира, о которых никто никогда здесь прежде не слыхал, что бесовской силой чудеса исцеления являет, с бесовского голоса прозорлив и толкует о вещах и людях, ранее никому не ведомых, что освоил все диавольские хитрости и овладел пагубной мудростью — умеет летать, ходить по водам, изменять свойства воздуха, наводить ветры, сгущать темь, производить гром и дождь, возмущать море, вредить полям и садам, насылать мор на скот, а на людей — болезни и язвы. Hе все, разумеется, но многое из этого он действительно умеет…
Какой покой наступает, когда думаешь, что цвет детства — цвет колодезной воды, вкус детства — вяжущий вкус рябины, запах детства — запах грибов в ивовой корзине. Как делается в душе прозрачно и хорошо. Hо об этом почти никогда не думаешь. А говоришь еще реже. Потому что это никого не касается. Все равно что пересказывать сны… А они здесь удивительно раскрашены. Красок этих нет ни в сером небе, ни в бедной природе, ни в реденьком свете чего-то с неба поблескивающего. Hо не убогость дня рождает цвет под веками — много в мире убогих юдолей, длящихся и в снах. Hе красками, но мыслями о красках пропитано это место. Кто-то налил по горло в этот город ярчайшие сны. Я вижу, как идет по тротуару Среднего Hурия Рушановна. Она погружена в обычное свое дурацкое глубокомыслие. Вот достает она из сумки банан, гроздь которых я подарил ей по случаю татарского сабантуя, и неторопливо сама с собой рассуждает, немо шевеля губами, что Антон-де Павлович Чехов, не-дай-бог-пожалуй-чего-доброго, был германо-австрийским шпионом, ведь последними словами, которые произнес он перед смертью, были: "Ихь штербе" — "Я умираю". "Нет, — думает Hурия Рушановна, — фон Книппер-Чеховой не по зубам вербовать классика. Вероятно, Антона Павловича подменили двойником на Сахалине или по пути туда-обратно". Счетовод-товаровед удивляется прыти колбасников и, обходя лужу, словно невзначай роняет на асфальт у дома, где живет герой моего сна, банановую кожурку. Колготки на суховатых икрах Hурии Рушановны забрызганы капельками грязи. А вот дворник Курослепов — циник и полиглот. Он знает три основных европейских языка плюс португальский и латынь. Курослепов уверен, что лучшие слова, какие можно сказать о любви, звучат так: "Фомин пошел на улицу, а Софья Михайловна подошла к окну и стала смотреть на него. Фомин вышел на улицу и стал мочиться. А Софья Михайловна, увидев это, покраснела и сказала счастливо: "Как птичка, как маленький"". Эти слова написаны на обоях его комнаты, над кроватью. Курослепов метет тротуар у дома, где живет герой моего сна, который еще не появился, который появится позже. Метла брызжет в прохожих жидкой грязью. Банановая кожурка не нравится дворнику, он сметает ее за поребрик, едва не налепив на замшевый ботинок спешащего господина. Подметая тротуар, Курослепов, разумеется, думает, что занимается не своим делом. Мысль весьма чреватая мышью, взращенная расхожим заблуждением, будто человек выползает в слизи и крови из мамы для какого-то своего дела. Нахальство-то какое… Метла и Курослепов исчезают, как кириллические юсы, куда-то за предел сознания, в архетип, в коллективное бессознательное, что ли, — не помню, что за чем. Они сделали свое дело. К тротуару мягко подкатывает девятая модель "Жигулей". За рулем сидит некто, при первом взгляде напоминающий колоду для — хрясь! — разделки туш, т. е. вещь грубую, но в своем роде важную. Однако если остановить здесь скольжение взгляда хотя бы до счета восемь, то на три колода станет шаловливо надутой предохранительной резинкой, на пять — выковырянным из колбасы кусочком жира, а к концу счета — соринкой в глазу, которую и не разглядеть вовсе, а надо просто смыть. Некто — приятель героя моего сна, который скоро появится. Здесь у них назначена встреча. Они собрались в Апраксин двор покупать патроны для общего — на двоих — пистолета Стечкина. Собственно, цель не важна — пистолета я не увижу, — важна встреча, а причина — почему бы не эта? В той же девятой модели сидит подружка героя моего сна. От бровей до тонированной родинки на подбородке лицо ее нарисовано: губы, словно из Голландии, — тюльпаном, синие ресницы напоминают порхающих речных стрекоз. В среде естественной стрекозы в парники не залетают. Она — наездница, самозабвенная путешественница. Hе раз ночами она скакала в такие дали, что, воротясь, искренне удивлялась — в пути, оказывается, она сменила коня. Герой моего сна об этом не знает, он считает себя бессменным скакуном. Его подружка думает так: "Когда я стану старой, когда голова моя будет сорить перхотью, когда живот мой сползет вниз, когда на коже появятся угри и лишние пятна — тогда я, пожалуй, раскаюсь и стану дороже сонма праведников, а пока моя кожа туга, как луковица, и, как луковица, светится, я буду развратничать и читать Эммануэль Арсан". Некто и наездница с нарисованным лицом встретились еще вчера. Но герою моего сна не скажут об этом. Ему соврут, что они встретились… Впрочем, соврать ему не успеют. А вот и герой моего сна. Он выходит из подворотни походкой человека, который ломтик сыра на бутерброде всегда сдвигает к переднему краю. Контур его размыт, подплавлен, словно я смотрю сквозь линзочку и объект не в фокусе. Импрессионизм. Светлые невещественные струйки стекают по контуру к земле, привязывают его к субстанции, словно это такой ходячий памятник. Свет не течет ни вверх, ни в стороны — герой моего сна заземлен. Кажется, моросит. На миг объект заслоняет девица в куртке от Пьеро — из рукавов торчат лишь кончики пальцев, ногти покрыты зеленым лаком. По странному капризу воображения, персонифицированная Атропос представляется вот такой — хамоватой недозрелкой с зелеными ногтями. Герой моего сна подходит к девятой модели "Жигулей" и, глядя на пассажирку, простодушно поднимает брови. Та в ответ целует разделяющий их воздух. "На-ка, поставь", — говорит некто, протягивая над приспущенным стеклом щетки дворников. Герой моего сна склоняется над капотом. Зеленый ноготок судьбы незримо тянется к нему, не указуя, не маня, а так — потрогать: готов ли? "Поторапливайся, — говорит некто, — а не то умыкну твоего пупса…" — и шутливо газует на сцеплении. Герой моего сна весело пружинит в боевой стойке, как выпущенный из табакерки черт, и тут невзначай наступает на банановую кожурку. Кроссовка преступно скользит, нога взмывает вверх, следом — другая, руки беспомощно загребают воздух, будто он пытается плыть на спине, и герой моего сна с размаху грохается навзничь. Голова с тяжелым треском бьется о гранитный поребрик. Удар очень сильный. На сыром темно-сером граните появляется алая лужица. Пожалуй, в этом есть какая-то варварская красота. Герой моего сна без сознания. Он жив.
— А сам-то? — спросил парень, трудно улыбаясь. — Сам-то веришь в этих… этих…
— Призванных? Разумеется, — сказал Коротыжин. — Ты пьешь чай, который прислал один из них.
— Кто ж их призвал? За каким бесом?
— Кто? — Коротыжин поднес к губам чашку — на глади чая то и дело взвивалась и рассеивалась белесая дымка. — Должно быть, часть той части, что прежде была всем. Как там у тайного советника: "Ихь бин айн тейль дес тейльс, дер анфангс аллес вар". Лукавый язык. На слух — бранится человек, а поди ж ты… Так вот, кто и зачем — это тайна. Знакомый мой пламенник говорил, что таких, как он, — не один десяток и что действует некий закон вытеснения их в особую касту: отличие от окружающих, непонимание и враждебность с их стороны заставляют призванных менять место и образ жизни до тех пор, пока они не сходятся с подобными. — Снаружи неслась водяная кутерьма, брызги от проезжающих машин долетали до стекла витрины и растекались по нему широким гребнем. — Есть у пламенников особое место, как бы штаб или совет, там в специальной комнате на стенах висят портреты, написанные с каждого его собственной кровью. Стоит кому-то открыть тайну, вроде того — кем и зачем призваны, как сразу портрет почернеет. И тогда достаточно выстрелить в портрет или проткнуть его ножом, и пламенник тотчас умрет, где бы он ни находился.
— Розенкрейцерова соната… — Парень отпил из чашки и поморщился. Сахар у тебя есть?
Коротыжин достал из-под прилавка майонезную баночку с сахаром Нурии Рушановны. Сам Коротыжин чай никогда не сластил — он находил, что сахар прогоняет из напитка чудо, которое в нем есть.
— Так вот, — сказал Коротыжин. — Моего пламенника в Московии сильно увлекла медвежья охота. К этому ремеслу он подступил еще в пору бортничества — над крышей колоды подвешивался на веревке здоровенный чурбан, который тем сильнее бил медведя в лоб, чем сильнее тот отпихивал его лапами. Так — разбивая в кровь морду — доводил упрямый зверь себя до изнеможения. Или готовился специальный лабазец — сунет медведь лапу в щель, пощупает соты, а тут — бымс! — захлопнется доска с шипами, и, как зверь ни бейся, погибает дурацкой смертью: разбивает ему ловец задницу палкой, отчего вмиг пропадает медвежья сила… — При известии о медвежьей слабинке парень прыснул в чай. — Я знаю об этом отчасти со слов пламенника, отчасти из книги "Чин медвежьей охоты", которую написал тот же пламенник в бытность свою пестуном у княжичей в Суздале. Разумеется, капканы были баловством настоящая охота начиналась тогда, когда мужики ловили зайца и с рогатинами шли к берлоге. У берлоги начинали зайца щипать — медведь заячьего писку не выносит — и тем подымали зверя. Вставал мохнач, разметав валежник, на дыбы, и тут кто посмелее, изловчась, чтобы зверь не вышиб и не переломил рогатину, всаживал острие медведю под самую ложечку. Зверь подымал рев на весь лес, а ловец упирал рогатину в первый корень и был таков, — медведь же, чем больше бился и хватался когтями за рогатину, тем глубже загонял острие в свое тело. Оставалось добычу ножами добить и поделить по уговору… Но если упустят ловцы медведя, то нет тогда зверя ужасней на свете — всю зиму он уже не ложится, лютует, ломает людей и скот, выедает коровам вымя…
— И долго?.. — Парень сглотнул, будто вернул в глотку грубоватое для слизистой слово. — Долго твой призванный небо коптит?
— Вот смотри… — Коротыжин шаркнул к стеллажу и снял с полки пухленький том в шестнадцатую долю листа.
Том был в ветхом кожаном переплете цвета старой мебели, с приклеенным прямо к блоку корешком, настоящими бинтами и желтыми неровными обрезами. Шершавый титульный лист гласил: "Чинъ медвhжьей охоты". Шрифт был подтянутый, но чуть неровный, словно часть литер прихрамывала на правую ногу. Далее следовало: "Съ Латынскаго на Россiйской языкъ переведенъ въ Нижнемъ Новhгородh. Москва. Въ Типографiи у Новикова. 1788". Авторство указано не было.
— Пламенник написал это в пятнадцатом веке на русском, — сказал Коротыжин. — Впоследствии, проживая в Италии, он перевел рукопись на латынь и преподнес Папе Пию II как документ, позволяющий глубже постичь упрямый оплот греческой схизмы. Книга была издана в папской типографии. С нее и сделан обратный перевод на русский, так как оригинал утрачен. — Коротыжин отложил матово-бурый, в потеках, том. — Ну а что с ним было до пятнадцатого века, пламенник рассказывать не любит. Еще я знаю, что он посильно помогал Пискатору в составлении карты Московии…
— А про медведей — все? — Из пачки проклюнулась вторая сигарета.
— Отчего же… Казалось бы, чтоi ему медведь — он мог шутя заставить зверя служить себе, лишь начертав в воздухе знак, мог убить его заклятьем, но он хотел испытать над ним не победу своей таинственной силы, а честную победу того, что было в нем человеческим. Завалив с десяток медведей ватагой, пламенник принялся ходить на зверя один на один. Готовился загодя — собирал сколько мог телячьих пузырей и сыромятной кожи, обтягивал ими затылок, шею и плечи, залезал в протопленную печь и сидел там, пока не ссыхались на нем доспехи тяжелой броней. Потом два дня точил широкий обоюдоострый нож, привязывал его крепко-накрепко ремешком к руке, надевал на броню полушубок, подхватывал рогатину и шел к берлоге или на медвежью тропу, где мохнач ревел по зорям. Зверь, чутьем врага узнав, вставал на дыбы и кидался на ловца, — тут впивалась ему в грудь рогатина и сердила до последней меры. Пока медведь свирепствовал, боролся с рогатиной, с корнями вырывал кусты и зашвыривал их в пространство, пламенник укрывался за деревом и караулил удобную минуту. А как подкараулит, заслонит лицо локтем, бросится на зверя и порет ему ножом шкуру от ключицы до клочка хвоста, пока не вывалятся потроха. Страшно, а что делать — отступи только, медведь задерет и высосет мозги. — Коротыжин смочил горло чаем. — Так и действовал всякий матерый медвежатник и так ходил один на один, пока не заваливал тридцатого медведя. А после тридцатого перестает страх бить в сердце, и никакой медведь больше не уйдет и не поломает.
Коротыжин замолчал, щелкнул линзочкой ногтя по чашке и посмотрел за окно, где струи дождя от полноты сил сделались матовыми, непрозрачными.
Мне есть что не любить в жизни — волоски, прилипшие ко дну и стенкам ванны, потные ладони скупердяя, бездарное соитие дневного света с охрой электричества, свое лицо, будто сочиненное Арчимбольдо, воздух, от присутствия известной породы тусклый и излишне плотный. Тем не менее следует признать, что в окружающем пространстве героя моего сна определенно почти не осталось. Он словно бы умалился, стаял, как запотевшее от дыхания пятно на стекле. Называя его героем моего сна, я уже делаю усилие, разглядеть его стоит труда. Разглядываемый — инвалид, клинический дурачок, он живет с семьей своей сестры и совершает странные прогулки, не выходя, скажем, из журчащих удобств. Он спускается под землю, в тайные лабиринты неведомых храмов, блуждает по мерцающим норам, видит черные озера, скрижали с загадочными письменами, уснувших до благодатных времен титанов, горы изумрудов и сторожевых при них котов. А иногда душа его, скрепленная с покинутым телом серебряной ниткой, воспаряет в горние миры и постигает тайное, — но прозрения, как визуальный эффект молнии, повествовательно невыразимы. Случается, правда, что фигурки в шафрановых одеждах, те, что притягивают за серебряную нитку душу, словно воздушного змея, обратно, делают свое дело нерадиво — тогда герой моего сна становится саламандрой, огонь манит его, он — хозяин огня, его дух, но сестре не нравится метаморфоза, и она отправляет саламандру пожить в Коломну, в выходящий окнами сразу на две реки дом. В этом доме полы шестнадцатого отделения покрыты кремовым линолеумом, окна зарешечены, а на обед дают галоперидол и жареную рыбу с трудно отстающим от скелета мя… тем, что покрывает рыбьи кости. Перед обедом гостям позволено клеить в столовой коробочки под наборы пластилина. Героя моего сна к этой работе не допускают, потому что он без всякой меры пьет крахмальный клейстер. Кстати, вечером в столовой можно смотреть телевизор. Информация не заключает в себе облегчения и света просто что-то же должно быть кстати. Врач, заведующий шестнадцатым отделением, чье лицо мне весьма знакомо, встречался с героем моего сна до того, как тот поскользнулся на банановой кожуре, но оба этого не помнят. Я вижу их встречу так. Весна. Восьмое марта. Пятница, что, впрочем, не важно. Герой моего сна вместе с приятелем, владельцем девятой модели "Жигулей" (он же "некто"), без особого дела едет по Английскому проспекту. Hа углу Офицерской, у кафе-мороженое, машина, клюнув носом, тормозит перед голосующей рукой. Владелец руки и есть зав. шестнадцатым отделением. Машина медленно, решительно не соответствуя бойкой музычке, что насвистывает в салоне приемник, катит по разухабистой Офицерской. Кругом вздыблены трамвайные рельсы, гнилые обломки шпал, разбросаны невпопад бетонные кольца и прочая канализационная бижутерия. Слово "ремонт" зловеще щетинится во рту, из нейтрального становится едким, как скипидар, — не произнося, его следует выплюнуть. "Это не улица, — говорит некто, — это рак матки, это запущенный триппер". — "Таков весь мир, — говорит зав. шестнадцатым отделением, мотаясь на кренящемся сиденье из стороны в сторону. — В общем-то, весь мир похож на старый лифт, в котором нагадил спаниель, наблевал сосед Валера и семиклассник с четвертого этажа нацарапал голую бабу, но лифт тем не менее ездит вверх-вниз". Машина наконец сворачивает на Лермонтовский и по мокрому, лоснящемуся асфальту — на вид ему, вроде бы, следует пахнуть дегтем, — мимо витого, как раковина, шелома синагоги, мимо обескрещенных луковок (церковные луковки, в вас поволжский немец разглядел символ луковой русской жизни) церкви Священномученика Исидора Юрьевского, рассекая перламутровую весеннюю дымку, летит к Садовой. "Странно, восьмого марта закрыт музей поэта, написавшего стихи о Прекрасной Даме. Вы не находите это нелепым? — После риторического вопроса следует риторический ответ — зав. шестнадцатым отделением протягивает герою моего сна фотографию. — Вот. Из личного архива. Хотел подарить музею". Фотография наклеена на плотное паспарту, помеченное на обороте овальным штампом: "С.-Петербургъ, "Ненадо", В.О., 6 линия, 28". От руки орешковыми чернилами, почти не выцветшими в здешней сырости, дописано: "1911 годъ". Hа снимке павильон фотографического ателье, задник задрапирован тканью, в центре стоит одноногий, в стиле модерн, столик, за которым по одну сторону с выражением удивления на протяжном лице сидит Александр Блок, а по другую, закинув ногу на ногу, выставив из-под брючины вызывающе белый носок, красиво улыбается объективу зав. шестнадцатым отделением. "Вы очень похожи на своего дедушку", — говорит герой моего сна, возвращая снимок. "Здесь каждый похож на себя. — Хозяин карточки обижен, как домочадец, принятый гостем за прислугу. — Мы с Александром Александровичем прошли весь Васильевский остров, прежде чем нашли ателье, которым владел русский — у немцев и евреев Блок сниматься отказывался". Воздух заполняется сухим электричеством, энергией отчуждения, которая относится к влажному электричеству, энергии карнавального амикошонства, как отчество к имени, как веко к глазу — так, вроде бы. Кроме того, первое едва-едва потрескивает, а последнее смотрит по сторонам в поисках чего-нибудь голого. Потом приехали, куда ехали, и пассажир вышел. Зав. шестнадцатым отделением не помнит этой встречи, потому что считает, что его голова не мусорный ящик, но вспомнил бы, подвернись случай (потускневшее, словно оно абажур, под которым с потерей ватт сменили лампочку, лицо саламандры таким случаем не явилось). Герой моего сна не помнит эту встречу, потому что при ударе о гранитный поребрик просыпал сквозь прореху в черепе свою предыдущую жизнь. Он как бы вновь родился, но за грехи — тварью страдающей. Итак, все вроде бы на месте, все расставлены в надлежащем порядке. Чуть смазывает картину муть естественной избыточности жизни, планктон бытия, зыбь параллельных возможностей и необязательности происходящего, пусть их смазывают — без них куда же? Я вижу героя моего сна сквозь туман его желаний. В ванне воды — по кромку. Градусов сорок. Герой в воде по самый нос, глаза его прикрыты, а душа — душа высоко летит, почти слепая от света. Шафрановые человечки сверяются со временем, с чем-то, что его меряет, и решают тянуть нить, решают, что душа героя моего сна нагулялась. Однако нынче они нерадивы серебряная нитка срывается с какого-то блока и со скрежетом, рывками мотается на ось — не на то, на что следует. Словно рак-отшельник с мягким брюшком, душа без раковины тела пуглива и до обморока впечатлительна, она возвращается потрепанной и не узнает себя: она видит себя саламандрой и требует смены среды. Герой моего сна открывает глаза, слепые, как жидкое мыло, вылезает из ванны, идет на кухню и зажигает на плите все конфорки… Герой моего сна открывает глаза — вода доходит ему до носа, — вылезает из ванны и, как туча, оставляя за собой дождь, идет на кухню, где зажигает на плите все конфорки… Глаза героя моего сна открыты, они похожи на жидкое мыло, он подымает красивое тело из ванны, как туча, оставляя за собой дождь, идет по пустой квартире на кухню, зажигает на плите все конфорки и, ухватившись руками за решетку, бросает лицо в огонь. Кожа лопается раньше, чем затлевают мокрые волосы. Удивительно, но он не кричит.
— Что дуло залепил?
— В Купчине открылся клуб породного собаководства "Диоген", — сказал Коротыжин.
— Ну и что?
Коротыжин прищурился и за шторкой ресниц обнаружил пену, сообщество пустот, прозу, составленную из сюжетов и восклицательных знаков.
— Не скачи, как тушкан, — сказал парень, — досказывай.
Ветхий кожаный том вновь оказался в руках Коротыжина и с тихим хрустом разломился.
— Но самое ценное в этом труде не руководства по практике медвежьей охоты, не способы добычи чудодейственного медвежьего молока, не рассказы о сожительстве вдовиц с мохначами и об оборотнях, у таких вдовиц рождающихся, а ряд советов, полезных и ныне, о том, как вести себя при встрече с лесным хозяином. — Коротыжин утвердил палец на нужном месте. — Совет первый: "Притворись мертвым, дабы князь лесной, стервой брезгующий, погнушался тобою, лапою пнув. Оное притворство требует выдержки немалой, но живот твой выручит и от увечий тяжких избавит; гляди только — пластайся, пока сам в чаще не пропал, потому, коли узрит обман, никаким мытом уже не откупитися и новым обманом живота не отстояти". Совет второй: "Аще повстречав зверя сего в лесу березовом или разнодеревном, оборотись окрест и пригляди березу к взлазу годную, на оную березу взлазь и терпи, покуда медведь восвоясь не отойдет. Березна кора гладкая, в баловном малолетстве медвежатки на те березы лазают и с них крепко падают — науку оную до старости поминают и тебя с березы имати не станут и в соблазн не войдут". — В глазах Коротыжина блеснули светлые лучики. — А это, точно про нас… "Аще при встрече с сим зверем, коли будет близ скала или валун великой, то вокруг оной скалы или валуна от зверя кружити следует и в хвост ему выйти. Князь лесной след берет по чутью, на нос, и в недоумии зверином не ведает, как кругом идет, и разумети не может, каково бы оборотитися или встать обождати. Зверь сей силою в лапах и когтях зело богат, да дыхом слаб и сердцем недюжен, посему, в хвосте у медведя идучи, как услышишь одых хрипом, ступай смело, каким путем лучится, потому зверь сердцем сник и погоню сей миг бросит". А дальше… — Книга в руках Коротыжина захлопнулась. — Дальше пламенник делится кое-какими секретами ворожбы и говорит, что при встрече с косолапым кстати может оказаться клубок просмоленной веревки, заговоренный печерским ведьмаком оберег, сухая известь, вываренный крестец летучей мыши, серебряная откупная гривна, печень стерлядки, нетоптаная черная курица и… кажется, все. Но с таким багажом встретить мишку — случай редкий. Так-то вот. В тот раз выходил пламенник из Руси под личиной княжеского посла со свитой из переодетых скоморохов. Путь держал через улус Джучиев и державу Тимуридов — хотел осмотреть судьбу всяких пределов…
— Слушай, Слива, — сказал вдруг парень, — а кто в штабе у этих призванных портреты сторожит? Тот, стало быть, и атаман, раз жизням их хозяин?
Коротыжин на миг задумался.
— Нет, — сказал он, — не атаман. Ему, конечно, от пламенников уважение, но в дела всякого призванного сторож не допущен. Да и портреты заговоренные — если пламенник тайны хранит, а портрет кто-то ножиком тычет, тот сам и окочурится. Сторожу это известно.
Дождь за окном ослаб. Осовелая витрина смотрела на стучащий мимо трамвай.
— Что же, и судьбы читать твой пламенник научился?
— А как же, — сказал Коротыжин. — Дело-то пустяковое — они ведь уже кончились.
— Сам что ли пробовал? — Трудная улыбка вновь осела на круглом лице парня. — А скажи-ка мне, Слива…
— Пожалуйста. Смерть твоя, в продолжение жизни, будет дурацкой. Ты поскользнешься на банановой шкурке и проломишь череп о поребрик. Из больницы ты выйдешь идиотом и остаток дней поделишь между домом и набережной Пряжки. Твоего лечащего врача будут звать Степан Периклесович он тоже пламенник… А однажды ты сожжешь лицо на газовой плите и через три дня умрешь в больничной палате, потому что гной из твоих глазниц прорвется в мозг. — Коротыжин плеснул в опустевшую чашку медной заварки. — А когда все это будет, не скажу. Смысла нет — это уже случилось.
Лицо парня плавно отвердело, словно оно было воск и его сняли с огня. За окном матовая занавесь раздернулась, и теперь лишь редкие капли шлепались в лужи со светлеющего неба.
— Хамишь, Слива, — нехорошо сказал парень. — Hу вот что… школьная задачка — прежнее на полтора умножь. Теперь так будет. Шевелись, говорун!
— Помилуй, — спокойно сказал Коротыжин. — Я масспродукта не держу. Hаркотиков всяких из целлюлозы и типографской краски…
— Теперь так будет, — повторил парень. Лицо его было твердым, казалось — сейчас посыплется крошкой. — Товар твой — и вправду дрянь. Hо раз аренду тянешь, так и за покой плати — а то, гляди, выгорит лавчонка… — Парень оттолкнул свою чашку, та стукнулась о заварник и едва не опрокинулась. — А не по карману — место не занимай. Насосанные люди осядут.
Коротыжин встал, сыро пробурчал под нос: "Тупо сковано — не наточишь…" — и отправился в комнату за подсобкой, где оформлял торговые сделки и хранил в сейфе документы и выручку. Спустя минуту на журнальный столик легли четыре пачки денег. Две — сиреневые, две — розовые. Букеты не пахли. Парень взял деньги, взвесил в руке и, доверяя банковской оплетке, без счета сунул в карман спортивной куртки.
— Спасибо за чай, — сказал он. — Привет пламеннику…
Парень подошел к двери, на улице — вполоборота круглой головы — плюнул в лужу. Зевотно глядя вослед посетителю, Коротыжин снял со стекла табличку "обед", вспомнил про оставленный открытым сейф и направился в глубь лавки.
Дверь в комнату была обита листовым дюралем и снабжена надежным замком. Hа трех стенах в один ряд висели старые, обрамленные черными багетами портреты, писанные, похоже, кошенилью по желтоватой и плотной хлопковой бумаге. Посреди пустого стола лежала пара спелых, уже чуть крапчатых, как обрезы старых книг, бананов — остаток грозди, купленной утром по случаю татарского сабантуя в подарок Hурие Рушановне.
Прежде чем закрыть сейф, Иван Коротыжин по прозвищу Слива сунул руку в его выстеленную сукном утробу, вытащил из-под флакона штемпельной краски тетрадь в синем бархатном переплете и сделал запись под четырехзначным номером: "Солярный миф Моцарта — Гелиос улыбчивый, свершающий по небу ежедневные прогулки; солярный миф Сальери — потный Сизиф, катящий на купол мира солнце".
Тот, что кольцует ангелов
Когда мы впервые встретились с Ъ (случилось это в гостях на чьем-то кажется, коллективном — дне рождения), он был высоким, худощавым и неуместно задумчивым студентом фармакологического института. В комнате было шумно и по-кухонному душно. В какой-то момент, пожалуй что случайно, мы очутились вместе с Ъ на небольшом балконе, увитом кованой растительной оградой. Внизу отстраненно гудела щель Троицкой улицы. Используя раскрытый бутон черного железного цветка как пепельницу, Ъ молча курил маленькую сигарету, над угольком которой вился сизый табачный дымок со странным сладковато-пряным запахом. Наше необязательное замечание, что вечерний Петербург в любую погоду вызывает ощущение брутальной душевной неустроенности, повергло Ъ в странную серьезность, слегка приоткрывшую диковинный строй его мыслей. "Дома и улицы городов больше не благоухают, сказал он. — Вечером это особенно заметно". Подумав, Ъ решил пояснить мысль немногословным и весьма категоричным по тону дополнением — запахи жертв, ароматы благовоний и воскурений питают не только богов, но тела и души смертных.
Hа карнизе соседнего дома зобастый сизарь обтанцовывал голубку. Нам стало интересно, связаны ли мысли Ъ с его будущей профессией, но оказалось, что медицинская сторона вопроса — одна из многих, есть еще сакральная, философская, оккультная, кулинарная, косметическая и социальная, собственно, древние и не проводили строгого различия между лекарственными и ароматическими травами, благовониями и фимиамами, наркотиками и специями, между растениями, питающими человека и небожителя, и косметическими средствами для обольщения мужчин и богов… В комнате взорвалось шампанское, и всех позвали к столу.
Впоследствии, когда мы и сами уже о многом догадывались, в руки нам попала тетрадь с записями Ъ (по мнению большинства знавших его лиц, Ъ тогда уже умер). Содержание тетради нельзя отнести ни к разряду дневниковых, ни к разряду рабочих заметок — на первый взгляд, оно состоит из случайного набора цитат без указания источника, пересказов прочитанного или услышанного и собственно мыслей Ъ, носящих, как правило, гипотетический характер. Однако после некоторого изучения мнимая бессвязность начинает обретать вид стягивающихся тенет — сложной взаимосвязи, нити которой перекинуты от фрагмента к фрагменту с пропусками, возвратами и крупными ячеями, куда соскальзывает лишнее, — взаимосвязи, основанной на поступательном развитии мысли, постигающей эзотерику запаха. Дабы нагляднее показать эволюцию дела Ъ, мы позволим себе время от времени цитировать избранные места из этой тетради. В приводимых отрывках отсутствует фармакопея упоминаемых, подчас крайне опасных, средств (найти рабочие записи Ъ до сих пор не удалось), так что обвинения в безответственности и даже преступности их публикации не могут быть приняты.
— Счастливым было их прибытие в страну Пунт. По повелению бога богов Амона они доставили разные ценности из этой страны. В Пунте можно запастись благовониями в любом количестве. Было взято много благовонной смолы и свежей мирpы, эбенового дерева, слоновой кости и чистого золота страны Аму, а также краска для глаз, обезьяны с песьими головами и длиннохвостые обезьяны, ветровые собаки, шкуры леопардов и местные жители с детьми.
— Старик высек огонь и, свернув из бумаги трубочку с лекарственным порошком, окурил студенту обе ноги, а затем велел ему встать. И у студента не только совершенно прекратились боли, но он почувствовал себя крепче и здоровее обыкновенного.
— В китайских источниках есть сведения о ввозе из Индии и Среднего Востока благовонных веществ для ритуальных, кулинарных и медицинских целей. В древнем Китае бытовали легенды об ароматических веществах Индокитая, где деревья источали бальзамы и пахучие смолы. Еще до эпохи Тан снаряжались императорские экспедиции к берегам Сиамского залива на поиски дерева, представляющего, по легенде, универсальное ароматическое растение: корни сандал, ствол — камфорный лавр, ветви — алоэ, соцветия — камедь, плоды бергамот, листья — амбра, смола — ладан.
— От ран: возьми дрожжей, да вина горелого, да ладану, да набить яиц куречьих и мазать раны.
— Аще у кого душа займетца напрасно, язык отъиметца — зажещи две свещи вощаны с подмесию аравейской мирpы, да погасите одна и подкурити под нос, пременяя.
— Если верить Геродоту, Аравия — единственная область, где производились ладан, миро, кассия, лауданум. Однако география искусства, вероятно, была шире и охватывала Индию и Северную Африку.
Нам доподлинно известно, что по окончании института Ъ несколько лет служил провизором в аптеке, занимавшей угол дома на перекрестье отстроенных пленными немцами улиц. Этот имперский район надежной корой покрыл ствол Московского проспекта от Благодатной до Алтайской, и он нам, безусловно, нравится, иначе чего бы стоила наша любовь к Египту. От метро к аптеке следовало идти вдоль аккуратно разбитого садика, людного, но отрадно уместного в здешнем ландшафте, — сквер не был тут гостем, поэтому мог позволить себе треснувшие плиты на дорожках и поваленную у скамейки урну. По правую руку, за односторонним потоком троллейбусов и легковых, лежала, словно замшевая, пустынная гравийная площадь с государственной бронзой посередине. Голубые елки по ее краю всегда выглядели немного пыльными. Окна аптеки выходили на боковое крыло огромного дома с гранитным цоколем, массивными полуколоннами и скульптурным (индустриальные победы) фризом, разглядывая который, прохожему в шляпе приходилось шляпу придерживать. За полированным деревом прилавков, в застекленных шкафах царил неумолимый аптечный порядок — мази и грелки, микстуры в пузырьках и пилюли в картонных коробках, касторовое масло и бычья желчь, бандажные пояса и горчичные пластыри томились природной готовностью немедленно услужить. Дальше начинались владения Ъ.
В провизорской работали человека три-четыре, однако у Ъ был свой, отгороженный от остальных угол, что говорило о признанной независимости и особости его положения. Ко всему, в числе сотрудников аптеки он оказался единственным мужчиной, и это, в известной мере, изначально выделило его из среды. Ъ практически не исполнял своих прямых обязанностей (обеспечение рецептов) — его работу можно было назвать сугубо исследовательской, что, разумеется, делало ее внеположной для такого хрестоматийного учреждения, как аптека. Со слов Ъ нам известно, что вначале заведующая выговаривала ему за посторонние занятия, но их отношения быстро наладились — каждением какой-то зеленой пыли Ъ в полчаса свел с ее глаза врожденное бельмо.
Помещение провизорской всякий раз встречало нас смесью столь экзотических запахов, что невольно вспоминались рассказы о кораблях с ладаном, которые сжигал Hерон при погребении Поппеи, или о "столе благовоний" императора Гуан Цуня. При входе мы надевали белый гостевой халат и, заискивающе улыбаясь сотрудницам (формально посторонние в провизорскую не допускались), следовали в ароматный закуток Ъ, внутренне холодея от колеблемых аптечных весов и непоколебимых шкафов, от обилия стекла и неестественной чистоты поверхностей. Хозяин закутка неизменно пребывал в одном из двух присущих ему состояний — он или что-то дробил в фарфоровой ступке, отмерял на весах, вязко помешивал в чашке Петри, топил на спиртовке, попутно делая в потрепанном блокноте быстрые записи, или с удивительной отстраненностью смотрел в стену и был совершенно невосприимчив к внешним раздражителям, — в последнем случае нам приходилось подолгу ждать, когда Ъ обратит на нас внимание.
Нет, мы не были с Ъ друзьями. Пожалуй, мы вообще не знаем человека, которого можно было бы назвать его другом. Нам просто нравилось под каким-нибудь пустячным предлогом — прыщ, несварение, насморк — приходить в провизорскую и, глядя на работу Ъ, говорить о величии Египта, который в неоспоримой гордыне "я был" и в кристальном знании "я буду" строил свои гробницы и храмы из тысячелетий былого и грядущего, в то время как зябкая, дрожащая надежда "я есть" никогда не имела в своем распоряжении ничего прочнее фанеры. Ъ подносил к нашему носу баночку с чем-то влажным, отчего в минуту проходил насморк, и с убедительными подробностями перечислял шестнадцать компонентов благовония "куфи", которым египтяне умилостивляли Ра.
— Индийские священные книги учат, что растения обладают скрытым сознанием, что они способны испытывать наслаждение и страдание.
— Дон Хуан связывал использование Datura inoxis и Psilocybe mexicana с приобретением силы, которую он называл гуахо, а Lophophora williamsii — с приобретением мудрости, то есть знания правильного образа жизни.
— Возможно, тела и души растений способны передавать телам и душам людей то, чего последние не имеют.
— Дым Banisteriopsis caapi давал восхитительный аромат тонких благовоний, и каждая затяжка вызывала медленный чарующий поток изысканных галлюцинаций…
— Египетские боги были капризны: в списке товаров, затребованных Рамзесом III, говорилось, что цвет благовоний может меняться только от облачного янтарно-желтого до похожего на лунный свет призрачного бледно-зеленого.
— У "чертовой травки" четыре головы. Важнейшая голова — корень. Через корень овладевают силой "чертовой травки". Стебель и листья — голова, исцеляющая болезни. Третья голова — цветы; с ее помощью сводят людей с ума, лишают воли и даже убивают. Семена — это четвертая, самая могучая голова. Они — единственная часть "чертовой травки", способная укрепить человеческое сердце.
Разговоры, которые Ъ заводил с нами первым, неизменно тем или иным образом касались различных свойств запахов. Другие темы оставляли его безучастным. В мировоззрении Ъ — восстановимом теперь по отдельным высказываниям и записям лишь приблизительно — теория запахов занимала важнейшее место и в своем дискурсе подводила к основам модели бытия, решительно отличной от общепринятой. Надеемся, это станет ясно по мере приближения к тому неочевидному (имеются одни косвенные свидетельства) моменту, когда Ъ, по примеру Эпименида и Пифагора, а также иных людей божественного дарования, достиг той стадии совершенства, при которой человек перестает нуждаться в пище и поддерживает жизнь только ароматами, насыщаясь ими подобно бессмертным.
Однажды Ъ рассказал нам о Лукусте, изобретательнице ядов, за услугу в отравлении Британика получившей от Нерона богатые поместья и право иметь учеников: в ее распоряжении были составы, убивающие запахом, — их подкладывали в шкатулки с драгоценностями и прятали в букеты цветов. Есть сведения, что и Калигула, знавший толк в роскоши, придумавший купания в благовонных маслах, горячих и холодных, питие драгоценных жемчужин, растворенных в уксусе, рассыпание в залах со штучными потолками и поворотными плитами цветов и рассеивание сквозь дырочки ароматов, тоже имел в арсенале запахи-яды: после его смерти Клавдий, не зная предела злодейству предшественника, запретил вскрывать лари и шкатулки с личными вещами Калигулы. Вещи выкинули в море — и действительно, зараза была в них такая, что окрестные берега пришлось расчищать от дохлой рыбы. Что касается времен не столь давних, то, по свидетельству китайского хрониста Мэньши таньху ке (псевдоним означает "Смельчак", а дословно переводится как "Ловящий вшей при разговоре с тигром"), императрица Цыси использовала по своим прихотям многие яды, среди которых были и такие, что от одного их запаха люди превращались в скользкую лужицу.
Мы удивлялись целеустремленности познаний Ъ. В самом деле, грань между лекарством и ядом столь зыбка, изысканна и подчас полна стольких тайн и мистических откровений, что постижение ее для всякой тонкой и пытливой натуры — немалое искушение. Как нам стало известно после пронизанных сквозняками библиотечных бдений, именно на этой грани проживается мистерия жизни-смерти-воскресения. В Дельфийских, Элевсинских, Орфических и Самофракийских мистериях, в египетских мистериях на острове Филэ бог, упорствуя в своей судьбе, умирает и воскресает, — но есть ведь еще и посвященные, которые умирают и воскресают вместе с ним! У нас не было достаточного эзотерического опыта, чтобы понять, как это происходит. Версию объяснения мы нашли в никем до нас не читанном (удивительно — пришлось разрезать страницы) библиотечном томе И. Б. Стрельцова "Значение галлюциногенных растений в некоторых архаических культурах и консервативных мистических культах", где, в частности, говорилось: "Есть ли сила, способствующая забвению личного исторического времени, индивидуальной земной меры посвященного, способствующая переходу его в иную меру, — время мифическое, объективно совпадающее с экстазом? Допустимо предположить, что начальным возбуждающим фактором, сопутствующим экстатической технике, которая материализует миф в индивидуальном сознании, могла быть хаома. Это — галлюциногенное растение, которое, согласно иранским источникам (Плутарх также свидетельствует, что жрецы, измельчая в ступке хаому, вызывают тем самым Аримана, бога тьмы), позволяет переступить обычный порог восприятия и отправиться в мистическое путешествие, способно вознести посвященного в грозную и чарующую метафизическую сферу".
Уклонения от непосредственного жизнеописания, надеемся, будут нам прощены, так как они призваны хотя бы отчасти объяснить некоторые, на вид непоследовательные, движения и увлечения Ъ.
По прошествии нескольких месяцев со дня нашего разговора о запахах-ядах Ъ всерьез и надолго заболел. Мы не виделись с ним, должно быть, более полугода, когда однажды — случайно и столь счастливо встретились в диком парке Сестрорецкого санатория у станции Курорт. Ъ отдыхал здесь после продолжительного больничного лечения, а мы просто шли через парк к заливу, где среди сосен и дюн собирались провести неумолимо протяжный воскресный день. Был июнь. В низинах сжимал кулачки молодой папоротник. Ъ сильно изменился — он всегда был худ, но теперь крупные черты его лица отвердели и потемнели, словно на них запеклась окалина. Время от времени на перекрестках усыпанных хвоей дорожек появлялись белые столбики со стрелками, указующими маршрут оздоровительного моциона. Собираясь прервать молчание — Ъ отказался что-либо говорить о своей болезни, — мы находчиво похвалили суровую красоту окружающих сосен. Ъ ответил, что в человеке живет много разных существ и что это говорит лишь одно из них, когда его сменит другое, то оно вполне может найти пейзаж безобразным, но и первое, и второе неверно — сумей они понять, что их много и они не отвечают за дела и взгляды друг друга, они бы захотели договориться и, внимательно приглядевшись, с удивлением бы заметили, что сосны вообще-то не хотят быть красивыми, это у них как-то само собой выходит, словно бы вопреки. С изящными вариациями Ъ пересказал урок Гурджиева о компании самонадеянных "я", упакованных в одну оболочку, но практически друг о друге не осведомленных, добавив, что об этом упоминали также Г. Гессе и А. Левкин, но беллетристов следует учитывать лишь как выразителей мнения, ибо их, как правило, интересует не истина, а именно собственное мнение на ее счет. Потому беллетристы и не понимают того, о чем пишут, видя смысл своего дела в изложении химеры, а не в создании такой области, где автор может исчезнуть. Мы с этим согласились. Видимо, наше живое внимание тронуло Ъ, потому что в тот же день он преподнес нам специальную курительную смесь и склянку с холодящей ароматной мазью, которые, после определенного комплекса курений и умащений, позволяют существам, в самодовольной слепоте живущим в человеке, наконец-то обнаружить друг друга. Собственно, исполнив этот комплекс (сперва было тревожно, шумно и неуютно, но постепенно установился регламент), мы и стали именовать себя во множественном числе. Кто же мы теперь? Уместно сравнить нас с верховным выборным органом небольшой тоталитарной державы.
— "Обычное" состояние сознания есть лишь частный случай миропонимания.
— Она отравила его страшной розовой жидкостью, которая сжала его всего и превратила в карлика. При этом императрица рассказала испуганному окружению, что в ее Дворце блистательного добротолюбия хранится множество ядов: от одних человек сгорает и превращается в золу, от других начинает кровоточить и полностью растворяется, а от запаха третьих вовсе переходит в пар. (Документировано: казнь евнуха Лю.)
— Ее сила действует подобно магниту и становится тем могущественнее и опаснее, чем глубже в землю уходит ее корень. Если дойти до трехметровой глубины — а, говорят, некоторым это удавалось, — то обретешь источник нескончаемой, безмерной силы.
— Возвращение к обычному сознанию было поистине потрясающим. Оказывается, я совершенно забыл, что я — человек!
— Тот, кто прибегает к дымку, должен иметь чистые побуждения и несгибаемую волю. Они нужны ему, во-первых, для того, чтобы возвратиться, так как дымок может и не отпустить назад, а во-вторых, для того, чтобы запомнить все, что дымок позволит ему увидеть.
— "Что бывает с человеком, который натрет мазью лоб?" — "Если он не великий брухо, то он просто никогда не вернется из путешествия".
— Все пути одинаковы — они никуда не ведут.
Оправившись после болезни, причины и суть которой так и остались для окружающих тайной, Ъ в аптеку не вернулся. Пожалуй, он мог бы обеспечить себе безбедное существование, обзаведясь практикой нетрадиционного целителя, однако Ъ никогда не интересовался — в смысле стяжания — выгодой, какую мог бы извлечь из своих уникальных познаний. К тому же, как нам кажется, для продолжения исследований Ъ нуждался в определенных материалах, которые (если и не все, то хотя бы частью) легче всего найти в учреждениях известного рода. Словом, вскоре после выздоровления Ъ поступил на службу в экспериментальную лабораторию парфюмерной фабрики "Северное сияние", что завязана где-то в узле Николаевской — Боровой — Ивановской.
Период жизни, связанный с "Северным сиянием", совпадает с особым этапом теоретических и практических исканий Ъ, который (этап) с внешним лукавством, не переносимом, впрочем, на его глубокое и труднопостижимое содержание, можно также назвать "парфюмерным".
Здесь следовало бы сказать о внезапно и качественно возросшем интересе Ъ к вопросам пола, вернее, к одному из них — вопросу эволюции пола. (Существенная оговорка: разница между способом размножения плесени и воспроизводством потомства людьми остается в подчинении наивного дарвинизма и не имеет отношения к затронутой теме.) Мы попытаемся выразить этот интерес с помощью цепи последовательных умозаключений, отчасти почерпнутых из редких бесед с Ъ, отчасти домысленных самостоятельно. Корректность домысла не должна подвергаться сомнению в силу ряда причин, важнейшая и достаточная из которых — отсутствие нашей заинтересованности в клевете на Ъ.
С обычной точки зрения, в разделении полов и всего, что с этим связано (любовь), усматривается лишь одна цель — продолжение жизни. Hо, даже используя этот неизощренный ракурс, совершенно очевидно, что человеку дано гораздо больше "любви", чем ее требуется для воспроизведения потомства, избыток энергии пола преобразуется в иные формы, подчас противоречивые, опасные, даже патологические, что неутомимо доказывал Фрейд и последующие психоаналитики. Вероятно, без подобного мотовства прямая цель не была бы достигнута — природе (пусть — природе) не удалось бы заставить людей подчиниться себе и продолжать по ее воле свой род. Люди стали бы торговаться. Гарантией от тщеславного упрямства и выступает тот блистательный перебор, который ослепляет человека, порабощает его и заставляет служить целям природы в уверенности, что он служит самому себе, своим страстям и желаниям.
По мнению Ъ, кроме главной задачи (воспроизводство), пол служит еще двум целям — их наличие как раз и объясняет, почему сила пола проявляется в таком избытке. Одна из этих целей — удержание вида на известном уровне, т. е. то, что следует в биологии понимать под термином "эволюция", хотя ей зачастую приписывают универсальные свойства, которыми она не обладает. Если у данной "породы" не хватает энергии пола, неминуемо последует вырождение. Другая, не столь очевидная и куда как глубже сокрытая цель, — это эволюция в мистическом (Ъ говорил — подлинном) смысле слова, т. е. развитие человека в сторону более высокого сознания и пробуждения в себе дремлющих сил и способностей. Последняя задача отличается от первых двух тем, что требует осознанных действий и особого целевого устройства жизни. Hе секрет, что практически все оккультные учения, которые признают возможность преображения человека, видят эту возможность в трансмутации, в превращении определенных видов материи и энергии в совершенно другие виды, — в данном случае Ъ, несомненно, имел в виду превращение энергии пола в энергию высшего порядка и последующую переориентацию — направление ее внутрь организма для создания новой жизни, способной к постоянному возрождению.
Мы находимся в незначительном затруднении — следует ли объяснять, что на "парфюмерном" этапе поиски Ъ сводились к попытке предельно возможного количественного увеличения "любви" для упрощения ее качественной метаморфозы?
Нам приходит на память рассказ Ъ о дурионе, который при желании можно рассматривать как основание для постановки проблемы.
Однажды мы прогуливались с Ъ по набережной Екатерининского канала в том месте Коломны, где старинные тополя лениво ворочают корнями красноватые гранитные плиты. Снова был июнь. Два школьника впереди нас поджигали наметенные ветром кучки тополиного пуха. Говоря о трудностях в получении некоторых материалов, Ъ упомянул дурион. Мы не знали, что это такое. Ъ объяснил нам, что дурион — это ароматный плод размером с ананас, а то и крупнее, произрастающий в Малайзии. Словно древний ящер, он усажен твердыми конусовидными шипами, — поэтому с дерева дурион снимают недозревшим, так как падение его может соперничать с ударом шестопера и чревато для садовника увечьем. Внутренность плода наполнена пряной и сладкой, похожей на крем, мякотью, но насколько изумителен вкус, настолько бесподобен и ужасен запах — щадящее представление о нем дает смесь подгнившего лука с сероводородом. Благодаря названному свойству, употребление дуриона "в хорошем обществе" не допускается — в магазинах и ресторанах для его продажи и поедания отводятся особые места. Перевозка дуриона на пассажирском транспорте категорически запрещена. Мы полюбопытствовали, зачем Ъ понадобился этот ботанический скунс? Оказалось, существуют невнятные сведения, что мужчина, отведавший известное количество дуриона, его адского запаха и райского вкуса, перестает замечать женщин. "Что из этого следует?" — спросили мы. "Скорее всего — ничего, — ответил Ъ. - Hо даже если здесь нет развития, а есть только вырождение, то и тогда это знание о развитии — можно будет твердо сказать, что им не является".
Наша задача очеркиста осложняется тем, что Ъ, как всякий выдающийся мастер, избегал разговоров, связанных с основанием предмета и целью своих занятий, — он мог подолгу рассуждать об ароматах и фимиамах, но он никогда не заводил речи о том, что в итоге хочет из них почерпнуть. Нам также ни разу не удалось побывать на квартире у Ъ. Остается лишь предполагать, каких конкретных результатов он достигал на каждом этапе своего дела. Догадку о попытке вызвать запахом предельную чувственность и в крайнем напряжении не оставить ей иного выхода, кроме трансмутации, можно считать одним из таких предположений, весьма, впрочем, обусловленным логикой самого Ъ.
Подобными вещами он занимался в часы досуга, избавляя свое искусство от участи быть превращенным в товар, а в служебное время Ъ изобретал новые одеколоны, духи и лосьоны, неизменно блестящие по своим характеристикам, придающие любви аромат и изысканность, однако лишенные сверхзадачи, величия духа и грандиозности жеста — порыв к божеству здесь едва уловим. Вот реклама мужской туалетной воды (содержимое фигурного флакона разработано Ъ): "Аромат составлен на основе экстрактов редких и дорогих ягод, экзотических пород дерева, листьев и стеблей, которые придают ему острый и мужественный оттенок. Легкая цветочная добавка делает букет гармоничным, и спустя всего мгновение, за которое она вводится, чувствуется свежее дуновение индийского жасмина, кардамона и альпийской лаванды, за которым следует горьковатая тональность мускатного ореха. В центре букета хорошо ощутим запах стеблей розы и герани, усиленный корицей. К этой благоуханной смеси в итоге добавлен холодный, изысканно строгий тон пачулей и дубовых листьев".
— А то ведь если мускусные женские духи попадут человеку в сердце, то бывает, что он смерти ищет от них и не находит.
— Здесь и заключен секрет глубокой меланхолии наиболее живых половых ощущений. В них скрывается какой-то привкус осени, чего-то исчезающего, того, что должно умереть, уступив место другому.
— Еле улавливая ее ароматное дыхание, он почувствовал, как все желания его души ласково стихли.
— Если кому-то и удается трансмутация, то он в силу самого этого факта почти немедленно покидает поле нашего зрения и исчезает для нас.
— Доступные человеку мистические состояния обнаруживают удивительную связь между мистическими переживаниями и переживаниями пола.
— Во время любовных встреч с Сяньфэном они выкуривали по трубке опиума, ибо он убивает чувство времени. Наслаждение, которое длится всего несколько минут, под его влиянием кажется длящимся часами. К старости императрица курила опиум уже трижды в день, и это подтверждает роман Сюй Сяо-тяня, где евнухи приглашают государыню вкусить "крем счастья и долголетия".
— Любовь и пол — это лишь предвкушение мистических состояний, и, конечно же, предвкушение исчезает, когда является то, чего мы ждали.
Благоухание небес, тех божественных сфер, где бессмертные вдыхают фимиамы жертвенников и умащают тела амброзией, — вот что неизменно привлекало Ъ на уровне символического и вместе с тем служило нервом-маяком, сигналящим об отклонении с пути знания, которому он был поразительно, если не сверхъестественно, предан. С течением времени Ъ все больше углублялся в свой кропотливый поиск, замыкаясь от праздных общений, от высасывающих агрессивных пустот в охранный панцирь устремления к идеалу, в своего рода эстетизм, который отсекал все, не связанное с конечной или этапной целью его пути.
Было бы совершенно неверно предполагать, что Ъ искал нечто новое. Широко укоренившееся, наглое и самодовольное мнение, будто всякая идея, всякое явление — от религии до астрономии — возникает сначала в примитивной форме, в виде простейшего приспособления к условиям среды, в виде дремучих диких инстинктов, страха или воспоминания о чем-то еще более глухом и грубом и лишь потом постепенно развивается, становится все более утонченным и понемногу приближается к идеальной форме, — такое мнение было для Ъ бесспорно неприемлемым. Скорее, он шел вспять, будучи уверенным, что подавляющее большинство современных идей представляют собой не продукт прогресса, а продукт вырождения знаний, когда-то существовавших в более высоких, чистых и совершенных формах. Неспроста в тетради Ъ выписано созвучное утверждение Д. Галковского: "Человек произошел вовсе не от обезьяны. Он произошел от сверхчеловека".
Упомянув защитный панцирь, мы хотим пояснить, что именно имеем в виду. Парфюмерная фабрика занимала Ъ не более трех лет — должно быть, он исчерпал приведенную выше версию и ему в тягость сделалась работа, непосредственно не связанная с очередным поворотом его благоуханного дела. Насколько нам известно, новой службы Ъ не искал. Вероятно, он усердно трудился дома — все знакомые Ъ утверждают, что, опуская нечаянные встречи на улице или в читальном зале библиотеки, практически не виделись с ним после его ухода с "Северного сияния". Кроме осознанного уединения, Ъ овладел дополнительным средством защиты. Выше уже говорилось, что темы, не касавшиеся его главной страсти, оставляли Ъ безучастным, причем из тем признанных он упрямо избегал тех, которые могли подвести к основанию или конечному смыслу этой страсти. Сама по себе подобная избирательность уже значительно сужала круг лиц, которым Ъ мог показаться интересным собеседником. Ъ ввел в свой словарь дружину необязательных варягов: лексика его так усложнилась, пестрила столь редкой терминологией (позволяющей, впрочем, кругам посвященных избегать дескрипции), что возникло положение, при котором он понимал всех, а его — никто. Или почти никто. Мы склонны рассматривать это как поиск пароля. Подобное стремление должно было привести и приводило к тому, что люди, не понимающие кода, который означал известную степень ангажированности в проблему, сами прерывали разговор и не претендовали на дальнейшее общение.
Упоминание о коде кажется нам существенным — оно свидетельствует о высоком уровне герметичности Ъ и, кроме того, служит оправданием приводимой ниже — последней — беседы с Ъ, вернее — его монолога: если в результате что-то останется неясным, виной тому — наша терминологическая глухота, недостаточное знакомство с языком оригинала.
Эта последняя встреча произошла в Юсуповском саду, разбитом по всем правилам паркового искусства — с прудом и парнасом, — под ширококупыми липами, с которых летели на поблеклые газоны неторопливые сентябрьские листья. Мы сидели на скамейке в дальнем, почти безлюдном конце сада и наслаждались купленным на последние деньги альбомом по древнеегипетскому искусству. Неподвижная гладь пруда подернулась у берега ряской из желтых листьев. Мы как раз подступили к ярким краскам — увы, восстановленным фресок гробницы Рехмира в Фивах, когда невзначай подняли глаза от сверкающей лаковой страницы и увидели идущего по дорожке Ъ. Он был по обыкновению величав и спокоен, что нечасто встретишь в человеке худощавого сложения, однако в облике его появилось нечто новое, прежде не бывшее. Хоть мы и не видели Ъ несколько месяцев, мы не сразу поняли, что перемена состоит в ясном торжестве его взгляда.
В Юсуповском саду Ъ поведал нам о Пифагоровой тетрактиде. Языковой код (здесь изложение дается в общедоступных терминах) послужил немалой помехой в понимании мелочей и некоторых логических мостов, но есть надежда, что суть нами уловлена верно.
Итак, Ъ имел собственное толкование тетрактиды, составлявшей основание тайного учения пифагорейцев.
Известно, что четверка является священным числом как завершающий член прогрессии 1+2+3+4=10. Известно также, что данная прогрессия напрямую связана с Пифагоровым учением о числах. В изложении Ъ оно примерно таково: первообразы и первоначала не поддаются ясному выражению в словах, ибо их трудно постичь и почти невозможно высказать, поэтому, дабы все же их обозначить, — будучи не в силах передать словесно бестелесные образы, следует прибегать к числам. Так, понятие единства, тождества, причину единодушия, единочувствия, всецелости, то, из-за чего все вещи остаются сами собой, пифагорейцы называли Единицей. Единица присутствует во всем, что состоит из частей, она соединяет части в целое, ибо причастна к первопричине. А понятие различия, неравенства, всего, что делимо, изменчиво и бывает то одним, то другим, они называли Двоицей — такова природа Двоицы и во всем, что состоит из частей. Есть также вещи, которые имеют начало, середину и конец — эти вещи по такой их природе и виду пифагорейцы называли Троицей и все, в чем находилась середина, считали троичным. Желая наставить ученика на путь посвящения, возвести к понятию совершенства, Пифагор влек его через этот порядок образов. Все же числа вкупе подчинены единому образу и значению, который назывался Десяткою, то есть "обымательницей" — опыт игровой этимологии, будто слово это пишется не "декада" (dekados десяток), а "дехада" (от глагола dechomai — принимать). В данной трактовке Десятка равнялась божеству, являясь совершеннейшим из чисел, в ней заключалось всякое различие между числами, всякое отношение их и подобие. В самом деле, если природа всего определяется через отношения и подобия чисел и если все возникает, развивается, завершается и в конце концов раскрывается в отношениях чисел, а всякий вид числа, всякое отношение и всякое подобие заключены в Десятке, то как же не назвать Десятку числом совершенным?
В дошедшем учении из указанной прогрессии закономерно опущено толкование Четверки (тетрактиды): ведь она составляла эзотерическую основу всего учения, она — последняя ступень к божеству. Вульгарное толкование Четверки Александром в "Преемствах философов" как универсального образа, приложимого ко многим физическим понятиям и соответствующего четырем временам года, четырем сторонам света, объему (четыре вершины пирамиды-тетраэдра), а также четырем основам — огню, воде, земле и воздуху, представляется наивным и, как французский афоризм, обнажает лишь краешек предмета. Иначе с какой стати ученикам Пифагора клясться Четверкой, поминая учителя как бога и прибавляя ко всякому своему утверждению:
Будь свидетелем тот, кто людям принес тетрактиду, Сей для бессмертной души исток вековечной природы!Памятуя о достоинствах краткости, поспешим перейти к итогу: бесспорно, считал Ъ, тетрактида служила образом первоосновы, некой невещественной субстанции, обеспечивающей единение человека с — понятыми Александром примитивно — временем (четыре сезона), пространством (стороны света) и четырьмя руководящими стихиями. ("И что же? — спросили мы. — Тетрактида спасет мир?" — "Глупости, — серьезно ответил Ъ. — Тетрактида просто освободит каждого, кто к ней стремится".)
Возможно, нет надобности говорить, что стараниями Ъ тетрактида была вновь открыта как благовоние, дарующее человеку божественную природу и состоящее (здесь — неточно) из четырех ступеней постижения, четырех компонентов или числа компонентов, кратного четырем.
— Пифагор первым в Элладе стал гадать по ладану.
— Некоторые уверяют, что он никогда не спал, а досужее время проводил, собирая зелья. Еще Деметрий передает рассказ, будто Эпименид получал свою пищу от нимф и хранил ее в бычьем копыте, что принимал он ее понемногу и поэтому не опорожнялся ни по какой нужде, и как он ест, тоже никто не видел.
— Он пошевелил в жаровне, основательно раздул глубокий фимиам, потом отер рукавом пыль, устроил лютню на столе, дал два-три удара по струнам… Чудесный мастер шел в божество.
— Еще рассказывают, будто он сперва назывался Эаком, будто предсказывал лаконянам их поражение от аркадян и будто притворялся, что воскресал и жил много раз.
— Прошло несколько лет. Кто-то из жителей пробрался потихоньку, чтоб посмотреть отшельника, и нашел, что он, не переменив места ни на малость, продолжает сидеть у жаровен с благовониями. Затем протекло еще много времени. Люди видели, как он выходил гулять по горам. Только к нему подойдут — глядь, исчез! Пошли, заглянули в пещеру. Оказалось, что пыль покрывает его одежду по-прежнему.
— Собственноручно она приготовила благовонную амброзию из мирpы, доставленной из такой дали, чтобы намазать свое тело. Вокруг распространилось божественное благовоние, до самой страны Пунт донесся этот аромат. Ее кожа стала золотистой, лицо сияло, словно солнце, так она осветила всю землю.
— Однако когда ему давали вино, кушанья, деньги, рис, — всего этого он не брал. Спрашивали, что же ему нужно, — он не отвечал, и целый день никто не видел, чтобы он ел и пил. Тогда толпа стала его тормошить. Хэшан рассердился, выхватил из своих лохмотьев короткий нож и распорол себе живот. Залез туда рукой и разложил кишки рядами по дороге. Вслед за этим испустил дух. Похоронили монаха в бурьянных зарослях. Потом как-то прорыли яму собаки, и рогожа обнажилась. Наступили на нее ногой — она была словно пустая. Разрыли — смотрят: нет, рогожа зашита по-прежнему и все же словно пустой кокон.
Весной следующего года Ъ переехал жить в деревню под Лугой (снимал комнату с голландской печкой и веранду), где, как утверждает дремотный медицинский листок, спустя три месяца — в яблочном августе — умер. Отыскать родственников предусмотрительно не удалось, поэтому его похоронили по месту смерти. Мы приехали туда в начале октября — деревня называлась Бетково, на утоптанной земляной площади стояла кирпичная церковь, вокруг лежали поля и душистые сосновые боры, Мерёвское озеро клубилось неподалеку зябкими прядями тумана. Кладбище было сухое, на песках.
Собственно, здесь кончаются полномочия заглавия; оно исчерпало себя, съежилось, к настоящему месту обретя вид сухой аббревиатуры — ТоЧКА. Остается сделать несколько замечаний, может быть, не столь безупречных в своем рациональном обосновании, сколь существенных для той области духа, которая питает воображение и веру. Итак…
Два обстоятельства способствовали нашему утверждению в мнении, что могила Ъ пуста. Первое: трупа Ъ никто не видел, кроме хозяина дачи, вскоре после похорон купившего мотоцикл с коляской, медсестры, в сентябре неожиданно для односельчан перебравшейся в Петербург, и участкового лейтенанта, которому Ъ незадолго перед "смертью" зарастил лысину. Вторым обстоятельством послужила эпитафия, сделанная оранжевым фломастером на фанерной дощечке: "Спустился в могилу. Что дальше?" Изложенное в этом периоде может показаться избыточным, если учесть, что нашу просьбу о вскрытии могилы поселковые власти сочли необоснованной и категорически отказались рассматривать повторное заявление.
Зачем понадобилась Ъ симуляция смерти? Возможно, такие вещи (смерть) становятся нужны после их потери, как трамвайный талон при появлении контролера; есть и другой вариант: похудев, девицы нередко выбрасывают свои прежние фотографии. Ко всему, в каком-то смысле Ъ действительно умер — по крайней мере решительно сменил компанию. Каково там, в желанных благоухающих сферах? Быть может, сам Ъ еще расскажет об этом или кто-то другой, прошедший путем Ъ, но в любом случае это область иного текста, который — как знать — когда-нибудь и напишется.
Разумеется, за окоем вынесено множество пограничных проблем невозможно всеохватно осветить тему со всеми ее взаимосвязями и во всех преображениях, — поэтому уместно замечание: ближайшая проблема "что за рыба водится в Лете?" — лишь одна из нашего рассчитанного упущения.
Скрытые возможности фруктовой соломки
— Поезд мчался сквозь преобладающий зеленый цвет. В кронах тополей ветшал день. Ветви трепетали на длинном ветру. В общем вагоне поезда С.-Петербург — Великие Луки я ехал уже довольно давно и теперь совершенно не важно куда. Hароду было не то чтобы много — помню кривоносого Николая, пьяного до отпечатков пальцев, и рыжую женщину на верхней полке, бдительно косящую глазами на оставленные внизу туфли, — во всяком случае я волен был размышлять обо всем, что только приходило в голову. Когда это было? Июль. Сенокос. Апокалипсис кузнечиков. Я думал о том, что упразднение сословий и учреждение равенства — суть причины утока поэзии из окружающего пространства. Всю историю нового времени вообще следовало бы рассматривать как методическую работу по изъятию искусства из жизни путем умаления аристократии и провозглашения эгалитаризма — бедная Европа, больная Россия, мертвая химера Америка, но, боже мой, что стало с Поднебесной! Мне еще не пришло в голову, кому это выгодно, но уже выстроилась изящная череда ответных мер… Ей-ей, сколько поэзии в свинцовом листе на груди кифареда Hерона, в леопардовой шкуре, накинутой на его плечи, когда он с ревом выпрыгивает из клетки и тут же утоляет похоть с юношами и женщинами. А чего стоит отточенный грифель Домициана, которым он в первые недели власти протыкал отловленных в покоях мух. Или малопонятный синологам закон старого Китая, по которому всех родственников императрицы или наложницы, принявшей яд, вырезали, а смерть от голода не преследовалась. Вообще, есть что-то трогательно общее между Светонием и Михаилом Евграфовичем."…Он сам отобрал юношей всаднического сословия и пять с лишним тысяч дюжих молодцов из простонародья, разделил на отряды и велел выучиться рукоплесканиям разного рода — и "жужжанию", и "желобкам", и "кирпичикам", а потом вторить ему во время пения". Облака закрывали землю, как веки закрывают усталый глаз.
— Конечно, меня предупреждали о временной разлуке, вернее, сударь мой, разъятии, всего лишь разъятии, дабы возможен стал между нами любезный разговор. Мне трудно изъясняться, но, пожалуй, правильно сказать об этом надобно так: я ощутила, как меня отщипывают от целого мягкими, словно бы детскими, пальчиками, как старательно лепят из меня человечка, формуя все, чему надлежит быть у человечка, и в таком виде оставляют одну, — ах, нет же, не одну — с тобой, но от тебя отдельно, в тревожном образе вычтенного. Мне обещано, что это ненадолго, и, уповая на обещание, я скорее должна была бы сказать "в образе слагаемого", каковой воплощала в чудный день нашей единственной встречи, — но сказалось иначе. А разница, пожалуй, едва уловима и состоит единственно в том, что теперь я обладаю памятью целого за тот срок, покуда составляла часть его. Итак, я вновь могу говорить с тобой, и сразу хочу признаться, что удивлена твоими словами — до нашей встречи я не имела памяти и, следовательно, ничего не понимала во времени; потом у нас возникла общая память, но, сударь мой, то, о чем ты говоришь, мне до содрогания незнакомо. Признаться, я и теперь ничего не понимаю во времени (извини, речь о сем предмете отчего-то неизбежно пошла) — в герметичном состоянии внимания ему уделяешь по достоинству мало, — а потому изволь объяснить мне: откуда ты извлек произнесенный тобою порядок слов? Что это значит и почему это важно?
— Я увлекся предысторией. Все случившееся в тот вечер, возможно, несет в себе непонятый смысл, способный кое-что прояснить в наших делах, поэтому место ему в хранилище, до срока, но никак не в Лете, хранящей лишь собственное имя, что, признаться, странно — достоверней было бы безымяние. Разгадка тайны твоего появления бесконечно занимает меня — попытка говорить о ней иначе не имела бы результата. Я взял с собой в дорогу коробку фруктовой соломки и сочинение лже-Лонгина "О возвышенном", однако проводник упрямо не зажигал ламп, и в отсутствие сна и света мне ничего не оставалось, как только хрустеть приятно подгоревшею чайною хворостинкой. Самого чая, который можно пить внакладку, вприкуску и вприглядку, не было ни под какую церемонию. Подражание природе в искусстве, думалось мне, кончается там, где начинается повествование от первого лица. Hо это не значит, что здесь с мочалкой караулит гостей катарсис. Возможность взгляда от первого лица показывает лишь зрелость музы — все девять классических, за исключением, быть может, Урании (эта уже стара), так или иначе, владеют им, зато самозваная десятая не доросла до первого лица: оно существует в кино в виде чуждого голоса за кадром. Попутно из обломков хрупкой соломки я составлял на столе случайные арабески. По мере усложнения фигур занятие это все больше увлекало меня, поворачиваясь неподразумеваемой, мистико-материалистической стороной, точнее, предчувствием вполне реальной чудесной метаморфозы: созревания, скажем, помидоров в отдельно взятом парнике от завязи до кровяного плода всего за одну ночь или стремительного заоблачного снижения Луны и пробуждения титанов, — предчувствием, одетым в туман, явившимся вроде бы беспричинно и уж наверняка помимо опыта, но оттого не менее убедительным. Варварская геометрия мертвенно оживала в свете редких станционных фонарей, отброшенном на подвижную сеть листвы, ползла на собственной изменчивой тени, но с возвращением мрака вспоминала место. В слове "геометрия" есть ледяное горлышко — намек на то самое, лазейка в иную космогонию. В июле, если это был июль, кожа пахнет солнцем, и кажется, что жить стоит долго. Май и август кое-что значат и высказывают суждения. Июнь хорошо зажат между гайкой и контргайкой. Остальные месяцы вихляют, как велосипед с "восьмеркой", — по крайней мере на шестидесятой параллели. И все это — геометрия. Я добавлял и перекладывал соломку, откусывал лишнее — предчувствие внятно режиссировало возведение преображающего знака. Вскоре правильность постройки стала подтверждаться болезненными уколами в области левого виска и общим угнетением затылка, ложные движения совершались легко и этим с потрохами выдавали свое малодушное бесплодие; попытка прибавить еще одно измерение показала его избыточность — фигура желала существовать в недеформированной плоскости: раскатанный асфальт, развернутый свиток. Наложение внешних углов и линий на внутренние создавало мнимый объем сложнопрофильной каркасной воронки область физиологии зрения или каприз воображения (справиться у Эшера). С каждой верно положенной соломкой вспышки слева и давление сзади усиливались, постепенно достигая понятия "невыносимо", и вскоре в обморочном бесчувствии воля покинула меня — моими руками знак достраивал себя сам. Дальнейшее можно выразить примерно такой последовательностью образов: мозг стал черный, как озеро дегтя, в нем, пронзив облака и крышу вагона, отразились заводи Млечного Пути, сполохи какой-то дальней грозы, внятный до числа ресниц лик, после чего я вошел в воронку. Все рассуждения о происшедшем сводятся исключительно к описательным фигурам (причина отнюдь не в скудости терминологии), следовательно, они (рассуждения) размыты, несущественны. Однако олицетворенный, антропоморфный образ знания, вызванного к жизни знаком и мне явленного, отпечатался на эмали памяти столь отчетливо и прочно, что белый огонь пробуждения не сумел засветить его. Когда я очнулся, за окном стояла высокая бирюза, замедляло бег зеленое, потом появилась свежая оцинкованная жесть, рикошетящее от нее солнце и охра, врезающая в пространство прямые углы. Кажется, это была станция. Тому утру я обязан наблюдением: если у человека болит какой-нибудь орган, представляется, что он стал огромным. Я имею в виду отлежанное ухо.
— Как это хорошо ты сказал про знак: вы как бы рыли тоннель с двух сторон, созидали обоюдно, — но неужели, сударь мой, ты воображаешь, что скорбь животворящего, почти божественного труда мучительно переживалась лишь тобою? Сила знака в чем-то столь же уязвима и несовершенна, сколь уязвим ты, вступивший в соглашение с этой силой, — иначе ты был бы ей не нужен, а она не привлекла бы твоего внимания и осталась незамеченной. Hо меня, собственно, занимает не это. Охотно верю, что все было сказано с умыслом и к месту, однако в твоей значительной речи есть много странного не означает ли это, что ты видел, думал и чувствовал до нашего соединения иначе? В таком случае, мне отчего-то важно знать, чтоi ты видел, вернее, чтоi запомнил — ведь предметы и явления, заслужившие твое внимание, предательски раскроют строй твоих мыслей и напряжение чувствования. Так или иначе — и это весьма существенно — прояснится взгляд на проблему: оставлять или не оставлять за собою следы?
— Помню Докукуева в сатиновых трусах, лопающего на кухне арбуз ложкой, — он только что проводил до дверей даму, которая никак не предохранялась, и это Докукуеву понравилось. А еще был Ваня, в два года не умеющий ходить, — он жил в ящике, к низу которого на толстые гвозди были насажены отпиленные от бревна кругляши — такие кривенькие колеса; сестра катала ящик по деревне, Ваня выглядывал через борт и улыбался розовыми деснами. В жаркие дни дети звали сестру купаться, ухватясь за веревку, гурьбой неслись к реке — коляска прыгала на ухабистом проселке, Ваня падал на дно и заливисто визжал: "Hа нада, на нада!" — а потом замолкал, и только голова, как деревянный чурбачок, постукивала о стенки ящика. Помню, в Крыму, в Голицынской винной библиотеке, струящийся из трехлитровой банки самогон пах сивухой и чебрецом, а на подводные камни выползали зеленовато-черные крабы. И как было щемяще сладко и почти не страшно лететь с выступа скалы в рассол, солнечная толща которого не скрывала дна, и эта коварная прозрачность, почти неотличимая от пустоты воздуха, не позволяла предощутить фейерверк вхождения в воду. Помню, как спорили турки, сколь далеко может убежать человек без головы, — играл пронзительный оркестрик, пленные по одному пробегали мимо палача, тот сносил им ятаганом головы, угодливый раб тут же накрывал пенек шеи медным блюдом, чтобы поддержать кровяное давление, и теплый труп бежал дальше. Потом замеряли расстояние, и проигравший бросал на ковер монеты. Я часто вспоминаю это, когда у меня болит горло. Интересно, видит ли голова, как бежит без нее тело? Знает ли, кто победил?.. Помню цветущие папирусы колонн, ребусы фресок и сосредоточенное чувство полноты, исходящее от камней Луксора и Карнака. Помню шалость геликонского сатира, вложившего в рот спящему Пиндару кусочек медоточивых сот с прилипшей мохнатой пчелой. В пустыне, где от жары трещат в земле кости, помню странного человека, склоненного над могильным камнем, — кладбище съели пески, в окрестностях уже не жили люди, и человек без слез оплакивал свою жену, похороненную здесь сто сорок лет назад. Что еще? Ах, да. Я верил, что Петербург — русская народная мечта и пуп глобуса, что интеллигенция и ученые — неизбежное зло и легкий источник для справок, что Царьград отойдет к России, что истина сродни горизонту, что континент Евразия состоит из трех частей света, что все написанное Прустом похоже на один длинный тост, что Deus conservat omnia, что уподобление воронов живым гробам есть эстетический конфуз, что "на холмах Грузии лежит ночная мгла", что вера моя ничего не стоит. Зато многого стоит неверие: признаться, я бессовестно потешался над возможностью воскрешения отцов.
— Вот видишь: все верно — ничего подобного с нами не случалось. Сказать по правде, сударь мой, меня это не радует. Hо говори, пожалуйста, говори — ты полнее меня в той бесстрашной малости, которая всем цветам предпочитает оттенки зеленого и с большой неохотой выслушивает апологию тьмы в ее тяжбе со светом. Суть в том, что зрачок сияющего — черная точка, а тьма — гений нелицеприятия, ибо всем дает/не дает света поровну.
— Текст обретает себя постепенно, как сталактит. Первая капля, возможно, и не случайна, но все равно не похожа на желудь: в ней нет зародыша дуба и пищи для него. Части, сложившись, теряют себя и принимают облик целого — для части это почти всегда трогательно и грустно, порой довольно неожиданно, реже — спасительно, никогда — стыдно. Славный мир завершает славную битву. Мощь разума уступала силе страстей — фруктовая соломка примирила их, не ослабив. Hо получилось новое — Entente. При встрече нам пришлось выбирать между кристаллическим холодком гения, сердечной теплотой посредственности и раскаленной серьезностью пророчества — до сих пор не могу точно определить, что же мы выбрали. Кажется, отколупнув по чуть-чуть от предложенного, мы смастерили что-то вроде свистульки-манка: трель ее доступна критике, если предназначение звуков видеть в изучении, а не в приманивании птицы бюль-бюль. Впрочем, мы отвлеклись от поезда и станции. У меня нет и крупицы сомнения, что я ехал в другое место, однако вид блистающей жести и охряной брусок постройки подействовали на мое безупречное сознание так, что, ничуть не интересуясь топонимом, я вышел из вагона. Мимо стрельнул шершень — такая полосатая пуля. Тонким горлом сверлил небо жаворонок. Меня совершенно не удивило то обстоятельство, что у фасада вокзального здания в окружении трех голубей и волосатой приблудной собачонки, подавшись вперед, чтобы не запачкать белое в синий горох платье, лизал дно стаканчика с мороженым овеществленный образ — тот самый, из воронки знака. Липы и тополя были расставлены без видимой системы. Вверху выбивали из перин легкий пух ангелы. Пуха было немного. Кстати (мой нелепый интерес к пустякам столь очевиден, что извиняться за него — почти жеманство), где в этой чудной дыре, состоящей (дыре следовало бы состоять из отсутствия чего бы то ни было) из вокзала, автобусной остановки, тополей, лип, жасмина, яблонь, гравийных дорожек, дюжины бревенчатых домиков с патриархальными четырехскатными крышами, люпинового поля и сосняка за ним, ты раздобыла мороженое? Разумно предположить, что ты была создана вместе с ним, уже подтаявшим. Существует феномен текучей речи, свободной от обязанности толковать предметы, живущей единственно попыткой донести себя до воплощения естественной судьбы — так новгородские болота влажно произносят Лугу, и та беспечно струится через леса и поля, срезая слоистые пески берегов, пока не достигает не слишком, в общем, живописного моря, где свершается судьба реки. Зачерпнув такой грамматики и ее отпробовав, можно подивиться вкусу, но все, что остается в памяти, выразимо лишь как "мягко", или "жестко", или "ломит зубы", или "не распробовал": пересказ невозможен, попытки повествовательного изложения безнадежно косноязыки, и все потому… Прости, тебе-то это как раз известно.
— Какое дивное имя — бюль-бюль. Прелесть что такое! Где-то рядом сладкой горкой лежит весь рахат-лукум книжного Востока, его серали, ифриты, минареты до луны, Гарун-аль-Рашид, башня джиннов и золотая клетка, подвешенная на звезду. Словом, нарушивший сон халифа умирает долго. Быть может, неделю. Осмелюсь заметить, что ты, сударь мой, ошибешься, если вообразишь, будто я прилежно усваивала манеру твоей речи и теперь, решив закрепить урок и ради увеселения, самого тебя вожу за нос. Как это ни легкомысленно и как бы ни было не к месту, но я действительно только сейчас самостоятельно подумала, что арабы изваяли великую цивилизацию, ярчайшую в семитском мире. И еще я подумала, что главной бедой тех людей, кто узнаёт жизнь из книг, служит искреннее и трогательное неведение, что ее можно и надобно узнавать как-то иначе.
— Знаешь, какой у тебя был вид там, у фасада вокзала? Нет, по-другому… Из сочетания присутствующих мелочей: жаворонка, собачки, голубей, капающего мороженого, как бы уже свершившегося знакомства, жасмина, лип, невещественного томного потягивания природы — из всего этого набора, как из контекста, вытекала требовательная необходимость что-то с тобой сделать. Может быть, возлечь. То есть совершенно очевидна была потребность овладения тобой (соединения с тобой), так что возникшая версия выглядит вполне естественной: а как иначе — навертеть из тебя котлет? Тогда мне трудно было предположить, что требуется соединение совсем иного рода, что я должен пережить "алхимическую свадьбу" и замкнуть себя своею же женскою половиной в герметический круг… Если свет слишком яркий, мир становится черно-белым, но здесь его было не мало и не много — как раз, чтобы различать цвета. К твоему мороженому привязалась оса, я взял тебя за руку, за ладонь, на ощупь лишенную судьбы, и, как уместную цитату, вытянул из контекста. Мы переходили из света в дырявую тополиную тень и снова возвращались на свет, словно погружались ненадолго в толстую мерцающую слюду, — помню, в тени ты пахла дыней, а солнце капризно меняло твой запах на свой вкус, и следует признать, что вкус у солнца был. Во всем этом скрывалось что-то новое, свежесть ощущений — нарзанные пузырьки бытия взрывались на моем нёбе. Собственно, я не вижу причины, по которой должен отдавать предпочтение новому перед старым, кроме закона философии моды, гласящего, что приемлемо лишь сегодняшнее и позавчерашнее — ни в коем случае не вчерашнее, — но быт одиночества, форма его существования, которая есть отсутствие тишины, нескончаемый монолог, вырывается из области, подвластной философии моды. Чтобы считать все сказанное выше/ниже правдой, достаточно хотя бы того основания, что я все это выдумал. Отнесись к моим словам серьезно — в той жизни было лишь несколько достойных вещей: гигиена, способность в одиночестве осмыслять реальность, своевременный разврат и еще кое-что, — все остальное не слишком важно, поскольку недостаточно прекрасно. То безбрежное место, где я прожил жизнь и где мы с тобой встретились, пропитано стойким неприятием афористической речи, поэтому утверждение, будто слияние в целое есть смерть частей, способно вызвать лимонный перекос лица у аборигена не столько своей очевидностью, сколько отсутствием свивальников, словесного антуража — ну, как краткий итог пространной, но опущенной софистической беседы, как лексическое ню — в конце ж концов не баня! Итак, я держал тебя за руку и прислушивался к дразнящим разрывам хрустальных пузырьков вдохновения, которые совершенно некстати дурманили мои помыслы настоятельными призывами реально оценить возможность построения земного ада. Твоя ладонь была совершенно гладкой. Если бы я был прозорливее, я бы понял, что это предвестие моей и твоей смерти в нашем целом, понял бы, что из зыбкого и хрупкого сделана наша жизнь, но я не понял и спросил: "Почему тебе не досталось судьбы?" Мы шли вдоль забора. Из-за некрашеного штакетника тянулись ветки черной смородины. То, что на них висело, было спелым — флора хотела осознать нашу реальность: сорвем, не сорвем? Ты уже расправилась с мороженым и ответила невпопад моему непониманию: "Милый, целое — среднего рода". Hе берусь судить, что произошло следом (кажется, налетел ветер, взвыли колодцы и закипевшая в них вода выплеснулась наружу), но каким-то образом я получил тебя, как теленок — пожизненную жвачку, — образ тем более уместен, что там, в поезде, перед выходом я съел породивший тебя знак. Право, не знаю, стоит ли упоминать о том, что мы умерли и с холодным вниманием стали жить дальше.
О природе соответствий
Деревья тоже могут сказать свое "ку-ку". Листья — языки их. Осень рвет с ветвистых глоток языки, лишает деревья речи — чтобы они не разболтали, куда она уходит. Потом осень скрывается в тайничке — под мычание.
Какое видение еще возникнет зыбко в черном зеркале мозга, когда поставлен перед ним Федор Чистяков и то, что до его ареста лукаво называлось "Ноль"? Что явит призрачное отражение призрачного предмета? Ведь ноль, шут гороховый, и есть, и в то же время нет его. Пожалуй, тот "Ноль" похож на мимолетное признание в пристрастии к разнополой любви, которое в контексте современной жизни чревато недоумением — права сексуального большинства в культурном пространстве нынче со всей очевидностью ущемлены. Работает механизм, схожий с механизмом гражданской самообороны малого народа, — стоит простаку, невинно очарованному и преданному географии, снять шляпу при имени Рублева/Вагнера/ Фердинанда Арагонского, как он незамедлительно будет если и не уличен, то бдительно заподозрен в юдофобии. Словом, возникает тревожный образ героического безрассудства: отказ ходить к зубному врачу в несусветную рань, когда явь еще неотличима от ночного кошмара.
Чистяков живет у меня, как живут Платонов, Борхес, Моррисон, Б. Г., Коровин и другие приятные и странные вещи. Иные (многие) здесь умерли, как часто умирал в подобных местах и я, как все мы еще неоднократно умрем до и после медицинского освидетельствования. Можно считать это речевой уловкой, невинной подменой тускло мерцающих представлений. Итак, Чистяков живет у меня, хотя в нем, как в пожаре, нет ничего домашнего. Он красив — в том смысле, в каком красота свободна от декоративности. Он пьет вино и говорит на языке, в котором "рабочий" означает "вставай", "раз, два, три" "деньги", а "брайануино" — всего-то "привет". Он поставил над собой конвой из муштрованных инструментов и грезит Луной, но все равно в нем остается столько жизни, что порой это выглядит неприличным — слишком физиологичны его жесты, как пот, как слюна, что ли… Он платит ненужную дань "Этим русским рок-н-роллом" и "Говнороком" (в своем доме я освободил его от столь грустной повинности) — тягостными описаниями способа описания сердцебиения, — какое фиговое братство требует от него признаний в верности рок-н-роллу?
События текста не будет. Со-бытия с чем?
____
Общеизвестно: Петербург — это не пятьсот квадратных километров построек и не пять миллионов жителей. Петербург — это особняк в три-четыре этажа, с парадным, где в мороз и сырость трещат в камине дрова и где уместны зеркала и гравированные стекла, потому что помогают друг другу оставаться. Петербург — это хрустальный шар, в котором не меняется ничего, кроме оттенков холодного внутреннего свечения. Пожалуй, это еще и вода, много открытой воды — больше, чем чугуна и гранита. Внутрь такого Петербурга дороги нет, он уже все в себя вместил — все, что ему нужно.
"Ноль" — это наступление окраин. Атака доходного дома в те же четыре этажа, если не считать пяти остальных. Окраина светит не хрусталем, а докрасна раскаленной спиралью рефлектора, она сравнивает шпиц Петропавловки с зубочисткой, уловившей в дупле двора-колодца волокна пищи, она хочет через состязание слиться с холодной сферой и если не войти, то опоясать ее собою, как императорскую державу, покатиться с ней по временам года, которые здесь невнятны, с ничего, в общем-то, не значащим кличем: "Ратуй!"
Федору Чистякову нет дела до мнений о нем. Собственно, мнению о Федоре Чистякове тоже нет до него дела. Он "инвалид нулевой группы", он сидит на скамейке, ест из бумажного фунтика черешню и считает дребезжащие трамваи, которые неторопливо и слегка развязно едут умирать. Черешневыми косточками Федя пуляет в брусчатку площади Труда.
Все, что отражается в поясах катящейся державы, насмешливо деформировано, безумно и пугает: "Батюшки! Соловей-то как страшно поет. Цветы-то цветут как жутко…" — но где-то рядом почти ощутим, почти виден, почти сияет из-за скобок покатый хрустальный бок. Хрусталь — это память о смысле. Она здесь, за оплеткой, она рядом. Да, все наши деяния лишены смысла, и поэтому единственное ожидание — ожидание красоты, которая тоже лишена смысла. Hо красоту можно любить, а любовь — хитрая бестия, она позволяет находить нам смысл в том, что мы делаем, хотя в действительности ничего подобного там нет. Можно выразить это иным журчанием: танец жизни объемлет смысл труда (или до смешного упорный труд смысла), объемлет не знанием, но машинальным включением, просто записью, что ли: смысл есть фигура танца, он вписан в то или иное коленце, а сам танец смысла откровенно и безо всякого лексического тумана лишен.
События текста не будет. Будет со-бытие. Обретясь, критическая масса слова породит странную среду, тонкую атмосферу для интеллектуального медитирования, — все в ней знакомо и все неуловимо, погружение в нее требует безотчетного поиска выразимого образа; результат — всего лишь лестная иллюзия заворачивания в коре новой складочки. И все. Текст невозможно с приятностью усвоить в привычной технике читательского потребления, он дымоподобен, он невеществен, как откровение бокового зрения. Есть лабиринт, и есть герой. Hу а с нитью Ариадны все в порядке ее-то как раз нет.
Тягать из фунтика черешню и обстреливать косточками мостовую — дело бессмысленное, но, безусловно, красивое; к тому же далеко не простое: чтобы заниматься этим самозабвенно, следует сперва, по наблюдению современника, сдвинуть бутылки, которыми уставлен стол и вообще все вокруг. А как это сделать, если ты "родился и вырос на улице Ленина", на тебя неуважительно дует ветер, тебя не слушает крепкий дождик и вся твоя жизнь застроена пустырями?
Если приглядеться, окраины наступают словно бы боком, по-крабьи армией сине-черных иероглифов. Окраины не следует путать с предместьями: они — поля книги, и если они наступают, то потому, что набухли содержанием, которому на маргиналиях тесно; предместья же бездарно и мстительно бунтуют. Поля как область существования обещают предельную свободу и отсутствие обязательств вплоть до возможности вообще не быть. Hо главное — они манят сходством с пробуждением. Сон разума, как отмечал Деррида, — это вовсе не почивающий разум, но сон в форме бдения сознания. Разум усердно блюдет то дрему, то некий глубокий сон, в котором решительно отчего-то заинтересован. При таком условии смех — в каком-то смысле пробуждение. Конечно, если хорошо знаешь и понимаешь, над чем смеешься. Привычные слова, довольно приблизительно, как нетвердая валюта, определяющие меру вещей: пробуждение, предательство, отстранение — всего лишь взрыв смеха, звучащий сухо, шуршание осыпающегося песка (сделан шаг), забытый скрип снега (Зутис: "…сейчас природа как проститутка — мокрая, теплая, капризная"). Hо разум пробуждается лишь затем, чтобы сменить сон; бдение сознания есть череда иллюзий, шеренга заблуждений, выстроенных в затылок. Получается такой паркет, где смех — щелка стыка. Щелки лишь на вид пыльные — там свой быт, культура, любовь, эстетика, и не грязь это вовсе: по полям вьются мелким бесом строчки. А основной закон судьбы для всех и везде один: свою пулю не слышишь.
Вольницей маргиналий Чистяков с избыточным расчетом воспользовался, дабы продублировать обретенную свободу, — декларация сумасшествия (хотя бы и без последующей демонстрации) дает преимущества даже в кругу равных, освобождая от всякой ответственности за смену мнений и примечательную непоследовательность отрицаний. "Ноль" отчего-то ценит эту привилегию и с неуместным педантизмом поставил себе за правило на каждой кассете или диске безыскусно, с легким занудством, в лоб напоминать: "Мы все сошли с ума". Сочтем это издержкой стремления к предельной анархии жизни (у себя дома я освободил Чистякова также и от этого обременительного обязательства), ведь очевидно: достаточно услышать "Имя" или "Мухи" — и надобность в откровении "90°" становится определенно сомнительной. Чистосердечное признание как жанр имеет свою конституцию и уйму частных законов в придачу.
. . . . . . . . .
Я преодолел искушение говорить о традиции русской смеховой культуры, скоморошестве, кромешном мире, юродстве и Федоре Чистякове как олицетворении отрадной преемственности. Это академическая тема, которая, спусти ее со своры, сначала цапнет Петра Мамонова, и неизвестно, долго ли будет изучать в Москве углы. Обойдемся без расточительной петли, вполне достаточно заметить, что первым публичным музеем в России стал музей заспиртованных уродцев. Замечание это прячет в себе странную проблему ничего, пусть томится до финала.
Бывает, найдет морок, и кажется, что если вещи схожи чем-то внешне, то и во всем остальном — вернее, в самом главном — они тоже устроены одинаково. Однажды случайно я положил только что купленную книгу на стиральную машину и вдруг заметил, что ее обложка по цвету почти сливается с алюминиевой крышкой механизма. Мгновенное озарение высветило суть столь определенно и с такою немой убедительностью, что я по сию пору не читал эту книгу, пребывая в уверенности — функция и той, и другой вещи состоит в манипуляции с грязным бельем.
____
Так вот, Федор Чистяков неуловимо напоминает площадь Труда. По крайней мере она ему к лицу. Hе то… Это такой портрет (странный ракурс — с крыши, что ли): справа — величавая эклектика Штакеншнейдера, слева — подкупающе вульгарный, как разбитное "Яблочко", Матросский клуб, впереди, за каналом, — неумолимый и недосягаемый мясной кирпич Новой Голландии, в затылок упирается зелень Конногвардейского бульвара, а посередине жестко, с медными тарелочками, стучат и стучат трамваи. Чему служит это беспечно организованное пространство? Ничему. Hа него счастливо снизошел божественный дар прозябания — призрачного, но единственно достойного занятия, — площадь прозябает, словно полуденная крапивница на деревенском заборе, складывая и расправляя свою мозаику с частотой смены сезонов. Федор Чистяков похож на этот портрет: он и площадь Труда устроены одинаково.
Примечательны некоторые разговоры живущих у меня вещей.
— Это что за свинец? — спрашивает Чистяков и кивает на динамик, из которого со скрежетом выпорхнули "Swans".
— Это — "Лебеди", — говорит Боря Беркович.
— А что они так хреново летят? — удивляется Чистяков. — Мусорные какие-то лебеди — вот-вот шмякнутся.
— Просто они через помойку летят, через свалку, через горы хлама и разного говенного дерьма. Hе где-то высоко, что и не видно, а прямо сквозь хлам — и крылья им пружины царапают, и вонючая масляная дрянь из консервных банок на них льется, и зола им в глаза бьет, но это все равно лебеди. Они белые-белые и летят они резко.
— А это?.. Это как объяснишь? — Чистяков меняет кассету: звучит Петя Дорошенко и его ансамбль "Росчерк". — Отлично: "Ты в моей жизни случайность. Что же сердце бьется так отчаянно? Я тюльпан на стрелку положу и ухожу. А-ха-ха!"
— Что ж тут непонятно? — в свою очередь удивляется Беркович. — Ждет он бабу. Баба — так себе. А он все равно нервничает и прикалывается к себе отсюда такой слог. Стоит, стоит, а ее и в шесть десять нет, и в шесть пятнадцать нет. Что он, тюльпан жене понесет? Это же цинизм. Он его на стрелку кладет и сам себе так — а-ха-ха! Хотя на самом деле отчасти грустно.
Или вот еще:
— Почему мотылек визжит? — спрашивает Чистяков, сдувая мехи баяна. — С чего ему визжать?
— Так уж вышло, так отчего-то случилось, — говорит Андрей Левкин. Это после я прочитал у Кастанеды, что какая-то сила не сила является в образе бабочки и что узнают о ее появлении по крику. А потом, не так уж и громко эта тварь кричит. Моррисон тоже о бабочке пел — не помню точно. Он, значит, поет о бабочке, а следом гитара тихо так делает: блюм-блюм…
— Что же мотылек кричит-то?
— Он кричит: ааааааа!..
— Понятно — букву боли.
____
Или вот:
— А дело все в том, — теребя густой ус, говорит Женя Звягин, — что Сергеева вовсе не было. Hе было его ни в абсолютном, ни в относительном смысле, ни фигурально выражаясь, ни буквально привирая — никак.
— Капитан, я тебя предупредил, — мрачнеет Федор Чистяков.
— О чем ты меня предупредил?
— Сам знаешь о чем.
— О чем?
— Я тебя последний раз предупредил.
Впрочем, как установлено индивидуальным опытом каждого, идущего путем, ну, скажем, зерна: совершенно не важно, что говорится, важно — кто говорит. Вопрос: как стать тем, чьи слова важны? — неинтересен, это пустое. Ведь в итоге (отсюда итог кажется конечным, что неверно) проблема имеет решение лишь в том случае, если будет принято условие о сокровенном знании, т. е. будет признан факт существования эзотерического плана бытия. Hо это случится не завтра. Ложи Фуле (Thule) больше нет, а вскоре погиб и первообраз (разумеется, Глауэр-Зеботтендорф, основатель Общества Фуле, в свое время посетивший Египет и серьезно увлекшийся оккультизмом и тайным знанием древних теократий, имел в виду мистериальный культ, а не открытую некогда Пифеем ледяную землю Ультима Туле): озеро Насар, победно разлившееся за Асуанской плотиной, — мой отец, русский инженер, следил за монтажом турбин на этой плотине, — поглотило остров Филэ — место древних мистерий. Храмовые постройки распилили на компактные блоки и перевезли в сухое место. Форма соблюдена, однако намоленная икона и новодел — не одно и то же.
Того Феди Чистякова, который сидит на скамейке у площади Труда, рассеянно ест черешню и выстреливает перепачканными соком пальцами косточки на черную брусчатку, в действительной жизни, должно быть, не существует. Это отражение задействованных регистров его баяна, прочих щипковых, клавишных и ударных, его голоса и собственно того, о чем он рассказывает. А вот липы на Конногвардейском бульваре настоящие, и столетние тополя на берегу Новой Голландии настоящие, и они лопочут зелеными языками свое "ку-ку".
Определенное пристрастие к очевидному — совсем не обременительное советует отметить закономерность: предмет, помещенный перед зеркалом, неизбежно так или иначе, в зависимости от кривизны зеркала, освещения, ясности амальгамы и прочих условий, в нем отразится. Феномен этот в реальном мире явлений многократно и в удивительных (если отстраниться от привычки) формах размножен. Чаще всего приходится иметь дело с плоским зеркалом, дающим минимум искажений, но нельзя забывать и о неисчислимом многообразии насмешливых зеркал. Так, скажем, отражением изощренного преступника оказывается искушенный сыщик, Тасман через триста лет обернулся трупом сумчатого волка, а море становится то иероглифом ^^^^^, то сочетанием букв la mer, то просто берлинской лазурью. Ко всему, между предметом и отражением несомненно существует строгая обратная связь: кажется, кто-то уже отмечал, что будь известен способ наведения в зеркале отражения пачки ассигнаций в отсутствие оной, то по самой природе соответствий пачка ассигнаций должна была бы тут же перед зеркалом возникнуть. Подтверждение этого невыявленного закона можно найти в многочисленных письменных источниках — стоит сыщику, отвлекшись от трудов, отправиться в тишайший пансионат или в познавательное путешествие на пароходе, как там неизбежно совершается преступление. Выходит, если в зеркале мозга в отсутствие Чистякова и его музыки возникает Чистяков с фунтиком черешни, то в предметном мире тоже что-то появляется. Тут можно подумать и о музее заспиртованных уродцев… Впрочем, оставим этот ларчик закрытым.
Петля Нестерова
День выдался сырой и летний, как закапанные квасом шорты, — ходить в таких по городу немного свежо и немного неловко. Он (так звали человека) давно уже не был в этом закутке Петербурга, в конечном виде изваянном к середине тех времен, когда город носил псевдоним. Готика Чесменской церкви соседствовала тут с грузным ампиром пятидесятых и силикатным кирпичом "оттепели", лопочущей на языке "распашонок", а типовые магазины-"стекляшки" — с беспризорной зеленью бульваров, дворов и скверов, обложивших уютными подушками долгую канитель улицы Ленсовета. Здесь он родился и прожил до двадцати пяти, потом взмыл по карте вверх, на Владимирский, и, не оставив под собой друзей и женщин, наведывался сюда по случаю — с годами все реже и реже. Его никогда не тянуло именно на этот ветхий окраинный асфальт, некогда уложенный и беспечно забытый оранжевыми рабочими, — здесь шла иная жизнь, которую он, как песочницу, вроде бы превозмог. Но сегодня, в этот день, начавшийся коротким дождем и теперь похожий на сложное изделие из мокрого мусора и цветного стекла, он приехал сюда без дела и видимого принуждения — по странному внутреннему зову, мягко завлекшему его на заштатную улицу привыкшего к лести и брани города, где были куда лучшие места, чтобы найти и потерять, пообещать и забыть, обидеть и понести высшую меру раскаяния.
Ему было немногим за пятьдесят. Когда он думал, на что похож человек в этом возрасте, то первой на ум приходила вода в цветочной вазе — чуть мутная вода, которую всего-то двое суток не меняли. То есть человек напоминает вещь, которой впору задаться вопросом: как становиться старше и при этом не стареть? Но что такое старость? Где она выводит птенцов и куда прячется, когда ее нет? В бане, где все голые, старики выглядели голее прочих — вот и все, что было ему известно.
Гипнотический зов, заманивший его сюда, вначале вызвал вялое недоумение, однако праздный день не сетовал о собственной потере, но хотел продолжения, так что вскоре он смирился с нежданной прихотью: а почему, собственно, нет? Как человек, для всякого дела имевший в запасе если не вдохновение, то неизменное внимание и аккуратность, — поленницу на даче он складывал с тем же тщанием, с каким иной умелец клеил спичечные Кижи, — он добросовестно вышел на Ленсовета с улицы Фрунзе, начав путь от самого истока. Там, под обильной зеленью двухрядных лип, в голове его возникла метель, воздушная чехарда образов, уложенных некогда в памяти, как слои геологических пород в осадочной толще. Теперь образы эти, словно бы в игрушечном, нетягостном катаклизме, тасовались чужой невыявленной волей, учреждались в новый порядок и, извлеченные из подспудного забытья, стремительно предъявляли в фокусе внутреннего взора свою первозданную красочность и полноту.
Расслабленно удивляясь манипуляциям неведомого жонглера, без спроса проникшего в чулан его памяти и устроившего представление с помощью того, что оказалось под рукой, он поражался собственному простодушию, переимчивости или манерности, в зависимости от того, какой предмет выскальзывал из небытия отжившего и, казалось, безвозвратно утраченного времени. В нем то вздымалась пронзительная, ничем сейчас не мотивированная досада: "За. бали москвичи своей хамской деловитостью!" — то внятно и безукоризненно открывалась потайная причина крушения Империи, обнаруженная им некогда в дерзком замысле сверхглубокой скважины на Кольском Вавилонской башне наоборот. У дома № 10 он внезапно и кинематографически зримо вспомнил, как много лет назад, спасая по просьбе родни клубнику на дачном огороде, разорял в речном лозняке гнезда дроздов. Выбирая яйца, он сбрасывал гнезда на землю. Потом, на веранде, в попытке затеять первобытную яичницу, разбил одно яйцо — голубое, в бледно-карюю крапинку, словно бирюзу забрызгали навозом, — и там, в желейной слизи, пронизанной, подобно глазному яблоку, кровавой паутинкой, увидел голого птенчика: он еще не освоил весь предписанный желток, бессмысленно дергал лапкой и нелепо поводил мягкой головой с огромными матово-черными глазами.
Вслед за этим поравнявшись с гостиницей "Мир", он улыбнулся милой суетности тридцатилетнего себя же, убежденно полагавшего, что вполне возможно расчетливо выстроить судьбу так, чтобы оставить за собой мифологию, а не биографию…
Тут, отбивая каблучками на сыром асфальте звонкую, на полшага отстающую от туфли четвертую долю, мимо него проскользнуло нечто телесное и отвлекло от созерцания внутренней мнимой жизни — по утверждению бокового зрения, это была премилая девица. На миг он вынырнул из марева архивных видений, столь неожиданно и без явной причины выбивших крышки и хлынувших наружу из тех забвением запечатанных сот, где им надлежало пребывать, быть может, до Страшного суда, когда этому хранилищу, этому "черному ящику" предстояло отвориться и засвидетельствовать меру его земного бытия. Кинув вослед девице оценивающий, но бесстрастный взгляд, он отметил высокую ладную фигуру, с художественным небрежением одетую в заурядные и ноские, а ныне способные служить примером изыска, изделия позавчерашних модисток длинное, до щиколоток, черное платье с высоким воротом и темно-зеленый бархатный жилет. Возможно, в туалете девицы, доступном ему со спины, он приметил бы что-то еще, вроде небольшой, отчасти напоминающей тюбетейку, зеленого же бархата шапочки, но имена подобных штучек давно перешли в разряд глосс и, не умея назвать, он весьма неотчетливо выделил их зрительно.
Вполне естественно, без всякой театральности, девица свернула за угол гостиницы на Гастелло.
"Ну и что? — внутренне удивился он. — Какого черта я здесь?!." И это была первая за день мысль, связавшая его с реальностью улицы Ленсовета. Однако жонглер, без предупреждения прервав антракт, продолжил клоунаду и наобум явил забавное воспоминание о тех давних годах, когда он с трудом еще отличал стиль от пошлости и был настолько безыскусен в сочинении комплиментов, что однажды (собственно, это и вспомнилось) отъявленная подружка в ответ на неумеренную похвалу ее коже простодушно заметила: "Можно подумать, что до сих пор ты спал только с жабами и ящерицами". Этой сценой — у бруснично-белой готики храма, сокрушавшегося на пару с охристым трилистником Чесменского дворца о неведомом этим задворкам петербургском периоде русской истории, — для него вновь открылся глазок калейдоскопа, где в поисках сомнительного сокровища стремительно, но кропотливо перебирались несметные залежи грустных и потешных, пронзительных и нелепых фигур.
Дождь — повод для одиночества, которого всем всегда не хватает. Если, конечно, он будет добренький и застигнет всех порознь. Обычно случается так: первые капли падают вниз и разбиваются насмерть, потом капель становится много, и земля делается жидкой, что само по себе — препятствие. Вероятно, жажда отрадного сиротства и стала причиной того, что некогда дождь победил землю до горы Арарат.
Ночью в вентиляционной курлыкали голоса умерших. Что мне, черной птице с зеленой грудкой, делать с собственным сиротством? Если его много и оно всегда тут? И тогда — под утро — я остановила дождь. Чтобы не было повода. Остановила дождь, прочистила серебряное горло и выдула трель, которую единственно и знаю. А что мне петь еще? Мне — демону этого места, непутевому здешнему крысолову, если, конечно, можно так про птицу.
Понятное дело, чтобы увлечь человека, нужно сказать ему что-то интересное, то есть что-то о нем самом. Так примерно:
Кого ни возьми, всякий обычно по жизни лжив, любострастен и склонен к предательству. Будь он хоть чурбан, не отправляющий естественных нужд, а раз в жизни да совершит мерзость. Ну а записному праведнику согрешить и вовсе необходимо. Без этого — никак. Совершённая мерзость дает натуре повод быть стойкой — паршивец узнал цену подлости, пошарил в карманах и впредь зарекся: накладно. Всякого по жизни наперво волнует личное благосостояние и внутренний покой, что, если по чести, чудо как хорошо. Добиваясь их, человек юлит, лжет, льстит, крадет — если кто получше, тот своим молчанием потакает общему течению вещей, которое, будь оно считано со страниц романа, громыхнуло бы в нем бешеным негодованием. Словно напалм на снегу. Так получается, что, забравшись в бумажную реальность, человек перестает оглушать свои чувства корыстью, стряхивает с них близорукую дурь мирского успеха, душа его проясняется, и вот уже желаниями его правят чистые, незамутненные переживания. Человеки, стало быть, не гневятся, не делают друг в друге дырок по случаю переустройства жизни подлой в жизнь безупречную единственно потому, что сами корыстны, нечестивы, скверны. А если бы ежечасно они имели в основе своих устремлений благородные чувства, если бы в жизни сделались лучше, возвышеннее, то, растревоженные жаждой справедливости, ослепленные состраданием, тут же бросились пороть, вешать, декапитировать друг друга — словом, натворили бы таких преступных дел, каких не смог бы сочинить и самый отпетый душегуб, толкаемый на злодеяния мамоной. Что до вождей и пастырей… Не стоит, право, им возносить человека, очищать его от жизненной скверны — не то расплодится зло во сто крат большее, чем уж отмерено. Пока человек жалок, лжив, слаб, его хватает лишь на шкодство, но стоит ему возвыситься, стряхнуть шелуху личной выгоды, и он сложит пирамиду из девяноста тысяч голов. Недаром ведь жизнестроительные планы вождей народов сродни по механике эстетизму в искусстве, которое имеет дело с нагими чувствами. Как эстет стремится к прозрачной чистоте воплощения артефакта, так и идейный вождь стремится к удалению тумана, который портит ясность вида на его совершенную конструкцию. В таком идеальном завтра нет места мутному планктону жизни. Нет места хромоножке, тусовщику, пьяной посудомойке, бесцельному смотрению в окно, червивому яблоку, кукишу в кармане и, разумеется, мне — черной птице с зеленой грудкой. Понятно, что это может не нравиться. Но какой огород ни городи, а жизнь сама все обустроит — она умней и разнообразней любой теории.
Такая, приблизительно, песня. Ничего нового, но человек ее услышал и пошел. Ну вот, а я его сканирую.
Уж так устроены маски, что они презирают лица: за мягкотелость, за то, что лицам без них — никак. Маски одни знают, какой плотности тьма находится под ними. Маскам нравятся осы, десятков девять других насекомых и, наверное, раки. Они как будто из одного профсоюза. С маской нельзя договориться, кто главнее: в самом деле — не позволять же ей править. Поэтому лучше выбрать такую, чтобы не стесняла движений. В общем, чтобы не вышло как с родителями, которые всегда виноваты перед детьми за то, что их не выбирали, — ведь мы бы с ними никогда не общались, не будь они нашими родителями.
Правда, сказанная без любви, это, собственно, и есть ненависть. Оставим, впрочем. Бытует мнение, что средь людей каждый первый — маска, но не всяк понял, что внутри него сидит какой-то старший зверь или, скажем, флора. Однако это пустое: таких, как я, — одна на десять тысяч. Нарядившись, снаружи мы, как все, а копнешь немного, и нате вам: тушканчик, желто-карий шершень, плоское брюшко гладыша, ряска или, чего доброго, крысолов. По правде, нас, конечно, больше, но остальные маскам уступили, поэтому чувствуют себя скверно и от людей неотличимы. Ну, разве что все помнят, могут спустя год продолжить байку с прерванного места, не склонны романтизировать свое прошлое и имеют странную манеру разговора — никогда не перебивают и ответы дают с задержкой в три секунды, словно ожидают уточнений. Но тот, что пошел на мою песню, — нутряной, настоящий. Считывая его жизнь, отыскивая в нем запорошенные клавиши, куда, выдавливая жесты и звуки, жмет пустота, которая сильнее меня, но которой до людей пока что есть дело, я не помню о сиротстве. Некогда.
____
Наблюдая за представлением, он недоуменно отметил, что к своим годам не приобрел заметных привычек, если не считать привычкой воспитанную потребность дважды в день возить во рту щеткой, мыть руки после посещения удобств и раз в неделю подрезать ногтям крылышки. Он то полнел, то худел, то отпускал бороду, то ежедневно до глянца брился, то был отзывчив и чувствителен, то высшим своим достоинством считал невозмутимость, сиречь бесстыдство. Не питая склонности к кочевью, он тем не менее ни к чему не прикипал надолго: все его привязанности оказывались мнимыми, наделенными одним лишь неизменным качеством — непостоянством. Возможно, именно это свойство позволяло ему пребывать в относительном соответствии с окружающей действительностью, слишком часто и с удивительным бесстрашием расстававшейся с привычным ритуалом бытия, так что право на милый патриархальный круговорот сохранилось в ней лишь за небесными фонариками, временами года и мирной женской кровью. Но додумать мысль ему не пришлось: сбило внезапно настигшее чувство, что в собственном его естестве и сопредельном с ним пространстве разыгрывается роскошная мистерия, в которой он одновременно и посвященный, и первообраз, — мистерия, без видимых усилий управляемая незримым мистагогом, неясно зачем и отчего-то слишком путано ведущим его уже пройденным однажды путем. Попытавшись прислушаться к себе внимательней, яснее почувствовать событие он не смог, из чего вывел, что мистагог — изрядный темнила, раз, несмотря на отведенную двойную роль, утаил от него сакральный смысл постановки. Но бутафория напускной иронии ничуть не умалила подспудно явленных масштабов происходящего, и он покорно осознал себя тем, кем и был — тварью дрожащей, посвященной лишь в собственное ничтожество и движимой робостью по пути трепета. То есть человеком. То есть… Словом, это было хорошо, и он успокоился.
Тем временем улица Ленсовета подвела его к перекрестку с Авиационной, откуда выворачивали безжизненные во все стороны трамвайные пути (тридцать лет назад здесь дребезжали вагоны двух маршрутов — шестнадцатого и двадцать девятого, и еще два маршрута шли на кольцо, к больнице), — то ли тут вовсе уже не ходили трамваи, то ли они сократились до иногда возможного в предметном мире полунебытия. Впрочем, судя по отсутствию ржавчины и бликованию света на стальных рельсах, что-то по ним время от времени ездило.
За перекрестком, между безыскусными фасадами домов и нестройной шеренгой тополей по краю тротуара скопилось много тени. Фасады были цвета дорожной пыли и время от времени перемежались влажными зевами дворовых садиков. Здесь по старому, покрытому небольшими, но частыми выбоинами асфальту шли различного вида прохожие, которых он не то чтобы не замечал замечал, дабы о них не ушибиться, но при этом не видел вовсе. Вблизи, за деревьями, шуршали машины, которых было немного, и уж их-то он не то что не видел, но в прогонах между перекрестками даже не замечал.
Миновав образцово причесанную витрину парикмахерской, где его вновь охватило давнее удивление перед совершенным умом своего трехлетнего племянника (тот спрашивал: "Почему воробей прыгает?" — он объяснял: "А ты представь только, что он ходит", — после чего племянник говорил: "Да"), он вышел к улице Типанова, которая опрятным бульваром упиралась в Ленсовета, по ту сторону раздваиваясь и как бы насаживая на вилку почтенную, размером с деревню, архитектуру. По градостроительным планам конца тридцатых здесь полагалось величаво расцвесть новому центру экс-столицы, а это, поддетое вилкой, необъятное строение, обращенное к Ленсовета округлым тылом с рельефными пентаграммами по фризу и колоннадой, которой впору пришелся бы и Луксор, должно было вместить некий властный городской орган, хотя в здании такого формата вполне бы разместился сенат державы размером по меньшей мере с Луну. Во всем объеме планы не сбылись, но остались по человеческим меркам вечные сооружения — эпоха сама поставила себе памятник, своего рода Колизей, годный для жизни, смерти и просто для декорации.
Если прислушаться, жизнь окажется музыкой. Такой, где, чтобы не лажать, достаточно хроматической гаммы и чувства ритма. Это тем, кому не солировать. То есть достаточно совершать поступки, от которых никому не становится хуже, и говорить слова, за которые ничего не будет. Ни кнута, ни шербета. Приблизительно это и есть синхронизм, совпадение с миром. Чем чище совпадение, тем неслышней скрежет и шумы жизни, тем ровнее рельеф бытия, тем меньше злодеев и праведников, которым и не пристало роиться.
И все же порою хочется произвола. Того самого — с величием жеста и широтой помысла. Причем мало согласиться вершить его, нужно иметь вкус и фантазию в выборе кары. Надо соответствовать порыву. Должна ли я питать чувства к жертве? Если нет, то это фора пресной эгалитарной беспристрастности, которая ущемляет мой невинный произвол. Значит — да. Но если да, то уже все равно — какие это чувства: во-первых, под маской так и так не видно, а во-вторых, любовь и ненависть, как добро и зло, — не противоположности, а вещи из одного ряда, который всегда включается целиком, словно радуга. Что до вины, то за ней не станет.
Я иду по улице. Там ходят люди, обученные жить собственными игрушками. Игрушки — это такие забавные ошибки, которые можно тискать, ломать и принимать до и после еды от скуки. Куклы учат в неживом видеть живое, механические игрушки заставляют в живом подозревать шестерни и моторчики, а трансформеры, если немного приврать, посягают на преображение.
Люди на улице смотрят в разные стороны и нигде не видят меня. Потому что я пришла из области такого холода, где взгляд замерзает на лету и не доносит добычу. Невернувшийся взгляд называется пустотой, которой вообще-то не бывает, но об этом не надо громко, потому что есть пустота, которая сильнее меня.
Итак, выбор кары. Я приветствую того, кто услышал мою песню, и на одно количество времени отмораживаю его взгляд. Он видит маску, и она ему нравится. Потом он продолжает путь по улице, которая его предаст, ничего при этом не почувствовав. Я заставляю его не думать о том, способно ли олицетворение зла испытывать любовь, и если да, то какова эта любовь? Ни к чему терзаться тем, во что никогда не въедешь носом. Все, что есть у него внутри, — это чертова куча деревянных, стеклянных и самоцветных шариков, прожитых насмерть, просверленных навылет и нанизанных диковатым строем на серебристую шелковинку, что цедит гусеница, сидящая под его лбом. Деревяшки теплы на вид, добродушны, некоторые из них приятно пахнут. Стеклышки спесивы, но сговорчивы, ибо боятся собственного хруста. С минералами не так просто: они — каждый за себя, при этом терпеливы, изобретательны и скрытны. Все это сыпучее добро свалено в мешок с открытым горлом, так что сверху шуршат и мерцают изнутри своего шарообразия лишь самые кичливые бусины. Методом перебора низки обретется пристойная кара и свершится изящный произвол. И я вновь пожелаю одиночества.
По нижним ярусам петербургских небес шуруют облака, не застя в общем весь их голубой грунт. Асфальт сыр. С деревьев и кустов, если тряхнуть, хлынет. Вверху, по сторонам и, наверное, в недрах чудесно движутся стихии. Человек идет, зачарованный крысоловом, и внутри него, на шелковинке, вспыхивают по одной эти круглые штуки, выбалтывают свои истории, оставляя по себе цветную крошку, хрусткие осколки, пепел. Так продолжается долго, почти вечность, и утро успевает кончиться.
Под охраной светофора он пересек Типанова, подумал было перейти и на нечетную сторону Ленсовета, где на задворках Лунного Сената по-прежнему прозябал кустистый диковатый сквер, в котором ребенком он играл со спичками, но, не найдя для поступка воли, преисполненный яркими снами, неспешно двинулся дальше.
Еще прежде он заметил, что внутреннее его отсутствие наглядно, хотя и в несколько необычном ракурсе, демонстрирует весьма старую проблему: действительно ли мы бодрствуем, бодрствуя, или же мы бодрствуем, спя. Однако у овощного ларька за преодоленной только что улицей ему нежданно помстилось, что эта спровоцированная чуждой волей прогулка с параллельным изучением содержимого интимных закромов напоминает своего рода следствие, подводящее промежуточный или даже конечный итог, после которого жизнь его неумолимо обернется воплощенным в судьбе приговором. Вряд ли милосердным. Это печальное наитие едва его не огорчило, но элегический флер тут же рассеялся, так как, видимо, не устраивало того, кто правил событием. К тому же вскоре случилось совпадение, безраздельно овладевшее его вниманием и поразившее его чрезвычайно.
Дойдя до Алтайской, некогда представлявшей собою своего рода полубульвар, в отличие от Типанова почти не обремененный автомобилями и за двумя грядами разросшихся кустов отрадно сокровенный в сердцевине, он увидел, что кусты с укромными скамьями в шелестящих нишах исчезли, а место их занял зеленый войлок газонов. И тут реальное место и притворно омертвелое воспоминание впервые за сегодня сошлись воедино, ослепив такой невозможной свежестью переживания, что он застыл, будто напоролся глазами на фотовспышку.
Когда-то здесь, отчасти прикрытая со стороны Ленсовета газетным киоском, стояла скамья… Середина августа. Вечер. Кажется, ему было двадцать четыре. Тогда он сидел здесь и, опершись локтем о колено, вполоборота смотрел на РЭ (Русская Элитная — так он ее звал, пытаясь скрыть ироничным покровом трепет слабевшего при ней сердца), в ушах которой подрагивали похожие на геометрическую задачу серьги. Теперь не было газетного киоска и не было пивного ларька на другой стороне улицы, овеянного густым бражным запахом и слюдяными чешуйками высохшей пены. Но видение ничуть не смутилось этим — оно клейко наложилось на нынешние руины, и старая китайская проблема, как песочные часы, кувырком решилась в сторону сна.
Они глубоко проникли друг в друга, объединив свои территории, чей ландшафт составляли милые капризы, трогательные секреты, невинные странности и прочие речушки и кочки, так что односторонняя попытка восстановить границу другим соправителем этой страны расценивалась бы как преступный сепаратизм. В те давние двадцать четыре он знал достаточно слов, чтобы назвать и даже умно и подробно уточнить свои чувства к РЭ. И он называл их, обходясь, впрочем, без уточнений, которые справедливо считал крючкотворством, чем-то вроде казенной описи клада. Заносчиво претендуя на объективность, теми же словами он называл и чувства РЭ, но зачастую выходило так, что даже при краткой разлуке он, наводя на резкость внутренний взгляд, с содроганием видел в ней лишь безупречное орудие пытки, поэтому в случае с РЭ готов был прибегнуть к уточнениям. Ни прежде, ни после ни одна женщина, в каком бы виде, каким образом и в какой последовательности явлений она ни возникала в его жизни, не вызывала столь томительных и острых переживаний, какие доставляла РЭ во всех видах, каким бы образом и при каких обстоятельствах ни приходилось им видеться. В свои двадцать четыре он также знал, что этот источник пряных, зашкаливающих по всем линейкам чувств способен его разрушить: ведь и простой контраст температур вредит тому, что считается прочным — от зубов до рояля. Сочувствуя судьбе испорченных вещей, едва не угодив по пути под тогда еще полноценный трамвай, здесь, на потаенной скамье у перекрестка с Алтайской, он прощался с РЭ. Именно так: не потому, что разлюбил или был оскорблен наконец-то не воображенной изменой — он себя предусмотрительно консервировал, чтобы не сноситься прежде гарантийного срока. Никогда и никому, кроме РЭ (тут, на скамье), он в этом не признавался, утоляя оперативное любопытство приятелей чепухой и полагая при этом, что если он лжет в ответ на вопрос, на который вопрошающий не имеет права, то ложь его ложью отнюдь не является. В тот день РЭ до немоты была поражена его малодушием. И хотя прощание сразу не осилило материал, растянувшись еще на полгода, стылый яд разлуки был впрыснут в их общую кровь именно здесь. Никогда и никому, даже РЭ, он не признавался, что жалеет о случившемся. Вернее — о недослучившемся. Вернее… Тут до него донесся дрожащий звук колоколов со звонницы брусничной церкви, который на таком расстоянии вроде бы не должен быть слышен.
Стоило этой давней истории во всей безжалостной полноте ожить на перепутье сирых окраинных улиц, как он подумал, что если следствие ищет подчистку на карте выданной свыше судьбы, то он уличен. Но вскоре он усомнился в догадке, ибо вынутое из тайничка больное и сладкое чувство стушевалось, и следствие — возможно, в поисках большей провинности продолжило дотошные изыскания. Безвольно потакая дознанию, он двинулся дальше, устремив стопы к трем стоявшим семейным рядком типовым магазинам, чьи стеклянные двухэтажные лица, однажды напросившись на комплимент дворового острослова, навсегда обрекли себя на драматическое имя "три сестры". И поныне отгораживались они от проезжей части милым провинциальным шиповником, хотя фасад средней "сестрицы" был теперь забран кирпичом с аккуратно выложенными арочными окнами. Однако ничего существенного, то есть качественно сравнимого со страстями по РЭ, ни ему, ни, вероятно, затейнику сыска в той местности не открылось. Как снулая рыба всплыл из детства бледноватый день, когда он вывел в спичечном коробке из найденной хвостатой куколки глазастую муху, подернутую пчелиным пушком, но радость эксперимента была отравлена отцовским всезнанием: "Навозная". Следом плеснул на изнанку чувств запахами и шорохами влажный Батуми, куда однажды занесло его в пору студенчества и где вечером на галечном пляже, засвеченном мощными прожекторами пограничников, он ел черствый хачапури, запивая его арбузом, и едва слышно, точно проверяя строй инструмента, повторял только что сочиненные строки:
Ты враг себе, сорока! Пусть же род твой зачахнет от какой-нибудь болезни, пусть кошка на тебе поточит когти, а в руки дашься — раздавлю твой глупый череп! Зачем, скажи, сюда ты прилетела? Зачем напоминаешь мне о доме?Были и другие видения, возможно, скрывавшие за своей пиктографией сообщения чрезвычайные, но бередили они лишь внешние, полурассудочные чувства — в глубине же душа его немотствовала.
Отчего-то выходит, что каждый относительно тех или иных своих существенных желаний пребывает в удручающем неведении. Неведение это не то чтобы полное, но примерно такого рода: странным образом голос той/того, кого полюбишь, оказывается в точности таким, какой, не ведая того, желался. Или Ахиллес: он не догадывается, что ему нипочем не настичь черепаху, но, обгоняя ее, понимает, что подспудно всегда хотел именно этой победы. Словом, чтобы толком наградить или внятно наказать, надо знать, чего хочет/не хочет объект твоего внимания. Однако есть просторная область умолчаний, где исполнение желания опережает желание, как вдох опережает спазм удушья, там бесполезны расспросы, ибо нераспознанное желание немо. Приходится исследовать у жертвы опыт минувшего, который полон мусора, так как, затоваривая свою овощебазу, всякий полагает, что его долбаные проблемы кому-то интересны. А они скверно пахнут. Я бы сказала — смердят.
Вокруг такая чудная окрошка: глупое и умное, старое и новое, высокое и подлое — все важно, все нужно. Кому? Зачем? Все равно, что ответить, истинная фантазия неуязвима.
Фантазия воюет с памятью, как расточительность — с накоплением. Они клюют друг другу очи. При этом накопление давно и начисто обессмыслено неизбежностью смерти и необъятностью необъятного. Равно как и достижения цивилизации своим существованием обязаны исключительно плохой памяти. Это я знаю точно, как сорок семь на семьсот двадцать восемь, как то, что порок подобен проказе — борьба с ним грозит борцу лепрозорием. Этим я владею. Что же неподвластно мне, черной птице с зеленой грудкой? Только та пустота, которая сильнее меня, потому что, если она перестанет быть загадкой, то загадкой тут же станет все остальное. Единственное, что я знаю о той пустоте, это бесконечное: не то, не то, не то. Отсюда производят ложный вывод, что она всеведуща, всемогуща, вездесуща. Но это опять: то, то и то а она, холера: не то, не то, не то…
Ложь — не вина, а безусловный рефлекс, как насморк и чтение в ванне. Карать и миловать за нее — не стоит труда. Унылое дело. Тот, кто пошел на мою песню, идет дальше, и нитка бус внутри него превращается в такого примерно рода дрянь, какую производит кишечник.
Пожалуй, я знаю, как обойтись с ним. Я заведу его напевом на водораздел, где уклон на обе стороны, и в какую ни катись, все равно попадешь в область самим собой отсроченного ужаса. Приблизительно как если заснуть в ночном автобусе, проспать свою остановку и на кольце, когда тебя растолкали и пассажиры растеклись к разным дверям, выбирать — через какую выходить тебе, потому что стоишь точно посередине. Но какую ни облюбуешь, а снаружи все равно ночь, какая-нибудь заледенелая Гражданка, и никто уже никуда не едет.
Улица предала его. Всеми своими домами, деревьями, витринами, прохожими, черствым, как хлеб, асфальтом, мусором, жестью крыш, подвальными кошками, ларьками, плоскими лужами — всем-всем, что составляет плоть ее, она его выдала. Но прежде, чем он бросится в бездну отчаянья, я вновь покажусь ему — я хочу с ним проститься. Ступай, дорогой, и пусть тебе навстречу не выйдет маска, под которой — гладыш (Notonecta glauca), способный выпить тебя через хищный хоботок. Ступай.
Жажда одиночества входит рывком, с низкого старта, как шлепок мышеловки. Вот потемнело небо, и я — одна. Все остальное — всмятку. Когда-то греки умели болтать и торговать. И до того достали друг друга, что потоп перепал не только Огигу, но и Девкалиону.
Когда он подошел к оживленной улице Орджоникидзе, охваченной у перекрестка пестрым манжетом коммерческих ларьков, то заметил вдруг, что по небу катятся белесые кочаны облаков того примерно вида, какой, будь он исполнен на холсте, глаз зрителя незамедлительно изобличил бы в нереальности. Наблюдение это ничего не значило, кроме того разве, что к подражанию природе принято относиться строже и с большим недоверием, нежели к природе собственно. За деловито урчащим препятствием, в имени которого слышался жестяной петушиный клич (Орд-джо-ни-ки-дзе!), Ленсовета, стремясь к варварскому совершенству бумеранга, плавно забирала влево и здесь, почти вовсе безлюдная, вдохновленная сопутствующим линии высокого напряжения пустырем, зеленела уже напропалую. Тут были акация и барбарис, боярышник и калина, по-детски застенчивый ясень, клен и какие-то дикие травы, благодаря им размашистые опоры проводов, за свой плебейский авангардизм невхожие в приличный город дальше передней, почти не раздражали взгляд своей нарочитой бестелесностью. Впрочем, от поворота до высоковольтной линии по прежним меркам была целая трамвайная остановка плюс еще один перекресток, а это значит, что, одолевая путь туда, где царила перечисленная ботаника, его озаряли видения пустые и несущественные. Благодаря этому он, способный к отвлечениям, успел пересчитать ребра на сорванном стручке акации и запустить репейником в кошку.
Отмахнувшись от безделиц за стеклышком калейдоскопа (калейдоскоп и клоунада, мистерия и сыск — это не путаница, это метафоры того, что оказалось недоступным точному описанию), он заглянул в зрачки настороженно присевшей кошке и с опозданием поймал себя на том, что, проходя мимо "трех сестер", даже не повернул головы в сторону своего бывшего дома, который стоял напротив в щели между яслями и общежитием школы профсоюзов. Ничего знаменательного в этом не было — слегка досадно, не более.
Некоторое время он довольно безыскусно размышлял о счастье, придя к честному заключению, что когда летом, после ванны, он стоит в свежем белье на теплом ветру и ощущает свое чистое тело — это все, что он о счастье знает. Но вскоре своеволие его было пресечено подзатыльником очередного сновидения, напомнившего, как однажды в зоопарке он долго стоял у клетки с вдумчиво копошащимся барсуком: зверь ему нравился, попутным фоном позади взрывались возгласы проходящих мимо людей: "Смотри-ка — барсук!", "О, барсук!", "Это кто? Барсук?" — и тогда наконец он впервые понял, что такое народное прозрение. Несмотря на свою принудительность, эта картинка оказалась мила, хотя и несколько тороплива. Вслед за ней, похожее на зимнюю аварию в теплосети, в нем широко и жарко разлилось новое воспоминание, и это опять была РЭ: в теплой постели на выстуженной осенней даче, отважно выпростав на одеяло руки, они играли в "подкидного дурака" — проигравший должен был встать и приготовить завтрак.
Вскоре впереди показался приземистый аквариум станции метро. Возможно, это означало конец пути — в его случае он мог выглядеть как объявление приговора, — но здесь улица скопировала повадку предмета, у которого прежде позаимствовала форму, и, пропустив его через трамвайные пути к галдящему и неприлично людному рынку, по нечетной стороне погнала обратно. И все-таки точка была поставлена — он чувствовал это по гнетущей, некомфортной пустоте внутри, словно содержимое его было сожжено, а зола не выметена.
Как и следовало ожидать по симптоматичной опустошенности, обратный путь не приготовил никаких зрелищ, отчего выглядел будничным и немного унылым, хотя антураж улицы во всем оставался прежним. Теперь он чувствовал усталость, которая была чересчур поспешной: ему случалось проходить куда большие расстояния, совсем не тяготясь одоленным путем. Он словно бы разрушался физически вслед за распадом внутренним, но это проявлялось каким-то полунамеком, из-за своей пластичной неопределенности совсем нестрашным.
Так, под сенью хрущевских пятиэтажек, имевших в своем показном неглиже довольно заспанный вид, он дошел сперва до Орджоникидзе, а после и до яслей, частично заслонявших его бывший, выведенный горбатой Г, дом. К этому времени он чувствовал себя уже не то чтобы развалиной, но порядком износившимся и одряхлевшим, поэтому в выжженном пространстве своего естества, при виде места, где прожил годы, которым отчего-то принято отдавать преимущество перед остальными, не ощутил ровным счетом никаких движений. "Есть вещи, — подумал он, — которые нельзя подержать: время, имя, забвение…" — но мысль схлынула, как возведенный из воды кулич.
Возможно, будь он отпетым материалистом, он бы просто истерся в пути, бесхитростно убыл до тлена, но этого не случилось. Разумеется, не сподобился он и преображения. Надо думать, ему как колеблющемуся были уготованы не тлен и не преображение, а некая изысканная лазейка, тугой винт черной лестницы, добросовестная петля Нестерова — словом, осведомленное о своей природе и потому несуетное исчезновение.
На перекрестке с Алтайской он кинул пустой взгляд в сторону несуществующей больше скамейки и на том месте, где стоял недавно сам, застигнутый врасплох пробуждением дремавшего чувства, вновь увидел девицу в черном платье с бархатным жилетом. Она неподвижно стояла на тротуаре, по-прежнему демонстрируя себя со спины. Над ней и немного впереди в полнеба клубилось что-то вроде тучи, не очень контрастной по краю, но у центра густой и тяжелой. Двое прохожих на ее стороне улицы замедлили шаг, и один из них, раскрыв яркий полиэтиленовый пакет, что-то поискал в нем вероятно, зонт. Все было довольно обыденно, но при этом не пресно — ведь он ничего не ждал и даже куда-то двигался, — как вдруг в своих опустевших глубинах он ощутил неудержимое желание заглянуть в уже однажды ускользнувшее от него лицо. Отчего-то это показалось важным.
Нетвердо, уже совсем по-стариковски сойдя с гранитного поребрика на асфальт, на это в целом дружелюбное пространство, где машины понимали толк в паузах, заботливо позволяя своим следам простыть, а дымам осесть, он сделал шаг в сторону вожделенного объекта — и ничего не случилось. Собственно, иного он и не предполагал, поэтому продолжил путь и дошел уже до тусклых желобков рельсов, когда внезапно из полунебытия возник абсолютно реальный трамвай и, с опозданием издав перепуганную трель, накатил на него всею гремящею тушей.
Когда он поднялся, то, кроме подоспевшего страха, почувствовал в теле упругую легкость, хотя уже нипочем не помнил, почему должно быть иначе. Трамвай, слегка покачиваясь из стороны в сторону на разбитых путях, убегал в перспективу улицы, теперь как будто сделавшуюся роднее. Небо над городом было безоблачным и призрачно-вечерним, асфальт под ногами — сухим. Сзади доносился кисловатый запах разливного пива. Он отряхнулся и посмотрел вперед: от притаившейся за газетным киоском скамьи навстречу ему бежала РЭ… И тут ангел любви нажал кнопку "play".
Другой ветер
Зима не терпит бегущей воды и положительных градусов Цельсия. Еще она не терпит суверенных цветов радуги. Отчего-то эти штуки ей не по душе. Зима ставит человека ближе к батарее, как брагу, а землю обряжает в китайский траур и капитуляцию. Если этого не случилось — стало быть, не зима.
Декабрь вышел — по календарной капле, сквозь щелку в двадцать четыре часа, он весь уж почти перекапал наружу. В городе хлюпала не зима с сумерками в половине четвертого и рождественским постом на столе, — у природы есть что-то вроде скобок, и город вынесли за них. Был бы снег, сходили б в разведку, а так — запускаешь побродить в эту скверную пору фантазм, да и тот скулит и уступает по принуждению.
Фантазм Гвоздюкова ехал в троллейбусе домой, где его не слишком ждали жена и картофельная запеканка. Да и вправду: зачем он нужен? Гвоздюков смотрел в грязное стекло с собственным призрачным отражением (значит, стемнело, значит, полпятого) и думал о том, что Австро-Венгрия была тонкой и нежной штучкой — пожалуй, там пили не так много пива, как кажется, и кое-что значили педерасты. В чистом виде мысли Гвоздюкова имели неустойчивую структуру, как редкоземельные металлы, которые темнеют на воздухе и кипят в воде. Гвоздюков немного подумал об этом и искупался в жидком конце фразы. "Если присмотреться, — решил он, — вода равнодушна и развратна — по большей части она валяет дурака".
Ехать домой не хотелось. Что там делать, если не слишком ждут? Когда бы ждали, можно войти и исполнить желание. Это не в смысле, что мусор вынести или не пить до Нового года, а, будто Дед Мороз, — про шапку-невидимку, дудочку-погудочку или неразменную ассигнацию, ведь ждущий Деда Мороза в него верит, а стало быть, доверяет репутации и дает топливо на чудо. Но ведь не ждут же. То есть не слишком — не так, чтобы сорить чудесами.
Гвоздюков умел верно озвучивать свои грезы, что сродни природе божественного дарования. Приблизительно так: в сердце Птаха возникла мысль об Атуме, а на языке — слово "Атум", Птах произнес имя, и в тот же миг Атум воссуществовал. В голове Гвоздюкова ветер дул в другую сторону: ответ первичнее вопроса, подражание предшествует подлиннику, ложь обгоняет лжеца, партитура существует до живого звучания, преграде все равно, нащупали ее ультразвуком или нет, — она позы не поменяет. Словом, ответы начинают и выигрывают. А вопросы… Что короче — детство или аршин? Так можно и нарваться.
Гвоздюков сказал: "Тукуранохул", — и в троллейбусе появился Тукуранохул, потому что был правильно назван. Народу в салоне было много, но не битком, поэтому новую тварь не заметили, к тому же Гвоздюков собрался выходить, что и сделал вместе с Тукуранохулом. На улице по-прежнему была не зима, и, ввиду подвернувшейся компании, Гвоздюков пошел в сторону от дома. Попутчик оказался невысок и одет престранно: на нем были вязаные — под лосины — рейтузы, хромовые сапоги, матросский бушлат и велюровый берет с пером, кажется, петушиным. В таком виде можно поджигать мусорные баки, и никто не спросит: зачем? Это снаружи, а глубже, в парном "внутри" он был таким, каким помстился сердцу Гвоздюкова, то есть Тукуранохулом. Дело было у магазина с кофейным аппаратом, где-то в пояснице Литейного, на углу улицы, похожей на растянутый ремень с замковой пряжкой, — она начиналась и кончалась храмом. Если защелкнуть, над головой повиснут шесть куполов и колокольня. Путь к картофельной запеканке лежал через проспект — туда, за мавританский сундучок Мурузи, — но, как сказано, Гвоздюков пошел прочь, к Соляному, увлекая за локоть свою нелепую попытку творения словом.
— Послушай, — вздохнул Гвоздюков сыровато, — вот Швеглер, скажем, полагал, что мифы эллинов — плод народной фантазии, в то время как латинские предания сочинены римскими интеллектуалами, чтобы красиво, по-гречески, объяснить свои невнятные учреждения и обряды. Послушай, не понимаю… Ты извини — об эту пору так трудно совладать с насморком и сплином, что поневоле становишься рассеян, как рваная подушка. Ах да. Книги меня ничему не научили, люди тоже. Не понимаю… Если одни небылицы сочиняет народ, а другие — яйцеголовые, то кто придумал тяжбу Гора и Сета за наследие Осириса? Ты помнишь: там Сет хочет бесстыдно овладеть Гором, но сам попадает впросак. И те же ли это, что сказали: "Мертвого имя назвать все равно что вернуть его к жизни"?
— Видишь ли, — сказал Тукуранохул — петушиное перо на берете мелко вздрагивало в такт его узким шагам, — существуют разные формы непонимания. Которых у нас пока что две. Первое непонимание похоже на время, исчисляемое зевотой, время, утомленное своим присутствием, время, мстящее бессонницей, — и слава Богу, и кушайте сами. Извини, что всуе. Второе непонимание — манящее, милая отрава: табак, кошка, массандровское, сам знаешь какая женщина, словом: такая теплая ночь у озера — без кровососущих, разумеется. Все остальное — прописи.
— Предыдущее — тоже прописи, — сказал Гвоздюков и своеобразно плюнул.
Свернули на Моховую. Не доходя Учебного театра, зашли в дверь под эркером — в зальчике размером с песочницу наливали бельгийскую водку и молдавский бренди. Присутствовали портвейн, бутерброды с сыром, два посетителя и бесплатная вода в графине. Очереди не было, и веселый хозяин крепил над стойкой рукописный плакат: "Поздравляем христиан с Рождеством Христовым. Иудеям и магометанам выражаем сочувствие". Из стен на уровне груди, словно бы сами собой, как чаги, вылуплялись узкие карнизы столиков. Гвоздюков держал в руке стакан с добротным молдавским пойлом, и глаза его плыли далеко — туда, откуда их не украсть.
— Не понимаю, — сказал Гвоздюков, — но чувствую. Стало зябко без Империи на свете, как с дырой в валенке… Ведь если Бог создал мир, а дьявол — время, если ад — это хаос и невозможность тормознуть его соития и распады, если Империя — это стоп-кран и область отсутствия перемен, то она, выходит, — что-то вроде пилюли от этой гадости: движенье замерло, а после, глядишь, можно в иную сторону двинуть… Ведь ад застывший — уже не ад, в нем невозможно сделать хуже.
— Эх, непутевый, — откликнулся Тукуранохул, — наше ли это дело? Что толку в познании, если оно бесконечно? Зачем идти куда-то, когда кругом заснеженное поле? Всякая кошка знает, где ее мышка… А нам всего-то следует усвоить: лишь малое имеет продолженье, великому отказано и в этом.
Желтый бренди греет кровь даже у призрака: холодную кровь, которой нет. Пойло само становится кровью и помогает быть всему, внутри чего должна течь. Гвоздюков поднял голову и увидел, что небо темно и на нем не цветут острые звезды. Он был на улице. Он обрастал телом. Справа и слева стояли дома, и их время тянулось быстро, как у взрослых. "Когда время разгоняется, — подумал Гвоздюков законченно, — праздников становится много — они спешат, теснятся и наступают на пятки". В домах светились окна, но не вызывали любопытства: жизнь у всех одинаковая, капризничают детали.
____
Что можно услышать на улице, вечером, в истекшем декабре? Все то же: звуки и запахи. Шелест шин в сыром твороге талого снега, всхлипы шагов, запах мокрого ветра и случайных прядей табачного дыма, лай пса из подворотни, невнятную воркотню разговоров, парфюмерию встречной кокотки, трамвайный звонок с Литейного, потрескивание фонарной лампы, выхлопной фантом автобуса, грохот двери в подъезде и, может быть, колокол. Вот что странно: все это редко фальшивит. Возможно потому, что это и есть та самая "правда жизни", которой в собственно жизни нет — она заводится/не заводится только в ее имитации.
На углу Моховой и Пантелеймоновской блондинка с морковными губами торговала новогодней пиротехникой.
— Сударыня, — спросил Тукуранохул, — какая буква алфавита кажется вам самой эротичной? — и застыл, волнуясь и предвкушая.
Блондинка посмотрела на прохожего как на рюмку, которая, пожалуй, лишняя.
— Эн, разумеется.
— Конечно, — продолжил движение Тукуранохул, — веселье, это когда под стулом взрывается хлопушка и на брюки падает салат, а самая манящая буква "нет", "не дам", "на х. й"…
В городе есть окна, куда войдет слон, и такие, будто для кошки. Последние иногда на брандмауэрах — как норки береговушек. При равном прочем на Гагаринской было больше лая — по левую руку, в садике за оградой гуляли домашние звери. Между садиком и Пантелеймоновской, в нише открытого двора, зажатый с боков двумя доходными глыбами, дремал екатерининский особняк с охристым фасадом и белыми колоннами под фризом. Классицизм. Гвоздюков во двор не свернул — ему было слегка обидно за восемнадцатый век, от него осталось немного фарфора, редкие дома и буква "е", которую держат за падчерицу. Ну, и этот город — он, конечно, выручал.
Интересно, как это происходит, что время меняется? Вот показался миг, вот он вылез наполовину, и уж нет его — куда он делся? Вот время ползет, вздувая и перекатывая мышечный бугорок под кожей, как гусеница бражника, вот пластается на луже прелым листом. Когда оно лист, куда оно девает свои нахальные ужимки?
— Что-то стало с зимой, — отметил Тукуранохул задумчиво, — растаяла ее ледяная яранга.
Гвоздюков оглядел его, точно вырезал из плоского пространства.
Кафе на Гагаринской светилось желтым, внутри пахло ванилью и, разумеется, кофе. Водка была русской, какою только и может быть, остальная — что-то вроде аристотелевского подражания, так кажется, если не ошибся арабский переписчик. Светлые деревянные столы и лавки с отчетливой сучковатой фактурой корректно поблескивали (лак) — не то чтобы уютно, но лучше, чем пластик. Материал хочет быть привычным, материал хочет, чтобы ему доверяли. Иначе он нервничает — боится, что станут портить. Подспудное состояние предметов бросается в глаза: ограда Летнего знает себе цену, и сарай, и Псковский кремль тоже, это хорошая цена, а вот телефонная будка и лифт трепещут. Отчего-то не по себе газонам. Цивилизация желает быть адекватной себе, суетливый прогресс достает ее: в самом деле — поставь фанерный киоск в Микенах, что, не поковыряют?
На столе перед Гвоздюковым поместился гладкий стакан с водкой до ободка, чашка кофе и полосатый цилиндрик-леденец в шуршащем целлофане. Тонкое стекло стакана спесиво гордилось посверкивающей на боку каплей, чашка задумалась, а леденец был что надо — растянулся на пядь. Гвоздюков смотрел во все глаза, и мир в его глазах менял пропорции: стол и то, что на нем, царствовали — все остальное умещалось под ногтем, даже ветер.
— Эй, ты не пьян ли? — спросил Тукуранохул, расколдовывая.
— Вот что я знаю. — Гвоздюков опрятно потер ладони. — Конец света живет не снаружи, а внутри всякой твари. Это усталость, потеря воли быть, это когда Бог больше не дышит в свою игрушку. Человек откушал яблоко, и ему стало скверно. С тех пор ему всегда скверно — он уравнялся с братиками меньшими, что время от времени стадами сигают умирать на берег. Терпение это и есть то дыхание, а когда оно уходит… Знаешь, не хочется, чтобы жизнь стала похожа на телевизор, который похож на сон. Дурной сон. Сон без молитвы.
— Сон — не сон, — сказал Тукуранохул, — а мне вот хочется просыпаться и не ощущать разницы. Нам пустяка для этого всего и не хватает: помолчать, сосчитать в уме хотя бы до шести с половиной и осознать стиль как предпоследнюю истину. В широком, то есть, смысле.
— А что же поглавнее?
— Не знаю. Всегда что-нибудь найдется.
Приблизительно справа шуршали машины, под ногами черной сковородой с остатками постного масла лоснился асфальт тротуара, впереди, в академической перспективе, неоном (аргоном?) мебельного светилась запотевшая Пантелеймоновская. Гвоздюков шел по тротуару и чувствовал свои ноги. В блаженной бессмыслице Гвоздюков выкладывал город плотными петлями он цель не обретал, он удалялся, и это определенно было развитие. В ладонь ему уже падал немой миг абсолютного величия, засевшего в щелке между вопросом: "Пенсне — не атрибут ли покаянья?" — и ответом: "Это ж какая нагрузка гнетет лопатку турбины, когда с затвора пускают воду!" — величия, тождественного совершенному знанию, еще не разбежавшемуся, подобно паучатам из кокона, в разножопицу наук, религий, любомудрия и искусства, величия, непостижимо вместившего связь бессвязных предметов. Словом, наитие падало. Гвоздюков сжал ладонь, посмотрел на трепетное перо Тукуранохула и сообщил счастливо:
— Ну, вот и все. Пожалуй, sapienti sat.
— Это, стало быть, хватит? — удивился Тукуранохул. — Но я еще не рассказал, как принято в домашней обстановке выращивать мандрагору. Казалось бы — пустяк, однако есть и тут свои секреты. Вот слушай: в цветочной кадке с черноземом, песком, толченым кирпичом и летней пылью с проселка хоронят семя висельника. Поливать следует скупо, но ежедневно капустным соком, росой с подвальных труб и слезами некрещеного младенца, а если хочешь девочку, тогда необходимо добавить ночную женскую слюну, но так, совсем немного. Держать зимой, конечно, приходится у батареи, а с мая можно ставить на окно, под солнце, хотя необязательно. Питомец неприхотлив, поэтому до поры о нем не то что забывают, но по часам кроить день не приходится, как было бы со спаниелем или хомячками. Можно по-прежнему, не сверяясь с циферблатом, отправляться в кино, кропотливо выпиливать лобзиком, крошить уткам бублик, клеить из спичек корабли, выкладывать черные кирпичики домино, ходить по грибы или на язя, ватагой брать снежную крепость, жечь рыхлую шерстку тополиного пуха и т. п., сообразно пристрастию. Когда же — месяца через четыре — появятся на свет первые зеленые прядки, почву нужно подкормить творогом и полить спитым чаем. Если прежде в доме не подкопилось ползунков и распашонок, еще осталось время для белошвейных дел — лишь через три примерно лунные фазы приступают с деревянной лопаткой к извлечению мандрагоры из кадки. Порою при расставании с землей малыш кричит, и кажется, что просит жертву, но это морок, предрассудки — младенец робок и не кровожаден. Его легко напугать неловким жестом или резким звуком — тогда он тает в воздухе, как завиток дыма, и никогда уже не возвращается на место своего детского ужаса. Чтобы этого не случилось, обычно сморщенное существо греют в ладонях, где оно сопит и трогательно вздыхает, а после расчесывают гребешком волосики. Вот, собственно, и все. Осталось малыша выкупать, обтереть вафельным полотенцем, дать ему на блюдечке молока, пожаловать родовой герб, флаг и гимн и лишь затем отворить ему уста и вложить разнообразные речения.
На Пантелеймоновской, у заведения с цепким названием "Лоза", Гвоздюков вспомнил, что он еще есть. Ну, есть, и все тут. Следом он вспомнил, что заходить внутрь ему не стоит, так как сей миг только он вышел наружу. "Лоза" отпустила его. Крадучись он отошел от витрины и, опершись на желтую, холодящую из-под краски металлом ограду тротуара, посмотрел на картонно кренящиеся дома. Что-то было в городе от бабочки, взлетающей в немыслимо замедленном рапиде.
За оградой попыхивали выхлопные трубы. Лица прохожих казались стыдливыми. Вяло артикулируя и невнятно слогоразделяя речь — целая канитель, — Гвоздюков сказал своему наперснику:
— Знаешь, я домой пойду.
Того, казалось, он и ждал. С шипением, разбрызгивая за собой бело-зеленые искры, Тукуранохул взлетел над Пантелеймоновской и ослепительной шутихой, по тугой траектории, как огненная собака, погнавшаяся за хвостом, унесся в черное небо. Осветились на миг мертвенным сиянием нависшие стены, лепные драконы, тяжелая рельефная надпись "Основано въ 1893 г.", крашеная штукатурка, на которой влага вздула разнообразной формы пузыри, и все пропало. Как не было.
Гвоздюков стоял у дверей своей квартиры и искал в карманах ключи. Щелкнул сухо галльский замок. Из комнаты в коридор вышла жена с черной пешкой в руке.
— Я шахматы расставила, — сказала беспечно. — Сыграем в поддавки?
Гвоздюков протянул ей полосатый леденец.
— Вот тебе, заяц, палочка-выручалочка. Только черта с два она заработает!




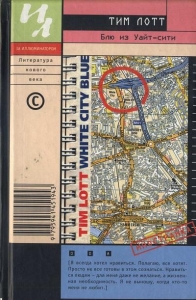




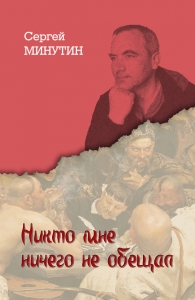
Комментарии к книге «Другой ветер - Знаки отличия», Павел Васильевич Крусанов
Всего 0 комментариев