Владимир Казаков Воскрешение на Патриарших
© В. Казаков, 2019
© ИД «Флюид ФриФлай», 2019
© П. Лосев, оформление, 2019
* * *
Воскрешение на Патриарших
Первая глава
– Вчера был странный день: сначала я проехалась в метро. Машина в сервисе. Ко мне подсел очень интересный мужчина, наклонился к уху и сказал: «Можно я тебя дерну за косичку?» Ты меня слушаешь?
– Конечно, Жень, – ответил Игорь, зажал плечом трубку и попытался достать сигарету. – Слушаю, слушаю.
– Ну вот, он и говорит, а что такого, он, мол, преподаватель консерватории и у него хорошее настроение. А я ему ответила, что если он сейчас это сделает, я его укушу! Потом дочь призналась, что хочет выдать меня замуж за мужчину с ребенком ее возраста, потому что ей скучно. Потом бывший муж предложил опять выйти за него замуж. Представляешь?! Потом друг моей подруги часа три изливал душу по телефону и буквально заставил, чтобы я тоже открыла бутылку вина. И выпивала с ним по телефону. Для лучшего понимания. Потом он прислал очень интересный текст.
– Да просто жуть, – Игорь наконец прикурил и сел в кресло. – Что за текст?
– Да это не важно! Интересный. Может, мне правда выйти замуж еще раз?
– За друга подруги?
– За преподавателя консерватории! Ты чего там, совсем?! За мужа бывшего!
– Понимаешь ли, Женьк, если ты выйдешь замуж за собственного бывшего мужа, то твоей дочке по-прежнему будет скучно, потому что ребенок ее возраста – это она и есть.
– Да?! Ну да. Чет я не доперла. Ай, да ладно. Собственно, чего я звоню: этот друг, ну Митька, хочет, чтобы ты почитал текст.
– Нафига? Не, Жень, ну его. Я так спросил.
– Там роман. Я полистала, интересно.
– Тем более роман. Зачем мне дурь всякую читать?
Женя радостно захихикала:
– Точно, дурь – прям из дурки! Митька – врач, психиатром устроился в дурку. В семнадцатую. Наркологическую на Варшавке, знаешь?
– Слышал. У меня там приятелей провалялось – полк, не меньше. Ну и что твой Митька написал нового из жизни алкашей?
– Да это не он написал. Он там всего два месяца работает. Принимал отделение, то-се. И рукопись эту нашел, из алкоголического творчества. Там здорово – я сама местами зачиталась. Ну, слать тебе? Он очень просил меня тебе подсунуть. Ты же в этом сечешь.
– В алкоголиках или рукописях?
– Да какая разница! Ой, слушай, подруга только что в аське написала: одна девушка просыпается в три часа ночи в студенческом общежитии от дикого смеха. Она идет в комнату напротив, откуда и раздается смех. Заходит и видит, что на полу сидит сокурсница и хохочет, на кровати под одеялом прячется молодой человек. Девушка спрашивает: «– Вера, что случилось? – Представляешь, трахаюсь с этим чудиком и спрашиваю: ты кончаешь? А он мне говорит: – Нет, я еще только на первом курсе». Смешно, правда? На первом курсе… все, посылаю текст и убегаю. Чмоки!
На экране ноутбука, стоявшего на журнальном столике, тренькнув, замигал конвертик. Игорь кинул трубку на кровать и, елозя задом, начал двигать кресло к столику. Можно было встать и подвинуть, но тогда надо тащить и пепельницу, а это сильно ломает. Лень. А можно дотянуться и наоборот, подвинуть столик к креслу…
Игорь наконец закончил сложные телодвижения, выдохнул, почему-то утомившись этим дурацким процессом. Подвел стрелку курсора к конвертику. В прихожей заблеял домофон. Придется все-таки встать!
– Ну…
– Надевай штаны. И мы шагнем шире, чем Монголия. Я внизу!
Навязчиво бодрый голос его приятеля Николаши совершенно не подразумевал иной трактовки действий. Игорь и сам это прекрасно понимал, поэтому, не ответив, поплелся надевать штаны и прочую походно-разгулянную дребедень типа майки, кроссовок.
Если Николаше отказать, он ввалится в квартиру и пьянка вспыхнет здесь, у него. А это совершенно ни к чему. Что пьянка неминуема, как лошадь Пржевальского, это было ну совершенно понятно. Пока Игорь спускался в лифте, у него шмыгнула мысль: при чем здесь лошадь Пржевальского?! Наверное, при том же, при чем у Николаши – Монголия.
Шагнув из подъезда в сладкую вату послеобеденной жары, Игорь сразу же уткнулся в притоптывающего на самом солнцепеке Николашу.
– Сколько можно ждать?! Я тут… а ты… там… – круглое, немного веснушчатое лицо приятеля обидчиво плавилось гуттаперчевой маской. – С утра терплю, а ты…
Он подрагивающей потной рукой раскрыл слипшийся пластиковый пакет. Там как-то погибше и жалостно, в тон Николашиного настроения, терлись боками две бутылки дешевенького вискаря «Белая лошадь». Игоря тоскливо передернуло:
– Эх…
И друзья обреченно зашагали в сторону парка, где липы, здоровенные лиственницы, тень, пруды с дежурными грязноватыми утками и демисезонными рыболовами. И вообще воля.
Николай Рябушинский, или, как его звали все, Николаша, был оболтусом в полном расцвете сил. Лет пять назад у него удачно вышла книжка, что-то из научной фантастики а-ля Стругацкие. После чего он похерил журналистику. «Именно похерил, а не бросил», – всегда нравоучительно, для верности почему-то загибая указательный палец, говорил он. И стал строчить романы. За эти годы он умудрился написать штук десять. И из жизни ацтеков, викингов, инопланетных вампиров, и еще черт знает что.
Самое забавное, что этот бред регулярно печатали. Что позволило Николаше в третий раз жениться и регулярно нажираться до комариного писка.
Друзья были знакомы лет пятнадцать, еще по совместной работе в одном издании, поэтому Игорь не без напряжения, но довольно понимающе относился к Николашиным заскокам.
– Стоп, стоп, стоп, – выдохнул Николаша шагов через пятнадцать. – Товарисч! Я вахту не в силах стоять…
– Сказал кочегар кочегару? – ухмыльнулся Игорь. – Хрен с тобой, жри здесь!
Николаша жалобно прижался к раскаленной кирпичной стене дома, порылся в пакете, дрожа, сорвал пробку с бутылки вискаря и шумно глотнул. Игорь отвернулся:
– Жуть-то какая…
Рябушинский хотел протереть нос рукавом, занюхивая, но промахнулся, поэтому тупо заелозил джинсовкой по подбородку. Обнажилась волосатая Николашина рука. На ней шариковой ручкой было что-то написано. От пота чернила текли, и разобрать было сложно.
– Это что еще? – ухмыльнулся Игорь, повернувшись наконец к другу.
Николаша удивленно проследил за его взглядом. Задрал еще раз рукав. Расплывшаяся сизая загогулина от запястья почти до плеча гласила: «Опыт сын ошибок трудных».
Игорь непроизвольно хрюкнул от смеха. На сморщенной от солнца стене вздрогнули полусонные мухи. Игорь смотрел на растерянное лицо Николаши, изучающего надпись, и уже хохотал в полный голос. Рябушинский обреченно вздохнул, мотнул головой и глотнул из горлышка еще:
– Не вздумай спросить, откуда это на мне. Не зна-ю!
Давай активней, на твой чертов пруд, в тенек, пока я хоть ковыляю. Все. Во-он до той пихты и все.
Приятели бухнулись под дерево. Рябушинский немедленно свернул голову вискарю и жадно забулькал.
– Опять запой, что ли… – Игорь по возможности аккуратно вырвал из пальцев приятеля теплую бутылку и вдохнул пару глотков вони в желудок. Жидкость внутри тела съежилась, а потом резко выпрямилась. Он закашлялся.
– Ну да. Со среды как фантик. А сегодня у нас что? Пятница вроде, – Николаша прислонил голову к дереву. – Но не просто сю-сю-сю! По делу запой! Знаешь, только на днях узнал. И буквально остолбенел. Просто голова кругом идет…
Игорь глотнул чуть еще. На этот раз жидкость не стала вставать в позу, так, пометалась для приличия в организме и затихла.
– Что случилось-то?
– Представь. Сижу спокойно, строчу про отважных звездолетчиков. С утра пол-листа наваял, нет, даже больше, тысяч тридцать знаков, думаю, такими темпами за пару недель закончу все к едреней фене, передохнуть решил, включил радио, налил чаю. Слышишь, ча-ю! Именно! А там и говорят вдруг по радио: «Наступившее глобальное потепление катастрофически уменьшит размеры животных». Всех! Ка-та-стро-фи-чес-ки! Там как-то изменяется объем жидкости в организме… Короче, если так пойдет, то скоро слонов можно будет, как в старых фильмах, ставить в рядок на шкафу. Только не фарфоровых, а живых. Представляешь? А во что же тогда превратятся хомяки или птицы колибри? Ну я, конечно, в магазин. Дома давно не держу, ну, когда работаю, во избежание… Ну и пошло-поехало. И вот я тут…
И без малейшего признака улыбки, с реально скрюченным от горя лицом, полулежащий Николаша обреченно махнул рукой вдоль тела, визуально демонстрируя «и вот я тут…». И выхватил бутылку у обалдевшего Игоря.
Дальше встреча друзей продолжалась по устоявшимся веками принципам неожиданной бессмыслицы. С накатом, налетом, надломом пьянка ширилась, заполняя весь парк легким дыханием сиюминутного раздолбайства, взлетала далеко-далеко в небесную высь, иногда шмякаясь лицом в жухлую и горячую от солнца траву. Потом Рябушинский во время очередного похода в магазин исчез, а Игорь пополз домой.
«Что-то мало стал гулять по городу, – думал он, через силу перебирая ногами. – Почему? Раньше только и делал, что гулял. Может, из-за отторжения новой Москвы, изуродованной до кариеса. А может, из-за отсутствия идеи. Это в юности можно безыдейно шляться, даже не задумываясь, куда и зачем. Возраст дает никому не нужную осмысленность. Причем все равно продолжаешь шататься не пойми с кем и непонятно зачем, с тем же Николашей, только делаешь это уже осознанно. И ужасаешься этому. А вообще, в поисках себя последнее время предпочитаю не ходить, а ездить. В троллейбусах, трамваях и на такси. Странно. Идея прогулки трансформируется в движение. Движешься и смотришь по сторонам. Вот тебе и сверхзадача».
На автомате Игорь поднялся по крыльцу в подъезде, набрал код, вошел, вызвал лифт. С трудом открыв дверь в квартиру, он дополз до кресла и рухнул в него. Через секунду он спал.
Ему снился странный сон, иногда заставлявший его гулко вздрагивать. Отчего сидевший рядом кот тоже вздрагивал и недоуменно поднимал голову.
В этом сне Игорь ехал на заднем сиденье десятки «Лада» и водила лет тридцати, ежесекундно кивая, вдохновенно нес ему о засилье азеров в Одинцово. Игорь кивал в ответ, больше для непонятного приличия, чем реально слушая парня. А может, он прав? Может. А кто сейчас не прав в национальном вопросе?! Все.
«Десятка» засопела и уткнулась в чью-то огромную автомобильную спину. Игорь осмотрелся. Людей вокруг не было совсем. Только машины и улица. Точнее, переулок.
Кованая решетка перед огромным особняком вертелась и извивалась модерновыми лилиями. Несомненно, это была поздняя осень. Да. Игорь это понял во сне очень четко. Ровное и холодное ноябрьское солнце работало лампой дневного света. Оттого переулок выглядел операционной. Мертвецкой. Ехать надоело, и он вышел из машины.
Слева и справа от монументального входа в здание, находящегося чуть в глубине от линии переулка, чернели рубцы обнаженной земли. Два симметричных палисадника даже по расположению грязных пятен полурастаявшего снега казались близнецами. И походили на две театральные сцены с задниками и кулисами в виде причудливо изогнутых окон и стен особняка.
Из грязноватого одеяла полузасохшей травы торчали серебристые, с чуть розовым оттенком, метелки мискантуса. Китайский камыш, как его обычно пренебрежительно называют. Эти злаки часто украшают клумбы в городах, давая даже поздней, уже почти безлиственной осени радость рыжего цвета. Рядом прямо на земле распластались лопухи бадана. Его мясистые зеленовато-бурые листья с трудом выкарабкивались из-под редких островков снега, создавая иллюзию альпийского пейзажа.
«Странно, – подумал во сне Игорь, – я никогда не знал слова „мискантус“, тем более „бадан“, а вот вижу эту капусту и точно знаю, что это все именно оно и есть».
Другие неведомые ему растения на этой клумбе уже превратились в сор и сено, и распознать, какие краски, какая жизнь бушевала тут летом, было уже сложно. На стене гирляндами уныло болтались лианы девичьего винограда. Выглядели жалко. Как остатки праздника, как забытые и истрепанные конфетти на новогодней елке, которую забыли убрать к концу января. Сходство с отслужившими свое елочными украшениями добавляли разбросанные по стене грозди винограда. Не доклеванные разжиревшими на людских помойках воробьями и галками.
Вообще, дикий, девичий виноград – это типично старомосковское, очень щемящее душу растение. В Москве он был всегда, его любили, им гордились. Он был как мандарины на Новый год в советское время. Экзотический, маняще-нездешний, но все равно привычный и родной. Эти лианы, эти струящиеся по стенам светло-коричневые змейки, отороченные яркой листвой, придавали любой загаженной развалюхе очертания рыцарского замка. И напоминали о детстве.
Стоп. Игорь внимательно посмотрел на особняк и палисадник. Господи, да он же прекрасно помнит этот дом, этот виноград на стене. Точно. Вот эти гнутые окна в стиле венского модерна, вот подъезд, стилизованный под барскую усадьбу. Квадратные каминные трубы на крыше.
«Сколько же лет назад это было? – изумился Игорь. – Никак не меньше сорока. В школу я уже ходил. Вот здесь за углом, направо, поднимается на косогор Петровка. Это моя дорога в школу». А если свернуть налево, а потом направо, то войдешь в переулок, в котором он прожил детство.
Еще больше поразило Игоря то, что он понимает, что он спит, что это сон. И поэтому беспокоиться не о чем. Странное, загадочное чувство. И он, понимая, что спит, начал вспоминать свою реальную жизнь. Или так казалось ему, что реальную, а на самом деле…
Он четко увидел тот вечер, много-много лет назад, отец принес с работы ежика. Настоящего, живого. В то время отец после истфака служил двухгодичником, командиром роты в Подмосковье, где-то неподалеку от Внуково. Солдаты поймали бедную животину, а дальше еж был реквизирован и доставлен Игорю. Это было счастье. Чудо. Как всякий приличный ребенок, после просмотра мультика про Малыша и Карлсона – он тогда только-только вышел – Игорь мечтал о собаке. Но собака в коммуналке с десятью комнатами и двадцатью двумя соседями как-то не приветствовалась. А тут еж! Даже лучше. Потому как ежа ни у кого во дворе не было. Даже друг Пашка расстроился – голубятня его отца, предмет Пашкиной гордости и зависти всех мальчишек на пять домов вокруг, как-то поблекла по сравнению с Игоревым ежом. Голубятни тогда были если не в каждом дворе, то две-три штуки на улицу точно. Обычное дело – запускать голубей в центре Москвы.
Ежу для жительства был определен ящик из-под посылок. Кстати, почему-то пропали из обихода эти фанерные ящики. Раньше они были в каждой семье. Новому жильцу было торжественно налито в блюдечко молоко. И началась совместная с ежом жизнь.
Игорь во сне подумал, что художники, изображавшие ежей в советских мультиках мудрыми, работящими и дружелюбными созданиями, умышленно гадили в неокрепшие души наивных детей вроде него. Никакого отношения мультяшный мудрый ежик к реальности не имеет! Его еж оказался довольно хамоватым созданием, отказывающимся не только носить на иголках яблоки, но даже есть их! Равно как и грибы, апельсины, картошку, мороженое. Колбаса докторская у него тоже не вызывала энтузиазма, но к ней он хотя бы принюхивался.
Короче, тот еж не жрал. Видимо, хоть как-то ему не давали умереть местные тараканы, которые в коммунальной квартире вольготно жили параллельной с остальными прописанными жильцами жизнью.
Как бы то ни было, еж озлобился до крайности. Выбирался из коробки, иногда даже норовил укусить, демонстрируя явное недовольство своим положением. А еще еж шумел. Это, конечно, надо слышать. Он храпел, сопел, сипел, кашлял, чихал, выл, сопровождая все это оглушительным топотом по комнате. Дня через три пребывания ежа в шестнадцатиметровой комнате взвыли уже родители. Но Игорек, воспитанный на рассказах Бианки, терпел и стоически демонстрировал любовь к собратьям по планете. Наконец, через недели полторы еж разодрал в клочья упавшую с вешалки парадную фуражку отца, и его участь была решена.
Игорь плакал. Нет, это слабо сказано. Рыдал взахлеб. Отец взял ящичек с ежом, и они пошли именно сюда. Вот к этому дому с диким виноградом, который сейчас был перед ним. Тогда это было лето. И все пространство перед окнами особняка – тогда это было министерство какое-то, что ли, – густо заросло разными травами, кустами, цветами. Настолько, что, чтобы увидеть почву, нужно было долго раздвигать спутавшиеся растения. Отец перевернул коробку, и радостный еж шмыгнул во тьму этого крошечного рая. И исчез. Маленький Игорь долго смотрел и смотрел в зеленую кутерьму клумбы. Тишина. Отец потянул его за руку. Они вышли из двора.
– Понимаешь, здесь ему лучше, – сказал он, стараясь не смотреть в заплаканное лицо ребенка.
Игорь этого как раз не понимал. «Как же так?! Как же ему может быть лучше без меня?!» Он его любил, давал яблоки, мороженое и вообще. Да, он не ел, но, может, со временем все бы изменилось. И они бы подружились. И еж бы, смешно пыхтя, носил яблоки у себя на иголках.
Но отец был прав. Игорь это понял много позже. Есть существа, люди, ежи, да разные, которым действительно хорошо без него. Им просто так лучше. Это их жизнь, какая есть, сложная, неустроенная, но их. И ему не стоит влезать внутрь их бытия. А если уж так получилось, вовремя понять, остановиться и отойти в сторону. Выпустить. И всем будет хорошо. Наверное.
Он смотрел на жухлую паутину припорошенной травы и все ждал, что вот-вот зашуршит прелая листва и оттуда покажется хитрая мордочка того самого ежа. Да-да, именно того. Которого он выпустил здесь сорок лет назад.
Игорь вздрогнул и очнулся. Он валялся в кресле. На ногах укоризненно торчали нерасшнурованные кроссовки. За окном светилась фонарями ночь. Сон был настолько реальным, что первые мгновения он ничего не видел из-за заполонивших пространство взгляда слёз. Какая хрень!
Перед ним горел экран ноутбука. Он увидел вдруг Женино письмо, пришедшее еще утром. Ткнул. Письмо открылось. Там было написано: «„Несколько дней одного года“ роман». Игорь хмыкнул и в полудреме полистал текст, ничего не понял и выключил компьютер. Он разделся и уже всерьез залез под одеяло.
«А все-таки интересно, может, тот еж и правда жив, там, в том переулке… Или это сон? Да нет, был у меня еж. И выпускал его. Почему вспомнил? А вдруг и правда жив?! Мы бы встретились, он бы меня признал, поговорили… – Смешно, как ребенок, ну бред же! – говорил Игорь сам себе, – тот еж сдох через неделю после того, как ты сунул его в этот палисадник! Не живут они по сорок лет! В школе же биологию проходил. Фигня. Я же жив. И тот ежик будет жить, пока я жив».
Игорь улыбнулся и за мгновение до того, как рухнуть в тяжелое, пьяное небытие, успел подумать: «Надо прочитать роман» и «Какой странный сон».
Вторая глава
«Несколько дней одного года»
День первый
Край кирпича был как бы откушен, а по его черным заветренным деснам ползла божья коровка. Она ползла, ползла, ползла… На самом краю с треском расправила крылья и улетела. Я вздрогнул, и в мозг рухнул шум города. За ним – свет. Ворвавшись, звуки, вспышки заметались туда-сюда, пинг-понг, пинг-понг, заставив меня трясти головой, как бы отмахиваясь от назойливой мухи.
В выжженной проплешине травы, похожей на окруженную запекшейся кровью коленку ребенка, проехавшегося ею по асфальту, дымились остатки костра.
Последние воспоминания вчера – сортир со старорежимной цепочкой, которую надо было дергать, дергать… Унитаз вырвало ржавой водой, он шумно и обреченно вдохнул воды еще и затих.
Попытка пошевелить плечами была зверски провалена. Тело ныло, зудело, в районе копчика вообще что-то активно покалывало. Неужели прям на улице срубился?! Ужас-то какой! Вчера же все нормально было, ну вроде же домой ехал, или еще пили чего-то…
Уличная кутерьма медленно, но целеустремленно заводила в голове большой адронный коллайдер.
Какой дурдом! Откуда в таком состоянии еще и мысли о каком-то дурацком коллайдере? Будь проклято информационное общество, где всю глупость, накопившуюся в тупых журналистских мозгах, ежедневно и ежечасно вываливают тебе на голову.
Вот прочитал же где-то про коллайдер, и что: до Страшного суда, который теперь уже точно неизбежен, я обязан хранить в голове сведения о какой-то идиотской установке?
Ох, а что если… а что если… все то, что мы пишем, творим, выдумываем, это и есть описание того самого неведомого Страшного суда?! Иначе зачем Господь дозволил, чтобы человек занимался такими глупостями? Ну нет логичного объяснения того, что люди веками всякую дурь сочиняют и сочиняют. А так – вроде делом заняты. Страшный суд прописывают. Типа, послушание такое. А потом, в час «Х», согласно утвержденному протоколу… Жуть-то какая.
От кряхтений и переворачивания тела обильно выступили слезы. Так. Теперь надо сориентироваться. Эх, вот если бы сейчас раз – и у меня в руках очутился навигатор, который весной подарил Ольге. Вот потыкал пару кнопок и – бац, точно понял, где это я валяюсь.
Да, но если он у меня и был, этот чертов навигатор, все равно бы уже восемьсот раз потерял. Как бесконечные мобильники – какой у меня по счету? Восемнадцатый или девятнадцатый. Стоп, а сейчас?
Мобильника не было. Я осторожно осмотрелся. Передо мной по реке медленно полз, зарываясь носом, прогулочный пароходик «Москва». За гранитной облицовкой берега, на той стороне, торчал желтый карандаш Софийской церкви с ластиком-куполом наверху. Плечи подпирала огромная грязно-бурая стена. Внутри что-то охнуло. В подтверждение моих охов в воздухе ударил знакомый с детства перезвон на Спасской башне.
Кремль! В смысле, кремлевская стена. Подпорка моей сутулости – кремлевская стена. О господи!
Та-ак, надо сматываться, причем резко… Интересно все-таки, почему меня здесь до сих пор не свинтили? Как же ФСБ или как там ее, Федеральная служба охраны, что ли… Вот в стране бардак! А вдруг я террорист? Или, как его, борец за независимость Западной Сахары. Надо валить, валить. Пока тут…
На набережной было на удивление мало машин. Метрах в ста пятидесяти, левее, чуть тормознув на остановке, лениво охнул троллейбус.
Ага, точно, 16-й… сейчас на него, он вроде до Садового кольца идет или… Да куда-то же он идет. Да без разницы!
Кое-как запихнув в карман валявшуюся у костра пачку сигарет, поковылял к дороге. У остановки последний раз обернулся. Кострище уже скрыла трава, только дохловато-рваный дымок у стены обозначал мое ночное присутствие.
Уже на ступеньках троллейбуса я понял, что денег-то нет. Даже мелочи. А ведь были же, были – и рубли, и евро. Пьянь!
Но у самого прохода в салон вдруг радостно заметил, что нет дурацкого табулятора. Или не табулятора. Или валидатора. Ну как эта дурь называется, с рычагом для прохода. Хоть в этом повезло. Можно не платить. И не собачиться с водилой. Наверное, сломался, как обычно, и не заменили. Но все равно, как же я без денег-то, кусок дебила… И мобильник тоже, видимо, тю-тю… Ладно, выскочу отсюда, а там где-нибудь тачку поймаю, дома-то деньги есть. Вроде.
Пара сосисок, нет, пожалуй, сарделек длинного троллейбуса, задрожали, закряхтели, вздрогнули, прогнулись посередине и поволоклись вперед.
Народа в салоне было мало. Можно сказать, почти не было. Какой-то дедок в блестящем от ветхости пинжаке – именно пинжаке, а не пиджаке, – переплетая сизые вены рук на выставленной перед ним клюке, безучастно смотрел в окно. Сзади маячил кто-то еще, вроде женского пола. И все. Я упал где-то перед дедом и бессмысленно похлопывал глазами в такт мелькающим в окне деревьям.
Значит так, нажрался. Опять. Но как сюда-то? А менты… Ага. Не помню. Ну и ладно. И где же все-таки был? Девки какие-то, музыка… Ай, да ладно. Отваляюсь, потом само вспомнится. Или позвонит кто, расскажет. Как пить-то хочется. Ольга. Что Ольга? Может, звонил ей опять невменяемый? Может. А может, и нет. Все-таки я дебил, дебил, дебил! Трижды. Тебе все давно и внятно объяснили. Если что и было, то прошло.
«Было, было, было, и прошло, и прошло…»
Что за дурацкая мелодия?!
«…И прошло, и прошло…»
Глаза, до этого лишь регистрировавшие бессмысленность происходящего за окошком, вдруг замерли. Я очнулся. Привычный контур пейзажа был сломан. Но сломан странно. Вроде бы чего-то явно не хватало, но, в то же самое время, все как раз было на месте. Тряхнул головой.
Что же не так? Ну явно же. Но что? В грудине, чуть правее сердца, отвратительно быстро что-то завертелось. И пополз страх. И с диким равнодушием ужаса я понял. Храма Христа Спасителя не было. Совсем. На его месте над огромным пространством бассейна «Москва» играла музыка.
«Как провожают пароходы… Совсем не так, как поезда…»
Я смотрел еще и еще, зачем-то оглядываясь на старика и возрастную девку на дальнем сиденье, словно сравнивая наличие их, живых людей, и отсутствие Храма Христа Спасителя.
«Морские медленные воды… Не то, что рельсы в два ряда… Вода, вода, кругом вода…»
Сквозь открытое окошко троллейбуса музыка звучала ярко. И на утреннем солнце даже как-то выпукло. Как будто пыталась доказать мне реальность происходящего вокруг кошмара. А что это кошмар, я уже не сомневался.
Троллейбус повернул, поднимаясь в горку к Кропоткинской. Я уже увидел, чуть сверху, иссиня-прозрачное небо, отраженное в громадной чаше бассейна, купающихся людей в красных, зеленых, желтых шапочках, гирлянды белых пенопластовых поплавков, по школьному разлиновывающих воду на сектора. Утренний свет, соприкасаясь со светло-салатовым кафелем бортиков, ударял в глаза серебристой четкостью картинки. Я смотрел на улыбающиеся головы, руки, много рук, беззвучно сверкающих во взмахах и гребках. Временами казалось, что даже слышу смех, да-да, их смех, этих людей! Или нелюдей.
Троллейбус затормозил. Я выпрыгнул прочь. Мысли растягивались, не поспевая за телом, и когда, наконец спрятавшись за киоском, я тормознул, они догнали голову и шумно, как резинка, хлопнули. Втянув голову в плечи, я медленно закрыл глаза, подождал и так же осторожно открыл их.
Утренний бульвар был распахнут настежь. Единственная аллея светилась пустотой. Из-за поворота, метров через сто после арки метро, где Гоголевский бульвар изгибается вправо, показалась женщина, за ней скакала маленькая девочка в панамке. Женщина остановилась, обернулась и, видимо, что-то сказала ребенку. Потому что девочка заревела, протянула матери ручонку, а другой стала возюкать по лицу. Я слышал ее плач. Слышал!
Ничего не понимаю. Похмелье такое? Или я сплю еще? Так ведь бывает, бывает. Казалось, сердце трепыхается везде – в голове, ребрах, коленях, пальцах ног и даже в набухшем от жажды языке.
Этот набитый журналами и газетами киоск-ветеран сейчас был для меня норой, бойницей, спасительной дверью, спрятавшись за которую я пытался разглядеть этот неведомый страшный и неожиданный мир. Я вжался щекой в его облупившийся красный каркас и не дыша, словно боясь что-то потревожить, смотрел на болтающиеся туда-сюда двери станции метро.
Наконец оттуда вышел мужчина лет тридцати пяти, остановился, достал синюю пачку «Космоса», спички, прикурил, бросил пустую пачку в урну, постоял, а затем прошел мимо меня к ряду автоматов с газированной водой. Только сейчас я заметил справа от себя автоматы с водой – штук десять в ряд. Человек подошел, кинул монетку в щель. Автомат заурчал и выплюнул газировку в стакан. Черт, как же хочется пить!
Вдруг я увидел себя как бы со стороны, точнее, сверху, почти топографически четко: рядом с полудугой вестибюля метро, на самом краешке бульварного изгиба, прижавшись лицом к киоску, дрожит человек и боится сделать шаг.
Мужик отстраненно посмотрел на небо, затем на шипящий стакан воды, выпил, как-то внутренне улыбнулся. Глаза его чуть заискрились, и он, шумно охнув, опять поставил стакан и еще раз бросил монетку. И снова выпил. Облизнув треснувшие губы, не ведая, что творю, я оторвался от киоска и, пошатываясь, приблизился к нему. Мелькнув взглядом, человек поставил стакан, кинул копейку и протянул мне газировку. Я шумно глотнул. Он налил еще. Я опять проглотил. Шипучка шмякнула в голову. Некоторое время мы стояли молча. Потом я спросил:
– Какой сегодня день?
Парень опять внимательно, но с усмешкой, пробежал по моему лицу.
– Да суббота!
Точно. Нажрался-то я вчера, в пятницу.
– А число?
– С утра было девятнадцатое. Мая. Вчера получка была. Раньше дали, двадцатое-то воскресенье. Похмеляться будем? А то ты так и год спрашивать начнешь!
Виталик, – мужик, смеясь, протянул руку.
Я аккуратно ее пожал. Его ладонь была чуть влажная, наверное, от стакана с газировкой. Именно эта влажность заставила меня поверить, что передо мной живой человек. И все это – не галлюцинация.
Виталик уже толкал меня к переходу около булочной на углу.
– Да ерунда, что у тебя денег нету: я же по лицу вижу – свой человек. И плохо ему. Надо поправить! Я вчера тоже дал шороху! Сейчас придумаем. До одиннадцати еще околеть можно. Надо к Люське, на Зубовскую, в угловой гастроном. У нее портвейн по трешке должен быть! Пешком? Или на пятнадцатом три остановки? Пешком! А то ждать…
Я поднимался по залитой солнцем Кропоткинской улице. Справа черной кляксой проступала на желтой стене дома вывеска «Советский комитет защиты мира». Все правильно. Дальше должна быть школа. Потом что-то вроде простенькой кафешки, а напротив, точно, м-м… Ленинский райком партии, что ли. Ну да. Вот и он. С мемориальной доской Денису Давыдову. Все как было во времена моей юности. Чушь какая-то. Я что, спьяну переместился в прошлое, что ли?! И как вы все это представляете?! Так, так… Что так? Бред! Но бассейн «Москва», газировка на Кропотке, булочная на углу.
– Что-то ты совсем плох! – забеспокоился Виталик. – Ладно, садись вон на лавочку у «Молока», я один быстрей смотаюсь.
Я устало бухнулся на лавку возле молочного магазина. Здесь около клумбы был тенек. Что же происходит? Если я здесь, а кто тогда там? Стоп, а я же должен быть и здесь. Ну да. Вот бредятина. Надо же, допился. Есть же какой-то рассказ Брэдбери или Гаррисона про путешествие во времени. Типа, ни под каким видом нельзя встречаться с самим собой. Иначе аннигилируешься. Я не выдержал и хрюкнул. Ага! На лавке напротив валялась газета. Встал, посмотрел. Это была «Вечерняя Москва». За 18 мая 1979 года.
– Вот, вот он я! – замахал рукой издалека запыхавшийся Виталик. – Люськи не было. Пришлось идти в подвал к Славке. И переплатить полтинничек, по три пятьдесят вышло. Это ж на целый рупь дороже! Это ж за две – семь рупчиков, а после одиннадцати мы бы почти три купили, по два сорок две-то! Если бы ты тут не умирал, хрен бы я у него чё купил. Еще бы и в морду сунул. За хамство. Это же надо, со своих брать! Жлобяра! Но стакан дал. И закуску.
Отступив чуть вглубь Кропоткинской улицы, мы уселись на скамейку со столиком. Друг против друга. Врытые по бокам железные балки обильно обвивала буйная чепухень, создавая иллюзию беседки. Убежища.
– Ну, поехали! – Виталик плесканул три четверти стакана густо-сизой жидкости под названием «Портвейн ереванский».
Портвейн был настоящий. За это я могу поручиться. Не знаю, как там скачки во времени или глючные сны, но портвейн был настоящим! И плавленый сырок с перчиком на этикетке тоже.
Винище обильно разливалось по организму, грубовато, но приятно лапая внутренности. Что же со мной происходит?! Вот сижу на лавочке на Кропоткинской улице, жру портвейн с каким-то Виталиком, а вокруг живет, прыгает воробьями, шуршит шинами «Волг», дразнит резко-тягучим запахом портвейна 1979 год, что ли? Моя юность? Я же школу закончил в семьдесят девятом году. Точно! Так… Если сейчас 19 мая, где я должен быть? Фу… Надо же так допиться! Какой я? А такой. Некий мальчик «Я» должен, по идее, быть в школе. Если сесть отсюда на 15-й троллейбус в сторону Пушкинской, то через десять минут он привезет меня к школе, где я маленький пишу какое-нибудь дурацкое сочинение. Или… А мы учились тогда по субботам? Не помню. Ка-ка-я хрень!
Я опустил руку под стол, достал бутылку и плесканул в стакан еще.
– Во… – оскалился Виталик, – оживаешь, сам в стакан попадать стал…
– Сигареты есть? – я выдохнул портвейновую вонь. Хотя нет, не вонь. Вкусный портвейн-то. Даже чуть с вишневым привкусом, напоминает французские наливки, на днях принимал, по восемьсот с чем-то… На днях! В каком году? Вот ужас-то! Где же я есть? Тут, в семьдесят девятом, жру портвейн или там, у себя, французскую отраву глотаю? Глотал, в смысле. Как глотал? Получается, наоборот, я не глотал эти наливки пару дней назад, а еще буду их глотать через …надцать лет, что ли?!
– Вот с сигаретами бэ-дэ, – Виталик виновато полез в карман, – киоск закрыт, пришлось в «Союзпечати» брать это говно кубинское. С витрины прям.
Он достал сине-бело-золотистую пачку Ligeros с криво наклеенной белой бумажкой, на которой слабо проступали выцветшие чернила «20 коп.». Я сунул в рот сигарету и ощутил на губах знакомый сладковатый вкус кубинской бумаги из сахарного тростника. Точно!
Вот тут-то я вздрогнул и начал верить в реальность невообразимого! А… Несись все конем! 1979 год? Да и хрен с ним! Как попал? Да не знаю. Тогда и не вякай, принимай все как есть. А могли бы и динозаврам кинуть. Там бы ты не жрал портвейн с Виталиком, а, наложив в штаны, скулил от страха где-нибудь под древовидным папоротником.
– Ну совсем оживаешь! – засуетился радостно Виталик. – Я тоже! Вторая пошла?
Я кивнул. Он деловито начал откупоривать вторую.
– Дело есть! – разливал он «Ереванский». – У меня брательник в Апрелевке работает на «Мелодии». Приволок Пугачиху, альбом последний, двойной, десять штук. «Зеркало души». Мне насрать на нее, как понимаешь! Я «Папл» люблю, но по пятнашке, а то и по двадцатке улетает, прикинь! Надо скинуть. У «Мелодии» на Калининском… Поможешь? Половину брательнику, половину нам, а, Сидор?
– Я не Сидор!
– Да какая разница: главное, человек хороший! Сейчас добиваем, я домой заскочу, я тут рядом, в Коробейниках, живу. И вперед!
Портвейн веселился в голове.
Главное, не ляпнуть, что я как бы не отсюда.
Что будет «а то…», я старался не думать. Будь что будет, да и хрен с ним. Интересно, а меня «там», ну, в моей жизни, уже хватились? Блин, «моей жизни»! А это тогда что?! Не моя?! Не… Лучше не думать об этом. Хотя бы пока.
Виталик мухой сбегал домой за дисками, и вскоре мы шагали арбатскими переулками напрямик к Калининскому проспекту. Я поймал себя на мысли, что прекрасно знаю дорогу, где срезать, где через проходняк проскочить, а ведь у себя, там, ох, не знаю. Сейчас же все перегородили, везде заборы с охранниками ублюдочными, проходные подъезды из-за жулья и террористов заколотили напрочь. Козлы.
Утренняя субботняя Москва была просторна и наивна. Казалось, что этот город семьдесят девятого года – еще девушка. Это лет через двадцать пять она упадет в глухой и кромешный блуд, продавая свое тело оборотистому хамлу и прочему хламу, для которых слово «Москва» – это только фантастический по доходности рынок недвижимости и рекламы. А пока все было светло и чисто. И вывески на магазинах были какие-то человечные – «Хлеб», «Молоко», «Продукты».
Справа уже нарисовался Новоарбатский гастроном, обязательно зайду потом, там в те годы продавали вкуснейший кипрский мускат «Лоел». Деньги на Пугачихе сделаем и хряпнем мускатика!
На противоположной стороне Калининского проспекта я уже заметил задумчивых особ, уныло, но со значением переминавшихся с ноги на ногу у магазина «Мелодия».
Увидев меня, унылая особа у магазина оживилась, смотря откровенно в противоположную сторону, как бы невзначай заметила:
– Что есть? У меня флоид, дак сайд, юговский, недорого отдам, и бони эм, свежак, полидор, родной, шестьдесят, найтфлайт, новьё.
В переводе с тогдашнего это означало: группа Pink Floyd, пластинка «Dark side of the moon», югославская лицензионная перепечатка с фирменного и настоящий, фирмы Polydor, альбом ансамбля Boney M. «Night fl ight to Venus» за 60 рублей. Огромная сумма, но альбом-то только вышел. Но все равно, ползарплаты среднестатистического советского гражданина.
– Так, у тебя что? – продолжал шевелить губами индивид.
– У нас ерунда всякая, Пугачиха, «Зеркало души».
Собеседник скривился.
– И почем?
– По двадцатке! – твердо сказал я, хлопая по карманам, вспомнив, что должны были оставаться сигареты. Наконец нашел начатую пачку Gitanеs. Закурил.
– О! Фирму куришь? Классные сигареты… Штатовские?
– Да ничего… Французские. Ну че, Пугачиха-то?
– Пугачиха… Это надо лохов искать. Давай чейнж? Я отдаю свой Флоид, а ты мне две Пугачихи? А че – отличный чейнж!
– Зачем мне твой Флоид, да еще юговский – мне башли нужны!
– Башли… Башли… А вот если две Пугачихи по пятнашке и твоя пачка сигарет?
– Да ты чё?! – я посмотрел на Виталика. Он задумчиво разглядывал редкие барашки облаков в динамовской раскраске неба и отчаянно кивал обоими глазами.
– Ну, хрен с тобой, давай! – Я хотел открыть хозяйственную сумку Виталика, но мужик аж с лица взбледнул.
– Ты чего? Повяжут же. Тут же столько кругом… комитет… Иди за мной и не оборачивайся. Пока я не скажу.
Мы прошли насквозь какой-то переулок, дважды свернули и остановились на детской площадке.
– Ну, показывай, – осмотревшись по сторонам, сказал парень.
– Что?
– Что, что? Пугачиху свою! Вдруг диск попиленный или еще говно какое…
– Нет, нет, – вступил Виталик. – Прямо с «Мелодии» брат таскает.
Пока фарцовщик придирчиво осматривал диск, вынимал его из полиэтиленового пакета и, держа его на пальцах рук, как официант поднос, вынюхивал поверхность черного зеркального винила, я стоял и покуривал.
Утренний портвейн оседал вниз и практически рассосался в организме. В голову осторожно, по-воровски закрадывался здравый ум. Что же все-таки происходит? Как я, вроде в памяти, ну почти в памяти, скажем так, стою здесь, рядом с Калининским, и тридцать с гаком лет назад торгую первой пластинкой Аллы Борисовны? И там, в моем времени, что происходит? Меня ищут, или кому я нужен, поразительно дурацкая ситуация. Ситуация?! Да это переворот вселенной! Практически Второе пришествие. А вдруг и правда оно? Может, вот так и начинается? Я мотнул головой.
– Беру, – запихнул диск в альбом парень и полез за деньгами. – И сигареты давай!
Немного поколебавшись, я протянул ему пачку. Там не хватало штук шести, на взгляд.
Почему-то эти дурацкие сигареты казались мне последней ниточкой, неким связующим звеном между мной и тем миром. Тем? Господи, я уже называю мой реальный мир – «тем». Тем светом. А сейчас что это? Этот мир? Или тот свет?! Жесть какая.
– Занятно. Никогда такой пачки не видел. Стоп. А почему по-русски написано?! К Олимпиаде, что ли, наши выпустили, по лицензии?
– Да нет. Родные. Французские. Спецвыпуск. Для русских эмигрантов. Их же еще после революции там полно болтается.
– Во как… – уважительно протянул парень, аккуратно кладя пачку в особый кармашек на сумке. – Никогда такого не слышал.
Через несколько минут мы уже шагали с Виталиком в Новоарбатский гастроном.
– Вишь, как здорово покатило! Я говорил, я говорил! Так… Пятнадцать – брательнику, как договаривались, на остальные гульбаним!
Через несколько минут, вырвавшись из кутерьмы гастронома, нагрузившись кипрским «Лоелом» – ах, как замечательно на него попали, – мы уже топали в сторону Никитских ворот.
Там есть один дворик, где я любил выпивать в молодости. Интересно, но архитектура, даже самая невзначайная и невзрачная, даже увиденная по пустяковому случаю, по зарубкам в мозгах намного превосходит людей. Те, с кем я когда-то пил, о чем-то говорил, спорил вот в этих развалюхах дворов, давно исчезли из памяти, а очертания местности, рисунок ландшафта, торцы домов, расположение окон на стене остались в мозгах навечно.
И еще почему-то, что здесь пили. Ну там – портвейн «Карданахи», а вот там, у особнячка – вермут шел «Гельвеция», венгерский. Вот удивительно! Столько времен прошло, именно времен, а не времени, а загогулины мозгов цепко, как ворсинки липучек, держат эту чепуху в сознании. Архитектура и бутылочные этикетки – вот поводыри моей памяти. По ним, как по следам, можно выйти к теплу, к жилищу, и там уже память развернется во всю ширь, выливая грозди радости и юношеской глупости.
– …а нужна она мне, как пингвину грибы! – закончил о чем-то бубнить Виталик и накатил еще по полстакана «Лоела». – Сладковат. А так ничего. Бабское, конечно, пойло, но ничего. И куда рванем?
– Да по…
Третья глава
Утренний чай казался тряпочным и радости не приносил. Игорь часа два уже никчемно слонялся по квартире. То замирал у телевизора, то зачем-то начинал бриться, то вдруг бросал все и полз на кухню. Глотать воду. Иногда останавливался у окна, взирая, по-другому и не скажешь, именно взирая, на пыжащиеся и фыркающие автомобили, упорно сопевшие на Ленинградском шоссе. Еще минут сорок у него занял визуальный осмотр пары молоденьких шлюшек, уныло топтавшихся внизу у подземного перехода. Одна была небольшого росточка, с громадными, рвущимися на волю сиськами. Другая – высокая, в панамке и без телесных излишеств. На ярком утреннем солнце их фигуры отбрасывали вдоль трассы странные, длинные тени, жутко похожие на хрестоматийные силуэты Санчо Пансы и Дон Кихота. Медленно и беззвучно пересекавший небо самолет заставлял усомниться в существовании закона всемирного тяготения.
Последнее время с похмелья его одолевали… нет, не головные боли, это уже пройденный этап, его охватывало состояние недоуменной растерянности, переходившее иногда в отчаяние. Типа – ну нахрена это все… и почему именно я… и что из этого вытекает… А так как мозгой он понимал, что ничего из этого не вытекает, что надо просто менять образ жизни, то расстраивался еще больше. Короче, ходил ушибленный почти пару суток после банальной пьянки.
Обычно Игорь сваливал все на всеобщий маразм, на магнитные бури, на издержки совести, на все подряд, но, скорее всего, банально давал о себе знать возраст. Через три недели ему исполнялось сорок девять лет. Почти полтинник. Игорь все время вспоминал отца, академика, историка, как там… «и просто хорошего человека». Именно этой дурацкой фразой почему-то заканчивали речи почти все приглашенные на похороны. Отец и правда был замечательным. «Да не в этом дело, – опять мелькнуло в голове, – вот когда отцу был полтинник, так недавно вроде был тот банкет в ресторане на Речном вокзале, он был вполне солидным человеком, обвешанным всякими званиями-регалиями. А я… И друзья у него были люди достойные, приличные. А не раздолбаи типа Николаши!» – подытожил Игорь и отправился на кухню глотать минералку.
По всем правилам утреннего похмелья в этот момент раздался телефонный звонок.
– Все личные цели – невротичны! – твердо заявил голос Николаши в телефоне. – Как там у Северянина… – А потом похмелялись, похмелялись грозово… Выползай, короче, тем более суббота на дворе.
Игорь поперхнулся в трубку.
– Нет. Да ты че?! И не умею я похмеляться совсем, ты же знаешь, я ж просто продолжаю жрать дальше. И все. Это ж работяги могут с утра сто пятьдесят, чтобы руки не шалили, и к станку. Я так не умею. В запой ухожу. Ну его в баню.
– Згя, батенька, згя! – прогнусавил Николаша и повесил трубку.
«Вот организм! – Игорь опять пошел зачем-то в комнату. – Лошадиный, нет, даже слоновий, нет, игуанодоний. Жрет и жрет! И еще что-то писать умудряется. И ведь иногда даже не совсем плохо».
Игорь остановился у журнального столика и подвинул открытый ноутбук к себе. И начал заново читать присланный Женькой роман. Что-то он помнил со вчерашнего дня, но прыжками.
«Проснулся под кремлевской стеной, вот бред, попал в семьдесят девятый… – он попытался закурить первую утреннюю сигарету. Голова пошла кругом, и он резко сел на диван. – Как бы вот еще с курением завязать».
Творчество психов его никогда особо не привлекало. Ни в живописи, ни тем более в литературе. Были, конечно, исключения типа Эдгара Аллана По или Ван Гога или фанатично любимый им в юности Велимир Хлебников. Но эти люди были гениями и без санитаров. Сами! А те индивиды, которые, попав в дурку, сразу начинают малевать крестики с ноликами, вызывали у него аллергию. А еще больше раздражали его ценители прекрасного, которых восхищала эта муть.
«Кстати, контингент этих искусствоведок и критикесс, как правило, составляют незамужние или разведенные еврейские дамы от двадцати пяти плюс бесконечность. Вот они-то как раз морочат голову обществу вполне сознательно. Сечь их надо. Прилюдно! На Красной площади! Хотя нет, они все извращенки, может, для них это самый кайф. А потом они под собственную порку какую-нибудь художественную акцию придумают и еще бабла загребут. Типа перформанс. Нет. Не так. Нужно пороть на льдине полярной ночью посреди Охотского моря. Тайно. В безмолвной тишине. Льдина, ночь, голая жопа в перекрестье прожекторов… И только свист розог. И простодушные тюлени от ужаса увиденного, закрывая лапами глаза, с инфарктом миокарда камнем падают на дно Ледовитого океана. Нет. Как-то уж чересчур. Михалков какой-то. Не знаю даже. Но должно же общество как-то на них реагировать! Что-то я с утра судьбами человечества озаботился, – Игорь снова попытался закурить. На этот раз чуть более удачно. Он продолжал читать присланный роман. Чем-то этот текст ему нравился. Чем – он пока не понимал. – Я тоже закончил школу в семьдесят девятом, да, в семьдесят девятом… Стоп. Стоп! Я же помню эту Люську из углового гастронома на Зубовской площади, ну да! Жаба такая очкастая, с сиськами пятого размера, на кассе сидела! Точно. Сука редкостная», – ошарашенный Игорь встал, голова сразу пошла колесом, и он опять бухнулся в кресло.
Игорь неожиданно разволновался. Та эпоха конца 70-х – начала 80-х, точнее, не эпоха, а кусочек жизни, связанный со школой, институтом, бесконечными гуляниями по центрам, любовями, портвейнами, – все это давно была его личная, запретная для чужаков территория. В которую не позволялось вторгаться никому. Он слишком любил то время. Иногда он мог часами, как алкаш спрятанную заначку, выискивать в памяти обрывки картинок тех лет и, найдя что-то давно забытое, тихо радоваться, ревниво оберегая находку от посторонних взглядов.
Он и себе-то не часто разрешал вспоминать подробности тех счастливых лет. Да, те годы казались Игорю, наверное, самыми счастливыми в жизни. Жизнь была впереди, каждое утро дарило новые открытия и надежды. Бутылки, как и деревья, были большими, люди – добрыми и благородными, а девушки несли в ладошках пригоршни счастья и, радостно смеясь, разжимали руки над головой Игоря.
Хемингуэй писал, что счастлив тот, кто в молодости побывал в Париже. Игорь мог совершенно искренне повторить за ним – счастлив тот, у кого детство и молодость совпали с эпохой брежневского СССР. И сейчас, в XXI веке, это стало ну совсем очевидно!
И Союз был целым и невредимым. Кстати, развал страны и подтолкнул к смерти его отца. Косвенно. Хотя почему косвенно? Впрямую. В конце девяностых на одном семинаре он столкнулся с грузинским историком, своим любимым учеником. У которого всей семьей они много раз отдыхали в Тбилиси. Тот публично заявил, что русские двести лет угнетали его свободолюбивый народ и что, если бы не Россия, Грузия бы давно по уровню жизни сравнялась со Швейцарией! Этого отец уже перенести не мог. В институт вызвали скорую – сердце. Потом забарахлили легкие. Как выяснилось позже, рак, короче, отец на работу после этого так и не вышел. И через год умер.
«Да, время… – Игорь опять закурил. Читать роман нравилось. Но голова не варила совсем после этого Николаши. – Все. Пусть с кем-нибудь другим жрет! Или об одного. Ему по клавесину уже, где и с кем пить! Да, время тогда было…»
Он до сих пор не мог всерьез принять развал страны. То есть башкой-то он соображал, внутри – нет.
И все эти президенты Молдавии, Грузии, Латвии, Украины казались ему плюшевыми зайчиками и мишками. А новоиспеченные государства выглядели какими-то невзаправдашними. Очень похожими на настоящие, очень похожими, но все равно игрушечными. Как в свое время прекрасная гэдээровская железная дорога, привезенная отцом из командировки. Там было все. И стрелки звенели, и паровозики носились по путям, и окошечки в вагончиках с занавесками. Даже фигурки пассажиров выглядывали из купе. Только это все равно забава для детей. Вот и эти государства казались Игорю дорогими игрушками, очень дорогими и быстро ломающимися.
Игорь опять встал и, пошатываясь, пошел на кухню. «Да, очень интересно, что же это за человек, который помнит Люську из углового и дебильного Славика из подвала. Интересно. Значит, либо учился в те годы в инязе, как и я… Кстати, почему обязательно в инязе?! Тогда в том районе болтались и студенты педа, Ленинского, он рядом, на Пироговке, и ребята из Стали и Сплавов, на Октябрьской был институт. Да мало ли кто! Из медицинского, тоже недалеко… И почему обязательно студенты?! Там контор всяких уйма была! Интересно. И почему как-то обрывается текст?»
Он промотал на экране вперед. Продолжение есть. «Это хорошо. А вообще, тема… Попасть в семьдесят девятый… Это не то что мечта, это больше! Хотя зачем?! Ну как зачем…»
Опять затявкал телефон. «Блин, Николаше, что ли, все неймется?»
– Привет.
– Привет, Полин. – У Игоря сразу и резко похолодело внутри, и он повторил: – Здравствуй, Полин.
Уже пять лет Полина была замужем. Почти пять, точнее. Отношений не было никаких давно. Да, в принципе, и до ее замужества их тоже не было. Такое бывает. Теперь у нее семья, девочке, тоже Полине, шел второй год. Но Игорь понимал: если он кого-то любит в жизни, так это ее. И тут уже вопрос о целесообразности, невозможности, наивности отпадает. Они были знакомы уже шесть лет. И ничего не было. Не говоря уже про банальный трах, не было и походов в кино, не было гуляний под луной и прочих всяких глупостей, так утешающих идиотскую жизнь человека.
Секс хорошо иметь с тем, с кем хорошо и без секса. Эту дебильную фразу он случайно увидел в нете. Автор неизвестен, но сейчас все подобного рода фразы почему-то приписывают Маркесу. Наверное, в свое время нечто подобное выдавали за афоризмы Хемингуэя. Интересно, а до этого? Причем писатель должен быть обязательно иностранный. Если ткнут в рожу, что не писал он ничего подобного, всегда можно свалить на трудности перевода. Но фраза-то реально правильная. Хотя Игорь терпеть не мог слово «секс». Оно казалось ему каким-то техническим, стерильно обезличенным. Взятым из инструкции по пользованию электрической лампочкой. Но все равно очень точная фраза!
Полина звонила очень редко. Два-три раза в год. Примерно. Или меньше. Игорь сам не звонил ей никогда. Он ей писал. Много. На электронную почту, даже посылал обычные старорежимные письма домой по старому адресу. Иногда посылал эсэмэс дурацкие. Но строго в будние дни и днем. Пытаясь сохранить хоть видимость своего понимания ее семейного статуса. Все-таки семья у нее. «Тем более, – всегда думал Игорь, – а что я вот ей могу предложить? Если вот завтра мир перекочевряжится и она уйдет от мужа к нему? Себя?! Прямо скажем, невелика находка! А дальше? А дальше тишина.
Да, так что жопа. Постоянной работы у меня нет. Так, переводы приятели подбрасывают, статейки публикуют. Жить можно. Но сложно. Семьей на это не выжить. А у нее… Сейчас и квартира, и дочка чудесная, и муж какой-никакой! Кстати, почему какой-никакой?! Наверняка нормальный. И уж лучше меня, тем более! Раз она его выбрала. Все есть. И менять это? На что? Просто у меня не было никогда человеческих отношений с женщинами. Поэтому я инстинктивно тянусь сейчас к женщинам, отношения с которыми невозможны. Типа, хоть так, другого не будет. Я и не знаю другого. В свои почти… Даже и не хочу думать, сколько почти! И потом, ей сколько сейчас? Двадцать восемь – или двадцать девять? Да все равно! А мне… Да я для нее практически старик и море!»
Игорь вдруг вспомнил. Да. Это была зима. Конечно, зима. Когда он ее впервые внятно увидел. До этого они пересекались много раз, два раза – это и правда много. Иногда. Но это было не то. А тогда увидел ее идущей по редакционному коридору. Длинному, чуть тусклому, почти больничному. Она была в белой шубке, и иней, именно иней, на распущенных волосах. И она как-то виновато, словно извиняясь за такую красоту, улыбалась. И шла ему навстречу. Когда Игорь увидел, увидел ее издали, почему-то съежился от этого великолепия и вместо того, чтобы шагнуть навстречу, забежал в первый подвернувшийся кабинет, прикрыл дверь и, замирая, в щелочку смотрел, как она проходит мимо. А она искала взглядом исчезнувшего его и не находила.
Все-таки у нее поразительно сочетается внешность и имя! С ее мягкой угловатостью, темно-русой челкой, ну не может она по-другому называться. Только Полина. Где только ей имя-то такое откопали.
– Как ты?
– Да нормально, Полин. Как младшая Полина? Я совсем не знаю всю эту фигню детско-возрастную. Темный лес. Когда они ходить-говорить начинают?
– Вот женишься, родишь и узнаешь! Да у нас все в порядке! Говорить нам еще рано! Но орать самое оно! У меня вообще мечта отоспаться! Но, видимо, это произойдет, когда я ее замуж выдам!
– Замуж?!
– Ну да. Думаешь, до этого далеко? Нифига!
– Ну ты даешь! У тебя размах мысли! Замуж…
– Да время быстро бежит, Игорь. Я вот сидела-сидела, думку думала. Можно ли исправить ошибку, которая, как кажется, сломала твою всю жизнь? Ведь время вспять не повернешь? Нет. Но ты живешь и знаешь, что ошибся. Причем не в размере туфель, а по-крупному. И что же делать? Прожить до конца и знать, что в таком-то году в такой-то день ты сделала то, что испортило всю твою жизнь. А все! Заново уже тот день не переживешь! Так и тронуться недолго. Или все-таки судьба умнее нас. Или все-таки есть кто-то, кто руководит нашими ошибками и удачами, и, если мы ошибаемся, значит, так и нужно, и главное – без этого никак нельзя было обойтись.
Замерев, Игорь слушал ее голос. Таких слов от Полины он не ожидал. Он понимал, что надо что-то ответить, отреагировать, поддержать, что ли, ее, но в чем и как? Он и боялся спугнуть, нарушить неверным словом ее откровения и мучился сам от своего молчания.
– Ты меня слушаешь?
– Конечно, конечно.
– Вот о чем я думаю. Но я не горюю, а просто размышляю. Ты, главное, не принимай близко к сердцу. У меня все хорошо. Это я просто. Думаю. По девичьей глупости. Все хорошо, – повторила Полина и повесила трубку.
Игорь зачем-то встал и зашагал к холодильнику. Открыл, внимательно посмотрел внутрь. Закрыл и вернулся в комнату. Сел.
«Что получается? Значит, Полина хочет отношений со мной? Как это? А муж? При чем здесь муж. Или не хочет? Или просто так все это? Или не просто? Или такие вещи абы кому не говорят? А что мне делать после этого? Надо что-то делать. А что? Или ничего? Нет. Что-то надо. Я ведь этого хотел. Хотел? Хотел. Хрень какая-то. Что делать-то…»
Дурацкое похмелье, звонок Полины, общая неустроенность и глупость жизни разом навалились на него. Как-то в период очередной депрессии он выдумал для себя теорию. Женщина – как оправдание его бестолковой и идиотской жизни. Наделаны миллионы глупостей, тупостей, о некоторых вещах Игорю вообще было противно вспоминать, но все это можно оправдать, даже искупить появлением настоящей любви. То есть вся эта вереница тупейших ошибок обретает смысл и становится лишь путем к любви. К женщине. Именно той. Тогда жизнь оправдана. Тогда все имеет смысл.
Часто он очень явственно представлял себе одну картинку. То ли это приснилось, то ли просто сложился образ такой, но он видел пригорок, может, даже холм на изгибе реки или озера. На нем сидит девушка в платье. А он лежит и, положив голову ей на колени, смотрит на воду. Но сколько он ни всматривался в этот образ, не мог уловить лица той девушки. Фигуру видел, видел четко окрестности, деревья, цвет воды, рисунок ее платья, а лицо – нет. Оно переливалось, постоянно меняясь. Иногда это была именно Полина, иногда одна его знакомая Наташа, но чаще всего и вовсе незнакомое лицо. Однажды он рассказал о виденье Полине, она засмеялась и резко ответила:
– Я так и думала, тебе нужны не живые женщины, а фантомные персонажи, типа Мэри Поппинс!
Он тогда сильно обиделся. Фантомные…
«Мой „Фантом“, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом быстро набирает высоту… – вспомнились дурацкие слова из детской песенки. – Какой это был год? Наверное, пионерский лагерь, где еще было можно такую белиберду подцепить. Наверное, начало семидесятых. Тогда же война во Вьетнаме была. Да, похоже. Что там дальше-то… Мой „Фантом“ не слушает руля… Ля-ля. Что-то про голопузых вьетнамцев. Какая дурь».
Да, Полина… Их отношения были бесцельны и тупы, как соло на геликоне. Труба такая здоровенная, вокруг тела… Карабас-Барабас на такой играл. Пум. Пу-ум. Пум. Пу-ум. Пум.
Кто же добровольно признает, что пропустил свою любовь и ее больше не будет? Пу-ум. А он продолжает чего-то ждать. Чего-то смутного, необъяснимого и тревожного. Что вдруг все изменится. Пум. Что именно, как и в какую сторону должно измениться, он не представлял. Пу-ум. Но обязательно должно вот-вот случиться. И все будет хорошо. Пум.
«Мой „Фантом“, как пуля быстрый… – повторил Игорь. – Интересно, что там все-таки в припеве? Интересно, как мне реагировать на слова Полины? Интересно, скоро этот бред закончится? Или не закончится никогда?!»
Четвертая глава
«Несколько дней одного года»
День второй
Я открыл глаза. Надо мной нависло огромное, по самые глаза заросшее шерстью лицо. Глаза были внимательные и добрые. Лицо распахнуло здоровенную пасть с желтоватыми айсбергами клыков. Я инстинктивно зажмурился, но в последнюю секунду успел увидеть громадный, с небо, фиолетово-черный язык. В ту же секунду что-то мокрое и шершавое прошлось по лицу от подбородка ко лбу. Когда я осторожно через минуту открыл глаза, никого вокруг уже не было.
Я лежал на голом матрасе с подушкой и одеялом. Утренний свет наотмашь бил в пол. От солнечного удара медленно поднималась в воздух пыль. В небольшой комнате наблюдался стол, три стула, едко-коричневый шкаф, разобранный диван и телевизор. Наверное, «Рубин».
Да нет, точно «Рубин». У меня такой же долго-долго стоял на холодильнике. Неработающий. Только пару лет назад собрался и выкинул.
Аквариум с рыбками и подсветкой около окна свидетельствовал если не о интеллигентности хозяина, то хотя бы не о полном его раздолбайстве. Рыбки, они иногда хоть какого-то ухода требуют. Тем более, подсветка. Заботится.
Вдруг, вздрогнув, совершенно явственно я увидел себя как бы со стороны. Кадры вчерашнего дня. Провалы в памяти заменялись склейкой ленты. Казалось, я даже слышу тарахтение проектора, вертящего на глазном дне мне эту муть.
Господи! Неужели все это правда? Где я сейчас? В каком времени?! О господи… Зачем мне все это… Так. Смотрю. Взгляд медленно шел от пола через почти осязаемую колонну пыли, подпирающую потолок, к подоконнику, через скаты крыш в окне, правее, правее, через плакатик, скорее всего, из немецкого «Браво» с Яном Гилланом из «Дип перпл», и уперся в отрывной календарь. За окном ветер зашумел листьями, чуть шевельнулась страничка. На ней красными буквами было написано: 20 мая 1979 года. Воскресенье. Я зажмурился.
– Это просто сон такой, – неожиданно твердым голосом сказал я. – Сейчас я открою глаза и… Раз. Два. Три.
Еще сильней сжав веки, резко открыл глаза. В дверном проеме стоял Виталик. Одной рукой он прижимал к животу трехлитровую банку, в которой покачивалось и пузырилось пиво. В другой была авоська с бумажным свертком, из которого торчал обиженный рыбий хвост. Лицо выражало спокойное счастье.
– Подъем! Труба зовет! Пиво пришло.
Ага. Значит, я у Виталика дома. И видимо, в Коробейниковом переулке. Ну и хорошо. А что еще сказать?
Покрытый клеенкой квадратный стол напоминал арену для гладиаторских боев. Побежденную и распластанную скумбрию триумфаторы раздирали на части. Растерзанное тело половинки черного хлеба еще не сдавалось, но было ясно, что и ее минуты сочтены. Кружки, свистнутые в ближайшей пивной – а ближайшей, судя по всему, была знаменитая инязовская забегаловка «Корпус Г», – соблазнительно пузатились пивом. Казалось, что если бы у кружек были руки, то они бы сейчас самодовольно почесывали свой булькающий пивной животик.
– Чем сегодня будем радовать милую душу? – еще раз, шумно, через кадык, глотнул пиво Виталик.
– Не знаю, – я пожал плечами. Мысли, наложившись на два дня пьянки, клубились, змеючились, но ничего внятного не выражали. Что мне делать-то, как жить, очутившись в 1979 году у какого-то Виталика, куда обращаться? В милицию, что ли? Помогите, я из будущего! Ага.
– Тебе на работу надо?
– А как же! – Виталик наливал пива из банки. – У меня завтра утром смена. Репетиция.
– В смысле?
– Монтировщик сцены. Театр Моссовета, малая сцена. Знаешь, там, на Комсомольском, за углом?
– Где кафе «Маринка»? – неожиданно дернулась память.
– Точно! А ты? Работаешь?
– Над собой, – вспомнил я юношескую присказку.
Виталик кивнул, вполне удовлетворенный ответом. За окном протяжно ударил колокол. Я вздрогнул. Конечно, это у Ильи, там, в Обыденском переулке, совсем рядом. Храм же работал тогда. Его вообще при Советах ни разу не закрывали. В это же мгновение в дверь комнаты кто-то треснул. Собственно, этим ударом и открыв ее. В проеме стояла женщина в белесых сатиновых трениках. Из-под которых торчали тапочки в крупную голубую клетку со смятыми задниками. Мятые волосы были наспех собраны в пучок.
– Не нужны мне «Жигули», не нужна и «Волга», мне бы хрен с телячью ногу и стоял чтоб долго! Виталик, хер лысый, дай трешку! До завтра. Зарплату в пятницу не дали, – свернула четыре предложения в скороговорку дама.
– Повезло тебе, Ленк. Пивка? – Виталик встал из-за стола, подошел к дээспэшному шифоньеру. Гадко скрипнув, открылась дверца, взметнув в лучах солнца гейзеры пыли. И я увидел свое отражение во внутреннем зеркале шкафа. Это было непонятно что. Скрюченные плечи испуганного человека. Из-за трехлитровой пивной банки лица не было видно вовсе.
Он долго рылся и наконец вытащил из-под маек-трусов новенькую синюю пятерку.
– Держи пять. А то потом все равно придешь.
При виде денег Ленка преобразилась. Лицо просветлело. Синяки под глазами порозовели и не так резко оттеняли бледно-голубые глаза. Даже треники вдруг обозначили остатки фигуры. Я понял, что не так давно это была очень красивая девушка.
– Пивка…
Виталик достал из того же шкафа с трусами еще одну кружку и плеснул туда пива.
– Знакомься. Лена. Моя соседка. А это Сидор.
Ленка кокетливо отхлебнула. Какие могут быть споры по утрам, что никакой я не Сидор! Я уже просто кивнул головой.
– Сидор… – нараспев протянула Ленка. – Очень приятно. Не обращайте внимания на меня. Я сегодня малофизиологична. Сидор… А какую музыку вы любите, пумм-пумм-пумм или тыц-тыц-тыц?
– Ленка, не ля-ля человеку мозги! – улыбался Виталик, разливая остатки пива.
– Нет, ну правда! Это же дивно интересно… – продолжала игриво улыбаться Ленка.
– Отстань, видишь, у человека важный физиологический процесс. Похмеляется.
Виталик глотнул еще пива. Задумчиво встал и начал шастать по комнате, как белка, неожиданно потерявшая колесо.
– Нашел! А я думал, спьяну померещилось! – из-за дивана, где шебуршал хозяин квартиры, неожиданно взвилось облако пыли, словно там сидел кит, ну маленький такой, и пускал фонтанчики пыли. Затем вынырнула улыбка с гниловатыми зубами моего приятеля, далее непостижимым образом появилась рука с бутылкой «Лоела», а уж потом появилось тело самого Виталика. Этакая пьяночеширщина.
– Представляешь, снится сон, что у нас осталась бутылка! Я понимаю, что не должна. Но снится. Я утром в сумку! Нет. Ну, думаю, алкоголизм. А сейчас! Раз! И есть!
Ленка уже деловито скрипела шифоньером, доставая оттуда два граненых стакана и чашку. С отколотой ручкой и выцветшими омерзительно салатового цвета буквами «Береги честь смолоду».
– Тронулись? – ощерился Виталик. Я обреченно кивнул головой и поднял наполненную сладким вином чашку. А что прикажете делать? Постоянно думать, что я трехнулся?
«Ай, да ладно. И так страшно», – мысленно плюнул себе на голову, накатил вторую дозу.
Мы шли в лучах восходящего солнца. В лица, просветленные от утреннего вина, мягко дул ветер. Мы шли в поход за радостью. В магазин за портвейном. Коробейников переулок казался нам светлым и чистым, как предсвадебные трусы. По случаю воскресенья в пивной справа даже не толпился народ. Было непривычно тихо и поэтому более торжественно. Сам переулок казался мне желтой кирпичной дорогой из «Волшебника Изумрудного города». А мы сами – идущими за счастьем Страшилой, Элли и Железным Дровосеком. Причем, кого олицетворял я сам, понять не мог. Хотя и выбор небогат. Или-или. Наверное, все-таки Страшилу с отрубями вместо мозгов.
Встречные коты добро щурились и салютовали нам хвостами. Таракан-диссидент, обменявший сытую старость в подсобке продовольственного на волю и гибель на тротуаре, приветственно шевелил усами.
Мне даже показалось, что среди листьев двухсотлетней липы в садике перед инязом напротив магазина сидят а-ля «русалки на ветвях» четыре фигуры. Историка Сергея Соловьева, писателя Ивана Гончарова, революционера Фрица Платтена и, конечно, Ивана Сергеевича Тургенева. То есть граждан, мемориальные доски которым располагались на соседних домах. И эти фигурки в черных сюртуках радостно болтали ногами, отчего их белое шелковое исподнее временами выбивалось из-под штанов. Они улыбались. Тургенев даже достал платок и прослезился. От столь живописной картины я зажмурился и, открыв глаза через секунду, обнаружил, что дерево исчезло, остались одни фигурки, висящие в воздухе. Причем продолжающие мотать ногами и радоваться нам. Мы входили в магазин.
– Три «Кавказа», – гордо произнес Виталик. – Белых.
Продавщица кивнула. Мы загрузили бутылки в потоптанную сумку из грязной мешковины. Украшенную, а скорее, обезображенную фиолетовыми пятнами, которые символизировали лик Аллы Пугачевой. О чем свидетельствовала надпись латинскими буквами.
– На «Альбатрос»? – утвердительно спросила Ленка.
Виталик кивнул, потом посмотрел налево. На старинном доме с пухлыми полуколоннами и квадратиками орнамента висела тусклая вывеска «Парикмахерская».
– Забыл. Я сейчас. Идите, догоню.
Виталик отдал нам грязную Пугачеву и метнулся назад по улице. Мы с Ленкой свернули за клумбой налево, углубились в неразбериху старомосковских переулков. И вскоре вышли к какой-то стене, где лежало огромное поваленное дерево, облокотившись на смятую решетку из железных прутьев огромного забора.
– Располагайся, Сидор, – широким жестом спутница показала на бревно.
– А почему «Альбатрос»?
– Потому что через дорогу бассейн «Чайка»!
– Логика железная…
– А то!
– Куда это он рванул? – я уже наливал девушке «Кавказ» в снятый с дерева граненый стакан, ополоснутый тем же портвейном.
– Да за книжками. Он там девкам в парикмахерской книжки впаривает. Всякие. Дюма. Или «Женщину в белом» Коллинза. Хренотень разную.
Не прошло и полбутылки, как появился улыбающийся и запыхавшийся Виталик.
– Вот он я! «Женщину в белом» вкорячил. Семь рублей!
«Да… – мелькнуло в голове. – В нашей деревне, в смысле в нашем времени, парикмахерши уже не читают Уилки Коллинза. Они вообще читать не умеют. А ведь мы тогда подсмеивались над бедными девочками, покупающими классику».
– Два портвейна и пиво, – меланхолично отозвалась Ленка. – Вот поражаюсь я, кто только эту дурь читает! Неужели нельзя покупать человеческие книжки?!
– Например? – заинтересовался я.
– Да того же Лондона или Эдгара По, если хотят иностранщину. А так читали бы Паустовского. Он же чудо как пишет! Ну или этого, за углом, – Ленка показала стаканом налево.
– В смысле?
– Иван Сергеича. Там же дом его. Тургенева. В смысле матери.
Я уважительно посмотрел на Ленку. Как она… Виталик поймал мой взгляд.
– Да. Она у нас такая. В Литературном училась, пока не вышибли.
– Я сама ушла, – встрепенулась девушка.
– Ну да, ну да…
– А вообще, наливай, Сидор, я люблю Северянина, – и нараспев добавила: – Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж…
– Северянин пошл, – зажевал сырком Виталик. – Есенин был прав.
– Есенин хитрожопый халявщик! – отрезала Ленка.
– Да перестань. Вспомни «Черного человека»…
Мысли, уютно окунувшись в портвейн, бороздили просторы мозга.
«Почему я все время жру?! Можно подумать, ты у себя во времени трезвенник! У себя… Какая хрень. А что же здесь происходит-то. Сидят со мной на „Альбатросе“ алкаш и алкашка и трындят о Северянине и Есенине. Непостижимо. Но все-таки, может, не пить? Ну хотя бы так интенсивно. А как?! Страшно же. Ведь где-то же по вот таким же улицам брожу я! Молодой. А вот интересно, он и я – это одно и то же или разные люди?! Ну как тут не запить!»
– Виталик, дай двушку.
Приятель вытряхнул на ладонь табачные крошки и мелочь.
– Держи.
Я шел на угол, где всегда, я знал точно, стояли три телефонные будки. Я это запомнил навсегда. В бурной молодости однажды заснул в той, что посредине. Проснулся скрюченный, как Чебурашка.
Снял трубку. Сколько же лет я не слышал этого будочного гудка. Вечность, судя по развивающимся обстоятельствам. Он особый, вбивается в память намертво.
Надо позвонить же. Ну, смелее. Я осторожно набирал номер. 452-… Он же у меня не изменился. А в 79-м я уже жил там, где живу сейчас. Сейчас?! А где я живу сейчас? Ой, да ладно.
Длинные гудки заполняли ухо. Кто может быть дома? Да все. Мать, конечно. Отец живой еще. Ха, так он практически мой ровесник. Там. Или тут. Надо срочно выпить. Нет, подожду.
Наконец трубку сняли. Сердце съежилось в точку, вытянулось в царапину, готовое сию секунду взорваться и взорвать весь мир.
Старый шамкающий голос с еврейским выговором протянул:
– Вас слушают… Алё… Говорите громче… Вам кого?
Я на мгновение задумался и назвал свое имя.
– Здесь таких нет. И никогда не было. Вы ошиблись.
– Как это?! Вы кто? – опешил я.
– А вы кто? – вопросил старческий голос. – Я, между прочим, Мундельсон. Соломон Козьмич. Очень редкое отчество. Не Кузьмич, а именно Козьмич. Заслуженный работник культуры РСФСР. Диктую по буквам фамилию. Чтобы не было недоразумений. Микроскоп, улыбка, негр, декалитр, еврей…
Я бросил трубку. И прислонил голову к стеклу. Метростроевская была по-воскресному пустынна. Ровный солнечный свет наполнял улицу жизнью, хотя людей и не было видно. Я заметил, как налетевший вдруг ветерок погнал сломанную ветку липы через дорогу. Крупные свежие листья были так наполнены светом, что иногда казалось, будто они сами пускают зайчиков. Интересно, успеет ветка перемахнуть дорогу или попадет под машину. Я вдруг разволновался. Мне показалось, что это и есть самое-самое главное в жизни. Перемахнет – не перемахнет. Чет-нечет. Жизнь-смерть. Ветка уже находилась метрах в двух от спасительного тротуара, еще чуть, но по пустой мостовой наперерез ей мчался оранжевый жигуль… Я замер.
В стекло сзади постучали. Я автоматически обернулся. Там стоял Виталик.
– Дозвонился? – широко радовался жизни он.
– Нет, – ответил я и вспомнил про звонок.
– Сейчас, еще одну возьму, Ленка крутанулась. Иди к ней, – приятель потопал в сторону магазина.
Я кивнул головой.
– Это как-то слишком. Мундельсон. Надо срочно выпить. Я просто не туда попал! Ну бывает же такое.
Я шел обратно на «Альбатрос», повторяя про себя: микроскоп, улыбка, негр, декалитр, еврей…
Через пару шагов вспомнил о ветке. Обернулся. На дороге уже ничего не было. А вот на тротуаре их валялись целые охапки. И определить, какая из них моя, какая не моя, донес ее ветер до спасения или завертел в недрах «Жигулей», было невозможно.
Потом мы еще что-то пили. Потом было принято коллегиальное решение ползти в «Маринку». Зачем? А там работа Виталика рядом. В случае чего можно, мол, занять еще денег. В каком случае, было понятно, поэтому все согласились.
Потом Ленку пытались у нас отобрать какие-то парни из иняза, непонятно почему шляющиеся в воскресный день рядом со своим институтом. Один из них даже соблазнял ее югославским вишневым ликером Bosca. Но Ленка устояла, и мы продолжили колобродить втроем.
Через кинотеатр «Фитиль», где мы, заплатив за один билет тридцать копеек, послали девушку купить благородного «Московского» пива, в темненьких бутылочках по ноль тридцать три. Это был жуткий дефицит. И его продавали только в культурных местах типа театров, цирков и панорамы «Бородинская битва». Ленка вернулась из «Фитиля», обвешанная как елка юркими маленькими бутылочками. И мы с наслаждением глотали на набережной чуть горьковатую пену. Вскоре, часа через три, мы доползли до Хамовнического вала, где и располагалась наша цель. Конечная или промежуточная, это уж как пойдет.
Кафе «Маринка» было обычной забегаловкой того времени. С квадратными потертыми столами на тонких ножках. Оно выделялось из вереницы таких же бездарных заведений, во-первых, названием. Не у всяких подобных лавочек были имена собственные. Причем «Маринка» – было ее официальное имя, а не кличка, как это обычно бывает. Что придавало некую условную солидность.
А во-вторых, и это было главным, по вечерам тут была дискотека. Со светомузыкой! Посему на эти мероприятия даже продавали входные билеты. Которые представляли собой позапрошлогодние новогодние открытки с зайчиками и елочками, разрезанные пополам. От обычного мусора их отличала только размытая сизая печать не пойми какого учреждения. То ли треста столовых Фрунзенского района, то ли райкома ВЛКСМ. Стоило это убожество 2 рубля 50 копеек. Приличная сумма.
Бывал я в этой «Маринке», не часто, но бывал. В те годы. В смысле в эти годы. Мы вваливались в зал. Билеты нам никто пока не втюхивал, было рано. Дискотека-то с восьми. Несмотря на день-деньской, кафешка была заполнена народом. Надо отметить, жрали все. Так что своим взъерошенным видом мы не сильно пугали окружающих. Только чуть охнули официанты, услышав звон бутылок в «Алле Пугачевой». Виталика здесь знали как родного, поэтому ментов могли вызвать в любую секунду.
Мы бухнулись за столик. Подошел официант. В сияющей от жира бабочке.
– Славик, привет. Нам три салатика «Столичных». Ну ты знаешь. И три стакана, соответственно. Ну ты понимаешь.
– Деньги-то хоть есть? А то в прошлый раз…
– Это было в прошлый раз. Случайно. – Виталик гордо показал две смятые пятерки.
– Ладно, – лениво кивнул халдей.
Вскоре мы уже жрали портвейн как культурные люди.
«Как же мне жить? – топорщился пьяный мозг. – Надо найти денег. Пить-то надо. Иначе такое ку-ку словлю от перемещений и трансформаций. А где их взять? Нет, приятели у меня должны быть в этом времени. Бред. Им же по 15–17 лет! И как это будет выглядеть?! Очень любопытно. Я ваш друг из будущего, с которым вы подружитесь года через два, поэтому дайте чирик! Зашибись! А родители? Где они?! Получается, что нет никаких родителей и меня тоже нет! В моем доме сидит этот „Микроскоп, улыбка, негр, декалитр, еврей“. Заслуженный деятель культуры. А должен быть я! Ну или хотя бы отец и мать! Что происходит?! Ладно. Разберусь».
В «Маринке» уже включили музыку. Вокруг мигали разноцветные огоньки. «Ах, миднайт дэнса, ага-ага, ай фил ромэнса, ага-ага». Лучи прожектора шарили по залу. Вдали скакали девки и люди.
Я же продолжал топорщить мозг.
«Как я тут, в прошлом, без денег? И вообще. Надо что-то продать. Например, джинсовку! Не портки же! Помню, году в 80-м или что-то около того, знакомый фарцовщик Сперанский предлагал мне куртку Lee за 70 или 80 рублей. Ношеную, конечно. Новая стоила в два раза дороже. Интересно, почему я это запомнил? Наверное, очень мечталось о такой куртке, но таких денег, конечно, не было».
Я отупевшим взором обвел зал. Кому можно предложить? Справа от нас малолетки лет по семнадцать втихаря глотали сушняк из-под стола. Они бы взяли, но 80 рублей у них отродясь не было. Это же месячная зарплата некоторых. А вот чуть дальше сидели люди поинтересней. Двое ребят лет 27–30, загорелые, крепкие, коротко постриженные. И две девушки.
Один из них, с немного вьющимися темными волосами, был уже крепко поддат. Он брал общепитовскую тарелку со стола и с улыбкой нильского крокодила ломал ее руками пополам. Хрясь, и два фаянсовых полулуния в руках. Хрясь, и еще две половинки. Причем выражение лица этого гражданина не менялось. Та же блуждающая улыбка земноводного. Девочки – по шмоткам или стюардессы, или продавщицы из валютной «Березки» – млели от восторга и хихикали. И все это под мелькание прожекторов. Официанты стояли поодаль и тоже млели, но от ужаса и почтения. Один стоял непосредственно перед компанией и держал стопку свежих тарелок.
– Не лезь, – открыл глаза закемаривший Виталик. – Это комитетчики. Часто здесь карусель устраивают. Курсанты из Высшей школы КГБ. Халдеи, и те ссут.
Темноволосый продолжал рвать посуду. Сидящий рядом худощавый, но крепкий парень, рано начавший лысеть, с немного утиным носом, пытался лениво остановить приятеля.
– Коль, Коль, перестань, ну хватит…
На мгновение у рвача мелькнул отблеск сознания.
Он нагнулся, взял за ножки стул, на котором сидел его приятель, и повернул его так, что тот очутился к нему спиной.
– Вова! Не лезь. Я тренирую мозг. На со-сре-до-вточенность! – промямлил амбал. И опять пошел ломать тарелки.
Вова махнул рукой. Поймав мой взгляд, он пристально посмотрел и через секунду развел руками, будто извиняясь. Мол, ну что делать?
Я понимающе кивнул. Визуальный контакт был установлен. Действительно, что мне комитет. При мне и Союза-то нет никакого. А тут бояться кого? И потом, не исключено, что все же это сон.
– Уважаемый… – я махнул рукой Вове. – Есть беседа, достойная двух донов.
Вова внимательно посмотрел на меня, кивнул и показал на свободный стул рядом. Я снял с себя куртку, набросил на руку и сел рядом. Крушильщик фаянса меня даже не заметил. У него были дела поважней.
– Куртка. Levis. Ношу два месяца.
Вова взял в руки, пощупал мой товар.
– Штатовская или бразильская?
– Штатовская. На бразильской флажок оранжевый.
– Сколько?
– Много.
– А конкретнее?
– 100.
– 70.
– Не… 85 край. Меньше не могу.
– 80.
– Давай.
Володя полез в карман, достал бумажник.
– Коль, харэ тут шапито устраивать. Деньги есть?
Одолжи тридцатник.
Колино лицо пошло на вторую попытку осмысления окружающего мира.
– А че надо?
– Да вот… Куртку.
– Да ты что? Покажи ему ксиву, так отдаст!
– Ко-ля! Не хами! Котлеты отдельно, а мухи отдельно. Дай тридцатник!
– Нет.
– Есть.
– Нет.
– Коля!
– Ну на, – амбал полез в пиджак и достал из внутреннего кармана три красных червонца. – Дурак ты, Вова.
– Держи, – Володя добавил свои десятки и пятерки. – Пересчитай.
– Верю, – махнул рукой я.
Потом мы пили с Вовой водку. Потом потерялась Ленка. Потом нашлась. Потом вроде исчез Вова. Потом, может, и нашелся. Потом я пытался ломать пополам тарелки. Выходило плохо и только если об пол. За это, наверное, нас и выкинули. Потом не знаю. Потом была вспышка сознания, что я опять стою в будке и куда-то звоню. И протяжный вой Мундельсона, изведенного пятьсот первым телефонным звонком. Я засыпал, шевеля губами:
– Микроскоп, улыбка, негр, декалитр, еврей…
Пятая глава
Игорь сидел на остановке на Пушкинской площади и ждал троллейбуса. Утреннего солнца еще не было видно, оно находилось далеко справа, за бульварными деревьями со стороны храма Христа Спасителя и Москвы-реки. Но дрожь, охватившая глаза от ясности и прозрачности света, говорила о том, что день будет хороший.
«Значит, все-таки Полина… – думал Игорь, посматривая на пригорок Тверской, откуда должен был показаться транспорт. – Интересно, если троллейбус перевернуть вверх тормашками, то его рога станут ходулями! Он будет передвигаться на ходулях! Нелепо переваливаясь и почти до излома раскачивая кабину с пассажирами! Сальвадор Дали. Почти. Не могла же Полина вчера вот просто так говорить такие слова. Не суть важно. Главное другое. Что-то сдвинулось в этом мире. Угол падения уже не совсем равен углу отражения. Я же очень хотел именного этого: чтобы Полина развелась и вышла за меня замуж. А что, собственно говоря, она такого сказала?! Да ничего. И про меня там не было ни слова. Или было? И что делать? Или ничего не делать и продолжать жить?! Я же этого хотел. Очень хотел. И что теперь?!»
Самолеты в сине-бархатной выси продолжали свое беззвучное небесное шествие. На бульваре от утреннего ветерка перелистывались, словно облитые оливковым маслом, тополиные страницы, но их шелеста, как и рева самолетов, не было слышно. Какое-то цветное немое кино. В выходные в центре машин почти нет, поэтому огромная площадь свободно дышала, дробя и растворяя в себе все звуки.
«Да и летние люди на улицах гораздо добрее зимних, – заметил про себя Игорь, забираясь в подошедший троллейбус. – И лица у них более открытые, и стервозность не так явно прет. Сейчас хоть и весна, но люди уже летние. Или мне так просто кажется оттого, что позвонила Полина и все вдруг хорошо? А что, собственно говоря, хорошего? Как мне быть-то?»
Игорь ехал на Пироговку, на встречу с Митей, Дмитрием, психиатром, тем самым, который прислал ему роман. Вчера под вечер к нему все-таки приперся Николаша с вискарем, конечно. Игорь уже не пил, Николаша тоже особо не нажирался, читал роман, который ему подсунул он. Слушал Игоревы комментарии и изумлялся.
– Понимаешь, Коль, я же реально все это знаю, что этот псих описывает в романе! Знаю кафе «Маринка», ходил туда периодически, про комитетчиков там сто раз слышал! И людей этих знаю, понимаешь. Всех почти! Вот, смотри.
Игорь выложил перед Николашей лист бумаги со столбиком фамилий: Олег Соловьев, Алексей (Влад) Макаров, Андрей Носовский, Костик Кочергин, Димка (Агей) Агеев, Сергей Нерубенко. Артур (Арчи) Матикян.
– Ну и кто это? – отхлебнул виски Николаша.
– Я весь день думал, кто мог написать этот текст. Потенциально. Из тех, кто знал всех этих Люсек, Славиков, пиво в «Фитиле» и прочие «Маринки». И при этом обладал хотя бы зачатками разума, чтобы написать роман. Вышло вот что. Конечно, это чисто ориентировочно, домыслы. Если решить, что роман написал кто-то из наших.
– Он что, Путину куртку продал? – заржал, листая рукопись, Николаша.
– Не знаю.
– Гарик, а зачем тебе это нужно?! – Николаша отставил стакан в сторону. – Ну, представь, найдешь ты этого психа, сочинившего про путешествие во времени. И это окажется, возможно, кто-то из твоих бывших собутыльников, ну и что? Что дальше-то?
Игорь откинулся в кресло.
– Сам не знаю. Но чувствую, что мне это очень нужно. Очень. Что если я узнаю, кто это написал, то произойдет нечто, что изменит мою жизнь. Бред, конечно.
– Конечно, бред! – радостно подтвердил Николаша. – Еще какой! Слушай… А может, ты решил, что тот хрен действительно путешествовал во времени? Спьяну! А что?
Николаша веселился, его похмелившееся только к вечеру лицо уже потеряло маску сфинкса, вновь обретало человеческую мимику и теперь выражало крайнюю степень радости.
– Это я тебе мигом все расскажу! Как фантаст фантасту! – Николай уж откровенно ржал. – Проведем эксперимент! По-честному, на себе! Пьем-пьем-пьем, дня три, всерьез, потом чуть очухиваемся и темной-темной ночью идем на Кремлевскую набережную, прижимаемся к стенке, накрываемся плащиком, добавляем еще по чикамурику коньячку, чтобы очко от страха не гавкнуло, и… телепортируемся в 79 год! Как план?
– Зашибись, – мрачно ответил Игорь. – А вот интересно, плащиком-то накрываться зачем?
– О… Вот сразу видно, что не писал ты никогда научной фантастики! Потому лох. Полный. С точки зрения современной науки, перемещения во времени возможны, но для этого нужно распасться на атомы, ненадолго, передвинуть их со скоростью света в другое время и там скоренько собраться опять. В себя. Как понимаешь, сущая ерунда. Делов-то на пописать. Единственное, процесс распада человека на атомы – совершенно отвратительное зрелище, и проходящие мимо менты, полицейские в смысле, могут повредиться умом, для этого я и предлагаю накрыться плащиком! Токмо заботой о ни в чем не повинных полицаях. И об их детях, которые могут остаться сиротами при живых отцах-дебилах, коими они, безусловно, станут, увидев наш распад на нейтрино и хренино!
Игорь улыбнулся. Троллейбус напрягся и повернул направо, на Пречистенку. Он любил московские троллейбусы, а уж от трамваев просто млел. Особенно, как они тенькают и динькают на стрелках. Ни с чем не сравнимая радость – сесть в полупустой троллейбус, трамвай вечером, или в праздники, или в выходные, как сейчас, ехать и ехать по Москве без цели, без смысла, не думая ни о чем. Просто наблюдая из окошка мир.
Сейчас он, правда, ехал с целью. На встречу. Да разве это цель?! Так, бессмыслица. И он постоянно думал.
Скорее это были не мысли в чистом виде, а частички бытия самого Игоря. Мысли обычно существа отвлеченные. А для него они были как руки, ноги, глаза. Бесконечные думы. Бессмысленные и бесполезные. Он об этом знал, но ничего поделать не мог. Ну как можно добровольно вырвать себе глаз?!
«Вообще, – думал Игорь, – большинство мужских фантазий умозрительны. Это фикция, бальзаминовщина. У женщин – совсем не так. Ее фантазия – всегда руководство к действию. План. Который она, так или иначе, стремится исполнить. Очень даже жестко и целеустремленно. По своей, непонятной никому, кроме нее, логике. А мужичок, да еще среднерусский, – существо весьма и весьма романтичное. Вот даже у Гоголя. Вот по школьной версии в „Мертвых душах“ бесцельный мечтатель – только Манилов. Нет, там все мечтатели и сказочники! И Ноздрев, и Собакевич, и даже сам Чичиков. Как он себя ведет? Нет там целеустремленности и жажды наживы. Ему в кайф сам процесс. Он балдеет от людей, с кем сталкивается. А если уж еще и удается заработать между делом, то вообще отлично».
Троллейбус неспешно миновал старенькое здание школы, львов на домученовской ограде, слева мелькнула мемориальная доска поэту-партизану Денису Давыдову, дальше замаячили дикие по уродливости обрубки фигур псевдоеврейских музыкантов, сработанных артелью Церетели у Академии художеств. Справа показался памятник Сурикову, недавно поставленный на безымянной площадке, чуть не доезжая Садового кольца.
«Стоп, – что-то мелькнуло в голове Игоря, – это же здесь герой сидел. На лавочке. У магазина „Молоко“. Точно. Магазин здесь был. А дом еще называли „комитетским“, там, по слухам, жили кагэбэшники. Как все изменилось! Как странно, я ведь не специально сюда ехал. А вот попал».
Через несколько минут троллейбус затормозил на остановке. Цветочная клумба рассекала сквер Девичьего поля до тюльпанной крови. Чуть дальше, за стеной лип и кленов, уже на Плющихе, белел храм в старорусском стиле. Зеленое буйство деревьев скрывало очертания церкви, поэтому маленькие золоченые шарики куполов, казалось, парили в воздухе. Небольшой стадион за старомодной сеткой, звоном мяча, незлобным матом футбольных парней и каким-то особым, провинциальным песком на беговых дорожках навевал дачное настроение.
Игорь сразу узнал Митю, курившего на скамейке неподалеку от детской площадки. Именно так он представлял себе современного психиатра. Этакая небрежная ухоженность, слегка порванные джинсы вкупе с дорогими ботинками и несколько равнодушным лицом. На вид Дмитрий был его ровесником. Он тоже заметил Игоря и протянул руку.
– Привет.
– Привет, – ответил Игорь, – ты извини, Дим, что я тебя дергаю по пустякам. Да еще и в выходной день.
– Ерунда, – улыбнулся Дмитрий и достал новую сигарету. – Ты ведь о рукописи хочешь спросить?
– Да. Понимаешь, на меня она как-то действует что ли. Тревожно, непонятно, загадочно, короче. Я даже и читать-то могу только по главе в день. Страшно почему-то. Я ведь все знаю, что там происходит. Все эти переулочки, магазины, продавщицы дурацкие… Да почти всех персонажей знаю. Знал, точнее. Понимаешь, это мог написать кто-то из очень близких мне тогда людей. С кем квасили и вообще. Это не ностальгия дурная по эпохе и молодости, хотя и это есть. Это что-то свое, личное, до сих пор мне непонятное. Словно я нащупываю со стороны что-то необыкновенно важное, что изменит мою идиотскую жизнь. Но как изменит, зачем конкретно мне это нужно, я до сих пор не могу понять. Короче, я хочу найти автора. Расскажи про рукопись, как нашел, когда, ну и вообще. Понимаешь?
– Понимаю, – ответил Дмитрий. – Роман, да, занятный, хотя по объему это повесть, конечно, но не важно. Я сразу обратил на него внимание. Там ведь в шкафу много всякой макулатуры лежало. Муть. А этот выделился сразу. Я отдал рукопись девочке у нас в отделении, набить на компьютер. Он же от руки написан был.
– А сам оригинал?
– Его нет. Не могу найти. Девочка, которая набирала текст, уволилась. Да и она вряд ли бы стала беречь его, такого «творчества» у нас завались.
– Значит, автора установить сложно?
– Практически невозможно. Сколько людей проходит через клинику, потом непонятен год. Ясно, что не так давно, по косвенным причинам, но точно установить трудно. На рукописи, конечно, не было ни имени, ни фамилии. Герой там вообще под кличкой Сидор.
– А как это, в принципе, могло произойти? Человек написал или принес с собой?
– Да могло быть и так, и так. Может, вообще пациент привез чьи-то чужие бумаги, типа, почитать. Но…
– Что значит «но»?
– А ты сам-то как думаешь? Кто мог написать? Если говоришь, из знакомых кто-то?
Игорь достал из портфеля листок бумаги с фамилиями. Митя быстро пробежал глазами.
– Все правильно.
– Что, что правильно-то?
От порыва ветра с огромной голубой елки прямо перед ними спланировала сорока. Игорь никогда до этого так близко не видел сорок. Удивительно яркое, белое с сизым мультяшное оперение только подчеркивало необычность визита птицы. Сорока, наклонив голову, пронзительно смотрела на него, словно чего-то ожидая. Игорь тоже, не отрываясь, смотрел на диковинную птицу. Он подумал, что ни хлеба, ни семечек у него нет. Сорока продолжала ждать. Казалось, она хотела что-то рассказать или спросить, наконец по деревьям снова зашелестел ветер, сорока словно очнулась, скрипуче гаркнула и, тяжело махнув крыльями, исчезла.
Очнулся и Игорь, ему казалось, что прошла уйма времени, час, два, но, посмотрев на пепел Митиной сигареты, понял, что безмолвный диалог с птицей длился секунды.
– Что правильно? – переспросил Игорь.
– Тебя вот не удивило, что я именно тебе прислал этот текст? – как-то настойчиво посмотрел ему в глаза Митя.
– Ну… Удивило сначала. Подумал, что тебе что-то Женя рассказывала о моих неудавшихся литературных опытах. И потом я много прозы перевожу, то есть, ну, имею к этому отношение. Хотя, конечно, с какого перепугу именно мне.
– Все так. И про переводы я знал. Только дело не совсем в этом. Давай я тебе расскажу одну историю.
Жил-был человек. Не без способностей, может, даже талантливый. Поступил в институт, медицинский. Увлекся психиатрией. Всерьез защитил кандидатскую. Потом докторскую. Еще при Союзе стажировался в Швейцарии, были тогда такие редкие удачи, потом работал в ЮНЕСКО. Потом по линии космоса. Именно тогда он и влюбился. С первого взгляда и навсегда. Просто наваждение какое-то. Как школьник, ходил под ее окнами, смотрел, как она ходит по квартире, ждал у работы ее.
Ей было двадцать четыре, ему уже под сорок. Он – замдиректора огромного медицинского центра по аэрокосмической медицине, она – студентка филфака. Потом она согласилась выйти за него замуж. Он стал самым счастливым человеком на свете, так ему казалось, по крайней мере. Она окончила универ, устроилась работать в редакцию одного бестолкового журнала. Сразу заводить детей она не захотела, мол, успеем, и он согласился. Ему казалось, что они были счастливы, ну, он-то точно был счастлив. И слепо отмахивался от доброжелателей, которые ему долдонили, что у его жены производственный роман. Он верил ей и только смеялся над сплетниками. Он продолжал верить ей, когда она стала часто задерживаться на работе, когда она начала часто оставаться ночевать у подруг, когда вдруг стали возникать неожиданные командировки. А однажды она пришла к нему и сказала, что любит другого. Фотографа из той редакции. И они уже давно вместе. А она просто не хотела его расстраивать, зная, как он ее любит. Но сейчас произошло страшное. Фотограф этот был наркоманом. Героиновым. И в очередную ломку вышел погулять из окна. Разбился, естественно, всмятку. Собирали веником в совочек. Поломано все, позвоночник, череп, ноги, внутренности отшибло все. Но остался жив.
И вот, она говорит, что она любит его такого еще больше и не может оставить одного. Психиатр чуть не сошел с ума.
Игорь слушал Митю и смотрел на стадион, где девчушки в спортивных трусах и маечках, на вид лет тринадцати-четырнадцати, класса восьмого, готовились к кроссу. Девочки строили друг другу рожицы, смеялись и походили на взъерошенных воробьев, неожиданно обнаруживших, что у них выросли страусиные ноги. Некоторым уже явно мешала вполне развитая грудь, с которой они не знали, что делать. Они очень стеснялись и одновременно внутренне гордились обретением нового женского естества.
Дмитрий проследил за взглядом Игоря и продолжил:
– Да, именно, чуть не сошел с ума. Потому что она была единственным смыслом его жизни. Он оставил жене квартиру, дал развод и ушел в никуда. Начал пить, вылетел из своего аэрокосмоса. Со временем кое-как взял себя в руки, через знакомых устроился в психбольницу завотделением. А она самоотверженно ухаживала за новым мужем, они поженились. Он даже начал поправляться, хотя и не ходил, она умудрилась даже зачать ребенка от него, родила. А у него вдруг наступило ухудшение. Почти совсем перестал двигаться. Овощ-баклажан. И от отчаяния фотограф опять начал колоться. Дружки-закадыки приносили. А она начала тихонько сходить с ума, поняла, что взвалила на себя непосильную ношу, любовь-то безумная прошла, а что делать с этим еще человеком, непонятно. Ее бывший муж-психиатр знал об этом, ему рассказывал ее отец, как она ревет и не знает, что делать. Однажды у фотографа после очередной дозы проснулись нечеловеческие силы, и он повторно сходил в окно. Теперь уже наверняка. Больше не собрали. Вот так.
– Жуткая история, – Игорь пристально посмотрел на Митю. – Но какое она имеет отношение к рукописи, ко мне?
– Да прямое, – Дмитрий опять закурил. – Я же и лечил этого фотографа последнее время. Она попросила. Прямо в моей бывшей квартире. И чтобы хоть как-то отвлечь его, вызвать у него другие эмоции, отличные от желания дозы, я и дал ему прочитать этот роман. Он сразу заинтересовался, потому что тоже стал узнавать родные для него места. Как и ты. И он тоже много думал, кто из его приятелей мог написать. А незадолго до полета указал на тебя. Так и сказал: «Пообщайся с Игорем, он наверняка знает», – и назвал твою фамилию. Так что это, считай, его последняя воля.
У Игоря нехорошо завибрировала синяя ветка на виске.
– Как его звали?
– Андрей Носовский. Один из твоего списка.
Замерший Игорь хотел перекреститься, но почему-то подумал, что неудобно как-то здесь, на улице, перед всеми прохожими и Митей. Потом взгляд его поймал золотые купола церкви, ветер раскачивал верхушки берез, и купола то исчезали, то появлялись. Он увидел мелькнувший из-за веток крест и вдруг вспомнил поговорку: «Если ты постесняешься Бога, то и Бог потом постесняется тебя». И все же перекрестился. Подумал и, на всякий случай, перекрестился еще раз.
– Господи, я же хорошо знал Андрюху. Мы не виделись, конечно, лет двадцать, а до этого мы даже дружили одно время. Он испанский учил в инязе. Потом, по-моему, в Африке был, по военной линии. Потом не знаю. Странно, как его в фотографы занесло. Хотя ничего странного. Многих разбросало. Когда это случилось?
– Да, – кивнул Митя, – жизнь кидает. В январе. Под Старый Новый год. В Африке он и сел на наркоту. Я много раз задавал себе вопрос: почему так все произошло? Я же любил ее. Очень. Почему она ушла к нему?! Наверное, она меня никогда не любила. Или я чего-то не понимаю. Скорее всего, слишком мягкий человек. А он суров, брутален, даже груб откровенно иногда. Женщины инстинктивно тянутся к жесткости. Даже жестокости. А я оказался слишком плюшевым и воспитанным. Что психиатру совсем не положено. Да и просто человеку тоже. Плохо быть добрым. Женщины не прощают, когда в них видят людей. Ну ладно, – поднялся Митя, – мне пора. Андрея Носовского можешь вычеркнуть из своего списка. Только зачем ты это ищешь, все равно непонятно.
Игорь тоже поднялся и протянул ему руку.
– Спасибо.
– Не за что.
– Слушай, Мить, еще вопрос. А мог Андрей все же написать это? Ну не знаю, в дурке же он был, как я понимаю. Написать и забыть. Такое может быть?
– Ну как тебе сказать. Психика человека – тонкая материя. А где тонко, там и рвется. Где псих, где не псих, установить крайне сложно. Нам на кафедре профессор Вулых рассказывал притчу. Вот, допустим, живет некое общество. В нем двести сумасшедших. Их отловили, изолировали на необитаемом острове. Чтобы нормальным людям не мешали. Те там прижились, дальше с ума сходят. Потом посмотрели, среди этих двухсот человек пятьдесят – ну явные психи, а остальные-то вроде ничего. Нормальные по сравнению с теми пятьюдесятью. Тогда подумали, и этих сто пятьдесят возвращают назад, в общество. Но ведь они как были психами, так и остались!
– Это ты к чему?
– А к тому, что кто что мог сделать в бессознательном состоянии, толком неизвестно. И что есть сознательное, что бессознательное – сложно определить. В нашей литературе описана пара случаев. Но твердо сказать сложно.
– Ясно. Спасибо еще раз.
– Да не за что. Вряд ли. Звони, если что понадобится.
Дима кивнул головой и пошел по аллее по направлению к массивному зданию военной академии.
Игорь долго и нудно пытался уехать домой. Троллейбусы куда-то исчезли, он ждал уже больше часа, уставившись в дебильную груду гранита, означающую памятник Льву Толстому. Игорь вдруг увидел себя со стороны. Эта ссутулившаяся фигура, его фигура, жутко напоминала Форреста Гампа. Сам фильм не то чтобы очень нравился, но эпизод с сидящим на остановке Форрестом врезался в его мозг.
Мысли бродили и бродили внутри страшного рассказа Мити о его бывшей жене и Носовском. Он же действительно дружил с Андрюхой, выпили тонну всего, да, вспомнил вдруг Игорь, в милицию тогда загремели, он обмочил спьяну колесо ментовской машины.
И все это исчезло в один миг: смех, память, жизнь, – из-за банальной наркоты? Чтобы выйти вот так в окно? Да, но в его жизни была любовь. Настоящая. Или не настоящая? Как странно все устроено.
«Вообще, – трясся потом в троллейбусе Игорь, – человек – существо аморфное. Такая масса, бурда, еле мыслящая. Без физической формы. Но возникает любовь и, как магнитное поле собирает железные опилки в определенную структуру, так и человек в любви превращается из биомассы в существо. С руками и ногами. То есть любящий его человек, думая о нем, создает ток, напряжение поля и держит его форму. Внешнюю и внутреннюю. Даже так – как человек думает об объекте любви, тем он и становится. То есть меняется не только морально, но и чисто физически. А когда любовь заканчивается, это – как выключили ток в электромагните, человек опять превращается в кучку опилок, мусора. Ну или в бесформенный пластилин, какая разница!»
Ночью Игорь долго не мог заснуть, мучительно вертя нагретое телом одеяло. Бездушная подушка яростно сопротивлялась и не хотела принимать форму головы. Все было как-то не так и не то. Он вдруг понял, что хочет чего-то большего. Даже не Полину, даже не детей с ней, о чем он тоже мечтал, а что-то другое, трудно объяснимое, огромное, составляющее суть его жизни. Как ни пытался он сформулировать это нечто осмысленное, так и не смог.
Внутреннее зрение рисовало ему какие-то обрывки тумана, покрывающего город. Даже не покрывающего, а разбросанного комками по центру Москвы, висящего в воздухе около подворотен, на кронах деревьев, у слива водосточных труб. Это вот и было Оно. Его желание, мечта. А заглянуть внутрь этого тумана было страшно, но очень хотелось. Он знал, что рано или поздно ему позволят это сделать и узнать, что это, что там на самом деле. И к чему он так стремился.
Он уже пытался насильно заставить мозг отплыть далеко-далеко, как вдруг его пронзила страшная мысль: «А как же Полина? Она же сейчас… с мужем!»
Сон вылетел из башки. Игорь резко приподнялся, замер, потом опять лег и некоторое время лежал в темноте, не шевелясь, открыв глаза и уставившись в сторону черного ночного неба. Удивительно, но за все годы, что он любил Полину, у него ни разу не возникало ревности. Почему? А сейчас?! Да вот же, вот оно! Совсем незнакомо-упругое существо – ревность! Что изменилось за эти сутки? Да ничего же не изменилось. Ну позвонила, рассказала про то, что ошиблась, но про него-то ни слова. Ни слова! Мало ли в чем она ошиблась. Странно все это.
Он засыпал и почти физически ощущал ее грудь, прижатую к спине другого человека, но тот спит и совсем не чувствует, как ее соски впиваются рыболовными крючками в его кожу. А Игорь вздрагивал от боли.
Шестая глава
«Несколько дней одного года»
День третий
Это был кошмар. Ночью комары меня не просто жрали! Они меня жевали и выплевывали! Как это… Пиццикато комаров. Откуда я знаю слово «пиццикато»? Ай, да ладно. Что же было вчера? Какое-то мельтешение лиц. Выпуклое лицо Вовы, битые тарелки, крики доведенного звонками Мундельсона. Что еще? Что-то было еще. Важное. Не помню.
Ночью опять кто-то огромный меня лизал. А может, и нет. Но что-то большое черное и влажное маячило перед лицом. Или не маячило. Нет, все-таки откуда у меня по утрам второй день эта жуткая рожа? Бесы? Какие нафиг бесы? Куролесы. А путешествие с пьянкой в прошлое – это как, в порядке утреннего променада?! Ладно. Чем же вчера все кончилось? Видимо, да точно, дошел до этого Виталика. Потому как матрас тот же.
Просто свет выключили вчера в этой «Маринке», а сейчас включили. И то не полностью. Но это было хотя бы как-то объяснимо. Не боишься ты зараз, если пьешь портвейн «Кавказ». Горестно, но очевидно. Недоумение вызывало другое. Нахождение женского тела рядом. Живого и, судя по всему, голого. Хотя и скрытого от меня какой-то попоной а-ля одеяло.
Прохладный утренний свет струился из окна. Было видно, как он постепенно заполняет комнату. Нехотя, понемногу, но неотвратимо. Но в гравюрных очертаниях раннего утра разобрать, что именно за тело находится рядом со мной, было невозможно.
Осторожненько, чтобы не поднять одеяло и не увидеть, кто там находится – страшно же, – я выскользнул из лежбища в сторону, встал на карачки и заковылял к двери. Только там, схватившись за косяк, поднялся и вышел в коридор.
Коридор, обезображенный пятью заплатками дверей, выглядел жалко. Одна дверь была приоткрыта, и бурчащая про себя вода сигнализировала, что цель моего путешествия там. Что же мне так страшно? Почему этот дурацкий бачок под потолком, ржавая штанга трубы так напоминают мне гильотину? Почему же я все время пью здесь, в прошлом? Это же мое прошлое. Или не мое? Может быть, есть отдельное «вообще прошлое», все то же самое, но меня нет?
Вот звоню же домой. Там этот полоумный деятель культуры. Заслуженный. Хотя почему он полоумный – он как раз нормальный. Это я никакой. Никакой. А что делать? Надо найти себя. Здесь. То есть там. Не может же быть, чтобы меня совсем не было. В конце концов, должны же быть родители, родственники, ну, в школе приятели… Какой бред. Получается, я удивлен, что не нахожу себя в прошлом, а то, что я сейчас нахожусь в этом самом прошлом, это, выходит, уже нормально?!
Вода рванула вниз. Норовя даже выскочить за пределы унитаза. Точно-точно, я же таким образом попал сюда! Дернул там у себя за сортирную цепочку и переместился! Может, и сейчас, а… Назад…
Я дернул еще. Поток опять хлынул в фаянсовую чашу. Покряхтел и иссяк. Все осталось по-прежнему.
Открыв дверь комнаты, я увидел сидящую на моем матрасе голую Ленку. Она задумчиво рассматривала полуоторванную подошву на тапке. Тем самым как бы элегантно прикрывая от гипотетических дерзких взоров потрепанную, но еще вполне живую женскую грудь. Значит, с ней. Ну, может, и хорошо. Могло же быть еще хуже. Ленка вздохнула и подняла глаза на меня.
– Сердце лифчик рвет на части, где ты бродишь, мое счастье! – укоризненно покачала головой девушка, оторвалась от тапка и достала из-за спины бутылку портвейна.
У меня ощутимо дернулся глаз. Ленка, совершенно не стесняясь, встала и пошла к столу, где переливались в лучах восходящего солнца грани стакана. Стоявшая рядом чашка, наоборот, грязным фаянсом глушила утренние лучи и выглядела мрачно и обреченно.
Я продолжал, как дурик, стоять в дверях, пытаясь оценить ситуацию.
«Интересно, я трахался с Ленкой или как… Что „или как“?! Ну или просто… Не вздумай спросить! Герой-любовник! А она, кстати, не так уж и стара. И не так уж и плоха. Тело-то совсем молодое. Личико, конечно, опухшее… Но…» – все это мгновенно пронеслось в голове.
– А где Виталик? – наконец произнес я. Рассматривая линию ее тела. А на что мне еще смотреть? На портвейн?
Я видел, что Ленке нравится ощупывающий ее взгляд.
– Мы его в театре оставили, – Ленка чпокнула пробкой от портвейна, поддев ее ножом.
– В каком театре? Мы были в театре?
– Конечно. В филиале Моссовета. Там же Вит работает. Ну, мы и зашли. После «Маринки». С Вовой-комитетчиком. А Виталика за сценой положили. Что ему таскаться туда-сюда. У него утром репетиция. А потом жрали коньяк с Раневской.
– Какой Раневской?!
– Какой… Фаиной Георгиевной, конечно.
– Как? Она же умерла давно! В смысле… Не может быть.
– Может. Думаю, она жива-здорова. Она пить умеет. Кстати, она же тебя завтра на спектакль пригласила. На главную сцену. «И дальше тишина…», спектакль. Там Плятт вместе с ней играет. Пойдешь?
Я сел за стол. Голова не то что кружилась… нет, просто ходила ходуном. Раневская, коньяк, трахал какую-то алкоголичку, хотя почему алкоголичку, нормальная девка, куртка. Я же куртку продал этому лысоватому Вове-комитетчику! Где-то я его видел раньше. Или позже. Опять дурь. Я резко махнул три четверти чашки портвейна, налитого мне Ленкой.
– Легче? – участливо склонив голову, посмотрела мне в глаза Ленка.
Я неопределенно мотнул головой. Она тоже кивнула и налила еще с полчашки.
Ленка тоже тяжело вздохнула, зажмурилась и проглотила свой портвейн. У нее выступили слезы, она смешно замотала ладошкой.
– Все. Пора на работу. И так уже опоздала.
– Ты работаешь?
– Конечно, – рылась на нашем лежбище, видимо, в поисках трусов девушка. Потом махнула рукой. – Фиг с ними.
Она потопала, как была, в коридор. Минут через десять она появилась уже в джинсах, новой футболке, слегка накрашенная и с относительно здоровым румянцем на лице. Я совсем забыл, что она живет в той же квартире, что и Виталик. В другой комнате.
– Ну я пошла, не скучай.
– А ты где работаешь?
– Тут рядом, в Мансуровском, в конторе одной. По технике безопасности.
– Как же ты пойдешь? Запах…
– Да ерунда. Сделаю губки писей и вперед. Вот тебе ключ входной, а комнату витовскую просто прикрой, тут все свои. Приходи, я буду ждать.
Мы допили остатки бутылки. Она протянула мне плоский ключ. Такие раньше назывались английскими. Я кивнул.
Девушка ушла. Оставив в комнате мимолетный запах свежего портвейна. Как интересно. Теперь в прошлом, там, в смысле тут, у меня уже есть ключи от квартиры.
День ширился, ускорялся, мчался к полудню. Я посмотрел на календарь. Понедельник 21 мая 1979 года. Неожиданно над крышами домов напротив резко, с металлической болью крикнула чайка. Я вздрогнул. Огромная грязновато-белая птица по-куриному сидела на скате соседней трехэтажки. Откуда? Хотя ну да. Забываю, что тут совсем рядом Москва-река. Ее взгляд был настолько пронзительным, что я почувствовал себя неуютно. Словно это не она смотрит на меня, не отрываясь, желтыми с красным ободком глазами, а я трусливо и подло подглядывал за ней. И она это заметила. Чайка была сильней меня, это я понял. Наконец птица презрительно раскрыла огромные, тяжелые крылья и одним взмахом вылетела из моей жизни.
Так. Что же делать?! Я впервые после попадания в прошлое, точнее, неизвестно куда, остался один. И что теперь? Долго ли продлится этот кошмар? Я поднял брошенные на пол джинсы. В заднем кармане лежали смятые десятки, пятерки, рубли. Много. Это были остатки улова после продажи куртки. Шестьдесят четыре рубля. Вполне приличная сумма. Аванс на нормальной работе в то время. Ну примерно, как мне помнится. Нехотя натянув шмотки, я вышел на улицу.
Интересно, все-таки меня там кто-то ищет или нет? Допустим, та же Ольга. Вряд ли. Я столько раз запивал-загуливал на куда более длинные сроки, и ничего. А тут нет меня всего ничего. Пару дней. В сущности, меня никто никогда и не ждал. В детстве родители, но это не считается. Вообще надо, чтобы не только кто-то ждал тебя, а и был рад тебе. Но это в идеале. Интересно. А здесь вот меня уже ждет Ленка. Любопытно. А может, она фантом? Фикция. Как и все вокруг? Ну не может меня нормальный человек ждать. Не может.
Сколько я уже здесь? Третий день, что ли. Я не понимаю. Ясно, давно ясно, что на свете нет бессмыслицы. Как человеку ни хотелось бы белиберды и бесцельности, а человеку жутко хочется бесцельности, этого нет. Все определено. «Просто так» давно отменено. Смысл есть и в комарах, терзавших меня ночью. Только пойми какой. А и не надо понимать. «И никто нам не поможет, и не надо помогать!»
Я по Метростроевской выходил к Садовому кольцу. Солнце накрыло город по самые крыши. Люди, улыбаясь, радовались московскому теплу. Заметил, что в своей красной майке с испанским быком и в джинсах я абсолютно не выделяюсь среди прохожих. Словно я не приперся из нелепого двадцать первого века, а тутошний, роднее некуда.
Очень странно и интересно. Вот спроси любого встречного-поперечного, как он представляет себе второе десятилетие двадцать первого века, он столько белиберды нанесет. Подцепленной из книжной серии «Библиотека советской фантастики». Машины, летающие по воздуху, самодвижущиеся тротуары, обжитые Марс с Луной, победа человечества над раком и другими болезнями. Некоторые наверняка расскажут бредятину про коммунизм и мир на всей планете!
А ведь этого ничего не будет для идущих мне навстречу людей. Не будет. Я же это точно знаю. Интернет, пожалуй, и мобильники, вот и все изменения. Хотя и это изобрели еще в 1960-х годах, а только в конце двадцатого века сумели наладить массовое производство. Удивительно, насколько наивен человек. Мимо меня гордо и тоже явно похмельно прошествовал высокий кудрявый парень в дорогом черном костюме «тройка». Скорее всего, студент иняза. На военную кафедру там заставляли ходить в костюмах. Было видно, что ему муторно и тяжко, но он самоутверждающе и обреченно нес голову в институт. Поравнявшись, я услышал, как тяжело он дышит. Он прошел мимо. Я почему-то обернулся. Показалось, может, кто из знакомых. На спине удалявшегося студента сиял отпечаток сапога. Большого размера. Наспинный орден. Я почему-то позавидовал этой легкости бытия.
Ладно. Надо со своими мыслями разобраться. Ну, вопрос… А что, думать, как мне жить в собственном прошлом? Причем, судя по всему, в котором меня и нет. Это, конечно, чушь. Я должен быть. Вот он я. А если я есть сейчас, то я должен быть и в прошлом. По идее. Чушь какая-то.
Надо спокойно позвонить Мундельсону. В смысле не этому деятелю культуры, а мне, мне! Скорее всего, неполадки на линии, на телефонном узле, сошел с ума сервер, взорвалась подстанция – да что угодно! Я должен там жить!
Я топал вперед. Обилие «Волг» и «Жигулей» уже не задевало взгляд, как в первые часы пребывания здесь. Да и вообще я очень быстро привык к обстановке.
Я шел и шел по Садовому кольцу. Уже справа от меня зеленел чудесный сад «Аквариум». Я бы сказал, очень нежное место. Какое-то трогательное. Когда там гуляешь, все время боишься корявым движением или словом разрушить что-то зыбкое, еле уловимое, висящее в воздухе этого парка. И поэтому очень дорогое.
Вспомнил о приглашении Раневской. Чудеса. И театр «Моссовета», главное здание, вот тут, за деревьями. Надо идти, конечно, другого раза может не быть. «Может»? Смешно. Неведомая сила, взявшая меня в оборот, вдруг возьмет и выкинет меня взад, в чахлый двадцать первый век, и я так и не увижу Плятта с Раневской на сцене.
Перебрался на другую сторону улицы Горького по подземному переходу на Маяковке. Там крутейшая лестница вверх. Видимо, ее встраивали в уже находящийся там дом. Поэтому так строго вверх она и встала. Наверху на выходе всегда раньше продавали пончики. Точно! Вот и они. Я вдруг вспомнил, что несколько дней ничего не ел. Только пил. Ну и сырок какой-то плавленый. И салат на днях. Все.
Пончики пахли. Купил полкило за 20 копеек. Я нес огромный кулек, да, да, именно кулек, мы отвыкли от этого слова. И самого понятия. Грубая серая бумага пропиталась пончиковым маслом. Оно жгло и превращало руки в скользкие клешни раков. Сахарная пудра сыпалась на джинсы. Тесто плавило нёбо. Это был кайф.
Люди шли мне навстречу по своим людским делам. А какие дела у меня? Непонятно. Интересно, там, у себя во времени, я однажды заметил, что большинство встречных-поперечных людей младше меня! Это был шок. Я тогда был потрясен этой банальщиной. Что все продавщицы, девки с колясками, водители троллейбусов, просто идущие навстречу мне люди младше меня! Понятно, что не все до единого. Но случайно проскользнувшая старушка только усиливала эффект.
А тут, в 79-м, что получается? Что и этот мужик в черном рабочем халате, видимо выскочивший из конторы на обед, и та тетка в окошке, отпускавшая мне пончики, скорее всего, уже трупы? Или древние пердуны? И как эти трупы с пердунами еще и улыбаются мне на улице? Плывут мимо меня со своими мыслями, заботами. А вот интересно, мысли людей в 79-м отличаются от моих мыслей? И куда они делись, мысли этих людей, идущих по улице Горького, черт-те сколько лет назад? Куда вообще деваются мысли? Ведь если мысль материальна, то сколько же бракованной ненужной материи вокруг! Или нужной.
Да, я продолжаю быть старше прохожих, но… Они же в реальности все старше меня на несколько десятков лет! Я даже остановился. Значит, и Ленке, с которой я спал, под семьдесят? А Виталику за восемьдесят? Какой бред.
Справа по ходу мысли торчал ресторан «София». Я потоптался у входа. Помнится, здесь было удивительное блюдо. Ассорти из молодого барашка. Приносили прямо на жаровне. Ставили на треноге перед тобой. Мясо, обсыпанное по бокам жареной картошкой и зеленью, искушающе шипело. Стоило дорого, рублей шесть, но втроем обожраться. Да почему я говорю «было»? Оно есть. Было – это же теперь, это сейчас. Странно как-то это. Нет. Или зайти? Нажрусь скоропостижно, и все. Ку-ку. А что, у меня дела? Нет. Да. Надо ехать домой. К тому дому, где я, по теории, должен жить. Если мир не перевернулся. А так как я нахожусь, между делом, в 1979 году, то он перевернулся. И там теперь обитает некто Соломон Козьмич. Следовательно…
На «следовательно» я уже заходил в кафе «Охотник», расположенное строго прямо по курсу, справа по улице Горького. Вот дурак. В «Софию» не пошел, а в «Охотник», не раздумывая, ввалился. Я сел в первом зале у окна. Народа почти не было. День. Заметив меня, покачиваясь от полноты, подошла официантка.
– Добрый день.
– Что у вас есть?
– Все.
– В смысле?
– Все. Пиво, водка. Кроме тетеревов. Их нет. В конце месяца только.
Я листал туда-сюда две странички меню в глянцевой желто-белой обложке.
– А перепелки?
– Есть.
– Парочку.
– Там есть нечего, в парочке. Возьмите лучше отбивную обычную. Свинину или медвежатину.
– Нет! Перепелки. Четыре. И сто пятьдесят «Охотничьей». Нет, двести пятьдесят. Нет, триста. Триста граммов «Охотничьей» водки. И сок. Томатный.
Официантка снисходительно хмыкнула и закосолапила на кухню. Через мгновение она принесла графинчик с коричневой маслянистой жидкостью и рюмку. Я хорошо запомнил именно эту «Охотничью» водку и перепелок. Мы сюда заходили с другом Серегой – когда? Чуть позже, чем сейчас, году в восемьдесят третьем. Те времена были устоявшиеся, незыблемые. И обстановка в кафе в 79-м мало чем отличалась от 83-го. Разве что официантка прибавила-убавила четыре года.
– Перепелки готовятся…
– Хотя бы сок… И минералки!
Официантка кивнула и принесла граненый стакан томатного сока. Черный хлеб лежал в корзинке на столе. Чуть позже передо мной появилась бутылка «Бжни».
Налил в рюмку, тупо посмотрел в стену, вылил в рот жидкость. И чуть не задохнулся. Через минутную панику в организме водка провалилась куда-то и мягко ударила в ноги. Которые сразу потеплели. По крайней мере, так показалось. Именно в ноги. А не в голову. И сидеть стало мягче и комфортней.
Тяжелая бордово-коричневая штора наполняла зал пылью. Я уставился в окно. Справа, на улице, торчал телефон-автомат. Позвонить Мундельсону сразу или потом? Не складывалось у меня в голове его проживание в моей квартире. В моей? Что значит моей?! Значит, и этот мир, реальный или нереальный, тоже мой? Вот «Охотничья» водка. Реальна? Да. Значит, через вкусовые ощущения я признаю, что вся абракадабра, вдруг окружившая меня, и есть моя Москва, моя родина. Интересно. А зависит ли понятие Родина от времени? От эпохи? Изменилось мое отношение к Родине с перемещением во времени?
Моя Родина – что? СССР, который – вот, за окном шуршит автобусом «Икарус», темнеет водкой и машет крылышками перепелок, которых мне сейчас принесут? Мелодия про кози фай, кози фай, кози фай из раздолбанного магнитофона «Весна», торчащего вон там, в углу зала на грязноватой скатерти? Или Россия, кусок вырезки из СССР, где я обитаю, обитал, точнее сказать, три дня назад?
Я вспомнил, как месяц назад, еще в прежней жизни, в двадцать первом веке, шел по Пушкинской площади. Свернул в длинный проход под арками к Козицкому переулку. И расстроился дико. Дело в том, что давно-давно, где-то рядом с нынешним 79-м, мне дали в той подворотне по шее. Точнее, по носу. Я был серьезно пьян, и мне было обидно. Потому как по роже мне сунул человек, с которым я только что выпивал. Я стоял, покачиваясь, у стены и ревел. Именно от обиды, потому что боли я не чувствовал. Какая нафиг боль после четырех портвейнов! Она пришла потом. Я хватался за окровавленный нос, облокачивался на стенку, страдал, одним словом. Так вот, своей молодой и глупой кровью я тогда случайно измазал всю стенку. Случайно. Когда много позже, лет через пять, проходил опять этой аркой, с удивлением обнаружил свое пятно. Такой автограф Миро, клякса в виде лопнувшего аэростата. И был поражен. Как это уцелело?
Потом текли годы, армия, университеты, просто жизнь, а это пятно все оставалось на своем законном месте. Оно стало моим паролем, талисманом, моим генетическим банком. Прочитав как-то о бреднях генетики, подумал, что в будущем меня можно клонировать по этим бурым, выцветшим разводам. Я регулярно топал мимо той стены, размышляя о наскальных рисунках в каменном веке, когда волосатые головорезы, пачкая грязные пальцы в кровище, изображали стада мамонтов-бройлеров. Лет двадцать пять, да больше, проходя мимо этого пятна, я думал о подобных бредятинках.
Но однажды, зайдя в этот проход, увидел, что стена побелена. От моих художеств не осталось и следа. Теперь это задник летнего кафе. Это был шок. Я понял, что именно та кровавая размазня и олицетворяла мою Родину, ради которой идут в бой, на смерть, рвутся в космос. А сейчас Родина кончилась, ее замазали. Странно, странно. Получается, что обида, боль, кровь – это любовь. К Родине? Такая же цепочка выходит. Или что-то другое, и это пятно на стене было лишь маркером моего присутствия на свете?
К чему я это вспомнил? К тому, что я боюсь ехать в «свой» дом, к Мундельсону, вдруг он там и правда живет. К тому, что принесли четыре тельца карликовых воробьев, именуемые здесь перепелками.
– Мне в цирк к семи. Хорошо бы успеть.
У меня за столиком материализовался человек.
– К семи, – повторил человек, посмотрел на часы и положил рядом с собой зеленую дерматиновую папку. Человек был в меру ушаст, слегка волосат и с собранной складками кожей на лбу.
«Ну вот, – понял я, – опять сегодня нажрусь». Это очевидные симптомы. Уши, цирк, зеленая папка.
«Синий синий и-иней лёг на провода-а, в небе тёмно-си-инем синяя звезда, только в не-еебе, в небе тёмно-синем».
Я трус. Никуда я не поеду. Ни к какому Мундельсону. Потому что боюсь осознать реальность, что меня в этом мире не видать. Судя по всему. Хотя посмотрим. Это я опять от трусости себе говорю. А буду сейчас пить с ушастым. И с цирком он пролетит.
«Синий поезд мчи-ится ночью голубой, не за синей птиицей еду, за тобой, за тобо-ою, как за синей птицей».
И-ййййяя!
Мелькнула мысль – а ведь в проходном дворе на Пушке сейчас еще нет моего кровавого пятна на стенке, по морде мне дали позже, а в том времени, где я вроде как на ПМЖ, его уже нет. Стерто и закрашено. Совсем как я, ни там, ни здесь.
«Ищу я лишь её, мечту мою, лишь она одна мне нужна-а. Ты, ветер, знаешь всё, ты скажешь, где она, она, где она».
А-аааа.
Седьмая глава
«Несколько дней одного года»
День четвертый
В доме напротив стукнуло открывающееся окно, зайчик резко резанул по глазам, и я окончательно проснулся. Первое, что понял – я спал в ботинках. Через мгновение картинка жизни стала еще отчетливей. Я спал на лавочке в ботинках. И стало ясно где.
Солнечные лучи прорезали до самого ила гладь Патриаршего пруда. Или, по-московски, Патриарших прудов. Хотя пруд-то вот он, один-одинешенек. Иногда солнце находило на дне какую-нибудь дребедень, типа донышка стакана, отчего стекляшка немедленно вспыхивала сквозь воду искренней радостью. Вдруг я понял, что это чистая литературщина. Пруд, осколки, солнце. Так видят картинку мои начитанные мозги. Штамп. Реальность другая. А какая? Описать реальную картинку много читающему человеку очень сложно. Хороши мои похмельные мысли, нечего сказать!
Интересно, как я сюда попал? Хотя кому это интересно. Мне? Нет. И так все ясно. Не дошел до Виталика. Как занимательно, я уже воспринимаю комнату неведомого мне монтировщика малой сцены театра Моссовета как собственный дом. Жилище. Бред.
Просто понятие «дом» для меня всегда было очень болезненным. Я со школьных времен с завистью смотрел на одноклассников, у которых была своя комната. Детские обиды самые важные, это очевидно. До сих пор помню, как в нашей комнатушке в коммунальной квартире на двадцать два человека, где я жил с родителями, ставил себе посредине кровати швабру и накрывал ее скатертью. Это и был мой дом.
Прошло лет сорок, уже нет отца, а, в сущности, ничего не изменилось. Я не обрел дома. Та же палка со скатертью. Только она не в реальности, а в башке. Часто думаю, что «дом» – это удел взрослых, а я им так и не стал. И уже не стану. Это надо признать. Хорошо это, плохо? Кто знает.
Я начинаю понимать, что мой дом – это все, что вокруг. Эта вот лавка, Патриарший пруд, да много чего разного вокруг. Причем это не космополитизм никакой, нет. Совсем другое. Мне не все равно, где быть. Должна быть конфигурация пространства особая. Моя. И, как выясняется, нужно еще определенное время. Вот хотел бы я вместо закидона в семьдесят девятый попасть в будущее лет на сто вперед? Нет, конечно. Там ничего моего и подавно нет. Или куда-нибудь типа войны двенадцатого года? Да там уж точно нефиг делать. Кто я там?! Так что дом равен времени больше, чем месту – вот что важно. А похмелье, милый друг, еще важнее!
Все равно надо понять, чем вчера закончил. Справа телеграфно-прерывисто заскрипел песок. Мужчина с мокрой синей повязкой на лбу устало, но методично вбивал ноги в землю. Он несколько удивленно посмотрел на меня и пробежал дальше.
О, как чудесна хроника пробуждения Москвы. Особенно, когда просыпаешься в центре столицы на лавочке. Ты, с одной стороны, со всеми, с людьми, открывающими для себя новый день, и одновременно ты чужой. У тебя есть раковина в виде лавки, на которой ты спал. Ты не их. Не их породы. Поэтому тебе легче охватить этот немного чужой для тебя мир. У тебя нет их забот, тебе по барабану хождение на работу, кипячение молока для детей, ссоры с соседями. Тем более, что я вообще из другого времени. Может, я и тогда был здесь чужой?! Почему иначе я не могу найти следы моей жизни в прошлом?! Вот живу я в начале двадцать первого века. А кто знает, живу ли я там? Может, когда я вернусь, моих следов нет и там.
На дорожках вокруг пруда стали появляться собачники. В сторону бульваров затопали заспанные мамы с хмурыми младенцами. Да, там, кажется, был детский сад. Был, есть, уже и не знаю, как правильно. Люди шли, шли. Две девки, смеясь и как-то особо, по-продавщицки, куря, открывали овощной магазин на углу.
Сегодня что у нас? Должен быть вторник. Мимо прошел милиционер. Я по привычке вздрогнул.
– Папа, папа… Ну подожди же!
Сзади в конце аллеи, там, где она огибает пруд, показался пухлый мальчик лет четырех. В голубых гольфиках, шортах и круглой белой кепочке с синей нашивкой «Олимпиада-80». Он смешно семенил толстыми ножками. Шнурки елочными гирляндами волочились по земле.
Милиционер остановился.
– Сколько можно, Паш?! Я же опаздываю.
– Сейчас, сейчас. Шнурки неправильные попались.
Малыш наконец добежал до отца, сунул свою ручонку в ладонь отцу, обернулся и гордо посмотрел на меня. Я кивнул головой. Мол, оценил, что его папа – настоящий милиционер. Значит, служивый не по мою душу. Он тоже в садик.
День уже начинал шуметь. Машины, как майские жуки, жужжа и пыхтя, заполняли город. Я продолжал тупо торчать на лавке. Поменяв горизонталь на вертикаль. На лавке обнаружилась пришлепнутая моим телом зеленая папка. Ага. Как звали ушастого? Петя, Вася? Он хотел в цирк, да. А попал он туда? Не знаю. Мысли делали попытку зацепиться за что-то в голове, это им не удавалось, и они с криком плюхались в бездну. Двор, заросший боярышником. Судя по всему, центр. Лавочка. Стол с настольным теннисом. Портвейн, наверное. Качели какие-то. Вытянутое на манер клизмы лицо дворника. Пока вроде все. Похмелье в другом времени и пробуждение на лавочке не добавляли оптимизма. Съехать можно. Стоило ли перемещаться во времени, чтобы разваливать башку невыносимой прострацией! Подумав, я открыл папку. Там лежала раздавленная и расплавившаяся от моего тела шоколадка «Аленка». И все.
А может, все-таки это – сон? Ну такой, удлиненной конструкции? У меня в юности были сны. Помню, была серия снов про путешествие на другую планету. И, отучившись до часа в институте, наплевав на пиво, мчался домой, чтобы заснуть и опять попасть на ту планету. Желтая такая планета. Там меня все знали. И в тех снах, а они были с продолжением, то есть прерывались на бытие, а потом продолжались, так вот, внутри этих снов я тоже засыпал и просыпался. Сон во сне. То есть, понимая, что ты спишь, ты там ложишься спать, просыпаешься, понимая, что спишь. Я тогда еще выдумал безмозглую теорию, что наша жизнь – это сон во сне. И пробуждение – это смерть. И был очень горд этим. Потом сны кончились. Я много лет ждал возвращения туда, в сны. Но такого больше не случалось. Может, они вернулись все-таки?! Но там был совсем другой мир. А здесь все свое, даже слишком свое.
– Представляешь, брат…
Я очнулся. Передо мной стоял лысоватый человек с добрым бабским лицом. На нем была сильно потрепанная защитного цвета куртка, рукава которой были заляпаны масляной краской. В боковом кармане торчала сложенная вчетверо газета с кроссвордом. Он восторженно смотрел на меня выцветшими почти до белизны голубыми глазами. Чувствовалось, что его переполняет какая-то мысль и он не может не поделиться ею. Иначе его разорвет.
– Представляешь, брат, вот… Если переместить немедленно, прямо сейчас, всех-всех, кто когда-либо отмечался на лавочках на Патриарших прудах, вот сюда! Одномоментно. Из всех времен. А? Этакое «Воскрешение сидевших на лавочках». Сидевший на лавочке на Патриарших оказывается спасен в будущей жизни! Каково? Никто не ожидал такого поворота! Представляешь, такая ерунда, поторчал на лавочке перед прудом – и все! Ты спасен перед Вечностью. Никто же не знает Промысел Божий! А он таков! Почему нет?
Я кивнул головой, от этого мозг потерял равновесие и икнул. Волосатый чуть более пристально посмотрел на меня. Затем достал из глубины куртки стограммовую бутылочку коньяка. Чуть отпитую, правда. Немного подумав, он вынул из кармана с кроссвордом горсть зелипушных яблок, обвитых засохшими ломкими листьями.
– Не обессудь. Стакана нет.
Как же неудобно пить из этих игрушечных бутылочек! Горлышко тоньше мизинца, надо трясти, чтобы что-то попало в рот. Или сосать, как сушку. Обжигающая вонь заполнила рот. Я глотнул, закашлял.
– Яблочком, яблочком…
Через мгновение в организме действительно чуть полегчало. Конечно, это больше самовнушение. Алкоголь еще не добрался до крови, но все равно.
– Дядя Миша. Рожин. Комбинат декоративно-прикладного искусства. Вчера на ВДНХ павильон «Птицеводство» сдали. Подновляли, типа.
Дядя Миша протянул руку. Я пожал. Рука у него была большая, пахнувшая скипидаром и теплая.
– Сидор.
– Представляешь, какая толпа соберется… Воскресших. Кто в чем… Все перемешалось. Бал-маскарад. Гимназистки, военные с маузерами, пионеры, дамы в платьях с перьями, просто хрен знает кто, вроде меня… Все галдят, никто ничего не понимает. Некоторые уже разливают. Глядь, а у павильончика, – дядя Миша кивнул на павильон с арками и колоннами в торце пруда, – уже трибуна. Митинг. Выступит Булгаков: от имени Московской писательской организации спешу искренне поздравить всех присутствующих с Воскрешением на Патриарших прудах. Аплодисменты. А толпа огромная, напирает. Всем интересно. Крик в толпе – Марину Ивановну пропустите! А кто это? Да Цветаева, ей без очереди, она с пригласительным! Пусть покажет пригласительный, иначе шиш пустим!
– Ага, – жевал яблоко я. – А рядом Лев Толстой с коньками на плече.
– Почему с коньками?! – удивился дядя Миша.
– Где-то читал, что он сюда своих дочерей на коньках кататься приводил. Непонятно почему. Ему от Хамовников до пруда у Новодевичьего монастыря два шага, а он сюда таскался.
– Хитер граф. И не прост. Ой, не прост. Он предвидел Воскрешение на Патриарших, потому и ходил сюда! – радостно замельтешил словами художник. – Иначе зачем? Нелогично же, согласен? Другого объяснения нет! Значит, я совершенно прав? Если Толстой с коньками? Виват!
Я кивнул головой. Волосатый сделал малюсенький глоток из бутылочки и остатки протянул мне.
– Добивай. Я с утра уже три съел. Вчера, когда отмечали сдачу, коробку таких зачем-то купили. Вот и завалялось несколько в карманах.
Вторая доза уже пошла легче. Я опустошил бутылочку и протянул ее художнику. Он задумался, раскрыл ладонь, вытряс туда остатки коньяка, задумчиво слизнул капли и крякнул.
– «Большой Головин» с полвосьмого работает. По пивку? Как раз к открытию дойдем.
Я кивнул. Мы уже топали мимо Трехпрудного переулка, по Благовещенскому, и выходили к гостинице «Минск» на улице Горького. В смысле на Тверской. Интересно, как все-таки ноги помнят дорогу. Вот уже минут десять они сами идут в пивную. Причем в моем времени этой пивной, в Большом Головине переулке, уж лет двадцать как нет. Выросло поколение не знающих вообще, что это такое. Удивительно.
– Замечательная работа вытанцовывается. «Воскрешение на Патриарших». Про Толстого с коньками ты здорово сказал. Он прямо так и просится на холст. Лето, а он будет в зипуне, лаптях и одновременно в бобровой шапке и с тростью. Ну и с коньками, конечно, – мечтательно бормотал дядя Миша.
Миновав черный с синеватой искрой мрамор квадратных столпов гостиницы «Минск», мы углубились в Дегтярный переулок. Дядя Миша без умолку болтал, иногда останавливался, качал головой и торжественно и качественно высмаркивался в черно-серую тряпочку размером со спичечный коробок. Я методично кивал головой и на его речь, и на сморкание, и на взмахивание руками. Участвовал в разговоре, одним словом. Одновременно вертел в голове мысли. По идейной направленности ничем не отличающиеся от дяди Мишиного сморкания.
Вот Ольга. Там. Как она, интересно? Ха. А ведь ее нет сейчас. В этом времени. Она в сентябре 1979 года родилась! Как интересно… Ольги, моей Ольги нет еще в природе! Что же за время такое? Никого нет! Хотя с какой стати она моя? Ни с какой. Странно это. Получается, единственно близкий человек, и того нет в природе! Хотя, конечно, я все это миллион раз придумал сам себе. Сколько раз она мне говорила: я не такая, как ты себе придумал! Совсем! И скажу больше – я не собираюсь становиться такой, как ты себе в башке намутил!
Да, помнится, тогда я нажрался сильно после таких слов. Хотя, в сущности, она права. Мы часто принимаем обычную вежливость по отношению к себе за какие-то чувства. А это просто воспитанный человек, вполне хороший, добрый, но не имеющий к тебе ни малейшего отношения! И даже и не думающий в твою сторону. А ты хватаешь эту непротянутую руку и ждешь продолжения. А его в природе нет. И не предусмотрено даже. И тогда становится совсем хреново.
– …И вот мы собрали деньги. Ровно на две гнилушки яблочных. По рупь двадцать шесть… Тютелька в тютельку, до копеечки по карманам шарили и отдали Ивантеру. Плакали с похмелюги, но собрали! И что думаешь, принес этот иллюстратор «Тиля Уленшпигеля», мать его? Коробку эклеров. Мол, магазин закрыт, и он решил…
Справа шел солидный, покрытый глазурованной плиткой, старый доходный дом. Стоп. Здесь же жил Дрозд. Одноклассник. Вот его окно перед аркой на первом этаже. Как сейчас помню эту узенькую, метра два шириной комнату, старинный, девятнадцатого века письменный стол на тонких резных ножках, круглый аквариум на подоконнике с вечно полудохлыми карасями. И каменная светло-серая с голубыми прожилками фигурка, то ли сфинкса, то ли какого-то бога египетского происхождения, привезенная его предками еще до революции. Господи, я же все помню! И тахту его раздолбанную. Вот там справа от окна. Должна быть.
Окно было высоко, хоть и первый этаж. Я подпрыгнул, пытаясь заглянуть внутрь, но увидел лишь краешек выпуклой линзы аквариума. Этого было достаточно! Я как-то вдруг понял, что что-то меня связывает с этим, тем, миром. Что если есть караси, то есть и Дрозд, и значит, по теории, есть и я! Видимо, лицо мое впервые с утра настолько радостно улыбнулось, отчего не ожидавший таких перемен дядя Миша недоуменно остановился.
– Ты чего?
– Да так, аквариум там, круглый, мой одноклассник здесь жил. Живет.
– Зайдем?
– Да он в школе, наверняка…
– Учитель?
– Ну… До какой-то степени, – кивнул я головой в пространство. Ну как объяснить похмельному человеку, что мой одноклассник ходит в школу учеником. И, возможно, сидит там за одной партой со мной! Ну да. А не похмельному как это объяснить?
Мы свернули направо и шли по улице Чехова к кинотеатру «Россия». Солнце катило мне навстречу на 23-м троллейбусе. Небо уже меняло утренний макияж на дневной. Коньяк из мелкой посуды вселил в мозг неописуемый оптимизм. Георгий Жженов и Леонид Филатов строили мне рожи с огромной, размером с облако, афиши фильма «Экипаж». Казалось, что мне улыбалась даже собака, задравшая ногу у березы в палисаднике рядом с редакцией «Нового мира».
Да, прошлое всегда кажется чище и светлее. А вот я иду по прошлому, пешком по улице, вдоль бульвара, к Петровским воротам, знаю, что на углу перед входом в авиационно-технологический институт, на повороте на Петровку, будет чугунная тумба. Дореволюционных времен. Чтобы сани при поворотах не заносило на тротуар. Сани… Напротив, наискосок, магазин «Рыба», а совсем напротив «Мебель». Там родители покупали по жуткому блату чешские стулья, с красной в черную крапинку обшивкой и гнутыми спинками.
Почему же кажется, что так светло, прозрачно и радостно на улицах? А у меня в двадцать первом веке этого нет. Что-то изменилось в воздухе. Может, оттого, что в лицах людей, на листьях, на стенах домов за эти тридцать лет накопился жуткий слой грязи? Человеческой грязи. Мыслей, поступков, ненависти, злобы. Всего того, что переполняло всех нас эти годы.
А тут я вижу подлинную картину бытия! Слой всякой гадости сняли, и все засияло. Словно не было этих безумных лет. Словно вдруг раз – и все кончилось. Долго мыли окна и вдруг протерли насухо тряпкой, и вдруг сразу все просветлело и жизнь за стеклом сочно засверкала радостью. Картина Пименова «Новая Москва». Где девушка на кабриолете видит сияющий, чистый мир. Почему такое ощущение сейчас? Ведь у тех людей, у того же Пименова, у этой комсомолки, смотрящей на Охотный ряд через подернутое дождевой рябью лобовое стекло, было устремление вперед, в будущее! А я, возвращаясь назад, вижу свет в прошлом. Глупо.
Все так. Но ведь я-то знаю, что это не так. Для моей жизни, моего мироздания какими были эти тридцать лет между там и здесь? Мерзкими? Да, наверное. А ведь для кого-то это было детство, самая счастливая пора. А ведь для других, из живших еще раньше, и эти благословенные для меня семидесятые тоже казались невыносимо мрачными и черными. По сравнению, допустим, с сороковыми. Или дореволюционными годами.
Я со всего маху треснулся носком ноги о ту самую чугунную тумбу на углу Петровки и присел от боли.
– Больно? – заботливо наклонился дядя Миша.
Неопределенно кивнув, я захромал дальше.
– Может, что взять? Сразу? Для анестезии? – тревожно опять спросил художник. – Тут, если к грузчику в «Рыбе» зайти, он даст. По пятерке всего. Водки. Чтобы одиннадцати не ждать. А?
– Нет, – морщась, мотнул головой я. – Пива хочется.
– Пиво, конечно, говно, но радостно оно, – срифмовал он в ответ. – Немножко осталось, до Трубной, а там чуть вверх.
– Да знаю. Ничего, пройдет. – Большой палец саднил ужасно, наверное, распухал.
Тротуар бежал вниз. Справа над кварталом нависала громада Высоко-Петровского монастыря. Старинный усадебный дом по-детски, игрушечно косился вдоль тротуара, скрывая монастырские стены в глубине квартала. Но даже не видя самого монастыря, в воздухе я ощущал его присутствие, его мощь. Особняк же, как и принято, желтый с белым, располагался так, что, казалось, чуть толкни его, и он скатится туда, вниз, к Трубной площади.
Я вдруг вспомнил, что там была детская поликлиника. Моя. Точно. А за углом детский сад. Один из трех, куда я ходил. Я запомнил его из-за одного просто выдающегося ребячьего чуда. В крошечном дворике, где мы гуляли, с одной стороны была ровная улица, с другой мы оказывались на высоте нескольких метров. Этот слом перспективы потрясал мое воображение. Я постоянно ходил туда-сюда, сравнивая, что там и что здесь.
Почему это было, я не помню. Да и было ли так на самом деле, кто знает. А может, я это все выдумал позже. Взрослея, мы часто хватаемся за обрывок детских воспоминаний и дорисовываем картинку уже из взрослой фантазии. Этого не избежать. Так, что было там, тогда, в этом дворе детского сада, уже не узнать. Даже если находишься рядом.
Не пойду же я сейчас смотреть и проверять. А то вдруг окажется, что там и нет-то ничего, пустота и помойка с запахом старой кошки. Лучше и не соваться. Хватит мне Мундельсона в моей квартире. Тем более, в такой чудесный день.
Мы прошли проулком мимо бетонной коробки Дома Политпросвещения и через подворотню вышли к Большому Головину переулку. До цели оставался небольшой подъем в горку.
Вдоль улицы лежал шланг, одним концом заткнутый в решетку стока воды. К другому концу был присобачен насос. Который мерным вздрагиванием качал воду из другого стока воды, метрах в трех. Я вдруг вспомнил, что, проходя года два назад, там, в своей жизни, далеко в две тысячи каком-то, я видел этот насос так же бездарно качающим воду из одной дырки с решеткой в другую!
Уже нет той Москвы, этой пивной, страны нет, строй другой, нет этого палисадника с бревнами напротив, где мы частенько распивали благородный портвешок, все пространство заполнено так называемыми «элитными» домами с охраной и шлагбаумами, а насос есть! Есть! Может, он перемещается вслед за мной по времени? Преследует меня? Фантом качалки? Показать мне что? Мировую гармонию? Что все проходит? Или наоборот, что ничего не проходит? Или что дебилы, поставившие его в 79-м, пережили ледниковый период торжества демократии и отлично себя ощущают и при новой власти?!
Дядя Миша радостно замахал рукой такому же, как и он, субъекту в живописно грязной брезентовой ветровке, только волосатому, спускающемуся навстречу нам по переулку, только со стороны Сретенки.
– Коля!
Коля заметил нас и, кивнув головой, сделал рукой движение, типа, стойте, где стоите.
– Башляем? – строго, без «здрасьте» подошел Коля.
– Могу дать пятерку, – кивнул головой я.
– И я трояк могу, – полез в карман дядя Миша.
– Отлично, – подытожил Коля. – У меня тоже два рубля есть. А на пиво наскребем потом?
Я кивнул головой. Коля, собрав деньги, потопал по Трубной улице в овощной магазин. Да, я помню, тогда мы его называли «Морковкой». Там тоже можно было купить до одиннадцати, до официального открытия винных. Да везде можно было купить. Было бы желание.
Мы уже входили в пивную. В загоне под крышей, этаком летнем саду, народа было немного. В дальнем углу, справа, у светло-коричневой стенки примыкающего здания стояли еще два дяди Мишиных собрата. Соответственно, в униформе – брезентовой робе, извозюканной красками. Напротив них, в левом углу, стояла группка сумрачных татар. В моей молодости район Трубной и Сретенки всегда был переполнен татарами. Их было много. Семьи. Потомственные дворники. Еще с незапамятных времен. Они всегда, даже в пивной, держались вместе. Вместе пили, вместе работали и дрались исключительно между собой.
Мы подошли к своим. Поздоровались. Один, сильно волосатый, уже стоял с опущенными в асфальт глазами и ничего не говорил. Даже не пытался.
– Кольку видели? – спросил второй из этой пары, худощавый пожилой еврей, похожий на утконоса-боксера.
– Привет, Марк. Вложились, восемь рублей выдали.
Марк протянул руку к портфелю, скособочившемуся на полке, окружавшей по периметру все заведение, на уровне плеча. Или носа Марка. Портфель был отвратительного поносного цвета, надо сильно постараться, чтобы отыскать настолько гадкий цвет. В руках у Марка появился потускневший стакан и ноль восьмая бомба «Белого крепкого». Он нацедил три четверти стакана, посмотрел по сторонам и протянул мне. Я подумал и выпил.
Дядя Миша протянул руку за поставленным на полку стаканом.
– А тебе не дам, – спокойно и твердо сказал Марк. – Ты вчера Модильяни обосрал.
– Я и сейчас скажу, что это дичь ди-чай-шая! И фуфловая притом! – Было видно, что дядю Мишу расстроила такая постановка вопроса с наливанием.
– Да как ты… сморкота… имеешь право так говорить! Ты! Дальше павильона «Птицеводства»…
– Да я в своем деле собаку съел!
– Ты ее не съел! Ты ее выпил!
– А пошел ты! Сейчас Колька принесет, и хрен тебе дам! Модильяни! Да раскрутили фуфельщика такие же халтурщики типа тебя!
– Это я-то халтурщик, болонка ты малограмотная?
– Да мне однохерственно, что ты там бормочешь!
– Вот-вот! Все вы такие, а на Модильяни тявкаешь! Сказал бы по-человечески, культурно – монопенисуально! А то однохерственно! Привык в портянку сморкаться!
Рядом стояло кружек шесть, полных, с пивом. Мужчины яростно заспорили. У дяди Миши лицо накалялось до глинтвейнового состояния. Марк, наоборот, от злости мертвецки серел.
– Наше?
Марк на секунду отвлекся и судорожно кивнул. Я спокойно пил пиво. Стараясь не думать ни о художниках, ни о Модильяни, ни о чем. Просто смотрел на полоску неба, торчащую в широкой щели между загородкой и крышей.
«Crazymusic, crazy music for crazy people, crazy people… a-a-a, a-ha, a-a-a-ha, e-e-ee…»
Вот что мелькнуло в голове. Демократия, которая наступит лет через десять, закроет пивные, якобы для пользы народа, как же, здесь грязь и рассадник пьянства. И тем самым прихлопнет тысячи, сотни тысяч людей. Художников, типа этих мужиков, одиноких пенсионеров, которые приходили сюда, чтобы не сидеть вечно в квадрате комнаты, переполняя пространство одинокими мыслями, даже этих татар, среди которых назревала драка. Это же для них тоже – выход в свет. Свет. Да. Для большинства маленьких людей пивная – это светлая часть жизни. Здесь приятели, друзья, здесь ты не один в пустоте мегаполиса. Новости, футбол-хоккей, женился-развелся-попал в ментовку. А это так важно. А сломают пивные – и сломаются люди. Исчезнет их мир. Они начнут спиваться, сходить с ума, упершись в зеркала прожитых лет. А потом квартиры, тут в окрестностях, станут золотыми и бриллиантовыми. И шустрые мальчики станут их выкидывать на помойку. Иногда даже не позаботясь предварительно убить.
Мне вдруг стало стыдно. Я знаю, что с ними, со всеми здесь стоящими, станет очень скоро. И вот с тем работягой в спецовке, прибежавшим со стройки перехватить кружку, и с теми двумя майорами-танкистами в углу справа, прячущими завернутую в газету водку. Всего через полгода начнется бойня в Афганистане. Через десять лет страна будет на грани голода. В городах и деревнях будет господствовать бандит. Вспыхнет гражданская война. А чеченская война – это именно гражданская. Равно как и в Приднестровье, Карабахе, Абхазии, Таджикистане. И СССР исчезнет.
Я знаю про крах страны. Про нищету и голод. Про крушение идеалов, которым они отдали все, про крах их жизни, который они с ужасом встретят стариками. И вспомнил вдруг о Ленке, там, у Виталика. С ней же случится все то же самое! А она мне дала ключ! Может, она и правда меня ждет?
Я кивал головой уже вернувшемуся с добычей Коле, глотнул еще из тусклого от прошлого вина стакана. И как-то незаметно для себя и для моих приятелей оказался на улице. Через некоторое время я уже вздрагивал в 31-м троллейбусе и ехал на Метростроевскую, Остоженку, в Коробейников переулок.
Ленка сидела на кухне у самого окна, спиной к двери, в трусиках, майке, по-обезьяньи подтянув пятки на сиденье стула. Перед ней на подоконнике торчала ополовиненная бутылка болгарского вермута.
– А я подумала, ты больше не придешь, – сказала она, не оборачиваясь.
– Извини, так вышло. Так получилось. Я хотел…
– Не извиняйся. Мужчина всегда прав. Если тебе кажется, что он не прав, значит, это не твой мужчина.
– Да серьезно. Я помнил о тебе.
– Лето наступает, шелестят листы, мне никто не надо, кроме ты, – она наконец обернулась.
Свет в окне оттенил ее профиль. Рядом на подоконнике стоял в горшке неведомый цветок с роскошными пунцовыми, розовыми и белоснежными лепестками на толстой длинной и сочной ножке.
– Как он называется?
– Кто?
– Цветок.
– Этот?
– Да.
– Гипераструм.
– Красивый.
– Да.
Я подошел к Ленке и обнял ее, сидящую. Ее нос уткнулся мне в живот. Я сильней прижал ее лицо к себе.
– Давай не здесь. Пойдем ко мне в комнату.
Мы спокойно пошли в ее комнату в конце коридора. Ее кровать оказалась большой и широкой. С настоящими простынями и подушками.
– От прежней жизни осталось, – как бы извиняясь, сказала Ленка. Я кивнул, хотя знал, что вряд ли узнаю о прежней ее жизни. Да и какая разница сейчас. Я подумал о другом. Удивительно, почему я никогда в жизни не трахался с девушками, которых любил? Странно. Почему же так получалось? А вот Ольга, в моем времени, – это как? Любил ли я ее? Если я так подумал, значит, и не любил. Наверное. Интересно, стоило только механически измениться картинке бытия – и нет никакой Ольги. Любовь привязана ко времени? Изменилось время – нет любви никакой к ней. Или есть? А может, просто-напросто я не умею любить по-настоящему? Отсюда и все проблемы. Бывают же люди без слуха, или слепые, или еще как. Не виноваты они в этом. Вот, может, и я такой. Любить не способен. А хочется. Как безрукому – в бадминтон.
Потом как-то быстро наступила ночь. Было хорошо и спокойно. В углу комнаты мирно дремал на коврике огромный сенбернар.
– Я знаю, ты скоро исчезнешь из моей жизни, – сказала, не поднимая с подушки головы, Ленка.
– Перестань.
– Нет. Я знаю. У меня подряд много хорошо не бывает. Давай завтра сходим куда-нибудь. Просто. Я отпрошусь с работы.
– Давай. А сейчас спи.
Я постепенно отключался, засыпал. Вдруг в голове скользнула тень. А что, если… а что, если мне этой самой встречей с дядей Мишей и его бреднями о Воскресении на Патриарших дали понять, что я умер? Умер! Совсем. Я резко приподнялся. Ленка мгновенно проснулась и испуганно посмотрела на меня.
– Что случилось?
– Ничего. Просто приснилось.
– А… А я испугалась, что ты уходишь.
– Нет, нет. Я здесь. Спи.
Она послушно закрыла глаза. Я некоторое время лежал и думал. Да нет. Не умер я. Вот же Ленка рядом, живая. Хотя… Нет. Ведь если бы чепухистика дяди Миши была бы правдой, то там, на Патриках, рядом с нами должен был быть Лев Толстой с коньками! А его не было. Вроде. На этом лирическо-бредовом парадоксе я заснул.
Восьмая глава
Игорь шел от Тверской улицы вниз по Мамоновскому переулку. Уже три дня в Москве стояла довольно жаркая для мая погода. Хотя до начала календарного лета оставалось еще десять дней. Небо красиво шевелило редкими облаками. Ветер прятался в подворотнях и лишь иногда выдавал себя по чуть шевельнувшемуся флагу Абхазского посольства. За решеткой палисадника вытянутые вверх и вбок обрубки деревьев выглядели так, словно были задуманы и созданы дорогим дизайнером, а не спилены впопыхах раздолбаями из местного ЖЭКа.
Переулок резко стекал вглубь квартала, и Игорь иногда спотыкался. Напротив бывшего Театра юного зрителя стояло несколько торговцев, разложивших на ящиках товар – лупы и увеличительные стекла. Их было много – двадцать, тридцать разнокалиберных глаз, переливающихся на солнце. Игорь успел изумиться – при чем здесь лупы, но горка его уже несла вниз, к Трехпрудному переулку. Внизу он обернулся.
«Надо было хоть узнать, сколько стоит! Вдруг дешево. Тогда у меня бы была лупа, настоящая, на длинной ручке и в тяжелой оправе. Как у Паганеля! Или как у доктора Гаспара Арнери! Правда, что в нее смотреть?! А все-таки не такие дураки эти уличные торговцы, если бы ноги не проскочили мимо, я бы, пожалуй, купил…
Лупы-липы, липы-лупы… Может, это и все, что останется у меня в сознании в последний миг», – мелькнуло в голове, но Игорь уже свернул налево, и переулок с огромными чурками лип и странными людьми, продающими лупы, исчез из его жизни.
Запиликал мобильник. Николаша.
– Ну что тебе, привет, – Игорь терпеть не мог говорить на ходу.
– Я понял, как смогу зарабатывать, когда моих инопланетян с прокладками перестанут покупать! – по радостному тону Николаши было ясно, что он опять успешно похмелился.
– Ну и?
– Открою лавочку «Водка по телефону», буду составлять компанию выпивающим! В одиночку-то многим в лом пить! По себе знаю. Представляешь мой голос: «Я достаю из морозилки запотевшую „Кубанскую“… Ме-е-е-едленно отворачиваю крышечку… Она жалобно говорит „хрум“ в моих сильных пальцах…» Как идея?
– Гениально! Совет. Уходи сразу в скайп. Знаешь, там молодые шлюшки пиписьки показывают, рублей по триста за десять минут, а если запихивают туда чего, то и больше. И ты давай!
– Запихивать? – голос Николаши растерянно замолчал.
– Ага. Мозг в голову!
– Да ну тебя. Такая идея… Потом позвоню.
Игорь шагал дальше. Людей в переулке не было.
Сказочные тени, отбрасываемые огромным домом с флюгерами и башенками, казалось, ожидали своего Кота в Сапогах. Серая кошка, затаившаяся на клумбе, видимо, ждала его же.
«Какая страшная история… У Мити, у Андрюхи Носовского, да и у жены. Его жены. Их жены. Так же получается. И ведь выходит, никто не виноват! Все же любили друг друга. Или виноваты все? И почему Митя сказал, что женщины не любят, когда в них видят людей? Нет, здесь что-то не то», – Игорь миновал массивный дом-замок.
Слева белел четырехэтажный особнячок. Он любил этот островок Москвы в четырехугольнике между Тверской, Тверским бульваром, Поварской и Садовым кольцом. Несмотря ни на что, эта часть Москвы выстояла. И не превратилась в колоннаду слепых стеклянных офисов, как на Лесной, или в вереницу пустынных и стерильных моргов-бутиков когда-то так любимого им Столешникова.
А все оттого, что район остался жилой. Живой. Там жили люди. В окнах стояли цветы и беззвучно шелестели занавески. Туда-сюда шныряли дети, везде с целеустремленной бесцельностью шествовала особая каста людей – московские старушки. Игорь всегда вспоминал свою бабушку, Марию Васильевну, которой было не лень ежедневно идти километра полтора до Елисеевского магазина и покупать себе пятьдесят граммов сыра. И возмущенно возвращаться без покупки, если вдруг сыр казался ей несвежим.
«Здесь? Нет, не здесь, это было правее, по переулкам правее», – оглянулся Игорь. Он вспомнил, как в этих закоулках старой Козихи еще в начале 80-х старики иногда летними вечерами несуетно выносили стулья на улицу, прямо на тротуар, садились и просто смотрели на пустынную улицу.
Игорь помнил эти стулья с высокими плоскими спинками, обитые черной или коричневой кожей, с фигурными шляпками гвоздей и антилопьими по цвету и грации деревянными ножками. Наверное, эти старички, сидевшие в его юности здесь на стульях и неподвижно смотревшие на тишь переулков, каким-то образом уравновешивали в пространстве бардак и суету безалаберного московского мира. Этакие сфинксы на страже гармонии. Сейчас они исчезли, вот нечисть и распоясалась.
Да и сейчас на Петровке, Большой Дмитровке, Пушкинской площади, в многочисленных переулочках и тупичках, разлиновывающих центр Москвы, жилых домов-то почти нет. Живых людей заменили на бесцельную офисную мошкару со сроком жизни с десяти до шести.
Утром раздался звонок.
– Это Игорь? – спросил ровный женский голос.
– Возможно, – спросонья он, как и все, слабо понимал окружающий процесс.
– Кто это?
– Меня зовут Ирина, вы меня не знаете.
– Так… – боролся со сном Игорь.
– Я бывшая жена, то есть вдова, то есть… бывшая вдова… нет, не так, вы помните такого… Саши Макарова? Вы учились вместе в инязе когда-то. Его похоронили наконец вчера. Вы можете со мной встретиться сегодня?
Игорь сел на диван.
– Да-да, конечно, помню. Он умер? – Игорь понял, что сморозил глупость. – Извините. Конечно, могу. А что с ним случилось? Почему вы сказали «наконец»?
– Он умер давно, просто тело нашли только сейчас. Я все расскажу при встрече, я просто хотела отдать вам несколько фотографий. Он часто вспоминал вас.
Вот сейчас Игорь и шел на встречу с Ириной.
«Интересно, почему я так спокоен? Неужели стал настолько непробиваемым? Или мне все равно? За сутки мне рассказывают о смерти двух друзей моей юности, судя по всему, ужасной смерти, а я абсолютно спокоен. Это же кошмар! А мне как бы и все равно. Или меня уже охватила какая-то неизбежность, предопределенность событий, происходящих со мной последние дни?»
Пройдя целиком Большой Палашевский переулок, Игорь уперся в перекресток. На другой стороне, чуть правее, в торце старого дома было заведение со смешным названием «Донна Клара». Он частенько бывал там, причем любил не столько за кухню, она была вкусной, но обычной, сколько за «правильное» расположение.
В чем именно была эта «правильность», Игорь толком объяснить не мог, да и не хотел. Он очень любил здания с историей, судьбой и расположенные по одному ему известному фэншую. Эта «Донна Клара» подходила ему по всем параметрам. Рядом находились Патриаршие пруды и особняк Рябушинского, который он очень любил и часто ходил просто смотреть на него, восхищаясь гением Шехтеля. Он никогда не стеснялся своих странностей и многим откровенно говорил, что в юности пошел учиться в иняз процентов на восемьдесят благодаря красивейшему особняку генерала Еропкина конца восемнадцатого века, в котором находился институт. И «правильному» его расположению за колоннадой столетних лип на Остоженке. Двадцать процентов он все же отдавал тяге к языкам и желанию сделать престижную карьеру.
Толкнув дверь, Игорь увидел светловолосую женщину лет сорока, в одиночестве курящую под огромным зеркалом слева от входа на длинном мягком диване.
– Ирина?
– Да, Игорь. Я вас сразу узнала. По фотографиям. Вы совсем не изменились.
По ее сосредоточенному взгляду в окно было заметно, как она волнуется. Ирина была красива той женской красотой, когда возраст точно соответствует внешности. Когда женщина воспринимает свои годы с достоинством и гордостью, она часто становится красивей и даже благородней молодящихся ровесниц.
Игорь заметил и по-детски пухловатую мочку уха с устремившейся в треугольный колодец ключицы серебряной сережкой. И ровную, крупную линию бедер, резко очерченную подушками дивана, и тускло-мраморный излом колена, выступающий из под края белого сарафана. Ирина поняла, что он ее увидел именно такой, какой ей хотелось видеть себя в глазах окружающих.
– Кофе?
– Да. И еще воды какой-нибудь, – кивнула Ирина. – Вы извините, Игорь, что я вас так выдернула. Просто хотела отдать вам несколько фотографий. Когда Саша был жив и в уме, давно еще, он постоянно показывал мне фотографии своей юности. Там часто мелькали вы, и Саша все расстраивался, что тогда, в той жизни, он обещал отдать вам эти снимки и так и не отдал. Это когда вы ездили в стройотряд в Молдавии. Помните?
– Помню. Да. Это, мне кажется, восьмидесятый год? Олимпиада была?
– Точно, – Ирина достала из пакета пластиковую папку и протянула ему. – Вот.
– А что с ним случилось? Он болел?
– Алкоголизм – это страшная болезнь. Она выжигает все доброе, что изначально есть в каждом человеке.
– Сашка много пил? Извини за дурацкий вопрос. Я понял. Просто пытаюсь осознать, что ли…
– Ничего. Он не просто много пил. Алкоголь стал частью его. Как имя, как руки-ноги, как мозг! Хотя мозга уже не было в последние годы. Когда мы еще не развелись, он тащил из дома все. На пропой. Книги, коллекцию монет моего отца, вещи, его, мои, золото-серебро домашнее. Все, что можно было хоть как-то поменять на водку.
– Кошмар. А ведь он был очень талантливый переводчик. Помню, он переводил с французского Артюра Рембо. Так, для себя, и очень классно получалось.
Игорь перебирал фотографии. Там стояли в обнимку два молодых парня, в руках один держал за уши кролика, другой пытался что-то выпить из трехлитровой банки.
– Да. Это мы в Бендерах. Вино это местное, разливное, а кролика я тогда в шутку купил на рынке Сашке на день рождения. По-моему, в августе у него?
– Двадцатого, – кивнула головой Ирина. – Когда у нас родился сын, думала, он как-то остепенится. Нет. Все пошло колесом. Вылетел с одной работы, другой, потом его и брать перестали в приличные места. Работал то в палатке мороженого, то цветами торговал, то газетами. Но к этому времени мы уже развелись.
Ирина говорила неровно, то сбиваясь на скороговорку, то наоборот растягивала слова. Сквозь фотографии Игорь смотрел на изгиб ее плотных бедер, на шов трусов, выступающий сквозь сарафан, и думал, что же там находится дальше.
«Живота нет. Держится в форме. Тогда должно быть весьма соблазнительно… А грудь? Ну грудь так себе. Из серии „подразумевается“. А вот бедра… Да…»
Он напряг зрение и сквозь неплотную ткань, казалось, даже увидел сероватую тень на лобке. И очнулся.
«Господи, о чем я думаю! Человек рассказывает о трагедии с моим другом, а я… Что же творится у меня с головой? Почему так? Я что, похотливый павиан? Да не был я никогда таким! Скорее, наоборот. Что наоборот? Все наоборот».
– …Вот тогда, после этого случая, я поняла, что надо разводиться. Что дальше терпеть нельзя. Мы разошлись. Он честно оставил квартиру мне. И сыну. Уехал к маме. Пока была жива Светлана Львовна, и он как-то жил. То зашивался, то расшивался, то работал, то нет. Но как-то существовал. Бывали просветы. Потом, когда она умерла, начался ад. Пока он все не пропил, включая наволочки, остановиться не мог. А потом он исчез. Совсем. Просто пропал.
– Куда?
– В никуда. Пропал и все.
Ирина помешивала кофе и смотрела на барную стойку, где торчала ваза, похожая на огромную прозрачную колбу для химических опытов, густо заполненная нарциссами. Их было много, пятьдесят, сто нежных белых головок на длинных лепестках. Они даже казались ненастоящими, искусственными, из папье-маше, такие в изобилии продаются на русских кладбищах, но Игорь знал, что они самые что ни на есть настоящие. И живые. Его уже интересовал этот вопрос, и с неделю назад он уже проверял цветы на достоверность.
Ирина продолжала говорить. Игорь иногда кивал головой. Он уже понял, что случилось с Сашкой. Такие истории он уже слышал. Это настолько больно, насколько и обыденно. Игорь смотрел на сахарницу, стоящую на столе. Там горкой громоздились грязноватые, светло-коричневые обломки модного тростникового сахара.
«Интересно, раньше в поэзии, да и в прозе была избитая метафора, сравнения чистоты, белизны с сахаром. А сейчас и этого нет! Как странно! Что-то исчезает из жизни. Конечно, речь не об идиотском сахаре, о другом. Происходит слом ориентиров. Понятий. Интересно, это только у меня или вообще в мире, в жизни? Хотя какая разница! Если это происходит у меня, значит, меняется и весь мир!»
– …Искали долго. Больницы, морги, неопознанные трупы. Все впустую. Человек просто исчез. Как не было на свете Сашки. А однажды иду мимо его дома, бывшего дома, на Войковской, совершенно случайно, ученик появился, я к нему ехала, а из Сашкиных окон летит мебель. Его мебель. У него четвертый этаж. Был. Летят стулья старые, трельяж из прихожей, кухонные табуретки. Ну, чтобы не таскать, просто выкидывают. Вдруг вижу, на деревьях повисла тряпка. Большая. Это же пальто старое Светланы Львовны! Такое бежевое, модно было когда-то, с норковым воротничком. Я в дом: что же вы делаете? А там ребята такие шустрые, азербайджанцы что ли, говорят, иди, милая, лесом, это теперь наша квартира. Мы ее купили у хозяина. Еще давно. Я орать. Они милицию вызвали. Меня отвели к участковому, я говорю: как же так, там же Саша живет! А мент так и говорит: все по закону, продал твой Сашка квартиру и уехал. В неизвестном направлении. Гады.
Ирина прикоснулась губами к чашке с кофе, достала из сумочки сигареты и закурила.
– Будь проклята эта демократия. Будь проклята эта продажа квартир. Потом я узнала, что это обычная схема. Находят одинокого алкаша, поят, поят на халяву, потом в долг, потом долги отдавать надо, потом подбивают продать квартиру, и все. Либо просто выкидывают, либо убивают, либо отправляют в тьмутаракань в сельский сарай. И менты. Обычно всем этим они занимаются, ну, если не впрямую, то знают точно и за денежку помалкивают. Вот так вот, – Ирина опять коснулась губами чашки с кофе. – Знаешь, знаете, Саша мне не снится. Почти. А вот то пальто бежевое с дешевенькой норкой, висящее на ветках, часто вижу.
– А что потом?
– Потом… Я писала заявления, дергала ментов, его нехотя искали, больше для проформы, конечно, потому что таких случаев сотни по Москве. Дорого у нас квартиры стоят, дорого. А потом неделю назад позвонили и пригласили на опознание. Нашли труп неопознанный во Владимирской области, город Покров. Он уже там три месяца лежал. Где-то в пригороде, в лесу нашли, как снег сходить начал. Опознала с трудом. Кошмар это. Ну и похоронили вчера рядом с матерью. А сегодня вот решила отдать фотографии, он же хотел, чтобы они у вас были. Только так и не собрался отдать. Альбом у меня остался, когда мы разводились.
– Спасибо.
– Не за что. Он так хотел, – Ирина наконец сделала большой глоток кофе. – Интересно, я за ним так бегала, так хотелось, чтобы он стал моим мужем… Он же очень красивый и добрый был. Девчонки с ума сходили. И вот так вышло.
Игорь достал из сумки рукопись романа, немного поколебался и протянул Ирине.
– Посмотрите, вот. Не мог Саша написать это? Понимаете, это случайно попало ко мне, там про нашу институтскую жизнь. Я подумал: может, это он написал?
Ирина бегло листала страницы, иногда задерживаясь на каких-то абзацах.
– Нет. Вряд ли. Он последнее время уже ничего не соображал. А тут мозги надо иметь, чтобы написать. Да и комп он пропил давно. Нет.
– Это было написано от руки. Потом перепечатали.
– Нет, не думаю. Он на это не способен был. Хотя… Нет.
Ирина встала.
– Мне пора.
– А сыну сколько лет?
– Семнадцать. Совсем большой. Ладно, спасибо, Игорь, что пришли. Мне надо было это сделать. У вас мой телефон же остался? Звоните, если что.
Ирина встала, поправила складки на бедрах и пошла к выходу.
«Обернется или нет?» – вдруг отчего-то подумал Игорь. Ирина не обернулась.
Солнце заполнило всю улицу поздневесенней радостью. Игорь курил и смотрел в окно. Вот здесь, совсем рядом, когда-то было кафе «Аист». Забегаловка забегаловкой, но была популярна у артистов, народных и ныне покойных, живших в этих домах вокруг. Тот «Аист» давно снесли, теперь здесь неимоверно дорогое заведение, поэтому Малая Бронная здесь постоянно забита умопомрачительными машинами и настороженными охранниками, прилагающимися к ним.
«Интересно, куда девается прошлое? Что же произошло с Сашкой? Он же не был алкашом совсем. Веселый, хороший парень. Да, правильно говорит Ира, девки за ним бегали. А пил-то ну не больше других. Я-то жрал куда больше. По-всякому бывало. И капельницы, и больницы, но выжил же. И провалы годами. И нормально. А Сашки нет».
Игорь еще подумал, что его пьянство в 90-е, кромешный анабиоз тех лет, до какой-то степени помогло ему в бессознательном состоянии пережить ужас развала страны, унижения людей, безысходность и прочую дрянь, принесенную в Россию ветром перемен. Тотальный алкогольный наркоз. Он, как зубную боль, заморозил тогда решения всех жизненных проблем, сейчас все постепенно устаканилось, наркоз отошел, и замороженные проблемы опять вылезли. Никуда не делись. А люди решили их тогда. Семья, дети, любимый человек рядом – все это сгинуло вместе с тем временем. Словно и не было никогда.
Сейчас он понимал, что не помнит много лет своей жизни. То есть знает, что они были, а что именно он там делал, осталось за чертой. Но он выжил. А Сашка за этой чертой и остался. Но он выжил, заплатив тем, что вычеркнул из своей жизни семью, детей, дом. Только сейчас спохватился. Что лучше? Да как можно кого-то судить. Еще одного человека можно вычеркнуть из его списка. И из жизни тоже. Как странно. Вот ведь фотографии. А его нет.
На столе запричитал и заприговаривал телефон. Игорь вздрогнул. Женский голос ровно и радостно спросил:
– Привет, что делаешь?
– Сижу вот, Жень, думаю…
– О чем?
– Да ни о чем! Просто думаю…
– Так не бывает!
– Бывает.
– Давай увидимся? – неожиданно предложила Женя.
– Давай. У памятника Тимирязеву у Никитских ворот. В шесть?
– В семь, – ответила девушка.
Игорь посмотрел на часы, вздохнул и заказал сто пятьдесят коньяку.
«Интересно, зачем я встречаюсь с Женей? Все-таки задница у Ирины роскошная! Роскошная! Надо купить презервативы. Зачем? Я что, с Женей трахаться собираюсь? Нет. А вдруг. А у меня нет презервативов. Что вдруг? Ты что, маньяк, или, как там говорила Маргарита Павловна Хоботова, – эротоман? Нет. Вроде. Хотя Женя мне нравится. Сколько мы знакомы? Лет шесть. Ей тогда двадцать семь или двадцать восемь исполнилось, когда мы столкнулись в одной редакции. Очень хорошая девка. Правда, из породы „обреченных“».
Игорь давно заметил, что у женщин, которые ему нравятся, есть некая обреченность. Это не заметно сразу, но они обречены искать любовь, ждать любви и не находить ее. Обычно они мужественно, по-лошадиному, тащат на себе весь груз житейских забот. Ожидание настоящей любви растягивается у них на всю жизнь, которую они обычно проживают с нелюбимым, но не совсем уж и подонком, мужем. Либо одни, отдавая всю застоявшуюся любовь детям.
Полина, наверное, из этой же породы. У них есть и характер, обычно очень жесткий и упрямый. Та же Полина, по определению, не может быть размазней. Но вся их энергия уходит на чудовищные усилия по придумыванию любви там, где ее нет, на поддержку семьи, там, где ее, в принципе, быть не может. И благодаря зверскому упорству иногда это им удается. Нет, не исправить то, что они наворотили в жизни, а придать катастрофе элемент благолепия и уюта. Этакий «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Где холеные и благоухающие патриции создают видимость ужаса катастрофы. Но иногда такие женщины, как бы очнувшись, вдруг взбрыкивают и остаются совсем одни. Потому что на настоящее счастье сил уже не остается.
В семь Игорь прохаживался у памятника Тимирязеву с букетом синих орхидей. Пулеметная лента из двенадцати презервативов оттопыривала карман джинсовой куртки. Женю он увидел издалека. Высокая девушка, с рыжими прямыми волосами, в джинсах и в белой майке с красными буквами тоже увидела его – заулыбалась и замахала рукой. Почему-то Игорю она напоминала Линду, жену Пола Маккартни. То есть не почему-то, конечно, а ясно, что из-за цвета волос и веснушчатой улыбки.
«Наверное, я просто не знаю других известных женщин с такой ярко выраженной фактурой, вот и кажется похожей на Линду», – мелькнуло в голове у Игоря, и он протянул ей букет.
Их отношения с Женей давно установились на уровне дружеской неразберихи, когда мысленно никто не отказывается от более близкого знакомства, но и ничего не делает, чтобы этого достичь. Это устраивало обоих. И они без всяких натяжек дружили.
– Представляешь, китайские ученые вылечили местного слона из цирка от алкоголизма! Невиданный успех науки в Поднебесной! – вместо «привет» выпалила Женя, рассмеявшись. – Здорово, правда? Ты рад за слона?
– Очень. Я переживал, вдруг не вылечат. Что тогда? Жалко ведь! Представляешь, какое у него похмелье при такой огромной голове? Кстати, что он пил в Китае? Рисовку-матушку?
– Не написали. Наверное, ему готовили нечто особое. Допустим, цистерну водки настаивали на королевском удаве? Как?
– Жалко удава и слона жалко…
– Цветы мне? Мерси. Синенькие… А еще в новостях сказали, что у нас есть города Верхние Пришибы и Выдропужск! Представляешь, Выдропужск! – прыснула девушка.
Они неторопливо шли вниз по Большой Никитской по направлению к Манежу.
«А зачем же я, идиот, презервативы купил? – мучился Игорь. – Значит, я ее хочу? Иначе зачем покупал? Вот дурь-то. С чего вдруг? Столько лет общались и ничего, а сейчас что произошло? Как интересно…»
Вслух он рассказывал ей о церкви Малого Вознесения, напротив консерватории, что именно здесь было место знакомства молодых барышень с женихами. До революции, конечно. Они приезжали, мол, помолиться, а на самом деле это был полуофициальный кастинг невест. И все об этом знали. У входа толпились специально обученные свахи и, в случае интереса сторон, шустро бросались улаживать амурные дела.
Женя кивала ему и улыбалась. Неожиданно из-за угла появилась рыжая голова ирландского сеттера и тоже кивнула ему. Игорь опешил и посмотрел на Женю, потом на сеттера, потом опять на девушку. Это было удивительно. Собака была необыкновенно похожа на нее. Игорь потряс головой. Сеттер исчез.
– Та рукопись, что ты мне прислала – удивительна! Она непонятным образом влияет на мою жизнь. Мистика какая-то!
– И как это происходит? Воешь на луну?
– Почти. Пытаюсь найти, кто это написал. Там почему-то описана молодость. Те годы. Очень все знакомо. И так странно, что эта повесть попала именно ко мне. Удивительно.
– Ну и как, нашел автора?
– Нет. Ищу.
– Ищи в другом месте.
– Правда?
– Правда. Когда это я тебе что-нибудь плохое, кроме хорошего, советовала?
Женя улыбалась смешной улыбкой рыжих, когда солнечные зайчики веснушек наперегонки мчатся вниз, к подбородку. Игорь увлекся темой, он рассказывал о детских походах с родителями в Зоологический музей, тут в конце улицы, о школьных обидах, о полувзрослых пьянках в консерваторском кафе, вот здесь, справа, в те времена, когда хотелось стать большим. И о многих вещах, которые рассказывают только близким людям, не боясь быть смешным и непонятым. Вдруг Игорь резко остановился.
«Господи, а ведь все это я должен был рассказывать не ей, а Полине! – Он же сто раз представлял такие прогулки именно с Полиной. И ни с кем другим. Это же для нее он берег в памяти все эти штучки-дрючки, всю эту милую бредятину. – А рассказываю их вот сейчас Женьке! А она же мне, в сущности, никто. По сравнению с Полиной. Господи, как стыдно-то».
Игорь почувствовал себя ничтожеством, предателем, изменившим самому святому, что у него было в жизни. Ему вдруг стало не хватать воздуха, и он закурил.
– Что-то не так? – встревоженно спросила девушка.
Игорь вдохнул табачный дым. Ему показалось, что Женя прочитала его мысли, и от этого ему стало еще хуже.
– Все нормально.
Женя как-то странно посмотрела на него.
– Хочешь, поехали ко мне? Я Дашку к бабушке отправила. Посидим…
Неожиданно для самого себя Игорь кивнул головой:
– Поехали.
Женя как бы внутренне выдохнула и заулыбалась.
Игорь поднял руку, останавливая машину.
– На Кутузовский, за Панорамой?
– Поехали.
Игорь смотрел в окно машины. Справа мелькал порядком обветшавший Новый Арбат.
«Красивые цветы я подарил Женьке. Орхидеи. Первый раз такие покупаю. Каждый бутон в отдельной колбочке. Удивительно. А ведь я это дарю не ей, а Полине. Просто в данный момент она называется Женя. Какая же я скотина. А ведь мне нравится Женя. Сейчас я приеду к ней, и мне эти чертовы презервативы очень даже пригодятся. А ты ведь, сволочь, изначально так предполагал. Глубоко-глубоко в своей гадкой душонке».
Игорь, сам не понимая зачем, повернулся к Жене и положил руку на ее ногу. Она в ответ посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Машина затормозила.
– Приехали.
«Господи, какая гадость! Мне же Полина такие важные слова говорила два дня назад, а я сейчас иду к Жене. И останусь у нее. А может, Полина это все не мне говорила? Мне, мне, скотина. Я же ее люблю. Нет, так невозможно».
Игорь вышел из машины, подождал, пока Женя выберется тоже.
– Понимаешь, Жень, я тут вспомнил, дело одно, срочно надо. Я тебе потом позвоню. Пока.
Он нырнул в машину, оставив остолбеневшую девушку на тротуаре. Отъезжая, Игорь оглянулся, Женя неподвижно стояла, по инерции улыбаясь, и солнечные зайчики опять сбегали по ее скулам.
Он набрал номер Николаши.
– Але…
– Ты там один? Занят?
– Я одинок, как стебель сельдерея… А что хочешь?
– Жрать.
– Жду.
– Сейчас буду. По дороге возьму.
– А если всерьез, может, сначала в стриптиз? Для эстетизма?
– Хоть в зоопарк.
И понеслось.
Глава девятая
«Несколько дней одного года»
День пятый
– Если батарею обклеить кусочками старой шубы мехом наружу, то зимой у тебя будет теплый и пушистый домашний питомец.
– Это ты к чему?!
– А к тому, Сидор Сидорович Сидорище, что у меня хорошее настроение! – Лена улыбнулась.
Несмотря на будний день, перед причалом около гостиницы «Украина» стояла очередь. Эта была Ленкина идея – прокатиться по Москве-реке. Белая краска на перилах у самой воды отслаивалась странами и континентами, обнажая изначальную древнюю синеву шпаклевки. В этом сочетании белого и синего уже было что-то морское, вольное, уже компа с и гальюн.
Пароходик тарахтел, кто-то невнятно бубнил в мегафон, трап покачивался, грозя развалиться с секунды на секунду. Этот обязательный аттракцион неизменен уже десятилетиями, собственно, наверное, ради него и пытаются люди в тепличных условиях города совершить немотивированный ничем поступок – прокатиться на почти игрушечном кораблике.
Сочинял сапожник песню целый день, Их сегодня сочиняют все кому не лень, Он за это дело взялся в первый раз, Удивить хотел, наверно, нас.Переход от земли к воде дарит отрыв от реальности. Земля – быт, твердь, проблемы. Вода – воля, надежда, порыв изменить что-то. Вода – волна, время. Движение по воде – движение во времени. Вода, без сомнения, – женское начало. Волна. Волновая природа женщины. Новая жизнь. Крещение – вода. Время – тоже женщина. Рождая жизнь, она рождает время. Она разная, но для каждого человека одна. Она – твое время. Это страшно, но это так. Она может быть блондинкой или брюнеткой, худой или полной, это не имеет ни малейшего значения. Я ждал ее появления всегда, я узнавал ее сразу, в моей жизни их было пять, шесть, больше. Собственно, моя жизнь и есть ожидание ее. Они очень и очень разные, но, все равно, это один и тот же человек. Инна училась в литературном институте и писала чудесные рассказы, прекрасную Иру, умную, гордую, хватало только на эсэмэски. Наташа была худой и трепетной, похожей на одинокий лесной колокольчик, Дина была полной смуглой брюнеткой с пышной грудью и пленительной задницей, словно сошедшая со средневековых персидских миниатюр. Ольга… Ольга похожа на подростка, с короткой стрижкой, маленькой грудью и заячьим выражением лица.
Но все равно это был один и тот же человек. Точнее, это было время, отпущенное мне и воплощенное в женщине. Я видел ее сразу, я распознавал ее с первого слова, взгляда, с первого вздоха, с особой интонации слова «ах…». И мне становилось радостно и грустно. Я радовался от встречи с ней, и мне было печально, что я уже знал, что с этим человеком у меня ничего не выйдет. Потому что она – мое время. А что может быть со временем? Оно только ускользает. Куда? Кто знает. Вот и Ленка тоже…
– А что такое эсэмэски? – тихо спросила Лена.
Я вздрогнул и очнулся. Понял, что говорил вслух.
Кораблик бурчал под метромостом. Чуть мелькнуло, подмигнув, эхо.
– Эсэмэски… Ну это… Как тебе объяснить… Вот. Допустим… американский жаргонизм… ну… типа всякой белиберды, которую пишут на заборах, сортирах привокзальных… так, наверное. Понимаешь?
Лена серьезно кивнула. Господи, почему же меня так потянуло к ней?! Мне ведь хорошо, очень хорошо. И она слышала мои мысли. А… пусть. Так даже лучше. Я смотрел на изгиб Москвы-реки. Буроватая вода вспыхивала на солнце грязноватой пенкой. Волны с чавканьем облизывали поржавевший борт.
А ведь, может, это и есть счастье? Мне хорошо. Мне радостен человек, который со мной. И ему совершенно небезразличен я. А это – редкость, неимовернейшая в моей биографии. Дичь. Бурый мишка с бочкой меда в Сахаре.
– Смотрите, смотрите, дельфин… – детский голосок дрожал от нетерпения.
Не судите очень строго, он такой, Наилучший он сапожник, парень неплохой, Но попал в теченье моды он как раз, Удивить хотел, наверно, нас.Ну вот. Это все сказка. Сон. Сейчас все кончится, и я очнусь. Не бывает дельфинов в Москве-реке. Как интересно, значит, путешествия во времени меня не удивляют уже, а вот дельфин в Москве – тот тревожит? Нет… Это просто во мне гадость внутренняя зашевелилась. И дело не во временных скачках. И не в дельфинах. Меня полюбил человек, а мне страшно. Вот и все… А дельфин…
Я посмотрел на группку детей, столпившихся у борта. На волнах кувыркался довольно большой надувной дельфин ярко-желтого окраса. Интересно, как все поворачивается. Значит, дельфинов в Москве-реке нет, но – вот же он. Кто скажет, что это не дельфин? Значит, грань между «бывает» и «не бывает» лежит не в плоскости реальности или существования предмета. В чем-то другом. В тебе самом, что ли.
Дельфин, бликуя, исчезал за кормой. Ленка о чем-то оживленно говорила. Я ее не слышал. Почти. Ветер относил куски фраз к воде, и они скорее доставались странному желтому дельфину. Иногда отдельные слова я улавливал. А сказать ей, чтобы она села поближе и говорила громче, я не хотел. Мне сейчас было, наверное, не до этого. Я пытался хоть немножко выждать и хоть понять, что происходит у меня в душе. А ведь происходит! Я знаю.
…Мне было двадцать четыре тогда, а он старше.
…Намного…
…А почему нет…
…Он вполне хороший был…
…Все не так.
…А тот был совсем другой.
…Настоящий. А врач нет. Понимаешь?
…Это просто.
…Хотя, наверное, он любил меня. Но это же неважно.
…Жестоко, но неважно.
…А тут любила я. Это главнее.
…А потом все.
…Понимаешь, я и не знала про наркоту.
…Как я старалась, вся изошла на него.
…И окно распахнуто. И его нет.
Я уже не понимал, говорит ли это Ленка, ее обрывки фраз доносят до меня брызги Москвы-реки или все женщины опять перемешались у меня в голове, сливаясь невероятным образом в ту одну-единственную, с которой есть свет и нет тьмы.
Мы с ним встретились примерно через год, Не узнал его я сразу, тот он иль не тот, Шел сапожник наш веселый и босой И мотивчик пел какой-то свой.Медленно проплывающие слева желтоватые сталинские коробки Министерства обороны еще больше укрепляли меня в мысли об искусственности окружающей жизни. Это же типичные декорации! Сцена. Колосники. Лонжи и кулисы. Партер-бельэтаж. А река, закованная в гранит, это уже не совсем река. Это декор города. Типа фонтана. Или бульвара с фонарями и беседками. Или сточная канава. Красивый сортир. И мы плывем по этому сортиру с радостью. Потому что и это для нас большое дело – вырвались на волю. Я совсем не издеваюсь, нет ничего постыдного в канализации. Просто надо понимать, что реальная река – это совсем другое. Все равно, что говорить, что все небо – это синий квадрат в оконной раме.
– Ты понимаешь, как это страшно, – наконец посмотрела мне в глаза Ленка.
– Конечно… конечно… – вздрогнул я.
Улыбающийся великан торчал аккурат за нами, километрах в трех, его башка высовывалась метров на двадцать над линией воды, чайки пугались, орали и путались в его развевающихся волосах. Смешно надувая щеки, он нагонял ветер на Москве-реке. Причем делал это по многовековой привычке или по забывчивости. Надобности в надувании парусов давно уже не было. Кстати, а может, ему просто нравилось это делать? И он плевал на производственную необходимость двигать волны и суда, вызывать наводнения и штормы. Может, ему просто было в кайф.
Только не надо перебивать, Только не надо переживать, Может быть, выйдет, а может, нет, Новая песня вместо штиблет…Вот я только что вспоминал своих несбывшихся женщин. Ведь все они относились ко мне очень хорошо, больше того, я практически уверен, что, попроси их о помощи, если мне будет совсем худо, они точно придут ко мне на помощь. Но при этом они никогда не свяжут жизнь со мной. Почему? Они такие плохие?! Упаси Господи. Хотя многие делали мне больно, я никогда не скажу ничего плохого о них. Они реально лучшие. И почему такие вот лучшие, хорошие, а ведь я выбирал именно их, добровольно выбирал, никогда не выбирали меня?
Наверное, все просто. Как я не вижу реальности города, так я и не вижу их. Живых. Для меня они плод моей же фантазии. Увидев ту же Инну двадцать лет назад, я за секунды слепил ее образ и дальше любил уже не живого человека, а фантома. Ну а еще дальше вступает в права великая русская литература! И под неусыпным влиянием того же Ивана Сергеевича Тургенева, или Блока, или Набокова, да всей когорты, фантом начинает жить бодрой человеческой жизнью. Требуя пищи в виде поклонения, разрывания души на тряпочки и прочих прелестей, так обильно наполняющих загаженный мозг интеллигента. И любил-то я всегда фантома, призрак Инны, призрак Иры, призрак Ольги…
А ведь эти призраки, фантомы любимых женщин живут долго-долго. Иногда лишь уходя в тень. Хотя как призраки могут уходить в тень? Их прожорливость не знает границ. Они жрут твое время, твои радости, улыбки и слезы, все. Ты обеспечиваешь их жизнь своей живой и трепетной душой, тебе кажется, что ты общаешься с реальным человеком. Это страшно. И я так прожил жизнь.
Реальный человек мне был до фени. Мне было так удобней, что ли. Причем когда реальным барышням надоедало такое раздвоение их личностей, они меня отсылали к чертям собачьим. И я, конечно, расстраивался. Для меня это была трагедия. Стало быть… Во всем виновата литература! Конечно!
Я очнулся, посмотрев на Ленку: может, я опять разговаривал вслух? Нет, она уже молчала, смотрела на воду, на грязноватые буруны, методично мелькающие аквамарином.
А сейчас-то наоборот! Ленка, фантом, призрак, ну какие люди могут быть в прошлом, я же не совсем ку-ку, этот несуществующий человек становится абсолютно реальным. Может быть, она и стала плотью, стала живой с настоящей теплой кровью и душой только из-за того, что полюбила меня! А она меня любит! Я же это чувствую.
Только не надо, только не надо, Только не надо, только не надо, Может быть, выйдет, а может, нет, Новая песня, новая песня, Новая песня вместо штиблет.На пароходике мегафон что-то выкрикнул, корабль заурчал, начал тормозить, ткнулся в причал, и вскоре мы выскочили на набережную перед концертным залом «Россия».
Гостиница «Россия» целехонькая стояла перед нами. Вдалеке слева маячила кремлевская стена с палисадником, с которого, собственно, я и начал турне по… по чему? По прошлому? Трудно сказать точно. Прошлое мое это или еще что-то другое, неподвластное здравому пониманию. В стеклянной витрине концертного зала висел красно-коричневый плакат. Гастроли в СССР. Певец и пианист Элтон Джон (вокал, фортепьяно), Рей Купер (ударные инструменты). Великобритания. Май 1979 года. Концерт идет без антракта.
– Обалдеть… Сидор… Хочу! Хочу! Когда концерт?
– Не знаю, Лен.
Но Ленка уже рванула к стеклянным дверям кассы. Через пару минут я увидел ее погрустневшее лицо.
– Билетов, естественно, нет. Остатки будут продавать двадцать седьмого числа. С восьми утра. А сам концерт двадцать восьмого. Слушай, а давай придем к открытию? Нет. Надо раньше. Надо ночью. Чтобы быть первыми. Или лучше вечером? Погода отличная. Идем? Это же сам Элтон, понимаешь? Да ты не представляешь, как я его люблю!
Я представлял, как она его любит. Потому что тогда, в семьдесят девятом, через три дня, вот здесь, прямо под гранитной облицовочной стеной, в другой жизни, моя ли она была и вправду, мне уже все равно, я буду стоять в очереди за билетами на Элтона Джона.
Помню, тот день был солнечным. Я приехал за сутки до продажи билетов, вот сюда. Изрядная толпа уже бурлила. Потом менты поставили железные ограждения. Вдоль этой стены с дикими нетесаными кусками гранита. Толпа систематизировалась в очередь, растянувшуюся до вот той белобрысой церквушки. Наступила ночь. Такого взаимопонимания, братства, всеобщей любви я больше не видел никогда. В 1979 году в ста метрах от Кремля мы жгли костры, пили нескончаемый портвейн, истошно блевали на молодую траву, орали песни, целовались с отчаянными девчушками и прожили ту ночь в какой-то бесконечной радости. Люди приходили, уходили. Этот железный заборчик был границей того и этого мира. Конечно, так нам казалось. Зайдя за него, очутившись в узком пространстве между стеной и забором, ты вдруг ощущал свободу. Милиция не забирала никого из-за забора. Но вот стоило отойти… Так, здрасьте, ваши документы. Свобода в ограничении свободы. Вот какая штуковина.
И хотелось на Элтона. Дома лежала маленькая пластика фирмы «Мелодия». С песнями «До свиданья, желтая кирпичная дорога». И «Crocodile Rock». Уже и не помню, как это название перевели на русский. Крокодильский рок? Я и тогда был один. И мне так хотелось такой вот Ленки, любимого человека и настоящего друга. Но тогда ее не было. Зато есть сейчас, вот стоит и смеется. Да плевать, что я в другом времени! Мне же дается шанс, который я упустил в жизни. Наплюй на жизнь, наплюй на время, живи и люби. А та сила, которая отправила тебя сюда, неужели не позаботится о такой ерунде, как быт, как документы, деньги, квартиры и прочая чушь. Это даже не смешно! Конечно, для этой силы возможно все. Дают – бери и благодари. И не думай.
«Кстати, – подумал я, – а ведь на концерт Элтона я так и не попал в 79-м». После той великой ночи настало утро. Нужно было ждать восьми, что было уже тоскливо и нудно среди серых с похмелья лиц, россыпи пустой посуды, грязи и заблеванного пространства. И я, дождавшись шести, открытия метро, уехал домой. Вот так. Ждал, ждал и свернул.
– Не нравится мне гостиница. Не к месту эти стекляшки, – Ленка прищурилась на солнце.
– Снесут.
– Когда?
– Лет через тридцать.
– Через тридцать… Все-то ты знаешь… Точно?
– Точно.
– Ну вот. Я уже старуха буду… А ты – дед с клюкой! И мы будем сидеть на завалинке и лузгать семечки!
– Нет. Я не постарею. Я буду такой же, как сейчас.
– Ну уж прям! Это нечестно! Ты, значит, этакий бессмертный и вечно молодой, а я старуха древняя? Не, Сидор, так не пойдет. Я тоже хочу молодой. Купишь мне молодильных яблок?
– Да.
– Честно?
– Честно.
– Ну, смотри. Тогда заметано.
– Обязательно, Лен.
– А давай поедем на следующий год в Абхазию? В Пицунду. Я в детстве была. Там есть чудесный пансионат. Газеты «Правда». Я с отцом помирюсь, он нам путевки сделает. Хочешь?
– Хочу.
– Все. Вечером звоню ему. Слушай, а почему я сказала «в следующем году»? Давай в этом? Сейчас май… Летом там народа дофига, мест не будет, шум-гам-гиппопотам, давай в сентябре? Точно! В сентябре!
– Давай.
– Куда мы идем?
– Не знаю. Куда ты хочешь?
– Ну, Сидор, ты же мужчина! Скажи свое веское и суровое слово!
– Суровое… Эх… Тогда так. Идем мы в сад «Эрмитаж» есть мороженое и глотать шипучий лимонад! Сидеть, обнявшись, на изогнутых, как виолончель, старорежимных лавочках и дышать сиренью. В «Эрмитаже» ее полно! Там есть чудесное место рядом с деревянным, узорчатым, очень дачным павильончиком «Читальня».
– О, как вы интимно изящны в своих желаниях, мой господин… Слушаю и повинуюсь.
– Лен, изящность – это слишком правильно. А любовь, она всегда – ни о чем.
So goodbye yellow brick road, Where the dogs of society howl, You can’t plant me in your penthouse, I’m going back to my plough, Back to the howling old owl in the woods, Hunting the horny back toad, Oh I’ve finally decided my future lies Beyond the yellow brick road…Десятая глава
Полина, покачиваясь, с трудом шла по языку Игоря. Она была в клетчатой черно-белой юбке, черных шерстяных чулочках и кедах. Точь-в-точь, как на картине известной художницы Eugen Jagger, которую он видел зимой в Манеже. Полина, как канатоходец, балансировала, нелепо взмахивая руками. В одной, для сохранения равновесия, был веер, в другой – бутылка пива.
– Сейчас, сейчас, Игорек, потерпи… – причитала Полина, продолжая приближаться к нему, осторожно нащупывая кедом скользкую поверхность на длинном и неожиданно узком языке. Изнемогая от жажды, Игорь очумело сидел с открытым ртом.
«Если это мой язык, такой длинный-длинный и по нему сейчас идет Полина, то, значит, на другом конце его должен кто-то держать! Иначе бы она упала! – вдруг догадался Игорь. И, в подтверждение этих слов, увидел вдалеке рыжую голову Женьки, которая отчаянно, двумя руками, из последних сил держала канат его языка. – Господи, как же хочется пить!» – отчаянно рванула мысль.
– А-а-а… – заорал Игорь, пытаясь сглотнуть наждак слюны.
– А-а-а… – Женя, не выдержав, отпустила свой конец, и язык, вместе с кувыркающейся фигуркой Полины, полетел внутрь рта. В засасывающей воронке промелькнули ошалевшие от ужаса глаза Полины, лебединый узор веера и желтовато-белесые обрывки пивной пены…
Игорь очнулся. Он валялся прямо в одежде на кровати. Точнее, отсутствовали джинсы, трусы и даже носки, а вот кроссовки были надеты на голые ноги. Сверху все было на месте. Джинсовая куртка, майка и кепка на голове. Он сел на кровать и огляделся.
Квартира была его. По брошенным на пол грязным вещам можно было четко проследить его ночной вояж до кровати. Дорога начиналась вдали, одним носком, второго в ощутимой дали не было видно, носки, как известно – звери-одиночки. Заканчивалась тропа обоймой так и не начатых презервативов у самой кровати. Все остальное валялось в промежутке между этими предметами. Причину, по которой он, сняв носки, опять надел кроссовки, Игорь искать не стал.
«…В изголовье поставлю ночную звезду…» – очумело подумал Игорь, увидев мобильник за подушкой на кровати.
Он попытался встать, но мгновенно бухнулся обратно на кровать. Подождав еще минуту, он повторил попытку. Теперь уже медленно и очень осторожно. На кухне он схватил чайник и долго булькал в себя теплую воду. Наконец он оторвал от губ носик, вода тонкой струйкой ровно полилась на майку.
«До чего неудобные носики у электрических чайников!» – мелькнула у Игоря первая здравая утренняя мысль.
Небольшой, ровный поток воды, льющийся ему на грудь, живот, уходящий в пах, заставил его вздрогнуть и очнуться.
Он вернулся в комнату, нога зацепилась за пакет. Который обнадеживающе обозначил тяжесть. Игорь осторожно посмотрел внутрь, там была начатая бутылка виски. Во рту сразу выступила отвратительная солодовая слизь. Закружилась голова. Он сел на диван. Взял мобильник. Экран показывал кучу пропущенных звонков и эсэмэсок. Стараясь не заглядывать на дисплей, он довольно четко удалил все входящие-исходящие. Все, что могло бы ему напомнить о кошмаре вчерашнего дня. Впрочем, стирая, он случайно посмотрел последнюю эсэмэску. Там было написано: «Не знаю, сможем ли мы общаться по-прежнему, после того, что между нами не было».
У него сразу истошно и именно физически заныла голова, шея, все тело. Он вспомнил Женю, с ее виноватой улыбкой, собственный дебилизм и отвратительный кошмар пьянки с Николашей.
Звякнул мобильник.
«Господи, неужели опять Николаша», – вздрогнул Игорь и осторожно посмотрел на экран. Нет, звонил Костя, старый приятель, именно тот человек из списка, которого Игорь наметил как потенциального автора романа.
«Странно. Лет десять не звонил, а тут вот нате, как заказывали». – Привет, Кость.
– Привет, Игорь. Ну… собственно, я приехал.
– Куда?
– Куда? К тебе, конечно. Мы же вчера договорились, что я тут недалеко по делам буду и заскочу к тебе.
– Договорились?
– Ну ты даешь! Я, кстати, прочитал роман, что ты мне прислал.
– Я прислал?
– Слушай, давай соображай быстрей. Внизу жду, в машине. Вылезай. Пива дам. Немного.
Весенняя радость давно захватила Москву. Точнее, не весенняя, а уже летняя. Последние годы отчетливо стал меняться климат в столице. Не стало четкой весны. Почти сразу после схода снега наступает лето. Осень тоже превращалась в красивую метафору. Грань между летом и зимой стиралась. Игорь вдруг подумал, что вся его апатия, переходящая порой во вспышки грубости и раздражительности, к чему его внутренний мир не был готов из-за природной мягкости, происходит от того, что он опять стоит на переломе. Надо входить в старость. А старость – это уже не жизнь. Это другое.
За окном Костиного Фольксвагена мелькала Ленинградка со спичечными коробками новых приземистых зданий, возводимых на берегу канала им. Москвы, эстакада на Соколе, только построенная, но уже зияющая облупившимися стенами, Песчаные улицы, с их почти позабытой в нынешнем городе зеленью дворов.
– Знаешь, думаю, осталось только три места, напоминающие реальную Москву, в которой мы выросли. – Игорь потягивал пиво, стараясь не облиться от тряски машины и рук.
– Какие? – не оборачиваясь откликнулся Костя, худощавый несуетливый мужчина в больших очках и с вьющимися русыми волосами.
– …Надо же, совсем не помню, что с тобой вчера говорил. Да вот здесь, в районе Песчаных улиц, раз. Тут спокойно, без суеты. Дворы зеленые, без идиотских шлагбаумов и тупорылых охранников. И сейчас – почти центр. Даже без «почти».
– А где еще два?
– Квадрат между Садовым, бульварами, Тверской и Поварской. Там удивительно мило и очень по-домашнему. И потом еще пространство между Маросейкой и Ивановским монастырем. Там практически нетронутые демократией куски города. Без бутиков и рекламы. Рядом с храмом Святого Владимира, прямо там, представляешь, обычный колодец. Деревенский такой, деревянный. С ведром. И одуванчики на траве. А до Красной площади меньше километра. Но город уже их сжирает. И одуванчики, и колодцы.
– Ходишь в церковь?
– Бывает…
– А я вот часто стал. После того, как от пьянки избавился.
– В смысле? Зашился что ли, Кость?
– В том-то и дело, что нет.
Машина резко затормозила на светофоре. Игорь вздрогнул. Рука дернулась, гроздь пивной пены шлепнулась на его белую майку и негодующе зашипела.
«Теперь пятно будет, – мелькнуло у него в голове. – Ничего. На память! Какую? О чем?»
– Понимаешь, Гарик, – Костя обернулся, – понимаешь, произошла одна штуковина. Чудо. Другого объяснения нет.
– Что именно?
– Ты знаешь, как я бухал. Сколько мы с тобой не виделись? Лет десять. Ну я и раньше не отличался благопристойным образом жизни. А уж это время прямо сорвало. Жрал не разгибаясь. Причем отчетливо понимая, что качусь в пропасть. Даже не качусь – лечу со свистом. И меня уже не остановить. Ноги начинали отказывать, голова работала только на прием водки. Отходняки были такие, хоть вешайся. И это не метафора.
– Да ясно. Не хуже тебя симптоматику знаю. Сам в дурке отвалялся больше месяца почти в беспамятстве.
– Значит, прекрасно понимаешь, что бросить пить очень тяжело. Практически невозможно. Хоть кодируйся-перекодируйся. Организм и, главное, психика под другое заточены.
– Знаю.
– Ну а я в один прекрасный день, он действительно прекрасный, это правда, так вот просыпаюсь трезвый. Ни похмелья, ничего. И вдруг у меня в голове что-то произошло. Я это физически почувствовал. Щелчок – не щелчок, но что-то похожее. Мысль пронзила – а ведь я больше не пью! И все. Как отрезало. Как будто ластиком ту алкогольную хотелку стерли.
– Ну, ну, и что дальше?
– А дальше – свобода! Я вдруг понял, что это настоящее Чудо. С большой буквы. Что Господь мне дал шанс жить. Ну не могло этого произойти без помощи Божьей! Сам же знаешь нас, алкашей. Единственная сложность в непитии – это только то, что всю дурь приходится совершать на трезвую голову.
– И не хочется?
– Нет. Вообще. И причем я организм не мучаю. Это как-то естественно происходит. Просто вся водка-пиво мне стала вдруг до фени. Трудно объяснить. Но чудеса всегда невозможно объяснить. Они слишком просты, чтобы их объяснять.
– Да. Удивительно.
– Сам потрясен. И знаешь, меня уже евангельские чудеса сильно не удивляют. Я понял, что возможно все.
– Только вот нужны ли чудеса…
– Это, конечно, вопрос… – хмыкнул Костя. – Не знаю даже. Если они есть, значит, нужны.
Машина Костика неторопливо двигалась к «Беговой». Слева возникало огромное, страшное здание, из недавно построенных. Серый цвет сооружения наводил страх. Здание подавляло всякого на него смотрящего. Это был огромный, несусветно огромный монстр, вытянутый вдоль магистрали. Ощущение ужаса добавляли мириады норочек-ячеек квартир, копошащихся и рябящих внутри бетонного чрева. От здания хотелось отвернуться, как от больного проказой человека.
– Сейчас заскочим на «Парк культуры», подхватим Олега. Ты ведь с ним там договорился? У радиального выхода, у старого «Букиниста»?
– Я? Какого Олега?
– Ну ты совсем… Нашего Олега! Соловья! Соловьева. Он мне позвонил утром, сказал, что с тобой разговаривал. Долго. И вы договорились пересечься у «Букиниста» на Парке.
– Жуть какая. Ничего не помню.
– Это старость, Гарик. И маразм. А «Букинист»-то тот еще существует?
– Понятия не имею. Хороший такой домик стоял. Однокомнатный. Бледно-салатовый. И еврей бородатый там сидел. Этакий гоблин на пенсии. И колокольчик при входе. Дверь еще туго открывалась. Помню, там долго продавались письма Давида Бурлюка. Как войдешь, справа на витрине. С рисунками его. И довольно дешево. Рублей по десять. Все помню. А вот что с Олегом вчера говорил – нет.
– Сейчас, через пять минут будем, посмотрим, есть там магазин или нет.
– Да уж. Ладно. Посмотрим.
– А романчик клевый, – Костя достал сигареты. – Прямо родным пахнуло. Знаешь, повезло, что мы застали то время. Знаешь, недавно задумался. Удивительное дело. Всю советскую власть Церковь была под запретом. То явным, то условным. Но атеизм был главенствующим в идеологии. Помнишь в институте «научный атеизм»? Выросло два-три поколения наших людей, для которых вера довольно отвлеченное понятие.
– Ну и? – Игорь устроился поудобней и уже допивал пиво.
– А на Западе никто ничего не запрещал. Хочешь, ходи в церковь, не хочешь – не ходи. Никаких тебе атеистических пятилеток, как в двадцатых, ни расстрелов батюшек. Казалось бы, вера должна расцветать. Ан нет. Все вышло совершенно наоборот. Съела там сама себя Церковь. У нас при государственном атеизме вера не уничтожилась, а как бы в анабиоз впала, заморозилась. А чуть стало теплей, хлынула рекой. Храмы полные, на праздник не зайти. Помнишь, когда к нам привозили Пояс Богородицы? Я не помню, какая цифра была названа в конце, то ли два миллиона человек, то ли три, не суть важно. Важен порядок цифр, скольким людям было не в лом прийти, встать в очередь, достояться, иногда больше суток, и прикоснуться к святыне! Очередь стояла от Храма Христа до метро «Парк культуры».
– Ты думаешь, все эти пассажиры такие прямо верующие?!
– Нет, конечно. Но все равно, что-то же их сподвигло на этот подвиг. А для современного городского обывателя сутки на морозе в очереди – это подвиг. А на Западе сейчас такого и быть не может. Там все ушло в педерастию. В торжество мобильника и либеральных ценностей. Сегодня как раз прочитал, что в Швеции в Гетеборге в главном парке отдыха установили специальные кормушки-скворечники. В них презервативы и анальные кремы. Для пидорков, вдруг им приспичит потрахаться на природе. Ум за разум заходит.
– Да перестань! «Заморозкой» советская власть веру спасла?
– Именно так. Советы попытались создать христианство без Христа. Конечно, проект в таком виде был обречен, но успехи были колоссальные. Действительно же люди в массе своей, творческую интеллигенцию не берем, тут я согласен с Лениным, что «оно-говно», а вот люди обычные были добрее. Честнее. Ведь декларированным мерилом всего была польза человеку. Человек был на острие всех начинаний.
– Значит, интеллигенция – кал? – Игорь слушал Костика вполуха.
– Два кала. Гора кала! Даже не навоз. Он хоть полезен для удобрения. Я говорю о писателях-поэтах-художниках начала двадцатого века. Знаешь, я многие годы преклонялся перед ними, Серебряный век для меня был всем. Потом, прочитав их биографии… Сборище пидоров и лесбиянок, через одного наркоманы, алкоголики практически все. Наступила война четырнадцатого, они все косят от армии. У кого мигрень, у кого золотуха! Из уже состоявшихся поэтов служили на передовой только Гумилев и Блок. Блок в инженерной дружине, но все равно, рядом с фронтом.
– Читал. Вон Пастернак аж в работяги записался на «почтовый ящик» куда-то на Урал, только чтоб на фронт не попасть.
– Вот именно! А в столицах продолжались оргии и пьянки, словно и нет войны. Какая тут вера?! Перед революцией вера в городах была на нуле. И уходила в минус. Почти все авангардные и футуристические течения – открыто богоборческие. И все эти предреволюционные и сразу послереволюционные «измы» – это бесовщина в чистом виде. Хотя и талантливая в бытовом, людском понимании жизни. Варсонофий Оптинский примерно так писал в свое время, что поэты и художники подходили к вратам Царствия Небесного, но не входили в него. Так, постояли-постояли и ушли, не побывав в самом храме, толпились у врат Царства Небесного, но не вошли в него. А им было дано все сверх меры для этого.
– Может, может…
– А потом постепенно включилось другое. Созидательная программа. Не смейся, при Сталине.
– А я и не смеюсь.
– Пусть все делалось не так, пусть многое не получалось, многое забалтывалось, но все равно – изначально забота о простых обычных людях. Честность, самоотверженность, правдивость декларировались и приветствовались. Сейчас – как сдуло. Только деньги – мера всех и всего. Кстати, поэтому советский человек так легко и с удовольствием вернулся к христианству. Он и раньше жил этими заповедями, только теперь добавился Господь и все стало на свои места. Душа человека ждала Его и получила, потому что была готова.
– Ну да. Такое воровство, как сейчас, даже и вообразить трудно! Какие, к чертям, «свои места»!
– Понимаешь, все не совсем так. Как бы это объяснить… Мир устроен несколько иначе, чем мы учили в школе. И все это воровство, невежество, тупость, дикость – это все естественная природа человека. Если хочешь, она даже нормальна! Просто наша юность прошла в «ненормальное» время, в строе почти райском, не укладывающемся ни в какие человеческие рамки.
– Ты хочешь сказать, что мы жили в неправдоподобном мире?!
– Конечно! Это было совершенно противоестественное человеческой сущности построение общества. Посуди, официальный лозунг государства – «Человек человеку друг, товарищ и брат». А тридцать веков до этого – «Homo homini lupus est». Государство, выдвигающее лозунг, должно его толкать в жизнь. А с кем его воплощать?! Человек же, каким был до семнадцатого года, так и остался им и после. Отсюда и репрессии, лагеря. Конечно, не надо идеализировать советскую власть. Ее делали и создавали эти же волки по волчьим законам. Но для цели благой. Вот в чем штука.
– Наглядная иллюстрация про благие намерения и дорогу в ад.
– Все так, Гарик, и не так. Понимаешь, гадство капитализма в том, что все делается ради бабла. Мерило жизни – деньги. При социализме хоть в теории этого не было…
Машина уже развернулась на Комсомольском проспекте и мчалась по эстакаде в сторону центра. Еще поворот у уцелевшего ампирного особнячка, и приятели подкатили к ротонде выхода из метро. Кукольный домик с вывеской «Букинист», на удивление, уцелел. Только пространство сзади него и вокруг было занято верандой какого-то ресторана с пластиковым названием. «Интересно, – подумал Игорь, – вот совершенно чужеродный элемент, тенты, тупая вывеска, стулья, как на пляже. И старинный дом, который был практически всегда. Но ведь сейчас кажется чужеродным именно он, а не дурацкая забегаловка, наваленная впопыхах совсем на днях! Значит, что-то изменилось в воздухе. В строении среды. В составе неба. Странно это».
Рядом с ним, поставив ногу на высокий бордюр станции, отвлеченно болтал по телефону среднего роста чуть полноватый человек с дорогим коричневым портфелем через плечо. Игорь сразу узнал Олега. Они дружили раньше. Только последние лет пятнадцать не встречались. Пути их разошлись, но они не ссорились. Просто существовали параллельно.
– Здорово-корова! – Олег уже влезал в машину. – Я не спросил вчера, ты где этот роман взял.
– Здорово. А хоть бы и спросил. Я ж ничего не помню. Вообще. Только сегодня узнал от Костика, что с тобой разговаривал и стрелку забил. С романом длинная история. Принесли. Понравилось?
– Мощно жрешь. Да, понравилось. Забавная. Как в том времени побывал. Виталика-монтировщика прекрасно помню! И Ленку!
– И я помню. Кто это написал, не представляешь?
– Нет, не знаю. Я давно из нашей той компании никого не видел. А ты?
– Поумирали многие. Носовский из окна вышел. Помнишь его?
– Господи, помилуй! – Костя перекрестился. – А что с ним было? Наркота?
– Да. Героин. И пьянка тоже. Но это не он написал.
– Андрюха выкинулся? – Олег странно сжался. – Мы же с ним в Африке служили после института. Мощный мужик. Был. Ни одной писятины не пропускал. На бабах просто свихнулся. Но и девки его любили. За его сальную физию и толстый хрен, прости Господи. Он в Анголе и с наркотиками связался только потому, что была такая телега, мол, под наркотой долго не кончаешь. Хотелось крутым быть. У меня остатков мозгов хватило, чтобы не сесть вместе с ним на это дело…
Олег достал фляжку с вискарем, глотнул, протянул Игорю.
– Помянем.
Игорь отхлебнул.
– Славно мы с ним по бабам походили… – Олег смотрел отвлеченно в окно автомобиля. – Лет семь его не видел. Помню, он четко говорил: после двадцати семи бабу уже нужно сдавать в клинику, на опыты. От нее толку уже никакого. Любил малолеток, просто жуть. Однажды позвонил и рассказывает в ужасе, мол, у него есть девка семнадцать лет, так она ему намедни заявила, что по Москве работает бригада отморозков, которая ловит таких козлов сорокалетних, падких на молоденьких, и мочит. Он реально испуганный звонил. Красиво его соска развела. Я его успокаивал, хотя и ржал, как лошадь. А он – нет, пора, видимо, успокаиваться, на двадцатилетних старух переходить. И он всерьез это говорил, без шуток.
– Мне говорили, потом он женился, ребенок… – Игорь удивленно слушал приятеля.
– Кто? Нос?! – заржал Олег. – Еще скажи, любовь была!
– Ну не знаю.
– Не смеши. У Андрея никакой любви не могло быть в природе. Залетела какая-то очередная дура, и все. Он очень расчетлив и конкретен был. Если и правда женился, в чем я очень сомневаюсь, то какой-то интерес был, квартира или еще что-то по делам его. Я с ним разошелся, да, лет шесть, семь, а так мы общались плотно. По женскому вопросу.
– Живут же люди…
– Да уж, не то что ты, Гарик, одномандатник!
– В смысле?
– Ну однолюб. Давайте хоть в сторону отъедем. Торчим здесь…
– Скорее, я недолюб. Хотя, в принципе, одно и то же.
– Куда поедем? – взялся за руль Костик.
– Ну… Хоть туда. – Олег мотнул рукой. – За угол. За «Чайку». На «Альбатрос» бывший… Хотя там поворота нет. Тогда кружок сделаем, через Садовое и Кропоткинскую, а там по Мансуровскому, пересечем Метростроевскую, в смысле, Остоженку, и по Коробейникову, на набережную. И вывернем к «Альбатросу». По местам боевой славы, мягко выражаясь. Да и в писанине твоей все это описано.
Машина, плавно развернувшись, пошла на Садовое кольцо. Олег продолжал отхлебывать из фляжки довольно активно.
– Не слишком резво вы начали? – с подозрением смотрел в сторону Олега Костик.
– Ребята, не ссать. У меня много. Хватит на всех. – Олег дернул грустно тюмкнувшую сумку. – Вот, послушай, Гарик, основная причина твоего одномандатства, ну или недолюбия, как желаешь, в том, что ты слишком серьезно относишься к бабам. Они много проще устроены, чем тебе кажется. И если на то пошло, не реагируют на людей, которые их слишком уж уперто и с пиететом воспринимают. Вот ты мне вчера рассказывал, что так и остался один, любишь какую-то дуру, ноешь, соплишься. А ведь я помню, что и в молодости, в инязе, у тебя была такая же петрушка. Как ее звали, Кость, на нашем курсе? Эффектная такая девка? Имя еще необычное такое…
– Инга?
– Точно. Пока ты, Гарик, пускал слюни, ее трахнуло пол-института. С большим ее согласием на это дело. И что?!
– Вот и я хотел спросить: и что? Да, любил ее, не вышло. Бывает.
– Малахольный ты был и остался. Как и герой в этой повестушке, претенциозно названной романом.
– Гарик, Соловей прав в чем-то. Женщины гораздо прагматичнее мужчин. Материалистичнее даже. Я вот тут как-то задумался. Человек создан по образу и подобию Бога. Это понятно. Но если задуматься, это же относится только к мужчинам! Недаром во многих языках мужчина и человек – это одно и то же слово. А все потому, что женщина создана с оглядкой на мужчину, из его ребра, соответственно, по подобию человека, а не Бога! Женщина создана по подобию человека! Понимаешь? Соответственно, путь к Богу у женщины лежит только через мужчину! Она производная второго порядка и ориентирована не на Бога, не на духовную сферу, а на человека, то есть на материальное!
Машина наконец, покружив по переулкам, приткнулась во дворах за желтым ампирным особнячком.
– По тебе, Кость, инквизиция плачет за такие речи! – веселился Олег, не забывая отхлебывать из фляжки.
– Отмолю!
– Что-то я запутался, – недоуменно протянул Костя, оглядываясь по сторонам. Машина стояла на пустой асфальтовой площадке. Асфальтом было закатано все, как будто действительно кто-то слизнул и стер все опознавательные знаки, вешки, которые оставляла память именно для таких встреч.
– Здесь, что ли? – тоже удивился Олег. – На «Альбатросе» бревно было! Кусты, опять же…
– Еще скажи, стакан висел, – хмыкнул Игорь. – Решетка там была, точно помню, и гаражи какие-то.
– Стоп. Это здесь. Точно здесь. Помнишь, когда шли насквозь к бассейну, горка была? Падали на ней. Ну вот… – Костик показал на отутюженный асфальтовый спуск.
– Точно, – кивнул Игорь. – Вот же дерево. Оно там было вроде. Нет, точно.
Посреди залитой асфальтом лужайки действительно стояло дерево. Оно, залитое сине-черным гудроном по самый ствол – земли не было даже видно, – выглядело абсолютно лишним на пустыре.
«Интересно. Не асфальт чужероден, а именно дерево. Должно же быть наоборот. А здесь вот так. Как и особнячок с „Букинистом“ – чужой», – успел подумать Игорь.
– Точно, здесь «Альбатрос» был, – категорично заявил Олег. Он уже успел прошагать по спуску до переулка, оценить местность взглядом снаружи и теперь, удовлетворенный, взбирался на асфальтовую кручу. – И церковь там отреставрировали. Старообрядческую. Помнишь, в ней был НИИ Биотехники, нам там дистиллированную воду запивать водку постоянно давали? Именно дистиллированную! Не из крана!
– Ладно, здесь так здесь.
Игорь посмотрел на небо. И согласился. Небо было именно таким, каким должно быть оно в этом месте. Мысль, что он просто идиот, Игорь выкинул из головы, как совершенно очевидную.
Друзья открыли двери машины, разложив бутылки и закуску в виде печенья на сиденьях. Сами стояли перед раскрытым нутром автомобиля, иногда прогуливаясь туда-сюда.
– Давайте, что ли, и Сашку Макарова помянем.
– Как?! И он? С ним-то что?
– Спился, потом кинули на квартиру, исчез, вот недавно нашли все, что от него осталось. Я с его женой встречался. Бывшей женой. – Игорь потянулся к бутылке с виски.
– С Иркой? – вопросительно кивнул Олег.
– С ней.
– Тяжелая баба.
– Почему? Мне она показалась очень красивой.
– Красивая – это да. Но извела она Сашку ревностью. Он от этого и пить начал. Он хороший, добрый парень был. И хоть бабы к нему липли, он Ирку любил. А она его ревновала дико. Шагу не давала ступить. Вот оттуда все и пошло-поехало.
Олег достал пачку сигарет, повертел в руках и опять спрятал в сумку.
– Странно как, – Игорь взял бутылку у Олега. – Странно. В детстве думал, что взрослые все знают. Сейчас, к своим годам, уже совершенно точно могу сказать, что не знают они ничего. Не могу себе представить эту ситуацию. Изводить ревностью, когда любишь. Зачем?!
– Ты много чего представить не можешь, Игорь, – тихо сказал Костя. – У тебя странный взгляд на мир. Ты вроде и не взрослел. И не видишь живых людей, что с ними происходит.
– Да все я вижу! – взорвался Игорь. – Просто тяжело. Жить. Вот ты, верующий, скажи, может, Господь изначально замыслил такого никчемного, несостоявшегося человека вроде меня? А я ропщу. А все. Все решено. И изменению не подлежит.
– Ты что, Гарик?! Не может быть такого. Бог всем нам желает добра. И ведет к добру. Только нам это сложно понять зачастую. Дурь мешает. Скажу больше, все, что мы ни попросим у Бога, все исполнится. Если честно попросить, конечно.
– Прям все?!
– Знаешь, есть такая притча. Что у Бога на твои просьбы есть три ответа. Первый – да. Второй – да, но позже, надо еще потрудиться. И третий – нет. У меня для тебя есть гораздо лучшее.
– Ладно, проехали. Носа и Сашку помянули. Остальные-то хоть живы из наших? Когда я читал повесть дурацкую, накидал людей, которые могли бы все это написать. Вот список.
– Интересно, – Олег протянул руку за бумажкой, которую Игорь достал из джинсовки.
– Ну что, друг… Себя я вычеркиваю. Сашка Макаров уже там. Нос там же. Костик – вот он. Не писал?
– Да нет, вы что. Что я, тронутый, что ли? Для меня до сих пор квитанцию заполнить – мука!
– Вычеркиваем… Агей давно в Версале, лет двадцать. Серега Нерубенко примерно столько же в Нью-Йорке работает гражданином США. Арчи – большой чиновник в Лондоне, не до дурки ему сейчас. Получается, все. Ну и Ленка умерла, это ты знаешь.
– Ленка?! – Игорь замер.
– Ну да. Ты разве не знал?
– Нет. Я ее, наверное, с начала восьмидесятых и не видел. Как же так, как умерла?
– Мне казалось, что все наши знали об этом. Ты вообще ничего не слышал, что ли? И про Виталика?
– Боже, а с ним-то что?
– Он умер еще раньше Ленки. Они поженились в конце восьмидесятых. Жили довольно бедно после развала Союза. Но, по слухам, нормально. Хорошо. Кстати, в этой повестушке неправильно написано. Она жила не здесь, а где-то на Профсоюзной. Это потом она сюда переехала, в виталиковскую коммуналку.
– Они поженились… Как она умерла?
– Виталик-лысый, конечно, квасил, но в меру. А когда новую, свободную Россию завалили отравой под видом бухла, он и траванулся. А Ленка… Она умерла лет пять назад, нет, шесть. Точно, шесть. Кто-то из наших звонил, я еще собирался на похороны идти. Но не дошел. Сердце у нее не выдержало. Хороший она была человек.
Игорь сидел, ошеломленный новостью. Страшно узнавать, что знакомый человек умер. Но еще страшнее осознать, что этот человек умер давно, а ты и не заметил. Ленка, безусловно, была близка ему, как бывают близки и трепетны старые фотографии, неуклюжие дневниковые записи детства. Как фильмы, просмотренные в тесном клубе пионерского лагеря и больше не увиденные никогда. Но воспоминания о которых туманны, нежны и сладостно тревожны.
Ведь он же совсем ничего не знал о ней. Кем она в реальности была, что за человек пил с ним портвейн, смеялся над шутками, радовался солнцу и дождю. Очень часто нам кажется, что мы хорошо знаем человека, а ведь мы не знаем его вовсе. Я постоянно выдумываю чужую их жизнь и потом живу с этой выдумкой о человеке. А реальная его жизнь мне почему-то неинтересна. Почему?
– Как странно, я читаю повесть о ней, а ее уже нет. А там она живая. Все-таки кто это мог написать? Ведь все очень точно рассказано. Кроме мелочей.
– Да кто его знает. Кто-то сделал, и спасибо ему. А так бы встретились или нет, кто знает. Время-то куда-то скачет. Даже я при всей своей прагматичности не могу поверить, что уже давно взрослый. А герой – дурак там, – Олег наконец шумно выдохнул и полез в сумку за сигаретами. – Бросаю вот… Но сегодня можно.
– Почему дурак?
– Потому что. Тоже не осознает, что «потом» ничего не бывает. Нету. И что выбор надо было делать раньше. А мы его не решились сделать.
– И ты? – удивился Игорь. – Я думал, что такие проблемы только меня колбасят, а ты, успешный такой, крутой практически…
– Ну да. Что я, Галилео Галилей, что ли? Это вам казалось, что я уверен в себе, да и мне тоже иногда… А выяснилось… Да ладно.
– Знаешь, я сегодня сидел утром с похмела и думал, чем отличается моя квартира от той, что была тридцать лет назад. Ничем. Кроме одного. Вокруг меня стоят книги. Вот и тогда они стояли точно те же. Но тогда я еще мог их прочитать, теперь уже нет, – Игорь наконец решился и налил себе половину пластикового стаканчика виски. – Поехали.
– Поехали, – поднял бутылку Олег. – И не парься, кто написал эту милую сказку. Какая разница? Время прошло, понимаешь? Штука времени в том, что оно вечно. То есть оно каждую секунду, каждое мгновение безвозвратно заканчивается и в тот же момент воскресает. Рождается заново. Поместил в мозг? Это я сам долго вмещал в себя, прежде чем понял такую простую вещь.
– Поехали, – повторил Игорь и выпил. – Да я уже все понял.
Дальше друзья о чем-то болтали. Речь их была мила и бессвязна. Вспоминали разные глупости. Кто из институтских девок кому не дал, о залетах в ментовку, о свежести похмельного портвейна и прочую чушь.
Потом откуда-то появился Николаша. Игоря сначала это весьма удивило, он все хотел спросить, что он здесь делает, но все время забывал. Он смотрел на задник старинного особняка.
– Странно, почему тогда я его особо не замечал. А он красивый, игрушечный. Очень домашне-московский. С колоннами чуть пузатыми, с береткой портика. И барельеф из греческой жизни. До половины снизу покрытый серой пылью. Полуголые мужики отдавали, преклонив колени, свои мечи кому-то. Странно, но эта сцена почему-то явно напоминала сегодняшнюю пьянку. Голых мужиков у нас пока не видать, мечей со шлемами тоже. Но композиция… Ну и бред.
Николаша вовсю хлебал общественный вискарь и, выставив, видимо для убедительности, локоть в небо, спорил с Олегом.
– Ты еще на Акунина сошлись…
– А что? Он вполне приличный писатель.
– Акунин твой хитрожопый халявщик…
– Да перестань!
Тишина и внутренний провал закончились тем, что Игорь нашел себя на лавочке на Цветном бульваре. Он сразу узнал эти знакомые с детства места. Громада здания, возникшая на месте снесенного Дома политпросвещения, совершенно не нарушала привычную линию пейзажа. Как раз за ним когда-то находилась та самая пивная в Большом Головине переулке. Видимо, он, оторвавшись от ребят, сел на 31-й троллейбус и приехал сюда. Этот маршрут еще лет тридцать назад был выработан до автоматизма.
Вечернее пространство майского вечера, медленно переходящего в ночь, было заполнено навязчивым запахом сирени и дикой вонью, исходившей от толпящегося и галдящего люда вокруг. Эти смуглые, покрытые оспяным дождем мужские лица, покорные глаза кривоногих среднеазиатских девочек-подростков с колясками, шныряющие взгляды кавказцев, на контрасте со стоявшей рядом такой московской скульптурной композицией с пышными, улыбающимися крестьянками с граблями вдруг напомнили Игорю о падении Рима. Соцреализм выкрашенных в черный цвет статуй колхозниц вдруг на глазах обернулся классической Античностью, изяществом белоснежного мрамора рук и фидиевским изгибом тяжелых бедер.
«Как интересно, нашествие варваров, вернее, так – наличие варваров, – сразу превращает простенькую поделку в классику, рассказик о жизни в античную трагедию, Москву в Рим. А если „Москва – третий Рим, и другому не бывать“, то значит… Это просто конец света близится. Сиренево-потный запах тлена. Все просто. Как же эта скульптура называется? Помнил же. А что я тут делаю? И где все?»
– Это ты звонил?
Игорь очнулся. Перед ним стояла полноватая девушка, нет, скорее, тетка. Нет, все же девушка.
– Куда?!
– Куда, куда! К нам! В салон! Это же тебе приспичило девок пихать по ночам! Пошли.
Не понимая, зачем он это делает, Игорь встал и поплелся за полноватой теткой. Справа оставалась скульптура с граблями, заросли сирени и играющие огни зданий. На столбе мигал зеленый человечек, и они подошли к серому в сумерках многоэтажному кирпичному дому. Игорь сразу узнал его. Здесь внизу было когда-то кафе-мороженое, и в нем жила девочка, девушка Алина, в которую Игорь в юности был влюблен.
«А жила она на… четвертом этаже… квартира направо и еще направо… Как же мне хотелось туда попасть! Сколько мне было лет? Пятнадцать? Шестнадцать? Я не знал, зачем мне туда хотелось, но проникнуть в ее квартиру была идея фикс. Увидеть ее в домашнем интерьере – значит стать ближе, что ли. Вряд ли у меня тогда были какие-то более смелые мысли по направлению к ней».
Лифт остановился на четвертом этаже.
– Направо и еще раз направо, – скороговоркой произнесла толстуха.
Через мгновение, немного замешкавшись с замком, она уже открывала Алинкину квартиру.
Игорь вошел и огляделся. Понятно, что с тех юношеских времен прошли столетия и никакой высокой смугловатой девочки Алины с чуть рыжеватыми волосами и качающимися бедрами здесь давным-давно нет. Да и была ли она вообще.
«Или это все почудилось старому дураку, может, просто прочитал где… Вот и работает мозг на наркотике чтения. Вырабатывает кайф организму из несуществующих в реальной жизни событий. Нет. Тут, наверное, правда. Хотя…»
– Ботинки снимай. Вот тапки, – кинула на пол шлепанцы его провожатая. – Девочки все заняты. Подожди, пока освободятся, проходи на кухню. Или можно меня.
Игорь неопределенно мотнул головой и вошел в узкую кухоньку. В самом конце за столом сидел огромный полуголый человек и плакал. Перед ним торчала початая бутылка коньяка и две чашки. На громадной и белесой его коленке сидела голая миниатюрная негритянка.
– Брат… Ты ее не видел? – поднял голову детина.
– Кого?!
– Ольку.
– Нет.
– И я нет. Люблю я ее, шлюху. А она сбежала от меня. Пей, – парень протянул чашку с коньяком.
Игорь подумал, взял чашку и выпил.
– Хочешь еще?
Игорь пожал плечами. Голый наливал ему еще.
– Не стесняйся, бери, пей. А я все равно ее дождусь. Должна она прийти. Как думаешь?
Игорь второй раз за несколько последних минут неопределенно пошевелил плечами. Вошла уже знакомая ему девушка, которая встречала его.
– Все еще заняты. Может, все-таки меня будешь?
Игорь встал и пошел за ней в дальнюю комнату.
Здоровяк ему вдогонку крикнул:
– Возвращайся. А я тут пока с занзибарой посижу. Подожду.
Игорь обернулся. Маленькая, миниатюрная негритянка, высунув розовый язычок, морщась, пила из чашки коньяк. На широкой, как палуба, голой ляжке парня она выглядела детской игрушкой, забытой на подоконнике.
– Я Вероника, – выдохнула пылью дверь древнего, еще советского шкафа. Женщина доставала с полки постельное белье. – Давай деньги.
Она тряхнула волосами цвета прошлогодней соломы и привычным движением распахнула простыню. Сняла с себя джинсы, светло-голубую майку, белые трусики и легла на спину, раздвинув в коленях ноги. Красная полоска, оставшаяся от резинки трусов, рассекала ее бледный и довольно рыхлый живот на две неравные части. Лобок, побритый дня три назад, начинал уже грязно топорщиться. Не раздеваясь, Игорь рухнул на спину рядом.
Они долгое время лежали рядом. Игорь смотрел в потолок, тот самый потолок Алины из его юности. Пытался ли он там что-то найти? Скорее нет. Ему было просто удобно так лежать. Он думал об умершей Ленке. Настоящей Ленке, хорошем товарище его бурной молодости. Не персонаже, описанном в повести, а реальной, живой Ленке. Не живой уже, точнее. Она умерла шесть лет назад. Шесть лет… Это много. Что же было тогда… А, тогда я познакомился с Полиной! Точно. Надо же как. А ведь я любил чуть-чуть ту Ленку. Или не чуть-чуть. Сейчас уже и не имеет значения. Или имеет? Я не видел ее с начала восьмидесятых. Так и не дождалась она моих молодильных яблок. За Виталика она правильно замуж вышла. Почему, кстати, его звали лысым?! Он был обычным, волосатым. Удивительно, я только сейчас, через много лет после его смерти, об этом задумался.
Как странно и одновременно логично, что ли, что их уже нет на свете. И были ли они? Вот опять он задает себе этот вопрос. Были ли в действительности все эти люди его молодости, или это фантомы, рожденные его воспаленным умом? Странно, что к нему попала эта рукопись с «ку-ку» из прошлого, странно, что прошла всего неделя, как он получил ее, а сколько всего произошло за это время. Опять в его жизни возникли вперемешку и тени, и реальные люди, и определить, кто из них кто, ох, как сложно. И ведь зачем-то ему все это нужно!
Скрипнула дверь в смежной комнате справа от кровати. Показалась испуганная девичья мордочка.
– Вероник… Он там? Я писать хочу. Здравствуйте.
– Писай в горшок, дура! Там, конечно. И сиди тихо, если не хочешь опять по башке получить!
Мордочка спряталась. Вероника резко обернулась к Игорю.
– Ну а ты чего? Давай уже! Резинки вот лежат!
Игорь молча встал, прошел в коридор и надел ботинки. Вероника его не останавливала. Он долго ждал лифта и наконец вышел на улицу. В черный чай майской ночи. Звезд не было видно. Наверное, из-за желтых пятен окон, а может, из-за пьяной пелены, все еще покрывавшей его глаза. Игорь вдруг резко остановился. Судорожно сунул руку в карман джинсовки, нащупав, достал телефон. Нажал вызов.
– Але… Ты где, Гарик? Ты куда исчез? – голос Костика был сонный и взволнованный.
– Значит, не может? – помолчав, спросил Игорь.
– Что? Ты где вообще?
– Не может Господь желать мне жизни идиота?
– О боже! Нет, конечно! Игорь, ты где…
– Ага… Спасибо.
Одиннадцатая глава
«Несколько дней одного года» (окончание)
День шестой
Гоголевский бульвар был пуст. Это был тот самый момент перехода, трансформации пространства, когда ночь уже закончилась, а утро еще не начиналось. Двери станции метро «Кропоткинская» не порхали туда-сюда, а были скованы изнутри мощной железной скобой, напоминающей капкан на волка. Исчезли уличные коты, обычно нет-нет, да выглядывавшие из подворотен, исчезли даже галки, стаями оккупирующие средние ветки московских тополей и вязов. Было пусто настолько, что казалось, что даже раннее майское солнце не оставляет теней рядом с рядами деревьев и лавочек.
Единственно живым существом казались лишь дрожащие огоньки уже знакомых мне автоматов с газировкой. Впрочем, нет, ощущалось присутствие огромного организма бассейна «Москва». Хоть самой воды с бульвара не было видно, чувствовалось, что купель будущего храма тяжело и как-то очень широко дышит. Но все это удивительным образом только обостряло тишину и пустоту города. Я поднимался по бульварам к Пушкинской площади.
Стеклянный стакан, нанизанный на железную лесенку – место обитания милиционера-гаишника у Никитских ворот, был тускл и пуст. Зря эти сооружения убрали в двадцать первом веке. Дурь-дурью, а все равно было в этих стаканах-рюмках милицейских что-то живое, человеческое. Мент в нем был сказочен и походил на Соловья-разбойника, сидящего в гнезде на пятисотлетнем дубе.
Кстати, лес. Меня последнее время, в той будущей жизни, все время волновала одна глупая и наивная мысль. Но избавиться я от нее не могу. Вот Москва, центр. Тверская, сейчас, в 79-м, улица Горького. Никитские ворота. Спутанный клубок переулков между ними. А ведь раньше здесь был лес! Там, где асфальт, где незыблемое на моей памяти здание Консерватории, или вот тут, совсем рядом, где храм Вознесения Христова или волшебный особняк Рябушинского, вместо всех этих констант жизни был лес! Иногда дремучий, с непроходимым буреломом, иногда светлый и солнечный, с веселыми рощицами. Переулок Садовских, катящийся вниз от Тверской к Трехпрудному переулку – был обычным лесным косогором. Где наверняка росла земляника и в июньский зной сновали ящерицы. Козихинские переулки – это же гадючье болото. Со сломанными стрелками осоки, клюквой, камышами и хлюпающими тропинками.
И иногда, когда я пристально смотрю на город, его здания, улицы, площади вдруг начинают мерцать и растворяться. И на их месте проступает здоровый русский лес. Со своими премудростями, страшилками и свободой. Город условен. Он «и. о.», исполняющий обязанности места жизни, на самом деле здесь царствует лес, природа в ее естестве.
Как-то однажды, недавно, о господи, ну в будущем, я ездил в Абхазию. Примерно в те места, куда звала меня еще вчера Ленка. И вот там меня поразило то, насколько природа, лес, быстро забирает город. Обратно в себя. После гражданской войны некоторые села и районы городов не восстанавливали, там так и остались проткнутые пулями остовы домов, человек не вернулся в них, и сразу лес, а там он буйный, с лианами и яркими до приторности цветами, захватил пространство. Появились звери и птицы. Лес ожил. И самое интересное, что это выглядит нормальным. Естественным! Словно так и должно быть. Лес вернул свое.
Так и здесь, в Москве. И я знаю, если что произойдет, лес заберет свое. И не важно, что его сейчас нет. Неважно. Надо только видеть это. А в случае чего, он развернется мгновенно, зримо и широко. Как законный хозяин.
У памятника Тимирязеву я наконец рухнул на лавочке. Что же произошло со мной на самом деле? Почему никак не кончается этот сон? Или это не сон, и мне суждено зависнуть между эпохами навсегда? Быть нигде, ни здесь, ни там?
На самом деле, вопросы городского лесоводства, философия ментовских «стаканов» и все эти никчемные вопросы интересовали меня сейчас в меньшей степени. Если честно, на данный момент в никакой. Я просто пытался заполнить ими мозг. Вытеснить оттуда единственно здравую, четкую и совершенно точную мысль. Какая же я скотина и трус. Я же сбежал от Ленки, я испугался своего счастья, которое – вот оно, вот, совсем рядом, только протяни руку.
Кстати, за вчерашний день, а он был без сомнения главным в нынешней жизни, я умудрился не выпить ни глотка. Вот чудеса-то!
И самое скотское то, что я заранее знал, что сбегу, хотя прятал эти мыслишки так тщательно, так вглубь, прямо на донышко того болота, что называется у меня душой. Так было всю жизнь, я ждал и потом бежал от того, чего наконец дожидался. У меня возникает человек, который меня любит, любит! Наконец живой. Не стандартные фантомы, которыми была забита моя жизнь, а осязаемый человек. Хороший человек. Прекрасный человек. Именно тот, который мне нужен. И не важно, что это происходит в прошлом. Не важно. Для меня это прошлое – будущее, неужели непонятно? И любовь настоящая, живая, вечная, при чем здесь времена и эпохи! Я даже этого осознать не могу. А поняв это, дождавшись ее, бегу прочь.
Сейчас я оставил счастье там, в Коробейниковом переулке, и я туда больше не вернусь никогда, как никогда не возвращаются реально в свою молодость. И решаться на счастье нужно было не сейчас. Не в тот момент, когда я осторожно и подло вылезал сегодня из-под одеяла, чтобы ее не разбудить, а раньше. Раньше! Я вспоминал на пароходике своих баб, с которыми ничего не случилось у меня, так вот, решаться нужно было с ними. Точнее, с ней одной, повторяю, неважно, как ее звали в тот момент. Ленка – это итог. Демонстрация моей беспомощности. Тем более, что в этом мире, да мой это мир, мой, несмотря на изменившееся время, я никак не могу найти себя.
Вот, наверное, это как раз главное. А Ленка, любовь – лишь следствие. «Ведут знатоки». Что это я так расфилософствовался? Карфаген должен быть разрушен! Или пусть пока постоит?! С любовью все ясно и очевидно. Иного и ожидать было трудно. Что теперь?! А теперь, раз и так все кувырком, я должен, просто обязан увидеть себя самого. И будь что будет.
Тверской бульвар между тем обрастал людьми. Начиналось очередное утро. Человек естественен в городе, он его часть. Поэтому так пугающе странны города без людей. Вот и сейчас люди заполняли его вновь. Это как на пустой початок кукурузы вновь нанизывались зерна. А к вечеру произойдет все то же самое в обратном порядке.
А что я? Мне-то что делать? Шанс любви я вычеркнул своими мозгами. Теперь, думаю, остается последнее. Да. Надо идти к себе. Чушь какая. А ведь больше нет никаких смыслов в пребывании здесь, в этом мире. Я должен увидеть себя, и тот «я», возможно, скажет мне самую главную вещь. Ради чего это все. Господи. Как же я не понял-то! Это не он мне, а я ему должен сказать! Я должен схватить себя молодого за шиворот, тряхануть, дать по морде и заорать – очнись! Не бойся ничего! И не жди! Действуй сейчас. Никакого потом нет. Потом жопа и беспомощность. Да уж, герой. Это я «Терминатора» насмотрелся. Что уж там.
Стоп. Вспомнил. Вспомнил, что я делал 24 мая 1979 года. Фантастика, но я вспомнил! У Реваза, одноклассника, сегодня день рождения! Реваз из московских грузин. После школы я его больше и не видел. И мы соберемся с приятелями, одноклассниками у него дома, за Елисеевским магазином, в Козицком переулке. Накупим в том же Елисее кубинского рома «Гавана Клаб». От неопытности много. Он дешевый был тогда. И я впервые в жизни напьюсь. Поэтому и запомнил тот день.
В эту секунду я уже понял, что пойду туда, именно на этот день рождения. И идут лесом все фантасты недоделанные, рассказывающие о трагедии при встрече с самим собой! Бред. Они не путешествовали в прошлое. А я – вот он, здесь. Так что – все вон! Я увижу себя и скажу наконец все-все. Все, что потребуется ему – мне, мне! – в жизни. И он поймет, он толковый, вообще-то, но дурак такой.
Так, значит на ДР, как говорят у нас. В нашем времени. Во сколько? Наверное, часам к четырем. Так раньше собирались, если не путаю. Утром школа. Часов до двух. Так, подъезд я помню. Квартира… Этаж второй, окна на улицу. В смысле улицей там был широкий проход между здоровенными доходными домами, построенный еще Бахрушиным, фабрикантом, до революции. Мощные домины. Кстати, еще тогда, в детстве, тьфу, сейчас, значит, весь район назывался Бахрушинкой, Бахрой. Найду квартиру. Там коммуналка была, но соседей у него всего двое. Помню. Это, считай, почти отдельная квартира по тогдашним московско-центровым меркам.
Так. А как войти? Соображу. А что сказать? А что сказать самому себе? Вот это да. Проблема. Это же непостижимый факт – говорить с самим собой в юности! Понятно, что ум за разум заходит. Но. Реально, надо спросить что-то важное! То, чего я так и не понял в нынешней моей жизни. А что для меня важное? Ладно. По обстоятельствам.
В пять часов я уже стоял перед подъездом Реваза. Пьянка, по моим прикидкам, уже идет полным ходом. Его окно на втором этаже висело на стене чуть левее подъезда. Оттуда на весь двор орал «Band on the run» McCartney. Тогда только вышел советский диск. Такая светло-коричневая обложка с черными контурами Пола. Очень нравился. Да и сейчас. Так. Идти или плюнуть и продолжить жрать? А может, ради этой встречи все и было заверчено со мной? А я струсил. Нет. Надо идти. Хуже уже не будет. Некуда.
Хорошо, что в 79-м не было никаких домофонов и кодовых замков. Так… Осторожно. Подъезд выдохнул тенью, прохладой и сыростью.
«Well,the rain exploded with a mighty crash as we fell into the sun…»
– Дрозд, бери три! – эхом раздалось в горловине лестниц, бегущих вверх.
– Пять!
– Да! – ответил срывающийся юношеский голос.
Застучали ботинки. Мимо меня промчался широколицый, курносый парень. Светлая рубашка выбилась у него из штанов, оголяя белесый пухлый живот. Грохнула дверь подъезда.
«And the jailer man and sailor Sam were searching everyone…»
Господи, это же Игорь, одноклассник мой. Дрозд. Тот самый, который на Дегтярном, с рыбками. А голос был Лешкин. Господи. Им же сейчас по семнадцать лет примерно. Не могу сосчитать. Кто-то был старше на год. И Дрозд побежал в Елисеевский магазин.
Я вдруг вспомнил совершеннейшую глупость. С месяц назад, в той, настоящей, ха, жизни я читал статью про здание, из которого потом сделали Елисеевский магазин. Там был салон известной литературной дамы Зинаиды Волконской. Пушкин с Вяземским оттуда не вылезали. Так вот, перед входом в ее дворец, аккурат над ныне центральным входом в магазин был выбит латинский девиз: «Ridendo dicere verum». «Говорить о правде, смеясь». К чему я это вспомнил? Сейчас мне придется войти в квартиру Реваза и встретиться с собой. Семнадцатилетним. Обхохочешься.
«And the first one said to the second one there I hope you’re having fun…»
Я стоял перед огромной, тяжелой дверью, выкрашенной темно-коричневой краской. Как и все двери в центре тогда.
«For the band on the run, band on the run, band on the run, band on the run…»
Взялся за бронзовую ручку. Дверь, скрипнув, подалась на меня. Надо входить. Или нажать на звонок? Зачем? Пока я размышлял, ноги вошли сами. Полутемное пространство огромной прихожей было наполнено жизнью. Дверь в комнату Реваза, слева, я помню, была распахнута. Маккартни уже сменил Давид Тухманов. «По волне моей памяти».
«Я мысленно вхожу в ваш кабинет…»
Дрожь перекатывалась волнами по телу, я заглянул. Пятеро ребят сидели вокруг стола. Синие школьные пиджаки тряпками валялись на диване. Стол был уставлен салатами. Литровая бутылка «Гаваны Клаб» была пуста. Парни, не замечая меня, болтали.
«Здесь те, кто был, и те, кого уж нет…»
Так. Это Реваз. Это Леша Ефремов. Это Бомкин. А этот, как его звали… Вылетело из головы. Ишак. Это помню. А звали? Саша! А вот и Федор.
Меня среди них не было. Ха, хотя как это осознать, вот он же я, старый дурак. Стою и смотрю на своих одноклассников.
Где же все-таки я? Тот. Может, не пришел? Еще? Как узнать-то?!
– Вам кого?
Я вздрогнул от толчка в спину. Обернулся. Передо мной стоял Дрозд, вернувшийся из Елисеевского. С «Гаваной» в школьной сумке через плечо. Надо же, такая же наглая физиономия, что и сейчас. Надо ему позвонить, сказать. Позвонить? Куда? Той взрослой жизни в двадцать первом веке для тебя уже нет. Это сон. Нет никакого взрослого одноклассника Дрозда, топ-менеджера чего-то машиностроительного, с кем ты виделся недели две назад. Нет его. А есть семнадцатилетний пацан.
«И чья для нас не умерла химера…» Вот перед тобой. Насупившийся и недобро, исподлобья смотрящий на тебя.
– Вам кого? – повторил Дрозд. Остальные за столом наконец тоже заметили меня.
Кого… Да меня самого! И вас.
«И бьётся сердце, взятое в их плен…»
– Я ищу… – мне казалось, что я никогда не выговорю свою фамилию. Она вдруг показалась мне тарабарщиной, набором букв, как имена шумерских царей.
– Таких нет, – просто и сурово сказал Дрозд. – Резо, это не твоего соседа ищут?
– Не… – протянул кудрявый парень с грузинским носом. – У меня две бабки. Вера Васильевна и Инна Аркадьевна. Дверь надо закрывать, Дроздище!
– Нет таких, – подтверждающе кивнул мне Игорь.
Я замер. Мне захотелось заорать: «Очнись, Дрозд, это же я! И я учился с тобой в одном классе! И сидел за партой с Федором на английском!»
«Бодлера лик, нормандский ус Флобера…» И я должен именно здесь, здесь, именно сегодня, именно с вами, оболтусами, жрать ненавистный «Гавана клаб»! Отчего меня потом сутки выворачивало!
– Да я не соседей ищу. Это… Как бы объяснить… Одноклассник ваш.
Сидящие за столом и Игорь недоуменно посмотрели на меня.
– Ну одноклассников таких у нас точно нет!
Ребята как-то уже недобро смотрели на меня.
«Скептичный Франс, святой Сатир – Верлен…»
Я понял, что надо уходить.
– Извините, ошибся, наверное… – промямлил я.
А по-другому-то и не мог. Удары сердца мешали говорить.
«Кузнец Бальзак, чеканщики – Гонкуры…»
– Точно нет в вашем классе? – зачем-то переспросил я.
– Иди-ка ты, дядя… – Реваз встал из-за стола и, сжав кулаки, направился ко мне. Но я уже захлопнул дверь квартиры.
«Их лица терпкие и чёткие фигуры…»
Я слетел по лестнице. Нет. Не слетел. Буква моей тени рухнула вниз, не замечая ступенек. Свет из окон бросился врассыпную. Я вывалился на улицу. Со второго этажа на меня смотрели Ефрем и Федор и ржали!
«Глядят со стен, и спит в сафьянах книг…»
Я бежал по длинному проходу между домами, расшвыривая плечами воздух. Меня нет. Меня нет! Они, мои одноклассники, эти ребята, с которыми я вырос, вот в этих, именно этих дворах, меня не знают! Зачем им врать?! Да и я должен был сидеть с ними за этим столом с сациви!
«Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик… Я верен им… Я вере-е-ен им…»
Все неумолимо складывается в чудовищную абракадабру! В моей квартире живет другой человек, мои одноклассники меня не знают! Меня нет в этом мире. Меня нет в 1979 году. Но меня нет и в том мире будущего, откуда я попал сюда. Где я?! Кто я?!
Я бежал. Вдруг появившийся ветер, тот самый, именно тот, который дружелюбно погонял волну на Москве-реке вчера, я же помню эти толстые щеки, теперь гнал меня прочь. Со свистом, от которого закладывало уши, он исторгал меня из родных дворов, мимо меня проносились удивленные лица окон, людей, галок. Они кружились перед глазами, то воспаряя к небесам, то попадая под ноги. А ветер все надувал щеки, и я слышал его жуткий хохот! Львы с ворот Английского клуба сжались в пружинистый гипсовый комок и, рявкнув, бросились за мной. Перед глазами мелькали окна с огромными столетниками, они казались джунглями и тоже недобро шумели. Внутри комнат развевались занавески, укоризненно качались оранжевые абажуры, в болтающихся клетках испуганно верещали волнистые попугайчики. Гуппи, скалярии, барбусы выбрасывались из аквариумов, стоящих на подоконниках, вылетали в форточки, шумно плюхались и били по тротуару крошечными хвостами. Ветер срывал круглые уличные номера домов, и они, вертясь, как НЛО, сопровождали мой бег. Вот, вот, что-то тяжелое просвистело над головой! Я увидел, как бронзовый цилиндр Пушкина шлепнулся впереди меня и запрыгал по асфальту, как галька по морю. Казалось, мое тело исчезло, голова вжалась в ноги, а они, превратившись в чертово колесо, несли меня вон.
Вдруг все остановилось и замерло. Я почувствовал мягкий шлепок по лицу веткой черемухи и от блаженного запаха очнулся. Передо мной тихо шелестел сад «Аквариум» и театр им. Моссовета. Справа за стеклом висела афиша: В. Дельмар «Дальше – тишина…». Тяжелая дверь с огромной бронзовой ручкой была чуть приоткрыта. Щель манила прохладой, темнотой и тайной. Кто-то словно потянул меня к этой двери, и через мгновения полумрак вестибюля поглотил меня.
Коридоры, огромные пространства театра были пусты именно той звенящей пустотой, которая бывает во время спектаклей. Всё – там, в зале. Здесь хрупкая, хрустальная тишина. Я подходил к дверям, ведущим в партер. Взялся за ручку. Остановился. Постоял. Открыл и сделал шаг.
В глубине, на полутемной сцене стояли два очень пожилых человека. Я сразу узнал их. Фаина Раневская и Ростислав Янович Плятт. На кого же похожа Раневская здесь? На кого… Точно! Раневская – кукла наследника Тутти из «Трех толстяков» в старости! Такая же беспомощная жестикуляция. Жалость жеста.
– Люси… Вот, вот мой вагон…
– Смотри не выходи, не выходи на остановках поезда. Ты можешь остаться. Дай честное слово, что ты не выйдешь на остановках.
– Не выйду…
– И окно не открывай, ты можешь простудиться… Не будешь окно открывать? Не будешь?
– Не буду. Я обещаю, не буду. Как ты устала, Люси… Я только сейчас увидел, как ты устала… Ты же всю ночь провела в поезде без сна, когда ехала ко мне… А я, дурак, еще водил тебя на эти прогулки по городу. Знаешь, вся моя беда была в том, что я всю жизнь был неудачником. Ты меня выбрала только потому, что у меня всегда было в запасе два-три новых анекдота и я умел бренчать на банджо. А в этом злом мире тебе нужен был совершенно другой человек. А не я.
– Ты мне был нужен. Ты самый умный, самый добрый, самый хороший мой… Ты мне был нужен…
– Ты знаешь, о чем я сейчас думаю, Люси? Мне бы комнатку какую, хоть под лестницей, а тебя рядом…
Актеры замерли, увидев меня, идущего через весь зал к сцене. В кукольных глазах Раневской я увидел отчаяние:
– Беги отсюда, Сидор, беги…
Ростислав Янович Плятт, смешно топорща огромный нос, тоже испуганно замахал руками:
– Беги отсюда, парень…
Я оглянулся. Сзади по главному проходу бежали на меня старушки, завитые, как королевские маркитантки, и кто-то большой, то ли пожарный, то ли просто прыткий пузатый дядя, его сопровождала пара рыжих рязанских ментовских морд…
Актеры мне махали в сторону правых кулис. Там было видно пятно двери. Я рванул туда. Путаясь в коридорах, разбивая коленки на многочисленных ступеньках, спотыкаясь о бронзовые штанги, придерживающие ковры, я наконец очутился перед белой дверью. На ней висела табличка, схематично изображающая голову в шляпе. Не раздумывая, я влетел туда.
Передо мной белел и тихо шелестел унитаз. Бачок под потолком казался огромной глыбой, куском гранита, нависшим над моей головой.
«Вот-вот он рухнет на меня, и все», – мгновенно понял я.
И чтобы ускорить этот миг, тем более, я уже слышал матерное сопение рыжих ментов за тонкой перегородкой сортира, я схватился двумя руками за висящую на цепочке бронзовую ручку – о, как она похожа на таинственный футляр для древних манускриптов – и дернул, насколько хватало сил. Освобожденная вода с радостью выдохнула и ринулась вниз. В дверь кто-то звонко треснул. Я обернулся. Справа от неожиданно латунной дверной щеколды я вдруг увидел висящий на черном пластиковом держателе рулон нереальной в 79-м розовой туалетной бумаги.
«Вот и все, – пронзила мысль. – Сверхзвездный! Точно! Цветок у Ленки дома, там, далеко-далеко, в той прекрасной жизни в Коробейниковом переулке назывался гипераструм! Это же значит – сверхзвездный!»
Двенадцатая глава
Лучи солнца врезались в желтую стену церкви Вознесения и шумно падали вниз, образуя залежи теней у подножия храма. Игорь не слышал этого сшептывающегося треска, но знал, что он когда-нибудь его обязательно услышит. Как и звук трущихся боками облаков или скрежет ночных звезд о волнистую гладь льда весенних Патриарших прудов. Похмельная, лирическая дребедень мирно копошилась у него в голове.
Сегодня утром он вдруг резко и неожиданно для самого себя позвонил Полине и попросил ее о встрече. К великому изумлению, она сразу согласилась. И вот он ждал ее на скамейке в небольшом скверике, занимающем уютное пространство между глухой стеной сада старинного особняка и храмом Вознесения Господня. Большого Вознесения, как было принято говорить в старой Москве. Обычно добавляя – там, где венчался Пушкин.
Игорь смотрел на памятник А. Н. Толстому, находившийся прямо перед ним. Бронзовый человек сидел в кресле в писательской позе – нога на ногу. Этот памятник был как-то уместен и эстетичен здесь. Как форма, как часть пейзажа, как необходимая фигура пространства. Да и как писатель Алексей Николаевич был высшей пробы.
«Его „Хождение по мукам“ – сильнейшая вещь. А сколько лет сейчас Полине? Двадцать семь? Нет. Когда мы встретились, ей было… двадцать три. Наверное. Значит… Сейчас ей двадцать девять, что ли? Мама дорогая. У нее же жизнь целая прошла. Ну да. Полинке маленькой второй год, наверное. А замуж? Лет пять примерно назад вышла. Вот дела. Это у меня за сорок, а дальше незаметно. Странно как. А ведь сегодня все может решиться со мной. А что именно? Зачем я встречаюсь с Полиной? Как я вообще решился на это? А Толстой молодец. И „Гиперболоид“ – отличная вещь. Не перечитывал с юности, а до сих пор помню про дачу на Крестовском острове и расщепленную лучом аппарата сосну. Что же она не идет?»
Рядом с ним на лавочке лежат букет белых лилий. Он их очень любил. И мало того, любил дарить эти цветы. Чтобы у того человека долго стоял дома густой запах белых бутонов. Игорю было приятно думать об этом запахе в чужой квартире. Рядом лежала книжка большого, детского формата «Приключения Буратино». Он в последний момент сообразил, что надо что-то подарить и младшей Полине, и купил в ближайшем киоске эту книгу. С яркими иллюстрациями. О том, что автор в бронзовом виде сидит перед ним, он сообразил позже.
Ударил колокол. Сидевшая на урне галка вздрогнула и уронила стаканчик с остатками мороженого обратно. Птица укоризненно посмотрела в сторону колокольни. Игорю даже послышалось, как она сказала: – Эх…
– Эх. Опоздала! Извини. Пробки, – перед ним стояла Полина. Она улыбнулась и присела рядом.
– Привет. Рад тебе. Очень.
– Я тоже тебе рада.
– Как младшая Полина?
– В садике. Ты не представляешь, какой это электровеник! Ни секунды на месте!
– Жуть!
– Тебе смешно… Я же вслед за ней мечусь как угорелая… А я уже старенькая тетя.
– Не смеши.
– Правда. Осенью тридцатник. Это срок.
– Какой такой срок? Ты что?
– Нет. Это правда много. Я знаю.
– Полин, выходи за меня замуж.
– Нет. Извини, но нет. Это невозможно.
– Глупый вопрос, но я спрошу. Почему?
– Сложно объяснить. Ты многого не понимаешь, не знаешь. Здесь куча причин. Я к тебе хорошо отношусь, но это невозможно.
– Ну и?
– Этого мало. Неужели ты не понимаешь? И потом, у меня же семья.
– Разведись.
– Нет. Я только недавно поняла, как мне нужна моя семья.
– Странно все это. Неужели ко мне такое отвращение?
– Отвращения нет, а есть семья, которую я уважаю, точно так, как уважаю и ценю тебя. И не надо обижаться.
– Полина, столько лет… Извини, я глупость говорю.
– Я все понимаю.
– Я же люблю тебя.
– Игорь, я не виновата в этом. Поверь. Может, я где-то не то тебе что сказала, прости. Наверное, не надо было. Я же вроде никаких обещаний, гарантий никогда не давала тебе. Да и вообще! Глупо как-то. Я правда к тебе хорошо отношусь. Но не то, не то. Понимаешь?
– Понимаю.
– Знаешь, я тебе очень благодарна за одну вещь. Ты, наверное, даже не представляешь. Не догадываешься.
– За что?
– У всех бывают минуты слабости или отчаяния, и, если ты поймаешь женщину в этот момент, то шанс привязать ее к себе возрастает многократно, но потом ей будет некуда деваться, и это еще страшнее. Понимаешь?
– Не очень.
– Не важно. Главное, что это было, и ты не сделал. Спасибо тебе за это.
– Ничего не понял. Что я не сделал?
– Не важно. Цветы мне?
– И книжка тоже. Полинке.
– Спасибо. Я побежала. Мне в сад надо. А то она его вверх тормашками перевернет. Пока.
– Полина…
– У меня все действительно очень хорошо, Игорь. Правда. Прощай.
Полина наклонилась, чтобы забрать цветы и книгу, и Игорь ощутил на щеке ее губы. В следующее мгновение Полина уже уходила. Игорь смотрел на ее уменьшающуюся фигурку так пристально, так напряженно, что даже и не понял, обернулась она или нет.
Лучи солнца продолжали вонзаться в стену храма и осыпаться на землю. Игорь видел, что от ударов где-то уже даже потрескалась штукатурка. Небесное пространство быстро заполнялось облаками. Лучи долетали до храма уже реже. Казалось, небо напряглось. И затем вдруг выстрелило. Облака промчались дальше, и майское солнце опять стало жарить. Игорь очнулся, когда зазвонил мобильник.
– Игорь, ты? Это Митя. Узнаешь? Мы с тобой встречались на неделе по поводу рукописи, помнишь?
– Конечно! Привет.
– Как ты? Нашел автора?
– Нашел. Все хорошо.
– Ну и замечательно. А у меня тоже большая радость! Ко мне Полина вернулась!
– Полина?!
– Ну да! Помнишь, я тебе рассказывал, что от меня жена уходила, к твоему приятелю институтскому? Которого нет больше?
– Да, да.
– Ну вот, я и говорю, моя Полина ко мне вернулась! Я так счастлив!
– Твою жену звали Полина?! Зовут…
– Да, конечно. Я тебе разве не говорил?
– Нет.
– Ну вот. Ты даже не представляешь, что для меня это такое!
– Поздравляю, Мить.
– Спасибо, Игорь. Скажу больше, я двойне, вдесятерне счастлив! Что у меня не одна Полина, а целых две! Теперь у меня и дочка есть, тоже Полина, представляешь?
– Дочку твоей жены Полины тоже зовут Полина?!
– Ну да! Представляешь, какой кайф! Она мне больше чем родная уже! Ну ты понял, что это девочка Андрея. Носовского. Но это уже неважно! Как я рад…
– Да. Замечательно. Поздравляю. Скажи, а твоя Полина не жила раньше в Одинцово?
– Жила.
– Полина была твоей женой, а потом вышла замуж за Носовского?
– Ну да. Я же тебе рассказывал. А вы что, знакомы?
– Нет. Да. Немного. По журналистике как-то пересекались.
– Отлично! Сейчас все немного угомонится, приезжай к нам! Обязательно. Полина наверняка будет рада. И я, конечно!
– Спасибо.
Митя говорил что-то еще, но Игорь уже не слышал его. Ему вдруг жутко захотелось спать. Веки набухли, рот исказился в зевоте, он уже почти отключался. Он попытался сосредоточиться на нахальной галке. Та уже оставила в покое стаканчик с мороженым и теперь яростно долбила пластиковую банку из-под чипсов. Зачем ей была нужна совершенно никчемная и пустая банка, было непонятно. Тряхнув головой, чтобы избавиться от сонливости, Игорь протянул руку в сторону ее добычи, но птица по-змеиному зашипела, зло отпрянула, затем схватила банку в клюв и исчезла за молодой и яркой зеленью липы.
Игорь наконец встал. Внезапно возникший ветер мягко подтолкнул его в спину. Повинуясь стихии, он зашагал к воротам. Этот небольшой сквер обрамляли ограда и ворота с настоящей калиткой, и это отчего-то очень нравилось Игорю. Он перешел улицу и зашагал налево в сторону Никитских ворот.
Он ощущал легкое и одновременно тревожное состояние внутренней свободы. Тревожное, видимо, от того, что его мозг, организм, не привык не страдать. Он был обучен переживаниям, знал эту науку досконально, назубок, знал все тайные выверты души страдающей, холил и лелеял эту пленительную боль, даже восхищался и гордился ей.
«А тут – все. Ничего нет. Все оказалось проще и глупей. Я не заметил чужой жизни». Переживать о том, что он не знал, не вникал, не удосужился поинтересоваться жизнью любимого человека – было глупо. Да и любимого ли человека? Да и кого он любил? Призрак?
Была ли Полина тем самым любимым человеком, он уже и не знал. Сейчас неожиданно все разноцветные и причудливые осколки вдруг совпали, встали на свои места. И это оказалась довольно простая, но такая по-настоящему реальная картинка под названием – его жизнь. Все на месте. Остались лишь последние штрихи, чтобы на ней засияло солнце. Чтобы совпали картинка жизни и сама жизнь.
Игорь брел дальше. Проходя мимо церкви, маленькой, запрятанной вглубь квартала справа, он вдруг по привычке вспомнил, что пару лет назад он осенью удачно позвонил отсюда Полине. Точно, это была осень, ранняя. Потому что там вот, на крошечной церковной клумбе, росли цветы. И он спросил по телефону у Полины их название. Оказалось – это флоксы. Кстати. А в чем была только что Полина? Что было на ней? Платье? Джинсы? Что-то темное. Или синяя куртка? Что-то знакомое, похожее на прежнее чувство мелькнуло в голове, но весенний ветер, хлынувший от Садового кольца, развеял эти бредни. Игорь опять остановился на переходе через многочисленные улицы, упирающиеся в площадь Никитских ворот. Он стоял, ожидая зеленого света. Хотел вдруг опять подумать о фантастической ситуации, произошедшей с ним за эту неделю, но мозг сопротивлялся и не пускал внутрь.
Поэтому он широко и свободно вздохнул и, завернув за здание ТАСС, зашагал по Леонтьевскому переулку в сторону Тверской. Мостовая карабкалась вверх, машин почти не было, да и людей тоже. Этот переулок всегда был пустынным, даже каким-то оголенным, очень обособленным от толкотни Тверской или детской суеты бульваров. Тут никогда не было больших магазинов или ресторанов. Здесь мир всегда казался ушедшим на праздники. Так выглядела раньше вся Москва днем 1 мая. Пустынные особняки, спрятанные за пышными кустами боярышника, чуть в глубине, и солидные доходные дома, слишком огромные для такого узкого пространства.
В детстве это была не их территория. Чужая. Сюда особо не совались. В детских царствах строгость границ всенепременна. Это взрослея, люди про них забывают. Может, и зря. А его вольница начиналась вот там. По ту сторону Тверской. Точнее, улицы Горького. Игорь вышел к Моссовету, так он по привычке называл московскую мэрию. И перешел по подземному переходу на другую сторону, к книжному магазину «Москва». Если пойти чуть налево в переулок, а потом в проходной двор, то выйдешь к домам, где жили его одноклассники. Реваз. Леша Ефремов. Да много еще здесь жило. Где они сейчас?
Он подошел ближе к витрине книжного. Его фигура отражалась в стекле, и он прочитал фразу на рекламном плакате внутри, как бы написанную на его отражении, на его двойнике, на нем самом:
«Как совместить исправную жизнь с чувствами грешности – об этом спрашивают только книжники, которые пишут, а не делают; кто идет деятельным путем, для того это ясно до того, что он понять не может, как можно быть тому иначе». Феофан Затворник.
Что за книгу рекламировала эта надпись, он не понял. Прочитав фразу еще раз, он немного постоял, пожал плечами и двинулся дальше.
Через пару минут он остановился. Зачем, зачем жизнь, Господь, а кто еще может сделать такое, послал ему его же рукопись, о которой он и знать не знал. Не знал, потому что дни, проведенные в клинике у профессора Вулыха, слились в один бесконечный вечер с уколами и лампами дневного света. Он помнил, что мог что-то писать, но абсолютно не помнил об этом. Старенький Вулых подтверждал, что такое вполне может быть в его состоянии. Но он давно выкинул из памяти те страшные месяцы в клинике. И вдруг это все вновь, сделав петлю и во времени, и в пространстве, вернулось к нему! И зачем? Наконец найти себя, или, наоборот, знак того, что искать ничего не надо, все уже найдено до тебя, надо просто не мешать исполнению Замысла?
Пройдя мимо артистического дома в Глинищевском переулке, он свернул чуть налево и вышел на улицу Москвина. Сейчас это Петровский переулок. Игорь аккуратно старался не расплескать состояние покоя внутри, просто шел и шел вперед. Свернув перед Высоко-Петровским монастырем направо, он вышел на Петровку. И вскоре, повернув еще раз, очутился в переулке.
Неожиданно он остановился. Что-то вывело его из равновесия. Игорь осмотрелся. Перед ним торчал высокий, старинный забор, с множеством кованых завитушек в виде бутонов цветов, морских волн и просто красивых загогулин. За забором стоял крепко сбитый особняк. Мощный, суровый, но с примесью модерновой ажурности. По бокам от центрального входа с тяжелыми дубовыми дверями, справа и слева, зеленели два усыпанных разными цветами палисадника.
Мгновенно Игорь узнал этот дом. Это был он, именно он, тот особняк из детства и совсем недавнего сна. Это здесь когда-то был выпущен на волю несчастный еж. Это же с этого непонятного сна началась безумная, бесконечная, сумасшедшая неделя. С рукописью, друзьями юности или их тенями, Митей, Женей и Полиной.
Пышные копны зеленой травы с седоватыми метелками на кончиках стеблей были щедро разбросаны по пространству клумбы. Между ними теснились огромные мясистые лопухи, мелкие розовые и голубенькие соцветия чего-то уж совсем полевого, и еще, и еще, целый пестрый ковер всякой весенней дребедени. Несколько обособленно в стороне выделялось огороженное кирпичиками пространство с иссиня-черной землей, где проживали несколько ало-желтых тюльпанов. Справа стояла уже пожилая вишня с потрескавшимся стволом у земли и обсыпанная сахарной пудрой цветков сверху.
На темную охру стен, сплетясь и путаясь, лезли старые седовато-пегие стебли дикого винограда, а между ними радостно зеленела новая поросль, упорно стремящаяся ввысь и сигнализирующая о серьезности своих намерений широкими свежими листами.
Он стоял и, боясь пошевелиться, смотрел на зеленый в цветах ковер. Ему казалось, что вот-вот из-за какого-нибудь лопуха, ну вот хотя бы вон того, рядом с тюльпанами, сейчас вдруг покажется хитрая пуговка носа ежика, и он опять очутится там, в детстве, в коротких штанишках и панамке. На которую мама ему прикрепляла красную военную звезду, чтобы его не принимали за девочку.
Неожиданно майское небо резко потемнело. В огромном, с гнутыми ставнями, окне напротив он увидел серые, нет, уже цвета чернозема, тучи. Подул ветер, и резко похолодало. Он видел, как белые, пуховые цветы вишни прямо на глазах стали облетать и превращаться в зеленые, желтые, алые ягоды. Молодой виноградник побледнел и покрылся игрушечными гроздьями ягод. Метелки травы высохли и превратились в грязную вату. Все пожелтело, и оголилась земля. Вдруг на опустелый палисадник стали падать огромные хлопья снега. Они были настолько большие, что подставленная ладонь Игоря полностью закрывалась всего одной снежинкой, превращающейся в горсть воды через мгновение.
Игорь лихорадочно думал, стоит ли удивляться метаморфозам, творившимся вокруг него в этом странном месте. Это непередаваемо-удивительное чувство реальности осознания чуда. Между тем все пространство около особняка покрылось толстой ватой снега. Что творилось вокруг, изменилась ли вся остальная Москва, или это чудо действовало только в строго ограниченном пространстве, Игоря не интересовало совершенно.
Вдруг в голубоватый снежный сугроб перед ним ударил луч солнца, он начал таять, обнажая в узорах льда и капели зимующие под ним копны рыже-буро-зеленой травы. Эта трава расправлялась, начинала яростно давать новые побеги, земля покрывалась свежим покрывалом и через пару секунд закончила вселенский цикл обновления. И предстала перед Игорем опять в своей прежней, зеленой красе.
Неожиданно он увидел себя на берегу реки, лежащим на коленях девушки. Он часто, много, много лет видел эту картинку, но всегда не мог разглядеть лицо той девушки. Оно всегда ускользало, менялось в чертах, казалось дрожащими линиями то одной девушкой, то другой. А вот сейчас неожиданно он увидел ее лицо совершенно четко. Впервые в жизни так отчетливо и ясно. Он ее сразу узнал. Да и как он мог не узнать ее. Игорь улыбнулся ей. И она улыбнулась ему в ответ. И солнечные зайчики пробежали по ее веснушчатым скулам.
Игорь, потрясенный, опустился на колени. Он смотрел на шевелящиеся от легкого майского ветерка стебли разнотравья и ждал.
– Ежик, ежик… Боже, помоги мне…
Москва – Репихово – Минск – Москва
Синие ботинки и белая соломенная шляпа
– Форма! Именно форма! Как я это сразу-то не понял! – Олег Николаевич Майоров так разволновался, что остановился и хотел резко ударить ребром ладони по водосточной трубе. – Форма сама дает содержание!
В ту же секунду он увидел на трубе отвратительную вмятину. Бить по битому сразу расхотелось. Олег Николаевич выдохнул и посмотрел по сторонам, не видел ли кто его мальчишеский замах, но переулок был пуст. На перекрестке впереди, как и во всем Леонтьевском переулке, действительно не было ни машин, ни людей.
«Так пустынны бывают переулки только во второй половине жизни, – подумал Олег Николаевич. – Какой бред я несу».
Держа ладонь как перчатку, он потер ее большим пальцем левой руки и зашагал к перекрестку. В такие моменты город становился похожим на топографическую карту, на обезличенный план местности. Это странное чувство пустоты и схематичности мира длилось уже минут пять, становилось страшновато и не по сезону холодно.
Но затем в вытянутом вверх прямоугольнике окна справа вздрогнула занавеска и выглянула серая лапка котенка. В палисаднике ветер чуть кувыркнул листья ясеня. Из-за угла, вертясь и подпрыгивая, выскочила белобрысая девочка. За ней показалась ее мама, которая бережно, как пони под уздцы, вела маленький велосипед. Жизнь показала, что она есть.
День складывался удачно. Олег Николаевич писал рассказ. Ему показалось, что нужно сделать его по-особому – найти нужную форму, и тогда текст сам потащит за собой автора. А рассказ был важен. Он был не простой. Об отце. Историке и писателе Николае Ивановиче Майорове. В журнале «Октябрь» отмечали какой-то юбилей, вспомнили об отце и позвонили ему. Благо в журнале числился его институтский приятель, Андрей Александрович.
– Давай, сооруди что-нибудь. Типа нон-фикшн, с художественным уклоном. Шестидесятники, интеллигенция, борьба с совестью… Сейчас это пойдет, – говорил по телефону Андрей Александрович.
– Какая борьба с совестью?! – удивился Олег Николаевич.
– Ну какая… Отец же твой страдал? При советской власти? Кстати, он пил?
– Нет, – удивленно ответил Олег Николаевич. – Редко, в компании. А что?
– Жаль, – искренне сказал Андрей Александрович. – Ты уж прости, но если бы писатель, историк, такой как твой отец, пил, было бы гораздо лучше.
– Кому лучше?!
– Да ладно тебе, Олег, ты же понял меня. Давай, короче, пиши эссе, или рассказ, или что-то этакое. Ты можешь.
После этого разговора Олег Николаевич, чтобы понять, как ему соорудить эту нон-фикшн, и решил прогуляться к бывшему дому отца. Бывшему не только потому, что отца давно нет на свете, а оттого, что и от дома того мало что осталось. В период тотального уничтожения центра от отцовского дома оставили лишь благородный фасад, остальное все снесли и запихнули внутрь бизнес-центр. Отец жил в Столешниковом переулке.
– Центрее некуда, – задрав куцый нос, рассказывал дворовым приятелям маленький Олег Николаевич о походах к отцу. С женой Ольгой Николай Иванович расстался вскоре после рождения сына Олега. Николай Иванович хотел назвать сына Игорем. Но Ольга настояла на Олеге. Ольга с сыном уехали в кирпичную пятиэтажку на окраине. Несмотря на развод, маленький Олег Николаевич довольно часто бывал у отца.
Его комната располагалась над знаменитым на всю Москву букинистическим магазином. Отец там был весьма уважаемым человеком. Колоритно-библейскому приемщику уходили многочисленные издания изрядного на гениев девятнадцатого века, иногда даже с дарственными надписями авторов. Это было, можно сказать, их родовое наследство от многочисленных когда-то родственников и от деда Олега Николаевича.
В том же доме располагался не менее известный магазин «Табак». Впервые Олег вошел туда, держась за штанину огромных, просторных отцовских брюк. Были модны такие когда-то. Бесформенные, широкие, белесо-серые. Отец в них ходил всегда. И к смене тенденции на дудочки или на более ровный классический фасон относился спокойно и привычки не менял.
Магазин «Табак» и был одним из первых чудес в жизни Олега Николаевича. Колыхающиеся штаны отца сыграли роль занавеса в театре, и он, ребенок, вдруг однажды увидел новый мир.
Там были сказочные башенки, зубчатые фанерные стены и все это переливалось черно-желтыми таинственными лаками. И какая-то тишина, добавляющая элемент таинственности в банальную покупку папирос и сигарет. Олег Николаевич вдруг подумал, что совершенно не помнит, чтобы в этом магазинчике были когда-либо очереди или просто суета. Было тихо и – еще есть слово – чинно. Тут отца уважительно любили. Он каждый день покупал дорогие папиросы «Три богатыря». Терпкий запах табака, шуршание фольги в папиросных пачках, да и сама папиросная бумага до сих пор кружили ему голову, хотя он давно не курил.
Ах, какое слово чудесное… папиросная бумага! Все в нем: и древнеегипетский папирус, тростник на берегах Нила… И средневековые манускрипты… И маленький он, затаивший дыхание, наблюдающий, как отец желтым ногтем большого пальца взрывает боковину коробки и открывается белый прозрачный до жилок листок папируса, под ним мнется и чуть надламывается под папиными пальцами фольга и открывается стройный ряд папирос.
Отец преспокойно курил в своей конуре на третьем этаже бывшего доходного дома купца Карзинкина и наслаждался жизнью. Темно-коричневых тяжелых томов с автографами у него было достаточно. Как и разных безделушек из фарфора, бронзы и кости, которые он тоже методично сбывал в том же «Букинисте». Было еще десятка полтора картин передвижников, но это он оставлял на совсем уж черный день. И его совсем не смущало наличие еще одиннадцати комнат в коммуналке. Он жил параллельной жизнью с остальным людом, и его контакты с соседями заканчивались взаимными утренними поклонами в очереди в единственную уборную.
На работу отец ходил только в далекой юности. Опубликовав лет в двадцать пять несколько рассказов в «Юности» и «Октябре», Николай Иванович был принят по рекомендации Трифонова в Союз писателей. Получив заветную членскую книжечку, которая позволяла легально не работать, Николай Иванович ушел в затвор в четырнадцатиметровую комнатку и занялся любимым делом. Переводом «Слова о полку Игореве».
Единственно реальным вкладом отца в изучение «Слова» была небольшая статья в «Филологических науках» и ссылка на нее в энциклопедии.
«Прысну море полунощи – море автор Слова мог взять из Ипатьевской летописи под 1185 г.: „прочии в морѣ истопоша“, хотя там речь шла об озере („Всеволодъ же толма бившеся… при езерѣ“). [ПСРЛ. Т. 2. Стб. 642, 644.] Н. И. Майоров читает: „прысну море – полунощи (т. е. на север) идут сморци“, ибо ночью смерчей не бывает. [Майоров Н. И. „Слово о полку Игореве“ и его переводы // Филологические науки. 1963. № 3. C. 174–177, 187.] Его толкование заслуживает внимания. Оно опирается на употребление термина „полунощь“ в летописи под 1096 г.».
Отец этой ссылкой очень гордился. Она была как бы отчет перед Богом за прожитые годы. Сам Олег Николаевич продвинулся немного дальше отца и тоже этим был горд. У него было уже несколько публикаций – и в России, и за рубежом. Хотя, по сути, они повторяли наработки отца, за исключением пары реальных находок самого Олега Николаевича.
Эта деятельность в их семье определенно приобрела мистический, почти религиозный характер. Скорее это была непонятная никому миссия. К которой, впрочем, и дед Олега Николаевича – а начал эпопею со «Словом» именно дед, – и отец, да и он сам относились серьезно и с душой. Но все равно какая-то обреченность присутствовала. Даже не обреченность, а некая потребность. Естественность происходящего.
«Вот правильное слово! – подумал Олег Николаевич. – Именно „естественность происходящего“. Правильность даже. Правильность прямоходящего осла».
Олег Николаевич споткнулся. В этом месте асфальт треснул, его нутро неприятно вывернулось и оголилось, и он задел носком ботинка шершавую поверхность. Сразу на коже очертилась противная серая полоска. Поцарапал.
«Ну все… – расстроился Олег Николаевич. – Ботинки пропали. Жалко как. Жалко!»
Он буквально полмесяца назад купил себе новые ботинки. Синего цвета. На день рождения, давно хотел такие. Наверное, с юности. Теперь вот ботинки есть, но поцарапанные.
Мысли об отце, о деде, о детстве в Столешниках самым гадским образом перемешивались с жалостью об оцарапанном ботинке. Олег Николаевич вдруг понял, что мысли об отце занимают в голове ровно столько же места, сколько и переживания о вредной царапине.
«Вот ведь какая скотина человек, – шагал в горку переулка Олег Николаевич. – И самое скотинистое в этом, что эта скотина я».
Дед его, Иван Иванович Майоров, был сыном крепостного крестьянина из Тамбовской губернии. Сумев поступить в Московский университет, Иван Иванович проучился в старом казаковском университетском здании на Моховой лишь три полных курса. Затем, как говорили тогда, ушел в революцию. В 1920-е работал по просвещению у Луначарского. Репрессий каких-либо избежал. Помер очень вовремя, заслуженным революционером. Он-то и начал эту семейную эпопею со «Словом о полку Игореве». Но дед, что интересно, являлся сторонником поддельности «Слова». Майоров-старший доказывал, что «Слово» было написано в ХVIII веке архимандритом Иоилем в Спасо-Преображенском монастыре Ярославля. По официальной версии, именно Иоиль, когда монастырь прикрыли при Екатерине, отдал рукопись известному коллекционеру графу Мусину-Пушкину. Иван Иванович писал статьи, приводил филологические обоснования, кипятился на заседаниях литературно-исторических обществ, не подавал руки приятелям, которые считали «Слово» реальным, словом, занимал активную общественную позицию. Которая, впрочем, довольно быстро сошла на нет, когда сам товарищ Сталин признал «Слово о полку Игореве» великим произведением русской литературы двенадцатого века. За сим Иван Иванович Майоров и скончался.
«Форма… Да!» – Олег Николаевич уже спускался по Столешникову от Тверской.
Или от улицы Горького, как ему было привычней. Забавно, в его молодости модно было называть улицу Горького Тверской, теперь же он часто слышит от некоторых дам, подчеркивающих свою старомосковскость, именно улицу Горького!
«Текст должен быть как… белка в колесе! Одновременно белка и бежит в колесе, и описывает, что вокруг, и плюс колесо само рассказывает о белке! Господи, что у меня с мозгами?! А ведь просто я хочу написать об отце. Ну и о себе немного. Кто я: белка или колесо? Фу ты!»
Переулок здесь сбегает вниз очень круто, и Олег Николаевич перебирал ногами осторожно и немного суетливо. Иногда казалось, что носок его синего ботинка чуть тонет в асфальтовой серо-фиолетовости, раздвигает ее и скользит вниз, вниз по переулку, как кораблик по весенней воде.
«Пускали здесь кораблики в его детстве? Не помню. По идее, должны были. Больно уж место подходящее. Но не помню. Надо же, не помню».
Удивительно, но в этих местах чудесным образом, вплоть до перестроечных вакханалий, сохранялась древняя планировка средневековой Москвы. Которая, несмотря на наглую молодежь в виде доходных зданий конца девятнадцатого века, совершенно не терялась. А наоборот, доминировала, как бы утверждая, что эти выскочки скоро исчезнут и старинные улицы, прочерченные на планах учеными монахами, широко выдохнут, сбросят с себя чепухистику суетливых веков и заживут прежней размеренной жизнью.
После смерти отца – а вскоре ушла и мать – Олег Николаевич продал свою пятиэтажку на Водном стадионе, добавил деньги, вырученные за отцовские хоромы в Столешниках, добавил одного Айвазовского из наследства и купил хорошую двушку у Никитских ворот. В угловом доме, где испокон его века был магазин «Ткани», а сейчас расположился «Сбербанк». Комнату в Столешниковом переулке он продал очень вовремя. Тогда еще комнаты в коммуналках в центре охотно покупали за бешеные деньги. Позже выяснилось, что проще брать дома целиком, рубить их под корень и штамповать железобетонные макеты «под старину».
Олег Николаевич резко остановился. Тело по инерции шатнулось вперед.
– Да. Здесь.
Именно здесь находилось второе чудо его детства. Справа по ходу было полуподвальное окно, всегда, днем и ночью, освещаемое тусклой лампочкой. А там внутри слева сидел огромный орел. Чучело орла, конечно. Но он казался мальчику живым! Живым и гордым. Как вставал на четвереньки – окно было очень низкое – и всматривался в стеклянные глаза птицы, это Олег Николаевич помнил хорошо. Отбеленные грязным московским снегом коленки на синих шароварах и вечно пыльное стекло с мерцающей лампой и орлиным профилем. Чудо. Орел в Столешниковом! Много позже он случайно узнал, что там располагалось районное отделение общества охотников. Но тогда это была тайна, его тайна, ведь глупые прохожие не знали, что нужно всего-навсего очень сильно нагнуться – и они увидят взаправдашнего орла.
Дома этого с полуподвальным орлом, конечно же, давно не было. Стоял банальный бетонный монстр. Повторяющий очертания прежнего строения. Олег Николаевич неожиданно увидел скорлупки от арахиса, кучкой валяющиеся аккурат перед окном, которое могло бы быть тем самым, заветным. Не тем, конечно, но в том же месте. Он узнал его по особому воздуху, по нужному краешку неба, мелькнувшему за домом наискось. Мысль, что там до сих пор, неведомым промыслом, живет орел, чучело орла, и кто-то его даже подкармливает орешками, была настолько бредовой, что Олег Николаевич испугался. Но мысль-то была. Он инстинктивно посмотрел вверх, как бы обращаясь в недоумении к небесам. Синее небо ярко рекомендовало не суетиться. Он выдохнул и улыбнулся.
Было еще много чудес в его детстве – парикмахерская на Пушкинской улице, где стены были расписаны сказочными кораблями, утренний и вечерний перезвон часов на Спасской башне Кремля, который был слышен из окна отцовской комнаты, заветное место во дворах на Петровке, где каждый год под березой вырастали настоящие подберезовики. Да много всего.
«Надо не забыть отправить деньги на Ирину карточку».
Да как он может это забыть? Уже два года Ира стала странной частью его жизни. Он посылал деньги девушке. Она жила в Минске. Олег Николаевич познакомился с ней, когда ездил к армейскому приятелю. Вчера от нее одна за другой пришли две эсэмэски. Олег Николаевич отнесся к ним спокойно. Нет, не так. Конечно, внутри него что-то сжалось. Но при этом он понимал, что все должно происходить именно так, а не иначе.
«Тебе просто надо поменять жизненный вектор и перестать использовать меня для подогревания своих страстей и бесцельных мечтаний».
Эсэмэска была странной, но понятной для Олега Николаевича. Роман с малолетней девушкой возможен, только если барышня тебя любит.
– Возможны и другие варианты, но тогда я должен быть другим. Другим! – повторил Олег Николаевич.
Почему он уже два года посылает ей деньги, при этом не прося ничего в ответ, Олег Николаевич и знал, и не знал. Оттого, что, впервые увидев ее в липовом саду минской больницы, где лежал его приятель, он вдруг испытал давно забытое чувство влюбленности? Это так, но этого мало. То, что он вновь почувствовал свою нежность и нужность, как в первые годы собственной женитьбы? Это тоже понятно.
Второе послание было длинней. Девушка как бы прочитала его мысли, только написала по-своему. А то, что это его мысли, было совершенно очевидно. Не может двадцатишестилетняя барышня говорить о «старости лет». И потом такие перемолотые в душе мысли – не ее стилистика.
«Я из комедианта на старости лет превращаюсь в трагика. Не обижайся, мне просто очень плохо. Мне надо к психотерапевту, ибо либо я дура, не тем даю, кому надо. Людей для моего собственного счастья я выбирать не умею. Либо мужики – дебилы, не знают, что вообще хотят от жизни. Как говорят психологи – взаимопонимания между людьми не существует вовсе, его надо находить обоюдно, если хочешь быть счастливым».
Но на самом деле истинная причина этой странной и мучительной любви к Ире была в другом. Много раз Олег Николаевич отбрасывал эту дурацкую версию, но внутренне понимал, что это и есть чистая правда. И что именно такой бредовой и несуразной и должна быть настоящая любовь. Он часто видел тот эпизод, миг, мгновение, с которого все и началось. Это было отнюдь не в Минске, а здесь, рядом, в пяти минутах ходьбы его неспешным шагом. Нужно только дойти до конца Столешникова, повернуть направо к кафе «Красный Мак», хотя какой, к чертям, «Мак», отель «Мариот» там. Именно там, на углу Столешникова и Петровки, возле ларька «Мороженое» он должен был встретиться со своим школьным другом Игорем. Дроздом. Дрозд не пришел, и, напрасно прождав его с полчаса, он двинул один.
Он пересек Петровку, прошел по четной стороне, мимо «Художественного салона», и свернул в Петровский пассаж. Сколько ему было лет тогда? Лет тринадцать или четырнадцать. Если пройти насквозь весь пассаж, то предпоследняя дверь справа вводила в мир школьных канцтоваров. Ему нужна была какая-то дурь вроде тетрадки. Справа, точно, справа, были касса и очередь. Он обреченно встал. Там привычно торчали озабоченные мамаши, галдящие первоклашки и прочие неинтересные люди. Юный Олег Николаевич привычно уставился в потолок. Его толкнули, и он опустил глаза. Перед ним стояла Она. Он не видел полностью ее лицо. Это была выше среднего роста девушка, с темными волосами, смугловатым лицом и слегка раскосыми глазами. «Японка», сразу окрестил ее мальчик Олег Николаевич. Самое главное, самое важное, отчего у него тягуче застучало маленькое сердечко, таилось в одной детали, крошечном штрихе облика этой «японки». Это было розовое, почти прозрачное ухо девушки и локон темных волос, пружинкой покачивающийся рядом.
Люди, прилавки с дурацкими дневниками и пеналами, двери, продавцы вдруг исчезли, точнее, покрылись каким-то ватным туманом. Во вселенной осталась только эта темно-русая прядь волос. Подходила очередь девушки, она повернулась к кассиру и что-то сказала. Часть уха чуть покраснела, от движения беспокойный локон резко покачнулся. Этого Олег Николаевич уже стерпеть не мог. Забыв о тетрадках, он бросился вон из очереди. Он пришел в себя минут только через двадцать на лавочке на Страстном бульваре. Вот, собственно, и все.
Что произошло дальше? Да ничего. Олег Николаевич жил своей не простой, да, в общем-то, и не сложной жизнью. «Японка» с прядью волос около детского уха ушла далеко-далеко в ту пограничную часть жизни человека, где не очень-то и поймешь, было это с тобой или не было. Но вот увидев Ирину, он вдруг понял, что та самая пружинка наспех убранных волос незнакомой девушки вдруг распрямилась и догнала его почти через сорок лет. Ирина была похожа на ту «японку»? Да нет, конечно. Хотя девушку в Петровском пассаже он и рассмотреть-то не успел. Ирина была много выше, и у нее были чудесные русые волосы. Но локон возле розового уха был тот. Именно тот. Он сразу узнал его.
Так в его жизнь вошла Ирина. Точнее, не вошла, а вернулась через сорок лет, такая же юная, молодая, словно и не было этих странных, суматошных лет. Разумеется, Ирина об этом не знала. Да и сам Олег Николаевич считал эту версию слишком романтической. Скорее, все было проще и банальней. Старому захотелось молодой.
– Да нет же, нет! – уговаривал себя Олег Николаевич. – Все так и есть. Наверное.
Реальная Ира, почувствовав интерес, использовала свой шанс по полной программе. Шебутная, широко дышащая, она часто и как-то легко и беззлобно обманывала Олега Николаевича. Он это понимал и относился спокойно. Он ей верил. А когда веришь человеку, его вранье уже не имеет ни малейшего значения.
Более того, он считал ее меркантильность совершенно естественной и нормальной. Он как бы компенсировал ей те годы, прошедшие от встречи с девушкой в Пассаже до случайной встречи в Белоруссии. Она же как-то жила все эти годы. Может, ей было тяжело, она страдала. То, что это бред сивой кобылы, волновало Олега Николаевича меньше всего. Он даже завел специальную банковскую карту, в своем «Сбербанке» прямо под окнами, отдал ее Ирине, чтобы она спокойно могла снимать деньги в Минске без всяких сложных переводов.
Олег Николаевич спустился вниз, до небольшой площади, там на углу Столешникова и Большой Дмитровки теперь обосновался магазин «Луи Виттон». Качнувшись у входа, неожиданно для себя зашел в него. Второй поступок тоже поразил его. Словно ведомый за руку, Олег Николаевич подошел к замершей в улыбке продавщице и указал на висящую на стенде белую шляпу. Из итальянской соломки. Он надел ее, посмотрел в огромное зеркало и расплатился.
«Синие ботинки и белая шляпа из итальянской соломки. Теперь я ходячий сюжет для водевиля. Зачем она мне?! Голова, ноги, тело даны человеку, чтобы он понял, что у него есть душа. Именно поэтому я и покупаю дурацкую шляпу и не менее клоунские ботинки. Как такое объяснение?! По-моему, класс! На самом-то деле я хочу в этой шляпе понравиться Ирке, хотя она ее никогда не увидит, – подумал Олег Николаевич. – Единственно напрягает, что жизнь чаще и чаще требует объяснений. Косноязычного бреда, который оправдывает самого себя. Но, видно, по-другому нельзя».
Наконец Олег Николаевич дошел до дома, где жил его отец. Дом был тот и не тот. Вроде он, а ведь это уже совсем другое здание. С чужой историей, с чужой судьбой. Те фрагменты фасада, которые оставили вроде как для престижа, лишь подчеркивали чужеродность всего остального.
«Нет, зря я пошел сюда. Нет здесь уже отца. Он остался там. В другом городе, в другом переулке. Вот почему старое кино было такое чистое?! Или это жизнь такая была?!» – шагал Олег Николаевич, кивая в такт шагам головой в белой шляпе.
На прощание с воспоминаниями у него мелькнула лишь одна мысль: «А ведь небо над Столешниковым все такое же, шириной метров в двадцать и длиной – до Петровки».
Мимо него куда-то торопились люди, создавая тот неповторимый шепот ног, в который Олег Николаевич Майоров безвозвратно влюбился еще в детстве, над переулком иногда кружили грязноватые голуби, да во дворе дома номер девять отцветала чудом уцелевшая яблоня-китайка.
У окна в кафе «Донна Клара» на Малой Бронной улице сидели Алексей, сын Олега Николаевича, и Андрей Александрович, его друг юности. Андрей Александрович отложил в сторону рукопись и снял очки. Алексей довольно спокойно посматривал в окно.
– Хорошо Олег написал. Получается, он решил написать и свою жизнь. Интересно. Сколько его уже нет? Год?
– Почти год, – Алексей продолжал смотреть в окно. В кафе наискосок девушка сидела прямо на полу, выставив красивые ноги на тротуар. Их, не задумываясь, перешагивали прохожие.
– Интересно, – повторил Андрей Александрович. – А я все думал, почему он не присылает. В голову тогда не приходило, что он мог умереть. А когда наконец узнал… Ты понимаешь, завертелся. Выяснилось, что давно похоронили. Ты не обижайся. Мы дружили с института. Но перезванивались нерегулярно. Так, кому когда в голову взбредет, – Андрей Александрович отхлебнул кофе и испытующе посмотрел на Алексея. И зачем-то добавил: – Я тебя еще совсем маленьким помню.
– Все нормально. Я понимаю.
– Интересную форму нашел Олег. Небольшая повесть о себе самом, как он пишет статью об отце. Как знал, что помрет, и решил написать о себе напоследок. Чудесная зарисовка. Правда быта. Настоящий нон-фикшн.
– Не совсем это нон-фикшн. Как раз, я думаю, тут много именно фикшна. Хотя…
– В смысле?
– Вы слышали от него об этой девушке из Минска?
– Олег говорил что-то…
– Понимаете, когда я вступал в наследство, выяснилось, что у него нет счета в «Сбербанке», никаких карт нет вообще. Ни там, ни в других банках. А деньги он держал в коробке в шкафу. В мобильнике у него были две Ирины, но обе с московскими телефонами, редакторши по издательским делам. То есть…
– Ты хочешь сказать…
– Да. Не мог он переводить деньги никому в интернете. Не было никакой Ирины, Минска и всего остального.
– Так что… Получается, он все придумал, что ли?!
– Да. Или…
– Что или?
– Или мы совсем не знали отца… Не знаю.
Алексей молчал и посматривал в окно. По Малой Бронной улице на тарахтящем тракторе ехал таджик. Он что-то счастливо пел. В прицепе, прыгающем сзади, сидел второй и, хохоча, подпевал ему. Андрей Александрович молчал и листал рукопись.
– Попробую опубликовать. Хоть и юбилей журнала, для чего мы дернули твоего отца, давно прошел. Но не обещаю. Хотя очень нравится. Очень. Что делать думаешь?
– Сейчас или вообще?
– Вообще, конечно.
– Не знаю пока. У меня есть отцовская квартира, три больших этюда Айвазовского, три Клевера, один Семирадский, один небольшой Репин, много старых книг. Да и рукописи отца по «Слову» надо полистать. Понять, что мои предки находили в «Слове». Все у меня есть, и для материи, и для граммофона. Не пропаду.
Счастливый бегемот
– Ну что же такое… Посмотри внимательно! Разве этот бегемот счастливый?! – Денис вздрогнул и очнулся. Чуть сбоку, через пару столиков, стояла молоденькая полноватая девушка в белом фартуке с оборками под декаданс. Рядом с девушкой елозил на стуле его пятилетний сын Вовка. Собственно, восклицание барышни в фартуке относилось именно к Вовке.
Сегодня была суббота, и Денис привел сына в кафе, где детей обучали лепке из настоящего шоколада. Тема для лепки, а здесь старались проводить тематические детские тусовки, называлась «Счастливый бегемот». Человек семь малышей, отягощенных родителями, пыхтя, мяли шоколадную массу. Изредка из детских ручонок вываливалась какая-то жуткая фигурка типа куска колбасы с ушами-блинами. Как сейчас у Вовки. Вот именно об этом чудище и говорила девушка как о не очень счастливом бегемоте. Зато эту отвратительную колбасу можно было периодически откусывать-облизывать, и это был ключевой момент в шоколадном творчестве.
– Понимаешь, счастливый бегемот должен радоваться жизни! Улыбаться, скакать, веселиться, а у тебя он получился какой-то грустный! – девушка терпеливо взяла колбасу с ушами и стала аккуратными движениями пальцами в резиновых перчатках придавать массе отдаленное бегемотье очертание.
«Вот! Счастливый бегемот! Что он нам несет…» – завертелась песенка в голове у Дениса.
Вовка кивал головой, наблюдая ловкие движения девушки. Малышня вокруг галдела. Родители обреченно улыбались.
Денис был в этом кафе первый раз. Обычно Вовку водила сюда Марина, его жена, а сейчас она закрутилась, и сопровождать отпрыска отправился Денис. Собственно, это Вовка привел его сюда, а не наоборот. Кафе располагалось в Козицком переулке, в подвале, и, когда Денис спускался по крутой лестнице в зал, какое-то смутное воспоминание мелькнуло у него внутри. Но до времени исчезло. В окне под потолком мелькали ноги прохожих, и казалось, яркое солнце стучится в стекло.
«Счастливый бегемот… Не курит и не пьет… – барабанил пальцами по столу Денис. – Интересно, а я счастливый человек? Дурь какая… И вообще, я был счастлив когда-нибудь?»
Денис зачем-то осмотрелся вокруг. Малыши продолжали целеустремленно сопеть и гудеть, иногда даже взвизгивали от радости, когда в их детском мозгу возникала какая-нибудь новая идея о конструкции бегемота.
«А что? У меня все хорошо. Вот Вовка. Дома Марина. Прекрасная жена, именно такую я и хотел всегда. Вовка, правда, получился поздний ребенок. Ему сейчас пять, а мне полтинничек. Но ведь это счастье. Наверное. Откуда такие мысли дурацкие про „наверное“? – взгляд Дениса продолжал бродить по закоулкам кафе, словно ища что-то знакомое. – Стоп. Ну конечно! Вспомнил! Надо же».
В этот момент луч солнца все же вбежал в пространство подвала, пошарил по стенам и, не найдя ничего интересного, выскочил наружу. Хлопнула дверь, на лестнице появился Илья. Денис дружил с Ильей еще со школы, они общались урывками, то сходились, то, не ссорясь, расходились. Но оба всегда были рады встречам, хотя уже давно между ними не было точек соприкосновения. Кроме одной, корневой – детства. И каждый раз, вне зависимости от того, сколько лет они не виделись, у них продолжался тот единственно важный разговор, начатый сорок с чем-то лет назад, на ступеньках школы. Она располагалась тут же, неподалеку, в переполненном тополями и китайкой старомосковском дворе. Тогда их, перепуганных суетой малышей, торжественно вводили в жизнь через школьные двери.
– Привет. Привет, Вовка! – Илья отодвинул стул и, присев, помахал рукой мальчугану. – Надо же, в приемке кафе сделали, чудеса!
Илья был немного взъерошен, его чуть кудрявые волосы вздыбились, было видно, что он выпил. Нет, он не был пьян, он балансировал между «слегка приложился» и «понесло».
– Надо же, – удивился Денис. – Сразу узнал. А я – нет. Час просидел, думал о счастье. А потом вдруг сообразил, что кафе это в бывшем приемном пункте стеклотары сделали!
– Что звонил, по делу или так, повидаться? Счастье… Явно стареем, о всяких глупостях начинаем думать. Есть тут что-нибудь туда-сюда? – Илья листал меню. – Ну и к каким неутешительным выводам пришел ты в размышлениях о счастье?
– Просто повидаться. А так… Дурь всякая в башку лезет. Человек все-таки скотина дикая. Вот ведь есть Вовка, есть Марина, которую я люблю, по большому счету. Да и без всякого счета люблю. Работа есть. Не бедствую совсем. А сам думаю, счастлив я или нет. И знаешь, какой бред меня посетил? Что по-настоящему я был счастлив только один раз! Причем в детстве. И причем именно здесь!
– В смысле?
– Я не помню, какой это был класс. Третий, четвертый? В «Детском мире» вдруг стали продавать индейцев. Помнишь, такие клевые, резиновые, гэдээровские фигурки? Это было что-то! Айфон любой чепуха по сравнению с индейцами! Хотелось жутко. А денег нет. А ясно, что завтра их уже не будет в магазине, расхватают. Кошмар. Понятно, что родители на такую глупость денег не дадут. Да и не очень с деньгами у нас было, ты знаешь. А нужно было много. Где-то три пятьдесят, что ли, стоил набор.
– Пожалуй, граммов сто пятьдесят вискарика я заглочу. И все. Иначе отплыву. В дальние страны. Ну и где взял бабки? Кстати, смешно сейчас, но это прежняя месячная квартплата!
– Ну да. Примерно. А я помчался по дворам, по скверам, по бульварам. Собирать бутылки. Пустылки, как тогда говорили. Двенадцать копеек поллитровая, семнадцать – ноль семьдесят пятая. Короче, метался почти сутки, набрал штук тридцать. И вот обвешанный авоськами я потащился в приемный пункт. Сначала в Столешников, в винный – не берут. Мол, маленький еще посуду сдавать. Я чуть не в слезы. Потащил наверх, к церкви. Там закрыто. Тары нет. Как всегда. В «Минеральные воды» на Горького. Но там взяли только пару штук из-под воды. А у меня в основном водочные и винные. Отчаяние прямо. Что делать?! Представь, десятилетний пацан таскает на себе полтора ящика пустой посуды. Но индейцы, сам понимаешь! Короче, пришел сюда. Очередь километр, опять тары нет. Реву. Вдруг старичок такой, благообразный, подходит, мол, что ревешь, дурашка. Рассказал. Он улыбнулся, у него еще такая аккуратная седая бородка, глаза такие добрые и прозрачно-голубые, как сейчас помню, достал эти три пятьдесят из кармана, отдал мне. Мол, ему все равно стоять здесь, он и мою посуду сдаст. Отдал я ему все вместе с сетками и бегом в «ДеЭм». Купил индейцев! Иду вниз по Пушечной, весь свечусь! И вот до сих пор помню это чувство. Сердце и замирает в груди, и одновременно где-то поверх крыш плывет. И люди на тебя оборачиваются и улыбаются! Вот так вот было. Ну а ты?
– Знаешь, Дениск, – Илья взял стакан и медленно, присматриваясь, повертел его перед носом. Солнце, попадая на остатки виски, наполняло его густым коричневым цветом, отчего совершенно простой стакан становился тяжелым и значимым. – Знаешь, меня всегда интересовали части, осколки целого. Не целое. Например, в книгах. Недавно, к ужасу, понял, что не знаю, чем закончился роман «Идиот». То есть понимаю чем, но не знаю наверняка. А фильм даже смотреть не стал. А ведь я люблю эту книгу! Очень. И часто перечитываю куски, иногда жадно, как с похмельной жажды, иногда медленно, ловя кайф от сочетаний слов. Для меня это как частички жизни. А общий смысл, итог не важен. То есть важен, но он понятен. Или я просто так устроен? Понимаешь?
Денис молча смотрел в сторону Вовки, но, услышав вопрос, кивнул. Илья тоже кивнул ему и продолжил:
– И вот еще что. Оказывается, эту жизнь можно было прожить с кем-то. В смысле разные ее части с разными людьми. Нет, не так. Разные люди очень хорошо подошли бы к разным эпизодам жизни. Например, с Алиной одной хорошо бы было жить лет в 35–37 в Переделкино, в своем доме. Она писала хорошую прозу, и такое литературное место ей бы было в кайф. Да и мне нравятся тамошние околописателькие улочки. То есть именно в этот отрезок жизни, понимаешь? Ни раньше, ни позже. А вот с Иркой хорошо было бы жить лет в сорок на Малой Бронной. Ходить в кафе и нифига не делать. И так можно всех моих баб по жизненным полкам рассовать. Но самое интересное в другом. Я реально мог все это осуществить в те годы. И по деньгам, и по отношениям. Но этого не произошло. И сейчас мне уже абсолютно не нужна ни трешка на Бронной, ни особняк в Переделкино. Просто не надо. Попытаюсь сформулировать. Определенная женщина нужна в определенный момент жизни. Возраст должен соответствовать месту и человеку.
– Умно, – усмехнулся Денис. – А счастье? Счастье-то было или как?
– Счастье… – продолжил вертеть стакан Илья. – Понимаешь, сейчас, только сейчас я понял, что за всю жизнь меня любил только один человек. Мне было двадцать пять, ей тоже. Удивительно, но мы родились в один день, в один год. Любил ли я ее тогда? Не знаю. Но то, что она меня любила, это точно. У нее были зеленые глаза, и однажды они превратились в голубые, когда мы целовались с ней в садике у памятника Алексею Толстому на Никитских воротах. Представляешь, какое чудо? А почему не вышло, почему я тогда на ней не женился? Наверное, мне было трудно представить, что это именно и есть тот самый человек, на всю жизнь. А вдруг что-то другое появится? И я ждал. Ждать – естественное состояние человека. Но ничего не произошло. Никто, подобный ей, тогда, в наши двадцать пять, не появился. Вот мое счастье тогда и было, это уже очевидно. Точнее, это были ворота в счастье. В которые я так и не зашел.
Остатки виски задрожали в стакане, Илья резко допил и махнул официантке, видимо желая заказать еще. Потом подумал и отрицательно покачал головой подошедшей девушке.
– Не попался мне тогда Николай Угодник, который бы сделал все как должно. Как тебе здесь в приемке посуды.
– Какой Николай Угодник?! – удивился Денис.
– Обычный. Мирликийский. Ты описал в точности как выглядит святой Николай Угодник на иконах. Судя по всему, он и дал тебе трешку на индейцев.
– Да ладно тебе чушь молоть! Обычный дед.
– Ну не верь. Ладно, пошел. А то опять нажрусь. Что-то последнее время затягивает. Интересно, ты про глаза голубые деда, я про голубые глаза Риты. Может, это одни и те же глаза были, а я не понял? Или я уже напился?
– Я тебя провожу, – поднялся Денис.
– Не надо.
– Да я до угла. Пройтись и вернуться. Хочу на Вовку со стороны посмотреть. Не верится до сих пор, что это мой сын.
На углу Козицкого переулка друзья расстались. Илья пошел направо по направлению к Пушкинской. Он брел пошатываясь, у него развязался шнурок. Денис хотел было догнать друга, сказать, но Илья вдруг увидел это сам. Он поднял ногу на парапет у витрины Елисеевского магазина и, путаясь в пальцах, попытался завязать ботинок. Это у него не вышло, и он просто заткнул шнурки внутрь и, покачиваясь, пошел дальше.
Он думал, как он сейчас попадет домой, где его встретит усталая и высохшая от жизни жена Маргарита, та самая девушка Рита, на которой он не женился в двадцать пять. Но отыскал в сорок восемь и уговорил уже совершенно чужого ему человека выйти за него замуж. И начался кошмар, от которого Илья бежал в стакан.
Денис всего этого не знал и шагал назад в шоколадное кафе. Козицкий переулок разделялся четко пополам огромной косой тенью от громадных бахрушинских домов. У тротуара, на границе светотени стояла красная «Феррари». Спортивная, почти игрушечная. Внутри на зеркале рядом с георгиевской ленточкой на бусиничной тесьме вертелась иконка.
Денис думал об Илье, о его неслучившемся счастье, думал о том, что все-таки нехорошо, когда и посуда пустая, и Марина, и Вовка соединились у него в голове вместе.
Взгляд его задумчиво поднимался по водосточным трубам все выше и выше, наконец, под самой крышей, вспугнул голубей. И они, недовольно фырча, устремились в узкую щель московского неба.
У входа в кафе, переминаясь с ноги на ногу, его уже ждал Вовка. Рядом стояла молоденькая, чуть полноватая девушка в белом фартуке с оборками под декаданс и держала в руках завязанный розовой ленточкой прозрачный пакет с бурой массой внутри. На пакете скотчем была приклеена бумажка «Счастливый бегемот».
Страшный бульвар
«Ни одна женщина не может сказать, что я испортил ей лучшие годы жизни. И это очень грустно», – Андрей, улыбаясь, шагал по Страстному бульвару. Он вспомнил, как вчера пьяный Димка бубнил эту фразу. Глотая буквы, водку и слезы одновременно.
Вчера был день рождения Димки. Его однокласснику исполнилось пятьдесят пять лет. Они праздновали юбилей в мужской компании, на даче у их еще одного друга детства, Игоря. И Андрей остался у него ночевать, чтобы не тащиться наквашенным через всю Москву. Утром он поехал на работу, в свое турагентство на Полянку, поболтался там до обеда, понял, что долго не высидит, и сейчас возвращался домой, на Большую Дмитровку.
Было уже часа четыре дня. Ранним закатом осень демонстрировала, что она поздняя. Путаясь в пестрых тучах, солнце исчезало прямо перед Андреем, на том конце неба, но строго по линии Страстного бульвара.
– Надо же. Сколько лет хожу, а не обращал внимания, что солнце садится четко по дорожке аллеи! Или почти по дорожке. Удивительно.
Андрей вдруг остановился, постоял и сел на лавочку, расположившуюся вдоль боковой аллеи, рядом с новым памятником Рахманинову.
Мимо него проходила высокая девушка в желтой куртке, темноволосая, с красивым, чуть смугловатым лицом. Андрей никак не мог привыкнуть к существованию хендс-фри. Его до сих пор ошарашивало то, что девушка идет по пустынному бульвару и громко разговаривает сама с собой.
– Скотина он. Какая же он скотина! Но знаешь, вот мы едем домой, он всегда тормозит на углу, и я точно знаю, что он сейчас скажет: «Хочешь мороженое?» Задолбал семь лет говорить одну и ту же фразу на одном и том же месте! И как мне с ним разводиться?! Кто еще мне будет так говорить про мороженое? Знаю, что дура! Мразь, мразь он и скотина!
Андрей вспомнил, что у него в сумке валяется мороженое, достал начинающий течь вафельный стаканчик, прикурил сигарету и начал чередовать. Затяжка-мороженое. Мороженое-затяжка.
Перестук каблуков затихал. Больше никого не было. Страстной бульвар, или, как его называли старые москвичи, Нарышкинский сквер, никогда не был проходным. В отличие от Тверского, который почти всегда наполнен гулом прохожих, здесь было много тише и даже провинциальней.
«Ни одна женщина не может сказать, что я испортил ей лучшие годы жизни, – опять вспомнил Андрей. – Смешно. Димка много чего вчера наговорил. „Журналист – это вечный подмастерье!“ Наверное, так и есть. Вечно в обслуге чужих мыслей. Димке виднее, он всю жизнь в газетах и журналах. Удивительно, вот ему пятьдесят пять. Но чайник он берет точно так же, не за ручку, а накрыв его ладонью сверху, как это было во время их детских чаепитий миллион лет назад. Если у Димки ничего не изменилось, то значит, у меня тоже? Просто я этого не замечаю. Но про „испортил лучшие годы жизни“ – мощно. А я?! Интересно, а я испортил жизнь какой-нибудь женщине?! Так… – мороженое капнуло на гранит мостовой. – А кому я вообще мог испортить жизнь? Допустим, родителям. Матери? Не думаю. Отца я вообще всегда нежно любил. Ребенком был нешумным, учился хорошо, с „компаниями“, как говорили раньше, не связывался. Потом получил от тетки вот эту квартиру, уехал из родительского дома. Помогал чем мог. Может, не так часто и искренне, как нужно было. Но все равно. А женщине какой?!»
Солнце уже совсем завалилось за линию деревьев. Еще минут пятнадцать и все. Справа и слева перед самым входом на площадку, где находился памятник композитору, рос боярышник. Старые кусты давно превратились в дерево с мощным, жилистым стволом.
«Ну какой-какой женщине… Естественно, Алке. Алле. Кому еще я мог хоть чего-то испортить?! Ведь, по сути, если откинуть детский сад, пионерлагерь и некоторую дурь в студенческие годы, Алка была и остается единственной реальной женщиной в моей жизни. Так? Так. Сколько я ее не видел? Уже четыре дня».
Домой Андрей не торопился. Своих он отправил на дачу к двоюродной сестре Наташе, в Кузяево. В сквере было тихо, машин вокруг бульвара почти не было, и заходящее осеннее солнце каким-то непостижимым образом усиливало тишину. Тишина надвигалась на бульвар настолько мощно, что Андрей стал ее слышать.
«Когда это было… Восемь… Нет. Девять лет назад. Алька попросила у меня тридцать долларов, а я не дал. Вот скотина! Ерунда, ерунда, что не было. Мог же найти! И потом, еще… Что-то я ей ляпнул. Что? Помню, она фыркнула и бросила трубку. Господи, а ведь я действительно ей испортил жизнь. Сколько еще было такого навязывания себя дурацкого! Столько лет. Зачем?»
Неожиданно странный звук заставил Андрея вздрогнуть. Такой несоответствующий месту, не сказать, чтоб совсем неприятный, но довольно отталкивающий звук. Пом-м… Он вдруг увидел, как с дерева упала толстая налитая бордовая ягода боярышника. Пом-м… И, ударившись о свежевыстеленный гранитный пол бульвара, разорвалась, обнажая разваристое желтое нутро.
В ту же секунду Андрею стало очень страшно. Звук падающих ягод не отменял тишины, а наоборот, дополнял ее. Он не мог понять, откуда пополз, да нет, не пополз, ворвался в его мозг страх! Неожиданно он подумал о Страшном суде. Он не был сильно верующим человеком, к вере относился спокойно, уважал, но не более. А тут вдруг – Страшный суд! Он не отрываясь смотрел на размазанную на красном граните желтую мякоть ягоды.
«А ведь Страстной бульвар, Страстной монастырь, который был рядом, вот тут, страсти, страх человеческий, Страшный суд – это же однокоренные слова. Страстной бульвар – Страшный бульвар! Как же он раньше не сообразил?! Страшный бульвар – Страшный суд! Чушь какая… И я туда пойду неминуемо за Алку! Именно за нее. Дело, конечно, не в той тридцатке, а в том, что я столько лет морочил голову человеку. Или нет?! Я же ее просто любил. Люблю! И за это в ад?! Или это не любовь?!»
В голове Андрея замелькала какая-то круговерть из ухмыляющихся карикатурных чертей и языков пламени, похожих на нарисованный очаг папы Карло.
Тишина разорвалась как пергаментная бумага. По бульвару полз трактор-карлик, подметая остатки листвы. Андрей встал, торопливо дошел до выхода с бульвара и нырнул в узкий лаз Большой Дмитровки. На переходе он оглянулся. Бульвар с редкими прохожими выглядел оголенным и гладким, как настольный хоккей.
Через несколько минут Андрей был уже дома. Страстной бульвар со Страшным судом уже отпустили его. Мысли стали теплей, как оранжево-блеклый абажур лампы на кухне. Он как-то меланхолично поужинал, не вдумываясь, что он кладет себе в рот. Потом лег спать. Первое время он просто лежал, уставившись в стену.
Мысль о Страшном суде и Алле так выжгла ему пространство сознания, что, когда эти тревоги исчезли, наполнить мозг было просто нечем. Но постепенно он начинал дремать. Становилось легко и уютно. Душа его хотела было взлететь в ту пограничную область бытия, куда жизни и смерти вход запрещен, но срок еще не подошел. Она вернулась к нему, и он мирно проспал до рассвета, проснувшись лишь один раз. Тревожно подумав в темноте: «Стоп. А как же солнце может садиться передо мной по прямой, если бульваров кольцо?»
И не найдя ответа, улыбнулся и заснул снова. На другом конце Москвы, в Измайлово, засыпала Алла. Их роман с Андреем закончился двадцать пять лет назад. У Аллы Николаевны были уже двое взрослых детей, оба студенты, второго и четвертого курсов МГУ, факультета журналистики. Муж Дмитрий, одноклассник Андрея, тоже был журналистом. Все эти двадцать пять лет она с Андреем не виделась. А он иногда приезжал в Измайлово посмотреть на нее издали. Когда она ходила в магазин или по делам. Андрей жил один. «Своими» он называл кошку Мусю и терьера Петровича, которых он действительно отправил к сестре на дачу. В Кузяево.









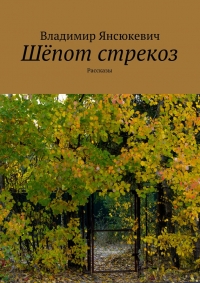
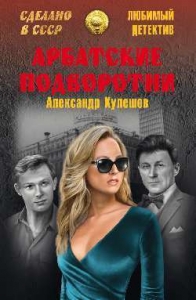
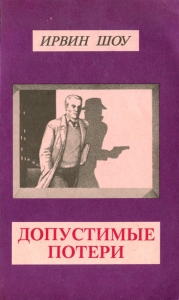


Комментарии к книге «Воскрешение на Патриарших», Владимир Игоревич Казаков
Всего 0 комментариев