Александр Лаптев Бездна
Так бойтесь тех, в ком дух железный,
Кто преградил сомненьям путь.
В чьем сердце страх увидеть бездну
Сильней, чем страх в нее шагнуть.
Наум КоржавинЧасть первая
Глубокая ночь. Просторная комната скудно освещена настольной лампой с зелёным абажуром, стоящей на двухтумбовом письменном столе у высокого прямоугольного окна. Всё погружено в чуткую тишину и словно оцепенело. За столом сидит, сгорбившись, человек. Он торопливо пишет простым карандашом в толстую тетрадь, губы его плотно сжаты. Слышен скрип грифеля о бумагу, тетрадь гнётся и неприятно шелестит. Приглушённый зеленоватый свет выхватывает из темноты крупную голову с высоким покатым лбом; лицо сосредоточено, взгляд пристальный и как бы застывший, словно человек что-то высматривает – там, среди неровно бегущих строчек. Он всецело поглощён своей работой, ничего не видит вокруг, и эта комната не существует для него, он весь в прошлом, в своей боевой молодости – вместе с товарищами готовится дать бой колчаковским бандам. Сердце лихорадочно стучит, в груди разливается жар, сейчас всё решится – жизнь или смерть, победа или сыра земля; вот здесь, под этим деревом, или на поляне среди цветов, а может быть, в пучине вод. Спасенья нет, кто-то сейчас должен погибнуть…
«Конники остановились под самой высокой скалой, наискось от пулемётной команды. Но партизаны выждали, пока подтянулись задние части и ослы. К удивлению засады, белые построились четырёхугольником, в середине которого взметнулись бело-зелёное знамя и хоругви. Утренний туман уходил ввысь, и узкое расстояние позволяло партизанам различать иностранцев и русских.
– Кажется, молебствовать собираются! – пустил один из пулемётчиков придушенный смешок.
Среди четырёхугольника действительно поднялись на какое-то возвышение священнослужители в светлых ризах, и по заречным хребтам загудел бас: “Спаси, Го-осподи, люди Твоя…”
Дрожащей рукой Лиза ухватилась за плечо Николая. В её васильковых глазах непомерной злобой вспыхнули огоньки. Всё, что недавно ещё определялось ею как смешное и в высшей степени невежественное, но уже не могущее убеждать взвихрённых революцией умов, вставало снова как чудовище, мрачное и отвратительное.
– Ах, негодяи! Да бей же, товарищ Корякин!
Но старший пулемётной команды не успел ещё взять прицел, как винтовочные залпы партизан загремели с левого фланга и в тылу у молящихся. Стреляя из карабина, Лиза видела, как навстречу метнувшейся в горы толпе вздыбились батарейные лошади белых, и всё это животное месиво завертелось клубком, да ещё то, как окружённые, отчаявшиеся итальянцы прыгали в бурлящие волны Ангула.
– Сгоняй лодки! – раздалась команда Николая.
Раненые лошади бились в постромках и, запутываясь, пронзительно визжали. Четвёрка выхоленных серо-яблочных тянула вниз, к обрыву, трёхдюймовое орудие. Пушка кувыркнулась с лафета и, раздавив пару передних, булькнула в воду, как сорвавшийся с дерева сук.
– А, гады! – хрипел Корякин, смахивая с рябого лица мутные капли пота. Пулемёт его захлёбывался оглушительным лаем.
А с левого берега, борясь с волнами, вперегонку пустились остроносые лёгкие лодки с бойцами…»
Человек услышал звук открываемой двери и оглянулся с недовольным видом. Он запретил жене входить в свой кабинет ночью, когда дверь закрыта, а он, стало быть, работает над очередной книгой, крадёт у вечности ускользающие моменты быстро несущейся жизни. Он специально пишет по ночам, когда всё вокруг словно бы умерло, а душа волнуется и кипит. Тут важен порыв, вдохновение, полёт воображения! Нужно отрешиться от всего обыденного, запереться в кабинете и работать всю ночь до рассвета, не замечая времени, не чувствуя собственного тела, не помня себя. Тогда всё становится легко и достижимо, время исчезает, а линии пространства теряются в бесконечности; то, что было много лет назад, воскресает и живёт, движется и волнует душу, пылает всеми красками на экране внутреннего воображения. Быть может, поэтому читатели с нетерпением ждут его проникновенные рассказы о полной героизма и самопожертвования революционной борьбе сибирских партизан за советскую власть. И он без устали всё пишет и пишет о своих товарищах, павших смертью храбрых, сгоревших в ярком пламени революционной борьбы. А читатели требуют новых книг, героических образов, волнующих баталий – таких, чтоб захватывало дух! Это потому, что он описывает в своих книгах лишь то, что пережил сам, что видел собственными глазами. Он прошёл тысячи километров по таёжным нехоженым тропам вместе со своими боевыми товарищами, многие из которых остались там – в присаянской тайге, среди вековых деревьев и вросших в землю каменных глыб. Они уже не поднимутся из могил, не расскажут, как боролись и умирали за правое дело, за свободу трудящихся от гнёта помещиков и капиталистов. Его долг и право – поведать всему миру об их подвиге, о несбывшихся мечтах, о несложившихся судьбах…
– Петя, там какие-то люди тебя спрашивают. Их много…
Пётр Поликарпович усилием воли прогнал яркие видения. Он снова был у себя дома, в своём рабочем кабинете, а напротив у дверей стояла его молодая жена – в длинной ночной рубашке и босая; глаза её были широко раскрыты, на лице растерянность и едва ли не испуг.
– Какие ещё люди? Ночь на дворе! Ты на часы посмотри. Половина третьего.
Широкое прямоугольное окно перед письменным столом зияло чернотой. Слабый шум ветра едва проникал сквозь двойные рамы. За окном стояла апрельская ночь – студёная, загадочная, полная предвкушений и неясных намёков. В такие ночи только и работать…
– Они тебя требуют, – снова подала голос жена.
– Меня требуют? – повторил Пётр Поликарпович и, бросив карандаш на стол, решительно поднялся. – На совещание какое-нибудь вызывают. Но зачем было ехать сюда, есть же телефон, я бы и сам дошёл.
Он сделал шаг и вдруг остановился: в кабинет уверенно вошёл военный в синей фуражке и с тремя ромбами в красных петлицах. Наискось через грудь – коричневый кожаный ремень. На правом боку – тяжёлая кобура с лоснящимися раздутыми боками. И – пристальный немигающий взгляд со скуластого тёмного лица.
Пётр Поликарпович хорошо знал эти лица. В какую-то долю секунды перед ним мелькнуло видение: вот он – молодой, бесстрашный, с винтовкой в руках – вместе с красноармейцами уверенно входит среди ночи в избу кулака-мироеда; на столе возле окна коптит керосинка; сам хозяин, его жена и дети смотрят на него круглыми от страха глазами, а он дивится: чего они так боятся? Советская власть никого не наказывает без причины, потому как она – за справедливость, за угнетённый народ и за лучшую долю! И он досадовал на этот глупый страх и ещё на то, что приходится объяснять этим тёмным людям простые истины. Бояться не надо – если только ты не совершил ничего плохого – он твёрдо это знал. И это знание вернуло ему уверенность.
– В чём дело, товарищ? – спросил он, возвышая голос. – Что за странный визит среди ночи?
Ни один мускул не дрогнул на лице у военного.
– Пётр Поликарпович Пеплов? – произнёс тот без всякой интонации.
– Да, это я.
– Вам придётся проехать с нами.
Пётр Поликарпович выдержал паузу.
– А до утра нельзя было подождать? Позвонили бы, я бы сам к вам пришёл. Что за срочность такая?
– У меня приказ вас доставить в управление.
– Какое ещё управление?
– В управление НКВД. Тут недалеко. Ответите на несколько вопросов – и сразу обратно.
Пётр Поликарпович хотел возразить, но сдержался. Совсем недавно он сам носил военную форму и знал силу приказа. Раз требуют, значит, так надо. Ему ли – бывшему партизану и красному командиру – бояться ночных визитов? И ему ли не знать военные уставы?
Он перевёл взгляд на жену, которая всё так же с испуганным видом стояла чуть в стороне.
– Светлана, пойди к себе, посмотри, как там Иоланточка.
Военный поднял одну бровь.
– Это ещё кто?
– Дочь моя. Мы её Иолантой назвали. Красивое имя, не правда ли?
– А сколько лет дочери?
– Два с половиной.
– Есть ещё в доме кто-нибудь, кроме неё?
Пётр Поликарпович хотел ответить резкостью, но сдержался. Лишь пальцы сами собой сжались в кулак.
– Кроме меня, жены и дочери, в доме никого нет! Будут ещё вопросы, товарищ лейтенант? Кстати, как ваша фамилия?
– Дьячков, старший лейтенант госбезопасности, – чётко ответил военный. – И не товарищ, а гражданин.
– Вот как! Почему же я вам не товарищ? – быстро проговорил Пётр Поликарпович. – Я сам бывший военный, воевал за советскую власть. Вы что, книг моих не читали?
Лейтенант сделал нетерпеливый жест.
– Не надо этого…
Пётр Поликарпович снова глянул на жену, которая всё стояла, не в силах шевельнуться, и согласно кивнул.
– Ну, коли так… поехали. – И шагнул через порог.
В прихожей толпились красноармейцы – пять или шесть человек. Пётр Поликарпович приостановился.
– Это ещё что за собрание?
Лейтенант подтолкнул его сзади.
– Выходите. Они все со мной, сейчас уйдут.
Пётр Поликарпович обернулся.
– Да зачем же они пришли?
– Мы тут были по другому делу, а к вам попутно зашли. Не стоять же им на улице! – был ответ.
Красноармейцы вытянулись во фрунт и не мигая смотрели на хозяина квартиры. Взгляды были настороженные и какие-то бессмысленные. Пётр Поликарпович хотел сказать какую-нибудь шутку, показать им, что он понимает их службу, сочувствует и вообще… Но лейтенант распахнул перед ним дверь и указал рукой на выход. Пётр Поликарпович лишь кивнул и вышел на площадку.
Уже на улице, садясь в чёрную эмку, он бросил взгляд на свои окна на четвёртом этаже недавно построенного элитного дома для номенклатуры. Свет горел во всех окнах, мелькали тени на занавесках. А из подъезда почему-то никто не шёл.
– А почему они не выходят? – спросил Пётр Поликарпович с тревогой.
– Выйдут сейчас, – заверил лейтенант, распахивая заднюю дверцу. – Устраивайтесь поудобнее!
Пётр Поликарпович, нагнувшись, полез внутрь и только тогда увидел сидевшего в углу военного в фуражке. Тот молча смотрел на него и не двигался.
– Здравствуйте, – произнёс Пётр Поликарпович. – Не помешаю?
Ответа не последовало.
Лейтенант уселся рядом с водителем, и машина тронулась.
Странно было ехать по ночному Иркутску. Было полное безлюдье и какая-то могильная тишина. Пётр Поликарпович всматривался в знакомые дома и пытался осмыслить происходящее. Что это, арест? Не похоже. Да и за что его арестовывать? При аресте положено предъявлять постановление; проводится обыск, арестованного берут в наручники и конвоируют в тюрьму. А он едет свободно, никто ему не угрожает и стволом в спину не тычет. Сказано ведь: туда и сразу обратно! Вот он вернётся домой, напьётся сладкого чаю и ляжет спать. Хотя до утра не так уж много времени, но ему не привыкать: пару часов подремлет – и снова за работу. Всё-таки годы, проведённые в партизанском отряде, чего-нибудь да стоили. Он и сейчас мог бы пойти в партизаны. Сорок пять лет – не бог весть какой возраст. Силы ещё найдутся.
Остались позади улицы Марата, Ленина и Карла Маркса. Машина повернула на улицу Литвинова. Тут уже было посветлей, мелькали по сторонам фигуры военных, иногда проезжала навстречу машина с включёнными фарами. Впереди показалось длинное мрачное здание областного управления НКВД – серый монолит о пять этажей. Все окна здания ярко светились. Пётр Поликарпович был поражён такой иллюминацией. Его дом находился в полутора километрах от этого освещённого огнями здания, а он и не знал, что тут не спит по ночам столько народу. Он-то думал, что он один во всём городе любит работать в ночной тишине.
Машина подъехала к трёхметровым металлическим воротам и остановилась. Приблизился красноармеец с винтовкой, заглянул внутрь. Лейтенант показал ему пропуск, красноармеец коротко кивнул.
Тяжёлые створки медленно, со скрежетом, разошлись. Машина, переваливаясь с боку на бок, заехала внутрь.
Пётр Поликарпович уже бывал в этом учреждении и даже был лично знаком с его бывшим руководителем – латышом Зирнисом Яковом Поликарповичем. Их сблизила схожая судьба: оба были из крестьян, оба воевали на фронтах Первой мировой, и оба сражались за советскую власть, только Зирнис воевал против Юденича, а Пеплов – против Колчака. Поговорить им всегда было о чём, и во время перекуров и антрактов они дружески сходились и вспоминали былое. Но три месяца назад Зирниса неожиданно сняли с должности, перевели в Москву, а на его место назначили какого-то Гая, но и его тут же заменили. Месяц назад областной НКВД возглавил никому не известный Лупекин. С этим Пётр Поликарпович не успел познакомиться. Уж не к нему ли его теперь ведут? – подумалось. Забавная будет встреча – среди ночи, без всякого предупреждения. О чём же они станут говорить? Уж не о боях ли с Колчаком?
Пётр Поликарпович улыбнулся своим мыслям. Сейчас он расскажет новому начальнику про то, как дрался с белочехами и прочей нечистью, а теперь трудится на другом фронте – пишет книги, в которых воспевает мужество простых советских людей, готовых отдать жизнь за светлые идеалы коммунизма. Этот Лупекин, по слухам, молодой совсем, ещё сорока нет. А уже поднялся на такую должность. Должно быть, способный, решительный. Настоящий чекист!
Машина остановилась, двигатель смолк. Дверца резко распахнулась.
– Выходи, руки за спину! – раздалась команда.
Пётр Поликарпович не сразу понял, что этот грозный окрик относится к нему. Он глянул снизу на красноармейца.
– Ты чего орёшь? Перепутал спросонья?
– Не разговаривать! Выходи, а то применим силу!
Пётр Поликарпович снова вспомнил Зирниса и то, с каким уважением к Петру Поликарповичу относились люди в погонах. Тяжко вздохнув, он полез наружу.
Внутренний двор управления был широк и выглядел незнакомо и зловеще. Было такое ощущение, будто они вдруг попали в другой город, в иное измерение. Знакомый и такой приятный Иркутск остался очень далеко. И люди здесь другие – чем-то озабоченные, торопливые, со злыми лицами. Где-то там, за тяжёлыми железными воротами, стояла тихая весенняя ночь, а здесь словно бы готовилась войсковая операция, всё было пропитано тревогой и подспудным страхом.
Петра Поликарповича повели куда-то внутрь и вниз. Всё часовые с винтовками и немигающим взглядом застывших глаз, скрипучие железные двери, решётки и крепкие запоры; время от времени слышались отрывистые возгласы: «Стой, кто идёт?» – затем грохот ключей и лязг железных замков; Пётр Поликарпович чувствовал себя всё хуже: голова стала тяжёлой, ноги налились свинцом, хотелось крепко зажмуриться и очутиться в другом месте – пускай даже не дома, а где-нибудь в лесу, в землянке, на болоте, у чёрта на куличках!
– Куда мы идём? – спросил он, когда они остановились у очередной решётки.
– Скоро прибудем, – бесстрастно ответил лейтенант. Он был всё так же мрачен и неразговорчив.
Пётр Поликарпович не выдержал:
– Слышь, браток, я что, арестован?
– Нет, – был ответ.
– А как же это понимать? – развёл он руками. – Куда вы меня ведёте?
– Всё, пришли, – произнёс лейтенант, останавливаясь перед железной дверью, углублённой в глухую каменную стену. Подошёл сбоку боец со связкой ключей и стал возиться с неповоротливым замком.
Дверь наконец открылась.
– Заходите!
Пётр Поликарпович недоверчиво заглянул внутрь.
– Но там никого нет!
– Побудете здесь некоторое время. Вас скоро вызовут. Заходите же! – повторил лейтенант с нажимом.
На негнущихся ногах Пётр Поликарпович шагнул через порог. Дверь с лязгом захлопнулась за спиной. Он обернулся, хотел сказать что-нибудь лейтенанту, но увидел перед собой отвратительную, всю в ржавых потёках железную дверь; в центре её, на уровне живота, был квадратный вырез, закрытый снаружи задвижкой, – пресловутая кормушка. Это была обычная тюремная камера. Деревянный, привинченный к цементному полу стол, табурет и деревянная лежанка у стены. Над дверью тускло светила лампочка. В узком проёме напротив – зарешеченное отверстие для притока воздуха. Более – ничего! Зирнис показывал ему почти такую же камеру два года назад, и тогда она показалась ему вполне сносной, ничуть не страшной. Он даже пошутил, что не прочь провести в ней недельку, отдохнуть от дел. Вспомнив об этой шутке, Пётр Поликарпович качнул головой: вот и исполнилась мечта!
Горькая улыбка едва обозначилась на усталом лице и сразу же погасла. В самом деле, весёлого было мало. Он вспомнил растерянное лицо жены, её испуганные глаза, безвольно опущенные руки. Простоволосая, босая, она стояла среди толпы вооружённых людей в ночной рубашке и даже не замечала этого. Что-то теперь с ней?
Пётр Поликарпович тряхнул головой, решительно направился к двери. Крепко стукнул кулаком.
Квадратное окошечко тут же открылось.
– Чего стучишь? – послышался недовольный голос.
– Скажи там своему начальству, пусть поторопятся. У меня дел много. Некогда тут долго прохлаждаться.
– Нам не положено ничего передавать.
Окошечко захлопнулось. Пётр Поликарпович снова постучал.
– Меня обещали вызвать! Я тут что, до утра сидеть должен?
Ответа не последовало.
– Я товарищу Лупекину буду жаловаться! Если сию же секунду ты не доложишь…
Дверь внезапно распахнулась.
– Ну чего вы кричите? Следователи сейчас все заняты. Лягте вон, поспите. До утра есть время. А днём тут спать не положено. В шесть часов подъём.
– Какой подъём? Я утром домой поеду. У меня послезавтра областная конференция, доклад нужно готовить. Я писатель. Пеплов! Слыхал о таком?
Красноармеец переступил с ноги на ногу, протяжно вздохнул.
– Слыхал. Вы ещё партизанили. Я вас в нашем клубе как-то видел. Вы там знатно говорили.
– Вот и молодец! А ты что, давно тут служишь?
– Недавно. Вы это… уж потерпите до утра. Нельзя мне с вами тут… У нас с этим строго. Могут и турнуть. Хотите, я вам воды принесу?
– Ну, давай, – сказал Пётр Поликарпович. – А ты не можешь спросить там, чего хотят-то от меня?
– Нет, не могу. На то есть следователи. Тут много разного народу бывает, кажную ночь привозят. Всех сперва допрашивают, а после…
– Что, отпускают? – не выдержал Пётр Поликарпович.
Красноармеец словно бы запнулся, бросил быстрый взгляд и ответил с расстановкой:
– По-всякому бывает. Иных увозят в городскую тюрьму, а в основном все здесь сидят.
– Но кого-то ведь и отпускают? – подсказывал Пётр Поликарпович.
– Этого я не знаю. Откуда мне знать? – буркнул красноармеец. – А воды я сейчас принесу. Это можно…
Через минуту в кормушке показалась большая алюминиевая кружка, до краёв наполненная прозрачной, пахнущей железом водой.
– Спасибо, браток. – Пётр Поликарпович бережно взял кружку и стал жадно пить. Вода была жёсткая и невкусная, но это уже не имело значения. Вдруг вспомнились партизанские тропы, как они глотали пригоршнями мутную болотную воду, делали в консервных банках мучную болтушку на этой воде и заедали похлёбку диким чесноком без соли и без хлеба. И всё казалось вкусным и единственно правильным. Одно слово: молодость! Всё нипочём, и любое дело по плечу.
Допив воду и стряхнув остатки на цементный пол, Пётр Поликарпович снова постучал в дверь. Та вдруг распахнулась на всю ширину. На пороге стоял незнакомый долговязый парень с оттопыренными ушами, в гимнастёрке и галифе.
– Ну чего тебе неймётся? В карцер захотел? – произнёс грубым голосом. – Сказали сидеть тихо, знай себе, сиди. Ещё раз стукнешь в дверь, я тебе по-другому объясню!
Пётр Поликарпович почувствовал, как зашумело в голове.
– Ты как разговариваешь, щенок! Молокосос! Я тебе в отцы гожусь! Я кровь проливал за советскую власть… контру стрелял вот этой самой рукой, а ты, сопляк…
Парень вдруг шагнул к нему и с силой толкнул раскрытой ладонью в лицо. Голова резко дёрнулась, так что шейные позвонки затрещали, стены рванулись вверх, лампочка вылетела откуда-то из-за спины, и Пётр Поликарпович грохнулся о пол всем весом, со страшной силой ударившись спиной и затылком; в голове ярко вспыхнуло и сразу же погасло. Он погрузился во тьму.
Ночь ли была или уже день наступил – было не понять. Пётр Поликарпович вдруг словно бы проснулся. Увидел себя лежащим на полу, сверху жёлто светила лампочка, грязные неровные стены удерживали потолок. Голова раскалывалась от боли. Он пощупал рукой затылок и ощутил что-то густое и липкое. Поднёс пальцы к глазам и увидел тёмную кровь. Сразу вспомнил удар и падение. Всё это было как будто не с ним. Он видел себя со стороны, как делает строгое внушение лопоухому парню, а тот вдруг налетает на него с исказившимся лицом.
Но этого не должно быть! Произошла чудовищная ошибка! Он не должен быть здесь, лежать на каменном полу с помутившимся сознанием, истекая кровью. Его с кем-то перепутали! Вот оно – объяснение! Он приподнялся на локтях, с надеждой взглянул на дверь: сейчас она раскроется и войдёт улыбающийся лейтенант, скажет: ай-ай-ай! Как нехорошо получилось! Но вы не беспокойтесь, товарищ Пеплов, ударивший вас красноармеец уже арестован, таким не место в Красной армии! Произошло досадное недоразумение, от имени командования я приношу вам свои извинения. Сейчас вам будет оказана медицинская помощь, а потом вас доставят домой. Простите нас!
«Простить, пожалуй, можно, – подумал Пётр Поликарпович, поднимаясь с каменного пола, – вот только забыть не получится». Да, он этого не забудет, и при случае…
Замок вдруг заскрежетал, забрякал, провернулся ключ, и дверь раскрылась. В камеру вошёл военный – молодой, подтянутый, с ромбами в петлицах. Лицо хотя и хмурое, но не глупое, не злое – не как у того, который его толкнул.
– Пеплов Пётр Поликарпович? – вежливо спросил военный.
– Да, это я.
– Следуйте за мной!
– Наконец-то. А я уж думал, что про меня все забыли.
В дверном проёме показался красноармеец.
– Руки назад, во время следования не разговаривать, не останавливаться, слушать команды, – проговорил без всякого выражения. – Следуйте за лейтенантом.
Пётр Поликарпович не стал спорить. Сейчас всё разрешится. Главное – покинуть эту жуткую камеру, оказаться в нормальной комнате и объясниться, наконец. Он готов попуститься мелочами, не будет требовать излишне сурового наказания для ударившего его обалдуя. Пусть он извинится – и дело с концом!
Минуя ряд разделительных решёток, они прошли длинным подземным коридором, поднялись по бетонным ступеням; снова был коридор, затем короткий переход по холлу с окнами, в которые ярко светило утреннее солнце, и ещё одна лестница. Первый этаж, второй, третий… Пётр Поликарпович хотел спросить, который теперь час, но сдержался. Сопровождающие шли в угрюмом молчании, словно на похоронах. Он понял, что спрашивать бесполезно, и стал смотреть себе под ноги. Ноги мягко ступали по красной ковровой дорожке, положенной на деревянный паркет. Точно такая дорожка была в здании крайкома. И коридоры почти такие же – узкие и длинные, с высокими потолками, а по бокам всё двери, двери…
Они вдруг остановились. Пеплов поднял голову и прочитал на табличке: «Ст. следователь, капитан ГБ Чернов А. В.».
Лейтенант пихнул дверь.
– Заходите…
Пеплов сделал несколько шагов и остановился. Кабинет показался ему очень уютным, почти домашним. В дальнем конце стоял массивный стол тёмно-оливкового цвета, за которым сидел человек в военной форме. Он не поднял головы, продолжая что-то писать в раскрытую папку. На стене за ним во всю высоту – портрет Сталина: вождь был в военном френче и стоял чуть боком, опираясь на трость; глаза смотрели вдаль, а лицо такое доброе и немножко грустное. Пётр Поликарпович сразу почувствовал себя легче. Сталин тут – значит, всё хорошо. Мир не перевернулся, а все недоразумения скоро разрешатся. Вот и дерево за окном растёт как ни в чём не бывало. И нет ему дела ни до камер, ни до страданий людских. Чёрные ветви его раскачиваются на ветру и тянутся к синему небу, к солнцу. День обещал быть ясным, солнечным. Ночной кошмар развеялся, как сон. Скоро он будет дома, и всё пойдёт по-прежнему.
Военный вдруг поднял голову и внимательно посмотрел на вошедших.
– Пожалуйста, проходите. – Живо поднялся и подошёл, протягивая руку для пожатия. – Если не ошибаюсь, Пётр Поликарпович Пеплов, наш знаменитый писатель?
Пётр Поликарпович с внезапно нахлынувшим чувством крепко пожал руку и коротко кивнул.
– Да, это я. А вас как величать?
– Чернов Андрей Викторович, капитан госбезопасности, следователь по особо важным делам. Пожалуйста, садитесь.
Пеплов шагнул к стулу с высокой прямой спинкой и аккуратно сел.
– Что это у вас? – воскликнул следователь чуть не с испугом.
– Где?
– На затылке. Кровь как будто?
Пеплов поднёс ладонь к голове и ощутил под пальцами коросту.
– Это я в камере упал, затылком ударился о каменный пол. Даже сознание потерял.
– Вот как? Как же это получилось? – Следователь быстро прошёл обратно и сел на стул. Он быстро овладел собой, теперь на лице его читались удивление, сочувствие, заинтересованность. Видно было, что это хороший, «человечный» человек.
– Меня охранник толкнул, – сказал Пеплов. – Я его только спросил, почему меня тут держат, а он взял и двинул меня. Я сильно затылком ударился, когда падал. Даже сознание потерял. У меня такое впечатление, что у этого охранника неладно с головой. Таким не место в органах! Я бы вас просил провести с ним беседу.
Чернов едва заметно улыбнулся и опустил голову.
– Хорошо, я разберусь. Виновный будет наказан, если только он действительно толкнул вас без всякой на то причины.
Пеплов удивлённо воздел брови.
– А вы полагаете, что могла быть причина?
– Я вам безусловно верю, но я должен буду опросить и этого человека, а также свидетелей, если они там были. Вы же понимаете, что мы не можем наказывать человека, не получив исчерпывающих доказательств его вины! – Сказав это, следователь посмотрел на Пеплова таким ясным и хорошим взглядом, что тот смутился.
– Да, пожалуй, вы правы. Только не сочтите, что я как-то особенно настроен против него. Просто обращаю ваше внимание на его странное поведение. Сегодня он меня толкнул, а завтра кого-нибудь другого. Так не годится. Слухи пойдут нехорошие. Разве для этого мы устанавливали советскую власть и прогоняли буржуев?
– Хорошо-хорошо, я всё понял и разберусь, – снова заверил следователь. – Я вас, уважаемый Пётр Поликарпович, вот о чём хотел спросить…
– Да, конечно, я вас слушаю.
– Скажите, вы знаете Яковенко Василия Григорьевича?
– Васю Яковенко? – воскликнул Пеплов, подаваясь вперёд. – Конечно, знаю, это мой старинный друг, боевой товарищ. Мы с ним вместе партизанили в Канском районе. Он был председателем совета Канской партизанской армии, а я в это время возглавлял совет Баджейской партизанской республики. Под началом Яковенко было тысяч пятнадцать штыков. А сам могучий такой мужик, просто богатырь. Его у нас все очень уважали. Он потом в Москву перебрался, стал наркомом земледелия, членом Центральной ревизионной комиссии, был референтом у Калинина. Замечательный человек! Смелый, отважный, преданный делу революции. Ничего для себя не требовал. Такие, как он, и победили белогвардейскую сволочь. Жаль, что наши с ним пути разошлись. – Пётр Поликарпович испустил печальный вздох и покачал головой.
Следователь очень внимательно слушал его объяснения, потом вдруг легко поднялся и прошёл к окну, отбросил штору.
– День-то какой, а, Пётр Поликарпович! Лето скоро. Я каждый год езжу на Ангару, на остров Любви. Ставим там шалаш и живём с женой целый месяц! Готовим похлёбку на костре, рыбку ловим, загораем. Вы любите рыбалку? – вдруг обернулся и в упор посмотрел на Пеплова.
Тот растерялся от неожиданности.
– Конечно. Почему же нет? В молодости я рыбачил у себя в деревне, мы кормились рыбой, а потом и в партизанском отряде пригодилось. Знаете ведь, как с продуктами было в Гражданскую. А сейчас некогда рыбачить. Всё дела да заботы. Вот книгу очередную пишу. Голову некогда поднять.
– Как же, знаю. Читал я ваши книги! – усмехнулся следователь.
– А что вы читали?
– Да много чего. И новую рукопись видел, её вчера изъяли у вас при обыске.
Пётр Поликарпович побледнел.
– У меня что, дома был обыск?
– Конечно! Вот тут у меня протокол. – Следователь быстро прошёл к столу и взял машинописный лист, стал читать: – При обыске изъяты паспорт, профсоюзный билет, удостоверение члена СП СССР, печатная машинка «Торпедо», дробовое ружьё, рукописи, письма.
Пеплов поднялся на дрожащих ногах.
– Но зачем это? Что вы там искали? Да ещё в моё отсутствие! Я бы вам сам показал всё что нужно! Вы наверняка перепугали мою жену. Ваш сотрудник сказал вчера, что меня пригласили для беседы и сразу же отпустят. Объясните же наконец, что происходит!
Следователь выслушал эту тираду с полным самообладанием, на лице его играла хитрая улыбка.
– Успокойтесь, пожалуйста! – почти ласково произнёс он. – Я сейчас задам вам несколько вопросов, и если вы скажете мне правду, то можете быть свободны, поедете домой, к своей жене и дочурке. И рукописи вам вернут. Вы согласны на такой вариант?
– Да, чёрт возьми, конечно, я согласен! Задавайте свои вопросы, хотя я не понимаю, зачем понадобился весь этот цирк.
– Ну, цирк или не цирк, это пока ещё рано говорить. А вот вы вспомните: когда вы в последний раз виделись с Яковенко?
– Тоже спросили. Я не припомню, когда его видел. В Москве мы в последний раз виделись, если мне не изменяет память. Года четыре назад, да и то это было мельком. Он ведь человек занятой, да и мне некогда было. Мы тогда с Алексеем Максимовичем затевали новую серию книг…
Следователь сделал нетерпеливый жест:
– Погодите, о Горьком сейчас не надо. Вы лучше о вашей беседе с Яковенко расскажите, и как можно подробнее.
– Да нечего мне рассказывать! Мы посидели в гостинице, выпили по стопке, как водится, помянули боевых товарищей, а потом разошлись. А в чём дело? Почему такой интерес к Василию Григорьевичу? С ним что-нибудь случилось?
– Случилось, – невозмутимо ответил следователь. – Девятого февраля гражданин Яковенко арестован, изобличён как враг народа и уже дал признательные показания.
– Василий Григорьевич арестован? Этого не может быть! Вы что-то путаете!
– Вы присядьте, – с нажимом произнёс следователь. – Я вам сообщаю факты. У меня имеется копия протокола допроса, в котором гражданин Яковенко признаётся в террористической деятельности и называет ряд лиц, причастных к созданию контрреволюционной повстанческой организации в Москве, Красноярске, Канске, Иркутске и в других городах. Под руководством двурушника Бухарина создана целая сеть по всей стране, в это гнусное дело вовлечены сотни людей. И вы в их числе.
– Да вы с ума сошли! Какая сеть? Зачем ему это надо было? Василия Григорьевича лично Ленин знал! В двадцать первом году Владимир Ильич подписал декрет о его назначении наркомом земледелия. Яковенко кровь проливал за советскую власть!
Следователь согласно кивнул.
– Да, конечно, никто с этим не спорит – проливал кровь и занимал высокие посты. Но речь сейчас в общем-то не о нём, а речь теперь идёт о вас, Пётр Поликарпович! Показания о вашем участии в контрреволюционном заговоре дал ведь не только Яковенко, но и другие участники заговора.
– Другие?.. Очень интересно. И кто же это?
Следователь взял со стола ещё одну бумагу и стал читать:
– Лобов Фёдор Антонович, Ефим Захарович Рудаков, Николай Михайлович Буда, Феликс Афанасьевич Астафьев, Лавров Вадим Михайлович, Неупокоев Виктор Поликарпович, Малышев Николай Иванович, Жилинский Владимир Иванович, есть ещё ряд лиц, с которыми сейчас работают следователи. Все они указывают на вас, Пётр Поликарпович. – Опустив лист, следователь равнодушно посмотрел на Пеплова. – Что вы на это скажете?
– Я скажу, что это полнейший бред! Я почти никого не знаю из тех, кого вы сейчас назвали. Да и зачем мне участвовать в каких-то там заговорах против советской власти? Или вы полагаете, что я сошёл с ума?
– Я пока что ничего не утверждаю, а просто сообщаю о признаниях ваших знакомых. Быть может, они вас оговаривают. Это не исключено. Но чтобы доказать факт оговора, вы должны чистосердечно рассказать всё, что вам известно об иркутском центре.
– Но я ничего не знаю ни о каком центре! – снова вспылил Пеплов. – Как я могу говорить о том, чего не знаю?
Следователь обошёл стол и встал перед ним. Он по-прежнему был очень спокоен и по-хорошему рассудителен.
– Ну допустим, – сказал он, глядя Пеплову в глаза, – я вам верю, и вы действительно ни в чём не виноваты. Но почему тогда на вас указывают сразу восемь человек? Все они уже сознались в контрреволюционной деятельности, и все называют вас активным участником организации, и даже – одним из её лидеров! Как вы можете это объяснить?
Пётр Поликарпович пожал плечами с видом полнейшей растерянности.
– Я уже сказал, что всё это полная чушь! Из восьми вами названных людей я знаю лишь троих, да и с ними виделся очень давно.
– Всех вам знать не обязательно. Ведь не обязан же знать руководитель всех своих подчинённых, особенно когда их так много. А вот руководителя знают все. Мне ли вам это объяснять, уважаемый Пётр Поликарпович!
– Тогда я не знаю, что вам сказать. Это или провокация, или…
– Ну же, договаривайте!
– Или и на самом деле существует антисоветский заговор, а меня решили опорочить таким вот подлым образом.
– Во-от, это уже лучше! – удовлетворённо протянул следователь. – Вы уже признаёте, что заговор возможен. Так помогите же нам! Назовите всех тех, кто мог бы участвовать в антисоветском заговоре, и мы выявим всех этих гадов, а ваше доброе имя очистим от наветов.
– Да и я бы рад их назвать, но я действительно ничего не знаю! Я уже сказал, что знаком лишь с Яковенко Василием Григорьевичем, а ещё я знаю Лаврова Вадима Михайловича, он работает референтом в обкоме, я видел его раза три всего, да и то мельком. Ещё я знаю Лобова Фёдора Антоновича. Но с ним я давно потерял всякую связь. Году примерно в двадцать пятом мы с ним встречались в Красноярске, а с тех пор – ни слуху и ни духу. Понятия не имею, что с ним теперь.
– Лобов арестован и также дал признательные показания. Он показал среди прочего, что завербовал вас в эсеровскую повстанческую организацию. И именно в Красноярске. Ведь вы состояли в партии эсеров?
– Да вы что! Я никогда не состоял ни в каких партиях!
– Отчего же? – просто спросил следователь. – Тогда это было модно. Все где-нибудь да числились.
– Когда я воевал с Колчаком, мне некогда было думать об этом. А потом уже и не нужно. Я семь лет носил винтовку, повсюду уничтожал врагов советской власти. И мне нет нужды доказывать свою преданность делу социализма. Понимаете вы это? Я с оружием в руках защищал советскую власть! Какие ещё могут ко мне быть вопросы?
– Люди меняются с годами. Вы не хуже меня знаете, что стало с этим недоноском Троцким и его приспешниками. Горького подло отравили. Сергея Мироновича Кирова злодейски убили. И даже на товарища Сталина подняли руку. Но мы эту руку вырвем с корнем! Мы не позволим всякой сволочи вставать у нас на пути!
– Да, конечно, вы всё правильно говорите! Но я-то тут при чём? – воскликнул Пётр Поликарпович. – Я тоже возмущён до глубины души, и если потребуется, снова возьму в руки винтовку и стану бороться с врагами революции! Только покажите мне их!
Следователь пристально посмотрел на него.
– Вы сейчас искренне это говорите?
– Конечно! Покажите мне врага, и я его уничтожу! Рука не дрогнет.
Следователь опустил голову и едва заметно усмехнулся.
– М-да… Ваш соратник по писательскому цеху почти то же самое говорил.
– Вы об Алексее Максимовиче?
– О нём. Если враг не сдаётся, то его уничтожают. Кажется, так он однажды выразился?
– Совершенно верно.
– Вот за это его и убили агенты мировой буржуазии! – Следователь помолчал несколько секунд, потом круто повернулся и пошёл на своё место. Усевшись на стул, решительно подвинул к себе бумаги. – Итак, я вас слушаю.
– Но я не знаю, что сказать!
– Но как же? Вы – известный писатель, инженер человеческих душ. У вас зоркий взгляд и неравнодушное, отзывчивое сердце. Неужели вы не замечали вокруг себя ничего подозрительного? Кругом вас плетутся заговоры, совершаются убийства лучших людей, а вы таки ничего не знали? Как же это может быть? Неужели вы так близоруки? Так может, вы занялись не своим делом, а быть писателем – не ваш удел?
Пётр Поликарпович пожал плечами и отвернулся.
Следователь поджал губы.
– Очень жаль. А мы очень рассчитывали на вашу откровенность. Но я вижу, что мы говорим на разных языках. – Взяв ручку, он стал что-то быстро записывать в лежащий перед ним бланк. Пётр Поликарпович пытался рассмотреть, что он там пишет, но ничего не мог разобрать. Зрение было уже не то. Двадцать лет назад он видел все звёзды в ночном небе, а теперь не сразу может разглядеть человека, стоящего в десяти шагах. Годы берут своё. Да и кропотливая работа над рукописями тоже сказывается. Пять полновесных книг – не шутка! Вот и молодых авторов приходится регулярно читать. Как провели краевую конференцию пролетарских писателей, так просто спасу нет – завалили редакцию романами о домнах и о тракторах, о колосках и о заре новой счастливой жизни. Всё это Пётр Поликарпович внимательно читал и по возможности поправлял. Ему ведь тоже в своё время помогали. Настала пора отдавать долги.
Следователь поставил подпись в конце листа и поднял голову.
– Я вынужден взять вас под стражу, уважаемый Пётр Поликарпович, – сообщил буднично. – До выяснения всех обстоятельств дела.
Пётр Поликарпович почувствовал, как кровь отхлынула от лица, в голове зашумело. Ничего подобного он не ожидал.
– Но погодите! Мне обещали, что меня отпустят! Зачем же меня задерживать? Я вам честно сказал всё, что знал!
Следователь сохранял невозмутимость, говорил деловито, как о чём-то будничном:
– Да, мы хотели вас отпустить, если только вы ответите на все вопросы. Но ведь вы ничего не рассказали по существу дела.
– Но я действительно ничего не знаю! Зачем же я буду выдумывать?
Следователь нажал кнопку под столом, в кабинет шагнул охранник с винтовкой.
– Увести! – последовал приказ.
Пётр Поликарпович поднялся с растерянным видом.
– Но позвольте, на каком основании вы меня задерживаете? Ведь я никуда не денусь! Если понадобится, я приду к вам по первому требованию. Меня дома жена ждёт. Дочери два годика. У меня на сегодня несколько встреч запланировано. Да меня половина города знает.
– То-то и плохо, что знают. Вас могут убить, похитить. Мы не можем этого допустить.
– Да что это за бред? Кто меня станет убивать? Когда я за советскую власть воевал, меня не убили. А тут в мирное время, и вдруг убьют.
– Не надо так часто поминать советскую власть и былые заслуги, – холодно заметил следователь. – Мы все за неё боролись, только каждый на своём участке фронта. Вы лучше припомните все свои контакты с врагами советской власти. И поподробнее. От этого зависит ваша судьба. Мы ещё с вами поговорим об этом. Всё, увести!
Охранник взял винтовку на изготовку.
– Руки за спину! Пошёл на выход!
– Вы совершаете чудовищную ошибку! Я действительно ничего не знаю!
– Все поначалу так говорят, – невозмутимо ответил следователь. – А потом посидят с недельку, подумают-подумают – и начинают понемногу вспоминать. И вы тоже вспомните, Пётр Поликарпович. Советую вам не запираться. Это не в ваших интересах. – И глянул строго на охранника. – Забирай.
Пётр Поликарпович не помнил, как вышел из кабинета. Он словно оглох и ослеп, не понимал, что с ним делается. Знал лишь, что случилось что-то страшное, непоправимое. Его словно бы придавило каменной плитой, он сгорбился, разом постарел. Каждый шаг давался ему с огромным усилием. Временами ему чудилось, что он видит жуткий сон и вот-вот проснётся! Но сон всё длился и длился, а он брёл и брёл куда-то по тёмным коридорам. Всё вниз и вниз – в чистилище.
* * *
В это время молодая женщина торопливо поднималась по мраморным ступенькам широкой лестницы Иркутского дома литераторов. Лицо её было бледно, кое-как собранные в пучок волосы выбились из-под шляпки, и двигалась она так, словно ничего не видела перед собой. Она распахнула высокую деревянную дверь с резными стеклянными вставками и вошла внутрь.
– Михаил Михайлович у себя? – спросила придушенным голосом и, не дожидаясь ответа, проследовала через прихожую к кабинету секретаря иркутской краевой писательской организации. Вахтёрша решительно поднялась со стула, глаза её сверкнули.
– Михаил Михайлович занят, у него совещание!
Но женщина уже открывала тяжёлую трёхметровую дверь.
В кабинете находились несколько человек; за столом, напротив входа и спиной к высоченному окну, восседал хозяин кабинета – полный большеголовый человек с круглым и сытым лицом. Справа и слева сидели ещё трое или четверо – на стульях и на низеньком диванчике возле стены. Все они разом повернулись к вошедшей и замерли, словно испугавшись. Среди воцарившейся тишины женщина сделала несколько шагов по паркету и остановилась, хотела что-то сказать, но грудь её сотрясли конвульсии, она прижала к лицу ладони и разрыдалась.
Первым опомнился хозяин кабинета.
– Ну что ты, Светланочка, не надо так убиваться. Всё уладится, вот увидишь, не надо так, пожалей себя! – Он глянул на товарищей, но они сидели с каменными лицами, никто не проронил ни слова. Тогда он подвёл плачущую женщину к дивану и осторожно усадил на самый край. – Выпей водички, на-ка вот, возьми. Давай-давай, сделай несколько глотков, тебе полегчает.
Женщина взяла трясущейся рукой гранёный стакан и поднесла к губам. Вода пролилась ей на колени, она стала машинально стряхивать капли свободной рукой, а из глаз всё текли и текли слёзы. Двое из присутствующих одновременно поднялись.
– Михаил Михайлович, мы пойдём. Надо ещё готовиться к конференции. – И торопливо вышли один за другим. В кабинете остались трое: третьим был черноволосый мужчина с большими грустными глазами. Он молча смотрел на плачущую женщину и думал о своём. Потом вздохнул и перевёл взгляд на товарища:
– Миша, нужно что-то делать. Надо вызволять Петра. Звони в серый дом, пока ещё не поздно.
Хозяин кабинета молча прошёл к своему столу, сел в чёрное кожаное кресло.
– Не знаю даже, – пробормотал неуверенно. – Может, всё ещё обойдётся?
Женщина всхлипнула, подняла заплаканные глаза.
– Нас с дочерью из дома выгоняют. Велели выметаться из квартиры в двадцать четыре часа. А там все наши вещи, одежда, мебель… Куда мы пойдём?
Мужчины казались поражёнными таким известием.
– Из дома выгоняют? – переспросил один.
– Но как же? – воскликнул другой. – Какое они имеют право? Светлана, может, ты чего-то не так поняла?
– Они весь дом перерыли, подушки штыком кололи, фарфоровые чашки побили, прямо об пол. Зеркало в прихожей треснуло. Дочку напугали до смерти, я её едва успокоила. Оставила пока у соседки. А сама вот к вам… Что же нам делать? Что с Петей? Где он? Я должна его видеть!
Хозяин кабинета помедлил секунду, потом взял телефонную трубку со стоящего на краю стола чёрного аппарата.
– Приёмную облисполкома мне, да, Яков Назарыча! – Отнял трубку от уха и произнёс вполголоса: – С Пахомовым попробую поговорить, он наверняка уже в курсе. Поможет! – И снова в телефон: – Да. Это Басов, из писательской организации. Я бы хотел поговорить с Яковом Назарычем… Что? Очень занят? Совещание? Только что началось?.. Ну да, конечно, я понимаю. Да… да… Но вы ему передайте, пожалуйста, что я звонил и очень хотел переговорить. Я недолго отниму, всего пару минут. Скажите, что дело касается известного писателя Петра Поликарповича Пеплова… да, он арестован сегодня ночью. Жена его сидит тут у меня, плачет. Её из дома гонят с маленьким ребёнком! Общественность волнуется. Да, спасибо, я буду ждать! – И он положил трубку, некоторое время придавливал её рукой, словно пытался что-то сообразить. Потом отнял руку и произнёс раздумчиво:
– Дела-а-а!
Его товарищ пошевелился.
– В обком надо звонить, Степану! Миша, давай звони прямо сейчас. Время дорого.
Тот снова взял трубку.
– Алло, девушка…
Последовал довольно путаный диалог.
Трубка легла обратно на рычаги.
– Тоже очень занят, не может принять, – сказал Басов и медленно сел.
В кабинете стало тихо, лишь с улицы доносился слабый шелест – дерево раскачивалось на холодном ветру, поскрипывая сухими ветками.
– Но что же нам делать? – воскликнула женщина. – Где Петя? Я должна его увидеть!
– Пётр Поликарпович сейчас находится в управлении НКВД, на Литвинова, – тихо проговорил Басов. – Мне уже звонили оттуда. Сказали, что он арестован по подозрению в принадлежности к правотроцкистской контрреволюционной организации и что уже дал признательные показания…
Женщина отшатнулась.
– Какие показания? Вы что такое говорите? Этого не может быть! Это всё враньё!
Басов опустил голову.
– Я и сам этому не верю. Пётр Поликарпович не может быть замешан ни в чём таком, мы все это прекрасно знаем. Но они сказали, что он уже признался… И ещё… в два часа к нам прибудет их уполномоченный для важного сообщения. Мы должны собрать правление к этому времени. Думаю, многое разъяснится. Я сейчас попрошу секретаршу, чтобы она оповестила всех писателей.
– А я? – спросила женщина. – Что мне делать?
Басов посмотрел на товарища, но тот отвёл взгляд.
– Ты, Светлана, тоже приходи. На правление мы тебя пригласить не сможем, но ты посиди в приёмной. Я постараюсь узнать как можно больше. Если удастся, переговоришь с уполномоченным. Это будет лучше всего. Ну и Пахомову я ещё буду звонить. А пока иди домой, отдохни. На тебе лица нет. Тебе сейчас нужно быть сильной, у тебя дочь на руках.
Женщина неуверенно поднялась.
– Вы так считаете? Хорошо, я пойду домой. Который теперь час?
– Половина одиннадцатого.
Женщина неуверенно пошла к двери. На пороге обернулась, губы её снова задрожали.
– Михаил Михайлович, мне страшно! Что с нами будет?
Басов стиснул зубы и проговорил как бы через силу:
– Ничего, прорвёмся. Не впервой.
Женщина вышла, а двое писателей остались в кабинете. Один стоял возле стола и пристально смотрел на захлопнувшуюся дверь, другой сидел, понурившись, на низеньком диванчике. Каждый думал о своём, и думы эти были невеселы.
Наконец Басов словно бы очнулся. Посмотрел на товарища.
– Исаак, ты что-нибудь понимаешь? Что вообще происходит?
Сидевший поднял голову и глянул большими печальными глазами.
– Плохо наше дело, скоро и нам всем крышка! – проговорил тихим голосом. – Прихлопнут, только мокренько станет.
– Ну уж, скажешь тоже… – через силу возразил Басов. – С чего это нам крышка? Мы ни в чём не виноваты.
– А Пётр, по-твоему, виноват? Ты же сам знаешь, что он самый правоверный из нас! Если и есть среди писателей по-настоящему преданный революции человек, так это он. Да и по книгам его разве этого не видать?
Басов промолчал, лишь наклонил голову. Возразить было нечего.
Гольдберг продолжил:
– А в Москве что делается? Как убили Кирова, так все словно с цепи сорвались! Бухарин арестован! Это как понимать? Зиновьева с Каменевым расстреляли! Пятакова убили. Нашего Мартемьяна Рютина прикончили! Ивана Никитича Смирнова – этого чистейшего человека! – расстреляли год назад. А ведь он командовал знаменитой Пятой армией, освободившей Сибирь от Колчака, его у нас называли сибирским Лениным! В двадцать втором году его прочили на пост ведущего секретаря ЦК, но этот пост достался Сталину. А теперь его обвиняют в заговоре и убийстве Кирова. Но ведь он в тюрьме сидел с тридцать второго, а до этого три года был в ссылке в Закавказье! Как же он мог быть заговорщиком? Ведь это же полная чушь! Серго Орджоникидзе застрелился. Томский с собой покончил. И всё им мало! Троцкистов везде ищут. Троцкого давно нет в стране, а они никак не уймутся. А Троцкий, между прочим, был ближайшим соратником Ленина. Кому Ильич доверил создание Красной армии? И где в это время был этот недоносок Сталин?
Басов вскинул голову.
– Ты потише говори! Секретарша услышит.
Гольдберг посмотрел на дверь.
– А ты что, её опасаешься?
Басов усмехнулся:
– Ты думал, органы пришлют нам простую стенографистку?
– Так она из органов?
– Нет, не из органов! Но – по рекомендации. Понимаешь, что это значит? Что я тебе, объяснять всё должен?
Гольдберг лишь покачал головой.
– Дожили, уже в своём кругу нельзя вслух говорить.
– Говорить-то можно, только не обо всём, – заметил Басов. – Неделю назад в Москве арестован Ягода. Можешь ты это себе представить? Самый главный чекист оказался врагом советской власти! И теперь можно всего ожидать. – Он подвинул к себе телефон, стал крутить диск.
Гольдберг медленно поднялся. Ему шёл уже шестой десяток, волосы начали седеть, на лбу явственно обозначилась залысина, кожа на лице одрябла, глаза глядели устало, на всём облике была печать глубокой усталости, какой-то обречённости.
– Пойду я. У меня творческий отчёт назначен на вторник. Готовиться надо, да нет никакого настроения. Как подумаешь о том, что творится в стране, так не хочется ничего…
– А ты не думай! Поздно нам уже думать. Мы своё дело сделали. Теперь другие пусть голову ломают.
Гольдберг остановился, постоял несколько секунд с задумчивым видом, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой и вышел.
– Не забудь к двум прийти! – крикнул вдогонку Басов. – Явка членов правления обязательна!
– Приду… – слабо донеслось из-за дверей.
Басов уже не слушал. Он яростно крутил телефонный диск, будто от этого зависела его жизнь.
* * *
В два часа пополудни правление писательской организации собралось в полном составе. Всего было восемь человек – пятеро членов правления и три кандидата. Ждали уполномоченного, тихо переговаривались между собой и бросали тревожные взгляды на резную дубовую дверь. Наконец из приёмной донёсся шум, хлопнула входная стеклянная дверь, радостно вскрикнула секретарша… Басов решительно поднялся и поспешил навстречу важному гостю.
– Пожалуйста, проходите, все уже собрались, ждём вас! – говорил он приятным голосом, обводя рукой присутствующих. – Вот кресло для вас приготовили, вам тут удобно будет.
Черноволосый плотный мужчина лет тридцати – коренастый, большеголовый, с тупым и самодовольным выражением лица – занял предложенное место. На нём была энкавэдэшная форма – гимнастёрка, галифе, сапоги, на голове – фуражка со звёздочкой. Всё это внушало если не трепет, то уважение. И настраивало на предельно серьёзный лад. Впрочем, все заранее были настроены. Военная форма в ту пору внушала трепет любому гражданину СССР.
Гость обвёл присутствующих строгим взглядом и заговорил веско и внушительно:
– Капитан госбезопасности Рождественский. Руководство областного управления НКВД поручило мне провести среди вас разъяснительную беседу. В рядах вашей писательской организации выявлен контрреволюционный заговор. Вчера арестован всем вам хорошо известный писатель и общественный деятель, а в действительности – отлично законспирированный враг советской власти – Пеплов Пётр Поликарпович. Вот что вы сейчас можете мне о нём рассказать? – И он выкатил на присутствующих свои совиные глаза.
Писатели замерли от неожиданности. Отчего-то всем стало страшно. То ли это капитан так на них смотрел, что мороз по коже продирал, то ли в голосе у него было что-то особенное, а может, в воздухе витало нечто такое, чему нет названия, но что все безотчётно чувствуют – в такие-то моменты решается судьба и всё висит на волоске.
Видя, что никто не расположен отвечать, капитан перевёл взгляд на хозяина кабинета.
– Товарищ Басов, если не ошибаюсь?
– Да, это я, – с готовностью кивнул тот.
– Что вы можете сказать о Пеплове и вообще, – он сделал широкий жест, – о настроениях в подведомственной вам писательской организации? Предупреждаю, что я буду беседовать с каждым из вас персонально, а пока что провожу общую разведку боем, так сказать. Итак, я вас слушаю! Советую говорить всё как есть, начистоту.
Басов окончательно растерялся. Посмотрел на притихших товарищей, те сидели, склонив головы, и, наверное, ругали себя за то, что пришли на это чёртово правление.
Басов откашлялся.
– Так что, товарищ уполномоченный, настроение у всех нормальное, боевое! Через три недели у нас будет общее собрание, приём новых членов…
– Да я не о том! – досадливо перебил уполномоченный. – Какие ещё члены? Вы хоть в курсе, что в мире происходит? Мировая буржуазия идёт на нас войной, мы окружены врагами со всех сторон! И сразу зашевелилась разная нечисть в нашей стране, подняли голову недобитые троцкисты и зиновьевцы, вся эта шваль. Но наша партия под руководством товарища Сталина ведёт бескомпромиссную войну с предателями и двурушниками. Только что в Москве завершился процесс по делу предателей-троцкистов. Все эти гады расстреляны, но дело на этом не закончилось. Рассадники заразы выявлены во всех регионах, и у нас тоже окопались враги! Для усиления борьбы с троцкистскими диверсантами и шпионами в Иркутскую область направлен несгибаемый борец с контрой товарищ Лупекин. Перед органами поставлена задача в кратчайшие сроки раскрыть все центры заговорщиков, выявить и уничтожить врагов советской власти. И мы это сделаем, чего бы нам это ни стоило! Итак, я вас ещё раз спрашиваю: каковы на сегодняшний день настроения в писательской организации? И как так получилось, что вы ничего не знали о деятельности самого видного вашего члена? Или вы обо всём знали, но почему-то молчали? Проявили политическую близорукость!
– Но погодите! – воскликнул Басов. Лицо его покраснело, голос прерывался. – Почему вы называете Петра Поликарповича врагом советской власти? Это очень достойный человек, его биография всем нам хорошо известна. В Гражданскую войну он воевал в партизанском отряде, занимал руководящие посты. Потом был на партийной работе, овладел профессией писателя и написал несколько очень нужных и правильных книг. Алексей Максимович Горький его горячо поддерживал. Вот Исаак Григорьевич Гольдберг может всё это подтвердить, он тоже состоял в дружеской переписке с Алексеем Максимовичем. Или вы считаете, что Горький ошибался?
Уполномоченный вдруг поднялся с места, лицо его сделалось свинцовым.
– Товарищ Басов, вы занимаетесь демагогией! – Он поднял руку и рубанул воздух. – Вы что, ставите под сомнение работу наших доблестных органов госбезопасности? Мы что, по-вашему, в кошки-мышки играем? Весь мир идёт против нас, а вы тут сидите и ничего не видите у себя под носом! Враг затаился и ждёт удобного момента для атаки, но мы нанесём ему упреждающий удар! Вырвем его жало, растопчем гадину! Уничтожим всех этих недоносков, вырвем с корнем!..
Присутствующие со страхом смотрели на перекосившееся лицо уполномоченного. Тот обводил их гневным взглядом и, казалось, готов был броситься с кулаками. Басов стоял с открытым ртом, горло его перехватило спазмом, он силился что-то сказать и не мог.
– Даю вам сроку ровно сутки! – чуть успокоившись, молвил уполномоченный. – Чтобы завтра к двенадцати был готов подробный отчёт о настроениях в писательской организации, а также я жду характеристику на этого двурушника Пеплова. Только не надо писать о Горьком и прочую дребедень. Меня интересуют факты его подрывной деятельности. Вам всё понятно?
Басов медленно кивнул. Остальные не проронили ни слова, сидели в застывших позах.
В мёртвой тишине уполномоченный вышел из кабинета. Слышно было, как он, тяжело бухая сапогами, прошёл через приёмную, затем звякнула стеклянная дверь, и всё смолкло.
Басов видел через окно, как уполномоченный по-хозяйски сел в чёрную легковушку и та покатила, пустив за собой сизый дым.
Оторвавшись от окна, он посмотрел на товарищей.
– Что будем делать, господа писатели?
Никто ему не ответил. Лишь Гольдберг поднял голову.
– Петра Поликарповича нужно выручать.
– Да я это понимаю, – ответил Басов. – Но как? Что я для этого должен сделать?
– Напишем объективную характеристику, как оно есть. Я не верю, что он двурушник и заговорщик. Тут какая-то ошибка, – сказал Гольдберг.
– Хорошо, – удовлетворённо протянул Басов. – Какие ещё будут мнения? Все с этим согласны?
Ответа не последовало. Кто-то отвернулся, иные опустили голову.
– Так что мне писать про Пеплова? О настроениях в писательской организации?
– Пиши одну лишь правду, – снова сказал Гольдберг и поднялся. – Пойду я, дел много.
Остальные тоже вдруг зашевелились и торопливо пошли к выходу, будто надеясь, что всё то плохое, что они здесь услышали, здесь же и останется. А там, снаружи, снова всё станет ясно и хорошо.
Басов смотрел, как они покидают кабинет, и в глазах его появилось тоскливое выражение.
– Николай, останься! – произнёс в спину молодому крепкому мужчине. Тот оглянулся на полшаге и пробормотал едва слышно:
– Я потом зайду, мне надо сейчас в одно место… – И торопливо вышел.
Басов постоял немного, потом сел в своё удобное кресло и подвинул к себе чистый лист бумаги. Лицо было мрачно, но движения чётки и уверенны. Услышав шорох, поднял голову. Перед ним стояла жена Пеплова.
– Михаил Михайлович, – одними губами произнесла она, – что же это?
Басов молча смотрел на её заплаканное лицо и не мог выдавить из себя ни слова. Хотелось как-то утешить убитую горем женщину, но утешить её было нечем. Он это знал, и она это знала. Она слышала угрозы уполномоченного, когда сидела в приёмной. И когда уполномоченный уходил, не решилась обратиться к нему – несмотря на всё своё отчаяние.
– Светлана Александровна, – наконец сказал Басов, – я сделаю всё от меня зависящее, обещаю тебе! Сейчас я напишу характеристику на Петра Поликарповича, напишу всё как есть, что он был достойный, честный человек и замечательный писатель. Но ты сама видишь, от нас теперь мало что зависит. Этот капитан, который тут был… я впервые вижу таких людей! Как он с нами разговаривал! Такое впечатление, что он прилетел к нам откуда-нибудь с войны, прямо с передовой! Только ведь нет никакой войны. Или я чего-то не понимаю?
Женщина смотрела на Басова сквозь слёзы, руки её дрожали, лицо осунувшееся, в безобразных бурых пятнах. Это была уже не та жизнерадостная красавица, которую он видел всего две недели назад. Теперь она походила на старуху – измождённую, убитую горем, потерянную.
Басов вышел из-за стола, взял женщину за руку.
– Светлана, пойдём, я тебя провожу до дому. Посмотрим, что там у вас делается. А характеристику я вечером напишу. Это у меня быстро.
Женщина послушно встала и, тяжело ступая, пошла из кабинета.
* * *
– Заходи!
Конвоир толкнул обитую чёрной кожей дверь и отступил в сторону. Пётр Поликарпович перешагнул через порог.
– Проходи сюда, да поживей! – скомандовал следователь, приподняв голову.
Пётр Поликарпович сделал несколько шагов и опустился на стул. Голова кружилась, сердце гулко стучало; ему было нехорошо.
– Пеплов Пётр Поликарпович? – спросил следователь.
– Да, это я.
– Капитан Рождественский, – отчеканил следователь. – Буду вести ваше дело. Хочу сразу предупредить: надо говорить всё как есть, это в ваших интересах. – И он грозно глянул на подследственного.
– Мне нечего скрывать, – ответил Пеплов. – Я ни в чём не виноват перед советской властью.
– Виноваты или нет, это не вы будете решать. Ваше дело – честно и как можно подробнее отвечать на все мои вопросы. Итак… – Он подвинул к себе бланк протокола допроса и, взявши ручку, продекламировал: – Имя, фамилия, отчество.
Пётр Поликарпович ответил.
– Год и место рождения?
– Родился тринадцатого января восемьсот девяносто второго года в селе Перовское Канского округа Енисейской губернии.
– Социальное происхождение?
– Из крестьян. До четырнадцатого года помогал отцу по хозяйству, затем был призван на военную службу.
– Ага, значит, в царской армии воевали? Царю служили?
– Воевал. Как бы я мог отказаться? В девятьсот четырнадцатом мне уже двадцать два стукнуло. Забрили лоб и отправили на войну. У нас в селе всех парней забрали. Почти никто обратно не вернулся.
– Ну хорошо. А потом чем занимались?
– В семнадцатом, когда произошла революция, я домой вернулся. Стал агитировать за советскую власть. Мне поверили. Избрали в ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Сибири. И только мы начали работу, как на нас Колчак попёр. Пришлось снова брать в руки винтовку. Мы защищали Белый дом в Иркутске, я был ранен, ушёл в тайгу вместе со всеми… из тех, кто тогда жив остался.
– А почему к Колчаку не перешли? Ведь он вам близок.
Пеплов с недоумением посмотрел на следователя.
– Почему вы так решили? Меня бы сразу расстреляли! Ведь я же воевал против них!
– Ну, это мы ещё проверим, как ты там воевал. Теперь все герои, как я посмотрю… В двадцатые годы что делал?
– Учился. Сначала в Томском университете, потом в Красноярском институте народного образования. Закончил институт в двадцать третьем году и был направлен в Енисейск. Был инструктором союза кооператоров, потом работал завучем красноярского детдома водников. Женился там. Жена работала учительницей, помогала мне.
– Соучастница, стало быть.
– Не смейте так говорить о ней! Ведь вы ничего не знаете. Когда я был в партизанах, вы ещё ребёнком были. А она тоже в партизанах была, если хотите знать. Её белогвардейцы чуть не расстреляли в девятнадцатом.
Рождественский откинулся на спинку.
– Вон как ты заговорил! Ну-ну! – Он вдруг поднялся и заходил по кабинету. – Посмотрим, как ты запоёшь, когда мы на очную ставку тебя поставим с твоей сообщницей!
Пеплов с недоумением посмотрел на следователя.
– Какой ещё сообщницей?
– Женой твоей – Лепинской Светланой Александровной! Всё мне выложишь! Как на блюдечке.
Пеплов поднялся на вдруг ослабевших ногах.
– Товарищ следователь…
– Гражданин!
– Хорошо, пусть будет гражданин… Пожалуйста, не надо сюда жену. У нас дочь маленькая! И вообще, она тут ни при чём…
Следователь вдруг надвинулся на Пеплова.
– А кто при чём? Ну? Быстро говори!
Пеплов отшатнулся, силился что-то сказать, губы его подёргивались.
– Я… я не знаю, что говорить.
– О сообщниках рассказывай, всё как есть! Ты должен назвать пятьдесят членов вашей организации. Говори быстро, я слушаю!
Пеплов уронил голову.
– Я не понимаю вас. О какой организации вы всё время спрашиваете?
– Яковенко знаешь?
– Я уже говорил на первом допросе, мы с ним вместе воевали.
– Астафьева знаешь?
– Знаю, он тоже был в партизанском отряде.
– Рудаков, Лобов, Буда, Неупокоев, Жилинский, Малышев…
Фамилии следовали одна за другой. Пётр Поликарпович машинально кивал, подтверждая, что с одним он был в отряде, с другим познакомился в Красноярске, а третьего случайно встретил в Иркутске. Само по себе знакомство не было преступлением. Да и зачем отрицать то, что и так всем известно?
– Хорошо, так и запишем, – проговорил следователь, обмакивая ручку в чернильницу. – Гражданин Пеплов подтвердил соучастие в заговоре вышеназванных лиц.
– Но я ничего такого не подтверждал! – вскрикнул Пеплов. – Я только сказал, что знаю этих людей, и больше ничего. Но ведь это не преступление!
Следователь холодно посмотрел на него.
– Будешь запираться, мы из тебя кишки вымотаем и всю твою подлую душонку. Понял? А о жене твоей я ещё подумаю. Арестовать недолго! – И он стал что-то быстро писать в протокол. Пётр Поликарпович попытался рассмотреть, что он там пишет, но разобрать ничего было нельзя. Он устало отвернулся, стал смотреть в окно. Там светило солнце, в синем небе застыли невесомые облака. «Вот бы улететь сейчас с этим облаком! – подумалось. – Раствориться в синеве без остатка». В сущности, жизнь прожита. Можно спокойно и умереть. Но спокойно умереть уже не получится. Смерть ведь бывает разная. Можно пасть смертью храбрых за правое дело и на виду у всех, а можно быть оплёванным, оболганным и растоптанным, покорившись дьявольской силе… Нет, этого нельзя допустить. Надо бороться, чего бы это ни стоило.
Приняв такое решение, Пётр Поликарпович почувствовал себя увереннее. Глянул искоса на следователя. Тот всё писал, царапая стальным пером рыхлую бумагу. «Чего он там пишет?..»
Он вспомнил рассказ жены о том, как её судил военно-полевой колчаковский суд осенью девятнадцатого года. Этот рассказ он вставил потом в свою книгу, имевшую шумный успех – особенно у бывших партизан, знавших, как всё было в действительности.
Кажется, всё это было вчера! А ведь прошло целых восемнадцать лет. Он закрыл глаза, и в темноте вспыхнули огненные строчки:
«– Господа, заседание экстренного военно-полевого суда считаю открытым. Вниманию вашему предлагается слушание дела учительницы Елизаветы Павловны Пуховой, происходящей из крестьян Пуховской области, обвиняемой в участии в банде Потылицына как одного из видных главарей и редактора погромной газеты “Плуг и молот”, кроме сего уличённой в подстрекательстве нижних чинов местного гарнизона и захваченной на месте преступления при похищении бандой упомянутого Потылицына губернской типографии.
– Подсудимая Пухова!
Лиза поднялась с места и чуть заметно улыбнулась, глядя в мертво-скуластое лицо председателя суда.
– Признаете себя виновной в содеянном? – Генерал наклонился через стол и налил в стакан воды.
– Да, признаю… Но!.. – Лиза выпрямилась во весь рост и будто только теперь поняла, как смертельно ненавидит этих своих палачей, совершающих ненужный, жестокий обряд. – Да, признаю и прошу поскорее кончать!
Судьи, вздрогнув, повернули в её сторону головы.
– Сколько вам лет? – спросил широколицый маленький прокурор в длинном френче и с белёсым ершом на голове.
– Восемнадцать, но… разве это важно? – Синие глаза Лизы смеялись злобой. Она села, откинулась на спинку скамьи и остановилась взглядом на люстре, привешенной к голубому потолку залы.
Когда ей предоставили последнее слово, то коротко сказала:
– Прошу не считать, что я несознательно… я работала и билась с вами убеждённо… Это пошлость говорить, что дело рабочих и крестьян – преступление или вина!
Синие сумерки тихо опускались на город, когда конвойные подвели её к тюремным воротам. “Ввиду несовершеннолетия – двадцать лет каторги”, – чётко звучали слова председателя суда. И когда камера захлопнулась тяжёлой скрипучей дверью, бросилась на шею старой большевички и беззвучно зарыдала…»
– На, подписывай! – Следователь подвинул на край стола несколько жёлтых листов. – Вот тебе ручка.
Пётр Поликарпович взял листы. На первом листе сверху было написано: «Протокол допроса». Он быстро пробежал глазами анкетные данные, там всё было правильно. Но когда дошло до вопросов и ответов, строчки запрыгали у него перед глазами. Первый же вопрос был сформулирован следующим образом: «Материалами следствия Вы изобличены как участник контрреволюционной белогвардейской шпионской и террористической организации. Признаёте себя виновным в этом?»
И далее следовал его ответ: «Да, признаю. Я действительно являюсь участником контрреволюционной белогвардейской шпионско-диверсионной и террористической организации, которая действовала по прямым директивам нашего руководителя Яковенко Василия Григорьевича».
Вопрос: «Когда и кем вы были завербованы в белогвардейскую организацию?»
Ответ: «В белогвардейскую организацию я был завербован в городе Красноярске в 1925 г. эсером Лобовым Фёдором Антоновичем, который был связан с Яковенко и знал о готовящемся выступлении против советской власти».
Пётр Поликарпович бросил листы на стол. Твёрдо произнёс:
– Я этого подписывать не буду!
Следователь поднялся.
– Сейчас я позвоню, и через полчаса сюда доставят твою жену! Будете вдвоём давать показания.
Пётр Поликарпович медленно поднялся.
– А это ты видел?! – и показал следователю кукиш. – Вот тебе показания! Я товарищу Сталину напишу про все ваши дела. Ответите за свои фашистские действия!
Больше он ничего сказать не успел. Следователь налетел на него, сбил с ног и пинал сапогами в живот, по плечам и по голове – куда придётся. Пинал изо всех сил, досадуя, что никак не может приложиться как следует – подследственный дёргался от ударов, закрывался руками, что-то рычал, катался по полу, выл… В кабинет вбежал боец, скинул с плеча винтовку, стал передёргивать затвор.
– Уйди! – успел крикнуть следователь. – Я сам его, суку, уделаю! – и продолжил избиение.
Пётр Поликарпович уже ничего не видел и не понимал, только чувствовал болезненные удары в самых неожиданных местах. После очередного пинка в голове у него ярко вспыхнуло, и он перестал чувствовать что бы то ни было.
Бесчувственного, его взяли за руки и поволокли по коридору. Голова безвольно болталась, ноги цеплялись каблуками за дорожку. Ничего этого он не сознавал.
Очнулся в камере. Кто-то прикладывал ко лбу влажную тряпочку и заглядывал в глаза.
– Одыбал, кажись… – произнёс кто-то над ухом.
Пётр Поликарпович попытался подняться, но его мягко удержала чья-то рука.
– Лежите, вам нельзя вставать.
Пётр Поликарпович глянул на говорившего, но перед глазами плавали бесформенные тени, а голова гудела, будто её наполнили чем-то тяжёлым и горячим.
– Где я? – спросил, облизнув пересохшие губы.
– В тюрьме, где ж ещё! – был ответ. – Еле живого тебя приволокли. Вот ведь что делают, гады! Ничего святого нет.
Пётр Поликарпович закрыл глаза и попытался вспомнить, что с ним было, но сознание заволакивало мутной пеленой, в которой глохли звуки и краски. В затылок бил тяжкий молот, отчего всё тело болезненно напрягалось. Он попытался подняться и, не сдержавшись, застонал.
– Потерпи, браток, – опять кто-то молвил, – если уж сразу не убили, значит, ещё поживёшь.
Голос то приближался, то отступал – и тогда становилось немного легче, боль отодвигалась, сознание уплывало. Но через некоторое время тяжесть возвращалась – на него снова наседал реальный мир, со звуками, с неудобством, с резкой болью. В какой-то момент он открыл глаза и страшным напряжением воли удержал ускальзывающее сознание. Постепенно стали видны очертания стен и каких-то людей. Люди сидели совсем рядом – на полу возле стены, трое или четверо. Один стоял в дальнем углу спиной ко всем. И ещё один сидел тут же на нарах, в ногах. Нары были двухэтажные, деревянные. Было темно и как-то жутко. С низкого потолка тускло светила крошечная лампочка. Откуда-то из-за спины доносились странные звуки – не то капало, не то скрежетало. Бухали где-то шаги, бряцало железо, кто-то кого-то о чём-то спрашивал строгим голосом – там, за железной дверью. Всё было дико, непостижимо, почти нереально.
Пётр Поликарпович снова попытался встать, на этот раз более удачно. Спустил ноги на пол и сел, упёршись двумя руками в жёсткое ложе. Сосед внимательно глянул на него.
– Ну ты крепкий, дядя! – протянул. – Мы уж думали, ты не очухаешься. Молодец!
Пётр Поликарпович присмотрелся. Собеседник был уже немолод, носил довольно густую бороду, пышную шевелюру; со скуластого лица бойко глядели живые глазки. Типичный сибиряк, лесной житель. Всё ему нипочём.
– А вы как тут очутились? – спросил он мужичка.
– Как и все, – усмехнулся тот. – Прямо из дома взяли. Да тут почти все такие! Все камеры забиты плотяком, не продохнуть. Кажную ночь всё новых привозят. Суют, куда ни попадя. Вот это, положим, одиночка. А нас тут сколько душ? – Он обвёл взглядом камеру и молвил: – Шестеро! – Важно мотнул головой. – И ведь ещё натолкают, это как пить дать! У соседей вон двенадцать человек понатыкано. И ничего. А куды денешься? Придётся терпеть. Так-то, паря!
– Двенадцать? – повторил Пётр Поликарпович. – Да зачем же так много? Может, это проверка какая? Разберутся, а потом отпустят.
Сосед снисходительно улыбнулся. Окинул взглядом Петра Поликарповича и заключил со знанием дела:
– Ежли они со всеми станут разбираться, как с тобой, так и отпускать некого будет! – Немного подумав, спросил: – Что ж вы такого натворили, что вас так отделали?
Пётр Поликарпович опустил голову.
– Протокол отказался подписывать. Сказал, что Сталину жалобу напишу.
Сосед присвистнул. Остальные повернули головы. Сразу стало тихо.
– Сталину? – протянул тот, что стоял у стены – худощавый мужчина невысокого роста. – Мысль правильная, только неосуществимая. Письмо до Сталина всё одно не дойдёт. А если бы и дошло, пока там в Москве разберутся, тебя тут так измордуют, что никакой Сталин не поможет. Уж лучше сразу всё признать и подписать. По крайней мере, жив останешься. И родных не тронут. Они-то тут при чём?
Все сразу зашевелились, загудели возмущённо.
– Ты тут брось ахинею нести! – возразил один из сидевших на полу. Резко поднялся на ноги; оказалось, что это довольно крупный мужчина, широкий в кости, с уверенным взглядом глубоко посаженных глаз. – Если признавать всё, что на тебя вешают, так это будет расстрел – и к попу ходить не надо!
– Да ты хоть видал, что в пятьдесят восьмой статье написано? Там почти все статьи расстрельные! Ты что думаешь, что если признаешься, что ты – японский шпион или там троцкист недобитый, – так тебя помилуют? Да тебя, дурака, сразу же шлёпнут! Пятакова с Каменевым не пощадили, а тебя отпустят. Ага! Держи карман шире!
– Да я и не говорил, что отпустят. Нет, конечно! Дадут лет пять. В конце концов, это не так уж и много. Можно вытерпеть! Главное, следователей не злить. Искалечат ведь. А потом всё равно расстреляют. Конец один.
Пётр Поликарпович поёжился от таких прогнозов. Сознание двоилось. Против воли он втягивался во всю эту чертовщину, как бы соглашался и на сроки, и даже допускал расстрел, но тут же холодел от абсурдности происходящего. Ведь он точно знал, что ему не в чем каяться, не в чем признаваться! Ни расстрела, ни пяти лет, ни даже пяти минут ареста он не заслужил. Так почему же он находится здесь, в советской тюрьме, взятый той самой властью, за которую боролся с настоящими, а не мнимыми врагами?
Ответа на этот вопрос не было.
Вдруг загремел замок, и дверь распахнулась.
– Кто тут на букву «эн»? – спросил охранник.
Худощавый быстро обернулся.
– Я на букву «эн»!
– На выход!
Худощавый быстро огляделся, одёрнул рубаху и двинулся к выходу. Секунда – и нет его. Больше Пётр Поликарпович никогда не видел этого человека.
Поздно ночью вызвали на допрос и самого Петра Поликарповича.
Его доставили в тот же кабинет, к тому же следователю, который бил его накануне. Тот глянул исподлобья на подследственного и продолжил чтение каких-то бумаг. Пётр Поликарпович стоял перед ним, пошатываясь, не понимая, что ему делать, как себя вести. Сесть ли на стул возле стола или что-нибудь сказать? Но что он мог сказать человеку, так жестоко избившему его несколько часов назад? Если бы он теперь был в колчаковском застенке, а перед ним сидел белогвардейский офицер – о! – он бы многое ему высказал – о жизни и смерти, о самопожертвовании и готовности умереть за светлые идеалы социализма. Но как себя вести в советской тюрьме, когда перед ним сидит чекист, член ВКП(б) и борец за те же самые идеалы добра и справедливости? И почему этот борец смотрит на него волком, а душа от этого взгляда леденеет?
Следователь отодвинул бумаги и поднял голову, задумчиво посмотрел на подследственного. Ему, как видно, тоже было неприятно всё это. Вернувшись домой уже под утро, он жаловался жене на этого самого Пеплова, не желающего признавать очевидные факты. Жена сочувствовала ему и выражала надежду, что перед ним никакой враг не устоит и всё равно признается! И вот теперь ему предстояло проверить это напутствие.
Воспоминание о молодой и преданной ему женщине смягчило суровость лица, и он спросил довольно спокойно:
– Ну что, будем говорить правду?
Пётр Поликарпович опустил голову. Ничего не изменилось. Всё стало только хуже.
– Я не понимаю, чего вы от меня хотите, – прошамкал он распухшими губами.
– Чего ты там бормочешь? – вскинулся следователь. – Говори громче!
– Я сказал, что ничего не знаю. Я ни в чём не виновен! – произнёс Пётр Поликарпович крепнущим голосом.
– Так-так! Значит, продолжаем упорствовать! Ну что ж. – Он легко поднял своё грузное тело, выпрямился, выпятив грудь. – Значит, так, бить я тебя больше не стану – неохота руки марать. А сделаем просто: я сейчас прикажу арестовать твою жену, и тогда посмотрим, как ты заговоришь! – И он пристально посмотрел на Пеплова, проверяя реакцию. Но Пётр Поликарпович нисколько не изменился в лице. Он уже многое понял для себя и многое решил.
– Если вы арестуете мою жену, это ничего не изменит. К тому же у нас маленькая дочь. Вы и её заберёте?
– Дочь твою определят в детский дом. Жена пойдёт по статье за недоносительство. А тебя расстреляют. Твоё участие в заговоре уже доказано, а признание – пустая формальность. Подельники твои во всём признались. Им это зачтётся, а тебе выходит высшая мера. Если тебе себя не жаль, так хотя бы о малолетней дочери своей подумай. Каково ей будет расти полной сиротой?
Пётр Поликарпович опустил голову. Ещё минута, и он согласится, подпишет признание своей несуществующей вины. Но из самой глубины поднимался вопрос: а как после этого будет жить его дочь? Что скажет жена, когда узнает, что муж много лет обманывал её, вёл двойную жизнь? Для неё это будет хуже смерти. Ведь это позор на всю жизнь! А раз так…
– Я ни в чём не виноват, – тихо проговорил он. – Мне не в чем признаваться. А вы… делайте то, что вам подсказывает совесть.
Следователь на миг потерял дар речи. Никак не ожидал такого упорства от этого уже немолодого человека.
– Значит, не хочешь разоружиться перед советской властью? – для верности спросил он.
Пётр Поликарпович отрицательно помотал головой.
– Ну что ж, тогда пеняй на себя. Ты сам во всём виноват. – И снова бросил испытующий взгляд на Пеплова. Тот стоял с застывшим лицом, и не понять было, о чём он думает. Следователь испытал в этот момент почти непреодолимое желание изо всей силы ударить его в солнечное сплетение – как их учили на спецкурсах: нужно подойти к подследственному с правой стороны и, резко крутнувшись на левой ноге, заехать носком сапога в центр мягкого живота, чуть выше пупка. Он проделывал это неоднократно во время допросов, и всякий раз эффект был потрясающий: охнув и выпучив глаза, подследственный сгибался пополам и валился на пол; несколько минут он не мог вздохнуть, корчился, как раздавленный червяк, утробно мычал и силился протолкнуть в себя воздух; зрелище было довольно гадкое. Но выбора у следователя не было – он должен был добиться признания во что бы то ни стало. И он его добивался: редко кто после подобных приёмов продолжал упорствовать. Правда, иногда заключённые умирали от разрыва желудка или селезёнки, но это выходило случайно, Рождественский не хотел никого убивать. С другой стороны, у него было готово объяснение такой горячности. «Эти скоты любого доведут!» – невозмутимо заключал он в подобных случаях. Но на этот раз его что-то остановило – он и сам не мог понять, что именно. То ли безучастный вид подследственного, то ли эти его слова про совесть. Только он испустил шумный вздох и быстро прошёл к столу. Сел в кресло и стал быстро заполнять протокол допроса. Пётр Поликарпович стоял с безучастным видом и смотрел в одну точку. На него навалилась страшная тяжесть. Хотелось поскорей уйти отсюда, закрыть глаза и ничего не знать, не чувствовать. Если б можно было, он застрелился бы прямо сейчас, смывая с себя позор и разрешая все вопросы. У него хватило бы на это мужества.
А следователь всё писал свой протокол. Для него всё было предельно ясно: если враг не сдаётся – его уничтожают!
Когда с бумагами было покончено, следователь вызвал конвойного. Петра Поликарповича вернули в камеру.
* * *
На следующее утро в просторном кабинете начальника областного управления НКВД началось очень важное совещание. На нём присутствовал только что приехавший из Москвы первый заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский Михаил Поликарпович. Председательствовал сам начальник управления – Лупекин Герман Антонович. Фриновский и Лупекин были примерно одного возраста – обоим не было ещё и сорока. Но внешне они сильно разнились. Московский гость был дороден и благообразен, круглолиц и черноволос, с проницательным взглядом больших тёмных глаз. Лупекин – совсем наоборот – был худощав и как бы измождён, невысок и тонок; многие находили его до жути похожим на автора знаменитой книги «Как закалялась сталь» (когда тот лежал, парализованный, в постели). Это внушало если не ужас, то душевный трепет. Сходство было, конечно, случайным. Однако Лупекин осознавал выгоды подобного сближения и старался придать лицу совсем уже нечеловеческое выражение: взгляд его был каким-то волчьим, будто он каждую секунду видит потусторонний мир, но не боится ни духов и ни демонов, а готовится дать им самый решительный и беспощадный бой, как и подобает советскому чекисту и несгибаемому борцу со всякой нечистью.
На совещание были приглашены начальники отделов и их заместители, а также несколько особо доверенных сотрудников – из числа приехавших в Иркутск вместе с Лупекиным пару месяцев назад. Всего набралось человек сорок – все в военной форме, все в блестящих хромовых сапогах, подтянутые и внутренне собранные, готовые (и способные) на всё. Этакая рота сверхлюдей, которым доверены особо важные тайны и от которых зависит слишком многое в этом несовершенном и пакостном мире.
Открыл совещание, как и положено, товарищ Лупекин. Он поднялся со стула и обвёл подчинённых своим мертвящим взглядом. Воцарилась абсолютная тишина.
– Товарищи уполномоченные, – произнёс он низким хриплым голосом, – я хочу представить вам первого заместителя народного комиссара, командарма третьего ранга товарища Фриновского. Он только что прибыл в наш город с особым поручением лично товарища Ежова. Прошу никаких записей не делать. Письменные инструкции вы получите позже, в индивидуальном порядке. Итак, слово для сообщения исключительной важности предоставляется… – Он выразительно глянул на высокого гостя. Тот сдавленно кашлянул и поворотил голову. В руках его показалась бумага. Уткнувшись в неё, он стал читать утробным голосом, словно бы давясь и глотая звуки:
– Я уполномочен зачитать директивное письмо о террористической, диверсионной и шпионской деятельности немецких троцкистов, проводимой по заданиям гестапо на территории Союза ССР. – Короткая пауза, нетерпеливое движение шеей, и далее: – В настоящий момент, как никогда, необходима бдительность коммунистов на любом участке и в любой обстановке. В условиях обострения классовой борьбы и усиления империалистической агрессии, когда немецкий фашизм вкупе с подонками-троцкистами создаёт в нашей великой стране свою агентурную сеть, доблестные органы НКВД должны кардинально усилить свою бдительность и беспощадно пресекать вражеские вылазки. Товарищ Сталин призывает нас к беспощадной борьбе с врагами социалистической Родины, с отщепенцами и предателями всех мастей и оттенков. В наркомате подготовлен циркуляр об усилении оперативной работы по эсеровской линии, также значительно усилена оперативно-агентурная работа по церковникам и сектантам, по антисоветским тюрко-татарским националистическим организациям, панмонгольской шпионской организации, правотроцкистской контрреволюционной организации, белогвардейской шпионской организации, фашистской шпионской организации, церковно-монархистской организации. В Западной и Восточной Сибири уже вскрыты и разрабатываются контрреволюционные организации среди высланных кулаков и примкнувших к ним партизан. Враг хитёр и коварен, он не гнушается ничем! – Фриновский поднял голову и впервые посмотрел на притихших чекистов. – Две недели назад в Москве арестован бывший нарком Ягода. Этот двурушник исключён из партии и уже даёт признательные показания. Вместе с ним арестована целая шайка прихвостней, все они готовили покушение на товарища Сталина и членов правительства!
Он снова остановился, чтобы перевести дух, затем продолжил:
– В вашем регионе также выявлена глубоко законспирированная сеть вражеских агентов и лазутчиков. Могу сказать, что в настоящее время расследуется дело бывшего начальника УНКВД по Восточно-Сибирскому краю гражданина Зирниса. Получены доказательства его участия в подготовке террористических актов против органов советской власти. Недавно состоявшийся в Москве пленум ВКП(б) под председательством товарища Сталина заклеймил всех этих наймитов и потребовал навести порядок беспощадной рукой революционной законности. Вопрос теперь стоит так: или мы – или они! В преддверии двадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции мы не можем позволить жестокому врагу отнять у нас всё то, что досталось нам ценой неслыханных жертв и лишений. Наши доблестные товарищи, павшие в боях за советскую власть, не простят нам малодушия и мягкотелости. Мы должны противопоставить врагу нашу твёрдость и непреклонную веру в великие идеалы, завещанные нам Лениным. Наш дорогой товарищ и учитель – Иосиф Виссарионович Сталин – прикладывает титанические усилия на своём посту. Не покладая рук, день и ночь он борется за наше с вами счастье, товарищи! И мы должны каждую секунду чувствовать свою ответственность за порученное нам дело, мы должны оправдать оказанное нам высокое доверие. Мы находимся на переднем крае беспощадной борьбы за дело рабочих и крестьян во всём мире. Сегодня, как и двадцать лет назад, снова решается вопрос – быть или не быть первому в мире социалистическому государству. Фашистская Германия, империалистическая Япония, реакционные круги Англии и Франции, Италии и Америки – все они выступают против нас единым фронтом. Но им не удастся поставить нас на колени! Мы противопоставим им железную дисциплину и стальную выдержку – как учит наш дорогой вождь и учитель! Для этого от каждого сотрудника НКВД требуются величайшая собранность и дисциплина. Вы должны помнить во время проведения допросов, что вы имеете дело с контрреволюционерами и матёрыми врагами! Ваша задача состоит в том, чтобы заставить всю эту сволочь встать на колени перед советской властью, разоружиться и раскрыть свою контрреволюционную работу, назвать организацию, всех её участников и просить пощады у советской власти. Организуйте допрос обвиняемого таким образом, чтобы он был беспрерывен, и до тех пор не отпускайте обвиняемого в камеру, пока он не признается в своих преступлениях, даже если на это потребуется день, два, три, четыре и больше. Вам разрешается применять меры физического воздействия в отношении особо злостных врагов Советской власти. Мы не можем себе позволить мягкотелости ввиду той угрожающей обстановки, что сложилась в международном положении нашей страны…
Фриновский говорил всё громче, голос его возвышался и опадал, словно морской прибой; сам он багровел и туго наливался желчью, лицо делалось мокрым, он рефлекторно вытаскивал нечистый скомканный платок и отирал пот с заплывшей шеи и отёчного лица. Его слушали в мёртвой тишине, слова улетали в гулкую пустоту и делались осязаемыми; сердца каменели, головы наливались металлом, дыхание останавливалось. Свершалось что-то великое и страшное – все это чувствовали, и все готовы были отдать жизнь в борьбе с ненавистным врагом! Если бы им велели немедленно прыгнуть в окно с чётвертого этажа, они, конечно, сделали бы это, не рассуждая ни секунды. Но если бы им вдруг сказали, что почти все они будут расстреляны как враги народа в ближайшие три года, и что шалеющий от избытка чувств высокий гость также будет расстрелян – в феврале 1940 года, тогда же будет расстреляна его ни в чём не повинная жена и даже – его семнадцатилетний сын (несмотря на уверения Сталина о том, что сын за отца не отвечает)… Что в один день с Фриновским будет расстрелян всесильный нарком Ежов, а жена его, красавица Суламифь, поняв, в чём дело, покончит жизнь самоубийством, что сорокатрёхлетний брат Ежова также будет расстрелян и два сына брата будут умерщвлены, а ещё один каким-то чудом избежит казни, но получит 8 лет лагерей, и что сидящий рядом с Фриновским товарищ Лупекин не избежит общей участи и будет расстрелян ещё раньше – в марте 1939 года… Если бы затянутым в гимнастёрки и хромовые сапоги энкавэдэшникам сказали, что всё это произойдёт в самое ближайшее время, они сочли бы это за чудовищную ложь и поклёп на советскую действительность! Тем не менее всё случилось именно так. И даже ещё хуже: всё оказалось гораздо подлей, гаже, бесчеловечней! Но человеку не дано знать своё будущее, иные не способны прогнозировать собственные поступки на ближайшую перспективу. А ещё бывает так, что человеку отказывает элементарный здравый смысл. Особенно часто это случается в толпе, под воздействием всеобщего магнетизма (которое проще назвать массовым психозом). Всё это выдаётся за революционный порыв масс и за благородное негодование против империалистов.
А пока что присутствующие напряжённо слушали докладчика, наливаясь злой силой и жуткой непреклонностью, забывая о милосердии и сострадании, о простейших уложениях человеческой жизни; всё это должно было помочь стальной когорте одолеть легионы мифических врагов молодого Советского государства. Наказ товарища Сталина будет выполнен! Враг не уйдёт от расплаты! Пощады не будет никому и никогда! Во веки веков!
Аминь…
* * *
Пётр Поликарпович не слышал этих жутких речей и совершенно не осознавал опасности своего положения. Арест, нелепые обвинения, избиение в кабинете следователя – всё это представлялось ему кошмарной ошибкой, диким недоразумением, которое непременно разрешится в ближайшие дни или даже часы. Он с нетерпением ждал нового допроса в надежде оправдаться силой логики и здравого смысла. Но часы тянулись в мрачном подземелье, день сменялся ночью, приходило утро, за ним другое и ещё одно, а его всё не вызывали. Соседи его уходили один за другим, неуверенно шагали за порог камеры и исчезали навсегда. Ни с кем из них он больше никогда не встретился. Много позже он узнал о том, что все те, кто тогда признал свою вину и поставил дрожащую подпись под каждым листом протокола допроса (как этого требовали следователи) – все они были переведены в «красный корпус» иркутской тюрьмы, на «пятнадцатый пост», и там же все до единого расстреляны (из немецкого вальтера в затылок), после чего под покровом ночи трупы их вывозили на спецполигон НКВД под Иркутском, носивший романтическое название «Дача лунного короля»; там их сваливали кучей в заранее выкопанные гигантские рвы-накопители и слегка присыпали землёй (слоем не более полуметра). Не все умирали сразу – казнимых было слишком много, а палачи торопились. По свидетельствам жителей близлежащего села Пивовариха, видевших издали свежие захоронения, земля на рассвете шевелилась и как бы дышала, словно возмущалась таким зверством человеческих существ, которых она исторгла когда-то из себя. Быть может, земля эта помнила слова Господа, сказанные первому человеку: «Прах ты и в прах возвратишься!» Но вряд ли Господь предполагал, что возврат этот будет столь стремительным и жутким, опережающим естественные сроки и минующим все мыслимые и немыслимые заповеди, которые Он заповедал роду человеческому.
Ни те, что заседали наверху в просторном кабинете, ни те, что сидели внизу в промозглых мрачных казематах, – в Бога не верили. Те и другие были безбожники и немало этим гордились. Что там Бог говорил первому человеку на Земле – их вовсе не интересовало, о заповедях Его никто не знал и знать не хотел. Пётр Поликарпович, находясь в тесной сырой камере среди десятка других людей, думал о чём угодно, но только не о Боге. Он тосковал о жене и о дочери, видел с закрытыми глазами свой уютный кабинет с высоким потолком и толстыми стенами; он мысленно выходил из него и не спеша шёл на кухню, где уже закипал алюминиевый чайник на газовой плите, а из кастрюли с гречневой кашей клубами поднимался ароматный пар. Тут же, в коридоре, была просторная ванна с горячей водой, с душистым мылом, с висящими на крючочках чистыми полотенцами и махровыми халатами, с бархатными тапочками на кафельном полу. Дома тепло, тихо, уютно! Каменные стены гасят звуки и дарят восхитительное чувство защищённости и покоя. Пётр Поликарпович открывал глаза, и лицо его мрачнело. Вокруг были тёмные бугристые стены, по которым крупными каплями сочилась ледяная вода, с низкого потолка едва светила жёлтая лампочка; в углу возле двери – стояла деревянная параша, накрытая круглым щитом, от которой несло жуткой вонью. Теснота, испарения от немытых тел и невозможность вдохнуть полной грудью, расправить плечи, сбросить с себя невидимый груз. Когда-то в молодости Пётр Поликарпович жил в тесных землянках, где условия были ничуть не лучше (только что нужду справляли на улице, а не тут же, у всех на виду). И он верил в душе, что всегда сможет вернуться в такую вот землянку и всё вынести. Но теперь вполне убедился, что это вовсе не так. Всё хорошо в своё время. В молодости можно (и нужно!) рисковать жизнью и терпеть всяческие лишения. Но в зрелые годы человек должен нормально спать и хорошо питаться, и он не должен терпеть побои и оскорбления, тем более если их не заслужил.
О многом передумал Пётр Поликарпович в эти первые часы заключения. Один час такого размышления, быть может, стоит целой жизни. А о том, что выносит человек в минуты перед казнью – об этом мы уж никогда не узнаем. Разве какой-нибудь Достоевский об этом расскажет? Да и то… можно ли об этом правдиво рассказать, даже и пережив предсмертный ужас? Так и мы – никогда не узнаем доподлинно о том, что чувствует человек, безвинно посаженный в тюрьму и лишённый всяких средств к защите. А потому оставим на время Петра Поликарповича наедине со своими мыслями и перенесёмся на волю – в писательский особняк, где тоже творились диковинные дела и решалось многое. Ведь не одни же следователи и не только Сталин виноваты в том, что случилось с огромной страной в просвещённом двадцатом веке.
Михаил Михайлович Басов выполнил своё обещание – он написал предельно честную характеристику на своего товарища, которого почитал за глубоко порядочного и благородного человека. На трёх листах машинописного текста он изложил героическую биографию Петра Поликарповича, отметил его безусловную преданность делу революции и особо подчеркнул литературное дарование, которое позволило ему продолжить борьбу за власть Советов, только вместо землянки и окопа у него теперь были кабинет и письменный стол, а винтовку заменила перьевая ручка (которая в умелых руках бывает посильнее целого арсенала оружия). В том же духе высказался тот, кого уже при жизни называли патриархом сибирской литературы – Исаак Григорьевич Гольдберг, чьи литературные заслуги не подвергались сомнению, исключая сотрудников Наркомата внутренних дел, которым некогда было читать умные книжки по причине повсеместного засилья врагов и вредителей. Оба они – Басов и Гольдберг – имели не очень приятную, но всё равно продолжительную беседу с капитаном Рождественским.
Капитан НКВД Илья Алексеевич Рождественский подошёл к делу о контрреволюционном заговоре в писательских рядах со всей ответственностью: он вызывал к себе всех членов писательской организации и с каждым имел продолжительную беседу на предмет сознательности и готовности отдать жизнь в борьбе за правое дело рабочего класса. Все беседы проходили по одному сценарию, как это было, например, с Басовым. Он был вызван одним из первых – всё туда же, в областное управление НКВД на улице Литвинова – в большой серый дом со множеством кабинетов и внутренней тюрьмой, упрятанной глубоко под землю. Михаил Михайлович приехал в это мрачное заведение в понедельник двенадцатого апреля, в девять часов утра. Он имел при себе им же написанную характеристику на Петра Поликарповича и был настроен довольно решительно (потому что был человеком не робкого десятка, а также чувствовал свою правоту).
Басову не пришлось плутать по закоулкам здания НКВД. Для подобных бесед была приготовлена комната, находившаяся тут же, у входа в здание. В эту комнату можно было пройти прямо с улицы, не объясняясь с часовым снаружи и не беспокоя вооружённую охрану внутри. Рождественский провёл Басова коротким коридорчиком, толкнул лёгкую дверь и пригласил жестом войти.
В комнате было два пустых стола, поставленных вагончиком, у стен стояло несколько стульев. Окно на улицу. Больше – ничего.
Сели друг против друга. Рождественский пристально посмотрел на Басова.
– Принесли характеристику?
Тот кивнул.
– Пожалуйста! – и протянул стопку листов, скреплённых подписью и синей печатью.
Рождественский углубился в чтение. Голова склонилась, лицо сделалось суровым.
Басов вдруг почувствовал смутную вину. Как будто он что-то натворил и принёс объяснительную, и вот строгий начальник читает его оправдания, и видно, что он недоволен написанным. Басов стал вспоминать написанное и попытался представить, какое впечатление производят его заключения на этого сурового человека, но мысли путались, и он чувствовал себя всё хуже. Отвернувшись, стал смотреть в окно. А там – ни души. Машины тут не ездят – особо охраняемая зона. И пешеходов не видать – по той же самой причине. Ни деревца, ни травинки, лишь каменный дом на противоположной стороне. Тоже казённое учреждение. Окна зашторены, внутри всё будто умерло.
Басов услышал шорох и обернулся. Следователь складывал листы, на лице его было странное выражение – не то улыбка, не то усмешка.
– Так-так, – протянул он. – Оправдываем разоблачённого врага советской власти. Проявляем политическую близорукость. – И он твёрдо глянул в глаза Басову. – Нехорошо, товарищ писатель! Очень опасная тенденция. Может плохо для вас кончиться!
Басов на миг перестал дышать. Он словно угодил в безвоздушное пространство, стало вдруг гулко и пусто на душе. Он разом поглупел и умалился. Речь словно бы отнялась. Он чувствовал многое, но не знал, как об этом сказать.
– Товарищ уполномоченный, – пробормотал он, – я вас не понимаю… Вы просили написать характеристику. Я и написал, как всё было. Я давно знаю Петра Поликарповича, это крепкий писатель и кристально честный человек…
Следователь вдруг поднялся. Лицо его задёргалось.
– Этот ваш кристально честный человек изобличён показаниями его подельников! В течение нескольких лет он осуществлял подрывную деятельность у вас под носом, у него налаженные связи с Красноярском и Москвой. У нас на руках письменные показания десятка человек, близко его знавших. А вы что тут пишете? Как всё это понимать, гражданин хороший?
Басов тоже поднялся. Слова давались ему с трудом, усилием воли он унял волнение, подавил слабость.
– Но я ничего такого не знаю! – произнёс твёрдо. – Если даже что-то и было, мне-то откуда об этом знать? Я ведь не могу заглянуть ему в душу.
– А надо бы! – сверкнул глазами Рождественский. – Вы там сидите в своём доме и ни черта не видите вокруг. Контрреволюция поднимает голову! Троцкисты и недобитые белогвардейцы готовят вооружённое восстание. А вы там у себя благодушествуете. Но так теперь нельзя. Не то время! – Он подумал секунду, потом взял со стола листы и протянул Басову. – Заберите. Завтра в это же время я жду от вас новую характеристику. И пожалуйста, без сантиментов. Вы должны проявить революционную бдительность. Я на вас очень рассчитываю.
Басов взял листы, помедлил.
– Но я не знаю, что мне писать!
Следователь вскинулся.
– Вот как? Вы писатель – и не знаете, что вам следует писать? Вы не чувствуете никакой ответственности за судьбу страны, давшей вам всё?
– Я чувствую свою ответственность, и я стараюсь… по мере сил… – неуверенно заговорил Басов. – Но я не знаю ничего такого, о чём вы сейчас сказали! Пётр Поликарпович – мой давний знакомый, мы дружим семьями, на рыбалке вместе бываем.
– Так-так, – подхватил следователь, – и о чём же вы там беседуете? Быть может, гражданин Пеплов делился с вами своими мыслями о политическом моменте?
Басов отстранился.
– Да вы что! Мы о литературе обычно говорили, о наших писательских делах. Политику мы никогда не обсуждали. Зачем нам это?
– Так уж и не обсуждали, – скривился следователь и вдруг заключил, как отрезал: – Ну ничего, скоро мы всё это выясним. – Глянул в глаза Басову и произнёс со значением: – Вы свободны, гражданин Басов. Пока свободны! Идите.
Басов неловко повернулся и пошёл прочь. Вышел в коридор, спустился по ступенькам, ещё один проход – и наконец оказался на улице. Шёл в каком-то оглушённом состоянии, ничего не видя вокруг. На душе была страшная тяжесть, предчувствие чего-то ужасного. Петра было уже не спасти, это совершенно ясно. Басов узнал недавно от московских знакомых, что в столице арестован Володя Зазубрин, его давний друг, замечательный писатель – человек, лично знавший Дзержинского и пользовавшийся его доверием. Но это значило лишь одно: взять теперь могут любого и в любую секунду. Вот прямо сейчас подойдут среди улицы и возьмут под белы руки! Михаил Михайлович осторожно огляделся. Захотелось вдруг побежать сломя голову, куда-нибудь спрятаться. Раствориться без остатка, исчезнуть из этого мира! Но он знал, что никуда не побежит, примет всё, как оно есть. Дома его ждали жена и две дочери. Были ещё живы родители жены и множество родственников с обеих сторон – в Иркутске, Красноярске, Тобольске, Новосибирске. Даже если их не тронут – что они будут о нём думать? Как будут расти без него дети? Нет, бежать нельзя. Но и лгать он тоже не станет. Нужно говорить одну лишь правду, не качаться и не поддаваться на угрозы и уговоры следователей. И тогда, быть может, всё и обойдётся. А если не обойдётся, что ж, тогда он погибнет. Но он умрёт честным человеком. В девятнадцатом году, когда он перешёл от Колчака на сторону красных, он уже сделал этот выбор – между жизнью и смертью, между честью и позором. А что ж теперь? Гражданская война давно закончилась, Колчака спустили под лёд студёной Ангары. Белочехи убрались восвояси, белогвардейцев и семёновцев разметали по белу свету (а большей частью пустили в расход). Отчего же снова так тревожно бьётся сердце? Откуда этот липкий страх, парализующий волю?
Ничего не видя перед собой, Михаил Михайлович брёл по залитой весенним солнцем улице. Над головой широко раскинулось синее небо, птицы весело щебетали, перелетая с ветки на ветку, ветерок приносил с юга тепло и пряные запахи… – всё это было уже не для него. Жизнь, похоже, катилась к закату. Несколько рановато! Михаилу Михайловичу шёл на тот момент тридцать девятый год.
Предчувствия его не обманули: через три дня Михаил Михайлович Басов был арестован. Его взяли прямо из рабочего кабинета. Посадили в чёрную эмку и увезли. Это случилось днём. А ночью взяли Гольдберга и поэта Балина (обоих – из дома). Все трое были доставлены во внутреннюю тюрьму областного НКВД на улицу Литвинова. Их поместили в разные камеры (чтоб не сговорились), и почти сразу стали допрашивать с особым пристрастием, почти с экстазом (выполняя таким образом наказ товарища Фриновского). Обвинения были стандартные: участие в правотроцкистской организации, вредительство, террор, а ещё – шпионаж в пользу Японии и фашистской Германии (до пакта Риббентропа – Молотова было ещё далеко), а кроме этого – участие в эсеровском заговоре. Любого из этих обвинений было достаточно для расстрела (что и случилось в самом недалёком будущем: не выдержав пыток и поверив лживым посулам следователей, Басов, Гольдберг и Балин признали себя виновными во всём, что им инкриминировали; и все трое упокоились в гигантских рвах-накопителях на «Даче лунного короля»). Таких вот «дач», «урочищ», «полигонов» и «местечек» – были сотни по всей стране! Сотни тысяч советских граждан должны были заполнить своими телами эти чудовищные могильники. Зачем всё это делалось? Ради какой великой цели? Никто тогда этого не знал. Не знает и теперь. Потому что на этот вопрос невозможно дать ответ и ещё потому, что нет в мире такой цели и такого идеала, ради которых нужно массово уничтожать людей.
На первом же допросе Михаилу Михайловичу Басову выбили все передние зубы. Церемониться с ним не стали, да и некогда было шибко рассусоливать! Как только следователь понял, что перед ним крепкий орешек и просто так его не расколоть, так он сразу же перешёл от слов к делу. А дело своё он знал отменно! Здоровые волосатые кулаки и праведный гнев к врагам советской власти придавали непоколебимую уверенность в том, что он делает всё верно, более того – действует единственно верным способом. Все другие способы ошибочны и порочны. Ведь всё же ясно как день! Басов был изобличён показаниями его подельников (полученными, правда, в других кабинетах и даже в другом городе, но сути дела это не меняло), следовательно, Басов тоже должен признать свою вину. Недавно полученная из Москвы секретная инструкция ясно указывала на методы ведения следствия. Требовалось лишь одно: чёткое признание подсудимым своей вины. И – собственноручная подпись под протоколом допроса. Об этом писал в своей недавно вышедшей книге «Судоустройство в СССР» генеральный прокурор Вышинский. Чего уж более! Да и в самом деле, ничего лучшего придумать было нельзя! Сбор доказательств, сопоставление фактов, анализ мотивировок, всякая там психология и прочие буржуазные штучки были отброшены за ненадобностью. Чего канючить и переливать из пустого в порожнее? Если следователю ясно, что перед ним закоренелый враг, так зачем же с ним возиться и соблюдать пустые формальности? Вот и получил Михаил Михайлович в зубы волосатым кулаком уже после пятого вопроса. Он сидел на стуле и не ожидал ничего такого. Удар, надо отдать должное спортивной форме дознавателя, был мастерский! Следователь – крепко сбитый крепыш с широкими плечами и длинными руками грузчика – вдруг подшагнул сбоку и нанёс правый хук прямо в зубы подследственному. Если бы Михаил Михайлович как-нибудь приготовился, если бы ожидал этого подлого удара – так не было бы таких страшных последствий. Но он сидел в обычной позе, чуть опустив подбородок, шея была расслаблена, и мышцы скул тоже расслабились – а это опасней всего! Голова его откинулась от удара, губы и язык мгновенно превратились в кровавое месиво, рот наполнился горячей кровью; захлёбываясь, Басов опрокинулся на спину, крепко ударился затылком о цементный пол и завалился на бок. Передних зубов уже не было, они свободно перемещались в кровавом липком месиве. Боли тоже не было – если не считать болью оглушение, жуткий гул в голове; а кровь – что же? – кровь можно и выплюнуть вместе с зубами. Не глотать же её литрами! Да и не проглотишь столько.
Следователь, не удержавшись, пару раз пнул лежащего на боку человека – это было так естественно в его положении! Но пинал он уже не по лицу (а ведь мог бы зазвездить по щеке, сломать скулу, к примеру, или выбить глаз), а – по груди, по рёбрам. Удары были сильные, с оттяжкой, так что следователь едва не сломал себе пальцы на ногах (сапоги сапогами, но при жёстком ударе выпрямленные пальцы стопы ломаются очень даже легко – случаев таких было предостаточно, некоторые следователи хвастались этим обстоятельством, бравировали своей выдержкой и готовностью пострадать за правое дело). Сохраняя полное самообладание и внутренне любуясь собой, следователь поднял с пола окровавленного, мотающего головой человека и усадил обратно на стул. Подождал, пока подследственный придёт в себя, и лишь тогда задал очередной вопрос:
– Ну что, теперь будем говорить правду?
Михаил Михайлович хотел что-нибудь сказать, но это у него не получилось. Губ своих он не чувствовал вовсе, их как бы не было, передние зубы были раскрошены, а язык словно бы отнялся. Что он чувствовал – он и сам не мог понять. Какую-то жуть, что-то невыразимое словами. Он замычал и стал качать головой – сверху вниз, сверху вниз, а ещё – глядел на следователя вытаращенными, безумными глазами. На нём был гражданский костюм, в котором он ещё этим утром восседал в своём председательском кабинете. Белая рубашка вся была забрызгана алой кровью. Волосы на голове сбились в густую массу и едва ли не стояли дыбом. Смотреть на него было очень неприятно. И следователь приказал его увести. Он уже знал, что проблем с этим писакой у него больше не будет. Он и не таких обламывал. Завтра же тот даст признательные показания и всё подпишет. Подпи-ишет! Никуда не денется. Всё выложит, мерзавец! Потому как это последнее дело – гадить родной советской власти – власти, которая дала тебе всё!
Ожидания следователя оправдались: на следующий день Михаил Михайлович Басов признал всё, в чём его обвиняли.
Гольдбергу и Балину повезло чуть больше – их не били с такой сокрушительной мощью. Гольдберг был уже пожилым человеком, держался с достоинством, и его только стращали и запутывали (справедливо решив, что с него будет довольно и этого). Исаак Григорьевич очень дорожил семьёй, и, когда вопрос встал о благополучии близких, он сразу же во всём признался, чего и слыхом не слыхивал и чего не мог совершить даже гипотетически. Следователь был страшно доволен.
Поэт Балин также избежал жестоких побоев, но по другой причине. Он производил донельзя странное впечатление – тихий, задумчивый, с отсутствующим выражением лица и весь какой-то несуразный! Бить его было даже как-то и неловко (сомнительно также было его участие в подготовке терактов и многолетнем вредительстве; но ведь в жизни всякое бывает, вот и немецкий философ Гегель в своём учении говорил о единстве и борьбе противоположностей и о разных парадоксах). Следователь ударил поэта пару раз – не очень сильно и более для острастки, чем для настоящего нажима, – но и этого вполне хватило. Несчастный поэт не то испугался, не то помешался в уме, но он стал с готовностью подтверждать всю возводимую на него чушь, так что следователь брезгливо морщился и спешил поскорей закончить это дело. Дал подследственному подписать листы, тот торопливо скрепил их подписью и был отправлен обратно в камеру, где и дожидался реального возмездия за свои мифические дела.
Ничего этого Пётр Поликарпович до поры не знал – к огорчению, а может, к счастью для себя; об этом трудно теперь судить. Связь его с внешним миром была оборвана решительно и крепко. Ни писем, ни устных посланий он не получал с воли, точно так же ничего не просачивалось от него наружу сквозь прочные каменные стены. Свиданий родственникам не давали, хоть ты лбом разбейся и какие угодно приводи доводы. Не положено! – и баста (ведь не обычные уголовники сидели в казематах, а – террористы, диверсанты и опаснейшие вредители!). Не знал Пётр Поликарпович и того, что другие – не арестованные писатели – усиленно готовились к экстренному собранию, где должны были прозвучать разоблачительные речи, а все двурушники и скрытые враги – получить достойную оценку. Писатели готовились очиститься от скверны (как и вся страна). Пётр Поликарпович в душе надеялся на своих товарищей, что они вступятся за него, вызволят из неволи и спасут его честное имя. Кому, как не им, знать, что он преданный советской власти человек, что герои его книг продолжают самую трудную борьбу – борьбу за сердца читателей! Кому, как не им, знать всю силу писательского слова, подкреплённого искренностью и верой в собственную правоту. Если они твёрдо выскажут всё это, тогда любому станет ясно: Пётр Поликарпович ни в чём не виноват и его надо немедленно отпускать – к жене и маленькой дочке!
Но однако же всё произошло совсем не так, как надеялся Пётр Поликарпович.
Внеочередное собрание писателей Восточно-Сибирской области состоялось двадцать седьмого апреля одна тысяча девятьсот тридцать седьмого года от Рождества Христова. День выдался солнечный, по-летнему тёплый. Приближался Первомай с его грандиозной демонстрацией и массовыми гуляньями. Ожидались маёвки на природе – тоже очень хорошо! После долгой зимы так приятно выехать на природу, в ближайший лесок, на берег тихой сибирской речки, и там, под плеск волны и ласковый шелест листьев недавно распустившейся берёзки развести немудрящий костерок, сварганить ушицу с окуньками и предаться мечтам о том, какая счастливая скоро наступит жизнь на земле! Но однако же это будущее счастье нужно было заслужить. Коварный враг не дремлет и никак не уймётся. Белогвардейская сволочь и троцкисты-вредители злонамеренно жгут хлеб в скирдах (отчего голод), повсеместно выводят из строя домны и турбины (отчего никак не наладится производство), подло клевещут на родную коммунистическую партию и очерняют всё то хорошее и светлое, чего удалось достичь ценой неслыханных жертв и мучений нескольких поколений революционеров. Нет, никак нельзя терять достигнутое, невозможно предать светлую память героев революции и Гражданской войны! Нужно дать решительный отпор врагу, вырвать смертоносное жало, преподать им всем показательный урок – так, чтобы навсегда отбить охоту вредить и гадить, чтоб никто не мешал советскому народу двигаться в светлое будущее. Так говорили ораторы с высоких трибун, и так думали если не все, то очень многие граждане великой страны, привыкшие верить газетным статьям и репродуктору, а также пропагандистам, смело обличавшим врагов на многочисленных собраниях и митингах, когда глаза горят, а грудь вздымается от праведного гнева и общего одушевления.
День этот – двадцать седьмое апреля 1937 года – был весьма насыщенным как для Восточной Сибири, так и для всей страны. Накануне фашисты сбрасывали с самолётов двухсоткилограммовые бомбы на испанскую Гернику, и теперь её руины догорали и обращались в пепел вместе с убитыми жителями. В этот день постановлением ЦК ВКП(б) СССР был образован Комитет обороны под председательством Молотова. И в этот же день нарком Ежов направил Сталину шифровку, в которой сообщал о раскрытии сразу двух троцкистских террористических организаций – в Калининской области и Верхне-Лукском пограничном округе. Первую организацию возглавляли командир дивизии Ковалёв и его помощник Томм (Томм также обвинялся в подготовке покушения на товарища Ворошилова), а вторую террористическую организацию возглавил секретарь окружкома товарищ Енов. И хотя Ковалёв, Томм и Енов ещё ни в чём не признались (их даже не арестовали), но на них показали на допросах другие активные участники обеих террористических организаций (и этого было, как говорится, за глаза). Вполне естественно было арестовать всех этих подлецов, а впоследствии безжалостно расстрелять (на что Сталин охотно дал своё согласие, так же как в сотнях (в тысячах!) других подобных случаев). В Иркутске 27 апреля также не дремали: состоялся пленум городского Совета депутатов, который освободил от должности своего председателя Камбалина Николая Варламовича. Через четыре дня, как раз на Первомай, член ВЦИК и активный участник борьбы за власть Советов, а ныне – террорист и вредитель Камбалин был арестован, а ещё через год – расстрелян.
Ну а писатели, как уже было сказано, собрались на своё внеочередное собрание. Уже были арестованы трое из четверых членов правления писательской организации, и уже всем писателям стало окончательно ясно, что всё это всерьёз и надолго, а любые шуточки – закончились. Шутить нельзя было даже в пьяном виде, даже поэтам-балагурам, привыкшим нести всякую околесицу (по примеру того же Балина). Это достопамятное собрание освятили своим присутствием заведующий культпросветотделом обкома ВКП(б) товарищ Каплан, а также его заместитель товарищ Калманович.
Всего на собрании присутствовало сорок человек, считая с писательским активом и молодыми авторами (приглашёнными для придания весу и в воспитательных целях).
Открыл собрание единственный оставшийся на свободе член правления – Николай Иванович Волохов. Положение его было донельзя шаткое. Несмотря на то что он был членом партии большевиков с 1928 года, несмотря также на яркое поэтическое дарование и очевидную преданность рабочему классу (из недр которого он сам и вышел), несмотря на всё это и множество других достоинств и козырей, он чувствовал себя очень тревожно, справедливо полагая и уже зная по опыту, что об эту пору в Стране Советов возможно всё. Обострённым чутьём загнанного в угол человека, чувствуя у сердца ледяное дыхание смерти, он понял, что сейчас он должен смиряться, каяться и саморазоблачаться. Это ничего, что он не чувствует за собой никакой вины. Не в этом дело! А всё дело в том, что настал такой момент, когда все советские люди должны внимательно посмотреть на самих себя и сказать во всеуслышанье: а жил-то я, братцы мои, совсем не так, как надо было жить! Я должен был рвать и метать, гореть и плавиться в священном пламени революции! Жизнь кругом кипит, на наших глазах вершатся великие дела, наш дорогой вождь и отец ночи не спит, всё думает о том, как спасти революцию, как оградить нас от подлых и многочисленных врагов, а мы тут впали в спячку, не видим дальше собственного носа и проморгали замаскированных вредителей: троцкистов и бухаринцев, зиновьевцев и каменевцев, правых оппортунистов и левых уклонистов, террористов-вредителей, шпионов-диверсантов, белогвардейскую сволочь и недобитых каппелевцев, колчаковцев, семёновцев, немецких фашистов и японских шпионов! Так хватит же этой мягкотелости и бесхребетности! Даёшь ежовые рукавицы и стальные нервы в деле борьбы за родную партию и за дорогого нашего и любимого товарища Сталина!
– Главная задача, стоящая теперь перед писателями, – говорил он набирающим силу голосом, – это всемерное овладение большевизмом и усиление пролетарской бдительности, а также равзвёртывание самокритики, благодаря которой были вскрыты болезненные явления в нашей писательской организации. Органами НКВД предотвращена троцкистская диверсия в нашей литературе. Гнусная деятельность врагов народа – Андреева, Гольдберга, Пеплова, Басова и Балина, их подручных и оруженосцев – нанесла невосполнимый урон не только писательской организации, но всему делу строительства социализма в нашем очень важном для всей страны регионе. Писательская организация оказалась засорённой чуждыми людьми, в результате чего были допущены провалы по целому ряду важнейших направлений работы – воспитанию молодых писателей, работе на местах, в глубинке, по подготовке к изданию новых книг и альманахов и, главное, реализации решений февральского пленума ЦК ВКП(б). Мы должны сегодня сказать решительное «нет» всем тем, кто вредит и сопротивляется великому процессу социалистического строительства. Необходимо усилить бдительность, оставить сантименты до лучших времён. Времени на это у нас нет, потому что враг не дремлет. Все, кто был на митингах, видели, с каким единодушным удовлетворением встречались сообщения, что требования миллионов трудящихся об уничтожении врагов народа – выполнены! И мне непонятно, почему товарищи молчат по такому вопросу, который имеет серьёзнейшее значение в жизни нашей организации. Поэт Балин и прозаик Лист открыто вели антисоветские разговоры, а это несовместимо с пребыванием в Союзе советских писателей. Моя вина в том, что я не сразу отреагировал, не настоял на том, чтобы Лист подал письменное заявление обо всех этих разговорах Балина и других выявленных врагов народа. Но больше этого не повторится. Мы дадим достойный отпор врагам советской власти в наших рядах!
Каплан и Калманович внимательно слушали эту речь и в душе одобряли, но виду совершенно не показывали. Оба сидели с каменными лицами и с остекленевшими глазами. Оба помнили о том, что им предстоит написать подробный отчёт об этом собрании, причём каждый будет писать свой отчёт отдельно от другого, и неизвестно ещё, что они напишут друг о друге! Через пять недель в Москве будет арестован их патрон – первый секретарь Восточно-Сибирского обкома ВКП(б) товарищ Разумов (ещё через 5 месяцев он будет расстрелян), его первый зам товарищ Коршунов также будет арестован и расстрелян без всякого к нему снисхождения. Также будут расстреляны комсомольские вожаки области и города – Виктор Захаров (первый секретарь обкома комсомола) и товарищ Игнатов (первый секретарь горкома комсомола). Не избежит этой участи и второй секретарь горкома ВКП(б) товарищ Казарновский. 20 июня будет арестован председатель облисполкома, член президиума ВЦИК товарищ Пахомов. Под эту зверскую раздачу попадут и оба вышепоименованных партийца от культуры – Каплан и Калманович. Но пока что они сидели и с напряжёнными лицами слушали докладчика, внутренне одобряя его пламенную речь, но всё равно тревожась и пытаясь что-нибудь найти особенное, чтобы отличиться, выказать своё рвение и особо тонкое понимание политического момента. Но, к досаде, ничего не приходило на ум. Самое лёгкое было – поймать докладчика на слове, уличить его в политической близорукости или там в каком-нибудь уклоне, но пока что ничего такого не предвиделось, и они мрачнели, каменели и темнели. «Авось кто-нибудь из выступающих что-нибудь да ляпнет!» – думали оба. На это вся надёжа. Задача у них была простая: добиться осуждения арестованных писателей, выставить дело так, что это не органы НКВД их карают, не партия большевиков распоясалась, а сами же писатели заметили скверну и приняли необходимые меры. Скверну – прочь! Вредителей – с корнем! Вперёд, к новым целям и победам под руководством родной коммунистической партии и дорогого товарища Сталина!
Волохов говорил долго и утомительно, повторяясь, перескакивая с одного на другое, забывая о том, с чего начал. Но одно было неизменно: решительное осуждение врагов народа, необходимость принятия самых жёстких мер. И как само собой разумеющееся, предложил исключить из Союза советских писателей двурушников и предателей – Басова, Гольдберга, Пеплова и Балина. Верил ли он сам в то, что говорил? Этого мы уже не узнаем. Скорее всего – нет. Ведь следствие по делу опальных писателей только что началось, и по здравом размышлении, все обвинения в терроризме и троцкизме выглядели совершенной нелепицей; но страх крепко держал докладчика за сердце. И сердце каменело, голос наливался металлом, и гневные слова вырывались из глотки подобно отравленным пулям. Иногда ему казалось, что это не он говорит, а кто-то другой бросает в зал страшные обвинения, гневается и наливается желчью. На глазах у всех тихий поэт-лирик превращался в громогласного витию-ниспровергателя! Человек, душа которого была наполнена нежностью и предощущением счастья:
Я начинаю путь перед рассветом, Ещё не посветлела полоса, Но тает темнота с приходом света, Как исчезает блеск в твоих глазах. Светлеет горизонт, туманом тая. Росой стекают слёзы по траве. Холодною водой земля питаясь, Даст силы в измождённом душном дне. Спускается дорога, но подъёмом Венчает поворот её пути, И я спокойно поднимаюсь к солнцу, Чтоб встретить его тёплые лучи, —теперь, под необоримым давлением обстоятельств, ломал самого себя, изменял своей природе.
Когда доклад был окончен, воцарилось молчание. Всем было не то чтоб неловко и не сказать чтобы тяжело, а как-то странно, будто все вдруг разом поглупели и позабыли, кто они есть на этом свете и вообще – что такое этот свет (и не пора ли собираться на тот?).
В эту минуту общего смятения с места поднялся товарищ Каплан. Невысокий, мешковатый, с невыразительной внешностью и одутловатым лицом, он держался уверенно, шагал твёрдой поступью и сомнений не ведал.
– Всё, что вскрылось за последнее время в Союзе писателей, говорит о потере бдительности, о беспечности. Враги саботировали постановления ЦК, срывали работу среди молодёжи, останавливали рост её. Та же беспечность была в нашем отделении. Руководство игнорировало работу с молодёжью. Этот саботаж обосновывается тем, что основные писатели были антисоветскими людьми. Гольдберг не терпел никакой критики, а за его красивыми фразами скрывались собственные эгоистические мотивы. И это закономерно. В прошлом Гольдберг был контрреволюционер, эсер. Пеплов, объявивший себя беспартийным, закономерно скатился к контрреволюции. Поэт Балин проявил полное непонимание того, что происходит в стране, а ему доверяли беспечные люди, такие как товарищ Волохов, который проглядел эти вещи в Союзе писателей. Бывший руководитель писательской организации Басов длительное время саботировал активную деятельность писателей, старался принизить роль организации и также примкнул к троцкистским кругам. Поэт Лист пьянствовал, бросил партийный билет и воздержался от голосования против оппозиции в 1927 году, он разговаривал с Балиным на антисоветские темы, и этому не придавалось значения. Людей не изучали, а ведь им доверяли воспитание наших кадров. Когда мы вплотную подошли к руководству, сразу вскрыли нездоровую атмосферу. В порядке самокритики скажу, что мы – обком ВКП(б) – недостаточно приняли мер, чтобы искоренить все эти недостатки. Мы также несём вину за случившееся. Но мы вправе потребовать от писателей принципиальности и ответственности. Мы ждём от вас чётких и недвусмысленных решений. В противном случае могут быть приняты самые жёсткие меры.
Последняя фраза хотя и была произнесена ровным голосом, но произвела на всех очень неприятное впечатление. Все окончательно уяснили своё место. Да и кто бы не уяснил? Доярки и кузнецы, рабочие от станка и мелкие служащие – на лету схватывали все эти пламенные речи партийцев, на удивление быстро делали выводы и тут же настраивались на нужный лад, и вот уже целое собрание голосует в обеденный перерыв, требуя расстрела врагов советской власти и громко славя коммунистическую партию. Чего уж говорить об инженерах человеческих душ. Тут и намёка бывает достаточно, чтоб догадаться.
Выступать сразу после представителя обкома – всегда непросто. Но после столь устрашающей речи это казалось вовсе невозможным. Перечить обкому – немыслимо. Соглашаться – как-то неловко. Но не всем! Не всем… Вперёд вышел товарищ Кушнерев, редактор областной газеты «Восточно-Сибирская правда». Этот ничего не боялся и рубил сплеча:
– Как случилось, что бывшие руководители восточно-сибирской литературой не занимались своим прямым делом? «Стажистые» писатели замкнулись в своём кругу. Корифеи оскандалились, за малейшую критику набрасывались на газету. Особенно Гольдберг. Гольдберг всегда был чужд настоящим советским интересам литературы. Он не понимал основных лозунгов о социалистическом реализме. Его «День разгорается» – фальшивое произведение, не будящее ни одного чувства. «Хлеб насущный» – вещь контрреволюционная. Это наглая клевета на бедноту и советскую власть! Вещи Пеплова по внешней форме лучше вещей Гольдберга, но в них чувствуется полное неуважение к читателю, к культуре языка. Он – кулацкий сынок, случайно попавший в партизанский отряд. Мы и раньше это подозревали, а теперь узнали доподлинно. Поэт Балин, якобы человек не от мира сего, но он, конечно, не аполитичен. Ему, видимо, не случайно Басов и Гольдберг доверили литературную консультацию. Чему же он учил начинающих писателей? Какие мысли и настроения вкладывал в их неокрепшие души? Почему враги советской власти оказались во главе литературного процесса? Это ещё предстоит выяснить! Хотя мне лично всё уже понятно. Врагам не место в наших рядах! Что дальше делать? Давайте думать. Пока же я предлагаю достойно отметить годовщину смерти Максима Горького, который, как мы теперь знаем, был отравлен врагами советской власти. Мы говорим им всем своё решительное нет!
Кушнерев мотнул головой и пошёл на своё место. Его сменил другой оратор, некто Фёдоров – простоволосый, круглолицый, в мятом неопрятном пиджаке, как будто он только что вышел с сеновала.
– Нам необходимо овладеть культурой! – безапелляционно заявил он. – Мы не знаем произведений Маркса – Ленина – Сталина. Философские сочинения нам неизвестны. Сам я недавно прочитал «Орлеанскую деву». Классики жизнь не созерцали – участвовали активно в ней. Этому мы должны у них учиться. Нужно быть обыкновенными советскими работниками. Бестемье – это чепуха! Темы можно сколько хочешь черпать из окружающей жизни. Так я взял одну тему о людях, разлучившихся 30 лет назад, и из очерка переделываю в новеллу. Мораль можно найти во всём, главное – правильная позиция! Причина распада литературной группы, которой руководил Балин, – полный хаос в работе. Бесплановость угробила эту группу. В любой литературной группе должен быть поставлен вопрос политического и философского образования. Недостаточность философского образования ведёт к срывам, к неправильному мировоззрению, как это случилось с молодым писателем Бутенко, написавшим вещи с явно неправильными политическими и философскими установками.
Фёдоров ещё что-то говорил, махая руками, а на смену ему уже шёл следующий выступающий – Шалагинов. Лицо его подёргивалось, в глазах сверкал огонь.
– Работа правления неудовлетворительна! – бодро начал он. – Волохов был несамокритичен. Он допускал грубые ошибки, доверяя Гольдбергу, Балину и Пеплову. Новгородов, работавший под руководством Балина, написал контрреволюционные вещи. Его осудили на пять лет. Ряд сигналов уже был о Гольдберге, а мы прошляпили. Бутенко говорил во всеуслышанье: зачем наблюдать жизнь, достаточно общения с культурными людьми. Рассказы Бутенко показали результат его теории – отвратительный результат! Бутенко учился у Гольдберга. «День начинается сегодня» Гольдберга, по-моему, вредное произведение. Он не общался с жизнью, как и Бутенко. Большинство наших произведений страдает отсутствием идейности. Нет мысли, которая бы запомнилась. Пример: Волохов. Он говорит о вынашивании произведений. Но часто идеи занашивают. Однажды я поделился с Гольдбергом замыслом, он сказал: напиши, тогда посмотрим. Разве это ответ? Разве это по-советски? У нас ещё много формализма. Нет достаточной пропаганды. Этими процессами нужно руководить! Предлагаю к двадцатилетию Великого Октября подготовить сборник произведений, достойных этого великого события в жизни нашей социалистической Родины!
Концовка выступления была очень эффектной. Но почему-то никто не аплодировал. Наверное, хотели подчеркнуть, что тут не театр, но всё предельно серьёзно и весомо. Вот и следующий оратор не стал ходить вокруг да около. Будущий автор всемирно известного романа «Даурия» сказал следующее:
– Доклад Волохова нельзя признать удовлетворительным. Мало говорилось о Басове. Все утверждают, что Басов не руководил работой правления. Но кто поручится, что это не была его система принижать нашу писательскую группу, отодвигать её в тень от общей политической жизни? О моём иждивенчестве пора бросить говорить. Я теперь работаю вдвойне, если не втройне. Неспроста же центральное правление давало мне возможность подлечиться, значит, я человек нужный. На предыдущем собрании поэт Балин выявил свои контрреволюционные настроения. Я не понимаю, откуда эта двойственность? Я знаю Балина давно и ничего подобного от него не слышал. А когда услышал, то ужаснулся. Мы должны решительно осудить эти вещи, и ясно, что Балин не может быть членом Союза писателей. Я хочу ещё сказать о художнике Андрееве. Его поведение всегда казалось мне странным. Он как-то отдельно живёт и мыслит, чем наша советская общественность. Его скептицизм возмущает меня. Вот когда я читаю газеты и восхищаюсь победами испанских республиканцев, Андреев своим скепсисом расхолаживает меня. Но я не убеждён, что Андреев сочувствует фашистам.
Другой писатель – Павел Лист – немедленно подтвердил высказывания Седова об Андрееве:
– Седов говорил мне, что скепсис Андреева удивляет его. Андреева не радуют, например, успехи испанских республиканцев. Он относится иронически к нашим достижениям. И я знаю, что у Андреева есть нечто от этого скепсиса. Замечаются нехорошие разговоры и у Балина. У него есть какие-то колебания. Он легонько относится к происходящему в стране. Он даже говорил, что нам навязывают счастливую жизнь, а её нет. Он проводил аналогию с французской революцией, указывая, что может кончиться и у нас Наполеоном. Также говорил, что расстрелы не нужны, по крайней мере для всех троцкистов и зиновьевцев, что он против репрессий такого сорта. Он, видите ли, противник смертной казни, и это должно быть противно всякому человеку! Он однажды заявил при мне: дескать, зачем нам счастливая жизнь, когда счастья на земле вообще нет? Он также защищал Андреева, говорил, что никогда не слыхал от него антисоветских высказываний. Волохов делает вид, что он ничего этого не замечал. И напрасно! Он должен знать всё это. И реагировать.
(Добавим в скобках, что известный сибирский художник Н. А. Андреев – первый председатель Восточно-Сибирского краевого союза советских художников – через два дня после этого собрания был арестован, а ещё через год расстрелян.)
Вперёд вышел представитель молодой литературной поросли, никому не известный автор по фамилии Белобаченко. Книг его никто не читал (по причине их отсутствия в природе), но это не помешало ему говорить очень весомо, уверенно и совершенно по существу (так сказать):
– Мы недостаточно развёртываем критику и самокритику и мало развиваем культуру, – сразу взял с места карьер этот писатель от токарно-фрезерного станка. – Товарищ Волохов указывал в докладе на Листа, Балина, Пеплова и Гольдберга. А вот эту сторону осветил мало. «Кто поёт не с нами, тот против нас!» – говорил Маяковский. Это очень верно! Указанные люди – пособники врагов народа. Необходимо поставить этот вопрос резче. Вот, к примеру, пьеса «Большой день». Дискутируют за и против. Но мы должны понимать, что враг пытается использовать литературу. Надо выращивать преданные партии кадры, не черпать из таких, как Лист, который пьёт и кое-что похуже. Нам нужно учиться большевизму. Овладение большевизмом – основная задача! Я не согласен, что для этого необходимо учиться в университете. Нет, жизнь – лучший университет! Где учился Николай Островский? Он закалялся в буре и потому поднёс такие высокохудожественные произведения. Рабочие наши читали с восторгом это волнующее произведение. Уровень нашей молодёжи низок, но не настолько. Давайте не будем себя порочить. Нам предоставлена огромная база для культуры. Есть, правда, среди нас люди вроде Листа, но в семье не без урода. Народ любит, ценит литературу. Но нужна помощь. Нам не нужны индивидуализм и замкнутость. Тем у нас много в жизни, но мы ищем некие «мировые проблемы». В этом наша беда. Надо начинать с маленького рассказа, с маленького очерка. Возьмите Чехова! Учитесь у него писать. Задуманная тема может быть интересной тогда, когда будет вложено сердце, пропитанное патриотизмом и любовью к Родине. Наш литературный кружок при заводе существует давно, но он нас не удовлетворяет. У нас много сырья, но нас надо учить. Отсутствует консультация. Литературный кружок у нас двигает работу, но этого недостаточно. Мы разбирали вещи Листа, Пеплова с участием автора. Мы хотели провести вечер Листа, но, узнав о случившемся, отменили. С помощью кропотливой работы Союза советских писателей мы сможем в подарок к Октябрю поднести сборник. Мы должны идти в ногу с центром. Ввести обмен опытом литературных кружков… – Он хотел сказать ещё что-то, но глянул на передние ряды, откуда на него сурово и пристально смотрели десятки пар глаз, и, вдруг смутившись, упёрся взглядом в пол и пошёл на своё место.
Выступили ещё несколько писателей. Придумать что-то новое уже не могли и повторяли одно и то же: в руководство проникли вредители, и надо их вырвать с корнем, то есть решительно и насовсем. О гармонии стиха и премудростях стилистики речи не велось. Не тот случай!
Итоги подвёл товарищ Каплан. Он так и сказал:
– Я хочу подвести итоги. Я не скептик и не хочу думать, что дела в Союзе писателей так уж плохи и их нельзя исправить. Теперь, когда ряды писателей очистились и мы вскрыли гнойники, необходимо решительно исправить обстановку. Нужно ещё шире развернуть самокритику. Всем писателям нужно быть в активе советской общественности. Но чтобы быть активистом, необходимо в полной мере проявить себя. Писатели к этому продвигаются с большими потугами. На политические события реагируют от случая к случаю. Даже появление сталинской конституции для нашего отделения союза не стало важнейшим вопросом. Правда, один раз вы прослушали доклад о конституции, но тем дело и закончилось. Не было откликов на испанские события. Правление союза и актив плохо прислушивались к призыву об изучении нашей советской действительности. Недостаточно тесно писатели работают с партийными органами. Виноват в этом и товарищ Волохов, есть в этом и моя доля вины. Но это мы обязательно выправим!
Что касается арестованных врагов народа – Пеплова, Гольдберга, Басова и Балина, – то им не место в рядах Союза советских писателей. Очень скоро органы НКВД дадут достойную оценку их деяниям. И я хотел бы отдельно остановиться на высказываниях Балина о сострадании и ненужности смертной казни. Эти слова Балина наглядно показывают нам, что Балин ещё не приобщился к советской действительности. Фактически он у вас на глазах проводил антисоветскую агитацию, клеветал на советскую власть! Он доказывал Листу, что если процессы над троцкистами будут и дальше продолжаться, они могут вызвать резонанс в стране. Не значит ли это, что Балин таит надежду на оживление контрреволюционных сил в стране? Что русские люди сострадательны к зиновьевцам и троцкистам – это ложь, поклёп на русских людей. Такие настроения необходимо решительно пресечь, товарищи писатели! Надо вовремя ликвидировать всяческие заблуждения и вовремя спасать временно заблудившихся людей.
Теперь об Андрееве. Отдельные личности (тот же Балин) старались придать его скепсису невинный характер. Но скепсис также ведёт к озлоблению, а дальше – к измене! Художника Андреева надо вызвать на суд советской общественности. Всё говорит за то, что среди писателей и художников очень мало политической бдительности. Некоторые считают, ссылаясь на Маркса, что, дескать, поэты заслуживают снисхождения. Заявляю ответственно: к врагам народа в нашей советской действительности мы никогда веротерпимостью не отличались и таковыми не будем! Не надо бояться политики. Боязнь политики – это неверие в нашу свободу, в нашу конституцию. Значит, и здесь было мало воспитания. Мало и плохо вы знаете наши законы и решения партии и правительства. Оттого и получается, что наши писатели боятся политики, колеблются и даже не знают, что весь культурный мир земного шара на все процессы, происходящие над врагами народа, отзывается солидарно. Необходимо в корне изменить работу правления и актива. Как представитель культотдела обкома я обещаю установить тесную связь со всей писательской организацией и с отдельными её членами. Надо создать деловую обстановку для товарищей, которые желают работать. Предлагаю избрать вместо дискредитировавшего себя правления – ответственного секретаря писательской организации. Необходимо приложить все силы для достойной встречи двадцатилетия Великого Октября. Предлагаю немедленно приступить к подготовке юбилейного сборника. При известном напряжении сил мы все эти недочёты можем изжить. Люди и силы у нас есть! Несмотря на вражеское окружение и бешеную борьбу оппозиции, мы уничтожим всех врагов и обеспечим победу социализма во всём мире. К деятельной борьбе я призываю и вас, товарищи инженеры человеческих душ, как очень правильно сказал наш пролетарский писатель Максим Горький!
Такая речь никого не оставила равнодушным. Раздались аплодисменты. Товарищ Каплан сел, вполне собой удовлетворённый. Хоть он и не пишет романов, но сказать может очень даже хорошо, получше иного писаки!
Заключительную речь пришлось держать всё тому же Волохову. Он внимательно слушал всех выступавших, впитывал каждое слово представителя обкома и теперь окончательно убедился в правильности выбранного тона, жалея лишь о том, что был недостаточно решителен и напорист в осуждении врагов. Нужно быть агрессивнее, беспощаднее, говорить яснее и проще, и ещё нужно оставить всякие сомнения и держать себя так, будто тебе известна истина в последней инстанции. Ну и конечно же, в основе всего – полное согласие с линией партии большевиков. Никаких других линий и уклонов. Боже упаси – выказать хотя бы тень сомнения! Тогда – аутодафе, тогда смерть и вечный позор (что гораздо хуже смерти). И так вот, не до конца всё это осознав, но ощутив внутри себя крепнущую косную силу – писательский вожак стал говорить своё заключительное слово. Нет нужды повторять его здесь. Он говорил всё то же, что и остальные. И каждый из присутствующих, окажись он на месте Волохова, сказал бы то же самое, если не слово в слово, то всё равно очень и очень близко. Потому что бывают такие ситуации, когда множество народа словно бы впадает в транс. (Не это ли имел в виду Ульянов-Ленин, когда говорил, что «идея, овладевшая массами, становится силой»?) В такой ситуации почти невозможно избавиться от наваждения. Руки сами тянутся вверх, голосуя за смерть вражеским агентам, и все сердца бьются в такт, словно бы отбивая ритм эпохи – эпохи неистовства, злобы и всеобщего ослепления. О последствиях в такой момент не думают. Разум молчит. А совести – словно бы и не бывало. Партийцам совесть заменял кодекс строителя коммунизма. А всем остальным – инстинкт самосохранения. Жить хочется каждому. Принимать смерть за какие-то там принципы?.. Да полноте, что это за глупости! Главный принцип – это я и моё личное существование. Всё остальное – не важно! (Так рассуждали тогда многие. Многие так думают и поныне.)
Волохов наконец закончил. Ему подали резолюцию собрания. Он взял её двумя руками, несколько секунд рассматривал, как бы не понимая, потом коротко кивнул и стал читать:
– Собрание постановляет. Первое. Исключить из рядов ССП за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова. Второе. Полностью вскрыть и ликвидировать последствия враждебной деятельности в писательской организации разоблачённых врагов. Третье. Организовать действительно политическую воспитательную работу среди писателей, систематически повышать их классовую бдительность вокруг задачи борьбы со всякими попытками враждебных элементов проникнуть в состав Союза писателей или осуществить своё влияние. Четвёртое. Для повышения идейно-художественного уровня творческой работы писателей организовать цикл специальных лекций и бесед, творческие самоотчёты. Включить в план работы отдельные темы по актуальным социально-экономическим дисциплинам, и прежде всего по истории ВКП(б), ленинизму, международному положению. Пятое. За необеспечение правильной политической линии, потерю революционной бдительности, за отсутствие борьбы с засорением организации враждебными и разложившимися элементами – переизбрать правление Союза писателей Восточно-Сибирской области. Шестое. Считать целесообразным иметь в дальнейшем вместо правления одного ответственного секретаря, который являлся бы уполномоченным правления ССП СССР. Просить правление ССП санкционировать данную организационную перестройку. Седьмое. Заслушать в первой половине июня доклад уполномоченного о ходе выполнения настоящего решения. Восьмое. Вопрос о поведении писателя Листа рассмотреть дополнительно.
Отложил листы и глянул в зал.
– Предлагаю голосовать за предложенную резолюцию. Кто за?
Присутствующие дружно подняли руки. Против и воздержавшихся не было.
Если бы Пётр Поликарпович всё это видел и слышал, то он, быть может, покончил бы с собой в ту же минуту. Его назвали врагом не какие-то там посторонние люди, но те, кто знал его долгие годы, кто лучезарно улыбался ему и тянул издали руку для пожатия. Многим писателям Пётр Поликарпович помог добрым советом. Каждому второму устраивал публикации в различных журналах и альманахах (пользуясь московскими связями). Множество бытовых вопросов ежедневно решалось с его помощью, никто не встречал отказа или равнодушия. Конечно, обращались и бездари, но даже к ним Пётр Поликарпович относился сочувственно. Ведь сам он когда-то был простым крестьянским парнем, едва знал грамоту и не мог связать двух слов в присутственном месте. Он хорошо усвоил: всё в этой жизни даётся упорным и честным трудом! Всё достижимо и всё по плечу человеку, если только он не боится работы. И он требовал от начинающих писателей только одного: неустанной работы над своими ошибками! Он никому не отказывал в дружеском совете и не давал убийственных характеристик. И вдруг он сам – враг, вредитель, кулацкий сынок… Нет, хорошо, что он всего этого не слышал. Хоть он и повидал многое за свои сорок пять лет – и жестокую крестьянскую нужду в сибирской глуши, и грязные окопы Первой мировой войны, и кровавые революционные схватки, и отчаянную партизанскую войну, когда всё висело на волоске, а потом – удивительный взлёт к подлинной культуре и знаниям, знакомство с Горьким, вдохновенная речь на Первом съезде писателей Сибири, организация многотрудного писательского дела в огромном Восточно-Сибирском крае, создание литературного альманаха «Будущая Сибирь», поездка в Москву на съезд писателей СССР (где он с волнением слушал выступления лучших писателей страны), неустанная работа над новыми книгами, поездки по области, многочисленные статьи для газет, рецензии на рукописи начинающих авторов, множество событий и лиц, когда некогда остановиться и перевести дух, – весь этот вал событий, вся эта «громадно несущаяся жизнь» не смогла подготовить его к тем событиям, которые случились в апреле 1937 года. Видно, плохо он знал свою страну и свой народ. Видно, в душах советских людей таилось нечто такое, что лучше было не трогать. Видно, не зря испокон века бытует на Руси пословица: «Не буди лихо, пока оно тихо»! Лихо спит до поры. Но когда оно проснётся, тогда держись! Тогда случаются смуты, мятежи и кровавые казни, коим несть числа в тысячелетней русской истории. Тогда идёт войной на царя Стенька Разин, а стрельцы грозят спалить Москву и убить малолетнего царя, тогда народ разрушает тысячелетние храмы и требует жестокой расправы над ближними и далёкими, вовсе незнакомыми ему людьми.
Поэт Балин тоже никак не мог предположить такого о себе отзыва. Несколько лет он вполне официально руководил центральным литературным объединением города, говорил молодым поэтам о гармонии стиха и об отзывчивости души, приводил в пример Тютчева и Пастернака, помогал молодым авторам в меру своих сил и способностей – и всегда делал это искренно, от души. А когда нужно было помочь ему самому, эти самые авторы выразились вполне определённо: их руководитель политически безграмотен, идейно вреден и никуда не годен. Всё его руководство – сплошной обман и вредительство!
Для Гольдберга и Басова у писателей также не нашлось ни одного доброго слова. Кто-то, быть может, и хотел сказать что-нибудь в их защиту, да не решился. А если бы решился, так в необъятном списке жертв добавилось бы новое имя. И что бы это изменило в общей картине?
Хотя как знать! Если бы воспротивились все разом, если бы вся страна встала на дыбы и выказала негодование всей этой мерзости – что бы тогда поделали дубинноголовые уполномоченные и их нерассуждающие командиры? Как бы тогда повёл себя жестокосердный и трусливый правитель огромной страны? Этого мы уже никогда не узнаем. Народ в массе своей безмолвствовал – в очередной раз в своей кромешной истории.
Справедливости ради следует сказать, что обвинения Пеплова и его несчастных товарищей строились не на суждениях писателей и не на газетных статьях в областной партийной газете (которая не преминула одобрить все эти аресты и наветы, добавив со своей стороны множество завлекательных нюансов и тонкостей – чисто в газетном духе). Отнюдь! Обвинения логически вытекали из признаний других «членов и пособников» террористических организаций. (Как добывались все эти признания – отдельный разговор.) Но для арестованных «вредителей» подобные собрания и единодушное осуждение бывших товарищей и друзей были едва ли не страшнее пыток энкавэдэшников. Физическую боль иногда ещё удаётся перенести (а в тридцать седьмом по-настоящему ещё и не пытали, вернее, пытали, но не всех, а только самых главных «вредителей» и отъявленных «террористов»). Но повальное предательство знакомых и коллег, публичное бесчестье при полном отсутствии возможностей для самооправдания – всё это ломает человека решительно и быстро, лишает его воли к сопротивлению, уничтожает личность. И с таким человеком можно делать всё что угодно. Он подпишет любой протокол и примет смерть как неизбежность, как благо и освобождение от невыносимых душевных мук. Потому что жить ему больше незачем и не для кого (как представляется ему в помутившемся сознании). Именно это и случилось с Балиным, Гольдбергом и Басовым (а также с подавляющим большинством так называемых врагов народа). Эти несчастные люди очень быстро признали свою вину и были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Поэт Александр Балин был расстрелян в декабре 1937-го, руководитель областной писательской организации Михаил Басов – в июне 1938-го, а старейший и виднейший иркутский писатель Исаак Гольдберг получил пулю в затылок в декабре 1939 года.
Пётр Поликарпович Пеплов избежал этой участи лишь потому, что не признал участия ни в каких заговорах. Его старались как-нибудь впихнуть в правотроцкистскую контрреволюционную организацию. Не прочь были видеть в рядах эсеровской контрреволюционной организации (за мифическое участие в которой и был расстрелян Гольдберг). Подумывали о панмонгольской диверсионно-шпионской организации и даже – о заговоре бывших белогвардейцев (тех самых, с которыми Пеплов сражался, будучи партизаном). Но последнее обвинение совсем уже было некстати, и на нём особо не настаивали. А вот первые две организации вполне бы сгодились. Но Пеплов никак не хотел признавать своей вины, проявив чудовищное упорство, вовсе не свойственное творческой интеллигенции. Тайный расчёт следователей на интеллигентскую мягкотелость здесь не оправдался. Наверное, потому, что Пётр Поликарпович Пеплов вышел из самой гущи народа, прошёл жестокую закалку в сибирской глуши и повидал на своём веку всякое; его не так-то легко было сломать. Он и не сломался. Хотя, конечно, это был уже далеко не тот Пётр Поликарпович, нежели в момент ареста три недели назад. Эти три недели он провёл в крошечной камере, битком набитой такими же, как он, несчастными людьми. В баню их не водили, кормили пустой баландой; книги, ручки, зеркальца, расчёски, полотенца, мыло, шахматы, перочинные ножи, любая посуда – ничего этого им не полагалось. Арестанты – обычные горожане, которым и в страшном сне не могли привидеться все эти антиправительственные заговоры и теракты, – содержались так, как держат серийных убийц и отъявленных подонков; к ним не было никакого снисхождения, никакой поблажки. И они, не имея воли к сопротивлению или даже обычной злобы и упорства (свойственных подлинным заговорщикам и подпольщикам), – почти все они быстро сникали, зарастали щетиной, покрывались грязью и теряли остатки сил. Очень немногие продолжали упорствовать. Эти были твёрже других, лица их были угрюмы, но во взгляде заметна была непреклонность, граничащая с безумием.
Когда следователь Рождественский встретил взгляд Петра Поликарповича Пеплова (во время очередного допроса), ему, конечно, это не понравилось и он решил добить его последними новостями с воли.
– А вы знаете о том, что писатели провели внеочередное собрание и исключили вас из своих рядов? – произнёс он со снисходительной улыбкой.
Пеплов ответил не сразу. Подумал несколько секунд, потом молвил со вздохом:
– Что ж… я теперь ничему не удивляюсь.
Хоть он и сказал так, но на самом деле известие это оглушило его. Он хотел крикнуть: «Неправда, этого не может быть! Меня не могли исключить!» Но он уже понял, что не всё следует говорить людям в погонах. Они – не друзья ему. За снисходительным тоном и внимательным взглядом таятся холод и расчёт. Тут нет друзей, нет и не будет ни сочувствия, ни помощи.
Рождественский пока ещё не заметил этого раздвоения. Принял за чистую монету равнодушный вид подследственного.
– Значит, вы были готовы к такому сценарию? – спросил он вкрадчиво. – И вы признаёте, что действительно заслуживаете единодушного осуждения от своих бывших товарищей? Хотите, я зачитаю вам протокол собрания?
Пётр Поликарпович отрицательно покачал головой.
– А зря! – воодушевляясь, вскрикнул следователь. Взял со стола бумагу и стал читать, словно со сцены: – Исключить из рядов Союза советских писателей за связь с контрреволюционными организациями писателей Пеплова, Гольдберга, Балина, Басова.
Пётр Поликарпович вскинул голову.
– Как! Гольдберга и Басова тоже исключили? А их-то за что?
Следователь нахмурился.
– Вскрылись факты, стало быть.
– И что, их тоже арестуют? – спросил Пеплов.
– Они уже арестованы, – последовал ответ. – Будут держать ответ по всей строгости социалистической законности!
– Но они ни в чём не виноваты! Я их обоих давно знаю. Это честные люди! Гольдберг ещё при царе ссылку отбывал! Какой же он враг?
– И в партии эсеров состоял, – важно кивнул следователь.
– Да, состоял. Ну и что? Эсеры многое сделали для революции. Особенно левые. Вы, может, по молодости своей не знаете, что левые эсеры в семнадцатом были заодно с большевиками, вместе брали Зимний дворец, устанавливали власть Советов. А правые эсеры боролись с царизмом, когда большевиков ещё не было в помине. Всё крестьянство в семнадцатом году было за эсеров – об этом не надо бы забывать.
– Вон как ты заговорил! – изумлённо выдохнул следователь. – Вот и сказалась в тебе кулацкая душонка!
Пеплов вскинул голову.
– Я никогда кулаком не был! Почитайте мою биографию. Сделайте запрос в Канский округ. Там хорошо знают нашу семью. Я с детства работал в поле с отцом. Даже в школе толком не учился, всего два класса и смог закончить. Нужда проклятая! Семье надо было помогать, работали от темна до темна. Эх, да что вы об этом знаете! – вздохнул и отвернулся.
Следователь с кривоватой ухмылкой на лице взирал на Пеплова. Он ни на секунду не усомнился, что перед ним сидит отъявленный враг. Сказанные Пепловым слова не произвели в его сознании никакого действия. Рассуждения о правых и левых эсерах (разницы между которыми он не видел и считал их, наряду с меньшевиками и кадетами, опаснейшими и коварнейшими врагами советской власти), заверения в честности того или иного человека, апелляции к героическому прошлому и незапятнанной биографии – всё это не имело ровно никакого значения в его глазах. Значение имел лишь протокол допроса, лежавший на столе. Силу непреложной истины имели многочисленные циркуляры, инструкции, спецуказания и шифровки, которые он ежедневно получал под роспись в первом отделе областного управления НКВД. Вот там были истина и смысл всего, что происходит в мире! Других истин нет и быть не может! Бредни о том и о сём, переливание из пустого в порожнее и бесконечные споры и прения – вот это и есть главное зло! Нужно не говорить, а действовать. Нужно быть твёрдым и решительным, как заповедовал товарищ Сталин! А все эти уклоны и шараханья, все эти «аграрные вопросы», интернационалы, НЭПы и прочая дребедень – только вредят и заводят в тупики.
Рождественский сел за стол и подвинул к себе бумаги.
– Значит, продолжаем упорствовать, – проговорил как бы про себя. – Ну что ж, смотрите, как бы не пожалеть потом. – Он бросил быстрый взгляд поверх бумаг на Пеплова. Тот сидел чуть боком и думал о своём.
– Жена ваша может пострадать, – продолжил следователь. – В настоящее время решается вопрос о выселении её из квартиры.
Он лгал. Жену Пеплова вместе с малолетней дочерью давно уже выгнали из просторной четырёхкомнатной квартиры в центре города. Все эти дни она мыкалась по разным углам, ночевала Христа ради у знакомых (не все пускали). Однажды даже заночевали на берегу Ангары под перевёрнутой лодкой. Шёл холодный апрельский дождь, было мокро и грязно и очень холодно. Светлана Александровна переживала, конечно, не за себя. Трёхлетняя дочь не знала в своей короткой жизни ничего подобного! О ней заботились с пелёнок, покупали игрушки и получали молочные продукты по спецталонам. Была своя комната и тёплая уютная постелька. И вдруг – скитанье по чужим углам, вдруг – здоровенный перевёрнутый баркас, под которым так темно и страшно. Вдруг – нечего есть и нечего даже надеть на себя. Никогда бы Светлана Александровна не поверила, что такое с ней случится при советской власти. Но ей следовало поблагодарить судьбу за то, что саму её не взяли вслед за мужем, а дочь не отдали в детдом, куда и передавали всех детей «врагов народа» (и там уже учили ненавидеть своих родителей и откликаться на новую фамилию). Всё это было очень даже возможно. Но – не случилось. Быть может, потому, что Светлана Александровна прошла наравне с мужем суровую школу партизанской борьбы (это с неё он писал эпизод военно-полевого суда над Елизаветой Пуховой). Тогда она вела себя до сумасбродства смело. И это сошло ей с рук. Нынче ей опять пригодились и эта решительность, и безрассудная смелость.
Сразу после ареста мужа она стала обивать пороги высоких кабинетов. Но очень скоро поняла, что хозяевам этих кабинетов теперь не до неё – у них у всех свои проблемы и свои страхи. Больше других она надеялась на Басова и Гольдберга, это были наиболее уважаемые люди и всем известные литераторы. Но именно их и арестовали в числе первых. Когда это случилось, Светлана Александровна на какое-то время впала в отчаяние. Всё рушилось, не на что было опереться, и уже не осталось никакой надежды! Когда в Иркутск прибыл член комиссии партийного контроля ВКП(б) тов. Шкирятов, она написала ему слёзное письмо, в котором умоляла спасти мужа. Она писала в письме о героической борьбе мужа в партизанском отряде, перечисляла написанные им книги и процитировала хвалебные отзывы Максима Горького, Вячеслава Шишкова, а также руководителей партизанского движения Восточно-Сибирского края. Почти такие же письма за её подписью ушли в Москву – Калинину и Молотову. Но эти двое были далеко и слишком высоко. А этот – вот он, совсем рядом. Нужно только попасть к нему на приём. Она сможет убедить его, расскажет то, что не поместилось в письме и чего нельзя передать на бумаге! Силу эмоций и трепет раненого сердца – вот что нужно было почувствовать этому человеку, посланному сюда как раз для того, чтобы навести порядок и прекратить дичайший произвол. Она так и написала в конце письма: «Товарищ Шкирятов! Убедительно прошу принять меня лично».
Но таких заявлений на имя высокого гостя в те дни поступало великое множество. Принимать каждого просителя он был не в состоянии, на это у него просто не было времени. Спасибо, что прочитывал все эти послания, отличавшиеся отменной длиной и ненужными подробностями. Да и с какой стати он будет выслушивать многочисленных родственников врагов народа? С ними пусть разбираются те, кому это положено. Твёрдой рукой он вывел резолюцию на письме жены Пеплова: «Товарищу Лупекину. 26 апреля 1937 г.» – и всё! Никаких комментариев и намёков. Словно бездушная машина переместила документ из одного потока в другой, щёлкнуло реле – и документ этот был увлечён, словно осенний лист, бурным потоком из заявлений, писем и просто жалоб и отнесён куда-то в мрачные закрома, где и пролежал без движения долгие годы. Сыграл ли он какую-то роль в судьбе Петра Поликарповича? Да, сыграл. Товарищ Лупекин отписал это письмо капитану Рождественскому, а тот, бегло прочтя текст и внимательно изучив резолюцию товарища Шкирятова (сделанную красным карандашом), пришёл к очевидному выводу, что за Пеплова никто вступаться не будет – ни в Иркутске, ни в Москве. Если бы товарищ Шкирятов хотел заступиться за писателя-партизана, то он бы сделал какой-нибудь намёк. Написал бы, к примеру: «Прошу ещё раз проверить имеющиеся факты!» Или: «Прошу отнестись предельно внимательно к делу Пеплова П. П.». Или приказал бы этапировать Пеплова в Москву, мол, сами во всём разберёмся. Тогда бы уж, конечно, Рождественский сделал конкретные выводы и предпринял необходимые шаги. А так, что ж… Придётся ему самому решать вопрос с этим Пепловым. И со всеми остальными подследственными – тоже!
Вот он и сказал Пеплову, что, дескать, от него одного зависит участь его несчастной семьи. Арестовывать жену пока что не стали, а вот из дома выгнать – это обязательно будет сделано, если только Пеплов продолжит своё запирательство!
Пётр Поликарпович дрогнул. Это был второй удар за какие-нибудь полчаса. Сначала товарищи его предали. А теперь жена с дочерью гибнут. И получается, что виноват в этом он один! Ему стало трудно дышать, грудь сдавило стальным обручем. Опустив голову, сгорбившись, он сидел на стуле, словно застыв. Жить не хотелось. Но умереть своей волей он не мог. Так что же делать, признать несуществующую вину? Погибнуть самому и тем спасти своих близких? О, это было бы проще всего! Но здравый смысл противился такому исходу. Если он признается, что он шпион и диверсант, подпишет бумаги – что тогда подумает о нём жена? Не он ли учил её твёрдости и высоким принципам? Не он ли хвалил её за смелость и преданность делу революции? Захочет ли она жить после этого? И что будет знать о нём его дочь, когда вырастет? И не вернее ли тогда будет выгнать жену и дочь из дома, когда точно будет установлено, что он – враг народа и гнусный предатель?
– Ну что, надумали? – словно издалека услышал он вопрос следователя. Поднял голову и встретил немигающий взгляд больших тёмных глаз. И по глазам этим он понял, что этих людей ничем не проймёшь. Жалость им неведома. Сострадание для них – пустой звук. А истина вовсе не нужна. И он ответил твёрдо, уже не колеблясь:
– Я уже сказал, что я ни в чём не виноват. А жену и дочь трогать не советую. Я товарищу Сталину обо всём напишу.
Следователь постучал карандашом по столу.
– Так-так… Ну что ж… – не спеша поднялся и сделал два шага, резко развернулся и в упор посмотрел на Пеплова. – Пеняйте тогда на себя. Вы не хотите помочь следствию в разоблачении врагов советской власти, упорно не желаете саморазоблачиться, тем самым усугубляете свою вину и будете держать ответ по всей строгости закона. – И, повернувшись к стоящему у двери конвоиру, приказал: – Увести!
Пётр Поликарпович медленно выпрямился, словно сбрасывая тяжкий груз. Был пройден некий рубеж. Он устоял, не сломался. А значит, есть ещё надежда на спасение!
Совсем другое настроение было у капитана Рождественского. Он досадовал на себя, что не смог добиться признания от подследственного. Все члены террористической организации бывших партизан уже признали свою вину. В том числе главный заговорщик – Яковенко Василий Григорьевич. О, это крупная шишка, не чета Пеплову! Бывший нарком земледелия, затем – нарком социального обеспечения. Большой человек был – там, в Москве. И всё равно развязали ему язык. Всё выложил, как на блюдечке. И подельники его тоже все уже признались – Першин, Александров, Шолохов, Ефремов, Рудаков, Лобов – всех вместе больше ста человек. В этом деле был замешан Николай Бухарин, любимчик Ленина. Однако же – сидит и он на Лубянке и уже даёт признательные показания. Хотя, чёрт их там знает, сегодня он сидит, а завтра выйдет на свободу и тебя же во всём обвинит.
Что же делать с этим Пепловым? Приписать его к расстрельным спискам или повременить? Жена его, чертовка, пишет всем подряд, в Москву несколько писем отправила. А ну как придёт указание провести дополнительную проверку, досконально во всём разобраться? Было бы на руках признание Пепловым своей вины – тогда не страшно, тут уж никто сомневаться не будет. А так всяко может случиться. Могут и оправдать Пеплова. Бывали такие случаи. А значит, с Пепловым нужно повременить. Пусть пока посидит в камере, подумает, помучается. Подельников его, понятное дело, пустят в расход. Его тоже можно будет поставить к стенке – в любой момент времени. «И волки сыты, и овцы целы!» – сказал сам себе Рождественский и сразу почувствовал себя легче. Задача была решена. Он не нарушил инструкции, не утратил бдительности и беспощадности к врагам советской власти, но и не перешёл черту, за которой могла быть пропасть. Расстреляют ли Пеплова сейчас или чуть позже – не суть важно. Главное, он сидит в тюрьме и уже не опасен. Заговор раскрыт и раздавлен тяжёлой дланью! Ха-ра-шо!
Улыбаясь яркому весеннему солнцу, Рождественский шёл упругой походкой по улице. Молодое тренированное тело готово было оторваться от земли, ноги пружинили, грудь вздымалась от холодного чистого воздуха, по жилам бежала горячая революционная кровь, и всё было по силам, всё вокруг было твоё, законное! Он чувствовал себя победителем, хозяином этой необъятной земли. Революция уверенно шагала по планете, и от её пламенного взора не могла укрыться никакая дрянь и зараза. Всё было ясно и понятно. Ощущение правоты придавало бодрости и удесятеряло силы, он был почти счастлив в эту минуту. Счастье усиливалось, когда он вспоминал свою молодую жену, представлял, как придёт вечером домой и сядет за уставленный судками и тарелками стол. Нальёт из графина стопку холодной водки и подденет вилкой селёдочный хвост. Жена станет спрашивать его о делах, и он сдержанно расскажет о том, как тяжело ему сегодня было допрашивать очередного врага, как враг изворачивался и никак не хотел признать свою вину, а он приводил всё новые факты, из которых неизбежно следовало… Но враг всё равно не признавался, тянул время и нагло смеялся ему в лицо… а он держал себя в руках, как и положено советскому следователю, хотя всё в нём кипело и хотелось схватить стул и дать этим стулом по голове ненавистному врагу… Но этого нельзя, потому что он настоящий чекист и должен держать себя в руках… и вот так каждый день, каждый день и почти каждую ночь – всё допросы и допросы, всё враги и шпионы, заговоры и сплошная ложь… «Если б ты знала, как мне порой бывает тяжело!..» – так он скажет жене, когда размякнет от водки и разомлеет от закуски.
Жена будет смотреть на него преданными глазами, во взгляде её будут мешаться страх и гордость – за своего мужа, такого сильного и мудрого, несгибаемого борца с безжалостными врагами революции. «Господи, как же мне повезло, что я его встретила на жизненном пути!» – последнее восклицание Рождественский охотно вложил в уста своей супруги. И в общем-то он был недалёк от истины. Жена и в самом деле обожала его. В её глазах он был настоящий герой, неустрашимый и несгибаемый борец с мировым злом, за счастье и процветание всех угнетённых и обездоленных людей. Каждый день он идёт на работу, как на бой! И домой возвращается предельно усталый, опустошённый. Оно немудрено – пообщайся-ка со всеми этими троцкистами-вредителями!.. Если бы ей сказали, что муж её хладнокровно пытает ни в чём не повинных людей, заставляет их признаваться в несуществующей вине и тем самым обрекает их на позорную смерть (а семьи их – на страшные унижения), она бы этому ни за что не поверила. И уж никак она не могла предположить, что муж её – этот рыцарь без страха и упрёка – сам будет признан врагом народа и расстрелян через каких-нибудь два года, её саму также арестуют и отправят в знаменитый «АЛЖИР», где она просидит вплоть до ликвидации лагеря в 1953 году, из которого выйдет уже старухой – беззубой и полусумасшедшей, никому не нужной на этом свете. Всё это ждало её – её и многих, очень многих женщин первой в мире Страны Советов. А пока она хлопотала по дому, готовила ужин своему Коленьке и предвкушала оживлённое застолье и не менее оживлённую ночь.
Петра Поликарповича отконвоировали в его одиночную камеру, в которой к тому времени набилось так много народу, что уже и сесть было негде. Пётр Поликарпович кое-как пристроился на нарах в самом углу; привалился к стенке, закрыл глаза и как бы задремал. Минутный душевный подъём миновал, наступило расслабление, и он ощутил страшную тяжесть во всём теле и в голове. Было такое чувство, будто через голову протягивается медленный поток – тяжкий, тягучий, нескончаемый. И его словно бы уносило этим потоком куда-то вдаль, где нет ни чувств, ни мыслей, ни боли; при этом он понимал, что он всё там же и он всё тот же – измученный, обессилевший, потерявший всякую надежду человек. Что-то жуткое навалилось на него, и не было сил сбросить эту жуть, расправить плечи и свободно вздохнуть. Вспомнились слова следователя о том, что товарищи единодушно осудили его, исключили из Союза писателей, не сказав ни единого слова в защиту. «Как же они могли?!» – Он судорожно стиснул челюсти, так что зубы заскрипели. Перед глазами повлеклась вереница лиц – сумрачный, углублённый в себя Гольдберг, невозмутимый, уверенный в себе Басов, вечно чем-то удивлённый Балин, простодушный Волохов, ехидный Лист, вкрадчивый Седов. А это кто такой?.. Пётр Поликарпович присмотрелся – да это же Володька Зазубрин из Новосибирска! Бородатый, весёлый, бодрый, энергия так и бьёт ключом – всё ему по плечу и сам чёрт не брат! Пётр Поликарпович вдруг вспомнил, как в конце зимы Басов сказал ему вполголоса, поймав за руку в коридоре и отведя в сторонку: «А ты знаешь, что Володю Зазубрина в Москве арестовали? Варвару его взяли вместе с ним. Говорят, дела его плохи». Пётр Поликарпович тогда не поверил, слишком это было абсурдно. Но теперь вдруг подумал, что всё это может быть правдой и Володька Зазубрин теперь тоже сидит в какой-нибудь камере и всё думает, думает о том, что случилось, и – ничего не понимает. Бьётся над этой загадкой и Пётр Поликарпович: за что могли арестовать первого пролетарского писателя, роман которого публично похвалил сам Ленин? Уж не за ту ли повесть, которую Зазубрин давал ему почитать ещё в Новониколаевске и которую тогда не принял ни один журнал? Повесть действительно была страшная, так что поверить в написанное было нельзя. Но теперь Пётр Поликарпович понял, что всё изображённое в повести – чистая правда! Ведь Зазубрин описывал лишь то, что видел своими глазами, когда в начале двадцатых служил в ВЧК. Зачем же ему было выдумывать? Зачем клеветать на советскую власть, за которую он жизни не щадил – ни своей, ни тех, кто был против? Воевал-воевал, уничтожал и расстреливал направо и налево, а потом вроде как стыдно стало – уже тогда, в двадцать третьем, когда всё было свежо и близко и когда ещё можно было называть вещи своими именами.
Секунда, и огненные строчки той жуткой повести вспыхнули перед ним:
«…В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:
– Святый Боже, Святый Крепкий…
Глаза у него лезли из орбит. Он упал на колени:
– Братцы, родимые, не погубите…
А для Срубова он уже не человек. Чётко бросил сквозь зубы:
– Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит.
Его грубая твердость – толчок и другим чекистам. Мудыня крутил цигарку:
– Дать ему пинка в корму – замолчит.
Высокий, вихляющийся Семён Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в рассохшейся раме:
– Святый Боже, Святый Крепкий… Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.
Соломин ласков:
– В лопотине-то те, дорогой мои, чижеле. Лопотина, она тянет.
Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрав на колени полы длинной серой шинели, расстёгивал у него чёрный репсовый подрясник.
У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесёмки у щиколоток.
– В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великое.
Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и, стискивая брови, спокойно щурился от дыма.
– Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите.
Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад – глаза у обоих были мёртвые, расширенные от ужаса.
Пятая, женщина, – крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала под револьвер.
После четвёртой пятёрки Срубов перестал различать лица, фигуры приговорённых, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыхания – дурманящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землёй. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мёртвых. Пятёрка за пятёркой.
В тёмном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:
– Тащи!
Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор…
Кровью парной, по́том едким человечьим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием таращат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьётся земляной пол. Жёлто-красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать.
Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил топкие аристократические губы, иронизировал:
– Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду.
Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.
– Раздевайся, гад.
– Дайте холуя.
Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств – генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскалённый песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвёртывался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.
– Тьфу! Не продыхнёшь. Белье-то како обгадил.
Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди – и ни шагу. Заявил с гордостью:
– Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.
Отхаркался Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дёрнув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было так же жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевок. Срубов ему строго:
– Не нервничать.
И властно и раздражённо:
– Следующую пятёрку. Живо. Распустили слюни.
Из пятёрки остались две женщины и прапорщик Скачков.
Полногрудая вислозадая дама с высокой причёской дрожала, не хотела идти к стенке. Соломин взял её под руку:
– Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, туто ка друга баба.
Голая женщина уступила одетому мужчине. С дрожью в холёных ногах, тонких у щиколоток, ступала по тёплой липкой слизи пола. Соломин вёл её осторожно, с лицом озабоченным.
Другая – высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у неё синие. Брови густые, тёмные. Она говорила совсем детским голосом и немного заикаясь:
– Если бы вы зн-знали, товарищи… жить, жить как хочется…
И синевой глубокой на всех льёт. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза – угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопчёнными револьверами. А глаза у всех неотрывно на неё. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.
Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в неё. Захлебнуться в солёном красном угаре… Решительно два шага вперёд. Из кармана – чёрный браунинг. И прямо между тёмных дуг бровей, в белый лоб – никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русых волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков – в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной причёской…»
Петру Поликарповичу сделалось жутко. Вспомнились слышанные однажды строчки сгинувшей в лагерях поэтессы:
Всё вижу призрачный, и душный, И длинный коридор, И ряд винтовок равнодушных, Направленных в упор… Команда… Залп… Паденье тела. Рассвета хмурь и муть. Обычное простое дело, Не страшное ничуть. Уходят люди без вопросов В привычный ясный мир, И разминает папиросу Спокойный командир. Знамёна пламенную песню Кидают вверх и вниз, А в коридоре душном плесень И пир голодных крыс.Пётр Поликарпович вздрогнул и словно бы очнулся, посмотрел мутными глазами по сторонам. Вокруг были люди – понурые, притихшие, но всё-таки живые, тёплые, с целыми черепами и с ещё не погасшими надеждами. «А если и их всех так же вот, в подвале будут стрелять: пускать пулю в податливый мягкий затылок, а затем – цеплять петлёй за шею и тянуть наверх, в открывшийся люк. А там уже грузовик дрожит от натуги в ожидании очередной партии окровавленных обгаженных тел. Почему бы и нет? Ведь было уже так! В двадцатом году. Сколько десятков тысяч тогда расстреляли по всем подвалам ВЧК? А мы знали и – принимали как должное. Читали эту самую повесть, удивлялись, качали головами, даже и задумывались над прочитанным. Но – не ужасались, не цепенели от ужаса, не холодели до кончиков пальцев – как теперь вот! Это потому, что не примеряли всё это на себя. Думали: это всё не про нас, а – про других, про гадких и зловредных, про ненужных на этой земле. А вот поди ж ты, теперь, может статься, ты сам никому не нужен и повесть эта – про тебя!
Сердце сильно билось. Хотелось вскочить, броситься вон из душной камеры и бежать, бежать без оглядки – в пустые безлюдные пространства, продираться сквозь густые ветки, переплывать холодные реки и всё дальше уходить от этого кошмара, от простреленных черепов и дымящейся крови, от дрожания рук и судорог души! Не думать, не видеть, не вспоминать. Пётр Поликарпович с силой сдавил себе виски и согнулся пополам, будто хотел спрятать голову у себя на груди. Так он сидел, мерно раскачиваясь, а рядом теснились люди, и никому не было до него дела, потому что у каждого была своя беда, своя неизбывная боль, свой крест и свой конец – совсем уже близкий.
Пётр Поликарпович рвался на волю, стены давили его. Но про него словно забыли. Других каждую ночь забирали на допросы, а под утро возвращали – избитых, измученных, едва понимавших, что с ними и где они. С ними отваживались – давали пить из мятой алюминиевой кружки, мочили водой тряпочки и прикладывали ко лбу, к разгорячённым глазам, осторожно вытирали сочившуюся кровь, неумело стягивали сломанные кости. Избитые скоро исчезали из камеры. Куда их забирали – никто не знал. Вместо них появлялись другие – в городских костюмах и с растерянными лицами и расширенными зрачками. Их вскоре тоже приходилось перевязывать и отпаивать водой, и они в свою очередь исчезали вслед за предшественниками. Всё двигалось и менялось вокруг. Ничего не менялось лишь в положении Петра Поликарповича. Ни вызовов на допросы, ни каких угодно вестей – ничего! Он сидел в каменном мешке, где не было даже маленького оконца с дневным светом, зато в углу стояла деревянная ёмкость с дерьмом. Трижды в день арестантов кормили: утром давали кусок чёрного хлеба и кружку кипятку, в обед – миску баланды, вечером – снова кипяток. Пётр Поликарпович пробовал было проситься на прогулку, но конвоир так на него рявкнул, что Пётр Поликарпович молча сел на своё место и больше не задавал вопросов.
Прибывшие с воли приносили дурные вести. Бывший главный врач городской детской больницы Левантовский, с которым Пеплов был немного знаком по прежней жизни, поведал об арестах первых лиц области. Был арестован секретарь краевого оргбюро ЦК ВКП(б) Леонов. И сразу вслед за ним взяли первого секретаря крайкома Разумова. Его заместитель, первый секретарь крайкома Козлов пошёл вслед за ним. Была арестована Нина Михайловна Горбунова, занимавшая пост второго секретаря Иркутского горкома ВКП(б). Вместе с ней взяли всех секретарей горкома – Шеметова, Сахарова, Жука. Комсомолия тоже понесла серьёзные потери: прямо из кабинетов забрали Захарова, Полину Беспрозванных, Игнатова – секретарей крайкома, обкома и горкома ВЛКСМ. Средь бела дня посадили в чёрный воронок председателя облисполкома Пахомова. А ещё арестовали Важнова, Букатова, Шапиро, Калюжного, Кушановского, Тобиаса, Русакова, Косокова, Кауфана, Гисмана, Ербанова, Данилова, Чимидуна, Барайдина и ещё множество известных всему городу лиц. Все они занимали высокие посты: кто-то руководил научным институтом, кто-то заведовал больницей, кто-то руководил железной дорогой, были тут и профессора, и мастера по шахматам, и даже действительный член Американского антропологического общества – Бернард Эдуардович Петри. По мере того как Левантовский называл фамилии своим приглушённым голосом, Пётр Поликарпович деревенел и тупел. И под конец перестал чувствовать что бы то ни было, словно он попал в безвоздушное пространство. Мелькнула мысль, что перед ним провокатор. Или нет, скорее это сумасшедший. Но и это не так. Это всё похоже на сон, на бред воспалённого ума. Это всё ему лишь кажется – и камера с истерзанными людьми, и этот интеллигентный человек, так спокойно сообщающий ему невероятные вести. Стоит лишь крепко зажмуриться, р-раз! – и всё сгинет, как будто и не было никогда!
– Пётр Поликарпович, что с вами? Вам плохо? – послышался участливый голос.
Пеплов раскрыл глаза и увидел печальные глаза Левантовского. Нет, он не сумасшедший и не провокатор. И всё это происходит в действительности. Но тогда, быть может… Он схватил Левантовского за руку.
– Юрий Михайлович, а что если это контрреволюционный переворот? Власть захватили враги советской власти, и теперь они сажают всех преданных партии людей. Ведь это всё объясняет!
Левантовский печально покачал головой, произнёс со слабой улыбкой:
– Если б так! Это было бы проще всего. Но ведь красный флаг всё ещё висит над обкомом. И Сталин сидит в Кремле. Молотов с Ежовым тоже на своих местах. Советская власть сильна, как никогда! Теперь все только и говорят о советской власти и о партии большевиков. Митинги проходят каждый день, Сталина славословят, а врагов ругают, требуют суровой расправы над ними. Это мы с вами враги и контрреволюция. Так-то, дорогой Пётр Поликарпович.
– Я не враг советской власти! – вскинулся Пётр Поликарпович.
Левантовский согласно кивнул.
– Охотно верю. А как насчёт этих? – И он кивнул на соседей по камере.
Пётр Поликарпович скосил глаза, подумал несколько секунд.
– Не знаю. Я ведь с ними незнаком. Мало ли что бывает!
Левантовский опять кивнул.
– То-то и оно. Все теперь так и рассуждают, особенно те, кто на воле. Они ведь не знают, кто и за что арестован. А может, нас всех за дело посадили? Откуда им знать? И вы, Пётр Поликарпович, если были бы теперь на свободе, тоже осуждали бы врагов и вредителей, требовали суровой расправы с негодяями.
– Да вы что? С чего вы взяли? Я бы никогда не осудил невинного человека.
– А врага осудили бы?
Пётр Поликарпович неуверенно кивнул.
– Пожалуй, врага бы я осудил. Если бы точно знал, что он враг.
– Ну вот вам и объяснение! Нас и считают врагами! А как же иначе? Если в газетах пишут, что мы шпионы и диверсанты (а газетам мы привыкли верить), и если следователи добиваются от нас чистосердечных признаний и публичного покаяния, а всякие докладчики и агитаторы без устали выступают на митингах и собраниях, проклинают подлых вредителей. Как тут не поверишь? Любому дураку ясно: правильно нас взяли! И всем нам прямая дорога – на тот свет. Чтоб не путались под ногами у нарождающейся смены, не мешали уверенной поступи самого справедливого общества в мире.
Пётр Поликарпович отстранился.
– Погодите. Я лично ни в чём не признался и признаваться не собираюсь. За что же меня расстреливать?
– На второй день после вашего ареста уже была статья в «Восточно-Сибирской правде», где сообщалось о том, что вы во всём признались, изобличены неопровержимыми уликами и показаниями своих подельников. И я, честно вам скажу, призадумался: а может, чего и было. И все остальные рассуждают точно так же. – Левантовский вздохнул. – Нет, Пётр Поликарпович, советскую власть никто и не думал свергать. И это всё, – он обвёл рукой камеру, – её милые проделки. С воли мы точно помощи не дождёмся. Разве что от родных. Но они сами теперь в опасности. Жён ведь тоже берут вслед за мужьями. Детей передают в детские дома. А вы разве не знали? – И Левантовский с грустью посмотрел на Пеплова. Тот в первую секунду не знал, что сказать. Поверить в услышанное было слишком страшно, но и не верить он не мог. Зачем Левантовскому обманывать его? Если только… его самого не обманули.
– А у вас есть дети? – быстро спросил Пеплов.
Левантовский кивнул.
– Есть. Дочь работает педиатром в детской больнице. А сын – геолог. На Дальнем Востоке, в Дальстрое. В тридцать первом завербовался. Погнался за длинным рублём. Может так случиться, что скоро мы с ним увидимся.
– Вы думаете, его тоже арестуют?
– Нет, я думаю, произойдёт обратное: меня отправят к нему.
– То есть как? – не понял Пеплов.
– На Дальний Восток, в бассейн Колымы, – чуть усмехнувшись, ответил Левантовский. – Там сейчас активно развивается золотодобыча. Требуются рабочие руки. А кто туда по своей воле поедет? Ну, геологи – это ещё куда ни шло, им за это деньги платят. А вот мёрзлый камень долбить да тачку на себе возить с утра до ночи – на это охотников нет. Вот нас с вами и отправят на Колыму добывать золото для страны. Надо же на что-то покупать американские станки и немецкое вооружение.
– Вы полагаете, что нас могут отправить на Дальний Восток? – спросил Пеплов, ещё не зная, как отнестись к подобной перспективе.
– Это вполне вероятно, – был ответ. – Туда сгоняют заключённых со всего Советского Союза. Везут пароходами из Владивостока, сгружают на голый берег и гонят пешими этапами туда, куда Макар телят не гонял. Сын рассказывал, когда приезжал в отпуск в прошлом году. И знаете, о чём он поведал? – Глаза Левантовского неожиданно сверкнули, зрачки на миг расширились и обратились в точки. – Он работает в Дальстрое с тридцать второго, ещё застал Блюхера и его команду. Первую зиму, когда ещё не было заключённых, все они жили в армейских утеплённых палатках, и никто тогда не умер. А через год, осенью, по морю прибыл первый этап – двенадцать тысяч заключённых. Продуктов для них не завезли вовремя. И никаких строений не было приготовлено. Как вы думаете, сколько из них дожили до весны?
Пеплов задумался на секунду, потом ответил:
– Ну, по моему прошлому опыту, думаю, процентов девяносто… или, может, восемьдесят, учитывая тамошний климат.
Левантовский опустил голову и глухо проговорил:
– Все двенадцать тысяч заключённых умерли от голода, никто не пережил ту зиму. Даже охранники погибли. Собак всех поели, кошек ловили, птиц. Раскапывали свежие могилы и отрезали куски мяса от мертвецов. Травились трупным ядом, конечно. Теряли рассудок. Кто-то раньше умер, кто-то чуть позже. Кто от голода, кто от авитаминоза. Кого-то блатные сразу убили, а кто в сопках замёрз. Некоторые пытались бежать. Но куда там побежишь – зимой, в пятидесятиградусный мороз, без одежды, без продуктов. Населённых пунктов в нашем понимании там нет. Поезда туда не ходят и ещё тысячу лет не будут ходить. Самолёты не летают. Обычных дорог – и тех нет! Бежать там попросту некуда.
Пётр Поликарпович медленно покачал головой.
– Этого не может быть. Я вам не верю. Как же это? Завезли столько людей, а продуктов не предусмотрели? Это что, диверсия? Вредительство? Кто-нибудь наказан за это?
Левантовский пожал плечами.
– Ну да, расстреляли несколько человек для острастки. А на следующий год история повторилась. В ноябре тридцать третьего снова этап – шестнадцать тысяч. И снова – в чистое поле, в мёрзлую землю. На этот раз привезли муку в мешках, какие-то крупы, рваные палатки. Но продукты быстро закончились, а палатки не спасали от лютых морозов. Адаптация на Крайнем Севере – очень непростая штука, даже при хорошем питании и нормальных бытовых условиях. А когда, я извиняюсь, людям жрать нечего, а на ногах резиновые чуни – это в сорокаградусные морозы, – что тогда? И вот итог: из шестнадцати тысяч заключённых до весны дотянули чуть более трёх сотен. Да и тех пришлось срочно вывозить на Большую землю, все получили инвалидность, признаны негодными к труду. Считай – калеки на всю жизнь. Кто без руки, кто без обеих ног. У всех носы отморожены, куриная слепота, пеллагра, дистрофия, глубочайшая душевная травма.
Пётр Поликарпович с беспокойством огляделся. Ему вдруг показалось, что это он оказался на краю земли, в царстве холода и неизбывной тоски. Что такое холод – он знал не понаслышке. Студёную сибирскую зиму девятнадцатого года он провёл в глухой присаянской тайге. Тогда у них, правда, были продукты. Ведь все были местные. Охотились в тайге, таскали рыбу из лунок, жители окрестных деревень им помогали, прятали раненых от колчаковцев, отогревали в лютую стужу.
А если опять доведётся попасть в тайгу, без пищи, без нормальной одежды, да под конвоем?.. Пётр Поликарпович передёрнул плечами и подумал: избави бог от такой судьбинушки. Уж лучше сразу умереть.
Он пошевелил губами и произнёс задумчиво:
– Не знаю, Юрий Михайлович. Как-то вы всё видите в мрачном свете. Я лично не собираюсь ехать ни на какой Дальний Восток.
– Ну так вас в Бамлаг отправят – это ненамного лучше. Там тоже нужны рабочие руки – рельсы прокладывать сквозь тайгу. От Иркутска не так уж и далеко – всего тысяча километров.
Пеплов нахмурился.
– Туда я тоже не поеду. Я ни в чём не виноват перед родной советской властью, и я собираюсь это доказать.
Левантовский через силу улыбнулся.
– Ну что же, желаю вам успеха!
Пеплову почудилась насмешка в последней реплике. Он хотел ответить какой-нибудь резкостью, но в последний момент сдержался. Уж очень жалко выглядел его оппонент. Ему тоже, должно быть, тяжело и больно – гораздо тяжелей, чем Пеплову. Ведь он не верит в благоприятный исход дела, заранее согласен ехать на Колыму. Как же можно с этим жить? Покорно ждать, когда тебя отправят за тридевять земель на верную смерть. Или расстреляют прямо тут, заставив признаться в несуществующей вине. Нет, уж лучше сразу в петлю – и конец всем мучениям!
Пётр Поликарпович обвёл взглядом мрачные стены и убедился, что свести счёты с жизнью здесь нельзя. Нет ни верёвок, ни каких ни то упоров и крючков. Люди сидят так тесно, что любое намерение сразу же открывается. Здесь ты уже не хозяин самому себе. Тут можно лишь терпеть – всё, что ниспошлёт тебе судьба.
Больше они в этот день не говорили. Пётр Поликарпович, кое-как пристроившись между нарами и стеной, задремал. А когда проснулся, увидел, что Левантовского нет в камере.
– Забрали на допрос, – с неохотой сказал, повернувшись, угрюмый старик, когда Пётр Поликарпович спросил его о товарище.
Левантовского приволокли глубокой ночью, втащили в камеру за руки и бросили, словно куль, на цементный пол. Пеплов сразу же подошёл к нему. В тусклом свете едва разглядел разбитое в кровь лицо, слипшиеся от пота и крови волосы, различил прерывистое дыхание.
Левантовский раскрыл веки и, разглядев товарища, едва заметно кивнул.
– Вот видите, а вы мне не верили. Всем нам крышка. Теперь я в этом окончательно убедился. С этими людьми нельзя договориться. Мы для них – скот. Они нас за людей не считают. Но я им тоже кое-что сказал. Пусть не думают, не на того напали.
Пётр Поликарпович помог ему приподняться. Оторвал кусок своей рубахи, намочил водой из кружки и протянул товарищу.
– Спасибо, – сказал тот дрогнувшим голосом. Стал осторожно вытирать лицо, морщась и вздрагивая. – Это ничего, – приговаривал придушенным голосом. – Щиплет немного, а так ничего, не очень и больно. Главное, что кости целы.
Пётр Поликарпович молча смотрел на него. Вдруг заметил, что Левантовский улыбается.
– Вы знаете, я сегодня провёл с ними эксперимент. Высказал им всё, что о них думаю. По крайней мере, нам было о чём поговорить. Нельзя же всерьёз обсуждать все эти глупости, в которых нас обвиняют. За это и получил… Впрочем, меня всё равно бы избили. Ведь это у них основной метод поиска истины. С избитым человеком гораздо проще разговаривать. То, что обычному человеку приходится втолковывать по несколько раз, избитый понимает сразу, усваивает на уровне рефлексов. Другое дело – соглашается ли он с услышанным. Я, например, не согласился. Более того, я сам кое-что объяснил им о том, что они такое, откуда вышли и куда придут. И вот вам результат.
– Что же такого вы им сказали? – спросил Пеплов.
– Да всё то, о чём думал много лет, но не решался никому сказать, даже своим близким. А теперь вдруг подумал: какого чёрта? Всё равно умирать. Пусть услышат хотя бы от меня правду-матку.
– Очень интересно! – подхватил Пётр Поликарпович. – Вы знаете какую-то особенную правду?
– Да, знаю, и это вовсе не секрет для думающих людей. Я им в лицо сказал, что социализм у нас невозможен. По крайней мере теперь. Лет через тысячу, пожалуй, он и может наступить. Но не путём революций и расстрелов, а исключительно естественным образом, без всех этих потрясений и убийств. Примерно так, как растёт и развивается любой организм в природе. Вчера это была личинка, сегодня гусеница, а завтра будет бабочка. И всё это постепенно, без резких переходов. Нельзя в одну секунду личинку превратить в бабочку! Так же как нельзя отсталую Россию вдруг сделать социалистическим раем. Общественное благополучие должно вызреть и подготовиться. На это нужны не годы, а – века.
Пётр Поликарпович нахмурился.
– Ну, это никакая не новость. Оппортунисты то же самое говорили. А Ленин их разоблачил и дал им принципиальную оценку.
Левантовский резко обернулся.
– Да какая же это оценка? Ленин умел лишь ругаться и навешивать ярлыки. Один у него ренегат, другой – политическая проститутка, третий – недоносок, кругом него сплошь сволочи и ублюдки. Виднейшего социал-демократа Каутского, который редактировал «Капитал» Маркса и состоял в переписке с Энгельсом, он печатно обзывал ренегатом, реакционером, прислужником буржуазии и только что матом не ругался. И заметьте: прав-то в итоге оказался именно Каутский! Он говорил то, что и все нормальные люди! Ленин даже со своими ближайшими соратниками расплевался, когда они ему пытались объяснить очевидные факты. Боевик и профан Сталин оказался ему ближе интеллигента и умницы Мартова! Вот вам Ленин и вся его наука. Все его статьи и речи – это сплошная демагогия, словесная эквилибристика, подтасовка фактов и безудержный поток оскорблений. Говорили ему и Мартов, и Плеханов, и почти все европейские социал-демократы о том, что революция в России приведёт к массовой резне и деградации, что Россия не готова к социализму, что надо обождать лет двести по крайней мере. Приводили в пример Францию с её кровавым Термидором и полной вакханалией, закончившейся Наполеоном и национальным унижением. Цитировали Маркса, который презирал славян, а все свои теории готовил для просвещённой Европы, вовсе не имея в виду отсталую Россию. Что им на это отвечал Владимир Ильич? Да ничего вразумительного. Истерические лозунги и бесшабашная уверенность в том, что всё как-нибудь само собой наладится. Ничего другого он предложить не мог, потому что сам ничего не знал и не понимал, живя в своей Швейцарии. Ленин совершенно не знал Россию и пробавлялся глупыми фантазиями о сознательном мужике и грамотном рабочем. Верил в пустую теорию, совершенно не понимая практики. За месяц до Февральской революции он публично заявлял, что до революции в России он не доживёт, а вся надежда – на будущие поколения. И вдруг свершилась Февральская революция, притом – совершенно без участия большевиков! Тут они все и нагрянули – кто из-за границы, а кто-то из ссылки примчался на всех парах, ведь их всех выпустили тогда стараниями тех же эсеров и кадетов, которых большевики впоследствии объявили вне закона и стали безжалостно истреблять. А что они осенью семнадцатого устроили – об этом вы и сами знаете. Разогнали законно избранное Учредительное собрание, захватили власть и стали управлять. Что же мы имеем теперь, двадцать лет спустя?
Пётр Поликарпович промолчал.
– Сначала была кровавая Гражданская война, уничтожение ближайших политических союзников и целых сословий, истребление лучших умов во всех сферах деятельности. В результате промышленность остановилась, продуктов не стало вовсе, наступил всеобщий хаос. Тогда большевики начали отбирать всё ценное у населения, называя это экспроприацией. А в деревне устроили форменный грабёж под видом продразвёрстки. За всю тысячелетнюю историю Руси не было ничего подобного! Даже татары так страшно не грабили русских крестьян, как это делали большевики в течение трёх лет. Вполне закономерно начались восстания. В двадцатом году Тамбовская губерния поднялась против большевиков. Целый год Тухачевский со всей своей армией не мог справиться с неграмотными крестьянами. Пришлось применять против них артиллерию и химическое оружие, выжигать целые сёла, сгонять пленных в концлагеря и массово брать заложников. А на следующий год случился неслыханный голод в Поволжье – с миллионными жертвами, с людоедством. Пять миллионов умерло от этого голода – можете вы представить эту цифру? В городах была полная разруха и дезорганизация. Ведь нельзя же всё время воевать и убивать, надо же что-то и производить! А об этом никто и не подумал.
Ведь что произошло? До семнадцатого года почти полвека только и делали, что ругали царизм и капитализм. Уж так всё плохо было, что хоть в петлю лезь! И весь этот революционный энтузиазм на этом и держался – на ненависти к собственной стране, к её тысячелетней истории. При этом большевики обещали всем немедленное счастье – этакий социалистический рай, который наступит сразу после свержения царизма и утверждения советской власти. Но рай, как вы, наверное, знаете, не наступил и не мог наступить. Надежды на сознательность рабочих масс и крестьянства не оправдались. Нужно было работать, а не митинговать. Каждый работник должен быть заинтересован в своём труде, только тогда труд будет высокопроизводителен (о чём так беспокоился Ленин). Но этого-то интереса большевики и лишили всех поголовно – и рабочих на фабриках, и тем более крестьян в деревнях. Ну зачем крестьянину пахать и сеять, если урожай у него всё равно отберут? А рабочему зачем целый день стоять за станком, если на его нищенскую зарплату нельзя ничего купить? Вот и не стало в стране ничего – ни хлеба, ни металла, ни, извините, штанов. Вышло так, что правы оказались эсеры, а не большевики. Правы оказались европейские демократы во главе с Каутским! Но Ленин был неглупый человек. После Тамбовского мятежа он наконец-то понял, что нужно что-то кардинально менять в экономическом укладе. Он объявил НЭП и фактически признал правоту всех тех, кто говорил о невозможности немедленного социализма в России. Отменили продразвёрстку, дали свободу мелким кооператорам, разрешили крестьянам продавать излишки хлеба и овощей. Лишь тогда народ немного перевёл дух. Деревня стала оживать, в городе появились продукты, кровавые бунты прекратились. И так бы всё и наладилось постепенно. Но в двадцать девятом Сталин неожиданно свернул НЭП, разогнал кооперативы и стал грубо насаждать колхозы. Вот тогда-то и случился ещё один страшный голод, от которого умерло уже не пять, а пятнадцать миллионов человек! И опять начался террор в деревне, затем сфабриковали процесс над Промпартией и Шахтинское дело, стали искать вредителей среди технической интеллигенции; потом, вы знаете, было убийство Кирова и самоубийство Орджоникидзе. Начались аресты и казни ближайших соратников Ленина, и наконец добрались до нас с вами. Иначе и быть не могло! Всё это предвидели умные люди задолго до семнадцатого года. Да только их никто не слушал.
Произнеся столь длинную тираду, Левантовский уронил голову на грудь. Пётр Поликарпович молчал, поражённый услышанным. Не думал он, что здесь, в тюрьме, услышит подобные речи. Он и хотел что-нибудь возразить, но стал припоминать и вспомнил, что уже слышал в разные годы и от разных людей схожие высказывания. И о невозможности революции в отсталой России. И о разоре деревни (это он и сам видел в своём селе). Знал и про страшный голод, выкосивший целые регионы. И про все эти странные процессы над старыми большевиками, соратниками Ленина, – с удивлением читал в газетах. Ходили упорные слухи о последних письмах Ленина, в которых он требовал смещения Сталина с поста генсека, говорил о его грубости, нетерпимости к иному мнению. Но об этих письмах говорить было опасно. В какой-то момент все это поняли и – замолчали. Стало вдруг невозможным говорить то, что думаешь. И все стали повторять лишь то, что требовалось в данную минуту. В двадцать восьмом, когда боролись с левым уклоном – ругали всех тех, кто требовал сворачивания НЭПа и немедленной индустриализации. А уже через два года стали ругать правый уклон – за то, что не верили в быструю индустриализацию и предлагали пожалеть мужика (так что даже появился нелепый термин: «левацко-правый уклон», пустил в оборот его сам Сталин (бездарно подражая Ленину), и все с готовностью согласились, что это и своевременно, и очень мудро). Так происходило каждый раз: надо было соглашаться с генеральной линией партии, даже если ты беспартийный и если ты думаешь иначе. А иначе – плохо будет тебе. Это поняли ещё до всяких процессов. Оно как-то само почувствовалось, будто в воздухе появилась некая примесь – и всё вокруг стало иным.
Левантовский взял его за руку.
– Я вам сейчас скажу кое-что… Этого почти никто не знает. Но в этом кроется разгадка всех этих процессов. Хотите знать?
Пётр Поликарпович медленно кивнул.
– Да. Я слушаю.
Левантовский с усилием сглотнул слюну. Глаза его лихорадочно блестели в полутьме.
– Хорошо. Больше вам этого никто не скажет.
Он замолчал. Прикрыл глаза и судорожно втягивал в себя воздух.
– Всё очень просто, – вдруг заговорил он. – Сталин – типичный параноик. Бехтерев ещё в двадцать седьмом поставил ему диагноз. В декабре двадцать седьмого в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд психиатров и невропатологов. Я был на этом съезде, видел самого Бехтерева. Это был поразительный человек – настоящая глыба! Колоссальный ум! Так вот… Бехтерева неожиданно пригласили к Сталину для консультации. У того была бессонница, депрессия, грубые выходки всё чаще случались. Думали, что это от переутомления. Надеялись, видно, что Бехтерев выпишет ему какие-нибудь капли и всё это пройдёт. Но надо было знать Владимира Михайловича! Это был психиатр старой классической школы. Он был гениальный диагност и мог поставить диагноз с одного взгляда на больного. Авторитет его был непререкаем. И вот вместо пилюль и капель Бехтерев выносит диагноз Сталину: паранойя! И ещё прибавляет в разговоре со своим помощником, что во главе государства оказался опасный человек. Об этом разговоре сразу же стало известно Сталину. В тот же день вечером Бехтерев внезапно умирает в гостинице от острого пищевого отравления. А был он отменно здоров и ещё не очень стар, всего семьдесят лет ему было. Все так и поняли: Сталин отомстил ему за унизительный диагноз, а заодно пресёк слухи о своей болезни. Но главное не в этом. Среди обычных людей чрезвычайно много скрытых параноиков, об этом вам скажет любой психиатр. Но у Сталина просматриваются откровенно садистские наклонности! Вот что страшно! И вот представьте, что у лидера государства развивается мания преследования, везде ему мерещатся враги и заговоры, при этом он обладает неограниченной властью и получает удовольствие от чужих страданий. Вы что думаете, его жена по идейным соображениям пустила себе пулю в лоб? Не-ет, просто так такие вещи не происходят. Это Сталин довёл её до самоубийства. И помяните моё слово: дальше всё будет только хуже. Пока Сталин жив – не будет нам всем жизни. Нам и нашим детям! Мы все умрём – это вопрос уже решённый. Но сколько ещё людей погибнет – об этом подумать страшно! Боже мой, что же нам делать? За что нам всё это? – И он закрыл лицо руками.
Пётр Поликарпович сидел не шевелясь. Услышанное не укладывалось в сознании. Выходило так, что всё, за что он боролся, чему посвятил свою жизнь и отдал лучшие годы, – оказалось ложью, мерзостью, чудовищным обманом! Если всё услышанное верно хотя бы наполовину, тогда впору было сойти с ума. Или покончить с собой, как это сделал Орджоникидзе. Рядом лежали в забытьи люди, кто-то стонал во сне, кто-то хрипел и метался; а один лежал ничком, как неживой. В камере было темно и душно, несло вонью от параши, невозможно было глубоко вдохнуть, отчего кружилась голова, а по телу расходилась слабость. Пётр Поликарпович уже жалел, что согласился слушать Левантовского. Лучше бы он ничего этого не знал. Пусть уж лучше будут допросы и обвинения, это всё равно легче, чем знать, что ты боролся за неправое дело и теперь обречён и вся страна тоже обречена – на мучения, на никому не нужные жертвы. Можно пойти на смерть ради высокого идеала, ради счастья будущих поколений, ради своих детей, наконец. Но вдруг узнать, что ты собственными руками, всей своей жизнью предуготовлял всеобщую катастрофу, за которую тебя будут проклинать потомки, – это было выше сил. Пётр Поликарпович обхватил голову руками и глухо застонал. Подобной душевной боли он ещё не испытывал. Избавиться от неё было нельзя, утишить нечем. Можно было лишь сжаться, собрать в кулак всю свою волю и удержать рассудок, не позволить себе впасть в безумие. Это был единственный способ противостоять страшной действительности.
В эту ночь Пётр Поликарпович больше так и не уснул.
А утром Левантовского опять вызвали на допрос. Уходя, Левантовский приостановился, посмотрел на Пеплова.
– Помните о том, что я вам сказал, – произнёс он и вышел.
Больше Пётр Поликарпович никогда его не видел.
Юрий Михайлович Левантовский, врач-невропатолог 1-й городской детской больницы, был расстрелян в декабре тридцать седьмого года. Сына его также расстреляли, годом позже – но уже в Магадане. Он был прихвачен «делом Берзина», признан участником «колымской антисоветской, шпионской, повстанческо-террористической, вредительской организации» (как было сказано в приговоре). По этому выдуманному делу были расстреляны тысячи невинных людей. Но всё это было впереди, и всё это было очень далеко – за тридевять земель, куда Пётр Поликарпович никак не чаял попасть.
Жена его, не получив ответа на свои обращения – ни из Москвы, ни от местных властей – и не имея никаких вестей о своём муже, лишившись поддержки со стороны писательской организации и будучи выдворена из дома со всем тем, что могла унести (на руки она взяла свою трёхлетнюю дочь, а больше ничего взять не смогла), – уже поняла, что ничего и ни от кого она не добьётся и думать теперь надо лишь о дочери, спасать её одну – от холода и бесприютности и от голодной смерти в буквальном смысле этого слова. Несколько ночёвок на берегу студёной Ангары, череда унижений перед знакомыми, отчаянно трусившими оставить её хотя бы на время, мгновенное увольнение с работы и лишение всяких средств к существованию – вот что случилось с ней сразу после ареста мужа, авторитет которого казался ей незыблемым, а жизнь – прочной и удавшейся. Если бы не дочь, Светлана Александровна утопилась бы в Ангаре (так соблазнительно было прыгнуть в зелёную пенящуюся воду с нового железобетонного моста, на открытии которого Пётр Поликарпович совсем недавно произносил вдохновенную речь). Но проще всего было повеситься (говорят, сознание отключается уже через несколько секунд и это почти не больно). В крайнем случае можно броситься под поезд. По большому счёту это всё равно. Светлана думала об этом как-то отстранённо, словно бы речь шла о другом человеке. Представляла, как тело её будет изуродовано стальными колёсами, обратится в кровавое месиво. Это было, конечно, очень страшно. Но и жить было страшно, и главное, непонятно: зачем ей теперь жить? Мужа своего она больше никогда не увидит – это она как-то вдруг поняла, почувствовала как непреложную истину. И – смирилась с этим непостижимым знанием (так человек иногда безошибочно предчувствует свою смерть).
Почерневшая, осунувшаяся, ранним утром она брела по ухабистой каменистой улице где-то на самом краю города. Она сама не знала, как сюда попала. Помнила только, что долго шла по нескончаемому мосту в холодном тумане, затем поднималась на крутую гору, потом долго спускалась по камням и глине, потом ещё один затяжной подъём – всё это в предрассветных сумерках, в глубокой тишине. Вдруг словно что-то толкнуло её; она остановилась, опустила дочь на землю и стала осматриваться. Она находилась на вершине довольно крутого склона. Дорога из-под самых ног уходила вниз и терялась в беспорядочном нагромождении деревянных домиков, заборов, огородов. Словно огромная чаша – перед ней расстилалась глубокая впадина, вся изрезанная кривыми улочками, усеянная оврагами и невысокими холмами. Повернувшись в другую сторону, она увидела густой сосновый лес, от которого пахло свежестью и веяло удивительным покоем. Светлана узнала это место: это была знаменитая Кайская гора – городская окраина, за которой была пойма Иркута – место очень красивое, почти волшебное. Здесь были заливные луга и покосы, отличная рыбалка и первозданная тишина – среди роскошной природы и удивительной ясности и покоя. Отсюда в ясные дни запускали бумажных змеев, а самые отважные летали на аэропланах в открывающуюся многокилометровую перспективу. Красота тут была неописуемая! Посёлок, захвативший эту гигантскую впадину, носил название Глазковского предместья. Это была самая настоящая деревня – с горланящими по утрам петухами, со свинюшками, свободно гуляющими по кривым улочкам, с ароматными печными дымами и с железными колонками, из которых жители носили домой чистейшую ангарскую воду. Кажется, время тут остановилось. А все страхи и невзгоды остались там, на другом берегу Ангары, где её бывший дом, где всем на свете заправляют люди в хромовых сапогах и где огромная мрачная тюрьма, в которой томится её Пётр. И зачем же это всё, когда совсем рядом такая красота и раздолье? Почему бы просто не жить и не радоваться яркому солнцу, и синему небу, и этому простору – темнеющим вдалеке горам и горящему под утренним солнцем Иркуту, берущему своё начало за триста километров отсюда, в отрогах снежных Саян. Множество людей сгрудилось на узеньком пространстве и беспрерывно воюют друг с другом, всё выясняют, кто больше прав, а кто меньше, да кто лучше понимает международную обстановку и борется за счастье всех людей. Но так странно получалось, что борьба за всеобщее счастье оборачивалась гонениями и смертями – тех самых людей, за счастье которых все и боролись. Как это так случается, понять было очень трудно. От всех этих мыслей впору было сойти с ума.
– Мамочка, пойдём домой, я кушать хочу! – вдруг произнесла её трёхлетняя дочь. Она не плакала и не капризничала, лицо её было серьёзно, глаза глядели совсем по-взрослому. От этого взгляда всё перевернулось внутри у Светланы. Она подхватила дочь, прижала к себе.
– Сейчас, милая, мы пойдём. Я тебя покормлю. Потерпи немножко. Сейчас…
И она направилась к ближайшим домишкам, подчиняясь слепому инстинкту, который гнал её к простым людям, не рассуждающим о высоких материях, а просто живущим, исполняющим свои немудрящие обязанности, – к тем самым, на которых и держится всё в этом мире.
Светлана приблизилась к крайнему дому и тихонько постучала в окошко с крашеными деревянными ставнями. На подоконнике за чистым стеклом стояла розовая герань в глиняном горшочке, и всё здесь было так тихо и спокойно, так по-домашнему, по-деревенски, что она позавидовала хозяевам. Вот как надо бы жить – где-нибудь на самой окраине, чтоб тишина и покой и никаких лозунгов, никакой погони за несбыточным счастьем. Счастье – вот оно – в этой тишине и незамутнённости, в косом солнечном свете, пробивающемся сквозь кроны тополей, счастье в придорожной пыли и в камнях, втоптанных в землю, оно – в петушиных криках, несущихся из разных концов теряющейся вдали улицы.
Занавеска отдёрнулась, выглянуло круглое лицо пожилой женщины. Секунда, и лицо исчезло.
Через минуту женщина вышла на улицу, на добром лице её читалась тревога.
– Чего тебе, милая? – спросила она прерывающимся от одышки голосом.
Светлана судорожно сжала руки.
– Нельзя ли у вас купить молочка? И поесть чего-нибудь… Дочка голодная, а я ничего, мне ничего не нужно, только бы дочку накормить. – И она опустила голову, словно была в чём-то виновата.
Женщина всплеснула руками.
– Заходите в дом, что ж вы стоите! Есть у меня и молоко, и творог, и сметанка домашняя. Сейчас, я мигом наведу. Самовар-то я уже поставила. Тебя как зовут, красавица? – вдруг обратилась к девочке. Та застеснялась, подняла руку и стала тереть кулачком правый глаз.
– Её Ланой зовут, – подсказала Светлана. – Это она стесняется. А так-то она у нас бойкая! Уже говорить умеет.
– А я Нина Мартемьяновна! Ты меня не бойся, я добрая, – сказала женщина и вдруг широко улыбнулась. Щёки волной ушли назад, широкие скулы натянулись, лицо сделалось ласковым и немножко смешным.
Девочка ещё ниже опустила голову и пробормотала:
– Я и не боюсь. Сами вы боитесь…
Добрая женщина открыла калитку, и все трое вошли во двор, где важно расхаживали куры, вдруг останавливаясь, поднимая ногу и кося одним глазом на гостей.
Через десять минут все трое сидели на кухне за квадратным столом, накрытым чистой белой скатертью. На столе была сметана в глиняном горшочке, слипшийся творог в глубокой тарелке, небольшие сдобные булочки с налипшим и подтаявшим сахаром, малиновое варенье в стеклянной розетке, сахар в пузатой сахарнице; тут же стоял блестящий самовар, от которого шёл густой пар, а рядом – фарфоровый заварничек со свежим чаем. Девочка за обе щёки уплетала булочку, макая её в сахар и заедая густой сметаной; перед ней дымился в большой фарфоровой кружке чай, который она осторожно прихлёбывала, наклоняясь и вытягивая губы. Кухонька была маленькая, с одним окном во двор и большой печью, возле которой лежали навалом берёзовые дрова и стояла в углу закопчённая гнутая кочерга. В углу висел цинковый умывальник, под ним стоял эмалированный таз на деревянной чурке. Тут же и мыло на деревянной подставке, на гвоздике – белый рушник.
Светлана незаметно осматривалась, а хозяйка деликатно молчала. Она уже поняла, что у этой женщины с печальным лицом случилось несчастье, и уже догадывалась кое о чём. Сколько она видела таких лиц за свою долгую жизнь – не счесть! И теперь ей не надо было ничего объяснять. Если гостья захочет – сама скажет, а с расспросами нечего лезть.
Так оно и случилось. Когда с булками и со сметаной было покончено и настала пора уходить, Светлана вдруг переменилась в лице, сделала порывистое движение. Выражение стало просительным и каким-то беспомощным. В глазах показались слёзы.
– Нина Мартемьяновна, – почти задыхаясь, начала она. – А нельзя ли тут где-нибудь снять комнату? Ненадолго, хотя бы на несколько дней, пока мы квартиру найдём… – И она опустила взгляд, застыдившись этой невольной лжи.
Женщина строго глянула на неё.
– А чего тут думать? У меня живите. Вон комната стоит пустая. Сын в ней жил. Уже второй год в армии служит. А комнате чего пустовать? Только пыль разводить. Живите, сколько нужно будет. И мне веселее. Где и по хозяйству поможете. Куры вон у меня. Петух по утрам надрывается на всю округу. Беда с ним!
Светлана вся вспыхнула, глаза её широко раскрылись.
– Правда? Можно у вас остаться?
– Конечно, можно. Я и денег с вас не возьму. – Хозяйка обиженно хмыкнула. – Чего ж мы, нехристи какие? Оставайтесь. Я ведь вижу – горе у тебя. Дочку мне твою жаль. Кабы не она… – Она махнула рукой и отвернулась.
Светлана опустила голову, стиснула зубы, чтобы не расплакаться.
– Спасибо вам, – едва проговорила. – Мужа у меня арестовали. А нас с дочерью из дома выгнали. И с работы уволили. Жить теперь негде. И денег у нас нет. Ничего нет…
Хозяйка внимательно слушала. Лицо её казалось строгим.
– Ты вот что, – взяла Светлану за руку, – живи тут, сколько потребуется. Я тебя не выгоню. А соседи будут спрашивать, говори, мол, племянница из Хомутово приехала погостить. Одежонку я вам справлю кой-какую. А если работать надумаешь, могу поговорить кой с кем. В клубе железнодорожников уборщица требуется. Вечером после сеанса вымыла полы – и свободна. Зарплата, правда, небольшая. И ходить далековато. Но ты молодая, сильная. Выдюжишь.
– А меня возьмут? – спросила Светлана, подняв лицо.
– Отчего же нет? – удивилась хозяйка. – А если и не примут, я сама оформлюсь, а ты работать будешь; деньги – все твои. У меня кассирша в клубе знакомая. Я попрошу её, она с завклубом поговорит. Поможет на первое время. А там, глядишь, и мужа твоего выпустят. И всё у вас наладится.
Светлана часто заморгала, на ресницах заблестели слёзы.
– Спасибо вам. Не знаю, что бы я делала, если б не вы. Это просто счастье, Бог меня услышал…
– Ну-ну, не надо. И не плачь понапрасну. Поди вон дочку переодень. Я тебе воды сейчас нагрею в тазу, помоешь её, а то она у тебя вся грязью заросла.
И она пошла к печке и стала укладывать дрова в топку.
– Я так и так уже топить собиралась. Ночи-то холодные стоят. Нынче до самой Троицы будут холода. Черёмуха ещё не зацвела, а как черёмуха отцветёт, так сразу тепло станет. Огород посеем, лучок будет свой, редиска, огурчики. Курочки будут нестись. Да и я ещё работаю пока. Ничего, проживём!.. – Она ещё что-то говорила, а сама привычно готовила растопку и закладывала её в печь. Поленья гулко бухали в пол, поскрипывала железная дверца, и уже потянуло горьковато-сладким дымом, затрещало и засипело в чёрном зеве. В кухне сразу стало уютнее, словно бы добавилось света. Светлана взяла дочку за руку и пошла в дальнюю комнату, где уже вовсю светило в окно утреннее солнце, отражаясь на круглых никелированных спинках железной кровати, укрытой толстым покрывалом с тремя положенными друг на друга подушками – совсем по-деревенски, по-старинному. Светлана вспомнила своё родное село и почти такой же дом – с приземистой печкой и крошечными комнатками. Точно так же пел петух по утрам и солнце косо светило в окно. Воспоминание придало ей уверенности. Как бы там ни было, а жить надо было – несмотря ни на что.
Ровно через неделю, вечером второго июня, Светлана первый раз отправилась мыть полы в местный клуб железнодорожников. День был тёплый, солнечный, и хотя путь был неблизкий, но зато всё время под гору – до места она добралась всего за двадцать минут и сразу же приступила к работе. Ей дали швабру с тряпкой и мятое ведро. А ещё – тёмный застиранный халат. Засучив рукава, она принялась за работу и за два часа вымыла большущий кинозал с двадцатью рядами стульев, коридор, фойе и кассовый зал. Под конец она очень устала, но и гордилась собой, что сдюжила, всё сделала как надо. Заведующий клубом – усатый, со впалыми щеками немолодой мужчина – вышел из кабинета посмотреть на её работу, молча наблюдал с минуту, потом повернулся и ушёл, так ничего и не сказав. Светлана перевела дух: она уже знала, что на работу её не взяли и она теперь моет полы за какое-то третье лицо. Но деньги ей были обещаны, за это поручилась хозяйка.
А хоть бы ей и не заплатили – это уже было неважно. Главное – у них с дочерью был теперь свой угол, где они чувствовали себя в безопасности. И если бы вдруг вернулся Пётр Поликарпович, а Светлане сказали бы, что она теперь всегда будет жить в этом доме на краю города и каждый день мыть полы в местном клубе, то она почла бы это за великое счастье! Ей уже не нужна была роскошная четырёхкомнатная квартира в центре города с горячей водой и телефоном, не манили Чёрное море и Южный берег Крыма, и продуктовые деликатесы (вроде буженины и шоколадных конфет) её не прельщали. Она теперь точно знала, что счастье человеческое зависит от чего-то другого, но не от конфет, не от горячей воды, и даже не от почитания со стороны соседей и знакомых. Совсем нет! Оказывается, можно быть простой уборщицей, жить в деревенской избе и при этом чувствовать себя счастливой. Только бы отпустили Петю – ничего ей больше в жизни не надо! Как, оказывается, всё просто! Как мало нужно человеку для счастья! Жить так, как ты хочешь – вот и вся премудрость. И ещё – чтобы никто не лез в твою жизнь, не стучался за полночь в квартиру, не забирал близких тебе людей. Но какая-то дьявольская сила не позволяла людям жить так, как они этого хотят. Злая сила гнала людей из дома, лишала их самого дорогого. Что это была за сила? Где её истоки и когда была допущена ошибка, с которой всё началось?.. Светлана думала об этом бессонными ночами, но ничего не могла придумать. Это было выше её разумения. Твёрдо знала лишь одно: Петя её ни в чём не виноват и рано или поздно это выяснится. И ещё она должна спасти дочь. Это её последнее предназначение на земле. Когда дочь вырастет, тогда можно будет и умереть. Но пока что она будет жить и бороться за это крохотное существо – в память о муже и как тайный зарок, как душевная клятва. Не дать погаснуть живой искорке в беспредельности Вселенной. Миллионы веков пройдут, но другой такой Ланочки уже не будет. И её самой тоже не будет. И Петра Поликарповича не будет. Ничто и никогда не повторится. Всё в этом мире происходит лишь однажды и имеет вид окончательного и единственного решения. Поэтому нужно беречь жизнь – во всех её проявлениях. Беречь назло жестокой бездушной силе, захватившей мир, назло отчаянной борьбе всех со всеми. Чем безжалостнее обстоятельства, тем отчаяннее нужно бороться за жизнь, за тепло человеческой души! Ничего другого придумать невозможно, потому что это и есть главный закон жизни. А если бы жизнь не боролась сама за себя, она давно бы уже прекратилась или вовсе не возникла, не проклюнулась бы из тьмы небытия. Всё это не поняла, но почувствовала Светлана. Высшая мудрость пришла к ней словно бы ниоткуда, снизошла как наитие – укрепила её дух, придала уверенности и сил. Подобные прозрения случаются в минуту смертельной опасности, когда жизнь висит на волоске, а душа заглядывает в бездну. Не всем удаётся удержаться на краю. Но тем сильнее и крепче становится человек, избежавший падения и сохранивший в себе божественное пламя.
Потянулись дни и недели жаркого лета тридцать седьмого года. Светлана шесть раз в неделю ходила по вечерам в железнодорожный клуб мыть полы, а дочь её весь день играла на дворе, ходила в огород и подолгу рассматривала стебельки лука и тёмно-зелёные листья нарождающейся капусты, опасливо косилась на жучков, с трудом поднимающихся по раскачивающимся стеблям. Рядом квохтали куры, взлаивали собаки на дальних огородах, с неба то сыпался тёплый дождичек, то ярко светило солнце, и всё вокруг словно бы застыло в прекрасной летней безмятежности. Нина Мартемьяновна заботилась о девочке, как о родной. Каждое утро пекла вкусные булочки и обильно посыпала их сахаром. Тяжко вздыхала, глядя, как Ланочка весело жуёт булку со сметаной, болтая ногами и крутя головой. Она всё уже знала об этой семье. Понимала, что утешить их нечем. Сколько слышала она об арестах от знакомых и соседей – никто ещё не вернулся домой. А бывало так, что забирали целыми семьями. Сегодня – мужа, а завтра приходили за женой. Плачущих детей тоже куда-то увозили, никто их больше не видел и ничего про них не знал. Окна и двери заколачивали досками, и так они стояли, зарастая крапивой, пугая соседей и наводя тоску на случайных прохожих.
Светлана несколько раз тайком пробиралась в город. Замирая от страха, добрых полчаса шла по чугунному мосту через Ангару, торопливо спускалась с моста по каменным ступеням и углублялась в кривые прибрежные улочки, где прямо у воды теснились потемневшие от времени деревянные дома и покосившиеся заборы. Знакомых в городе у неё было много, но вдруг выяснилось, что почти все двери для неё теперь закрыты. Иных арестовали, другие перепугались насмерть, а до третьих было не достучаться, они ни о чём не хотели знать и заботились лишь о собственном покое. Но были и такие, кто бросал ей в лицо обидные упрёки, называл её «потатчицей» и открыто радовался, что мужа её «вывели на чистую воду», а её саму выставили вон. После таких слов Светлана шла прочь, не помня себя, не понимая, что с ней, пока, опомнившись, не останавливалась посреди улицы, испуганно озираясь и пытаясь понять, где это она очутилась.
Ничего хорошего ей эти походы не принесли. Она не узнала ничего нового или обнадёживающего. Хотя нет, новости были – но такие новости, про которые лучше было и не знать. В первый день лета, в воскресенье, был арестован первый секретарь обкома товарищ Разумов (которого она немного знала и никак не могла подумать, что он может быть замешан в чём-то предосудительном). Через четыре дня взяли его заместителя Коршунова. Ещё через неделю сняли с должностей первого секретаря обкома комсомола Захарова и первого секретаря горкома комсомола Игнатова (этих она частенько видала на митингах и праздничных концертах). Пятнадцатого июня арестовали начальника Восточно-Сибирского речного пароходства и двух его помощников. Двадцатого июня был снят с должности и арестован председатель облисполкома товарищ Пахомов…
Аресты шли плотной чередой, без продыху. И люди-то какие! Никак нельзя было предположить в них террористов и вредителей. Ну зачем, спрашивается, первому секретарю областного комитета партии, у которого вся власть в руках и куча привилегий, – плести какие-то заговоры, вредить родному государству и свергать советскую власть? Ту самую власть, которая так много ему дала, подняла на самый верх служебной лестницы! Это был полный абсурд, неимоверная чепуха! И зачем террористам устраивать ещё и экономические диверсии? Ведь если они замыслили убить товарища Сталина и устроить государственный переворот, так зачем тратить силы на дезорганизацию работы какой-нибудь чаеразвесочной фабрики или взрывать угольную шахту где-нибудь в Кузбассе? Во всей мировой истории такого не было. Уж что-нибудь одно – или кровавый террор, или экономический саботаж. Не могут одни и те же люди быть одновременно отъявленными убийцами и мелкими пакостниками! Это противоречило обычному здравому смыслу. Но с конца прошлого года в обиход вошло это страшное слово – «вредитель»! Признать человека вредителем означало подписать ему смертный приговор. И людей стреляли – сотнями и тысячами – по всей стране. Центральные и местные газеты каждый день печатали разоблачительные статьи, клеймили «подлых врагов народа», призывали «доблестные органы НКВД выжечь заразу калёным железом».
Тринадцатого июля вдруг арестовали редактора газеты «Восточно-Сибирская правда» Евгения Шапиро, статьи которого отличались особой нетерпимостью ко всей этой «мрази». Но ничего от этого не изменилось. Через день в той же газете появилась очередная статья, где врагом и мразью объявлялся сам Шапиро. И все восприняли это как должное, как очередную победу в кромешной борьбе с ненавистным врагом. Каждый божий день в городе проводились шумные митинги. Трудовые массы горячо поддерживали борьбу с вредителями и требовали для них смертной казни. Так и кричали прямо из толпы: «Расстрелять!», «Смерть мерзавцам!» «Уничтожить этих собак!» Тут же рядом стояли с помертвевшими лицами матери и жёны всех этих «собак» и «мерзавцев». Уста их были запечатаны. Им было безумно страшно, они боялись этой толпы, неистовства вчерашних товарищей и соседей, которые совсем недавно смеялись и шутили в своём кругу, казались приятными и добрыми людьми. А теперь вон так получилось, что это вовсе и не люди из обычной плоти и костей, но это пламенные борцы, сделанные из цельного куска металла; внутри у них горит испепеляющий огонь, а с уст срываются беспощадные слова, от которых хочется бежать без оглядки.
Светлана как огня боялась всех этих сборищ полупомешанных людей. Она видела, что происходит нечто такое, чему нет разумного объяснения. Случился массовый психоз – в масштабах всей страны! Мелькала страшная догадка: а что, если бы Петю не арестовали и они жили теперь в своей уютной квартире, – не ходила бы она сама на все эти митинги и не требовала бы смерти для подлых врагов советской власти, не ставила бы подписи под гневными петициями? Ведь она свято верила газетам и в глубине души допускала, что враги советской власти всё же могут затаиться среди трудового народа! Совсем недавно закончилась Гражданская война, а теперь во всём мире идёт бескомпромиссная борьба систем и идеологий; в Германии к власти пришёл бесноватый фюрер, а буржуазная Европа только и ждёт, когда рухнет советская власть, и на рабочего человека снова наденут железное ярмо и станут драть с него три шкуры! Как же при этом не быть врагам внутри страны? Не всех буржуев ещё уничтожили, не всех белогвардейцев осудили за их зверства! Где-то же они прячутся, пакостят своему народу! Как же их отличить от честных людей? И как заставить миллионы обывателей окончательно поверить в советскую власть, чтобы они перестали сомневаться и работали так, как работали на буржуев, и даже лучше? Не проще ли расстрелять каждого десятого, как это делали римские легионеры? Зато оставшиеся отринут сомнения и сделаются верными сынами своей великой Родины?..
Это были непростые вопросы. И если отвечать на них честно и до конца, то, быть может, и в самом деле – не стоило дальше жить. Потому что всё вокруг – неправда, всё – не так, как она думала, к чему стремилась, о чём мечтала в юности.
Так мучительно прозревали простые советские люди. Жёны и матери арестованных – путём трудных размышлений и сопоставлений. А сами арестованные чувствовали всё на собственной шкуре, следовательно, понимали всё гораздо быстрее, полнее и глубже. И лишь те, кого ещё не коснулась волна репрессий ни прямо и ни косвенно, лишь они оставались в блаженном неведении, продолжали верить, что вокруг них заклятые враги, с которыми героически борются мужественные чекисты и верховный вождь (сотворённый из стали на погибель врагам). Чекисты – сплошь херувимы, готовые положить жизнь за общее дело, люди с горячими сердцами и чистыми руками, знатоки искусств и борцы со вселенским злом. Зато вредители – законченные подонки, без чести и совести, уникальные подлецы, от деяний которых стынет в жилах кровь.
В эти страшные годы были в России поэты, видевшие правду и имевшие смелость называть вещи своими именами, бросавшие вызов безжалостному тирану. Таковые и всегда бывают – в любую эпоху и в любой стране. Голос их поначалу не слышен, борьба кажется лишённой всякого смысла. Но вот же чудо! – пламенные строчки Анны Барковой пережили все эти лагеря, садистов и палачей. Невесомые строчки остались запечатлёнными на скрижалях Вечности, откуда их уже никто не сотрёт. Теперь они вечно будут свидетельствовать против зла и неправды:
Накричали мы все немало Восхвалений борьбе и труду. Слишком долго пламя пылало, Не глотнуть ли немножко льду? Не достигнули сами цели И мешаем дойти другим. Всё горели. И вот – сгорели, Превратились в пепел и дым. Безрассудно любя свободу, Воспитали мы рабский род, Наготовили хлеба и мёду Для грядущих умных господ. Народится новая каста, Беспощадная, словно рок. Запоздалая трезвость, здравствуй, Мы простёрты у вражеских ног.Если бы Светлана Александровна знала стихи своей ровесницы (отбывавшей в тот год свой первый срок в Карлаге), то ей, наверное, стало бы легче. Она бы не чувствовала себя такой одинокой, не думала, что сходит с ума. Но она этих строк не знала и знать не могла. Советская власть рьяно блюла свои интересы. Любое слово правды, едва вырвавшись из придушенных уст, тут же и глохло. Человек, осмелившийся сказать слово правды, немедленно уничтожался, попадая в чудовищные жернова, бесчувственно перемалывавшие слабую человеческую плоть со всеми её болями и прозрениями. Всё искреннее и честное гибло на корню в эти страшные годы. Но сокровенная правда, её сокровенная суть всё же оказалась неуничтожимой, как это и бывало во все времена.
Пётр Поликарпович все летние месяцы тридцать седьмого безвылазно сидел в своей камере. На допросы его не вызывали и ровно ничего не сообщали – ни хорошего, ни дурного. Он радовался этому, в душе понимая, что может не выдержать допросов «с пристрастием», результаты которых он видел воочию каждый день. Но порой у него вспыхивала безумная надежда, что всё ещё образуется, а правда восторжествует, его выпустят на волю и всё будет как прежде. Вот только соседи у него на глазах превращались в инвалидов, души их были искалечены, воля сломлена, разум подавлен страшной действительностью. Большинство их подписало признательные показания (признавались не столько от кровавых избиений, но в неминуемой уверенности в том, что арестуют их близких – в эти угрозы следователей верили безоговорочно). Все признавшиеся подлежали немедленному расстрелу – большинство расстреливали здесь же, в специальном бункере внутренней тюрьмы УНКВД, остальных увозили в городскую тюрьму на улицу Баррикад, где точно так же стреляли из вальтеров в затылок и под покровом ночи увозили на грузовиках за город, на «Дачу лунного короля», в живописное местечко, откуда открывался роскошный вид на синеющую вдали Ангару и вековой лес. Пётр Поликарпович смутно догадывался о происходящем. Его догадки неожиданно подтвердил охранник – молодой красноармеец, раздававший по утрам миски с баландой. Однажды он тронул Петра Поликарповича за плечо, когда тот поставил пустую миску на железный поднос и уже повернулся уходить.
Пётр Поликарпович оглянулся. На него пристально смотрел высокий белобрысый парень. Лицо его казалось знакомым.
– Вы меня не помните? – спросил тот.
Пётр Поликарпович отрицательно качнул головой.
– Я Лёшка. Сын Николай Иваныча! – вполголоса сообщил тот и быстро окинул камеру цепким взглядом. Убедившись, что никто не слышит, сказал приглушённо: – Постарайтесь тут подольше задержаться. Не подписывайте ничего! Всех подписавших признание переводят на пятнадцатый пост и там расстреливают. А могут и здесь шлёпнуть. Камеры переполнены, вот и стараются. Я-то знаю, что вы ни в чём не виноваты, мне отец про вас рассказывал. Только не говорите об этом никому, а то мне попадёт. – И, не дождавшись ответа, громко закричал: – Давай пошевеливайся. Не задерживай миски, соседние камеры тоже хотят жрать … – И вышел, захлопнув железную дверь.
Пётр Поликарпович некоторое время продолжал стоять не оборачиваясь. Сзади копошились сокамерники, о которых он почти ничего не знал. Сказать им о том, что все они скоро умрут, он не решился. Им бы это не помогло. И нельзя было подводить этого парня. Трудно было понять, зачем он рассказал всё это Петру Поликарповичу. Видно, осталось в душе его сострадание. Хотя что толку от его сострадания, если он послушно исполнял свою роль и ничему не противился.
Но иногда случались и «откровения» совсем иного свойства. Однажды Пётр Поликарпович разговорился с молодым мужчиной – бывшим бухгалтером иркутского дрожзавода. Это был очень спокойный человек с тонкими чертами лица и мечтательными глазами. Он говорил тихим голосом, глядя в сторону и как бы размышляя про себя. Как и все тут, он был ни в чём не виновен, но сразу подписал протокол с признанием своей вины – ради молодой жены и двенадцатилетнего сына. В прошлом году сильно простудился и умер от пневмонии другой его сын – младшенький. Они тогда пережили с женой такое горе, какое не выразить в словах. И он и помыслить не мог о том, чтобы его второй сын остался сиротой, а ещё не отошедшая от горя жена вдруг оказалась в тюрьме и с ней стали бы делать то же самое, что и с ним, а может, чего и похуже (на что с ухмылкой намекал следователь). Пусть уж умрёт он один. «Так будет лучше, – несколько раз повторил он, пристально глядя в угол камеры и едва заметно покачиваясь. – Мне уже тридцать девять лет. Я достаточно пожил, ну и довольно!»
Когда Пётр Поликарпович поинтересовался, за что его арестовали, тот ответил с милой улыбкой, что он японский шпион.
– Вот как? – удивился Пеплов. – Значит, вы добывали сведения для японских самураев? Что же их заинтересовало в нашем краю?
– Я так полагаю, они хотели устроить диверсию на нашем дрожжевом заводе. А я собирал для них информацию, только вот ещё не придумал, какую. Я ведь плохо знаю технологию производства. Так, в самых общих чертах. Моё дело – учёт и нормирование сырья, расчёт себестоимости конечной продукции, подготовка ведомостей на выплату зарплаты.
– А с японцами о чём говорили? – спросил Пётр Поликарпович.
Мужчина повернул голову, в первую секунду не поняв вопроса. Потом ответил:
– Вот это самое слабое место в моих показаниях. Ведь я не видел за всю свою жизнь ни одного японца, никогда не был в Японии, не знаю ни одного японского слова. И честно говоря, сильно сомневаюсь, что в Японии знают, что такое русские дрожжи. Хотя, может быть, и знают. Они ведь из чего-то пекут там у себя свой хлеб, или как он там у них называется?
Пётр Поликарпович слушал и не верил. Какая-то нелепица. Перед ним сидел умный интеллигентный человек в дешёвеньком костюме и рассказывал про себя небылицы, которым мог поверить разве что семилетний ребёнок. Однако судьба его уже была решена. Вину свою он признал, дни его были сочтены. Мысленно он уже простился со своим двенадцатилетним сыном и двадцатидевятилетней женой. Сыну предстояло пополнить ряды «безотцовщины» и прожить всю жизнь с клеймом сына врага народа. А жена его так больше никогда не вышла замуж, потому что ей (как и всем другим жёнам) не сказали, что мужа её расстреляли через четыре месяца после ареста. Вместо этого ей выдали справку о том, что муж её осуждён на десять лет без права переписки. И она ждала его все эти десять лет и потом ещё много лет ждала, пока не выяснилось, что всё это обман, а мужья и братья давно уже лежат в могиле – тут же, сразу за городом, на «Даче лунного короля». Но всё это было впереди. А пока что молодой, полный сил мужчина, рисовавший на досуге недурные акварели и боготворивший Тютчева, сидел сгорбившись в переполненной камере и ждал, когда его поведут на расстрел. В такую-то минуту кто-то произнёс из угла грубым голосом:
– Вот из-за таких Иван Иванычей мы тут и сидим! Фашисты проклятые! Давить вас всех надо!
Пётр Поликарпович сначала не понял, что всё это относится к нему и его собеседнику.
– Что вы сказали? – произнёс, обернувшись.
– А что слышал! Гады вы все, давить вас надо. Из-за вас и мы тут сидим. Ну ничего, скоро во всём разберутся, получите по заслугам!
– Почему это вы сидите из-за нас? – стараясь сохранить спокойствие, спросил Пеплов. Собеседник его тоже обернулся и с любопытством смотрел в угол, где ворочался здоровенный парень с круглым и злым лицом. Видно было, что парень «из простых» – может, даже из деревни. Хотя это вряд ли. Деревенский не стал бы качать права. Значит, местный, из какого-нибудь депо. Этакая дубина стоеросовая, великовозрастный болван, так ничего и не успевший понять.
Но Пётр Поликарпович не угадал. Парень был обычным уголовником. Взяли его на краже и вменяли теперь пятьдесят восьмую статью – саботаж. Такой расклад его никак не устраивал. Сидеть в тесной камере в компании с «контриками» он не хотел. Вот и не выдержал.
– Вот погодите, – грозил он. – Попадёте в лагерь, там вас научат жизни. Будете ходить по струнке, научитесь любить советскую власть!
Бухгалтер перевёл взгляд на Пеплова и улыбнулся. Судьбу свою он знал, никакой лагерь уже не мог его напугать. Ему хватило ума понять бесполезность спора с этаким болваном. Но Пётр Поликарпович принял всё это близко к сердцу. На беду свою (или к счастью?), он никогда не имел дела с уголовниками. По крайней мере, в такой вот обстановке. Попадись ему этот субъект в партизанском отряде, он бы его хвалил за смелость и решительность в бою. И такие типы там были. Но вот ситуация изменилась, и смелый, решительный боец вдруг обратился в тупого озлобленного детину, от которого можно ждать любой мерзости.
– Простите, а вы за что сюда попали? – проговорил Пётр Поликарпович с достоинством.
– Не твоё дело! – огрызнулся детина. – Сиди там, пока я тебя в парашу головой не засунул.
Пётр Поликарпович решительно поднялся. Но его опередили. Произошло какое-то движение, глухой удар, судорожный всхлип, и детина вдруг захрипел, повалился на пол. Он извивался, силясь протолкнуть в себя воздух и крепко держа себя за горло. Было такое впечатление, что он сам себя душит, извиваясь и утробно рыча. Над ним неподвижно стоял, скрестив руки на груди, черноволосый мужчина. На лице его было написано презрение; глаза словно бы застыли. От всего его вида веяло силой и непреклонностью, хотя он был обычной комплекции и среднего роста.
– Вот так, – проговорил он с удовлетворением. – Будет знать своё место.
Пётр Поликарпович кивнул на детину.
– Это вы его ударили? Ловко. Сразу видно человека бывалого.
– Не будет языком трепать почём зря, – не поворачивая головы, ответил мужчина. Помолчал немного и добавил: – Дай ему волю, он бы всех нас отправил на тот свет. Такая же падаль сидит теперь там, в кабинетах, и решает нашу судьбу! – Он выразительно кивнул на потолок. – Я лично не жду для себя ничего хорошего. Пощады нам не будет. Но и спуску я никому не дам! – Сказав это, он шагнул обратно в угол, сел на нары и замолчал. А поверженного парня через некоторое время уволокли за руки из камеры. Что там было с ним дальше, никто не знал. Да это никого и не интересовало. В этот же день, вечером, увели на допрос и черноволосого мужчину, учинившего столь молниеносную расправу. Он вышел молча, ни с кем не попрощавшись, даже не кивнув. Видно было, что к сантиментам он не склонен и готов ко всему. Пётр Поликарпович жалел потом, что не спросил, кто он и как сюда попал. Он так и не узнал, что сидел в одной камере с бывшим колчаковским офицером – Лесковым Виктором Ивановичем. В девятнадцатом году Пётр Поликарпович, будучи в партизанском отряде, воевал против Виктора Ивановича, сначала убегал от него, а затем гонялся по тайге за отступающими белогвардейцами. Если бы Пеплов попался Лескову в руки, то, скорее всего, был бы расстрелян. А если бы Виктор Иванович попался в руки партизан, так тут и гадать не надо – его бы точно укокошили, а то бы сотворили кое-что и похуже (красные партизаны предпочитали вешать колчаковских офицеров, а иногда даже прыгали сзади на только что вздёрнутого человека и раскачивались вместе с ним на верёвке, пока повешенный страшно пучил глаза и дёргался в чудовищных конвульсиях, испытывая невыносимые страдания; впрочем, всё это длилось недолго. Отсмеявшись, шутники быстро забывали об этой забаве и принимались, как ни в чём не бывало, лузгать орехи). Да, жестокое это было время! Но вот теперь бывшие враги оказались в одинаковом положении, в одной камере, без различия боевых заслуг, социального происхождения, образования и каких угодно соображений. Оно и хорошо, что Пётр Поликарпович не узнал в этом человеке своего бывшего врага. Оптимизма бы ему это знание не прибавило.
Через эту одиночную камеру проходили самые разные люди. Были тут бородатые колхозники с двумя классами образования, смотревшие настороженно, с тупым выражением на одутловатых лицах. Были рабочие в мятых тужурках и в сапогах. Были железнодорожники, державшиеся независимо, особняком. Были речники, также чувствовавшие тайное превосходство над всеми остальными. Попадались люди с высшим образованием, интеллигенты и эстеты, а были вовсе безграмотные (не способные даже понять, в чём их обвиняют, путавшие эсеров с меньшевиками, троцкистов с кадетами, монархистов с интернационалистами и по темноте своей считавшие тех же троцкистов едва ли не оборотнями, вампирами, кровопийцами и людоедами – в самом прямом смысле этих понятий; когда следователь предлагал им назвать пятьдесят членов троцкистской террористической организации, образовавшейся в их колхозе (посёлке, на полевом стане), они лишь пучили глаза и отвечали невпопад, почти как чеховский злоумышленник, никак не желавший понять, в чём его обвиняют; следователи очень не любили такой контингент: всё за них приходилось делать самому – выдумывать несуществующие преступления, сочинять целый детектив со множеством участников, и чтобы всё это имело хоть какое-то подобие правды). А однажды в камеру втолкнули священника в чёрной рясе и с белой окладистой бородой. И почти сразу за ним – бурятского ламу, тоже с бородой и в малгае. Пётр Поликарпович смотрел на них с изумлением, как бы не веря, что он – советский писатель и ярый безбожник – сидит теперь в одной камере с такими необыкновенными людьми. Хоть он и не верил в Бога, а над верующими открыто смеялся, но теперь, увидев так близко вполне реальных служителей таинственного культа, был потрясён. Он не мог поверить, что эти загадочные люди будут спать на грязных нарах, будут хлебать мутную баланду из сальных мисок и пользоваться стоящей здесь же парашей – прямо у всех на виду. Сами священники казались совершенно равнодушными к происходящему. Один всё время что-то бормотал, едва шевеля губами и глядя прямо перед собой. Другой сидел неподвижно, уставившись в пустоту, в то время как руки его перебирали чётки из потемневшего дерева – очень медленно, словно бы нехотя, независимо от сознания. К ним никто не подошёл, не задал обычных вопросов. За всё время пребывания в камере оба священника не произнесли ни единого слова. На третий день обоих увели, одного за другим. И как всегда, никто ничего о них так и не узнал. Всё было шито-крыто. Советская власть ревниво прятала от посторонних глаз свои деяния. В очередной раз торжествовал старый иезуитский принцип, согласно которому цель оправдывает любые средства к её достижению.
Так шли дни за днями, тянулись недели, и целые месяцы уходили в прошлое, становясь вехами и метками на историческом пути. Огромная страна жила в подавляющем душу страхе, пребывала в полуобморочном состоянии. Нигде нельзя было укрыться от смертельной опасности. Да никто и не пытался спрятаться или убежать, ведь никто не знал за собой никакой вины! С какой стати обыкновенному человеку вдруг срываться с годами насиженного места, бросать свой дом, семью и бежать очертя голову за тридевять земель? Если бы он точно знал, что его арестуют – даже и тогда он бы десять раз подумал, прежде чем решиться на побег. Ведь тогда арестуют его близких, а это ещё страшней. Бежать вместе с семьёй было невозможно. Внутри государства спрятаться было негде (разве что в глухой тайге, на какой-нибудь заимке у старообрядцев-раскольников; но попробуй найди их среди тысячевёрстной тайги!). А за попытку незаконного пересечения государственной границы очень просто давали расстрел (по недавнему постановлению ВЦИК, приравнявшему такую попытку к полновесной измене Родине; да и как же иначе? Те же иезуиты давно открыли эту удивительную по своей глубине истину: кто не с нами, тот против нас! – а значит, стреляй любого, кто хочет покинуть любимую социалистическую Родину!). Жители деревень, у которых не было даже обычного паспорта (с таким пафосом воспетого Маяковским), вовсе были бесправны, не могли выехать без разрешения сельсовета даже за пределы своего района. Вот и шли на заклание целые сословия (и целые народы!) самого передового советского социалистического общества. Без всякого сопротивления оглушённые несчастьем люди садились в зловещие воронки (и в наспех оборудованные вагоны) и уезжали в неведомые дали, чтобы больше уже никогда не вернуться, не увидеть родных глаз, не вдохнуть аромат земли, на которой сделал первые шаги и впервые произнёс слово «мама». Ни те, кого забирали, ни те, кто оставался дома, не верили, что всё это навсегда! Думали: всё выяснится на следующий день, мужей и сыновей отпустят, они вернутся в семьи и снова будут работать, воспитывать детей, верить в светлое будущее и бодро распевать вместе с советской кинодивой Любовью Орловой:
Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек! Я другой такой страны не знаю, Где так вольно дышит человек.Ах, как хотелось верить, что всё и на самом деле хорошо, что всем людям живётся весело и дышится привольно, что каждый человек безмерно дорог родному государству и что он не винтик, не тварь дрожащая, но право имеет – хотя бы на то, чтобы его не отнимали среди ночи от семьи, не обрекали на позорную смерть и забвение, не бросали под покровом ночи в тридцатиметровый ров, в гигантскую кучу из окровавленных тел с простреленными головами и проткнутыми трёхгранными штыками телами. Но веры было всё меньше. Веру заменял всепроникающий страх. На страхе держалось буквально всё в Советском государстве. Кто этого ещё не понял, тому предстояло понять. А кто понял и успел приспособиться – такому было счастье – до известной поры. Потому что полностью приспособиться было невозможно. От смерти не был застрахован никто. Это и было тем единственным откровением, которое явило изумлённому миру государство рабочих и крестьян.
Пётр Поликарпович начал понемногу привыкать к своей новой жизни. Ему стало казаться, что про него попросту забыли – и хорошо, что так! Точнее, не хорошо, конечно же, но и не страшно. Всё вокруг двигалось и менялось, люди приходили и уходили, подписывали протоколы после жутких избиений, стонали во сне и проклинали судьбу, а он всё жил этой странной жизнью – никому не нужный, всеми забытый. Трижды в день он получал свою пайку и механически её съедал. Лежал на нарах, когда это было можно. Ходил из угла в угол (если позволяла обстановка). О чём-то думал, чего и сам не мог потом припомнить. Мысленно разговаривал с женой и дочерью. Часто видел их во сне – счастливых, смеющихся. И сам смеялся во сне, так что слёзы бежали из глаз. Проснувшись, он чувствовал эти слёзы на щеках и на губах, не хотел верить, что он в душной камере, а не там, где его семья, где радостно светит солнце и люди могут свободно ходить по цветущему лугу.
Но всё когда-нибудь заканчивается, и хорошее, и плохое. Пятнадцатого сентября Петра Поликарповича неожиданно вызвали на допрос. Сердце его вдруг забилось, ему сделалось жарко. Он поднялся на разом ослабевших ногах и пошёл вслед за конвоиром. Они шли по гулким коридорам, по лестницам и этажам, где всё так же сновали военные с непроницаемыми лицами и уверенной поступью и где решалась судьба сотен и тысяч людей – таких, как Пётр Поликарпович, как Левантовский и как тот бухгалтер с дрожзавода, продавший коварным японцам секреты русской закваски и при этом носивший десятый год один и тот же потрёпанный костюм. Зато военные щеголяли в начищенных хромовых сапогах, в отличных гимнастёрках и кителях, на правом боку – портупея, в которой тяжёлый пистолет, а слева, под рёбрами, – горячее мужественное сердце, про которое так хорошо сказал однажды Железный Феликс. Ввиду всего этого поневоле почувствуешь себя какой-нибудь тварью, ни на что не имеющей права, окромя пули в лоб или оплеухи промеж глаз.
С таким настроением Пётр Поликарпович зашёл в кабинет следователя.
К своему удивлению, он увидел за столом не капитана Рождественского (от которого не ждал ничего хорошего), а другого человека – невысокого, полноватого, с круглым лицом и масляными глазками; короткие чёрные волосы его казались мокрыми и были зачёсаны назад. Волосы казались издали стеклянными, и сам он походил на куклу. Вставляй сзади ключ – и та задвигается, заговорит, будет хлопать ресницами и выказывать любопытство, удивление, заинтересованность… Пётр Поликарпович усмехнулся своим мыслям. Сделал два шага и сел на предложенный стул. На него вдруг снизошло удивительное спокойствие. Ещё ничего не было сказано, а он уже знал, что в судьбе его произошла счастливая перемена. Другой следователь – вот он, добрый знак! Этот не будет кричать на него и уж тем более не станет бить смертным боем. Это Пётр Поликарпович почувствовал сразу – обострённой интуицией униженного, втоптанного в грязь человека.
Первые же слова, сказанные следователем, подтвердили эту счастливую догадку.
– Пётр Поликарпович, – начал тот проникновенным голосом, – вашим делом теперь буду заниматься я, лейтенант Исаков. Надеюсь, мы с вами найдём общий язык. Я уже ознакомился с вашей биографией и протоколами допросов. Признаюсь, не часто приходится иметь дело со столь образованными людьми. Ведь вы писатель?
Пётр Поликарпович неуверенно кивнул.
– Был когда-то, – произнёс хрипло.
– Почему же были? Я не сомневаюсь, что вы и сейчас можете написать отличную книгу.
Пётр Поликарпович пристально посмотрел на следователя.
– Вы это серьёзно говорите?
– Конечно! Я уверен, что вы ни в чём не виноваты и стали жертвой оговора. И мы должны сделать всё, чтобы вы как можно скорее оказались на свободе. – Всё это следователь проговорил без пауз, продолжая улыбаться и сладко смотреть на Пеплова масляными глазками.
В первую секунду Пётр Поликарпович не нашёлся, что ответить. Потом словно бы поперхнулся и задал вопрос, от которого бешено застучало сердце.
– Вы хотите меня отпустить? – спросил он глухо и, не выдержав страшного напряжения, отвёл взгляд. Дыхание его прерывалось, он почти задыхался.
– Да, хочу! – твёрдо ответил следователь. – Но пока что это невозможно.
– Почему? – пытаясь унять волнение, тихо произнёс Пеплов.
– Это не так просто сделать, – со вздохом молвил следователь. Откинулся на спинку и, сделав озабоченное лицо, стал перечислять: – Ваши подельники уже осуждены и большей частью расстреляны. Капитан Рождественский разоблачён как враг народа, арестован и даёт признательные показания. Все его дела подлежат пересмотру, в том числе ваше. Но для вашей реабилитации нужны твёрдые основания. Хотя вы и не признали своей вины, но ведь остались показания ваших бывших подельников. Ваши товарищи из писательской организации характеризуют вас далеко не лучшим образом. Ну и сами вы были небезупречны в своих показаниях. Я тут читал и удивлялся. Вы показали во время одного допроса, что поначалу сомневались в правильности политической линии нашей партии, сочувствовали троцкистам, публично выражали своё несогласие и всё такое. Это, согласитесь, тревожные симптомы. За такие вещи вполне можно схлопотать реальный срок.
Пётр Поликарпович сделал удивлённое лицо.
– Я что-то не пойму вас. Вы только что сказали, что я ни в чём не виноват, и тут же утверждаете, что я могу получить реальный срок.
Следователь навалился на стол, положив перед собой холёные руки.
– Я сказал только то, что я лично не верю в вашу виновность. Но это совсем не значит, что со мной согласится Особое совещание в Москве. Если я сейчас передам ваше дело в суд, как оно есть, то вас, без всякого сомнения, осудят по пятьдесят восьмой статье. Скажу вам прямо: никто не будет вникать во все обстоятельства расследования. На это просто ни у кого нет времени. Всё будет зависеть от итогового заключения. Вот как я напишу, так оно и будет! – сказал он и откинулся на спинку, проверяя впечатление от такого известия.
Пётр Поликарпович всё больше мрачнел. Надежда, было вспыхнувшая, быстро угасала. Он почувствовал подвох, но пока не мог понять, в чём тут дело. Впрочем, всё разрешилось тут же. Следователь выдержал эффектную паузу и, сочтя её достаточной, выложил свой главный козырь, на который возлагал надежду:
– Предлагаю вам компромисс, Пётр Поликарпович. Вы поможете мне, а я помогу вам. И мы расстанемся как добрые друзья. Вы вернётесь домой, будете опять писать свои книжки и ездить на рыбалку, а мы тут будем разбираться с подлинными врагами советской власти, которых, могу вас заверить, очень и очень много.
– Чем же я могу вам помочь? – спросил Пётр Поликарпович, в самом деле удивлённый. – Я тут уже полгода сижу, связи с внешним миром не имею. За всё время не прочитал ни одной книги, не держал в руках обыкновенного карандаша. Я уже забыл, как нормальные люди выглядят.
– Да всё очень просто! – воодушевившись, ответил следователь. – Вы поможете мне разоблачить подпольную террористическую организацию среди деятелей культуры! Задача облегчается тем обстоятельством, что среди так называемых работников искусства уже выявлены враги народа, среди них хорошо вам известные писатели – Гольдберг, Басов и Балин, художник Андреев и ещё несколько весьма сомнительных лиц. Но этого пока что недостаточно. Вы должны, уважаемый Пётр Поликарпович, напрячь свою память и вспомнить, кто из знакомых вам деятелей искусства в той или иной форме выражал недовольство советской властью. Пусть это было сказано вскользь, где-нибудь на улице или во время застолья – это неважно! У трезвого на уме, а у пьяного на языке, как гласит народная мудрость. Я уверен, что вы сможете припомнить характерные детали. Ведь у вас профессиональная писательская память. Кто из нас двоих инженер человеческих душ? Неужели вы не сможете выполнить такую пустяковую работу? Я не требую немедленного ответа. Сейчас вас отведут обратно в камеру. Подумайте, повспоминайте. Завтра в это же время я вас снова вызову, и вы должны будете написать мне список из двадцати фамилий с указанием всего того, что вы можете сообщить об этих людях. Сразу хочу предупредить, что на этом ваша роль будет исчерпана, а ваши показания никогда и нигде не будут фигурировать. Вы видите, я даже не веду протокола допроса! – И он широко развёл руки, показывая пустой стол. – Всё это останется между нами. Мы тут сами разберёмся с этими людьми. Если кто-то окажется не виноват, отпустим. А тот, чья вина будет доказана, ответит по всей строгости закона. Таким образом вы докажете свою лояльность советской власти, загладите свою вину и будете спокойно дальше жить…
Следователь обещал Петру Поликарповичу спокойную жизнь и чистую совесть. Это было до жути заманчивое предложение, простейший выход из казавшегося безнадёжным положения. Но когда Пётр Поликарпович, вернувшись в камеру, попытался припомнить что-нибудь такое, что могло заинтересовать следователя, то с полной очевидностью понял, что вспоминать ему нечего. Давным-давно уже никто не ругал советскую власть. В середине двадцатых годов ещё велись какие-то споры – о НЭПе и об индустриализации, о правом и левом уклонах, об аграрном вопросе, о международном интернационале, о китайской революции и германских социалистах. Но даже и тогда никто не предлагал свергнуть советскую власть, убить её вождей и вернуть помещиков и капиталистов. Ну а уж после процесса над Промпартией и Шахтинского дела, после разгрома троцкистов, нашумевшего дела зиновьевцев и бухаринцев, после решительного раскулачивания и расправы над внутренней оппозицией – любой протест казался невозможным, немыслимым. Только самоубийца мог решиться высказывать несогласие с политикой большевиков и требовать реставрации капитализма в России. А то, что говорилось в очередях по поводу продуктовых карточек и отсутствия мыла, – так если за это судить, то на свободе некого будет оставлять. За последние десять лет Пётр Поликарпович слышал пару раз, как поэт Балин в пьяном виде ругал большевиков за «уничтожение деревни», требовал отмены смертной казни и говорил о какой-то там всеобщей любви и всепрощении. Но, во-первых, всё это было очень давно. А во-вторых, Балин уже арестован. Ещё ходили какие-то слухи о писателе Павле Листе, что тоже, мол, высказывал недовольство советской властью – и тоже в нетрезвом виде (в котором он бывал через день). Но всё это – пьяные бредни несчастных поэтов, дурацкие выходки никому не известных и в общем-то бездарных писателей – нельзя было признать не то что преступлением, но даже тенью преступления. Кто-то кому-то что-то там сказал, не так посмотрел, не вовремя усмехнулся (держа в руках газету «Правда»). Рассказал двусмысленный анекдот про очереди за хлебом. Похвалил слесарный инструмент царского времени… Чем больше Пётр Поликарпович думал об этом, тем мрачнее становился. Он уже понял, что никаких списков писать не будет. Реальных преступлений он не знал, а придумывать то, чего не было в природе, тоже не мог. Потому что жить после такого было нельзя.
Об этом он и сказал следователю на следующий день, когда тот, глядя на него своими масляными глазками, спросил:
– Ну что, Пётр Поликарпович, вы подумали над моим предложением?
– Да, подумал. Я всю ночь не спал. Вспоминал всю свою жизнь… сопоставлял факты…
Следователь вдруг приосанился, на лице его обозначилась заинтересованность.
– Так-так, говорите!
– Да в общем-то мне нечего вам сказать. Я ни от кого ничего такого не слыхал из того, что вас интересует. Да и где я мог это слышать? Можете поверить: если бы я точно знал, что передо мной враг советской власти, я бы сразу об этом сообщил куда следует. Да я бы его собственными руками задушил! – Пётр Поликарпович поднял обе руки и сжал кулаки, показывая непреклонную решимость.
Некоторое время следователь пристально смотрел на него, потом опустил голову и молвил:
– Значит, вы не хотите помочь советской власти…
– Да почему же не хочу? Я же сказал: покажите мне врага, и рука не дрогнет!
Следователь сладко улыбнулся.
– Свежо предание, да верится с трудом! – покачал головой и продолжил елейным голоском: – Вот вы мне сейчас говорите: не слыхал, не видел, ничего не знаю. Но как же вы ничего не знали про многолетнюю вредительскую деятельность Гольдберга и Басова? Вы были с обоими в приятельских отношениях, вместе состояли в руководящих органах, ездили на ваши писательские съезды, бывали в гостях друг у друга, дружили семьями. И так-таки ничего не замечали подозрительного?
– Но ведь они никакие не вредители! – горячо возразил Пеплов. – Я за них ручаюсь, как за самого себя!
Следователь сделал удивлённое лицо.
– Вот как? Вина их доказана неопровержимыми уликами, они сами во всём признались, а вы, значит, готовы за них поручиться? Я не ослышался? Рядом с вами много лет находились смертельные враги советской власти, а вы мне сейчас говорите, что ничего не видели и не слышали! Как же я после этого могу поверить в вашу искренность? И чего стоят ваши заверения в преданности и готовности сражаться с врагами нашей Родины? Уж не заодно ли вы с этими отщепенцами? Я уже начинаю сомневаться! Может, это совсем не случайно, что вы здесь оказались?
Пётр Поликарпович покрылся холодным потом. Пол заходил под ним ходуном. Вот прямо сейчас он должен сказать что-то такое, что докажет его правоту, сделает очевидным абсурд происходящего. Но что он может сказать такого, чего бы уже не говорил и этому слащавому типу, и тому грубияну, что был прежде? Ничего нового придумать было нельзя. И требовали от него не заверений в преданности и не признаний в любви и лояльности, а вполне конкретного дела – он должен был оговорить несколько десятков человек, отправить их на смерть. И он знал (и следователь тоже это знал), что Пётр Поликарпович вполне мог это сделать! Что-то припомнить, а большей частью – придумать, дофантазировать; и пожалуйте: готов новый заговор! А уж раскрутить новое дело не составит для следователя большого труда. В этом Пётр Поликарпович не сомневался. Но именно поэтому он и не хотел составить такой список. Как после этого жить, зная, что купил жизнь такой чудовищной ценой? Нет, такая жизнь ему не нужна. От такой жизни впору будет повеситься, как повесился когда-то Иуда, предавший Христа.
Пётр Поликарпович почему-то вспомнил теперь именно об этом. И он содрогнулся, представив, что должен был чувствовать этот несчастный, всеми проклинаемый человек, быть может, искренне желавший добра своим соплеменникам, но совершивший ужасную, непоправимую ошибку. И осознав всю мерзость подобного деяния, Пётр Поликарпович твёрдо решил, что никогда и ни за какие посулы не пойдёт на предательство, не отдаст на заклание невинного человека, не купит жизнь и свободу такой страшной ценой. В конце концов, смерть – это не самый худший вариант. Умереть тоже надо уметь достойно.
Однако следователь проявил неожиданное упорство. Он упорно стоял на своём, уговаривал Петра Поликарповича «составить списочек», предлагал подумать как следует и «взвесить последствия». Но Пётр Поликарпович уже всё взвесил и решил для себя. И мало-помалу тональность его ответов переменилась; первоначальная мягкость и рассудительность незаметно обратились в категоричность и равнодушие. Следователь наконец всё это разглядел, но не рассердился, не стал кричать и грозиться, а предложил вдруг нечто новое – не такое обременительное и совсем уже пустячное. Он предложил Пеплову стать тайным осведомителем. Нужно было внимательно слушать, кто и о чём говорит в камере, обращать особое внимание на невольное признание своей вины, на имена подельников и проч. и проч. Всё это надо было накрепко запоминать, а потом передавать следователю во время «допросов». И опять же: никто ни о чём никогда не узнает. Преступники получат по заслугам, а Пётр Поликарпович докажет свою лояльность и получит полную реабилитацию, вернётся домой и станет «жить-поживать и добра наживать» (следователь был начитанный, не чурался прибауток).
Дело это казалось простым и ясным, почти и необременительным. Не нужно было возводить напраслину на знакомых, не требовалось никаких списков – а только устные беседы, невесомые показания на действительные проступки тех лиц, кто сам в этом признается.
– Ведь вы же советский писатель! – напирал следователь. – Ведь советский?
– Да, советский, – неуверенно соглашался Пётр Поликарпович.
– И вы уверяли меня, что если увидите перед собой врага, то задушите его собственными руками. Было это?
– Было.
– Подтверждаете?
Пётр Поликарпович согласно кивнул.
– Вот и представьте, что вам встретится враг прямо в камере. А ведь вы понимаете, что сюда попадают люди не просто так. Мы хватаем не всех подряд, как это было при царе-батюшке, а только настоящих преступников, тех, кто скомпрометировал себя реальными проступками!
Пётр Поликарпович склонил голову, на лице его обозначилось сомнение. Уж он-то знал, как «сюда» попадают и что случается с подозреваемыми после первых же допросов. Ему вдруг вспомнился Левантовский, его безразличный голос и отрешённый взгляд – взгляд человека, уже простившегося с жизнью.
Сообразив всё это, Пётр Поликарпович поднял голову и твёрдо посмотрел следователю в глаза.
– Нет, – сказал он, – этого я тоже сделать не могу.
Исаков переменился в лице.
– Да почему не можете? Я что вам предлагаю, собственными руками их душить? Вы наблюдайте, запоминайте, кто и что сказал. Не нужно ничего придумывать, а только сообщать факты. – Он вдруг прищурился, как-то боком поглядел на Пеплова. – Или вы всё-таки не советский человек? Вы, вон, и в партию до сих пор не вступили. И в двадцать седьмом были у вас сомнения. А, Пётр Поликарпович? Что-то я вас не пойму. С прежним следователем вы не нашли общий язык – это я ещё могу как-то объяснить. Рождественский применял недозволенные методы, к тому же оказался двурушником. Но я-то вас не бью! Мы с вами разговариваем очень культурно, я говорю вам «вы», а вы этого совсем не цените. А представьте на минуту, что я передам ваше дело другому следователю. И как оно там повернётся – неведомо. Как на ваше дело посмотрит Особое совещание в Москве – тоже никому не известно. Я вполне допускаю обвинительный приговор. Получите свою десятку и – ау! Поминай как звали. Пойдёте по этапу куда-нибудь на Соловки. Или в Дальстрой поедете, на Дальний Восток. Там сейчас ой как не хватает рабочих рук. Стране необходимо золото для закупки оборудования. Страна задыхается в тисках мировой буржуазии. Не сегодня завтра грянет война! Мы жизней своих не щадим, позабыли про отдых и про семьи, а вы сидите передо мной и разводите демагогию. Но так теперь нельзя. Или вы с нами, или вы на стороне врага. А с врагами у нас разговор короткий!
Следователь уже не улыбался. Глаза смотрели холодно, лицо набрякло и потемнело. Пётр Поликарпович понял, что всё, что было прежде – всё это искусная игра, обман. Попервости следователь изображал из себя добрячка, выказывал сочувствие и душевность. Но теперь, когда встретил сопротивление и дело пошло на принцип, он отбросил напускную мягкость и стал тем, кем всегда был – циничным и жестоким человеком, для которого жизнь другого человека ничего не стоит. Такой спокойно отправит на смерть кого угодно без всякого сожаления. Моральных норм для него не существовало. Если бы Пётр Поликарпович вздумал объяснять ему про предательство Иуды и проводить аналогии, то он бы ровно ничего не понял, а Петра Поликарповича счёл идиотом и чернокнижником. Так уж тогда повелось, что идиотами, вредителями, отщепенцами и законченными мерзавцами объявлялись все те, кто не соглашался с большевиками и их примитивной теорией. Большевикам не нужны были мыслители (ведь всё уже было понято и объяснено «основоположниками»). Пуще сглаза они боялись сомневающихся и скептиков (благополучно позабыв настоятельный совет того же Маркса «подвергать всё сомнению»). Не любили «шибко умных», но приветствовали тупых и исполнительных. Давно известно: тупыми легче командовать! Тупые и исполнительные выполнят любой, самый чудовищный приказ и будут думать при этом, что они с честью выполнили свой долг и спасли Родину от неминуемой катастрофы, от козней внешних врагов и внутренних вурдалаков. Всё это уже было в мировой истории и в российской истории тоже. Поэтому Пётр Поликарпович не стал спорить со следователем. Он уже понял, что из тюрьмы он не выйдет, семью не увидит и прежней жизни не вернёт.
Он молча поднялся и, заложив руки за спину, пошёл к выходу. Ничего не ответил на прозвучавшее вдогонку предложение «подумать до завтра». Опустив голову, вышел из кабинета и в сопровождении охранника вернулся в камеру, где было всё то же: двухэтажные нары, на которых заключённые спали по очереди в три смены, привинченный к полу железный стол и рядом стальной табурет. Деревянная параша, прикрытая круглой железной крышкой. Тусклая лампочка над дверью, низкий потолок и полное отсутствие свежего воздуха. В жаркие летние дни в камере нечем было дышать, с заключённых градом катил пот, измученные люди теряли сознание от недостатка кислорода. Все мечтали о том, чтобы их поскорей перевели отсюда – всё равно куда! – ошибочно полагая, что хуже места уже нет на белом свете. Эти наивные представления очень скоро рассеялись как дым. Те немногие, кого не расстреляли сразу, очень скоро узнали, что такое пятидесятиградусный колымский мороз и каково это – работать в ледяном забое по четырнадцать часов кряду без выходных и без нормальной одежды, когда железо прикипает к рукам, а лёгкие обращаются в лёд, – на штрафном пайке и без всякого медицинского обслуживания. Вместо докторов и фельдшеров на Колыме были в избытке блатари и десятники, избивавшие обессилевших людей по малейшему поводу, отнимавшие у доходяг последний кусок хлеба, сдёргивавшие с умирающих тёплые вещи и заставлявшие полумёртвых людей исполнять свои низменные прихоти. Всё это уже существовало тогда, осенью тридцать седьмого. Вечная мерзлота Крайнего Севера уже принимала в себя первые оледенелые трупы. Примитивные орудия вгрызались в мёрзлый камень, высекая из него искры и крупицы золота. У истощённых людей крошились зубы и выпадали волосы. Проклятое золото высасывало из людей живительные соки, обращая живое тело в гниющую плоть, в тлен. Всё это ещё предстояло узнать миллионам ни в чём не повинных людей. Впереди были десятилетия беззакония и зверств, эпоха массовых убийств и неслыханного произвола. Ничего этого Пётр Поликарпович пока что не знал. Но тёмное чувство уже шевелилось в груди. Грозные отзвуки будущих несчастий отзывались в душе смутной тревогой.
Но ничего нельзя было переменить в своей судьбе – это он тоже понял. Оставалось лишь ждать всего того, что приготовило ему будущее. Каждый день просыпаться в той же камере, слышать одни и те же звуки, вдыхать привычные запахи, совершать раз навсегда заведённый жизненный цикл и – думать, думать без конца о том, что с ними всеми приключилось – со всей огромной страной, раскинувшейся на целый континент! Если бы он верил в Бога, то счёл бы всё это Божьим наказанием и даже нашёл бы причины праведного гнева. Но в Бога он не верил, а верил лишь в силу разума, а ещё – в марксистско-ленинское учение (несмотря ни на что). Вырваться из этого замкнутого круга он был не в силах. Понять истинные причины катастрофы не мог. Тем сильнее был его ужас и глубже страдание. Утешения он не находил ни в чём. Если бы это было в его силах, он умер бы прямо тогда – без всякого сожаления и даже с облегчением. Принял бы смерть как благо, как избавление от мук. Но что тогда станет с его семьёй? Его Светлана верит в него, продолжает за него бороться. И если он прямо сейчас умрёт, то для неё тоже всё будет кончено! Будет утрачена последняя надежда, исчезнет смысл существования. Не воспримет ли она это как малодушие и предательство? Откуда же ей знать весь ужас его положения? Там, на воле, думают, что арестованные содержатся в нормальных человеческих условиях, что следователи – сплошь гуманисты и правдолюбцы, что всё делается по закону и по совести. И вдруг – самоубийство!.. Нет, этого нельзя. Уж будь что будет, а он пройдёт до конца весь путь, как бы это ни было тяжело.
Приняв такое решение, Пётр Поликарпович внезапно успокоился. Жизнь его потекла ровно, без особых происшествий и событий. Следователь больше не вызывал, решив, видно, что толку от него не добьётся. Допросы прекратились. Из камеры его не выводили вовсе. Связи с внешним миром он не имел никакой и был в положении Дантеса, брошенного в каменный мешок без всяких объяснений, без надежды на свободу и без всякой вины со своей стороны. Только и разница была, что Дантес находился один в своём склепе и мог предаваться раздумьям и грёзам, а Пётр Поликарпович ни одной секунды не был один. На семи квадратных метрах постоянно находились то шесть, а то двенадцать смертных душ! Само по себе это уже было пыткой. Каждый день лицезреть избитых людей, слышать их стоны, видеть кровь и сломанные кости; встречать безумные взгляды и знать, что всё это рано или поздно ожидает и тебя! – от этого впору было сойти с ума. Впрочем, и это не было редкостью. Мешались в уме утончённые интеллигенты, а также личности, склонные к избыточной рефлексии. Не все могли выдержать напор действительности. Судьба всех таковых была особенно страшной. Их нещадно избивали во время допросов, полагая, видно, что помешанный человек – хуже животного и делать с ним можно всё, что только может прийти в голову. Конец у этих несчастных был одинаков – смерть. Они или умирали в камере после зверских избиений, не получив медицинской помощи. Или их расстреливали по приговору «тройки», полагая, что на волю выпускать таких людей нельзя и в лагере от них тоже не будет никакого толку, стало быть, нужно разом покончить все счёты.
Особенно Петру Поликарповичу запомнился один насмерть перепуганный парень. Белокурый, с приятным округлым лицом, он смотрел чересчур пристально, испытующе. Во взгляде его было что-то неприятное. Он всё молчал, а однажды подсел к Петру Поликарповичу и произнёс громким шёпотом:
– Мы должны покаяться перед советской властью!
Пётр Поликарпович отстранился, с недоумением глянул в лицо парню. Тот был серьёзен, смотрел прямо, не мигая. Пётр Поликарпович сразу заподозрил душевное расстройство, но виду не подал.
– Мне не в чем каяться, – примиряющим тоном произнёс он и отвернулся.
Парень вдруг приблизил лицо, глаза его расширились.
– Я знаю многих заговорщиков, они вокруг! Я должен рассказать следователю! Мы не должны тут сидеть. Я очень хочу есть. Дайте мне что-нибудь поесть.
Пётр Поликарпович дёрнулся было встать, но вспомнил, что пойти тут некуда. Пожал плечами и молвил:
– У меня нет ничего. Скоро ужин, принесут что-нибудь.
– Как вы думаете, нас отпустят? – снова заговорил парень.
– Не знаю.
– Меня обязательно должны отпустить. Я им всё расскажу, и меня отпустят. Ведь я ни в чём не виноват.
Пётр Поликарпович невольно улыбнулся. Он уже знал, что перед советской властью все виновны – до последнего старика. Весь вопрос лишь в том, кого потянут к ответу. Всех ведь нельзя посадить. Кто-то должен оставаться и на воле.
– Меня нельзя бить! – произнёс парень с нажимом.
– А будут! – послышалось сбоку.
– Этого нельзя! – повторил парень, машинально оглянувшись на голос. – Я болен. Зачем вы меня пугаете?
– Это не мы тебя пугаем. Пугать тебя будут там, наверху, когда вызовут. Тогда и расскажешь про свою болезнь.
Парень вдруг страшно побледнел, весь вытянулся, затрясся, длинные костлявые пальцы судорожно схватились за грудь, лицо перекосилось; издав жуткий, нечеловеческий вопль, он повалился на пол; страшные конвульсии сотрясли тело, голова с силой забилась о каменный пол, на губах показалась розовая пена. Пётр Поликарпович сидел, как громом поражённый. Он никогда не видел припадка падучей. Первый же опыт потряс его. Это и в самом деле было жуткое зрелище.
Кто-то бросился к двери, забарабанил кулаком. Окошечко открылось.
– Чего орёте? – рявкнул охранник.
– Тут у нас припадок у одного, его нужно скорей в лазарет. Голову себе расшибёт!
Окошечко захлопнулось. А через минуту в камеру вошли сразу трое.
– У кого припадок? – Шагнули к распростёртому телу. – А ну-ка! – Двое взяли за руки, а один за ноги, и понесли вон. Дверь с грохотом захлопнулась, и сразу вслед за этим из коридора послышался глухой звук брошенного на пол тела, особенно гулко ударилась голова о железный пол. Послышался слабый всхлип, какое-то кряхтенье, а затем посыпались вразнобой отвратительные чавкающие звуки. Все в камере догадались, что тут же, в нескольких шагах, конвоиры пинают коваными сапогами беспомощного человека. Тот сперва издавал какие-то хрюкающие звуки, но почти сразу затих, и последние удары казались особенно жуткими – в полнейшей тишине, под сопенье и комментарии конвоиров. Все в камере оцепенели. Подобная жестокость не укладывалась в сознании. Но дальше последовало что-то совсем уже несуразное. Дверь вдруг распахнулась, и конвоиры с размаху бросили на пол окровавленное тело.
– Вот так, – произнёс один. – Мы его подлечили малость. Больше не будет бузить. А если у кого-то ещё случится припадок, так мы тут, рядом, зовите! – И, довольно ухмыльнувшись, захлопнул дверь.
В первую секунду все растерялись. Потом один шагнул к парню, склонился.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – произнёс с расстановкой. – А говорил, что его бить нельзя… Ещё как можно. Вон как отделали!
Парень был совершенно без чувств. Лицо в кровавой пене, запрокинутая голова на глазах распухала, лиловела и чернела. Руки неестественно заломлены, а всё тело выглядело так, будто его сломали, превратили в тряпичную куклу и так бросили.
Парня осторожно подняли, уложили на нары. Мочили лоб мокрой тряпкой, лили воду на распухшие губы…
Всё было тщетно. К утру парень умер, так и не рассказав следователю о заговорщиках, не покаявшись перед советской властью.
На него ещё успели получить утреннюю пайку, но находиться целый день в душной камере рядом с трупом никто не хотел. Как только пайка была поделена и съедена, так сразу дали знать конвоирам. Думали, что за трупом придут те же, что были накануне. Но явились другие. С полным равнодушием подняли уже окоченевшее тело и понесли вон, сопровождая действия циничными комментариями. Никому из заключённых не пришло в голову заявить решительный протест, потребовать разбирательств. Если охранники на виду у всех бьют смертным боем арестанта, значит, они имеют на это полное право, то есть совсем ничего не боятся. И ещё это значит, что все арестанты для них хуже скота! Ведь даже скотину на улице нельзя просто так убить – на то нужно спросить разрешение у хозяина. А кто был хозяином всех этих людей? Кто нёс за них хоть какую-то ответственность? По всему выходило, что никто. Государству все они были нужны разве что в виде дармовой рабочей силы или в виде кровавой жертвы неведомому и жестокому божеству.
Впоследствии Пётр Поликарпович много раз лицезрел подобные избиения. Видел, как человеку с хрустом ломают позвоночник или резким тычком остро отточенного ножа выкалывают глаза, отрубают тяжёлым безобразным топором конечности и отпиливают двуручной пилой голову у ещё живого, залитого кровью человека. Всё это ему ещё предстояло увидеть. Но тот первый пример бессмысленной жестокости потряс его особенно. Быть может, потому, что он не был приготовлен к такой развязке, всё ещё оставался в плену иллюзий, держал в голове некий кодекс чести. Даже Гражданская война с её жестокостями не могла его подготовить ко всем этим зверствам, к этому абсурду сталинских застенков. Там, на войне, они понимали, что воюют со своими соотечественниками, такими же, как и они, людьми. Помнили, что есть некие границы, которые переступать нельзя. Но теперь так странно получалось, что война давно закончилась, а нравственных границ не стало вовсе. Делай с ближним всё что хочешь – ничего тебе за это не будет – ни на этом свете, ни на том! Хотя за тот свет нельзя было поручиться. Но об этом вовсе не думали в стране победившего атеизма.
Осознать всё это было нелегко. Принять – невозможно. Если такое принять, то сам сделаешься зверем в человеческом обличье. Подобные метаморфозы не совершаются по велению разума! Тут в дело вступает внутренняя суть человека, его сокровенная природа. Если это природа садиста и зверя, то метаморфоза совершается легко и просто, а лучше сказать – естественно, будто человек вернулся в родную стихию, в первозданный хаос (и таких людей, как выясняется, очень много среди нас). Но если только человек имеет внутри себя нравственный стержень, если он хотя бы чуть-чуть пропитан состраданием к ближнему, если жестокость ему противна, тогда ему легче умереть, чем принять облик зверя. Потому что нельзя нормальному человеку жить среди зверей и по законам зверя. Не для того он совершал своё трудное восхождение к вершинам цивилизации, истончал чувства, пестовал мораль и стремился к звёздам. Природа отомстит ему за отступничество. Ему и детям его – вплоть до седьмого колена.
Невозможно пересказать всё то, что видел и слышал Пётр Поликарпович, пока сидел в подвалах областного УНКВД. Он удачно миновал две волны допросов: в апреле – мае и в сентябре – октябре 1937 года (то есть не был расстрелян или покалечен и не сошёл с ума). Третий раз его взяли в оборот уже в феврале 1939 года – через полтора года после второй серии допросов. Объяснить подобные перерывы в лихорадочной деятельности советского репрессивного аппарата довольно трудно. Но так уж случилось, что Пётр Поликарпович полтора года безвылазно просидел в своей тесной камере, в то время как кровавый молох всё никак не мог насытиться, всё собирал свою обильную жатву по всей стране. В октябре тридцать седьмого был арестован Василий Преловский, с которым Пётр Поликарпович когда-то создавал знаменитую «Барку поэтов». Через неделю другое известие: взяли профессора Полтораднева – известного этнографа, зав. отделом краеведческого музея, человека, глубоко чуждого политики. В эти же недели брали во множестве железнодорожников, доцентов и профессоров институтов, священников (во главе с протоиереем Фёдором Верномудровым). Шестого декабря в подвалах НКВД был расстрелян поэт Балин. День этот ничем не отличался от других. Так же разносили утром баланду и давали по куску чёрного спёкшегося хлеба. О том, что тут же, в подвале, расстреливают людей, знали все арестанты (дурные вести разносятся невероятно быстро). Но, конечно, никто им не докладывал, кого и в какой день поставят к стенке. Не только приговорённые к смерти, но и все остальные подследственные могли ожидать казни в любой день. Бывало, что смертный приговор объявлялся непосредственно перед расстрелом, когда человек стоял уже возле бетонной стены и мог видеть на ней отметины от пуль.
О смерти Балина Пётр Поликарпович узнал гораздо позже, когда это было уже не очень-то и важно для него. Также не знал Пётр Поликарпович о том, что в самый канун 1938 года было ликвидировано правление Иркутского отделения Союза советских писателей – то самое правление, организации которого он отдал так много сил. Из всего писательского актива на свободе остался один лишь Волохов. Ему и поручили руководить писательской организацией, назначив его уполномоченным секретарём и снабдив вполне чёткими инструкциями в отношении не вполне благонадёжных писателей. Таким вот незамысловатым образом закладывались в советской литературе принципы социалистического реализма. Следует признать: оспорить эти принципы в тогдашних условиях не было никакой возможности. Если кто-то и сомневался в соцреализме до тридцать седьмого года, тот сомневаться перестал. А кто вовсе не верил – сделал вид, что уверовал. Тут уже не о принципах стоял вопрос, а о самой жизни. Да и чёрт ли в них – в принципах? Живи как все и не высовывайся – вот главный принцип и премудрость. На поверку всё выходило гораздо проще, чем думают иные умники.
1938 год был ничем не лучше предшествующего. Маховик репрессий раскручивался, жертвы множились. За один только февраль 1938 года в застенках областного управления НКВД расстреляли 938 человек! А за один лишь день – 12 марта 1938 года – расстреляли сразу 140 подследственных. Своего морга в НКВД не было (никто ведь не предполагал, когда строили здание, что людей будут стрелять, да почти каждую ночь, всё это на протяжении нескольких лет). Поэтому приходилось еженощно вывозить трупы на грузовиках за город (по два десятка ещё тёплых окровавленных тел помещалось в кузове) и там под покровом ночи бросать в огромные могильники. В это же время на севере Иркутской области зачиналось дело, позже получившее название «второго Ленского расстрела». У всех на памяти был знаменитый Ленский расстрел 1912 года, когда были убиты двести пятьдесят рабочих с золотых приисков, вышедших на мирную демонстрацию. Тогда дело получило широкую огласку, были присланы комиссии от Государственной думы и других ведомств, были гневные петиции большевиков и лично Ленина из-за границы (как же не отозваться и не заклеймить проклятую царскую власть, которая «вся в крови»!), было дотошное расследование, после которого виновных наказали. Но вот спустя четверть века на той же самой земле вовсе безо всякой причины гибнет почти тысяча человек – и никто об этом ничего не знает, братские могилы казнённых людей надёжно сокрыты в глухой сибирской тайге, их не смогут найти и через семьдесят лет! Такие «акции» в тот год проводились по всей стране. Тон, конечно же, задавала столица, потому что в ней и находился первоисточник всей этой мерзости, этой ни с чем не сообразной дикости, средневековой жестокости.
Главный живодёр упрямо гнул свою линию. В 1936 году состоялся первый московский процесс над ближайшими соратниками Ленина – Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Смирновым (и ещё несколькими десятками видных большевиков, занимавших ключевые посты в партии). В январе тридцать седьмого – новая расправа: врагами народа объявлены (наряду с другими) Пятаков, Радек, Сокольников и Серебряков, Муралов и Ротайчик (все казнены). Летом и осенью тридцать седьмого в Москве судят маршала Тухачевского. Прославленный маршал и талантливый военачальник был признан немецким шпионом и расстрелян в июне 1937 года (до сентября 1939 года, когда был подписан пакт Риббентропа – Молотова, а Гитлер неожиданно оказался главным другом Сталина, было ещё целых два года). Расстрельный приговор Тухачевскому подписали другие видные военачальники – Блюхер, Дыбенко, Алкснис, Белов и Каширин; через год все они также получили по пуле в затылок. Процесс этот дал старт чудовищным репрессиям в РККА, выкосившим перед страшной войной почти весь высший командный состав Красной армии. (Из пяти первых маршалов СССР к тридцать девятому году в живых остались лишь двое – Будённый и Ворошилов; командармы уничтожены все до единого (19 человек); командиры корпусов казнены почти все (чудом уцелели четверо из шестидесяти двух); комдивы и комбриги – расстреляны больше половины; а из пяти флагманов флота 1-го и 2-го рангов к 1939 году в живых остался лишь один.)
В марте 1938 года состоялся процесс над Бухариным и Рыковым. Первый (по словам Ленина) был «виднейшим теоретиком и любимчиком партии». Второй возглавлял первое советское правительство ещё при Ленине, пользовался его доверием и был вне всяких подозрений. Но это ровно ничего не значило! Будь жив сам Ленин, так и его бы, пожалуй, обвинили в каком-нибудь уклоне и посадили в каземат, а там умертвили. Ничего невероятного в этом нет. Сама Крупская высказывала такие предположения. В этот период были арестованы и расстреляны многие руководители краёв и областей огромной страны. Брали, как правило, первого секретаря обкома и его зама; та же участь постигла руководителей облисполкомов; и уж никак не могли оставить на свободе секретарей горкомов и их ближайшую смену – комсомольских лидеров. За два неполных года – 1937–1938 – органами НКВД было арестовано по всей стране почти два миллиона человек. Большая часть этих людей была тогда же и расстреляна по приговорам «троек» (тайные захоронения в виде братских могил, в каждой из которых десятки тысяч сваленных в кучу трупов, разбросаны ныне по всей стране, многие не найдены до сих пор). А те, кто избежал расстрела, отправились в жуткие лагеря, где массово умирали от голода, непосильного труда (по 14–16 часов в сутки и без выходных), издевательств со стороны блатных, отсутствия элементарной медицинской помощи. Тогда же началась депортация целых народов. В сентябре тридцать восьмого почти двести тысяч корейцев были отправлены в целинные районы Средней Азии (этим ещё повезло, в тепло поехали). Немцы, курды, финны, эстонцы, латыши, поляки – массово срывались с насиженных мест и шли кто в ссылку, а кто прямиком в тюрьму. Это было что-то вроде генеральной репетиции. Через несколько лет будут депортированы калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, крымские татары, ногайцы, турки-месхетинцы, греки, болгары и – снова немцы, и снова болгары, венгры, прибалты, карачаевцы, калмыки – общим числом в несколько миллионов человек (во время депортации погибал каждый третий). И много ещё чего происходило страшного, непостижимого в первом в мире социалистическом государстве.
В ноябре 1938 года всесильный нарком Ежов был неожиданно смещён со своего поста. Вместо него на долгие пятнадцать лет воцарился давний знакомец Сталина – Лаврентий Берия, мрачная личность с задатками иезуита, вполне под стать своему патрону. Наивные надежды на прекращение террора не оправдались. Потому что главный террорист и параноик был всё ещё жив. Остальное было несущественно.
Такая была тогда обстановка в СССР! Однако истинные масштабы катастрофы были не очень заметны для обычных граждан. Граждане в массе своей вставали по утрам под звуки бодрого гимна – очередной песни Лебедева-Кумача:
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля… Просыпается с рассветом Вся советская земля!И весь день слушали то чёрные тарелки репродукторов, то горластых ораторов у себя в цехах и в конторах, а то шли на митинги, где горлопаны и краснобаи яростно клеймили мировую буржуазию и ещё яростнее – внутренних врагов (которых становилось всё больше день ото дня). Дети вступали в пионеры и славили Павлика Морозова, убитого родственниками – злостными деревенскими кулаками и выродками, каких поискать (так это всё преподносилось). Ну а те, кто в это время сидел в переполненных камерах и со страхом ждал очередного допроса, – если и догадывались о чём-то, так это уже не имело ровно никакого значения. Открывшаяся на миг страшная правда умирала вместе с её обладателем. Немногие выжившие не смогли бы ничего рассказать, даже если б очень захотели. Уста их были запечатаны ужасом, парализованы страхом перед новым арестом.
Лишённый всякой осмысленной деятельности, не имевший ни книг и ни клочка бумаги, полностью предоставленный своим мыслям, Пётр Поликарпович всё чаще вспоминал свою молодость, пытаясь понять, что он сделал не так и почему оказался в тюрьме с клеймом врага народа. С детства он видел беспросветную нужду и тяжкий крестьянский труд (тут большевики не врали: при царе деревня и в самом деле жила очень тяжело). Пётр помогал отцу с матерью, с утра до поздней ночи работал – то в поле, то на дворе. Учиться было некогда, а надо было трудиться весь день, не разгибая спины. Потом жахнула Первая мировая. Всех парней из деревни забрали. Взяли и Петра. Четыре года он жил в окопах. Кормил вшей летом, а зимой замерзал в снегу. Его травили газом, кололи австрийским штыком, стреляли шрапнелью. Но он не погиб, всё превозмог и дождался-таки светлого мига: случилась революция! Царя скинули, буржуев погнали вон, а власть в свои руки взяли рабочие и крестьяне (как им всем казалось). Это был грандиозный праздник, что-то небывалое, почти волшебное. Смертельно усталые люди словно бы восстали из мёртвых, воспрянули духом, поверили в лучшую долю. В души миллионов забитых людей хлынул ослепительный свет, и души затрепетали в едином порыве! Вселенная словно распахнулась и стала безграничной, наполненной светом и радостью. Всё стало возможным, всё было по плечу! Буйный вихрь закрутил Петра, бросил в самую гущу событий. Выходец из деревенской бедноты, вчерашний солдат, полуграмотный парень – он был избран товарищами в городской Совет рабочих и крестьянских депутатов. Участвовал в работе Всесибирского съезда Советов, стал членом ЦИК Центросибири! Это был фантастический, головокружительный взлёт. И он был не случаен. Так из самой гущи толпы, из бешено несущейся кавалькады вдруг вырывается какой-нибудь смельчак – и увлекает за собой обезумевшую массу! Смельчак действует словно по наитию, подчиняясь неведомой силе. И он спасает не только себя, но и всю эту массу ошалевших людей. Так формируются настоящие лидеры и подлинные герои, рождённые самой обстановкой – героической и неповторимой.
За этот период своей жизни Пётр Поликарпович был спокоен (и даже немножко гордился). Тут всё было ясно как божий день, придраться не к чему. Но вот война закончилась, настало время для мирного созидательного труда. Молодое Советское государство остро нуждалось в грамотных специалистах (старых-то почти всех постреляли, ежли кто не успел вовремя убраться). И Пётр Поликарпович пошёл учиться. Закончил институт народного образования, научился грамотно излагать свои мысли и вдруг написал целую поэму о партизанах. Придумывать ему ничего не пришлось, писалось легко, свободно; ведь он писал о себе и о своих товарищах! Поэма имела шумный успех. Главными оценщиками стали его товарищи по оружию. Они признали и авторский талант, и верный глаз, и справедливость суждений.
Успех этот вдохновил Петра Поликарповича. Он засел за работу. Появился один роман, затем второй, а после ещё два. (Повести и рассказы не считал.) Собрались в Новосибирске писатели со всей Сибири на учредительный съезд – как было не поехать? И он поехал, и даже произнёс пламенную речь о том, как нужно жить и работать в столь ответственное время, в уникальную эпоху небывалого строительства самого передового социалистического общества. Потом был Первый съезд советских писателей в Москве, была вдохновляющая речь Горького и был всеобщий подъём духа. Первый пролетарский писатель ознакомился с творениями Пеплова и дал им высокую оценку, способствовал изданию его книг не только в Москве, но и за границей. А в Иркутске начали издавать литературный журнал «Будущая Сибирь», организовался литературный актив – и везде на первых ролях был Пётр Поликарпович. Его жизненный опыт, умение противостоять трудностям, его честность, мужество и принципиальность снискали ему заслуженное уважение со стороны всех, с кем его сводила судьба. К нему шли молодые авторы за советом. Обращались и партийные работники за помощью – когда нужно было выступить на каком-нибудь юбилейном митинге, сказать вдохновляющую речь, придать пафос вполне заурядному собранию. Пётр Поликарпович никому не отказывал. Ездил на съезды и симпозиумы, выступал на многочисленных собраниях, читал во множестве рукописи, а главное, сам без устали работал над новыми книгами. Единственным его упущением (как ему теперь казалось) был его отказ вступить в партию большевиков. Но членство в партии он почитал пустой формальностью. Он боролся за власть Советов ещё тогда, когда эта власть едва-едва просматривалась.
Он делом доказал свою преданность, когда в декабре 1918 года защищал от колчаковцев иркутский «Белый дом» – главный оплот большевиков в Восточной Сибири. Его чудом тогда не убили (почти все его товарищи погибли). Потом он два года партизанил в глухих сибирских лесах, не щадил своей жизни и врагов тоже не щадил. Ему ли теперь доказывать свою преданность советской власти? Ему ли клясться в верности? Да и чего стоили все эти клятвы, когда любой проходимец мог произнести пламенную речь, бия себя кулаком в грудь, уверяя всех в безграничной преданности товарищу Сталину и требуя немедленного расстрела для его многочисленных врагов? Чем глупее был оратор, тем громогласнее и неистовее была его речь. Судили и рядили, как правило, те, кто не нюхал пороху. А были среди ораторов и такие, кто прямо выступал против большевиков (как, например, главный сталинский прокурор-обвинитель, бывший меньшевик Вышинский, который в феврале 1917 года, будучи комиссаром милиции Якиманского района Москвы, подписал распоряжение «о скорейшем розыске, аресте и предании суду, как немецкого шпиона, Ульянова-Ленина»; зато в 1920 году, когда с белыми было покончено, этот деятель счёл необходимым вступить в партию большевиков и умудрился сделать головокружительную карьеру среди бывших врагов). Такие вот люди судили Бухарина и Рыкова, Зиновьева и Каменева, Тухачевского и Блюхера. С 1923 года Вышинский выступал главным обвинителем на всех политических процессах. Пример с него брали сотни и тысячи обвинителей по всей стране (не только работники органов – любой оратор бездумно шпарил цитатами из обвинительных речей главного прокурора Советского Союза – успех ему был обеспечен! Беспощадно-обвинительный уклон речей Вышинского стал отличным примером для подражания, идеальным трафаретом, над которым нечего и раздумывать). Таких маленьких «вышинских» было на местах великое множество. Соревноваться с ними в псевдореволюционной риторике Пётр Поликарпович не хотел. Это было не то чтобы противно, а как бы и не нужно. Так он ошибочно полагал. За что и поплатился. Хотя сомнительно и это. Ведь брали и членов партии – большевиков с дореволюционным стажем – вот что было удивительно! И Пётр Поликарпович всё думал, всё ломал голову, пытаясь решить загадку, которая не имела разумного объяснения.
Дело его тем временем передали очередному следователю – лейтенанту НКВД Котину. Тот, ознакомившись с протоколами допросов, крепко задумался. Ему сразу стало ясно, что Пеплов ни в чём не виновен (по крайней мере ни в чём таком, за что его следует держать в тюрьме). В деле его не было ни одной сколько-нибудь серьёзной улики. В квартире не найдено никакого оружия. Не было прокламаций или каких-нибудь воззваний. Нет упоминаний о тайных сходках. И полное отсутствие конкретных действий (вроде взрывов железнодорожных путей, покушений на убийство высокопоставленных лиц или завалящей диверсии на каком-нибудь складе списанной техники). Всё какая-то чепуха, голословные обвинения лиц, живущих в других городах и не имевших с Пепловым реальных связей. Сама героическая биография Пеплова выступала в его пользу. Книги его были наполнены революционным пафосом, они звали к революционной борьбе и созидательной работе на благо социалистической родины. Невозможно было поверить, чтобы такой человек втайне от всех плёл заговоры против советской власти.
Лейтенант Котин и не поверил. Он решил прекратить дело Пеплова. В определённом смысле это было выгодно ему самому. К тридцать девятому году, когда «кровавая ежовская банда» была разоблачена и призвана к ответу, когда бывших обвинителей и палачей самих ставили к стенке и когда «отец народов» публично заявил о допущенных перегибах и перехлёстах (привычно свалив свои грехи на подчинённых; так было в тридцать первом – во время раскулачивания, так было в тридцать третьем – во время страшного голодомора, в тридцать пятом – после убийства Кирова, а потом каждый год – в тридцать шестом, седьмом и восьмом, когда в расход пошли все те, кто беспрекословно выполнял приказы Сталина), – тогда-то и появился шанс на спасение у немногих счастливцев, переживших два смертных вихря тридцать седьмого и тридцать восьмого годов. Всех незаконно осуждённых, конечно же, никто и не думал выпускать на волю (об этом и речи не шло). Но если, положим, кто-то сидит по делу, сфабрикованному каким-нибудь Рождественским или Исаковым (разоблачёнными и уже расстрелянными врагами советской власти), – как же это дело не проверить? А чтобы на местах не путались во всех этих хитросплетениях и противоречиях, были разосланы секретные циркуляры с вполне конкретными указаниями: выпустить из тюрем не более одного процента сидельцев (планировать ведь можно не только выплавку чугуна и сбор урожая; в тридцать седьмом году до каждой области были доведены контрольные цифры по количеству подлежащих расстрелу врагов народа! Всё это имело силу боевого приказа, неисполнение которого приравнивалось к измене и каралось смертью).
Отчего же в тридцать девятом было бы иначе? Утолив на время жажду крови, Сталин решился на некоторое послабление. Это нужно было ещё и для поддержания удачно придуманного образа друга детей и отца народов – добродушного усатого дядьки, который зря мухи не обидит. Эта насквозь фальшивая акция преподносилась как акт милосердия со стороны советской власти и нового руководства НКВД. Прежние следователи были опричники, мясники, негодяи без чести и совести, а новые – совсем другое дело! Вот и решили выпустить из тюрем каждого сотого, да и то – речь не шла об уже осуждённых, тем более о расстрелянных (не выкапывать же их из могил!), а только о тех, кто сидел по явно сфабрикованным делам и кто не признал свою вину. Это была очередная уловка, ловкий ход: в обществе создавалась иллюзия восстановления справедливости, грехи списывались на рядовых исполнителей, и всё опять было чудесно и хорошо!
Всего этого Пётр Поликарпович знать не мог. Он не знал даже того, что делом его теперь занимается новый следователь и что он уже отправил официальный запрос в местное отделение писателей товарищу Волохову. В этом запросе лейтенант госбезопасности предписывал уполномоченному правления писательской организации устроить экспертизу произведений писателя Пеплова. Проще сказать: от Волохова потребовали письменные отзывы на книги Петра Поликарповича. Речь не шла о характеристике самого Пеплова, а всего лишь – о его книгах. Котин знал, что книги Пеплова имеют прочную и добротную репутацию. Он видел подшитые в дело одобрительные отзывы прославленных писателей: Максима Горького и Вячеслава Шишкова. Были положительные отзывы и со стороны местных писателей – газетная статья за подписью того же Волохова, хвалебный отзыв подающего большие надежды Константина Седова; оказалась в деле и восторженная статья Гольдберга (к тому моменту уже расстрелянного). Несколько одобрительных рецензий от известных иркутских писателей – и Пеплова можно будет отпустить на поруки! – так решил про себя лейтенант Котин. Дело пустячное и беспроигрышное, зато он сможет доложить начальству, что вот, дескать, установка на пересмотр «необоснованно репрессированных лиц» успешно выполнена. Одного такого дела будет вполне достаточно. Тем более что речь идёт об известном человеке. Резонанс будет приличный, и продвижение по службе также обеспечено (особенно если сразу после этого раскрыть очередной заговор каких-нибудь вредителей-неотроцкистов – числом поболе да с программой пострашнее). Новая волна следователей ни в чём не уступала своим предшественникам.
Всё правильно рассчитал лейтенант Котин. Только одного он не принял во внимание: того оглушающего впечатления, какое производила любая официальная бумага, исходившая из недр всесильного НКВД. Волохов получил предписание Котина в феврале тридцать девятого. Двадцать месяцев прошло с момента ареста Пеплова, Гольдберга, Басова и Балина. Все они были осуждены, а двое уже расстреляны (об этом Волохов узнал из доверительного разговора со своим куратором из НКВД, которому ежемесячно слал отчёты о настроениях писателей). Страница эта была перевёрнута, дело решено. И вдруг от него требуют письменные отзывы на книги Пеплова! Зачем? С какой стати? А что, если это проверка его позиции? Его лояльности? Сознательности? Крепости убеждений?.. Вся двадцатилетняя история советской власти изобиловала неожиданными сменами курса, понять которые простые смертные были не в состоянии. Вот и теперь нельзя было понять, что это – очередной зигзаг или долгосрочная смена политического курса? Но что, собственно говоря, изменилось? Сталин, Молотов и Калинин – на своих местах. Борьба с вредителями продолжается. Международная обстановка день ото дня всё тревожней. В Германии набирает силу окончательно обнаглевший Гитлер (успевший к этому времени присоединить к себе Австрию и часть Чехословакии). В Испании (с помощью того же Гитлера) установилась диктатура Франко. В Италии воцарился бесноватый Муссолини. А на восточных рубежах СССР японцы неожиданно напали на Халхин-Гол и спровоцировали полномасштабную войну. Чего же стоила на фоне всех этих событий судьба какого-то там Пеплова? Пеплов давно уже сидит в тюрьме, и все его бывшие знакомые свыклись с мыслью, что он – враг и про него следует забыть.
Целая буря поднялась в душе у Волохова. И что хуже всего, посоветоваться было не с кем. Правление писательской организации расформировано, и за всё теперь отвечает уполномоченный. А времени на раздумье почти нет. В письме указан срок исполнения – 10 дней. Отправить книги на отзыв в Москву не получится. А в Иркутске кому такое дело поручишь? По всему выходило: самому придётся писать (ну ещё Седов напишет, ну ещё обллит можно попросить). А как не хочется заниматься этим щекотливым делом! Ведь правду о Пеплове написать нельзя. Потому что это очень странно будет: в апреле тридцать седьмого Пеплова исключили и заклеймили как врага и бездаря, а теперь вдруг окажется, что всё это не так. Но ведь существует же следственное дело, в котором есть характеристики на Пеплова, составленные Волоховым по запросу капитана Рождественского! Есть официальные выписки из протоколов писательских собраний, на которых клеймили всех этих прихвостней. Есть и другие важные бумаги – все они подшиты в уголовное дело Пеплова. И если теперь Волохов станет вдруг защищать Петра Поликарповича, то ещё неизвестно, какие это будет иметь последствия для него самого. Сегодня, допустим, случилось послабление. А через год закинут новую сеть и потянут, потянут тебя на дно за то, что не был до конца принципиален и твёрд, допустил ничем не оправданную мягкость по отношению к врагу! Или что другое придумают – тут ничего нельзя заранее знать. Так же как не мог ничего заранее знать и капитан Рождественский. Уж на что был преданный и решительный, старался изо всех сил, а всё равно не уберёгся. Разоблачён и расстрелян – наравне с тысячами таких же, как он, кретинов.
Сообразив всё это, Волохов придвинул к себе чистый лист и стал сочинять требуемый отзыв.
Перед самым арестом у Пеплова вышла из печати очередная книжка – роман «Половодье». Как и почти все его произведения, роман был основан на реальных событиях, свидетелем которых он являлся. Это был подробный рассказ о революции и Гражданской войне. Главный герой романа – бывший крестьянин Андрей Шабрин. Как и почти все сибирские крестьяне, он не сразу поверил большевикам, категорически не принял продразвёрстку и с подозрением относился к красным комиссарам, обещавшим свободу и золотые горы, а на деле отнимавшим последний хлеб и под страхом расстрела заставлявшим воевать за новую власть. Это было глубоко правдивое повествование о действительных, а не о мнимых событиях и людях, о реальной, а не о выдуманной жизни. Но вольница двадцатых годов давно уже закончилась. Теперь пелись исключительно заздравные песни во славу новой власти, а критика безжалостно изничтожалась, и даже не критика, а намёк на критику! И уж конечно, на основе такой возмутительной книги можно было выдвинуть какое угодно обвинение. Для человека, искушённого в словоблудии и знающего цену слова, это не составило большого труда. Тем более что все руководящие лозунги были тут же, перед глазами. А кто не хотел их видеть, тот не мог их не слышать – каждый день и на каждом углу, с утра и до позднего вечера. Любому дураку было ясно, как следует понимать действительность и какие слова и мысли нужно втискивать в официальные бумаги (начиная с характеристик для отдела кадров и профкома и заканчивая реляциями в адрес всесильного НКВД). Вот и появились в отзыве поэта Волохова вполне казённые формулировки следующего свойства:
«Серьёзной ошибкой автора является то, что роман написан от первого лица, и читателю приходится все величайшие события воспринимать через посредство половинчатого, колеблющегося, бегающего от эсеров к большевикам Шабрина. Автор подсовывает читателю героя незрелого, неопределившегося, и тем самым сеет смуту в сердце советского читателя, ждущего от писателей бодрых, жизнеутверждающих произведений, приближающих нашу общую цель – построение коммунистического общества…» – В таком духе была написана вся рецензия.
Этот отзыв был закреплён и усилен выводами другого иркутского автора – Константина Седова. «В целом роман “Половодье”, по-нашему, это не исторически правдивое и высокоидейное художественное полотно, а неискренняя исповедь Пеплова-Шабрина, пытавшегося оправдать перед лицом истории свои бесконечные колебания, которые он больше всего боялся назвать своим именем. Странен сам выбор главного героя произведения. Автор мог бы создать художественный образ мужественного человека, героя Гражданской войны, терпеливо переносящего все тяготы и отдающего все свои силы уничтожению белогвардейской сволочи и конечной победе советской власти. Вместо этого автор смакует сомнения и неверие своего героя и подаёт пример пассивного, антибольшевистского поведения в момент решительной борьбы беднейших слоёв крестьянства за власть Советов…»
Третий рецензент, сотрудник обллита Константин Чуйко, назвал роман Пеплова «эсеро-меньшевистским романом». Чувствуя подступающий к сердцу гнев, рецензент всё сильнее распалялся: «… Так сметается автором рабочий класс-гегемон со счетов революции. Рабочего класса в романе нет, его участия не видно. Октябрьскую революцию завоёвывают неорганизованные серые, кудлатые, с гарью замазанными лицами толпы. У романа явно эсеро-меньшевистский финал, очевидна явная симпатия автора к обер-бандиту Троцкому. Всё это показывает, что роман “Половодье” не имеет ни художественной, ни исторической ценности. Он написан с явной целью, чтобы протащить троцкистскую и эсеровскую контрабанду».
Четвёртая – тоже работница обллита, Валентина Бабкина – решительно отказывала Пеплову в звании советского писателя. Пеплов выходил у неё «чужаком» и «перевёртышем». Оказывается, он «оклеветал деревенскую бедноту», а заодно и целиком советскую власть. Всю сознательную жизнь он «занимался воспеванием эсеров и анархистов, которым, несомненно, сочувствовал, что видно из его произведений». В этом отзыве, среди прочего, высказывались сомнения в его партизанском прошлом.
Пятый рецензент, ответсекретарь центральной областной газеты «Восточно-Сибирская правда» Андрей Калиниченко использовал весь свой опыт газетчика и лизоблюда: «ЦК нашей партии во главе с Лениным предлагали немедленно заключить мир с немцами. Против этого выступил Троцкий. На Втором Всесибирском съезде Советов голосуется два предложения. Автор восхищается, когда две резолюции собирают одинаковое количество голосов и съезд раскалывается на равные части. Вся эта подтасовка, видим, была преподнесена автором специально, чтобы в историческом свете показать влияние на массы обер-бандита Троцкого…»
Получив столь «похвальные» характеристики, лейтенант Котин призадумался. Для него стало полной неожиданностью столь единодушное осуждение литераторами своего бывшего товарища. Он уже понял, что отпустить Пеплова не получится. Пять письменных рецензий, полученных вполне официально, заверенных подписями и печатями, – это уже не шутки. Он обязан подшить их в дело и основывать на них свои дальнейшие действия. Будучи подшитыми, эти отзывы неизбежно утянут Пеплова на дно.
Котин подумал-подумал, да и решил побеседовать с уполномоченным Волоховым. Всё-таки он хотел разобраться, что тут такое? Не мог ведь в одночасье известный сибирский писатель превратиться в контрреволюционера и двурушника! Значит, тут есть что-то такое, чего не знает Котин, но зато хорошо знают его бывшие товарищи. Вот об этом и следовало поговорить, а заодно понять действительные настроения всех этих «инженеров человеческих душ», жрецов нового социалистического искусства, апостолов будущей счастливой жизни, про которую они так хорошо пишут в своих книжках и говорят на митингах.
Товарищ Волохов с утра сидел в своём кабинете на третьем этаже Дворца труда, удачно расположенного почти в самом центре города (в этот кабинет он был переселён после ликвидации писательского правления). День начинался, как и всегда, с чтения местных и центральных газет. Передовицы «Правды» и «Восточно-Сибирской правды» создавали нужный настрой, придавали уверенности. Без этого трудно было разбирать очередные рукописи и составлять многочисленные планы писательских выступлений, публикаций, общих собраний и поездок на места. А ведь нужно было ещё писать собственные речи и статьи для газет. Ну и стихи тоже надо было сочинять, хоть это и давалось ему всё трудней. Прежняя лёгкость была утрачена навеки. Былая беззаботность, когда рука сама выводила строчки, а внутренний голос нашёптывал и подсказывал – только успевай записывать! – куда-то испарилась. Внутренний голос упрямо молчал, а рука вдруг страшно отяжелела. Обычная газетная статья давалась с трудом. Только и спасали эти самые передовицы, в которых были и готовые формулировки, и окончательные суждения, и рецепты решения всех насущных вопросов. Вот только к поэзии это не имело никакого отношения. Хуже того – поэзия в его сердце вдруг умалилась, истончилась, обратилась в пустоту – зови её к себе, настраивайся на какой угодно лад – всё будет бесполезно. Нет её! И верно, уж не будет никогда!
Всё это безотчётно чувствовал поэт Волохов, и чем дальше – тем отчётливее. Высокая поэзия покинула его. Если бы он был вовсе бездарен – всё было бы проще. Но он хорошо помнил это одушевление, эту волшебную лёгкость, когда тебе всё по силам, а душа летит среди звёзд – невесомая, бесплотная, вечная… Да, он запомнил это божественное чувство. Тем тяжелее было это казённое существование, этот мрачный кабинет с голыми стенами, эти ворохи бумаг и этот чёрный телефон на столе, издававший пронзительные и противные трели, и тогда нужно было уверенно брать тяжёлую трубку и говорить в неё твёрдо и веско, рубить окончательными решениями, без всяких полутонов, без лирики, без мистики и без этих самых звёзд. Волохов чувствовал себя как в капкане. Просвета не было. Жить не хотелось.
В такую-то минуту дверь вдруг распахнулась, и в кабинет уверенно зашёл военный – отличнейшие хромовые сапоги, синее галифе, коричневый китель, фуражка со звездой. На левом боку – кожаная планшетка на ремне, на правом – блестящая кобура с пистолетом. Волохов сразу весь подобрался, живо встал и прошёл к гостю. Он уже понял, кто перед ним. Знал и то, что этот худощавый мужчина с невыразительным лицом и сдержанными манерами может сделать с ним всё что угодно. Это ничего не значит, что он вежлив и глядит приветливо. В любой момент он может испустить печальный вздох и молвить с грустью: «Гражданин Волохов, вам придётся проехать с нами!» И он пойдёт, куда прикажут. Спорить и сопротивляться нельзя, это выйдет себе дороже. Пойдёт как миленький и покорно примет всё, что ниспошлёт ему судьба! Всё это Волохов безотчётно чувствовал. Он так и впился взглядом в непрошеного гостя. А тот неспешно осматривался и словно бы не замечал смятения хозяина кабинета. Да он уже и привык к такой реакции на свой приход. Куда бы он ни заходил, хоть в кабинет к первому секретарю горкома, – везде лица бледнели и вытягивались, а в глазах появлялось собачье выражение. Котин поначалу удивлялся, а потом стал принимать как должное. Ведь не его же лично боятся! В его лице боятся и уважают советскую власть. И это правильно. Без этого не было бы ни порядка, ни целеустремлённости и ни самой советской власти. Кто-то ведь должен руководить всем этим бардаком? Без руководящей и направляющей силы наступит хаос. Допустить этого нельзя.
Впрочем, Котин был человек незлой. Он даже интересовался поэзией, почитывал Пушкина с Тютчевым и считал себя образованным человеком. Знания его носили поверхностный характер и были обрывочны; он не понял главного в литературе, не усвоил (и не мог усвоить) её глубочайший нравственный урок. Но и всё же с ним можно было потолковать о правилах стихосложения и даже – о предназначении поэта (в свете последних решений партии). Зная всё это за собой, Котин предвкушал приятную беседу. Тут двух зайцев можно было убить: себя потешить и собеседника озадачить (то есть объяснить ему стоящие перед страной задачи и наивернейшие методы решения этих задач). А потом можно смело докладывать своему начальству об успешно проведённой работе среди писателей и проявленном при этом знании всех тонкостей и глубин новой пролетарской литературы.
Сев на стул и закинув ногу на ногу, Котин сунул руку во внутренний карман и вытащил серебряный портсигар с изящной резьбой. Ловко распахнул тяжёлые створки и предложил:
– Пожалуйста, угощайтесь!
Волохову совсем не хотелось курить с утра на голодный желудок. Недавно врачи обнаружили у него гастрит и настоятельно советовали бросить эту вредную привычку, а ещё велели не волноваться и не голодать (не то будет язва). Волохов им всё это обещал, но теперь почёл необходимым приятно улыбнуться и осторожно вынуть из портсигара папироску «Казбек».
Гость и хозяин прикурили от одной спички, в потолок потянулись синие дымки.
– Хорошо тут у вас, спокойно, – молвил Котин, обводя взглядом голые стены. – А у меня не кабинет, а проходной двор какой-то. Всё идут и идут с утра до вечера. Ни одной минуты свободной. Целый день как белка в колесе. Не то что тут у вас! – И он снова огляделся, на лице его показалась приторная улыбка. Он вдруг прищурился и с чувством продекламировал:
Служенье муз не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво!Волохов изобразил приятное удивление на лице.
– Вот как? Вы знаете Пушкина?
– Конечно! – молвил Котин. – Да и как же не знать великого русского поэта, можно сказать, солнце русской поэзии? – Он эффектно отстранил руку с дымящейся папиросой и произнёс с пафосом:
Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан!Волохов хотел сказать, что эти строчки принадлежат вовсе не Пушкину, но отчего-то не стал. Вместо этого энергично кивнул и молвил:
– Вот это верно! Очень правильная мысль! И своевременная.
Он понимал, что сейчас нужно задвинуть что-нибудь дельное, энергическое! Процитировать какой-нибудь стих позабористее, чтоб у этого служаки глаза на лоб полезли. Но в голове совсем некстати крутилась знакомая с детства рифма: «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» Он никак не мог избавиться от этого лукоморья. А лейтенант о чём-то задумался, уставился в пол, отставив руку с дымящей папиросой. Тыквообразная голова то склонялась долу, то как бы нехотя поднималась. Взгляд туманился, глаза то смотрели прямо, а то убегали вбок. Всё вместе было до крайности странно. Волохов не знал, что и думать об этом неожиданном визите.
Котин в очередной раз стряхнул пепел в чугунную пепельницу на столе и произнёс со вздохом:
– Ну хорошо, не будем терять драгоценного времени. Я пришёл поговорить о вашем писателе Пеплове. Что вы можете о нём рассказать?
Волохов сделал удивлённое лицо.
– Так ведь он арестован! Ещё в тридцать седьмом. Разоблачён как враг народа. Я с тех пор ничего о нём не слышал.
Котин согласно кивнул, затем пристально посмотрел на Волохова.
– Скажите, только честно: вы действительно считаете его врагом советской власти?
Сделав над собой видимое усилие, Волохов ответил с расстановкой:
– Да, считаем. У нас было общее собрание по этому поводу. Многие писатели высказывались. Наблюдалось всеобщее единодушие, так сказать…
– Про собрание я знаю. У меня есть протоколы. И ваш отзыв на его роман «Половодье» тоже имеется. Но, вы понимаете, какая штука. Дело Пеплова первоначально вёл капитан Рождественский, после него – лейтенант Исаков. А потом выяснилось, что оба они – матёрые враги советской власти. Оба получили по заслугам. Мне передали некоторые дела Исакова. Я с ними ознакомился и подумал: а не было ли допущено ошибки в деле Пеплова? Или даже так: не есть ли это провокация вражеского агента в отношении честного советского человека и хорошего писателя? – Котин поднял взгляд и пристально посмотрел в лицо Волохову. Тот отчего-то побледнел, глаза его странно заблестели.
– Я не знаю, – пробормотал он. – Мне трудно об этом судить. Вы ведь понимаете, это давно было. Мы, писатели, далеки от всего этого.
– Я всё понимаю, – кивнул Котин. – Вы не можете знать всех подробностей. Но я вас спрашиваю не о Рождественском, а я хочу знать ваше мнение о вашем бывшем товарище Петре Поликарповиче Пеплове, следствие по делу которого до сих пор не закончено. Тут, видите ли, в чём дело. Я вам скажу прямо: Пеплов не производит впечатления заговорщика. Очень может быть, что в отношении его была допущена несправедливость и его напрасно арестовали тогда, в тридцать седьмом. Вы ведь знаете, что имели место перегибы. Товарищ Сталин недавно прямо об этом сказал. И назвал виновных. Имевшие место перегибы должны быть исправлены. Этим я теперь и занимаюсь. Но я должен как следует всё понять, во-первых, а во-вторых, обосновать своё мнение объективными доводами. Просто так мы не сможем отпустить Пеплова. Нам нужны для этого серьёзные основания.
Волохову показалось, что он ослышался.
– Вы хотите отпустить Пеплова? Но как же это?
– Да очень просто! Я закрою дело за недостаточностью улик, а вы возьмёте его на поруки. И мы его отпустим. Можете вы за него поручиться, подписать официальную бумагу?
– Я об этом как-то не думал. А если он всё-таки враг?
– Враг он или нет, этого мы пока не знаем. По крайней мере, сам он это категорически отрицает.
– А сообщники?
– Кого вы имеете в виду?
– Ну этого – Гольдберга. И Басова тоже.
Котин нахмурился.
– Эти двое признаны виновными и осуждены. Но они проходили по другому делу, Пеплов с ними никак не связан.
Волохов воровато огляделся.
– Но как же не связан, когда он с ними обоими дружил! Они всегда вместе были, никого к себе не подпускали. Их так и называли: три мушкетёра!
Котин снисходительно улыбнулся, опустил голову и о чём-то задумался.
– Мушкетёры, говорите… Понятно. – Шумно выдохнул и перевёл взгляд на Волохова. Улыбки уже не было. Глаза смотрели холодно. – Значит, вы отказываетесь взять его на поруки?
– Кого?
– Пеплова! Я с вами сейчас о Пеплове говорю! Можете вы за него поручиться или нет?
– Я?
– Да, вы! Напишете официальную бумагу, что так, мол, и так, я беру на поруки Петра Поликарповича Пеплова. Ручаюсь за его лояльность и обязуюсь сообщать в компетентные органы о всех предосудительных поступках. Ведь вы не просто писатель, вы – уполномоченный областной писательской организации. Если вы подпишете такую бумагу, она может сыграть решающую роль в судьбе вашего товарища. Но должен также предупредить, что если Пеплов не оправдает доверия, то и вы можете пострадать. Поэтому я с вами теперь и советуюсь. Обдумайте всё хорошенько.
– А что мне будет, если Пеплов не оправдает доверия или в его деле откроются новые обстоятельства?
Котин пожал плечами.
– Об этом сейчас трудно говорить. Смотря что откроется! Но ведь мы с вами исходим из той предпосылки, что Пеплов никакой не враг и что он будет, как и прежде, писать свои книжки и тем самым способствовать упрочению советской власти. Ведь он бывший партизан, воевал с Колчаком. И в книгах своих создаёт нетленные образы борцов за советскую власть… Хотя вы в своём отзыве обвинили его в политической незрелости.
– Не только я! – заметил Волохов.
– Да, я в курсе. Остальные рецензенты тоже осудили последнюю книгу Пеплова. Но ведь до ареста и вы, и Седов, и многие другие единодушно хвалили почти все произведения Пеплова! У него дома во время обыска были изъяты десятки книг с дарственными надписями. Есть там и ваши книги с очень тёплыми пожеланиями и признанием заслуг Пеплова. К следственному делу подшиты газетные статьи, из которых следует, что Пётр Поликарпович Пеплов – даровитый писатель и настоящий патриот своей Родины. Среди авторов этих статей есть и ваша фамилия. Вот я и подумал, что, быть может, не всё ещё потеряно для писателя Пеплова?
Волохов отвёл взгляд. Это была решающая минута. Стоило ему теперь сказать: «Да, вы правы, нужно дать ещё один шанс Петру Поликарповичу, ведь это честный и хороший человек, я никогда не верил и сейчас не верю в его виновность!» – и дело примет совсем другой оборот. Но для этого Волохову придётся подготовить официальное ходатайство и отдать его в руки этому странному лейтенанту. И тогда уже нельзя будет ни от чего отказаться. «Что написано пером, того не вырубишь топором!» – гласит пословица. Одно дело болтать языком в неофициальной беседе, и совсем другое – бумага с твоей подписью. Пройдут годы, и тебя уже на свете не будет, а бумага останется… много разных бумаг, в которых ты утверждал взаимоисключающие вещи. Тогда, в апреле тридцать седьмого, ты уже совершил подмену, когда клеймил Пеплова. Это было не очень-то красиво, но тогда были веские причины. Ведь было точно установлено, что Пеплов – враг. И все этому поверили. Все говорили одинаково: да, он враг, ему не место среди советских писателей! А что ж теперь? Приходит какой-то странный лейтенант и запросто говорит о том, что они тогда ошиблись, но признать ошибку должны не они, чекисты, а писатель Волохов. Но ведь не он же арестовывал Пеплова! Не он первый объявил его врагом народа! Он хорошо помнил, как подлец Рождественский во время личной беседы пугал его арестом и советовал «крепко подумать» перед тем собранием, когда они исключали Пеплова. Рождественский нагнал страху на всех, с каждым предварительно говорил с глазу на глаз. И все отлично поняли, что речь тут идёт уже не о писательской карьере, а о жизни самой, о благополучии близких! Тут уж всем стало не до сантиментов, не до высоких слов о принципах и порядочности. Мало ли что теперь Рождественский разоблачён. Но тогда-то он был всемогущ, мог любого арестовать и втоптать в грязь! Любое неповиновение неизбежно вело к гибели и позору – это также все отлично понимали. Страх этот крепко въелся в тела и души. Теперешние россказни Котина о каких-то там перегибах ничего уже не значили. Вчера перегнули, сегодня чуть ослабили нажим, а завтра снова согнут в бараний рог, да так, что света белого не взвидишь. И никто ничего объяснять не будет. Так получилось – и баста! Но твоё мягкосердечие, твои метания и непоследовательность будут истолкованы как беспринципность, нетвёрдость в убеждениях, а то и чего похуже. Нет, этого нельзя допустить. Уж если что случилось – так тому и быть. Не он эту кашу заварил. Не ему и расхлёбывать.
Волохов посмотрел в упор на лейтенанта. Тот сидел в расслабленной позе, на лице приятная улыбка, мысли витают где-то далеко. Он, как видно, не сомневался в своём красноречии и почитал дело решённым. И ещё бы! Он снизошёл до какого-то там писаки, удостоил его своим визитом и говорил с ним так, будто они приятели. Волохов этот – недалёкий человек (это Котин понял очень быстро). Лицо простодушное, как у простого деревенского мужика. И речь довольно куцая. Видно, что боится. А сам из себя почти ничего не представляет. До того же Пеплова ему ой как далеко! Но вот же парадокс: Пеплов сидит в тюрьме, а этот губошлёп решает его судьбу. Но это не беда. Посадить недолго. Будет ерепениться – и этот сядет! Посмотрим, как он тогда запоёт!
– Ну так что вы решили? – небрежно спросил Котин.
Волохов собрался с духом и молвил:
– Я не могу.
– Чего не можете?
– Взять Пеплова на поруки. – Волохов опустил голову и забубнил: – Я целиком и полностью доверяю в этом вопросе официальному следствию. Если следственные органы признают Пеплова невиновным, то мы примем его обратно в писательскую организацию. Но мы сейчас не можем опережать события. Как член партии большевиков с двадцать седьмого года, я строго следую её генеральной линии. И у меня нет никаких оснований для того, чтобы сомневаться… За Пеплова я поручиться никак не могу. Ведь вы знаете, что он не член партии и никогда в ней не состоял. Как же я могу ему доверять? Был бы он в партии, тогда другое дело. Всякий бы поверил. А так – нет, извините. Я не могу взять на себя такую ответственность!
Котин не ожидал столь твёрдого и крепкого отпора. Видно, он недооценил этого субъекта. Член партии большевиков, генеральная линия, заверения в преданности… Нет, так просто, с кондачка, его не возьмёшь. Видно, тёртый калач, хоть и молод.
Котин поднялся.
– Ну что ж… воля ваша! – Одёрнул китель, пригладил волосы и натянул фуражку на лоб. – Вам видней. И всё же рекомендую вам подумать. Посоветуйтесь с вашими друзьями-писателями. Даю вам на это три дня.
Резко развернулся на каблуках и вышел. Дверью не хлопнул, но всё равно было очень неприятно.
Весь этот день Волохов пребывал в крайне подавленном состоянии. Он знал по своему опыту это правило: любой выбор, будучи однажды сделан, снимает с души тяжесть, даже если этот выбор ошибочен. Наступившая определённость разрешает душу от бремени и дарит своего рода лёгкость (такую лёгкость, когда от тебя уже ничего не зависит). Сперва ты долго мучаешься, рассматриваешь варианты и оцениваешь открывающиеся перспективы, по десять раз на дню переходишь от надежды к отчаянию, а потом р-раз, решился! И уже живёшь без этих треволнений, без ночных дум о том, что могло случиться и как всё будет плохо или наоборот – очень хорошо. Наступившая определённость дарит тебе спокойствие и ровность, без которых, как выясняется, очень трудно жить. Но теперь, после разговора с лейтенантом Котиным, Волохов не только не успокоился, а наоборот – утратил всякую твёрдость и уверенность в себе. Главный вопрос всё яростнее бился в его сознании: а не совершил ли он подлость, отказавшись взять на поруки своего старшего товарища, который так много для него сделал и в житейском, и в литературном плане? Тогда, в тридцать седьмом, Волохов тоже чувствовал себя неважно. Но тогда они все были охвачены общим порывом. Они были вместе тогда – все как один осудили своих бывших руководителей, оказавшихся подлыми врагами. И все вокруг – на заводах и фабриках, в конторах и в театрах, на стадионах и в колхозных клубах – точно так же осуждали и требовали расправы с окопавшейся среди них контрой. Такое время было тогда, такое течение, которому нельзя было противиться. Но теперь-то он один должен был решить судьбу Пеплова. И он испугался! Оказался трусом! Слово это «трус» – палило его изнутри, и чем дальше, тем сильнее. Он не хотел этого слова, боялся его и в то же время точно знал, что он смалодушничал. Самого себя ведь невозможно обмануть! Конечно, страх его был оправдан и понятен, а борьба неравной и нечестной. На карту поставлено слишком многое! Все они чувствовали себя беспомощными перед лицом злой неистовой силы, которая разила неожиданно и неотразимо, не ведая ни жалости и ни сомнений, не разбирая правых и виноватых. Но и всё же у каждого индивида имелся выбор. Да, выбор у Волохова был. И тогда, два года назад, был выбор. Был он и сейчас. И он его сделал. А что, если он ошибся? Ошибся не в том, что посчитал Пеплова врагом (в глубине души он никогда в это не верил), а в том, что переоценил опасность и не спас товарища! Он мог сделать благое дело, но не сделал этого. И он уже знал, что каждый раз, вспоминая об этом, будет чувствовать не стыд даже, не раскаяние, а свинцовую тяжесть – на душе и на сердце, как он чувствует её теперь. Не хочется подниматься и куда-то идти, сами мысли сделались тяжелы. Кажется: не для чего больше жить! От былого одушевления не осталось и следа. Как же теперь писать стихи? Чему ты можешь научить своих читателей, если сам ты трус и ничтожество?
Впервые в жизни он пожалел, что связал судьбу с литературой. Работал бы теперь на каком-нибудь заводе, был бы простым токарем и точил шестерёнки из неподатливого металла. И никаких тебе сомнений – всё ясно и просто. Работай от звонка до звонка, получай зарплату, ходи на собрания и голосуй за всё подряд, расти детей, будь как все и радуйся жизни. Но он погнался за славой, за ускользающим миражом, хотел быть на виду и «играть роль». Пленился Пушкиным. Ему вдруг вспомнились дивные строчки:
Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — Летят за днями дни, и каждый час уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём Предполагаем жить, и глядь – как раз умрём. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля — Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег.Он закрыл глаза и представил, как бежит среди густого леса – дальше от города, от пыли и суеты, туда, где всё просто и безмятежно, где первозданный покой и прозрачность. Как хорошо, должно быть, просыпаться каждое утро в простой бревенчатой избе где-нибудь в глуши. Слышать шорох трав среди ночи, видеть звёздное небо и знать, что тут тебя никто не потревожит и ты волен делать что угодно: валяться на траве, переплывать реку, собирать ягоду и мечтать о несбыточном – словом, быть самим собой. Не об этом ли грезил Пушкин, когда писал эти дивные строчки? А ведь было ему тогда тридцать пять лет – столько же, сколько и Волохову теперь. Но какая огромная между ними разница! Целая пропасть, которую уже не преодолеть, даже если прямо сейчас бросить всё, убежать без оглядки в поля и долы. Груз совершённых ошибок слишком тяжёл. Покоя не будет уже никогда, ни при каких условиях, даже если все вокруг станут говорить, что ты ни в чём не виноват и всё сделал правильно. Собственную совесть не обманешь. Она – твой главный судия, обмануть которого нельзя.
В таких размышлениях проводил дни и ночи уполномоченный Союза советских писателей. Это был человек совестливый и небесталанный, волевой и целеустремлённый. Но совесть была грубо задавлена, а талант словно бы задохся, зачах. Нельзя же, в самом деле, совершать сделки со своей совестью и одновременно писать проникновенные, берущие за душу стихи. Двуличие всё равно скажется, как ты его ни прячь. Пусть рифма будет безупречной, а мысль правильной и точной, но что-то всё равно будет не так – и нескладно, и неладно, и невпопад. Сквозь ровные строчки будет сквозить отрава, словно буквы пропитаны ядом. Сами мысли будут фальшивы, а чувства – лживы, и всё вместе будет мёртво и глубоко порочно. Это как если бы проповедник тайно надругался над ребёнком, а потом, как ни в чём не бывало, стал бы говорить свои проповеди с амвона – о высокой нравственности, о духовности, о справедливости и о любви к ближнему. Слова будут те же самые, что и накануне, но впечатление будет совсем другим. Все вдруг почувствуют и эту фальшь, и глубоко запрятанную мерзость.
Давно известно: всякий поступок и всякая мысль оставляют неизгладимый след в душе человека. И чем страшнее проступок, тем отчётливее проявляются его следствия – не только в душе, но и в самом облике совершившего его человека. Таков извечный закон, проверенный бесчисленное количество раз – во всех странах и во все эпохи.
А нынешняя эпоха была особенная, ни на что не похожая. О каком другом времени могли быть написаны такие строки?
Пропитаны кровью и желчью Наша жизнь и наши дела. Ненасытное сердце волчье Нам судьба роковая дала. Разрываем зубами, когтями, Убиваем мать и отца, Не швыряем в ближнего камень — Пробиваем пулей сердца. А! Об этом думать не надо? Не надо – ну так изволь: Подай мне всеобщую радость На блюде, как хлеб и соль.Вот и мучились длинными бессонными ночами бывшие товарищи и друзья, коллеги и соседи – о преданных и оболганных, о поруганных и убитых, о принесённых в жертву непонятно ради какой высокой цели. Задача эта была неразрешима. Потому что нет такой цели, ради достижения которой следует убивать ни в чём не повинных людей. Нет – и никогда не будет, что бы там ни говорили иезуиты, фашисты и большевики.
На следующий день лейтенант Котин вызвал Пеплова на допрос. Тринадцать месяцев Пётр Поликарпович томился в неведении – всё в той же камере без дневного света и свежего воздуха. Про него словно забыли (а оно почти так и было), пока разбирались с капитаном Рождественским, потом с лейтенантом Исаковым, пока разоблачали Лупекина и всех его замов и секретарей, – дело Пеплова затерялось среди прорвы бумаг. Да оно никого по-настоящему и не интересовало. Если бы дело и сам Пеплов вдруг пропали из этого мира, никто бы этого и не заметил. Но дело не могло исчезнуть само собой. И в один прекрасный день оно попалось на глаза кому-то из новых вершителей судеб, и колесо снова завертелось.
Между тем шёл уже тридцать девятый год. Март наступил. Весна уверенно шагала по Сибири и вселяла в сердца людей надежды (несмотря на все декреты большевиков). Узники особенно чувствительны к этой поре надежд и прибывающих сил – это давно замечено. Вот и обитатели ледяных подвалов областного управления НКВД почуяли запах весны, встрепенулись, ощутили сквозь метровые стены живительное дыхание природы.
Когда Пеплова доставили на допрос к следователю, тот долго в него всматривался, всё не мог поверить, что это тот самый человек, фотографии которого имелись в деле. На фотографиях Пеплов был молод и гладок, смотрел уверенно, а голову держал прямо. Что ж теперь? Перед Котиным сидел на стуле обессилевший старик, весь в лохмотьях, грязный и заросший, с пепельным лицом и потухшим взглядом. Он горбился и всё клонился вбок. Смотрел почему-то не прямо, а больше вниз и в сторону. Казалось даже, что он не в себе, не отдаёт отчёта в происходящем.
Котин живо поднялся, налил в гранёный стакан воды из графина и протянул подследственному.
– Выпейте воды, ну-ну, не бойтесь. Это обычная вода. Берите!
Пеплов не сразу взял стакан. Смотрел мутными глазами на следователя и словно бы не верил. Наконец поднял руку; дрожащие заскорузлые пальцы неловко обхватили стекло. Поднёс стакан ко рту, зубы застучали о стекло, вода полилась по спутавшейся бороде. Котин молча смотрел, как Пеплов пьёт. Тот, словно почувствовав вкус, вдруг стал жадно глотать жидкость, рука судорожно дёрнулась, словно стараясь пропихнуть стакан целиком в горло. Котин не выдержал и мягко отобрал стакан. Прошёл за стол и сел в кресло. Пеплов утирал рукавом рот, во все глаза смотрел на следователя. Так, быть может, смотрит дикарь на цивилизованного человека. Котин задумчиво покачал головой и спросил:
– Вы Пеплов? Пётр Поликарпович?
Сидевший перед ним человек медленно кивнул, с бороды его сорвалась капелька.
Котин резко встал со стула.
– Вас что, в баню не водят? – спросил недовольно.
Пеплов не ответил.
– Когда вы в последний раз мылись?
Пеплов пожал плечами.
– Не помню.
– А одежду когда меняли?
Снова молчание.
Котин поджал губы. Хотелось выругаться, но он сдержался, сообразив, что любое грубое слово испугает этого человека. И ведь Пеплов не виноват в том, что так зарос грязью.
– Вот что, – наконец сказал Котин. – Я сейчас распоряжусь. Сегодня же вас отведут в баню. Подстригут и приведут в нормальный вид. Вам выдадут новую одежду, накормят. А потом мы с вами поговорим. Хорошо?
Пеплов не сразу понял сказанное. Поднял голову и посмотрел в лицо следователя. Потом медленно кивнул и молвил:
– Да. Хорошо…
Котин нажал на кнопку звонка, расположенного под столешницей. Вошёл конвоир, встал на изготовку.
– Вот что, – сказал Котин строго, – этого сейчас веди прямо в санитарный корпус. Я позвоню, чтобы вас там встретили. Передашь дежурному, а потом, когда он скажет, заберёшь подследственного обратно в камеру. Всё ясно?
Конвоир кивнул.
– Так точно, товарищ лейтенант. Будет исполнено.
Пеплов убрался, унеся с собой тяжёлый въедливый запах. Котин некоторое время стоял возле стола с задумчивым видом. Было отчего-то досадно. Он собирался отпустить этого Пеплова. Но мыслимое ли дело – выпускать на волю такой экземпляр? Даже если этот Пеплов и в самом деле ни в чём не виновен – какое он произведёт впечатление на всех своих знакомых? Что они подумают? Что заключённые содержатся хуже диких зверей? Да ещё и безо всякой вины со своей стороны? И что он сам будет рассказывать о времени, проведённом в советской тюрьме? Чего доброго, напишет книгу воспоминаний или как-нибудь выведет это всё в завуалированных образах, как они это умеют… Нет, нельзя его отпускать. По крайней мере теперь. Да и нет для этого оснований. Писатели – и те от него отказались. Чего же Котин будет из кожи лезть? Да и какая, собственно, разница? Одним писателем больше, одним меньше – ничего от этого не изменится. Страна большая. Найдутся другие, ещё и получше. А этот и так написал достаточно книг. Ну и хватит с него. Не сумел вовремя увернуться, чего уж теперь!
Совершив такие умозаключения, Котин захлопнул папку с делом Пеплова и бросил её в ящик стола. Дальнейшие действия были ему ясны. Всё оказалось гораздо проще, чем он думал.
И всё же ему было по-человечески жаль Пеплова. И он решил поговорить с Пепловым просто так, без протокола. Как-нибудь подбодрить его, примирить с действительностью, что ли… Он и сам не мог понять своих намерений. Быть может, это были остатки сострадания, обычной человеческой совести. Всё-таки именно он должен был окончательно решить судьбу этого странного заключённого. Перед тем как отправить его в ад, Котин хотел своего рода отпущения грехов (попадались и такие среди энкавэдэшников, не все же были бесчувственные чурбаны, которым было абсолютно всё равно, сколько человек они отправят на тот свет и заслуживают ли все они смерти).
На следующий день подстриженного и вымытого, переодетого в относительно чистую одежду Пеплова во второй раз представили пред светлые очи лейтенанта Котина. Оглядев подследственного, он удовлетворённо хмыкнул и кивнул своим мыслям. Одно доброе дело он уже совершил – Пеплов теперь походил на человека. Даже выражение лица изменилось. То оно было тупое и затравленное, а теперь Пеплов смотрит почти что осмысленно. Перестал горбиться и словно помолодел…
Котин предложил ему садиться, а конвоира выставил за дверь.
Пеплов осторожно сел. Стул стоял боком возле стола следователя. Естественно было положить левый локоть на стол. Но Пеплов этого не посмел. Лишь глянул сбоку и тут же отвёл взгляд. Котин всё это заметил и, дабы разрядить обстановку, взял со стола пачку папирос и протянул Пеплову.
– Курите. Вот пепельница. Не стесняйтесь. Я разрешаю.
Пеплов недоверчиво глянул ему в глаза и потянулся за папиросой. Котин щёлкнул зажигалкой.
Пеплов давно не курил и сразу закашлялся.
Котин сделал вид, что ничего страшного не происходит, всё так и должно быть. Аккуратно стряхнул пепел со своей папиросы в бронзовую пепельницу, оглянулся на заснеженное окно…
Пеплов наконец перестал кашлять. Сделал несколько жадных затяжек и задышал глубоко и порывисто. Лицо его побагровело, глаза странно заблестели. А пальцы всё равно тряслись – это Котин тоже приметил.
– Скажите, как вас кормят? – спросил он буднично. – Вы не голодаете?
Пеплов отстранил папиросу. Вопрос, как видно, изумил его. Склонил голову набок, сделал движение плечами и хрипло проговорил:
– Сначала было голодно, а потом привык. Мы ведь сидим на месте, ничего не делаем. Можно прожить на хлебе и воде.
Пётр Поликарпович сказал не всю правду. То, что можно прожить на хлебе и на воде – это верно. Но он не сказал о другом: от недостатка витаминов и однообразной пищи у него испортились почти все зубы. Какие-то выпали сами, а какие-то ему помогли выдернуть соседи по камере (старинным способом: привязывая зуб за крепкую нить, а потом резко дёргая, так что брызгала кровь). И теперь у него не было передних зубов ни вверху, ни внизу. Но он как-то уже привык к этому, не очень и замечал. Дикция, правда, пострадала. Но это всё такая ерунда, что об этом нечего и говорить. А ещё он сильно похудел. Язва обострилась. Ухудшилось зрение. И руки вот стали трястись, как у старика. А ведь ему нет ещё пятидесяти.
Котин и сам не знал, зачем задал этот вопрос. Ничего он тут исправить не мог, даже если бы очень захотел. Про то, что Пеплов голодает, он мог бы и сам догадаться.
Досадуя на себя, Котин придвинул папку с делом Пеплова.
– В общем, так, – произнёс, переворачивая первый лист. – Следствие по вашему делу длится уже почти два года. На то были свои причины, о которых я тут не буду говорить. Передо мной поставлена задача: завершить следствие и передать дело в суд.
Пеплов вдруг навалился на стол.
– Товарищ лейтенант, гражданин следователь, скажите же мне, Христа ради, в чём меня обвиняют?
Котин с удивлением посмотрел на него.
– Вы обвиняетесь в создании повстанческой организации бывших партизан. Как же вы этого не знаете? Ведь вас уже допрашивали по этому делу. Вы и протоколы подписали. Не все, как я вижу. Но всё же… общие сведения вы должны знать.
– Я уже говорил следователю, что ни в какой повстанческой организации я не состоял, даже мыслей таких у меня не было! Я думал, за это время во всём разберутся. Неужели меня опять будут мучить этими нелепыми обвинениями?
Котин отмахнулся.
– Можете не бояться. Следствие по делу повстанческой организации партизан давно закрыто. Почти все руководители и активные члены расстреляны. А вам, можно сказать, повезло. Вы остались живы. А ведь всё могло сложиться иначе.
– Как расстреляны? – вскинулся Пеплов, когда до него дошёл смысл сказанного. – За что же их расстреляли?
Котин поджал губы.
– Я не вёл этого дела. Подробностей не знаю. Могу только сообщить, что в декабре тридцать седьмого в один день расстреляли Яковенко, Лобова, Рудакова, Буду, Астафьева, Лаврова, Неупокоева, Малышева, Жилинского и ещё некоторых. Я всех не помню. Странно, что вы этого не знаете. Неужели вам не сообщили?
Пеплов ахнул:
– Васю Яковенко расстреляли? Не может этого быть! Как же это? Такого человека – и пустили в расход. Ведь он всеми партизанами у нас в Канском крае командовал! Это почти двадцать тысяч штыков! А потом у Рыкова в правительстве был наркомом, он очень много сделал для советской власти! – Пётр Поликарпович с надеждой глянул на следователя, словно ожидая, что тот вдруг передумает и скажет, что он пошутил, а Василий Григорьевич Яковенко жив и здоров. И все остальные – тоже.
Но Котин и не думал шутить. Лишь вздохнул и отвернулся. Молвил, как бы про себя:
– Рыков тоже расстрелян. Глубоко окопались враги советской власти. Так-то вот. – Обернулся и строго посмотрел на Пеплова. – Вам, Пётр Поликарпович, о себе думать нужно. Мёртвые из могил уже не встанут, сделанного не воротишь. Если в чём-то и была допущена ошибка, так чего теперь об этом говорить? Дело прошлое. Нам всем нужно смотреть вперёд. Строить новую жизнь, двигаться к светлым целям.
Пётр Поликарпович внимательно посмотрел на Котина.
– Вы считаете, что для меня возможна новая жизнь?
– Ну а почему бы нет? – уверенно ответил тот. – Отбудете наказание, искупите вину честным трудом и выйдете на свободу. И будете дальше жить.
– Жить с клеймом врага народа?
Котин строго посмотрел на него.
– Никакого клейма на вас нет! Вы это бросьте. Это при царе людей клеймили, вырывали ноздри, сажали на кол. А советская власть никого не клеймит и зря не наказывает. Взять хотя бы вас. Вина ваша не была доказана, поэтому мы и беседуем сейчас с вами.
– Это потому, что я ни в чём не признался. А если бы подписал протокол, так меня бы тоже расстреляли. Разве не так?
Котин снисходительно улыбнулся.
– Ну вот опять. Давайте не будем высказывать пустые предположения, а будем опираться на имеющиеся факты. У меня ваше следственное дело – вот оно! Я его внимательно изучил и сделал следующее заключение: все возводимые на вас обвинения представляются мне беспочвенными. Кроме одного: по пункту десятому статьи пятьдесят восьмой Уголовного кодекса вина ваша фактически доказана, в том числе вашими собственными показаниями.
– А что это за пункт?
– Антисоветская агитация, изготовление и распространение литературы антисоветского содержания. Наказание по этой статье минимальное – от шести месяцев.
Пётр Поликарпович чуть привстал на стуле.
– Погодите. Какая агитация? Кого я мог агитировать? Когда?
Котин снова улыбнулся.
– Агитация имела место, и я смогу это доказать на основании уже имеющихся у меня протоколов ваших допросов. А кроме этого, вам можно вменить ещё и двенадцатый пункт этой же статьи – недонесение. Вы не сообщили о противоправных деяниях ваших ближайших товарищей – Басова и Гольдберга! А ведь вы не могли об этом не знать! Вот и получается, что у вас может быть не один, а целых два пункта пятьдесят восьмой статьи. А это утяжеляет наказание. Тут уже шестью месяцами не отделаешься. Мой вам совет: соглашайтесь на десятый пункт, и этим ограничимся. Я вам это обещаю.
– Что значит – соглашайтесь? – воскликнул Пеплов. – Почему я должен соглашаться с тем, чего никогда не делал? А как я потом буду смотреть в глаза людям, если теперь признаюсь в антисоветской агитации? Что это за бред?
Котин испустил вздох.
– М-да. Теперь я понимаю, почему вы так долго не подписывали протоколы. Доводы разума на вас не действуют. Здравый смысл – тоже.
– Да перестаньте вы! Какие доводы? Покажите мне хоть одно свидетельство моей вины! Почему вы и ваши предшественники всё время требуете от меня чистосердечного признания? Вы сами должны доказать мою вину! Ведь существует же презумпция невиновности. Совсем недавно принята новая конституция, гарантирующая всем советским людям исключительные права и свободу!
– Вы мне бросьте эту демагогию! – повысил голос Котин. – Конституция пишется для свободных граждан и патриотов нашей великой Родины. Ваша конституция – это Уголовный кодекс. Прошу это хорошенько запомнить. Я вам предлагаю наилучший выход из крайне опасного положения, в котором вы оказались. Заметьте: не я вас арестовывал! Не я возводил на вас все эти обвинения! Скажу вам больше: мною рассматривалась возможность прекращения вашего дела, я мог бы выпустить на поруки! Но из этого ничего не вышло. Ваши бывшие коллеги не захотели поручиться за вас. Я получил на вашу последнюю книгу пять отрицательных отзывов. Не я, а ваши товарищи обвиняют вас в политической незрелости. Одних только этих отзывов вполне достаточно, чтобы признать вас виновным по десятому пункту пятьдесят восьмой статьи. Уж можете мне поверить. Поэтому я и предлагаю вам всё взвесить и согласиться. Ваше чистосердечное раскаяние будет принято во внимание и учтено при вынесении приговора. Как я уже сказал, минимальное наказание по этому пункту – шесть месяцев. Но ведь максимальный срок неограничен! Если вы будете упорствовать, то вполне можете получить десятку и отправиться в дальние лагеря. А это уже очень серьёзно! Хватит ли у вас сил, чтобы выдержать такой срок в условиях Крайнего Севера? Ведь вы уже не молоды. А там и молодые гибнут массово. Уж я знаю, можете мне поверить.
Пётр Поликарпович слушал эту нотацию, опустив голову. Про то, что творится на Колыме, он уже слыхал. Видел в камере двоих «оттуда». Их привезли в Иркутск на доследование. Но что это были за люди! Чёрные, словно обугленные. Измождённые до последнего предела. Кожа да кости! Зубов во рту у них не было ни одного. Кожа на всём теле и на руках шелушилась и лущилась. Пальцы на ногах были черны от обморожений, из них сочился гной вперемешку с кровью. Оба они походили на Кощея Бессмертного из сказки. Но тут была не сказка, а самая беспощадная действительность. Пётр Поликарпович начал было расспрашивать их о житье-бытье на страшной Колыме, но натолкнулся на упорное нежелание говорить, увидел безумные глаза, от которых у него мороз по коже пошёл. Он словно заглянул в бездну, откуда нет возврата. Заглянул – и тут же отвёл взгляд. Постарался забыть, не думать.
В просторном светлом кабинете следователя он вдруг вспомнил и эти жуткие глаза, и тёмную камеру, и запах заживо гниющего тела. Всё это могло случиться и с ним! Как оно там повернётся, ещё неизвестно. Пока что он понял лишь одно: из тюрьмы его не выпустят. Снова нужно признавать несуществующую вину, клясться в преданности, доказывать свою лояльность. А возможно, и становиться тайным осведомителем. Всё это ему уже предлагали: и покаяться, и поделиться своими наблюдениями за товарищами. За признание несуществующей вины ему сулили всяческие выгоды. А что на деле вышло? Всех, признавших свою вину, немедленно расстреляли. Можно ли после этого верить всем этим следователям?
– Что ж вы молчите? – нетерпеливо спросил Котин.
– Я должен подумать, – ответил Пеплов, не поднимая головы.
– Ну что ж, думайте. Только не очень долго. У меня ведь и другие дела находятся в производстве. Я не могу тратить на вас всё своё время.
Пётр Поликарпович вдруг как-то странно глянул на Котина, глаза его затуманились.
– Гражданин следователь, – начал он, невольно подаваясь вперёд, – а я могу подать заявление о пересмотре дела?
– Какое ещё заявление? Зачем?
– Я хочу товарищу Сталину написать.
Некоторое время следователь сидел неподвижно. Лицо его одеревенело, взгляд стал жёстким. Наконец он выдохнул, положил руки на стол. Выражение сделалось непроницаемым. Два месяца назад до всех следователей довели новую инструкцию из центра, согласно которой каждый заключённый мог теперь писать заявления во все инстанции вплоть до высшего руководства страны. Поощрять заключённых, конечно, никто не собирался. Но и препятствовать такой деятельности было нельзя. По крайней мере явно.
– Ну что ж, пишите, если вам так хочется, – с неохотой молвил Котин. – Только сразу хочу предупредить: последствия такого шага могут быть для вас непредсказуемыми.
Он многозначительно посмотрел на Пеплова. А про себя подумал, что никаких последствий ни для кого не будет. До Москвы это заявление, конечно, не дойдёт. Никакой дурак его читать не станет. Да и кому охота изучать все эти многостраничные излияния, в которых нет никаких фактов, зато очень много эмоций и обид (Котин уже имел возможность в этом убедиться). И ладно бы один написал, а то сколько ни есть в тюрьме заключённых, столько и будет подано бумаг. Иные пишут не по одному разу, полагая, наверное, что там, наверху, находится какое-то божество: оно немедленно вникает во все детали и сопереживает каждому нюансу.
– Дайте мне бумагу, – прервал его размышления Пеплов. – За всё время заключения у меня не было ни клочка. Я вас очень прошу!
Котин взял со стола несколько листов и положил на край стола.
– Этого хватит?
Пётр Поликарпович потянулся к листам и вдруг замер.
– А можно я прямо здесь напишу? В камере условия не те и вообще…
Котин сразу хотел отказать, но вдруг подумал, что чем скорей Пеплов напишет своё заявление, тем быстрей он закроет это дело. Тянуть волынку ещё два года он не хотел. Само заявление его нисколько не беспокоило. Он уже знал, что этот документ будет подшит к следственному делу. В лучшем случае его прочитает новый начальник управления товарищ Смирнов. А ещё лучше – вообще бы никто не читал.
– Хорошо, – произнёс Котин как бы после внутренней борьбы. – Хотя мне и некогда, но ради такого дела я подожду. Вот вам ручка. Садитесь поудобнее. Даю вам полчаса. Постарайтесь уложиться.
С щемящим чувством Пётр Поликарпович взял заскорузлыми пальцами это чудо технического прогресса – обыкновенную перьевую ручку. Сколько раз он пользовался точно такой же (деревянный цилиндрик с насаженным на него металлическим пером), но никогда не испытывал никакого волнения. Всё было привычно и буднично. Но теперь ручка была не просто приспособлением для письма – это был знак принадлежности к высшей касте – касте людей мыслящих, людей высокой культуры! Там, в камере, у них долгое время не было возможности написать хотя бы слово. Обычный грифель от сломанного карандаша казался чудом. Клочок бумаги был на вес золота (так что приходилось писать записки на волю своей кровью на кусках своей же рубахи).
Пётр Поликарпович поднёс к глазам ручку и вдруг осознал всю сокровенную мощь этого незатейливого изобретения. Этим стальным пером можно создать бессмертную поэму, которая поведёт за собой миллионы людей на подвиг и круто изменит ход истории. И одним росчерком металлического пера можно облечь те же самые миллионы на немыслимые страдания, на позор и на смерть. Перо может пронзить трепещущие сердца и больно ранить души. А может произвести на свет нечто такое, чему ещё нет названия, но что осчастливит людей всех земли, сокрушит всё зло мира!
Котин с интересом наблюдал странную игру чувств на лице у подследственного. Тот застыл с ручкой в руке, а по лицу его то разливалось благоговение, то набегала мрачная тень, и тогда лицо делалось похожим на посмертную маску. Это очень смахивало на помешательство – Котин уже видел нечто похожее. Да и правду сказать: от этих интеллигентов всего можно ожидать. Не зря их садят направо и налево. Никакой последовательности в поступках. И в голове какая-то мешанина. Поди пойми, что у них на уме.
Котин испустил протяжный вздох и молвил с грустью:
– Пётр Поликарпович, вы можете приступать. У меня мало времени.
Тот вздрогнул, словно очнувшись, повернулся и глянул невидящим взглядом на следователя. Последовала пауза, потом взгляд сделался более осмысленным, секунда – и он словно бы разглядел Котина. Поднёс руку к лицу и вытер лоб рукавом. Забормотал:
– Да, я сейчас. Не извольте… сомневаться.
Подвинул к себе листы, обмакнул ручку в чернильницу и склонился над бумагой.
«Москва. Генеральному Секретарю ЦК ВКП(б) Иосифу Виссарионовичу Сталину», – вывел он твёрдой рукой в верхнем правом углу.
Немного подумал и стал писать так:
«Я арестован 8 апреля 1937 года. Почти два года длится следствие, и конца его я не вижу. Писать Вам лично вынуждает крайняя необходимость и то, что я ещё не утратил веру в справедливость, в Советскую власть. Представьте на минуту положение человека, в течение двух лет не знающего, что с ним будет, ежечасно ожидающего неведомых бедствий, внушающего себе самый ужасный, кошмарный конец. До сего дня я не прочёл в тюрьме ни одной книги, не имею никакого труда, содержусь в камере (бывшей одиночке) без естественного света, в сообществе 6—10 человек, с внутренней парашей, которая зачастую течет от переполнения. К тому же за время заключения я совсем не имею возможности пользоваться ежедневной прогулкой, хотя бы по нескольку минут. На неоднократные просьбы к прокурору и Управлению о разрешении мне заниматься литературным трудом я также не получил ответа.
Это полное неведение своей судьбы невольно приводит к пагубной мысли, что в одиночной камере одиночного корпуса я кончу свои дни. Иных перспектив не вижу. Может быть, я ошибаюсь, но таков строй мыслей арестанта, законсервированного на годы, поставленного в самые тяжёлые условия, не знающего за собой никакой вины.
Делаю отчаянную попытку настоящим заявлением и больше писать никуда и никому не буду.
К Вашему сведению, считаю необходимым сообщить коротко суть моего дела. В начале ареста (в апреле 1937 г.) следствие предъявило мне обвинение в том, что я состоял в контрреволюционной организации бывших красных партизан, возглавляемой Яковенко. В мае и июне того же года обвиняло, что я участник контрреволюционной организации, возглавляемой местным крайкомом и крайисполкомом. В те же дни следствие потребовало назвать лиц, которых я завербовал.
Таким образом, получалось, что я состоял в трёх организациях. Но когда мною было заявлено следствию, что никаких контрреволюционных организаций мне даже во сне не снилось, начальник отдела капитан Рождественский угрожающе сказал: если я буду “запираться”, то немедленно будет арестована моя жена, дети, и из меня “вымотается” не только душонка, но и кишки. “Вы должны дать мне не менее как пятьдесят контрреволюционеров”, – категорически потребовал он. После указанного допроса меня забросили в камеру без естественного освещения, с промерзлой стеной, и не вызывали до сентября 1937 года. В сентябре вызвали уже другие следователи, и теперь уже не обвиняли меня в участии в какой-либо конкретной, ранее названной к. р. организации, а требовали признаться, в какой же, наконец, таинственной организации я состоял. Но теперь о терроре уже не упоминалось, зато следствие настоятельно требовало, чтобы я раскрыл перед ними свою шпионскую деятельность. На что ответив отказом, я был снова законсервирован и не вызывался на допросы тринадцать (13) месяцев. За это время я не имел возможности кому-либо написать об этом беззаконии, так как не имел бумаги и карандаша.
Считаю крайне необходимым заново пересмотреть моё дело. Необходимо допросить свидетелей и переопросить лиц, давших на меня показания (с предоставлением очных ставок с ними). Нужно внимательно изучить все обстоятельства моего дела!
Находясь всё в тех же нечеловеческих условиях, теряя последние силы, я не могу себе объяснить: кому и для чего нужны мои мучения? Предъявленное мне обвинение отрицаю, как самую беспардонную ложь. По самой природе я не могу быть контрреволюционером. Если бы этой стороной дела заинтересовалось следствие, то оно бы убедилось как раз в противном, в том, что на меня возведено клеветниками. Из восьми лиц, давших на меня показания, пятерых я совсем не знаю, не знал до сих пор, что в природе существуют такие люди. Остальных в жизни встречал по одному-два раза. Двое из написавших рецензии на мою книжку “Половодье” являются редакторами этой книжки и до моего ареста расхваливали её. Кроме всего, в показаниях на меня нет прямых улик, а есть только ссылки на то, что “говорил тот-то”. Считаю себя вправе думать, что часть лиц оклеветала меня в целях компрометации советских людей, другая – просто не выдержала напора следствия, на что есть доказательства живых людей, сидевших и сидящих со мной в одной камере.
Кто же я?
Родился и вырос я в деревне. До военной службы (1915 года) занимался сельским хозяйством. В 1917 году, будучи рядовым солдатом, я принял участие в Иркутских декабрьских боях, был контужен, а позднее награжден Почётной грамотой красногвардейца. В 1918 году, в дни падения первой Советской власти в Сибири, я был в рядах красногвардейцев, защищавших Канск и Красноярск, а затем с группой бойцов ушёл в тайгу. В декабре 1918 года выступил в рядах партизанской армии, в армии Кравченко и Щетинкина находился до конца похода (до марта 1920 года). До 1921 года я работал по ликвидации разных белых банд. И только в 1922 году получил возможность ликвидировать свою политическую неграмотность. А уже в 1927 году я написал свою первую книжку “Партизаны”, о которой тепло отозвался А. М. Горький. До дня ареста я написал ещё ряд книжек: “Саяны шумят”, “Золото”, “Шайтан-поле” и др. О книжке “Саяны шумят” А. М. Горький написал мне очень хорошее письмо, обещал написать предисловие к “Половодью”, которое он читал ещё в рукописи.
Я работал и учился, так как учиться мне удалось только при Соввласти. Я выучил двух сыновей, дав им высшее образование. Мечтой моей жизни было одно: написать одну-две настоящие книжки, достойные нашей эпохи. Иной жизни вне работы с Соввластью и партией большевиков я никогда не мыслил. Да это просто противоречило бы всякому здравому смыслу. Что я мог ожидать от любой, не Советской власти в России? Ничего, кроме петли. Ведь семь лет я носил винтовку, которая стреляла по настоящим врагам революции.
Жил и работал я хорошо. Кроме поощрений, ничего от Советской власти и компартии не встречал. Так вместе с ней думал дожить до конца. Но дожить мне не дали клеветники, мои старые недоброжелатели. А следствие в основу всей моей жизни, отданной на завоевание и укрепление Соввласти и Родины, поставило гнусную ложь клеветников и на этом основании держит меня под следствием два года, предъявляя оскорбляющие даже слух обвинения. Всю мою жизнь можно было проверить, можно было проверить и показания, но, видимо, это не входило в задачи следствия. Так, по крайней мере, мне было заявлено капитаном Рождественским, когда я попросил свидания с Начуправления Гаем, как мне передавали, вслед за мной арестованным. Вот и всё. Просьб своих я не излагаю. Вы сами знаете, что в данном случае можно сделать в интересах человека, искалеченного двухлетним заключением.
Буду счастлив, если это заявление дойдёт до Вас – и только.
П. Пеплов, 16 марта 1939 г. Иркутск».
Всё заявление уместилось на двух листах.
Пеплов поднял голову.
– Всё, – выдохнул. – Готово.
– Ну, давайте сюда. – Котин протянул руку. Пеплов осторожно вложил в холёные пальцы трепещущие листы. Жаль ему было отдавать этот крик души. Уже сейчас он нетвёрдо помнил, о чём он там писал. Это было какое-то наитие. Он водил пером по бумаге и сам не верил, что пишет нечто связное. Мысли сами собой принимали законченную форму. И радостно ему было, что не утратил он этой многолетней выучки! Измученный мозг сумел собраться и выразить то сокровенное, что и нужно было сказать именно теперь, когда решалась его судьба. На секунду мелькнула странная мысль о том, что эти два листа, быть может, и есть то главное, что он оставит после себя! В них он был до конца честен и серьёзен, чего не скажешь о его книгах, которыми он так гордился и в которых было так много красивостей – «художеств», литературщины. Теперь он вдруг понял, что во всех его творениях не было главного – той самой исповедальности, которая приходит к человеку, лишь когда он чувствует дыхание смерти. Он увидел, что никогда не был до конца честен, что приукрашивал одних и клеветал на других, а в целом получалась одна большая неправда. Хотя внешне всё выглядело гладко и правильно. Его поздравляли с очередной удачей, выдвигали в руководящие органы и садили в президиумы многочисленных собраний. Лишь теперь он понял всё предельно ясно и до конца. Никогда и никаких удач не было. Поздравлять было не с чем. Вот теперь его можно было поздравить – с тем, что он не просто понял, а самой последней жилкой своей прочувствовал ту самую сермяжную правду, на которой зиждутся бессмертные произведения. И так странно получалось, что эти два неровно исписанных листа и эти полчаса сокровенной работы прошли впустую. Никто не оценит, исповедь не прочтёт и не проникнется его сокровенной болью. Ах, если бы его и в самом деле отпустили – как бы он взялся за работу! Какие бы книги написал – именно теперь, когда ему открылась высшая правда. (Не то же ли самое испытал и Достоевский в те несколько минут, когда ожидал своей очереди на расстрел?)
Котин в это время пробегал равнодушными глазами бегущие вкривь и вкось строчки заявления. Ничего необычного он в нём не заметил. Всё было на своих местах: жалобы на несправедливую судьбу, настоятельная просьба пересмотреть дело, заверения в личной преданности. Котин словно ожидал чего-то особенного. Но, поразмыслив, понял, что вряд ли что-нибудь новое мог сообщить человек, два года находящийся под арестом. Как и все подследственные, Пеплов возлагал работу по оправданию себя на других. А когда его оправдают, он немедленно потребует официальных извинений, а уж после того – материальной компенсации. И конечно же, станет добиваться наказания виновных в своём аресте. Начнёт он с ближайшего окружения. Это видно и по его заявлению, в котором он так прямо и написал: «посажен стараниями клеветников и недоброжелателей». И ещё его вдруг резанула эта фамилия: Гай!
Да, был такой начальник УНКВД по Иркутской области – ещё до Лупекина. В тридцать шестом Гай служил в Москве, возглавлял особый отдел на Лубянке. В Иркутске он проработал всего два месяца, а поди ж ты, зачем-то помнит его Пеплов. Но тогда он должен помнить и латыша Зирниса, целых шесть лет занимавшего должность начальника НКВД ещё до Гая. И Лупекина должен отлично помнить – в бытность его Пеплов и был арестован. После Лупекина управление почти год возглавлял Малышев (которого все боялись из-за его нечеловеческого взгляда и бульдожьей морды; Котин поёжился при воспоминании об этом субъекте). И вот все они – Зирнис, Гай, Лупекин и Малышев – теперь благополучно расстреляны. Котин вдруг поразился этой цепочке из мертвецов, возглавлявших областное управление НКВД в течение последних десяти лет. Он и раньше знал об этих смертях – но знал как-то порознь, без всякой внутренней связи. Ну был там какой-то Гай (вот же дурацкая фамилия!). Потом мертвообразный Лупекин восседал в кресле начальника (этого он застал). И бульдогообразного Малышева отлично помнил. Но никогда он не связывал их общей смертной судьбой. А теперь вдруг связал и поразился: было во всём этом что-то зловещее, дьявольское. Этакая мясорубка, перемалывающая людей без всякого разбора и внятной вины. (Сам Котин ненадолго переживёт бывших своих начальников. Он будет расстрелян через девять месяцев – 16 января 1940 года. Но знать об этом он, конечно же, не мог. Да и палачи его об этом пока что не догадывались. Палачи очень просто могли стать жертвами, а жертвы – палачами. Такая тогда была обстановка в стране победившего социализма.)
Ну а пока что Иван Фёдорович Котин держал перед собой заявление Пеплова и ругал себя последними словами. Мало того что драгоценное время потерял, так ещё напрочь испортил себе настроение. Он не мог дать себе отчёт в столь внезапном ухудшении своего самочувствия. Но причина была в этой зловредной бумаге и её авторе – это уж он понял. Зря он расчувствовался перед этим гнилым интеллигентом!
Котин порывисто раскрыл папку и сунул в неё оба листа.
Пётр Поликарпович напряжённо следил за его действиями. Он заметил эту внезапную смену настроения и теперь пытался понять её причину. Но понять здесь ничего было нельзя. А можно было только следовать неостановимому ходу событий. Эту науку он уже постиг. И когда конвоир велел ему следовать за ним, Пётр Поликарпович привычно взял руки за спину и пошёл из кабинета. На пороге оглянулся, но следователь сидел, низко склонившись над столом. Попрощаться с подследственным он не захотел.
В эту ночь Пётр Поликарпович не смог заснуть. Стоило закрыть глаза, и он видел своё заявление, как он покрывает площадь листа вязью строчек, добавляет всё новые факты, сообщает такие сведения и сыплет такими неопровержимыми аргументами, что сразу становится ясно: он ни в чём не виноват и его нужно немедленно отпускать! Фразы и целые предложения теснились в голове, а рука всё металась по бумаге; казалось, что та вдруг вспыхнет от напряжения и внутреннего огня. А строчки всё лезли друг на друга, картины мешались и путались, он снова сидел в следовательском кабинете и убеждал Котина в своей невиновности. Так – до самого утра.
А утром – оглушающая весть: ему передача с воли от жены! Когда надзиратель сообщил об этом, Пётр Поликарпович в первую секунду не поверил. Два года он не имел никаких вестей от Светланы, не знал, что с ней и с дочерью. И вдруг ему дают в руки холщовый мешок и уверяют, что это от жены! Трясущимися руками он принял мешок, не чувствуя ног прошёл на место и стал растягивать тряпичный узел.
Внутри оказалось несколько луковиц, десяток варёных картошек, несколько сухарей, пачка махорки, банное мыло и белый носовой платок. Увидев всё это, Пётр Поликарпович обхватил голову руками и несколько минут сидел, удерживая рыдания. Его потрясла крайняя скудость этой посылки! Эти луковицы и эта корявая картошка лучше всяких слов говорили ему о том, что жена его жестоко бедствует, и ещё то, что она помнит о нём, не забыла и не предала.
Пётр Поликарпович потряс мешочек, и из него выпала сложенная вчетверо записка. Не веря себе, он развернул её дрожащими пальцами.
«Милый Петя! Родной! Мы знаем, что ты жив. Верим в твою невиновность. Ждём тебя – я и Ланочка! За нас не беспокойся. Мы живём у добрых людей. Я работаю счетоводом в клубе железнодорожников. Буду добиваться свидания. Мне сказали, что это возможно. Напиши мне, если сможешь. Очень за тебя беспокоимся. Крепко целую. Твоя Светлана».
Почти ничего не соображая, Пётр Поликарпович сложил обратно в мешок продукты, обнял его и, прижав к животу, лёг на нары, отвернулся лицом к стене. Весь день он так лежал, и никто не решился его потревожить. Это был какой-то столбняк души, ступор, оглушение. Он ничего не чувствовал, не мог ни о чём думать. И только сердце вдруг болезненно сжималось, и тогда он становился маленьким и невесомым, а всё вокруг исчезало, растворялось без остатка, делалось неважным.
Глубокой ночью, когда все уже спали, он пошевелился. В тусклом свете мерцающей лампочки поднялся с нар и стал медленно развязывать мешок. Достал белый носовой платок и долго на него смотрел. Лицо его приняло задумчивое выражение. Он придвинулся к прямоугольному столику, намертво привинченному к полу между нарами, и приступил к осуществлению задуманного.
Через два часа всё было готово. На столе лежал платок, а на платке были начертаны кровью стихи. Он писал их сразу в готовом виде – так, как редко кто пишет. Строчки эти рвались из его кровоточащего сердца. Если бы он не выпустил их на волю, то, наверное, умер бы этой ночью. Или сошёл с ума. А так – он словно вынул из себя тяжкий груз, и ему стало легче, спокойнее, словно он сделал что-то важное, без чего нельзя дальше жить.
Вот эти стихи, написанные кровью сердца – в самом прямом и непосредственном смысле этого слова:
Страшно в поле завывает вьюга, Даже зверю стужа невтерпёж, Ну а ты, несчастная подруга, С кошельком по городу бредёшь. Проклиная жизни неудачи, Вспоминая горько о былом, Ты несёшь в тюрьму мне передачу, Утираешь слёзы рукавом… Ты бледна, с поблёкшими щеками, Сторонишься робко от людей, И земля колышет под ногами У тебя, как лодка на воде. Ты боишься встретить по дороге Пошляков, изменчивых друзей. Знаю я, пережила ты много За меня, себя и за детей… Неспроста глаза твои увяли, Впала грудь и покривился стан, И того гляди – тебя повалит На сугроб свирепый ураган… Ты несёшь в душе печаль и муку И бесплодно веришь третий год, Что спасёт меня десяток луку, Если смерть голодная придёт. Да, ты права, я безнадёжно болен И вижу смерть над бедной головой, Но ведь тебе не легче на воле, Среди толпы бездушной и чужой… Напрасно в ней ты ищешь человека, Где всё трепещет рабски и молчит, Где негодяй слывёт героем века И где подлец о честности кричит… Злобно в поле завывает вьюга, Тёмный сумрак виснет над тюрьмой, В этот час, любимая подруга, Ты бредёшь, разбитая, домой… Целый день, растрачивая силы, Надо было очереди ждать, Чтоб махорку и кусочек мыла Для меня как милость передать… Бросив взгляд на окна под щитами, Ты, конечно, вспомнила кладбище И ушла, облитая слезами, Одинокой, немощной и нищей… А дома чахнут, голодая, дети. Сквозь пургу ты слушаешь их вой. Эх, жена, несладко жить на свете Одинокой горькой сиротой…И это было всё, что он мог подарить своей жене. Не думал он, что когда-нибудь напишет что-то подобное. И она не думала, что ей будут посвящены столь жуткие строчки, да ещё написанные кровью, в тюрьме. Это было самое невероятное событие, какое только она могла ожидать. Но чего в жизни не бывает? Каких сюрпризов она не преподносит? И сколько ещё было таких «сюрпризов» в те жуткие годы?
Этот платок с кровавыми письменами пережил и автора, и его жену, и даже дочь его. Переживёт он и всех читающих эти строки! Видно, таково свойство сокровенного слова – жить вечно, невзирая ни на что. Таков неубиваемый посыл души – этого божественного огня, который каждый из нас несёт во мраке бесконечной ночи. От огня иногда отскакивают искры, и тогда родятся бессмертные стихи, тогда говорятся заветные слова, которые повторяются потом бессчетное число раз на всех континентах, на всех языках и во все эпохи, какие есть или будут.
Клуб железнодорожников располагался на левом берегу Ангары, сразу за высоким крутояром, с которого открывался дивный вид на реку и на весь правый берег – с него и начинался Иркутск три века назад. Теперь весь правый берег был плотно застроен, там теснились многоквартирные дома и высились монументальные здания, в которых обитала власть – партийная, советская, военная и милицейская (включая все тюрьмы, огромный следственный изолятор и управление НКВД). Зато левый берег напоминал одну большую деревню. На его террасах и склонах теснились сплошь одноэтажные деревянные домишки. Дороги всё немощёные, обсаженные тополями и кустами акации. В клубе железнодорожников (тоже деревянном, одноэтажном) уже второй год работала жена Петра Поликарповича. Уборщицей она пробыла недолго. Положение её со временем выправилось, и уже не было нужды скрывать свою фамилию. Однажды она набралась духу и показала паспорт заведующему клубом, рассказала о своих мытарствах. Заведующий – мрачный долговязый мужчина – тут же оформил её счетоводом, а тряпку и швабру велел сдать завхозу. Жить после этого стало чуть легче, но всё равно было трудно. Не было никакого просвета, никакой цели впереди. Будущее казалось мрачным и ненужным.
Но что-то всё равно менялось в этом беспросветном существовании. Нынешняя весна была уже не та, что прошлая. Стало немного легче с продуктами. Работа уже не отнимала столько сил. И вдруг – как гром среди ясного неба – ей разрешили сделать передачу мужу в тюрьму! Тут даже и не в передаче было дело. Главное: её Петя всё-таки жив! Два года у неё не брали ни передач, ни записок. Был человек – и нету. Почему ж нельзя с ним поговорить? Просто удостовериться, что он жив, что его не услали в дальние дали, откуда не возвращаются. Что не лежит в сырой земле с простреленным черепом.
Ну а ей несказанно повезло. Её муж не сгинул бесследно, как множество других людей! Не зря она верила в него. И не напрасно отправляла письма во все инстанции.
Несколько дней она ходила сама не своя. Всё представляла, как Пётр достанет из мешочка нехитрую снедь, развернёт и прочитает записку. Хоть ей и сказали, что ничего писать нельзя, но она всё-таки рискнула – запрятала записку на самое дно, в складки.
Было это пятнадцатого марта. А через неделю, двадцать второго, к ней в клуб пришёл человек с пепельным лицом и печальными глазами. Он вызвал её в коридор и сообщил, уводя взгляд, что он только вчера вышел из тюрьмы и что он сидел в одной камере с её мужем.
Светлана ахнула. Так и впилась взглядом в этого человека. А он всё отворачивался и куда-то страшно спешил, говорил, что ему некогда и что он должен передать ей от мужа какой-то предмет. Вдруг вынул из кармана скомканную тряпицу и протянул ей. Она взяла, стала со страхом разворачивать и вдруг увидела тот самый платок, который положила в мешочек неделю назад. Но что это? На платке были какие-то красные пятна, а ещё – каракули – тоже все красные и отчего-то страшные. Она подняла помертвевший взгляд на незнакомца. Тот понял её состояние.
– На платке стихи вашего мужа. Это он кровью написал. Просил сказать, что посвятил их вам. И ещё велел их никому не показывать, ни одной живой душе.
Светлана рывком приблизила платок к глазам. Сердце сильно забилось, слёзы застилали взор. Она чувствовала подступающий к сердцу ужас. Пыталась прочесть слова, но ничего не могла разобрать.
– Вы не волнуйтесь! – с досадой произнёс мужчина. – С вашим мужем всё хорошо… более или менее. Он содержится в относительно нормальных условиях. А стихи он написал позавчера ночью. Там это запрещено. Не дают ни бумаги, ни карандашей. Вот он и использовал этот платок. Ну и кровь свою вместо чернил, это тоже так… бывает.
Светлана наконец пересилила себя. Главное – Пётр жив. Всё остальное потом, после.
– Не уходите, прошу вас, – произнесла она умоляюще. – Я сейчас отпрошусь, и мы пойдём ко мне домой. Я вас чаем угощу, вы мне всё расскажете про Петю. Как он там? Ведь его скоро выпустят, как и вас?
Мужчина опустил голову.
– Вы меня извините, но я мало что знаю. Меня перевели в камеру к вашему мужу всего за три дня до освобождения. До этого я сидел в другом корпусе. Обстоятельств его дела я не знаю. Он просил только сказать, что очень любит вас и дочь и что он ни в чём не виноват. Его оклеветали, но он честный человек и будет держаться до конца. Вы должны верить в него! Так он и просил передать, слово в слово. А ещё велел отдать вам платок со стихами. Я ему не мог отказать. Хотя вы понимаете, что это очень рискованно. И для меня, и для вас, и для вашего мужа тоже.
– Рискованно? Но почему?
Мужчина не захотел объяснить.
– Простите, но мне действительно нужно идти.
– Скажите хотя бы, как вас зовут? – воскликнула Светлана. – Где вас можно будет найти?
– Этого не надо, – ответил он. – Я сегодня уезжаю. Навсегда. Вам не нужно знать моего имени. Очень прошу: никому не говорите о моём приходе и об этом платке. Я уже сказал: всё это очень и очень серьёзно. Вы не представляете…
И не дожидаясь ответа, он пошёл по коридору к выходу. Светлана бросилась за ним.
– Но погодите, позвольте я провожу вас, хотя бы немного. Скажите мне ради бога, как себя чувствует мой муж. В чём его обвиняют? Ведь я совершенно ничего не знаю!
Мужчина всё шёл, склонив голову. Видно было, что он торопится уйти. Но в какой-то момент словно устыдился своего малодушия. Он приостановился и молвил, обернувшись:
– Ну хорошо, идите рядом. Только не горячитесь. Мне сейчас нужно на вокзал. Можете проводить меня до поликлиники, а дальше я пойду один. Я вам расскажу, что знаю. Хотя я уже сказал, что вашего мужа впервые увидел три дня назад. О его деле мы с ним не говорили. Это там не принято. А выглядит он… ну, как и все там. Вы понимаете, что это не курорт.
– Да-да, конечно, я всё понимаю. Просто у нас тут ходят всякие слухи… что людей там жестоко избивают, а некоторых, – Светлана быстро оглянулась и произнесла шёпотом, – некоторых расстреливают прямо в камерах. А трупы куда-то увозят и прячут.
Мужчина прошёл несколько шагов молча, будто не слыхал. Потом произнёс:
– Об этом мне ничего не известно. Я знаю только, что муж ваш жив. Выглядит он неплохо. По крайней мере, не хуже меня. На допросы его при мне не вызывали. И вообще, в этой камере смертников не было. Этих содержат отдельно, в другом крыле.
Светлана вдруг остановилась.
– Смертники? Вы сказали – смертники? Значит, там всё-таки расстреливают?
Мужчина смутился. Ему стало досадно за эту оговорку. Он поджал губы, а потом махнул рукой.
– К вашему мужу это не имеет никакого отношения, я уже сказал. Ведь он давно уже арестован. Если бы что-то было серьёзное, его бы… ну… в общем, он не был бы в этой камере.
– А вас за что арестовали? То есть я хотела спросить, есть ли надежда, что Петю отпустят? Сейчас, я слышала, многих отпускают! Сталин дал указание, и теперь все дела пересматривают. Может, мне сходить на приём к начальнику управления?
Мужчина вдруг резко остановился, дико глянул на Светлану и так же резко двинулся дальше.
– Не знаю, не знаю, – бормотал на ходу. – Это вы сами решайте. Простите, но я должен спешить. Больше не ходите за мной. Прощайте! – И он стал торопливо спускаться под гору.
Светлана остановилась. С минуту смотрела, как мужчина идёт, припадая на правую ногу. Походка была какая-то странная. Он почему-то смотрел не вперёд, а в сторону и вниз. И ни разу не оглянулся. Вот он перешёл дорогу налево и скрылся в проулке за двухэтажным бараком. Дальше был короткий проход между домами – метров сто, – а потом крутой спуск и – вокзал. Лишь теперь Светлана поняла, что мужчина прямо от неё отправился на поезд. В руках у него был чёрный чемоданчик, в котором было всё его имущество. Куда он собрался ехать? Этого Светлана так и не узнала. Имени этого человека она тоже не знала. А был это инженер-механик Михаил Стеклов. Во время следствия ему сломали несколько рёбер, отбили почки. Дело уверенно шло к расстрелу, и он уже сам не чаял остаться в живых. Но потом вдруг всё чудесным образом переменилось. Пришёл другой следователь и объявил, что дело его закрыто, прежний следователь арестован, а он может быть свободен. И при этом по-дружески посоветовал уехать из города как можно дальше. Что он и сделал. С работы ему увольняться не пришлось – его уволили сразу после ареста (как и всех таковых). Квартира его была занята чужими людьми. А жениться он, к счастью, не успел. Ничто не держало его в Иркутске. И первым делом после выхода из тюрьмы он купил плацкартный билет до Владивостока. По собственной воле поехал туда, куда каждый день шли переполненные эшелоны с заключёнными, – на восток, на очень дальний восток! Интуиция подсказала ему единственный вариант спасения – раствориться среди огромной серой массы, стать незаметным. Незаметность и серость – вот то единственное, что давало шанс на спасение. Всякая неординарность, любые намёки на стихию и своеволие, тем паче какая-нибудь одарённость, яркость – были не преимуществом (как во всём остальном мире), а были они смертельно опасным свойством, которое необходимо скрывать от окружающих. Быть как все. Думать как все. Делать то же самое, что делают твои соседи и сослуживцы – в совершенной точности, не хуже и не лучше! – вот рецепт для сохранения своей драгоценной жизни (если тогда вообще были возможны какие-либо рецепты).
Пётр Поликарпович в это время томился в ожидании перемен – всё равно каких. Однообразие и убожество тюремной жизни сводили его с ума. Вспыхнувшая было надежда на спасение медленно угасала, как гаснет лучина в подземелье без доступа кислорода. В то, что его отпустят на волю, он уже не верил. Суд будет, будет и обвинение – с этим он уже смирился. Но почему его не знакомят с материалами дела? Почему не предлагают адвоката? Пётр Поликарпович хорошо запомнил газету «Правда» за тридцать пятый год, в которой печаталась речь Генерального прокурора СССР Вышинского об усилении роли адвокатуры в деле защиты интересов советских граждан. Главный юрист страны очень убедительно говорил о праве советских людей на защиту от произвола и беззакония. Читая эту статью, Пётр Поликарпович чувствовал законную гордость за свою страну; верил, что эпоха несправедливости и деспотизма канула в Лету и никогда уж не вернётся. Но теперь он мучительно думал длинными ночами и тягуче-однообразными днями: где обещанная справедливость? Где свобода и всеобщее счастье? И почему никто не защищает его от вздорных наветов, вместо этого его обвиняют в чудовищных преступлениях, при этом склоняют к признаниям несуществующей вины? И ладно бы он один был такой (это ещё можно было объяснить роковым стечением обстоятельств). Но ведь и все вокруг были точно в таком же положении – вот что было страшно! (А те немногие счастливцы, которых вдруг выпустили в тридцать девятом, все они получили свободу не стараниями адвокатов и не по вдруг вспыхнувшей доброте злобного тирана. Преступная власть окончательно завралась и запуталась и, по привычке своей заметая кровавые следы и сваливая вину за совершённые мерзости на других, стала уничтожать своих верных псов (всех этих фриновских и ежовых, лупекиных и рождественских), которые усердно рвали врагов по их же приказам. Для убедительности отпустили и часть невинно осуждённых. Впрочем, загребали тысячами, а отпускались единицы. Да и невозможно отпустить того, кто давно уже в могиле.
Пётр Поликарпович предчувствовал, что о нём не будет никто заботиться, и согласен был сам себя защищать – без всякого адвоката. Только бы ему дали слово на суде! До ареста он внимательно читал в газетах отчёты о московских процессах. Там печатались и речи обвиняемых. Все они каялись, называли себя «отбросами, фашистскими убийцами и предателями», которых «следует расстрелять». Но уж он-то каяться не будет, ведь он ни в чём не виноват. (А те, наверное, что-нибудь да совершили, раз уж все хором твердили о своей вине!)
Думая так, Пётр Поликарпович совершил такую же ошибку, какую совершали миллионы советских людей, свято веривших газетам, а ещё больше – саморазоблачениям всех этих «вредителей» и «врагов народа», «террористов» и «троцкистов». Пётр Поликарпович уже успел забыть, как два года назад из него самого обещали «вымотать кишки и подлую душонку», как грозились арестовать его жену и сделать сиротой трёхлетнюю дочь. Этого не произошло, и он теперь полагал, что, стало быть, настоящей опасности и не было, а он – молодец и кремень! И невдомёк ему, что он был на волосок от «чистосердечных признаний», а следовательно, и от смерти, а жена его чудом не разделила его участи. Точно так же он не ведал будущего – ни своего, ни огромной страны (он и настоящего-то как следует не знал). Никаких адвокатов и никаких оправдательных речей на суде не предвиделось. Да и слыхано ли дело, чтобы обычным неторопливым порядком осудить за два года три миллиона человек (из которых половина пошла под расстрел)? Да если их всех судить обычным неторопливым порядком, с прокурором и с защитником да с недоверчивыми присяжными заседателями, так дела эти не кончились бы и по сей день, а подследственные умерли бы естественной смертью в своих камерах. Вполне логично поэтому было придумать все эти «тройки» и Особое совещание, которые судили людей очень споро, вовсе не видя подследственных и даже не раскрывая их тощих дел, а только по самым общим (списочным) сведениям: по какой статье человек обвиняется и доказана ли его вина. Вина, конечно же, была доказана (о чём была пометка против каждой фамилии; кто ставил эти пометки и чем при этом руководствовался – это никого не интересовало). Все эти расстрельные дела рассматривались скопом и в страшной спешке. Лишь некоторые обвиняемые удостаивались персонального внимания (вроде бывших членов политбюро, командармов, видных учёных и общественных деятелей; но от этого им было нисколько не легче: к пыткам во время следствия добавлялись моральные мучения, когда приходилось публично возводить на себя всякую дичь, с полным самообладанием называть себя негодяем и объявлять себя не заслуживающим снисхождения – чего не требовали царские опричники от разбойников и самых отъявленных душегубов, которым запросто выворачивали суставы, рвали ноздри и огромным топором рубили головы на площадях, но не лезли в душу, не позорили публичным унижением, оставляя казнимым толику достоинства, дозволяя свободно сказать своё последнее слово).
Но какая-то справедливость всё же существует в этом мире. Пётр Поликарпович никогда так и не узнал этого удивительного сближения: всего были арестованы в Иркутске четыре писателя. И точно так же были арестованы четыре начальника областного управления НКВД. К концу тридцать девятого трое писателей уже погибли (Басов, Балин и Гольдберг). В те же сроки были расстреляны бывшие начальники областного УНКВД: Зирнис, Гай и Лупекин. Четвёртый начальник – старший майор госбезопасности Малышев – также был арестован и ждал своей очереди на тот свет (которая подойдёт в июле сорок первого).
Но миллионам безвинно убиенных от этого было нисколько не легче. Все они предпочли бы остаться живыми, и Лупекин с Фриновским тоже пусть бы жили. Кому нужны были все эти смерти?.. Спросить не у кого. Кто знал, уже не скажет.
Для Петра Поликарповича снова потянулись месяцы тягостного ожидания. Прошёл студёный март, за ним звонкий ветреный апрель и зелёный солнечный май. Снова лето наступило – третье лето, которое Пётр Поликарпович проводил в тюрьме, всё в той же тесной одиночной камере, которую с ним делили то пять, а то и все десять человек. За два года он столько перевидал в этой камере людей, сколько не видел за всю свою жизнь. Сначала он присматривался к соседям, пытался познакомиться и разговориться. Но с какого-то момента вся эта пёстрая вереница лиц и фигур стала ему безразлична. Люди приходили и уходили – со своими бедами, надеждами, отчаянием. Каждый думал лишь о себе, переживал свою личную трагедию. И почти никто не мог понять, что же происходит на самом деле. Кто-то проводил в камере несколько дней, а кто-то – целые месяцы. Но чтоб два года безвылазно сидеть – таких больше не было. И когда Пеплов говорил вновь прибывшим, что сидит здесь с тридцать седьмого года, ему не верили. Некоторые начинали подозревать его в доносительстве, что специально его здесь держат – как подсадную утку. Но большинству это было всё равно. Камер этих – больших и малых, душных и насквозь промёрзших – у всех у них будет великое множество (кроме тех, кто будет расстрелян в ближайшие месяцы).
Но человек постепенно привыкает ко всему. Стал привыкать к своей новой жизни и Пётр Поликарпович. Жизнь его стала невероятно скудной, бедной на события и эмоции. Книг у него не было. И газет арестованным не полагалось. А если бы были газеты, Пётр Поликарпович узнал бы много интересного и неожиданного. Тридцать девятый год был годом особенным – не только для страны, но и для всей планеты. В этом году, как известно, началась Вторая мировая война. А перед этим произошли зловещие и знаковые события. 5 марта в Испании случился путч, власть захватила военная хунта; началась кровопролитная Гражданская война, закончившаяся диктатурой фашиста Франко. 15 марта гитлеровцы вошли в Чехословакию, захватили Богемию и Моравию. Тогда же Гитлер берёт «под защиту Германской империи» вполне самостоятельную и независимую Словакию. 11 мая случился полномасштабный военный конфликт между СССР и Японией – события на Халхин-Голе (продолжавшиеся до осени и унесшие, по бездарности военного руководства, жизни десятков тысяч советских солдат). А 23 августа – вдруг, вопреки всякой логике и здравому смыслу, два непримиримых врага – СССР и фашистская Германия – заключают договор о разделе сфер влияния в Европе. По этому договору к СССР отходили Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Западная Украина, Белоруссия, Бессарабия и половина Польши – случай беспрецедентный по своему цинизму и вероломству. Следствием этого позорного сговора стало нападение Германии на Польшу первого сентября 1939 года. И тут уже Сталину стало не до оппозиции. Да и пересадили и перестреляли уже столько, что сами потеряли счёт. Армия, село, наука, промышленность, техническая и творческая интеллигенция – всё было обескровлено и раздавлено, запугано до предела. И это накануне самой страшной войны в истории человечества! Бездарная и абсолютно безнравственная политика Сталина не только поставила страну на грань поражения, но и спровоцировала всемирную бойню – этим бесстыдным потаканием своему злейшему врагу, дичайшим сговором со зверем, которому нельзя было верить, с которым нельзя ни о чём договариваться, но которого нужно было давить в зародыше, бить его без роздыха, пока тот не испустит зловонный дух. Вместо этого последовали договоры и заверения во взаимной дружбе и помощи. Выполняя взятые на себя обязательства, 17 сентября советские войска пересекают границу и оккупируют территорию Польши. Газета «Правда» охотно печатает речи Гитлера, а руководители Советского государства публично поздравляют бесноватого фюрера и его клику с успешной реализацией совместно задуманного плана. Ещё через одиннадцать дней – 28 сентября – СССР и Германия подписывают договор «о дружбе и границах». При этом Молотов высказывает довольно оригинальную мысль о том, что, дескать, «не только бессмысленно, но и преступно вести войну за уничтожение гитлеризма, прикрываясь при этом фальшивым флагом борьбы за демократию».
Так Сталин уничтожал лучших граждан своей страны и одновременно с этим стелился перед чудовищем, от которого шарахались все здравомыслящие люди того времени. Логики тут не было никакой, а были беспримерная трусость, глупость и мерзость – во всей отвратительной наготе. Последствия всего этого были ужасны. Сто миллионов человек во всём мире отдали свои жизни, чтобы остановить фашистскую чуму. Этих смертей могло не быть, если бы тогда, в тридцать девятом, товарищ Сталин выказал хоть немного мужества, если бы не договаривался с Гитлером, не предлагал ему руку и своё чёрное сердце. И такому человеку писали отчаянные письма миллионы советских граждан! Молили его о спасении, просили о справедливости, взывали к состраданию… Всё это, конечно, было бессмысленно. Скорее бездушный камень откликнулся бы на эти отчаянные мольбы! Какое сердце не дрогнуло бы при мысли обо всех этих страданиях, о чудовищной смерти миллионов ни в чём не повинных людей? Нет такого сердца в природе! Но зато есть люди вовсе без сердца. Теперь это можно считать вполне установленным фактом.
Заявление Петра Поликарповича не могло ничего изменить в его судьбе, даже если бы и попало в руки Сталина. Но этого не случилось: оно преспокойно лежало в бронированном сейфе лейтенанта госбезопасности Котина. Никуда не ушло. Ничьих глаз не коснулось. Вся боль души и вся искренность были потрачены впустую.
Жена Петра Поликарповича также не оставляла попыток помочь своему мужу. Платок с кровавыми письменами она решила показать ответственному уполномоченному писательской организации – Николаю Волохову. Набравшись смелости, рано утром зашла к нему в кабинет.
Тот принял её неприветливо. Нахмурился, увидев в дверях. Опустил голову к бумагам, разложенным на столе, всем видом показывая занятость. Светлана робко прошла несколько шагов.
– Николай Иванович, вы меня не узнаёте? Неужели я так сильно изменилась? – спросила прерывистым голосом.
Волохов поднял голову.
– Я… узнал… Просто мне сейчас некогда. Вы по какому вопросу?
Светлана растерялась. Она ожидала в душе, что Волохов живо выйдет ей навстречу, возьмёт за руку и засыплет вопросами: что слышно о Петре Поликарповиче, как живёт она сама и чем он может ей помочь. Вместо этого – холод и плохо скрываемый страх. Она не знала, что две недели назад Волохов уже всё решил для себя. Губительный отзыв на книгу её мужа был уже написан, и также был сделан отказ поручиться за Пеплова. Если б она знала всё это, то, конечно, не пришла бы теперь унижаться. Но по традиции того времени никто ничего не ведал. Потому и стояла она перед прячущим глаза человеком, в то время как сердце её болезненно сжималось, а к горлу подступали предательские слёзы.
– Я вам принесла… – через силу проговорила она… – вот…
Волохов повернул голову, глянул боком на её руки. Она комкала заветный платок и как бы стыдилась показать.
– Ну, что там у вас? – как бы через силу буркнул Волохов. Ему было крайне досадно всё это. Он не понимал, с чего это вдруг к нему заявилась жена врага народа. Всё уже давно сказано и решено. И навеки забыто (ошибочно полагал он).
Светлана вдруг подняла руки, раскрыла ладони.
– Это Петя мне передал, – сказала, задыхаясь, – из тюрьмы. Тут его стихи. Он их кровью написал, вот, на платке. Прочтите сами!
Волохов остолбенел. Чего угодно он мог ожидать, но только не этого. Стихи, написанные кровью на каком-то платке… Что за чушь? Этот Пеплов, он что, Есениным себя возомнил? (Была первая мысль.) И следом за ней вторая: а ведь это очень опасно – читать стихи, написанные врагом народа и переданные тайком из тюрьмы. Греха потом не оберёшься. И ведь он должен будет доложить об этом своему куратору из НКВД. Уж если ему приходится писать отчёты о сомнительных стишатах и рассказах, написанных «обычными» людьми, то здесь и сомневаться нечего: он должен немедленно изъять эту гадость и принять все положенные меры. И он уже поднял руку, чтобы взять платок, но в этот момент что-то резко кольнуло его в сердце и рука застыла в воздухе. Волохов ойкнул и скривился.
– Чёрт, – произнёс хрипло.
Светлана внимательно посмотрела ему в лицо.
– Не бережёте вы себя, Николай Иванович. Вон как постарели. Осунулись. Достаётся, видно, и вам тоже…
От этих слов что-то дрогнуло в душе Волохова. Ему вдруг стало и стыдно, и горько, и отчего-то вдруг захотелось плакать. Он отвернулся и стоял, закусив губу. Потом прошёл к столу и тяжело опустился в кресло. С минуту сидел молча, потом медленно заговорил, подбирая слова:
– Светлана Александровна, я вас очень прошу: спрячьте этот платок куда-нибудь подальше и никому не показывайте! Вы меня понимаете? – И он впервые за всё время прямо поглядел ей в лицо.
– Нет, – ответила та, широко раскрыв глаза. – Почему я не должна его показывать? Ведь это Петя написал.
– Ну как вы не понимаете! – повысил голос Волохов. – Первый же встречный донесёт на вас, и вам же будет хуже! Петру Поликарповичу тоже не поздоровится. Ведь вы не станете отрицать, что получили этот платок нелегально? Чего бы он стал писать вам на платке, да ещё кровью?
Светлана опустила голову.
– Не стану.
– Ну и вот. Вас станут спрашивать, откуда у вас этот платок. Кто вам его передал и с какой целью. И вы должны будете назвать этого человека. А если не назовёте, то вас саму арестуют, дело на вас заведут, потащат на Литвинова. Вы этого хотите?
Светлана отшатнулась.
– Что вы такое говорите! Я ничего не сделала. А человека этого я вообще не знаю, он зашёл на минутку ко мне на работу и сразу же ушёл. Он вообще уехал из города, на поезде. И вообще, при чём тут он?
Волохов нетерпеливо мотнул головой.
– Да тут все при чём! Вы думаете, так трудно будет этого субъекта найти? Мигом всё разузнают, снимут с поезда и вернут обратно в тюрьму. Вы просто не знаете, как всё это делается.
– А вы знаете?
Волохов вдруг замер. Вопрос неприятно резанул его.
– Я много чего знаю, уважаемая Светлана Александровна. И вот вам дружеский совет: забирайте этот платок, а я обещаю, что никому о нём не скажу. Но уж и вы, пожалуйста, если что, меня не выдавайте.
– А что может произойти?
– Если это дело как-нибудь обнаружится и вас станут спрашивать, кому показывали платок и всё такое, то вы не говорите, что были у меня. Ведь я не брал платок в руки. Не читал, что там написано на нём. Ведь так?
– Так. Вы не брали.
– Ну и вот, значит, будем считать, что никакого платка не было. А вы просто так зашли, случайно. Были тут по своим делам и увидели табличку на моём кабинете. Ну и заглянули по старой памяти. Договорились?
Светлана неопределённо пожала плечами.
– Ну хорошо.
– Слушайте меня, я знаю, что говорю. Идите домой и спрячьте платок подальше с глаз. А я сейчас должен идти. Очень спешу, простите.
И он решительно поднялся. Схватил не глядя первую попавшуюся папку со стола и направился к двери. Светлана с недоумением следила за ним. Наконец поняла, что ей тоже нужно уходить, и двинулась следом.
Уже в коридоре Волохов вдруг приостановился.
– Ой, кажется, я ключи забыл. Вы пока идите, я вас догоню.
Светлана неуверенно пошла по затемнённому коридору, а Волохов вернулся в свой кабинет. Она дошла до широкой мраморной лестницы и стала медленно спускаться. Один пролёт, второй, третий… Волохов всё не шёл. Уже внизу, под бдительным взглядом милиционера (сидевшего за стеклянной перегородкой на входе), она заторопилась и, бросив последний взгляд вверх по ступенькам, вышла на улицу. Она всё поняла: Волохов не хотел, чтобы их видели вместе. Хотя её тут никто не знал, она впервые пришла в это помпезное здание на центральной улице города, но ответственный уполномоченный постарался исключить малейший риск. Ведь любой контакт с членом семьи «врага народа» мог вызвать подозрения. Тем более в столь щекотливой ситуации. Запросто можно оказаться в роли подозреваемого. То, что он не прочитал эти злополучные стихи и не донёс о них куда следует – уже это было с его стороны преступлением. Потому он и не вышел вслед за Светланой, не задал ни единого вопроса о том, как ей живётся теперь и что нового она узнала о муже. Он предпочёл бы вообще ничего не знать о Пеплове, чтоб вообще не было ни его, ни всего этого дела. Смутное чувство вины всё сильнее стучало в его сердце. Словно бы червяк разъедал его изнутри, поначалу незаметно и неслышно, но с каждым годом всё ощутимей и больней; мало-помалу в сердце росла пустота, и дышать становилось всё трудней.
Светлана в это время шла по улице, ничего вокруг не видя. Ей было тяжко и гадко, словно она вымаралась в какой-то мерзости. Ярко светило весеннее солнце, на голых тополиных ветках весело чирикали воробьи, машины с шумом проносились по асфальту – ничего этого она не замечала. Ей мерещилась тихая улочка на окраине города, густой сосновый лес за огородами и необъятная ширь сразу за крутым обрывом. В низеньком бревенчатом домике её ждала дочь. Она сидела у окна и неотрывно смотрела на каменистую пыльную дорогу. Светлана представила на минуту, что она бы вдруг не вернулась, и ей сделалось страшно. Её Ланочка будет ждать её весь день и вечер, ночью не уснёт и утром всё будет смотреть в окно и ждать свою маму. Светлана резко остановилась и провела рукой по лицу. Нет, больше она никогда и никуда не будет ходить. Волохов прав! Нужно затаиться и ждать. Не то теперь время. Не те люди.
Она сунула платок поглубже за пазуху и быстро пошла по направлению к ангарскому мосту.
Таким образом, все ресурсы были исчерпаны. Писатели не захотели взять Петра Поликарповича на поруки. Жена его ничего не добилась. А заявление на имя Сталина так и осталось в следовательском кабинете. Оставалось только обратиться к Господу Богу. Но в Бога Пеплов не верил до тюрьмы, не поверил и в тюрьме. Этот «опиум» был для него недоступен.
Нет нужды много говорить о тяготах тюремного существования. Любая несвобода мучительна. Даже и такая, когда над человеком не издеваются, когда его вовремя кормят и содержат в нормальных условиях. Что же утешительного можно сказать о крошечной переполненной камере в знойные летние месяцы короткого сибирского лета? Духота такая, что все обитатели этого склепа раздеваются до исподнего. И всё равно с лица и с тела градом катит пот, дышать нечем, голова раскалывается, а мысли путаются; нет исхода из раскалённого каменного мешка. Осознание того, что и завтра, и через неделю, и через месяц будет всё то же, способно свести с ума любого. Так прошли три длинных мучительных месяца – июнь, июль и август тридцать девятого года. В сентябре наконец посвежело. Заключённые приободрились, задвигались, задышали свободнее. Хотя в судьбе их ничего не переменилось, но все чувствовали облегчение. Пытка выпариванием запомнилась на всю жизнь.
Пятнадцатого сентября Петра Поликарповича снова вызвали к следователю. Он бы не удивился, если б увидел новое лицо. Но встретил его всё тот же Котин. Был он не ласков и не зол, а равнодушен и деловит. Предложил Пеплову садиться и без долгих предисловий объявил, что следствие по его делу закончено и ему предъявляются обвинения по пунктам два, восемь и одиннадцать пятьдесят восьмой статьи Уголовного кодекса РСФСР. С будничным видом положил на стол бумагу и предложил расписаться в ознакомлении.
– Что это? – спросил Пётр Поликарпович, чувствуя, как сердце подкатывает к самому горлу и становится трудно дышать.
– Протокол об окончании следствия, – равнодушно ответил Котин. – Вы сейчас должны расписаться, что ознакомлены с предъявленным вам обвинением. Это вас ни к чему не обязывает и ни на что не влияет. Пустая формальность.
Пётр Поликарпович задумался.
– А если я не подпишу?
– Пожалуйста, можете не подписывать. Тогда я сделаю отметку на вашем деле, что вы отказались подписывать протокол. Но не думаю, что это пойдёт вам на пользу. – Котин сделал паузу для пущей важности, потом продолжил: – Вы прочтите сначала, а потом решите, подписывать или нет. Что ж вы с ходу отвергаете? Если вы с чем-нибудь не согласитесь, сможете написать заявление начальнику управления. У вас есть такое право. Я бы на вашем месте не стал упускать такой шанс.
– А что с моим заявлением на имя товарища Сталина? – вдруг спросил Пётр Поликарпович. – Я ещё в апреле подавал. Отдал лично вам в руки. Почему до сих пор нет ответа?
Котин сделал неопределённый жест.
– Пока ничего не могу сказать. Я передал ваше заявление в канцелярию, а там должны были отправить по назначению. Думаю, что ваше заявление уже в Москве.
– Но ведь прошло больше четырёх месяцев! – воскликнул Пётр Поликарпович. – Неужели за это время нельзя было рассмотреть мою просьбу? Ведь тут речь идёт о жизни!
Котин строго посмотрел на него.
– Гражданин Пеплов, я не могу отвечать за действия третьих лиц. Если на ваше заявление будет получен ответ, вас сразу об этом уведомят, можете не сомневаться. Но вы также должны понимать, что у товарища Сталина есть дела поважней вашего заявления. Может так случиться, что никакого ответа вовсе не будет. Вам сейчас нужно думать о другом. Ситуация предельно проста: или вы отказываетесь подписать протокол об окончании следствия, и тогда дело уйдёт в суд как оно есть, или вы ознакомитесь с предъявленными обвинениями и получите возможность выразить своё мнение в письменном виде. По-моему, выбор очевиден. Лучше плохая определённость, чем хорошее неведение. Поверьте мне: всё очень серьёзно.
Пётр Поликарпович почувствовал досаду. Все его надежды рушились. За два с половиной года он не сумел втолковать следователям очевидные факты. Ни одно из предъявленных ему обвинений не было доказано. Не было ни очных ставок, ни убедительных доказательств его участия в заговоре. И несмотря на это – обвинения сразу по трём пунктам страшной пятьдесят восьмой статьи. А что за пункты такие? Пётр Поликарпович протянул руку и взял со стола протокол, стал внимательно читать.
Через минуту поднял голову и спросил:
– Я могу ознакомиться с Уголовным кодексом? Что это за пункты такие?
– В этом нет необходимости, – с готовностью ответил Котин. – Я вам сейчас зачитаю все ваши пункты, этого будет достаточно. – Он подвинул к себе раскрытую папку и стал читать: – Статья пятьдесят восемь, пункт второй: вооружённое восстание или вторжение в контрреволюционных целях на советскую территорию вооружённых банд, захват власти в центре или на местах в тех же целях, в частности с целью насильственно отторгнуть от СССР, влекут за собой высшую меру социальной защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества, с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения до лишения свободы на срок не ниже трёх лет. Пункт восьмой той же статьи: совершение террористических актов, направленных против советской власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций, и участие в выполнении таких актов влекут за собой меры социальной защиты, указанные в пункте втором. Далее пункт одиннадцатый: всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за собой меру социальной защиты – расстрел; при наличии смягчающих обстоятельств – понижение до лишения свободы на срок не ниже пяти лет с конфискацией имущества.
Котин кончил читать и холодно глянул на Пеплова. Тот казался остолбеневшим; широко раскрытые глаза уставились на следователя.
– Вам что-нибудь непонятно? – спросил Котин.
Пётр Поликарпович разомкнул губы и отчётливо произнёс:
– Всё, что вы сейчас прочитали, не имеет ко мне ни малейшего отношения. Это какая-то чудовищная ошибка.
Котин согласно кивнул, словно услышал очень правильную мысль.
– Вам предъявлено официальное обвинение. Вы можете соглашаться с ним или нет, но факт остаётся фактом. Обвинение основано на материалах уголовного дела. Я ведь вас предупреждал ещё весной, а вы меня не послушали. Если бы вы тогда подписали чистосердечное признание, вам бы вменили один только десятый пункт. Ну а уж коли раскаяния не последовало, мы вынуждены рассматривать все имеющиеся у нас факты. А там уж как решит суд.
Котин лгал. Он знал, что никакого суда не будет (в общепринятом смысле). Уже третий год приговоры по пятьдесят восьмой статье выносили или «тройки», или Особое совещание. «Тройки» работали на местах (состав «тройки» был неизменен: в неё входил начальник областного УНКВД, первый секретарь обкома и главный прокурор области). Особое совещание окопалось в Москве и пропускало через себя прорву дел, стекавшихся со всех концов страны, иногда успевая рассмотреть по тысяче дел за день. Понятно, что ни о какой объективности речи не шло. Судьи в глаза не видели подследственных. Приговоры выносились списками на основании предельно кратких и самых общих сведений из следственных дел; сведения имели сплошь обвинительный уклон и имели вид окончательно доказанного факта, а все оправдательные мотивы даже и не оглашались. Да и какой дурак будет вникать в десятки и сотни тысяч крайне запутанных историй со множеством лиц и событий? Не поедет же комиссия из Москвы за пять тысяч вёрст, чтобы на месте проверить полноту собранных доказательств? И потом если оправдаешь одного, то придётся оправдывать и всех остальных (потому что все дела страшно перепутались и сплелись между собой, и теперь сам чёрт не разберёт, кто там прав, а кто не очень)!
Но если ты выпустишь на волю целую армию врагов народа, то сам неизбежно окажешься врагом и диверсантом; другие люди будут сидеть в твоём кабинете и подписывать тебе смертный приговор. Это было предельно ясно и судьям, и их секретарям, и последней уборщице, а потому машина работала исправно, без сбоев и задержек. Приговоры штамповались с точностью автомата и неотвратимостью рока. И никаких тебе адвокатов, последних слов и апелляций! Тем-то и хорошо было Особое совещание, что представить на его суд можно было любое, самое вздорное дело, самую невероятную чушь! Всё равно никто ничего проверять не будет. Вот и слали с мест всё то, что не могли хоть как-то связать и склеить. Стоило подследственному поставить свою подпись на протоколе об окончании следствия, как судьба его была уже решена. Остальное происходило без его участия и как бы само собой (подпись подследственного вполне логично истолковывалась как согласие с предъявленным обвинением). Приговор будет вынесен заочно, а осуждённому просто объявят его срок (за день до отправки на этап). Но иногда не делали даже этого. Просто отправляли человека в дальние дали, предоставляя лагерному начальству самому объясняться со вновь прибывшим контингентом.
Всё это Котину было известно очень хорошо. Он сознательно обманывал Петра Поликарповича, внушал ему ложные надежды и рисовал перспективу, которой не было в помине. Так он мстил ему за несговорчивость, за упорство и за въедливость. А ещё – по привычке, потому что точно так же поступали со всеми остальными подследственными (кого не успели расстрелять). Он разыгрывал комедию, уверенно давал разъяснения и уговорил-таки подследственного написать заявление на имя своего начальника, майора госбезопасности товарища Смирнова. Когда Пётр Поликарпович окончательно убедился в бесполезности своих речей, он взял ручку, подвинул к себе лист жёлтой бумаги и стал писать заявление о пересмотре дела. Он писал с полной верой в то, что его обращение будет внимательно рассмотрено, а указания на очевидные несуразности обязательно сыграют свою роль. Потому что не может нормальный человек игнорировать очевидные вещи и здравый смысл! Пётр Поликарпович написал среди прочего, что более десяти лет не видел ни Яковенко, ни Лобова, ни всех других лиц, в сговоре с которыми его обвиняют. Отдельно отметил, что у него в доме не было найдено ни одной компрометирующей его бумаги или предмета. В очередной раз обратил внимание на своё героическое прошлое и боевые заслуги и призвал в свидетели здравый смысл, выразившись в том духе, что при любой другой – «несоветской власти» его ожидала бы «петля». В своих злоключениях он винил «клеветников-недоброжелателей», давая понять таким образом, что на сотрудников НКВД зла не держит. Виноваты «клеветники» – и вся недолга. На советскую власть он не обижается, а значит, если его теперь отпустят, будет, как и прежде, бороться за её высокие идеалы, не щадя жизни и не жалея сил.
Всё было хорошо в этом заявлении. Кроме одного: никто и не думал его читать. Лейтенант Котин аккуратно подошьёт его к делу, а перед этим пробежит глазами старательно выписанные строчки. Одобрит про себя грамотное изложение, а собственно содержание оставит его равнодушным. Пламенные призывы и логические выводы не вызовут у него никаких эмоций, словно бы речь шла о каких-нибудь китайцах, живших за четыре тысячи лет до Рождества Христова. Главная цель была достигнута: протокол подписан и все необходимые бумаги собраны. Это злоупорное дело наконец-то было закончено. Не беда, что обвиняемый не признал своей вины, а обвинения основывались на показаниях лиц, которых сам Котин никогда не видел и не допрашивал. Совесть его была спокойна уже потому, что дело это начинал не он. А кроме того, добытые им письменные отзывы на книги Пеплова вполне тянули на десятый пункт пятьдесят восьмой статьи. Он почитал в глубине души Пеплова дураком за то, что тот не согласился на этот пункт. Ведь дело предельно ясное. По десятому пункту людей судили за простой анекдот, рассказанный в курилке! Вполне серьёзно давали пять, шесть и восемь лет за то, что кто-то неосторожно похвалил зарубежный роман или пожаловался на дефицит мыла. А тут – целых пять письменных отзывов, в которых совершенно чётко сказано про сочувствие меньшевикам и эсерам и даже самому главному врагу – «обер-бандиту Троцкому». Тут уже любому должно быть ясно: состав преступления налицо, преступник должен быть наказан! Что и произошло. Советская власть зря никого не наказывает. Бывает, правда, иногда перегибает палку. Но без этого не обойтись. Время теперь тревожное. Война вот-вот начнётся. Не до сантиментов. Чем скорее все это поймут, тем лучше. Так рассуждал не злой и не глупый человек, затянутый в безжалостный механизм репрессий против собственного народа, призванный решать вопросы жизни и смерти вполне мирных граждан, никак не понимавших, за что их так жестоко карает советский закон.
Для Петра Поликарповича вновь потянулись недели и месяцы тягостного ожидания. Дело его было отправлено в Москву, сам он коротал дни и ночи всё в той же камере. Силы его убывали день ото дня. От былого здоровья не осталось и следа. Природная жизнерадостность сменилась апатией и предчувствием чего-то невыразимо ужасного. По ночам, в бредовых снах, ему мерещилась мёртвая дочь. Он видел запрокинутую головку и посиневшее, неузнаваемое лицо. Среди ночи он вскакивал с криком ужаса, а потом долго сидел сгорбившись, тяжело дыша и обливаясь по́том. Глаза невидяще смотрели перед собой, кулаки судорожно сжимались – так, что ногти врезались в ладонь. Иногда он видел во сне жену – тоже мёртвую, посиневшую и страшную, не похожую на себя. И почти каждую ночь его душил кошмар: он задыхался в мутном потоке, его неудержимо несло к обрыву; он метался и хрипел, впадая в беспамятство, пока не вскакивал с воплем, ударяясь головой о железную стойку. Сокамерники не обращали внимания на эти выходки. Лишь кутали головы в тряпки и переворачивались на другой бок. Подобными сценами их было не удивить. Глубокое равнодушие владело этими несчастными людьми. Каждый думал лишь о себе, о своей загубленной жизни. Просыпаясь утром, Пётр Поликарпович дивился этим кошмарам, не понимал, почему ему мерещатся такие ужасы. Он знал, что жене и дочери ничего не грозит, но наступала ночь, и всё повторялось.
Тревога отступала, когда он получал посылку от жены. Это случалось раз в месяц. Тогда он приободрялся, светлел и на несколько дней возвращал себе ровность духа. Но продукты скоро заканчивались, и опять наваливалась апатия. Жить не хотелось. В такие минуты он написал последнее своё стихотворение, которое посвятил «Дорогому, верному другу и жене Светлане». Человек, из-под пера которого совсем недавно выходили бодрые, жизнеутверждающие повествования, в которых добро всегда побеждало зло, а справедливость неизменно торжествовала, теперь, сидя в советской тюрьме, исторгал из души совсем иные звуки:
Надежды и мечты рассыпались, как зёрна. Счастливых дней нам больше не видать. Ах, Света! Света! Если жить позорно, То тяжелей безвинно умирать. Дышать я скоро, скоро перестану, Забуду мир в спокойном вечном сне. Что ж делать?.. Сбереги дочурку. Как нашу кровь, как память обо мне. Дочурка – крошка – чистый лебедёнок. В большую жизнь отправится одна, И чашу бед почти что из пелёнок Бедняжка выпьет горькую до дна… На плечи хрупкие грозой падут невзгоды. Но есть всему начало и конец… Внуши ты ей, что не врагом народа, А лучшим другом был её отец… Внуши ты ей, что не приблудным сыном В поступках, помыслах и снах — Он был певцом, бойцом и гражданином В железных трудовых рядах. Над нами тучи чёрные повисли, Но и они когда-нибудь пройдут. И может быть, певцы свободной мысли Венки на прах наш с песней принесут.Неисповедимыми путями стихотворение это попало в руки его жены, не было уничтожено, не сгинуло. Тленная бумага с бледными строчками оказалась прочнее камня. Эти скорбные строки произвели на жену его оглушающее действие. Она прикоснулась к чему-то страшному – такому, о чём до сих пор не имела понятия. Почувствовала неизбывную боль души, одиночество, безнадёжность, ледяное дыхание смерти. Это было прощание – не только с ней, но со всем миром. Светлана бросилась в тюрьму, стала требовать свидания. Но в очередной раз ей отказали: «Не положено!» Следователь её не принял. В управление НКВД её не пустили. Она вспомнила о Волохове, но не решилась идти к нему. В очередной раз встретить холодный взгляд и слушать фальшивые речи… Нет, уж лучше как-нибудь без этого. Жизнь научила её в последние годы не доверять никому. Надеяться можно только на себя. Надо каждую секунду быть готовой к потерям и унижениям. Потому что горе – это норма. А счастье – оно, быть может, и есть где-то далеко, за синими морями. Но всё это уже не для неё. Вот и Петя пишет: «Счастливых дней нам больше не видать»! И тут же говорит о своей смерти, как о деле решённом. Ах, если б можно было умереть вместе с ним! Чтобы вдруг всё исчезло – весь этот мир с его тревогами и болью! Раз – и нет ничего! И только тьма и тьма, вечный покой и безмятежность. Тут же её кольнуло в сердце: а как же Ланочка? Нельзя оставить её одну в этом страшном мире! Лучше бы она вовсе не появилась на свет. А ещё лучше, если бы саму Светлану расстреляли тогда, в девятнадцатом. И Петя лучше бы погиб в боях с колчаковцами. Это была бы героическая смерть. О нем бы теперь слагали стихи и песни. На памятнике борцам революции выбили бы его имя. А что будут помнить о нём теперь? Что он враг своему народу? Что жил всю жизнь с камнем за пазухой? А жена знала об этом и трусливо молчала?!
Она закрыла лицо ладонями, стараясь утишить неизбывную боль. И сами собой вспомнились однажды слышанные строчки:
Старик бродяга жалуется горько: Вся наша жизнь – ошибка и позор!Да, жизнь оказалась грандиозной ошибкой, окончившейся позором. Лучше и не скажешь.
Пётр Поликарпович так и не получил ответа ни на одно из своих заявлений. Зиму тридцать девятого года он встретил всё в том же положении – в положении человека, потерявшего всякую надежду на справедливость. Он уже смирился со всем и хотел лишь одного – чтобы всё это поскорее закончилось.
А с воли приходили довольно странные вести. В первых числах декабря началась война с Финляндией. О причинах её Пётр Поликарпович мог лишь догадываться. Ввели всеобщую воинскую повинность по всей стране. Установили нормы отпуска продуктов. В месяц на человека можно было купить не более килограмма мяса, полкило колбасы и килограмм рыбы. Длинные очереди за хлебом. Не было в продаже ни муки, ни мыла, ни обычных ботинок. Приходившие в камеру новички говорили об этом вполголоса и тут же добавляли, что виноваты во всём «вредители», а советская власть делает всё правильно, нужно только немного потерпеть. Тут же вспыхивали споры, старожилы старались объяснить новичку, что никаких вредителей нет, если только он сам не вредитель. Новичок обижался и начинал подозревать всех вокруг. Споры не утихали несколько дней, пока не прекращались сами собой (после первого же допроса новички становились молчаливыми и задумчивыми). Пётр Поликарпович не принимал участия в этих спорах. Он уже всё понял для себя, а силы берёг для будущей борьбы, предчувствуя приближение роковой черты, после которой жизнь его круто изменится. Одно он знал наверняка: его не расстреляют. Уже целый год в подвалах тюрьмы НКВД перестали звучать выстрелы, а во внутреннем дворе не газовали всю ночь грузовики. И это тоже не было секретом для заключённых (испокон века так ведётся: арестанты каким-то непостижимым образом мгновенно узнают обо всём, что затрагивает их кровные интересы). Было готово и объяснение этой внезапной остановки конвейера смерти: усатый батька устал от крови и распорядился больше никого не убивать. Хватит, дескать, народ нужно поберечь, а то скоро некому работать станет.
Это было верно лишь отчасти. Про то, что не только Сталин, но и все его подручные утомились от ежедневного ужаса массовых смертей, говорить не приходится. Заключённые не знали другого: у чекистов появился новый враг – затаившийся на огромных оккупированных территориях Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Западной Украины, отдельных районов Белоруссии и Бессарабии. Вот где можно было разгуляться! На захваченные территории хлынули советские войска и «синие фуражки», и – закипела работа! Хватали всех подозрительных или кажущихся таковыми – вполне мирных граждан, привыкших к каким-то там свободам и веками налаженному быту. В тюрьмы пошли сотни тысяч обывателей. Расстреливали их без счёту – и снова тайком, без всякого суда и без каких-либо надежд на снисхождение, без скидок на иную культуру и другие представления чуждых народов о том, как им следует жить и во что верить. Сидельцы иркутской тюрьмы об этом ничего не знали до поры. Но они сразу почувствовали падение интереса к себе со стороны следователей. Вот и расстрелы практически сошли на нет. Почти не стало пыток. Так, ударят пару раз по старой привычке – лениво, без былой страсти – и всё на этом. А о том, что тысячи советских заключённых в это самое время ежедневно гибнут в далёких северных лагерях – от непосильной работы, от побоев блатарей, от голода и от вполне узаконенных расстрелов за невыполненную норму или невыход на работу – об этом они также не знали до поры.
Всё это было впереди – и голод, и побои, и непосильная работа в ледяных забоях Колымы и Норильлага, и расстрелы за «невыход» на работу в пятидесятиградусный мороз, когда на ногах резиновые чуни, а руки и вовсе голые. Там-то многие узнают о растоптанной Прибалтике, услышат жуткие слухи о двадцати тысячах расстрелянных поляков – под Катынью и под Харьковом, в Калинине, в Старобельском и в Осташковском лагерях. Всё это заваривалось и закручивалось тогда – в тридцать девятом году, под мирным небом и ласковым солнцем, которое всё так же освещало землю своими благодатными лучами, как и миллионы лет назад. Как же всё это было постигнуть несчастным людям, томящимся в каменных клетках наподобие диких зверей? Понять в такой ситуации ничего было нельзя. Не знали своей судьбы даже ближайшие сподручные Сталина. Чего уж говорить о миллионах простых советских людей, одураченных пропагандой, замороченных газетами и лекторами-международниками, поднаторевшими объяснять необъяснимое и связывать несвязуемое, выворачивать логику наизнанку и глумиться над милосердием и состраданием. Причины этого хаоса, этого грандиозного смешения всех человеческих норм и установок, идеалов и кодексов – причины всего этого нужно искать не в тридцать седьмом году, а в семнадцатом, когда был совершён подлый большевистский переворот и когда началась эта кровавая вакханалия. Все участники большевистского переворота, все те, кто его готовил и совершал – все они были так или иначе наказаны. Первой в распыл пошла знаменитая ленинская гвардия – Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Пятаков, Радек, Рыков. Затем были уничтожены большевики с дореволюционным стажем. В расход пошли герои Гражданской войны. Практически полностью была сметена политическая элита – тогдашняя элита, образца первой половины тридцатых годов: первые секретари обкомов и горкомов, комсомольские вожаки, начальники исполкомов и коммунистических профсоюзов. Что же это, как не Божья кара? Пусть она приняла облик маленького конопатого человечка, недалёкого, мстительного и суеверного, – суть дела от этого не меняется. Поколение ниспровергателей было уничтожено на удивление быстро и беспощадно – не внешней силой (которой все так боялись), а – как бы изнутри, логикой развивающихся внутренних противоречий, злым роком, воплощением которого были они сами. При этом погибли ни в чём не повинные люди – миллионы обыкновенных людей, мечтавших о спокойной размеренной жизни без всяких революций и потрясений, без фальшивых лозунгов и призывов к тому, чего никто никогда не видел и не увидит. За что пострадали все они? На этот вопрос пока что нет ответа. Оставим его для пытливых умов будущего. Разбираться с ним будут ещё очень и очень долго. Пыльные архивы по всей необъятной стране ревностно охраняют свои тайны. Но лежащие в братских могилах миллионы безвинно убитых людей ждут, когда их могилы будут найдены и все они будут названы поимённо.
Желание Петра Поликарповича наконец-то осуществилось. Суд по его делу состоялся. Хотя правильнее назвать его не судом, а судилищем. Особое совещание в Москве своим решением от 17 апреля 1940 года осудило Петра Поликарповича на восемь лет лагерей по пятьдесят восьмой статье «за принадлежность к контрреволюционной правотроцкистской организации». Пётр Поликарпович не только не присутствовал на этом суде, но даже и не знал о том, что его судят. Семнадцатое апреля для него ничем не отличалось от всех остальных дней апреля, марта и февраля. Всё та же камера, та же баланда утром и в обед, та же тяжесть на душе, то же нежелание жить. По странному совпадению именно в этот день городской исполком принял решение об установке огромного десятиметрового памятника сибирским партизанам, отдавшим свою жизнь за советскую власть (многих из них Пётр Поликарпович отлично помнил и считал лучшими людьми из тех, кто встретился ему на жизненном пути). Памятник этот решили установить у входа на центральное городское кладбище, которое, в свою очередь, решили перепрофилировать в парк культуры и отдыха, а сто тысяч могил сровнять с землёй, будто их тут и не было (впрочем, гробы никто и не думал выкапывать, все мертвецы остались на своих местах). В те же дни в городских театрах проходят премьеры спектаклей, начинается строительство трамвайного сообщения, закладывается огромный ботанический сад в живописной сосновой роще; писатели, один за другим, делают творческие отчёты перед общественностью, читают стихи и отрывки из своих произведений, обсуждают новые книги и активно выступают в аудиториях города; футболисты с азартом гоняют мяч по футбольному полю, а музыканты дают концерт, посвящённый столетию со дня рождения Чайковского. Открывается авиасообщение между Иркутском и Москвой, и одновременно закрываются: мечеть, синагога и очередная православная церковь на улице Омулевского. Четвёртого февраля решением горсовета были разом переименованы полсотни городских улиц. Была улица Кладбищенская, а стала – Парковая. Мыльниковская обратилась в Чкаловскую, а улица с ничего не значащим названием Зиминская стала гордо именоваться улицей героя Гражданской войны Николая Щорса (убитого в девятнадцатом году выстрелом в затылок кем-то из своих во время жаркого боя, но об этом пока никто не знает). Город живёт активной жизнью – точно такой же, как и все другие города Советского Союза. Никто ничему не удивляется, принимая за норму любое событие, если только оно объявлено советской властью и проводится в жизнь энергично и с видом полной уверенности в своей правоте.
Всё это скользило мимо Петра Поликарповича и его товарищей по камере. Для них не было ни весны и ни солнца, ни концертов, ни футбольных матчей, ни самолётов, ни памятников, ни напряжённых рабочих будней, ни тихих семейных радостей. Жёны и матери их были рядом, ходили мимо их казематов, дышали тем же самым воздухом. Полноводная Ангара вольно несла в далёкий океан свои студёные воды всего лишь в пятистах метрах от мрачного застенка! Самолёт, взявший курс на Москву, пролетал прямо у них над головой. Но всё это ровно ничего не значило. Запоры были крепки, а охранники неумолимы. Скорее Ангара потекла бы вспять, чем отпустили бы всех этих страдальцев на волю – к семьям и к привычной мирной жизни. Приготовлялось им совсем другое: дорога дальняя в необжитый край и тяжкий труд до смертного пота.
Уже через два дня после вынесения приговора в Москве об этом стало известно в Иркутске – телеграф работал исправно. Пункты статей и назначенные сроки были получены в управлении НКВД шифрограммами, и, стремительно набирая обороты, закрутилась адская машина! Утром девятнадцатого апреля Петра Поликарповича вывели из камеры. Ничего не объясняя, повели по коридору. Но не наверх, в кабинет следователя, а куда-то вдаль, длинным проходом мимо одинаковых дверей и массивных железных решёток. Пётр Поликарпович чувствовал что-то необычное. Охранник был не такой, как всегда. Когда Пеплова водили на допрос, у охранников были лениво-презрительные лица, а движения как бы замедленные. Теперь же охранник был напряжён и серьёзен, словно чем-то опечален. Пётр Поликарпович пытался понять причину такой перемены. Мелькала даже мысль о расстреле (от советской власти всего можно было ожидать!). Но, поразмыслив, решил, что днём не должны бы расстреливать. Подумав так, он немного успокоился. Однако сомнения остались. Что-то готовилось, и конечно же, готовилось неприятное, плохое.
Всё разрешилось очень быстро и совсем неожиданно. Петра Поликарповича ввели в небольшую комнатку, в которой сидел за столом военный в начищенных до блеска хромовых сапогах. Перед ним был какой-то список в несколько скреплённых железной скобкой листов, справа и слева находились две стопки бланков в пол-листа.
Подняв голову, военный посмотрел на вошедшего.
– Фамилия? – спросил без всякого выражения.
– Пеплов, – ответил Пётр Поликарпович, отчего-то робея. И добавил: – Пётр Поликарпович.
Военный перевернул пальцем пару листов и коротко кивнул. Взял ручку и, обмакнув в чернильницу, сделал в списке пометку. Потом осторожно вытащил из левой стопки четвертинку жёлтой бумаги и положил на стол.
– Ознакомьтесь, – кивнул подбородком.
Помедлив, Пётр Поликарпович взял бумагу и стал читать плохо пропечатанный текст:
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА», – стояло сверху.
Под ним строчка: «от 17 апреля 1940 г.»
Ещё ниже была таблица из двух колонок. Слева стоял заголовок:
«СЛУШАЛИ»,
а под ним текст: «Дело № 5400/УНКВД по Ирк. обл. по обвинению Пеплова Петра Поликарповича, 1892 г. р., ур. с. Перовское Канского уезда Красн. губ., литератора, гр. СССР. Обв. по ст. ст. 58—2, 58—8 и 58–11 УК РСФСР».
В правой колонке сверху значилось:
«ПОСТАНОВИЛИ». А внизу: «Пеплова Петра Поликарповича за участие в антисоветской организации правых – заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, считая срок с 9 апреля 1937 г.».
И неразборчивая подпись внизу после слов:
«Копия верна. Отв. Секретарь Особого совещания». Круглая синяя печать посредине.
Пётр Поликарпович читал это всё, чувствуя нарастающий шум в голове. Он вдруг перестал чувствовать тело, словно попал в невесомость, голова закружилась, он машинально опёрся рукой о стол, чтобы не упасть. Военный поднял голову, строго посмотрел.
– Вам всё понятно?
Пётр Поликарпович сделал глубокий вдох, стараясь прогнать слабость. Рука, держащая выписку, дрожала. Он положил бумагу на стол и спросил, стараясь говорить твёрдо:
– Я хотел бы увидеть своего следователя, лейтенанта Котина.
Военный задумался на секунду, потом произнёс:
– В этом нет необходимости. Следствие по вашему делу закончено. Вам вынесен приговор Особым совещанием в Москве, с которым вы только что ознакомились. Теперь вы должны расписаться в ознакомлении. Вот здесь, на обороте, – и он перевернул лист с выпиской. – Напишите своею рукой: «С приговором ознакомлен» и поставьте подпись и число.
– Но я не согласен с этим приговором! Я уже говорил следователю, что я ни в чём не виновен! За что мне дали восемь лет? Я бывший партизан, я за советскую власть кровь проливал. Какое вы имеете право судить меня?
– Вы можете написать обжалование приговора, – флегматично ответил военный. – Но только после подписи об ознакомлении. Приговор уже вступил в законную силу. Если вы сейчас не подпишете, я сделаю отметку об отказе. И будет всё то же самое. Лучше уж подпишите. Таков порядок.
Пётр Поликарпович задумался. Он видел, что военный его не обманывает. Он говорил об этом деле равнодушно, как о чём-то вполне обыденном и уже надоевшем. Видно, у него каждый день происходят подобные сцены. Вот и стопка бланков лежит справа. Это уже подписанные. Что же делать?
Военный обмакнул в чернильницу ручку и подал ему.
– Подписывайте, Пётр Поликарпович. Завтра вы пойдёте на этап. Если сейчас не подпишете, рискуете попасть в штрафной лагерь. Это запросто. – И, сделав паузу, добавил уже другим голосом: – Не упрямьтесь. Это не в ваших интересах. Подпись не означает согласие, а лишь то, что вы ознакомлены с приговором. Это стандартная процедура. Срок у вас не такой уж и большой, тем более что три года вы уже отсидели. Вам всего пять лет и осталось. На свежем воздухе теперь будете. Окрепнете, искупите вину, а потом вернётесь обратно. Если будете хорошо работать, могут и раньше отпустить. На Беломорканале многих отпускали по зачётам. И вас отпустят, если сделаете правильные выводы. Нужно твёрдо встать на путь к исправлению. А если вы начнёте сразу ото всего отказываться, то я вам не завидую. Ведь вы же писатель, бывший партизан. Должны понимать.
Пётр Поликарпович со смешанным чувством выслушал эту речь. Он видел, что военный говорит искренне и, кажется, в самом деле сочувствует. В то же время он уже начинал догадываться, что все эти уговоры и напутствия ничего не значат. Сначала его следователь уговаривал признать свою вину, потом другой чин советует не ерепениться и обещает лёгкую жизнь и скорое освобождение. А решаться всё будет где-нибудь за тыщу километров – совсем в другой обстановке, другими людьми и по иным законам. Всё это Пётр Поликарпович смутно предчувствовал, но не мог не откликнуться на этакую душевность – чтобы человек в погонах и при оружии так запросто говорил с ним. Ему вспомнились старые времена, когда он сам мог на улице заговорить с незнакомым человеком в военной форме, и они сразу чувствовали себя так, будто давно знакомы, всё им было понятно и близко, словно они братья.
– Где я должен расписаться? – произнёс Пётр Поликарпович устало и взял ручку.
Военный подвинул ему бланк. Пётр Поликарпович прижал листок ладонью и размашисто сделал на обороте требуемую запись. Положил рядом ручку и выпрямился.
– Куда мне теперь?
– Обратно в камеру, – был ответ. Военный испытующе глянул на него. – Заявление писать будете?
– Нет. Ничего не надо.
Пётр Поликарпович уже понял, что всё это бесполезно. Ничего он не изменит заявлениями и заверениями в своей честности. Всё нужно принять так, как есть. За три года заключения и неправедного следствия он вполне в этом убедился.
Военный задумался на секунду, потом согласно кивнул, словно одобряя эти невысказанные мысли.
– Вот это правильно. Люблю сообразительных. – И, повернув голову к двери, крикнул: – Давай следующего!
Петра Поликарповича вывели через другую дверь. Кто там был за ним и кто был перед, он так и не узнал. Да это было и неважно.
В камере, бессонной ночью, Пётр Поликарпович написал последнее своё письмо домой. Оно начиналось стихами:
Как бездны глубь, мрачна моя темница. Я искалечен телом и душой, Лишь по ночам твой образ светлолицый, Как светоч жизни, блещет предо мной.И далее короткое послание:
«Родные Светлана и Ланочка! Я жив пока. И помните, что я ни в чём не виноват. Ложь, подлость, клевета хотят сделать меня врагом. Но я умру честно… Береги себя и Ланусю. Помните, что больше вас я ничего в жизни не любил. Пусть Лануся гордится своим отцом. Пётр. 19.04.1940 г.».
Письмо он оставил сокамерникам в надежде, что те найдут способ переправить его на волю. Все уже знали о приговоре и об этапе. Никто не был удивлён. Напротив, все находили случившееся вполне логичным, а столь стремительную отправку в лагерь – естественной. Гадали насчёт конечного пункта. Но и этот вопрос быстро разрешился. По внутренней тюремной связи (перестукиванием через стенку) было сообщено, что этап отправляется во Владивосток и далее – в Магадан. Собственно, пути из Иркутска было лишь два: на запад и на восток. Других направлений не было. Построенный Александром III Транссиб проходил через Иркутск, находившийся почти на середине десятитысячекилометровой магистрали. Пассажирские поезда и товарные составы следовали через Иркутск или строго на восток, или строго на запад. Но что касается спецэшелонов с заключёнными, то все они шли только на восток – очень дальний и очень страшный восток! Стране требовалось золото, и оно у страны было в достаточном количестве. Взять его из неподатливой земли было неимоверно трудно. Суровые необжитые места, вечная мерзлота, шестидесятиградусные морозы, полное бездорожье и безлюдье на тысячи километров вокруг – в таких-то местах таились несметные сокровища Восточной Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Чукотки и Заполярья. Ехать по своей воле в такую глушь соглашались немногие (и лишь за большие деньги и спецпайки). Но рабочей силы требовалось побольше и – подешевле. А лучше и вовсе бесплатно и чтобы никто через пару месяцев не просился обратно домой. Да чтоб работали как черти – по шестнадцать часов в сутки, да без выходных, да на пустой баланде без жиров и витаминов. Да чтобы спали вповалку на голых досках, да жили в брезентовых палатках, да не просились бы в больницу, да чтоб золота б побольше…
Всё это очень скоро предстояло узнать Петру Поликарповичу. Хоть он и пытался успокаивать себя небольшим сроком, но никак не мог представить, что он проведёт где-то в чужом краю, с незнакомыми людьми пять долгих лет. Не зная ещё всех ужасов Колымы, он содрогался и леденел. Всё-таки он был уже немолод. Силы не те. И здоровье далеко не то. Три года заточения в тесной камере, три года невыносимых душевных мучений вытянули из него все соки, вконец обессилили. Что-то будет дальше, когда он попадёт на каторгу?
Раз за разом задавал Пётр Поликарпович себе этот вопрос и не находил ответа. Камера теперь казалась ему вполне сносной, он согласен был провести в ней остаток срока. Но это было невозможно. Его словно бы несло на утлой лодке по медленной полноводной реке, всё ближе к грохочущему водопаду. Грохот слышался издалека, поначалу казался очень далёким, но мало-помалу приблизился, и вот пучина совсем рядом. Завтра он канет в эту бездну. Что его ждёт? Смерть или спасение? Муки или избавление от мук? Он готов был молиться, готов был поверить в Бога, если бы только Бог подал ему знак. Но знака не было. А была мрачная ночь, и было жуткое ожидание серого апрельского утра. Секундная стрелка совершала свой бег, минуты падали в вечность, планета медленно проворачивалась вокруг своей оси навстречу восходящему солнцу. Огромная страна неудержимо вплывала в новый день. Пётр Поликарпович ворочался на своём жёстком ложе и всё никак не мог заснуть. В висках стучала густеющая кровь, и в такт ей пульсировали и бились жуткие слова:
Клочья мяса, пропитанные грязью, В гнусных ямах топтала нога. Чем вы были? Красотой? Безобразием? Сердцем друга? Сердцем врага? Перекошено, огненно, злобно Небо падает в тёмный наш мир. Не случалось вам видеть подобного, Ясный Пушкин, великий Шекспир? Да, вы были бы так же разорваны На клочки и втоптаны в грязь, Стая злых металлических воронов И над вами бы так же вилась. Иль спаслись бы, спрятавшись с дрожью, По-мышиному, в норку, в чулан, Лепеча беспомощно: низких истин дороже Возвышающий нас обман.Часть вторая
Замок противно заскрежетал, и обитая железом дверь тяжело провернулась на ржавых шарнирах. В открывшийся проём шагнул военный в наглухо застёгнутой гимнастёрке и начищенных до блеска сапогах, на голове фуражка с голубым окоёмом и блестящей кокардой; в правой руке мятый лист.
– Кто тут на букву «п», отзовись! – гаркнул он, мельком глянув в бумагу.
Пётр Поликарпович неспешно поднялся, одёрнул мятый пиджак, повёл шеей. Он ждал эту минуту, кажется, был готов ко всему, но сердце вдруг дёрнулось и упало в пустоту, дыхание прервалось.
– Я на букву «п», – с трудом произнёс он.
– Фамилия, имя, отчество?
– Пеплов. Пётр Поликарпович.
Военный сверился со списком и коротко кивнул.
– С вещами на выход.
Пётр Поликарпович машинально оглянулся. Никаких вещей у него не было и быть не могло. Три года в тюрьме, на всём казённом. А если бы и было чего – всё равно отберут на шмоне, или в бане украдут, или в санпропускнике на пересылке. Его уже предупредили бывалые люди. В далёкий путь он отправлялся налегке, лёгкий, почти что бесплотный – словно херувим.
– Ну что ты там вошкаешься? – последовал окрик.
Пётр Поликарпович шагнул к выходу. Пять пар глаз напряжённо смотрели на него из полутьмы. Он чувствовал на спине эти взгляды. Хотелось сказать товарищам что-нибудь хорошее, душевное, чтоб запомнилось на всю жизнь. Но, как и всегда бывает в таких случаях, подходящих слов не находилось. И он пробормотал обычное:
– Прощайте, братцы. Не поминайте лихом!
– И ты не поминай, Пётр Поликарпович. Может, ещё и свидимся.
Опустив голову, Пётр Поликарпович вышел в коридор. Конвоир суетился, становился то слева, то справа, брал в руки винтовку и страшно шевелил кустистыми бровями. Пётр Поликарпович молча исполнял приказания: становился лицом к стене, брал руки назад, потом брёл по тёмному коридору, останавливался возле железных решёток, не глядел по сторонам, снова шёл, понурив голову… Всё было как во сне. Он словно бы плыл по воздуху, ничего не чувствуя, ничего не понимая. Знал лишь одно: он уходит отсюда навсегда. Будут другие тюрьмы и другие товарищи. Будет что-то совсем иное. Что именно? Об этом можно было только гадать. И оставалось лишь одно: покориться судьбе, послушно идти туда, куда влечёт тебя неудержимый поток. Когда-нибудь да будет остановка, наступит конец этому безумству. Нужно лишь набраться терпения, дождаться конца, дожить до светлого мига освобождения. Не может же всё это продолжаться вечно! Эта спасительная мысль всё сильнее билась у него в мозгу. А пока что кругом были мрачные стены, прочные решётки да злобный конвоир. Один коридор, другой, третий – всё в глухих подвалах, при свете жёлтых ламп, в немоте подземелья. Наконец они пришли: поднялись по каменным ступенькам и попали в полутёмное помещение – абсолютно пустое и без окон. Там уже толпилось десятка два человек. Всех их ждал этап. Пётр Поликарпович неожиданно для себя почувствовал облегчение. Знать, не один он поедет в дальние края. С земляками-то куда как легче!
Он подошёл к высокому парню и спросил с небрежным видом:
– Что, браток, повезут нас, куда Макар телят не гонял?
Парень с недоумением глянул на него, потом сообразил и улыбнулся.
– Да-а-а, прокатимся немного. – Подумал о чём-то и спросил уже другим голосом: – А вы не знаете, куда нас турнут?
Пётр Поликарпович пожал плечами.
– Нам с тобой, парень, одна дорога – к Тихому океану. Доберёмся до Владивостока, а там видно будет. Да ты не переживай! На свежий воздух едем, не то что в этих стенах гнить. Я тут, брат, три года просидел. За всё время ни разу на улице не был.
Парень недоверчиво глядел на него.
– Три года тут сидите? Вот это да! А меня зимой, в декабре, взяли. Дали восемь лет.
– Надо же! И у меня восемь лет. А тебя за что?
Парень скривился.
– За опоздания. На работу я опаздывал, зараза. Невеста есть у меня, Настей зовут. Пожениться хотели. Оставался у неё несколько раз, а утром проснуться не мог. Да пока до дому добежишь. Один раз на десять минут опоздал, другой раз – на восемь, а третий – на пять. Ну и всё. Вахтёры каждый раз меня записывали. Это и раньше так бывало. Я думал, премии лишат, ну, там, в отпуск не пустят. А они оформили акт и передали уполномоченному. Ну и взяли меня прямо у станка. Саботаж клеили. Расстрелом пугали. Пятьдесят восьмая статья, четырнадцатый пункт. А что я такого сделал? Подумаешь-ка, опоздал несколько раз. Ведь я же не враг! Я им говорил, что в выходной могу отработать, я ведь план выполняю на сто процентов. А они – вредитель, враг народа. Ну и всё…
– Теперь на Колыме будешь отрабатывать, – послышалось сбоку. – Там не будешь опаздывать. Научат тебя дисциплине – дрыном по хребту. А заместо невесты будет у тебя здоровенный балан из листвяка. Бабу свою не скоро увидишь.
Пётр Поликарпович обернулся. Перед ним стоял мужичок лет сорока, невысокий, круглолицый, с рыжими усами и с хитрыми глазками. То ли он смеялся про себя, то ли злобно щурился – было не понять.
– А ты что, уже бывал там? – спросил Пётр Поликарпович.
– Там – не там, какая разница? Порядки везде одни. Под Тайшетом в лагерьке я цельный год кантовался, дорогу тамошнюю строили. Ну и добавили мне срок, теперь вот на Колыму поеду. А чего я там не видал? Меня жена дома ждёт с детишками.
– А за что срок добавили? – перебил Пеплов.
– Дак за что. – Мужичок почесал спину. – Побег я учинил. Да только неудачно. Спрятался в штабеле на погрузке, думал, уеду в вагоне из зоны, а там спрыгну где-нибудь на перегоне – и ищи ветра в поле. Это ведь мои родные края! Да только хватились охранники, падлы. Стали вагон проверять, ну и увидели меня в брёвнах. Бить, слава богу, не стали, я им сказал, что уснул малость, заморился от усталости. А срок мне всё равно накинули. Так что поедем мы, братцы, до самого города Владивостока. Потом морем поплывём в большущем пароходе, а там и Колыма. Был у нас в бригаде один оттуда. Такие страсти понарассказывал… Просто жуть! – Мужичок передёрнул плечами и тряхнул головой. – Если правда оно хотя б наполовину, то всем нам хана, верно говорю! Люди там дохнут как мухи, никакого спасу. Гиблое место!
– А сам он как выбрался? – спросил Пеплов недовольно. Разговор нравился ему всё меньше. Все вокруг молча слушали этот рассказ, лица были задумчивы.
Мужичок вдруг омрачился.
– Вот этого я не знаю. Что-то там с ним приключилось, в Москву его повезли на доследование, а потом к нам в Тайшет притартали. Я его шибко не расспрашивал, меня это дело не касается. А вот на Колыме тьма-тьмущая народу сидит! Пароходы с нашим братом снуют туда-сюда. Лагерей понатыкали. Золото моют, потому как много его в земле тамошней. Киркой камни бьют, а потом здоровенными тачками возят на специальную машину. В каждой тачке по сто килограмм – хрен подымешь! На морозе, без отдыха, без обутки. А летом – мошка заедает. И кормят плохо, жрать нечего, у всех, почитай, понос. А ещё цинга, зубы выпадают. Живут они там круглый год в палатках, спят на голых досках. А морозы – за пятьдесят! В общем, хана нам всем, ребята. Если только по дороге не убежим.
Пётр Поликарпович обвёл взглядом притихших товарищей. Откашлялся и заговорил:
– Ну ты тут сильно-то народ не пугай. Ты там не был. Откуда знаешь про палатки? Ты хоть ночевал зимой в тайге? А я ночевал, в землянке. И в палатке тоже приходилось, знаю, что это такое. В палатке в такой мороз ты сразу околеешь. Да и нет таких палаток, чтоб зимой в них жить. Советская власть не для того отправляет нас на Крайний Север, чтобы мы там загнулись. Стране нужно золото, это понимать надо. Я на Дальнем Востоке не был, но уверен, что быт там организован нормально. И с питанием всё должно быть в порядке, и тёплые дома там наверняка уже построили. Ведь это же Крайний Север, Заполярье. Как же без этого?
– Ну, пошёл языком молоть, – воскликнул кто-то из задних рядов. – Тоже мне, агитатор выискался.
Пётр Поликарпович хотел возразить, но в этот момент в помещение вошёл надзиратель.
– Слушать всем сюда, – объявил. – Сейчас все дружно на помывку. Советую вымыться хорошенько, теперь у вас долго бани не будет. На всё про всё вам ровно час. Потом вас покормят и – на этап. Всё поняли?
Все разом стихли. Потом кто-то спросил:
– А куда нас повезут?
– Скоро узнаете, – был ответ.
Вопросов больше не было.
В тюремной бане было всё то же, что и в обычной, – лавки и тазы, краны с горячей и холодной водой, каменный пол, сумрак и толстые стены, покрытые слизью. Воды оказалось вдоволь, и все с удовольствием мылись, часто меняя воду, беспрестанно намыливаясь и переворачивая на себя тазы с горячей водой. Это была лучшая баня за три года. Народу немного, воды вдоволь, никто не торопит и не орёт в открытую дверь: «поторапливайтесь» да «чего расселись, не дома»! И банщики, и надзиратели понимали, что все эти люди уходят отсюда навсегда.
После бани был обед из трёх блюд. Баланда с капустой и мелкой рыбёшкой, перловая каша, компот. Всем выдали пайку хлеба – по восьмисотке. Сообразив, что ужина может и не быть, Пётр Поликарпович половину буханки спрятал в специальный карман, пришитый к пиджаку изнутри для таких вот случаев. Сосед по столу покосился на него, но ничего не сказал.
После обеда всю группу собрали в специальном помещении, отгороженном чугунной решёткой от пола до потолка. Мимо по коридору ходили озабоченные надзиратели, все куда-то спешили и словно бы решали на ходу головоломную задачу. Пётр Поликарпович чувствовал себя каким-то винтиком, никчёмной букашкой – так всё вокруг было серьёзно и внушительно. Эти чем-то озабоченные вооружённые люди, каменные стены и прочные решётки – подавляли какой-то незыблемостью, неотвратимостью. Совершалось что-то значительное и вместе с тем пугающее. Но что это было, он никак не мог взять в толк. И почему он по эту, а не по ту сторону решётки? Он вдруг поймал себя на мысли, что мог бы сейчас точно так же спешить по коридору с озабоченным видом. И он бы не сплоховал, ежели чего! Но его жизненный опыт, его смелость и решительность были теперь никому не нужны. И он стоял возле прочной решётки и с тоской смотрел на красноармейцев. Всё отчётливее понимал разверзшуюся перед ним пропасть. А в голове стучало и билось: почему я не там, не с ними? Зачем эта прочная решётка и для чего меня везут из родного города, от семьи, от любимой работы, от книг? Ответа не было. И он стоял, взявшись двумя руками за холодные прутья, и с тоской смотрел наружу.
Потом их везли в закрытом фургоне, с обеих сторон которого красовалось такое мирное и тёплое слово: «ХЛЕБ». Пётр Поликарпович старался сквозь щели рассмотреть улицы, по которым их везли. Была середина дня, снаружи ярко светило весеннее солнце, двигатель натужно урчал, одолевая подъёмы, сворачивал то влево, то вправо, иногда притормаживал и сердито сигналил, а Пётр Поликарпович всё никак не мог ничего разглядеть, всё не мог поверить, что они едут по родному Иркутску. Эх, увидеть бы хоть одним глазком! Но увидеть ничего так и не удалось. И спросить было не у кого. Так и ехали до самого конца – в темноте и неловкости, подпрыгивая на ухабах, ударяясь спиной о жёсткие борта.
Ехали, правда, недолго. Через полчаса были на месте. Машина взревела в последний раз и стала, двигатель затих. Послышался топот снаружи, отрывистые команды, взлаяли собаки. Гулко ударили в дверь, и та с грохотом распахнулась.
– Быстро выходим по одному! – послышалась команда. – Руки взять за спину. При попытке к бегству конвой стреляет без предупреждения. Первый пошёл!
Пётр Поликарпович сидел в дальнем углу, и ему не пришлось прыгать в спешке, рискуя переломать ноги. Он дождался, когда все вылезут, и лишь тогда приблизился к выходу; взявшись рукой за борт, спрыгнул на землю. Ближайший конвоир вдруг шагнул к нему и замахнулся прикладом, как бы собираясь ударить.
– Чего копаешься, падла? Быстро сел на землю!
Чуть поодаль грозно рычали и скалили зубы две большие овчарки; конвоиры с трудом удерживали их на поводке.
Пётр Поликарпович подошёл к товарищам, которые сидели на корточках возле бетонной плиты. Вокруг были железнодорожные пути, стояли закрытые наглухо вагоны; меж рельсов – чёрная, пропитанная машинным маслом земля. С одной стороны нависал крутой глинистый склон, с другой – высился трёхметровый бетонный забор. Вдали виднелся мост, составленный из железных, наклонённых друг на друга конструкций. Пётр Поликарпович вдруг узнал это место. Их привезли на контейнерную площадку. Местность эта называлась Затоном. Пассажирский вокзал был всего лишь в двух километрах. И совсем рядом, в каких-нибудь двухстах метрах, соединялись две могучие речки – Ангара и Иркут. Где-то здесь три века назад казак-первопроходец Иван Похабов, пройдя со своей дружиной несколько тысяч километров, срубил острог, с которого и начался «Иркуцк». Место было привольное, красивое. Две чистейшие полноводные речки, роскошные заливные луга, полно рыбы и дичи, грибов и ягод. Казалось бы: живи и наслаждайся удивительной сибирской природой, тучными лугами, обильными речками, тайгой!.. Не тут-то было. Неудержимый революционный порыв так всё извратил и изгадил, что впору было крепко зажмуриться и ничего не видеть, не знать, не чувствовать. Но чувства были обострены до предела. Пётр Поликарпович жадно втягивал в себя холодный воздух, в котором была свежесть реки и глубинный дух оттаявшей земли; острые запахи металла, горелой резины, мазута, дыма и пыли не могли заглушить живительное дыхание просыпающейся природы. Впервые за три года Пётр Поликарпович дышал полной грудью и никак не мог надышаться. Голова кружилась от избытка кислорода, свет то вспыхивал до рези в глазах, то надвигалась тьма, и весь мир сужался и давил на голову; затруднялось дыхание, земля под ногами дыбилась, так что приходилось упираться в неё ладонями и так сидеть, скрючившись, пока слабость не отступала и мир опять не становился светлым и просторным. Мимо катились с пронзительным скрежетом вагоны, конвоиры крутили головами и что-то кричали друг другу, собаки остервенело лаяли, высовывая длинные розовые языки, а заключённые всё сидели на земле, сбившись в плотную кучу, всё дрожали от холода и предчувствия беды.
Наконец подошёл поезд, составленный из двух десятков вагонов странного вида. На вид – обычные пассажирские вагоны, крашенные зелёной краской. Но окна были лишь по краям, да и те забраны решётками с толстыми прутьями. Когда состав остановился, никто не вышел из вагонов. Лишь в том, что был напротив, открылась тамбурная дверь и в чёрном проёме показался красноармеец в гимнастёрке мышиного цвета и в галифе из грубого сукна; на ногах высокие чёрные сапоги. За плечом винтовка.
– Кто тут старший? – зычно крикнул он. – Давай подходи! Пятнадцать минут стоим. Пошевеливайтесь.
К нему кинулся начальник конвоя. Стал что-то объяснять, махая руками и показывая на сидевших поодаль заключённых. Потом подал красноармейцу бумагу, которую тот с минуту рассматривал, затем поднял голову и внимательно посмотрел на заключённых. Кивнул начальнику, и тот бросился назад. Взлаяли и поднялись на дыбы немецкие овчарки, конвоиры тоже вдруг озверели, и все разом заорали:
– К вагону, быстро встали, побежали! Пошли! Возле вагона всем опуститься на колени! При попытке к бегству стреляем на поражение. Бегом, марш-марш!
Заключённые тяжко поднялись с земли и побежали к вагону, неловко раскачиваясь и размахивая руками. Пётр Поликарпович не чуял ног под собой, всё ждал, что вот-вот сверзится на стылую землю. Возле вагона на них набросились двое конвоиров, стали тыкать прикладами в спины.
– Всем на колени! Не смотреть по сторонам! Слушать команды! Кого назовут, бегом в вагон!
Красноармеец оглядел с высоты эту пришибленную массу, потом приблизил к лицу листок и выкрикнул:
– Шаталов Владимир Иванович!
Живо поднялся высокий черноволосый мужчина и полез по ступенькам. Красноармеец внимательно глянул ему в лицо и посторонился.
– Цыбин Юрий Николаевич!
Второй заключённый полез в вагон.
– Гоцкин Алексей Алексеевич, Трофимов Михаил Иванович, Бадмаев Анатолий Николаевич, Ведерников Геннадий Поликарпович…
Услыхав свою фамилию, заключённые вскакивали и торопливо лезли по железным ступеням наверх. Когда очередь дошла до Петра Поликарповича, он тяжело поднялся с корточек и пошёл, пошатываясь, к вагону. Взялся за холодные поручни и стал подниматься по решётчатым ступеням. Сердце бешено стучало, ноги дрожали от слабости. Режущий взгляд красноармейца, и вот он уже протискивается сквозь узкий проход внутрь вагона. С левой стороны тянулись стальные сетки, разделённые металлическими стойками, справа – глухая стена. Так до самого конца. В вагоне было темно, и Пётр Поликарпович не сразу разглядел за решётками прильнувших к прутьям людей. Из тьмы на него смотрело множество горящих глаз, грязные корявые пальцы цеплялись за ячеистую сетку, из-за которой несло смрадом. Пётр Поликарпович внезапно остановился, ему отчаянно захотелось назад, на свежий воздух, пусть даже обратно в тюрьму, но не в этот зверинец.
В спину его толкнули.
– Проходи, чего встал. В пятый отсек шуруй, там все ваши.
На непослушных ногах он двинулся дальше. С каждым шагом вонь усиливалась, становилось темнее и глуше. Вдруг кто-то схватил его за руку.
– Сюда иди. Тут место есть, садись скорее.
Пётр Поликарпович послушно шагнул в темноту, нащупал рукой скамью и осторожно сел.
– Кто тут? – спросил он.
– Свои, – был ответ. – Наши, иркутские. Хорошо, что вместе. А то рассовали бы по разным камерам, а там всё уже забито.
Пётр Поликарпович узнал голос мужичка из Тайшетлага. Понемногу глаза привыкали к темноте, он стал различать лица. Вот парень, с которым он разговаривал утром, а вот и сам мужичок – сидит у стенки, там, где должно быть окно. Сверху были ещё полки – на них уже лежали и сидели плотяком, оттуда свисали ноги, едва не касаясь лиц сидевших внизу. А в купе всё заходили заключённые. Пётр Поликарпович подвинулся раз, другой, а потом уже некуда стало сдвигаться. Он замер, впрессованный в тела соседей. Кто-то встал ему на ногу и тут же повалился на него боком. Послышалась брань, последовали толчки, и тот, который падал, чуть сдвинулся, как бы осел, впрессовываясь в тела товарищей.
Скоро весь пол, все полки и скамьи и даже багажный отсек были заняты людьми. Пётр Поликарпович не верил своим глазам. Двадцать смертных душ поместились в этот закуток, в котором было не больше шести лежачих мест (считая с багажными полками). Ни лечь, ни даже встать было уже нельзя. Просто повернуться было непросто. О том, как они будут ехать до самого Владивостока, Пётр Поликарпович старался не думать. Он пытался обмануть себя, что всё это временно, пока идёт посадка. Вот сейчас все усядутся, разберутся; обнаружится такое неестественное скопление заключённых в одном месте, и всё образуется, лишних переведут в другие купе. Появится свободное место, можно будет прилечь, вытянуть гудящие ноги, закрыть глаза, забыться…
Но ничего такого не произошло. Поезд уже тронулся, он уже ехал полным ходом, стуча колёсами и дёргаясь, но в их положении ничего не менялось. Никто не приходил и не спрашивал, как они тут устроились, хорошо ли им тут, не тесно ли. Вместо этого продолжал витийствовать давешний мужичок:
– …А однажды нас двадцать семь человек в такое купе загнали! Жрать давали – по полселёдки и четыресотке хлеба. Это на весь день. И ещё – кружка воды. Так и ехали цельную неделю. Чуть не передохли там. Я думал, всё, карачун. Но под Челябинском конвой сменился, стали воды больше давать, вместо селёдки баланду разносили в бачках. Ложек, правда, не было, хлебали как придётся. Кто руками жратву черпал, кто морду прямо в лоханку совал. Но таких сразу били по затылку. Кому приятно их сопли жрать? Так и доехали до места, никто не помер. Хотя в нашем вагоне двое окочурились. А по всему составу человек тридцать копыта отбросили. Но вы не дрейфьте, теперь времена уже не те. Это в тридцать седьмом творили что хотели. Теперь им Сталин приказал беречь нашего брата. Если что, сразу трибунал. Я законы знаю. Ничего, ребята. Поживём!
Болтовня эта казалась Пеплову какой-то глупой, совершенно не идущей к делу, но странное дело – от неё становилось легче. Не от самих слов, а от того, как всё это излагалось – легко, чуть ли не весело. Мужичок говорил искренно, от души. Ему и в самом деле всё казалось нормальным. А коль так, то и остальным нечего унывать. В конце концов, это ведь не навсегда. Несколько дней можно и перетерпеть. Тем более что в соседних отсеках тоже едут люди. «Если они могут всё это пережить – значит, и я смогу!» Подумав так, Пётр Поликарпович успокоился. Стены уже не давили. И соседи не так сжимали с боков. Вагон раскачивался на ходу, колёса мерно стучали на стыках; временами казалось, что они никуда не едут, но всё это – грандиозная мистификация. Их зачем-то загнали в эту стальную клетку и раскачивают, обстукивают со всех сторон, гремят, нагоняя страху. Пётр Поликарпович нащупал горбушку хлеба во внутреннем кармане и порадовался своей предусмотрительности. Есть не хотелось, но этот согретый собственным телом хлеб придавал уверенности, оставлял подспудную надежду, что он сможет всё преодолеть и вернётся домой – в точно такой же солнечный апрельский день. Он нарочно придёт на то место, откуда их отправляли, всё как следует осмотрит и запомнит. А потом пойдёт пешком домой. Будет медленно идти и вдыхать холодный воздух, станет смотреть в бездонное синее небо и будет счастлив оттого, что он свободен и никуда не спешит, что волен пойти в любую сторону и никто не заорёт на него, не станет пугать карцером или расстрелом. «Какое же это счастье – быть свободным! – подумал он. – Какое это богатство!»
Ещё он подумал о том, что совсем не ценил всё то, что имел в прежней своей жизни. Большая уютная квартира со всеми удобствами в центре города. Просторный тёплый кабинет в редакции. Почёт и уважение со стороны окружающих. И полная свобода поступков. Свобода, которую он нисколько не ценил, почитал за что-то само собой разумеющееся. Зато теперь он понял, что жизнь – это очень хрупкая вещь. Всё, что окружает человека, чем он дорожит и к чему прирос каждой своей клеточкой – всё это можно растоптать в любую секунду! Но тем бережнее нужно относиться к тому, что имеешь. Нужно ценить каждый миг свободы, и нужно работать не покладая рук – каждый час, каждую секунду! Лишь тогда твоя жизнь оправданна. Тогда ты будешь без страха и сожаления смотреть в лицо смерти.
В эти минуты отчаяния, сдавленный со всех сторон множеством тел, пребывая во тьме и уносясь в неизвестность, Пётр Поликарпович дал себе страшную клятву: когда получит свободу и вернётся домой, он круто изменит свою жизнь. Будет работать так, как никогда прежде не работал. Он напишет произведения, которые прожгут сердца читателей, пронзят их до самой глубины. Он откроет миру такие бездны, о которых никто и не подозревал. Он ещё послужит своей Родине. Только бы вернуться домой. Только бы вернуться!
Вагон мерно раскачивался, колёса стучали. Не понять было – всё ещё день или уже ночь наступила. Пётр Поликарпович временами словно забывался, не то проваливаясь в сон, не то теряя память. Так они ехали много часов, всё в одном положении. По коридору проходил время от времени конвоир. Он ни разу не повернул головы, смотрел прямо перед собой и словно о чём-то напряжённо думал. В соседних отсеках происходило какое-то движение, слышались голоса; иногда лязгало железо, и вслед за этим происходила возня, кто-то уходил, а потом приходил обратно. Пётр Поликарпович догадался о причинах этих перемещений и сразу же ощутил потребность выйти. С минуту он раздумывал, потом толкнул локтём соседа. Тот с трудом повернул голову.
– Ты чего толкаешься?
– Слушай, а как тут насчёт оправки? Ты не хочешь?
– Не хочу, – буркнул сосед и отвернулся. – Скажут, когда придёт очередь.
– А если я сейчас хочу? – спросил Пётр Поликарпович.
– Мало ли что ты хочешь. Знай терпи.
Пётр Поликарпович хотел возразить, но промолчал. Все сидят тихо, терпят. Значит, будет терпеть и он.
Глубокой ночью их по одному выводили на оправку в дальний конец вагона. Проходя мимо единственного окна, Пётр Поликарпович заметил в чёрном проёме слабое мерцание – убегающую вдаль дорожку, составленную из жёлтых бликов, дрожащую и словно бы висящую в пустоте. «Байкал!» – пронзила догадка. Поезд мчался по крутой насыпи прямо над озером. Водная гладь расстилалась во все стороны без видимых границ и очертаний; лишь луна оставляла на чёрной глади дрожащий золотистый след да звёзды слабо мерцали на небосводе, отражаясь в чёрном зеркале, дробясь и колыхаясь вместе с неизмеримой водной гладью. Окно было наглухо закрыто и забрано решёткой, но Пётр Поликарпович словно ощутил свежее дыхание исполинского озера, всю его колоссальность! И он снова дал себе клятву вернуться сюда, чего бы ему это ни стоило. Эта ширь и необъятность, эта жуткая красота вдруг захлестнули его. Те несколько секунд, что он видел мерцающую гладь священного озера, наполнили его странной силой. Он ощутил лёгкость во всём теле, обрёл былую уверенность и твёрдость, ощутил кровную связь с этим исполином, с древней землей, со всей природой. Он был частью всей этой мощи, частичкой мироздания! Озеро и лунные блики, далёкие звёзды и свежий крепкий ветер – это был и он – Пётр Поликарпович! Всё было едино, связано навеки. Железные решётки и громыхающие колёса, винтовки и штыки, тесные камеры и спёртый воздух – всё это искусственное, навязанное и ненужное, глубоко чуждое жизни. Зато природа – во всей своей первозданности, свободе и красоте, в своей неуничтожимости и вечной животворящей силе – была той сокровенной правдой и реальностью, которая оправдывала сущее: то, что было, и то, что будет, сколько бы ни длилась жизнь на земле. Пётр Поликарпович поразился этим своим мыслям – странным, пугающим и чарующим. Неужели надо было оказаться в тюремном вагоне, чтобы почувствовать всё это?
Поезд мчался по южному берегу Байкала. Железная дорога повторяла береговые изгибы древнего тектонического разлома, ныряла в каменные туннели и вдруг вырывалась на простор. Сидевшие в вагонах люди и не подозревали обо всей этой красоте. Если бы им теперь сказали, что они едут по какой-нибудь Долине Смерти в пустыне Аризоны, или мчатся прямиком на Северный полюс к сияющим под ослепительным солнцем ледяным глыбам – они бы пожали плечами. В тесных клетушках, где не было ни единого окна и ни форточки, нельзя было понять ничего. Все мечтали лишь об одном: чтобы поезд поскорее прибыл на место. Круглые сутки сидеть без движения в скрюченной позе, вдыхая отравленный воздух и получая утром круто посоленную селёдку и ломоть чёрствого хлеба, – запивать эту трапезу кружкой сырой воды, а потом беспрестанно мучиться животом, не имея возможности вовремя попасть в отхожее место или как-нибудь облегчить страдания, – всё это было похоже на пытку, на какую-нибудь египетскую казнь, продолжающуюся не день и не два, а – несколько недель, а порой и месяцев.
Всё это сполна испытал на себе Пётр Поликарпович. И он сумел выдержать эту муку. Тот краткий миг откровения, когда он увидел в окно величественную картину ночного Байкала, придал ему сил и мужества. Он помнил данную себе клятву. И держался – несмотря ни на что.
Через семнадцать суток, в последних числах апреля, поезд с пятью тысячами заключённых прибыл на станцию Вторая Речка под Владивостоком. Выгружались уже за полночь, в темноте. Прыгали со ступеней на землю и поспешно отходили в сторону, садились на корточки. Была страшная суматоха. Конвой ругался и отчаянно работал прикладами, овчарки скалили зубы и злобно лаяли, светили с деревянных столбов большие жёлтые фонари, вдали был высокий плотный забор, и над всем этим гулял свежий солёный ветер. Пётр Поликарпович торопливо отошёл от вагона, сел возле своих.
– Пока всех не выгрузят и не пересчитают, будем тут сидеть, – послышалось из темноты.
– А потом куда? – спросил кто-то.
– На транзитку, куда ж ещё.
Пётр Поликарпович всё это уже слышал. Всё время, пока ехали, только об этом и говорили – куда везут и что их там ждёт. И всякий раз выходило одинаково: пересыльный лагерь, а потом длительный путь через два моря на страшную Колыму, откуда уже не вернёшься. И всё же у каждого в глубине души оставалась тайная надежда: а вдруг всё чудесным образом переменится? Выйдет какой-нибудь указ или амнистия подоспеет, а то начнётся война и все они понадобятся на фронте или что-нибудь на самом верху произойдёт (выявят истинных врагов-изуверов, которые уничтожают лучших людей), а их отпустят, отправят домой в тех же самых вагонах. Это ничего, что будет тесно. Ради такого дела можно и потерпеть, только бы отпустили! Уж как бы они работали, как бы старались на благо Отчизны! Чтобы ни у кого больше не возникло и тени сомнения в их преданности идеалам революции. Но вот они уже на месте, а ничего такого не происходит. Вот и новый конвой уже прибыл – эти ещё пострашней будут, чем те, которые в поезде, – злее, развязнее. Ругаются матом и ведут себя так, будто через минуту начнётся стрельба, всех подряд будут колоть трёхгранным штыком и сверху добивать прикладом. С кем же они тут собрались воевать?
Пётр Поликарпович повёл головой вправо и влево и увидел везде одно и то же: прыгающих из вагонов заключённых, а у каждого вагона конвоиры с винтовками наперевес, того и гляди – начнут стрелять! Встреча была неласковой. Одно радовало: больше не надо сидеть, скрючившись в три погибели, задыхаясь в испарениях немытых тел, из последних сил удерживая уплывающее сознание. Теперь можно расправить плечи и вдохнуть свежий воздух, так чтобы в голове стало звонко и пусто. Уже вовсю пахло весной, ветер был хоть и сырой, но не студёный, а липкий, обволакивающий, с какой-то странной примесью. Пётр Поликарпович догадался: так пахло море. Это было мощное дыхание безбрежного океана. Где-то там, за этими заплотами, за мрачными сопками и оледеневшим скальником, был огромный океан – неизмеримые пространства, тысячи километров водной стихии! А за океаном – неведомые земли и сказочные страны, где нет злобных конвоиров, уродливых заборов и жутких вагонов с решётками на окнах. Там люди живут обычной жизнью – возделывают землю, любуются на закаты, растят детей… Мысль эта обожгла его. Он вспомнил свою дочь, которую не видел больше трёх лет. Что теперь с ней? Помнит ли она отца? И как будет жить, зная, что отец её – враг трудового народа? Он слыхал, что некоторые дети отказываются от своих родителей, дают на собраниях клятвы не знаться с ними, клеймят родителей последними словами, о чём сообщают в газеты, а те газеты отправляют в лагеря отцам и матерям, чтобы те лучше поняли свою ошибку и поскорей раскаялись. Ах, если бы он мог увидеться с дочерью! Это ничего, что ей всего пять лет. Она бы поняла, что папа её ни в чём не виноват. Ей нечего стыдиться отца, потому что он честный человек.
Размышления были прерваны громкими криками:
– Всем строиться, разобраться пятёрками!
Заключённые поспешно вставали и становились в колонну, образуя нестройные ряды. Тут же суетились конвоиры, толкали заключённых в спины, хватали за рукава и выправляли нестройные ряды. Пётр Поликарпович почитал себя военным человеком, а потому быстро сориентировался и довольно удачно встал в середину колонны, избежав толчков и ругани.
Стали считать пятёрки. И это было знакомо. Конвой хотел удостовериться, что никто не сбежал в пути: сколько село заключённых в поезд, столько и должно теперь выйти. Исключая умерших и заболевших. Но этих уже вычеркнули из общего списка. Умерших отправили в морги, а заболевших тоже куда-то увезли. Заболевшим жутко завидовали. У этих счастливцев был шанс избегнуть общей участи, как-нибудь обхитрить судьбу-злодейку, не попасть на страшную Колыму. Однако же болезни тоже разные бывают. Если дизентерия и кровавый понос, так этого не надо. И чахотка не нужна. И от тифа боже упаси! (Всё это ждало их на Колыме.)
Счёт пятёрок тем временем закончился. Где-то впереди послышалась лающая команда, колонна как бы через силу дрогнула и двинулась вперёд. По обеим сторонам шли конвоиры с винтовками на изготовку, сбоку слепили жёлтые фонари, ещё выше – тёмное глухое небо, на котором ни звёздочки, ни проблеска. Хотя звёзды могли и быть, просто их не видно из-за яркого света. И моря тоже не видать. Но море было рядом, все это чувствовали и отчаянно крутили головами. Всех волновали непривычные запахи и странный воздух. И у каждого в глубине естества словно бы пробудился древний инстинкт первооткрывателя. Точно так же шли землепроходцы по этим хмурым берегам триста лет назад – Беринги и Шелиховы, Крузенштерны и Резановы – на восток, встречь солнцу, в неизведанное. Но шли они по велению сердца, подчиняясь древнему могучему инстинкту. Хотя и гибли, и тяжко страдали, но всё равно были счастливы в своём неудержимом порыве, в преданности мечте. Как же завидовал им Пётр Поликарпович! Если бы сказали ему: будь простым матросом, исполняй на корабле самую тяжёлую и опасную работу, живи в кубрике и питайся одной солониной – так всю жизнь! Он бы с радостью согласился, почёл бы за счастье. Видеть новые страны, открывать неведомые земли, дышать полной грудью и наблюдать по ночам над головой Южный Крест… Ему вдруг вспомнились дивные строчки Блока:
Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран. И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман!И он задохнулся от волнения и восторга. Как это хорошо! Волшебно! Божественно!
Пётр Поликарпович брёл, ничего не видя вокруг. Машинально сворачивал, обходил неровности и держал общий строй. Со стороны было не понять, что в мыслях он далеко отсюда. На краткий миг он обрёл свободу, парил над унылой действительностью, не замечал её грубости и абсурда. А колонна всё шла и шла. Вокруг темнели сопки, и уже угадывалась неизмеримая водная пустыня с правой стороны. Многотысячная колонна в едином порыве жадно всматривалась в темноту, словно ждала какого-то чуда. Само присутствие этой необъятной перспективы было подарком, подтверждением законного права каждого из них на частичку этой необъятности, этой свободы, предуготованной всем без исключения! Каждый, верно, думал про себя: «А ведь это всё может быть и моим! Я тоже имею право и на эту землю, и на воду, и на солёный ветер, и на всё то, что сокрыто от глаз, о чём не помнишь и не думаешь в суете повседневности, в грохоте бестолковой жизни». Заключённые шагали в угрюмом молчании, чувствуя подступающую к сердцу надежду на новый день и на ясный солнечный свет, когда всё станет видно до самой глубины и произойдёт нечто такое, что изменит их судьбу.
Так дошли они до лагеря, в котором уже скопилось к тому времени восемнадцать тысяч смертных душ. Это была знаменитая владивостокская транзитка – «Вторая Речка» (в обиходе – «Шестой километр»). Над входными воротами, освещёнными яркими электрическими фонарями, был растянут плакат с надписью: «Ударный труд – путь к освобождению!», сверху был портрет Ленина, ещё выше – пятиконечная звезда. Традиционный набор символов советского ГУЛАГа. Площадь лагеря была огромна. В нём были мужская и женская зоны, отдельная зона для «врагов народа», отдельная – для уголовников, «кавэжединцев» и штрафников. Отсюда уже несколько лет отправляли этапы на Колыму, в стремительно растущий Дальстрой, беспрестанно требовавший людских ресурсов, ежегодно глотавший сотни тысяч заключённых и отдававший взамен тонны золота. Дальстрой – государство в государстве, жившее по своим особым законам (которые можно было отдалённо сравнить с беспределом периода военного коммунизма), – имел свой собственный флот, главным назначением которого была доставка в Нагаевскую бухту «живого груза». Огромные пароходы «Феликс Дзержинский», «КИМ», «Советская Латвия», «Индигирка», «Генрих Ягода», «Кулу», «Николай Ежов», «Дальстрой», «Орёл» и печально известная «Джурма», вмещавшие в свои трюмы до десяти тысяч человек (в трюмы их набивали так же, как и в купе столыпинских вагонзаков, где на одно место втискивали пятерых), – каждый из этих пароходов совершал за навигацию в среднем по десять рейсов, все вместе они доставляли на Колыму за сезон до трёхсот тысяч заключённых. Так на протяжении пятнадцати лет (исключая военное лихолетье, когда приток на Колыму заключённых резко упал). Сколько из этих людей вернулись домой и сколько осталось навеки лежать в вечной мерзлоте? Цифры эти неизвестны до сей поры. По самым скромным подсчётам, на Колыме погибло не менее миллиона человек. За эти же годы из неподатливой колымской земли добыли, выцарапали, вырвали с кровью и с костями тысячу тонн золота. Так вот, получалось, что за каждый килограмм золота приносилась в жертву человеческая жизнь. Такой тогда шёл счёт на души, вполне устраивавший Сталина и его клику. Человеческая жизнь, по мнению строителей коммунизма, не стоила ничего – в отличие от золота, на которое можно было купить машины и оборудование для ускоренной индустриализации и решительного удара по столпам империализма!
Почему-то никто не удивлялся тому очевидному факту, что все европейские страны как-то обходились без всех этих жертв, без чрезвычайщины и непрекращающегося аврала, без массовых расстрелов и без пыток и неустанного поиска врагов среди своих сограждан. Не было больше нигде этих жутких лагерей, этой гибельной коллективизации вполне мирных крестьян, не было миллионов так называемых спецпереселенцев и не было множества высланных народов, когда уже в пути следования к месту высылки погибал каждый пятый (как правило, дети и старики). И вот же чудо! – промышленность у капиталистов успешно развивалась, продукты свободно продавались в магазинах, и в огромных количествах производились отличные металлорежущие станки, которые с удовольствием покупала советская власть, расплачиваясь золотом и древесиной, особо при этом не торгуясь. Откуда берётся это золото и какой ценой добыто – никого особо не волновало.
Справедливости ради следует сказать, что во Владивостокский пересыльный лагерь регулярно прибывали с Колымы «сактированные» заключённые – инвалиды без рук и ног, потерявшие зрение, сошедшие с ума, обессиленные до последней крайности – люди, которых отпустили на материк умирать. Но таких было очень мало, они были вовсе незаметны в общей массе. Чудовище с большой неохотой выпускало из когтей свои жертвы. Почти все попавшие на Колыму там же и умирали, оставались в вечной мерзлоте, сокрытые от глаз в братских могилах, в придорожных ямах, в болотах и в каменных россыпях среди нескончаемых сопок, в неоглядных далях вечной мерзлоты.
Вновь прибывшие в пересыльный лагерь заключённые ничего этого не знали до поры. Совсем наоборот, они были приятно удивлены, когда узнавали, что в этой транзитке есть довольно приличная больница со стационаром на триста коек, имеются аптека и амбулатория. Круглые сутки работает своя хлебопекарня (от которой распространяется умопомрачительный запах свежеиспечённого хлеба, так что кружится голова). Есть громадные склады с продовольствием и разной утварью, приличная баня, клуб с библиотекой, лошади с телегами, имеются неплохо оборудованные мастерские (портновская, сапожная, столярная). А ещё – крепкие бараки с двухэтажными нарами, с печками и налаженным бытом. Погода к началу мая установилась тёплая, но печки в бараках ещё топились. И всем прибывшим эти бараки казались уютными, прочными и просторными (особенно после вагонной тесноты).
Пётр Поликарпович удачно занял верхнее место на сплошных двухэтажных нарах, протянувшихся во всю пятидесятиметровую длину барака. Матраса не было, но подушку дали, и рваное одеяльце тоже нашлось. Спасибо и на этом. Доски на нарах были отполированы до блеска, заноз можно было не опасаться. Бараки заполнялись счётом по числу заключённых. Войдя в барак, каждый спешил занять понравившееся место. Внутри было сухо и тепло, все это сразу отметили. И все не сговариваясь сразу улеглись на нары, не надеясь на ужин, а желая только одного: чтобы их оставили в покое до утра. Все страшно устали и хотели спать. Блаженно распрямляли спины, раскидывали руки и вытягивались во весь рост. В эту минуту никто ничего не хотел, никуда не стремился. Все понимали: достигнут некий предел, за которым откроются новые дали. Но это всё потом, после. А пока можно блаженно закрыть глаза и забыться крепким сном, ускользнуть из враждебного мира – хотя бы на краткий миг. Во сне можно снова стать свободным, встретиться с родными, оказаться дома. Эта была та малость, которую не могли отнять конвоиры. А если бы могли, то, пожалуй, заменили бы все эти сны другими видениями, в которых они оставались бы заключёнными, ходили строем и громко славили советскую власть.
К счастью, наука до этого пока ещё не дошла, и каждый видел во сне то, о чём мечталось. Но большинство вовсе не видело никаких снов, мгновенно засыпая и словно проваливаясь в чёрную яму. Это было подобие обморока, мгновенного беспамятства, когда человек ничего не чувствовал, ничего не помнил; ему казалось, что он только что смежил веки, а его уже будят, орут под ухо, тянут на утреннюю поверку. В тюрьме Петра Поликарповича тоже будили в шесть утра, но из камеры не выгоняли, не строили и не заставляли куда-то идти. Всё это было внове ему! Таков лагерь со своим раз навсегда принятым уставом, с атмосферой грубого принуждения. Вот и в это утро (особо запомнившееся новичкам, как это всегда и бывает) всех заключённых выгнали из барака и построили в два ряда тут же, у крыльца. Краем глаза Пётр Поликарпович видел, что возле соседних бараков происходит то же самое. Конвой базлал среди раннего утра (но не особо стараясь, а как бы по привычке, от глубокого убеждения, что без крику это «стадо баранов» ничего не поймёт, так и будет топтаться на месте). О том, что среди этого «стада» были видные профессора, заслуженные изобретатели, бывшие военачальники, хирурги, секретари обкомов и даже следователи НКВД – об этом конвой не знал. На политзанятиях им вдалбливали одно и то же: они имеют дело с отбросами общества, с отъявленными мерзавцами и подлыми врагами. До тридцать девятого года очень удобно было их всех называть фашистами. Но потом это дело прекратили и нашли более удобные эпитеты: троцкисты, контрики, шпионы-диверсанты, террористы-вредители (и всё в том же духе, не исключая матерщину и любое пришедшее на ум ругательство). Всё это уже слыхал Пётр Поликарпович – и от следователей, и от конвоя, – а потому не придал этой ругани большого значения. Не бьют – и на том спасибо. В словах ли дело? Сказать можно что угодно. Главное, чтобы не стреляли по живым людям, не спускали на них собак, не колотили прикладом в спину и в лицо, не морили голодом. А всё остальное – это пустяки.
С таким настроением Пётр Поликарпович занял место во второй шеренге и, поёживаясь от холодного утреннего тумана, стал ждать, что будет дальше. А дальше последовала перекличка. Хотя и молодой, но всё равно сердитый лейтенант читал по бумажке фамилии, а заключённые выкрикивали хриплыми голосами: «я» или «здесь» – и называли статью и срок. Статья почти у всех была пятьдесят восьмая, да и сроки не шибко разнились – от пяти до десяти. Пётр Поликарпович в этой массе был своим, не лучше и не хуже других. Попались, правда, несколько уголовников с мизерными сроками. Эти держались отдельно, подчёркивая свой особый статус. Куражились, чему-то радовались, задирали конвой и были в полном восторге от происходящего. Из-за них счёт всё время сбивался. То фамилию не так прочитают, то вместо фамилии кличку выкрикнут (а зэк молчит, не выдаёт себя). А то вдруг объявили фамилию заключённого, который умер по дороге и был снят с поезда. Пока всё это выясняли и поправляли списки, прошло два часа. Заключённые устали стоять на одном месте, замёрзли и начали потихоньку роптать. Конвой сразу насторожился, защёлкал затворами; искажённые злобой лица обратились к неровным шеренгам. Ропот утих, перекличка продолжилась.
Но вот наконец вся эта кутерьма закончилась. Вперёд вышел военный – откормленный тип, словно бы налитый жиром до самых глаз. Он оглядел толпу равнодушно, с холодным презрением. Как-то странно скривился и заговорил высоким голосом:
– Моя фамилия Соколов. Я начальник этого лагеря. Объявляю всем прибывшим: вы должны неукоснительно соблюдать режим и исполнять приказания конвоя. За неповиновение – карцер. Отказ от работы считается саботажем. За три отказа от выхода на работы – расстрел. – Начальник сделал паузу и обвёл пустым взглядом притихшие ряды. Даже блатные перестали бузить и повернули головы. – Через некоторое время вас этапируют к постоянному месту отбывания наказания. А пока вы будете заняты на общих работах по строительству объектов на территории лагеря и за его пределами. Сразу хочу предупредить, что конвой открывает огонь на поражение без предупреждения. Это относится к тем, кто мечтает о побеге. С такими у нас разговор короткий! – Он оглядел притихший строй и веско молвил: – Не советую!
Пётр Поликарпович опустил взгляд. Он как раз думал в эти минуты о побеге. Пока их не посадили на пароход, пока ещё есть силы – можно было рискнуть. Пойти назад вдоль железной дороги. По пути будут попадаться какие ни то деревеньки. Мир не без добрых людей – выручат. Идти, правда, далековато. Но ничего, что-нибудь можно придумать. Всё лучше, чем попасть на Колыму. Оттуда не убежишь.
Начальник ещё говорил что-то, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Пётр Поликарпович не слушал. Он напряжённо думал о том, что должен предпринять в ближайшие дни. Нужно было хорошо осмотреть местность. Пройтись по всему лагерю, изучить заборы, присмотреться к охране. Неплохо бы наведаться в санчасть. Хотя он и не знал за собой никакой болезни, но попробовать стоило. Всё-таки ему уже почти пятьдесят. Не должны бы таких отправлять на Колыму. А ещё нужно запастись продуктами, хотя бы на первое время. Компас бы не повредил. Ножичек тоже надо бы иметь. Фляжку для воды. Сапоги покрепче. Фуфайку, а лучше – плащ-палатку. Спички. И винтовку с патронами. Тогда, глядишь, и можно дойти. Эх, был бы он в родной присаянской тайге – тогда б другое дело. Там бы он точно не пропал!
За такими размышлениями он не заметил, как всё закончилось. Колонна по команде повернулась налево и нестройными рядами зашагала по бугристой земле мимо барака. Туман рассеялся под ярким солнцем, показались вдали невысокие холмы, над ними распахнулось синее небо. На бурых холмах там и сям лепились деревянные домики, кривые дороги уходили вверх и вниз, ветер свободно гулял по округлым склонам. По дорогам никто не ехал и не шёл, дома казались нежилыми. Оглянувшись в другую сторону, Пётр Поликарпович увидел совсем другую картину: цепочку казённых серых домов, ряды деревянных столбов с провисшими проводами, унылые бетонные здания с мутными окнами; можно было догадаться, что здесь располагалась довольно крупная железнодорожная станция. Не пассажирская, конечно же. Грузовая или вроде того. А за ней, в сияющей дали, ослепительно блистало море. От него веяло холодом и мощью. Горизонт круглился, исчезая в розоватой дымке. Белёсые облачка касались воды, и было не понять, где кончается океан и начинается небо. Очень заманчивый открывался вид. Но Пётр Поликарпович понимал, что морем отсюда не уйти. На восток пути не было. Ещё он подумал о том, что в таком деле неплохо бы иметь надёжного спутника. Но кому тут можно довериться? Станешь с кем-нибудь говорить – запросто могут подслушать и донести. Так уже бывало. Стукачей вокруг полно. Верить никому нельзя. Тут каждый сам за себя. Если уж его предали собратья-писатели, так чего говорить о случайных знакомых.
Колонну заключённых привели в огромную столовую, где они торопливо расселись на длинных узких скамьях за грубо сколоченными столами. Каждому выдали по шестисотке чёрного хлеба и по оловянной миске безвкусной овсяной каши. Были даже ложки – плохо помытые, жирные, тяжёлые. Но на это никто не обращал внимания. Была бы каша, а есть можно и через край, помогая себе пальцем. Такой опыт у многих уже имелся. Жиденький тёплый чай довершил трапезу.
Из столовой их повели в самый конец лагеря. «На санобработку ведут! – зашелестело по рядам. – В баню идём!»
Пётр Поликарпович вздохнул с облегчением. Баня – это хорошо. Санобработка – ещё лучше. Правда, он смутно представлял, что это такое. Сзади и спереди что-то говорили о вшах, хвалили новую вошебойку, совершающую чудеса, а ещё очень надеялись на медкомиссию, которая освобождает от общих работ больных и увечных. Пётр Поликарпович не очень-то верил во все эти комиссии, но от таких разговоров становилось как будто легче. Таилась в глубине души надежда, что если он и в самом деле заболеет, если станет невмоготу – тогда он обратится к врачам и они помогут. А иначе – зачем они здесь?
Меж тем колонна приблизилась к длинному приземистому бараку с двускатной крышей. На крыльце стоял охранник с винтовкой. На заключённых он не смотрел и вид имел неприступный, словно бы охранял склад с боеприпасами. Впрочем, заключённым это было всё равно. Все эти неприступного вида солдаты, вечно спешащие командиры, заборы с колючей проволокой, уродливые вышки, грязь под ногами и какие-то допотопные строения – всё это уже примелькалось, стало частью пейзажа, жизненным фоном. Так человек привыкает к теплу и к холоду, к пустыне и к непроходимой тайге, к роскоши и к бедности, со временем переставая замечать как хорошее, так и плохое, а принимая всё это за должное и почти что нормальное, незаметно для себя свыкаясь с действительностью. Что-то подобное произошло и с Петром Поликарповичем. Его больше не шокировала грубость конвоиров, не возмущали толчки и оскорбления товарищей. Спокойно он воспринимал и убогий быт, и все эти отхожие места, и крепкие запоры, и саму несвободу. А теперь он даже ощущал душевный подъём. После трёх лет пребывания в тесной камере и трёх недель этапа в переполненном купе он вдруг оказался на вольном воздухе, среди необъятных просторов Дальнего Востока, на берегу безбрежного океана. Поднявшееся солнце ярко светило с высоты, на небе – ни облачка. Вдали, над водной гладью, сеялся белёсый туман, свежее туманное утро незаметно обратилось в горячий ясный день. Вода играла яркими солнечными бликами и быстро меняла краски – от ярко-синего до тёмно-коричневых тонов. В бухте, сдавленной с двух сторон уходящими вдаль приземистыми сопками, недвижно стояли корабли – остроносые и округлые, длинные и маленькие, с палубными надстройками и почти утопающие в воде.
Никогда Пётр Поликарпович не был на море, не видел вблизи ни одного корабля. Тем загадочнее казалась открывшаяся картина. Хотелось пойти туда – к этим бликам, оказаться на просторе, вдыхать всей грудью острый влажный воздух, впитывать яркий солнечный свет, чувствовать себя частью этого великолепия. Всё казалось близким, достижимым. Только протяни руку, сделай шаг, и всё будет твоё! Но колонна двигалась в другую сторону, уходила прочь от солнца и свободы. Заключённых ждала грязная полутёмная баня, и уже калилась видавшая виды вошебойка, равнодушные врачи с усталыми лицами заняли свои места за длинными столами из плохо оструганных досок. Всё вокруг было казённое, враждебное, бесчувственное и глубоко порочное. Но всё это могло показаться раем в сравнении с тем, что ждало их на Колыме, в стране вечной мерзлоты.
В иных случаях лучше не знать своего будущего. Если бы каждый человек знал свою судьбу – не прервалась ли бы тогда жизнь на земле? ГУЛАГ тогда точно бы опустел, потому что никто не захотел бы покорно ожидать медленную и мучительную смерть от голода, холода и побоев. Проще было умереть сразу, не мучаясь, не принимая унижений, о которых доподлинно и рассказать нельзя. Некому тогда стало бы днём и ночью долбить из последних сил мёрзлую породу и катить по прыгающим доскам стокилограммовые тачки с камнями. Некого было бы выгонять из бараков в ледяную стужу, пугая расстрелом за невыполнение плана и карцером за малейшую провинность. Но судьбу свою никто не знает. В душе каждого человека теплится надежда, что ещё не пришла последняя минута и что есть ещё путь наверх – к солнцу и свободе, к утраченному достоинству. Даже когда сознание меркнет, эта вера живёт в человеке и умирает последней. Инстинкт жизни пока ещё никто не отменял. На этом инстинкте держится вся каторга и все тюрьмы, какие были, есть и будут. Советская власть долгое время держалась на этой воспетой Джеком Лондоном «любви к жизни».
Но выдающийся американский писатель не предполагал, что тот ужас, который испытал герой его знаменитого рассказа, очень скоро будет испытан миллионами советских людей – в худшем и окончательно гибельном варианте. На Аляске погибли сотни искателей приключений, на свой страх и риск отправившихся в страну вечного холода. На Колыме приняли мученическую смерть сотни тысяч вполне обычных людей, не помышлявших ни о каком Севере, ни о каком золоте, не бредивших романтикой далёких путешествий, а просто живущих, растивших детей и строивших вполне мирные планы. Все они были затянуты в адский механизм ГУЛАГа без всякой надежды на возвращение. Очень жаль, что Джек Лондон не дожил до тридцать седьмого года. Советская Колыма дала бы ему такие сюжеты, от которых содрогнулся бы подлунный мир. Но – не случилось. Колыма ещё ждёт своих летописцев. Архивы и спецхраны ревностно берегут свои тайны. Сотни тысяч трупов остаются нетленными в условиях вечной мерзлоты. По свидетельствам очевидцев, даже и через семьдесят лет после смерти на лицах трупов можно различить черты, прочитать на теле страшную картину страданий. Когда-нибудь правда о Колыме будет рассказана – во всей своей беспощадной наготе. Две с половиной тысячи лет назад великий грек изрёк: «Всё тайное рано или поздно становится явным». Вся последующая мировая история подтверждает эту истину. И нашим потомкам в очередной раз предстоит убедиться в её неотразимой силе.
Баня была хороша, заключённые мылись с удовольствием, смывая с себя трёхнедельную этапную грязь (когда не то что бани, а обычного умывальника не было, нельзя было ни помыть руки, ни ополоснуть лицо). Тем восхитительнее казалась идущая из кранов горячая вода, видавшие виды тазы и бочки с ледяной водой. Не всё, правда, прошло гладко. Перед баней всех заставили раздеться и отобрали одежду – «на дезинфекцию». А уже внутри, в предбаннике, их ждали парикмахеры (местные «придурки»). Орудуя ножницами и остро отточенными ножами, они споро состригали и сбривали у заключённых волосы на голове и пониже пояса, действуя при этом грубо, не обращая внимания на жалобы. Протесты вызывали лишь насмешки и угрозы отхватить вместе с волосами всё, что попадёт под нож. Приходилось терпеть. Официально всё это именовалось борьбой со вшами. Тут же на стене пришпилен плакатик с прыгающими буквами: «Если вошь не убьёшь, то убьёт тебя вошь!»
Пётр Поликарпович уже имел удовольствие наблюдать этих паразитов у соседей по камере. Имелся и опыт Гражданской войны – среди партизан эти насекомые не были в диковинку, со вшами боролись керосином и всё той же баней, устроенной прямо в тайге, с удушливым дымом и раскалёнными камнями. Там тоже бывало всяко. Поэтому он не возмущался и не протестовал. Молча перенёс экзекуцию и спокойно прошёл в мойку, где взял гнутый таз и наполнил до краёв горячей водой. Пока другие ругались и возмущались, он как следует вымылся с мылом, благо на полу валялись обмылки. Голова зудела и чесалась, кое-где сочилась кровь, но он не обращал внимания. Кровь остановится рано или поздно, а зуд пройдёт. Главное – вымыться как следует, прогреться горячей водой.
Выйдя из моечной, он вытерся волглым полотенцем и получил одежду, прошедшую обработку горячим паром. Одежда была горячая и влажная, от неё разило скипидаром. Рубаха и штаны заметно подсели, но не настолько, чтобы нельзя было их надеть на голое тело.
Чувствуя необычайную лёгкость, Пётр Поликарпович вышел на улицу. Там всех заключённых ждала медицинская комиссия. За длинными столами сидели люди в грязно-белых халатах, надетых на гимнастёрки и шинели. Перед ними лежали бумаги, амбарные книги, какие-то бланки с печатями… Пётр Поликарпович подошёл к крайнему столу, за которым сидел высокий жилистый старик с хмурым лицом.
– Фамилия? Статья? Срок? – спросил старик, не поднимая головы.
Пётр Поликарпович ответил.
– Жалобы есть? – последовал новый вопрос.
– Есть.
Старик поднял голову, бросил недоверчивый взгляд.
– На что жалуетесь?
– У меня сердце слабое. Суставы болят. Ещё в Гражданскую застудил, когда по лесам партизанил.
– Партизанил, говоришь. Ну-ну. Я тоже партизанил, и ничего, работаю до сих пор. С утра до вечера тут сижу, со всякой контрой дело имею.
– Я не контра.
Старик усмехнулся.
– Все вы так говорите. Раз попал сюда – значит, контрик. Статья у тебя серьёзная. Будешь теперь на общих работах. Заболеваний у тебя я не нахожу. Ты ещё поздоровей меня будешь.
Пётр Поликарпович опешил.
– Но ведь вы меня даже не осмотрели!
– А чего тебя осматривать? Если я буду со всеми валандаться, так я до морковкина заговенья буду тут сидеть. Поедешь, парень, на Колыму. Если тебя там признают негодным, вернут обратно. А я пока не вижу причин. Надо потрудиться для Родины.
Он взял прямоугольный штамп и, подышав, притиснул к бумаге. Затем расписался и сунул листок в общую кучу.
– Всё, свободен, – молвил недовольно.
– Как свободен? Вы должны меня осмотреть. Ведь вы же врач! – горячился Пётр Поликарпович.
– Ничего я тебе не должен. А будешь права качать, мигом у меня в карцер загремишь. Оформлю десять суток, узнаешь тогда, кто кому должен. Проходи давай, не бузи.
Пётр Поликарпович бросил взгляд на пожилую врачиху, сидевшую за соседним столом, и пожалел, что не подошёл к ней. Но теперь поздно было горевать. Врачиха слышала этот разговор, но даже не повернула головы, склонилась ещё ниже, старательно заполняя какой-то бланк.
Пётр Поликарпович медленно отошёл, решив на другой же день наведаться в амбулаторию и добиться врачебного осмотра. Про суставы он не врал. И про сердце – тоже. Ему было уже сорок восемь лет. И уже много лет у него болели на погоду все суставы, и поясницу прихватывало, так что порой не разогнуться. Сердце тоже пошаливало. Врачи из ведомственной поликлиники каждый год настоятельно советовали ему поехать летом в Крым или в Кисловодск. Он соглашался, но каждый раз что-нибудь мешало. То работы было много, то очередной съезд писателей намечался, то дочка родилась. Так и не съездил ни разу, не искупался в тёплом море, не увидел роскошную южную природу. Теперь уж, видно, не придётся.
Вечером, в бараке, он узнал, что весь их этап признан здоровым и годным для общих работ. А ведь были среди них и семидесятилетние старики, и восемнадцатилетние юноши, были истощённые и слабосильные, многие надрывно кашляли и едва переставляли ноги. Пётр Поликарпович был свидетелем, как одному бедолаге выдёргивали больной зуб старым дедовским способом: обвязав зуб скрученной нитью и сильно дёрнув. Зуб вышел не сразу. Было много крови и крику, была страшная рана с торчащим обломанным корнем, и был хохот со стороны некоторых заключённых, потешавшихся над такой незадачей. Жаловаться на зубы было не принято. Зубная боль считалась пустяком, которую можно перетерпеть. Очень скоро Пётр Поликарпович в этом убедился. А пока он со смешанным чувством страха и жалости наблюдал за соседями. Кто-то окончательно упал духом и молча лежал на нарах, спрятав голову в тряпки. Кто-то неестественно бодрился, пытался шутить и чересчур громко смеялся. Иные затравленно озирались и о чём-то напряжённо думали. Что это были за думы – догадаться было нетрудно.
Однако времени для таких наблюдений было всё меньше. На следующее утро после наспех проглоченного завтрака весь барак погнали на разгрузку вагонов. Едва рассвело, с моря дул холодный пронизывающий ветер. Пётр Поликарпович брёл в середине колонны, покачиваясь от слабости. Голова гудела, тело казалось тяжёлым, застывшим. Хотелось лечь среди дороги и ничего не видеть, не чувствовать. Но остановиться было нельзя, и он шёл, покачиваясь, втянув голову в плечи и безуспешно пытаясь согреться.
На контейнерной площадке их выстроили перед вагонами и разбили на бригады. Распахнули двери и приказали начинать. Вагоны были доверху набиты мешками с мукой. Разгружать нужно было прямо на землю. Впрочем, мешки тоже не отличались чистотой. Грязные, облепленные мукой пополам с чёрной свалявшейся пылью… Пётр Поликарпович зябко повёл плечами. Глянул на товарищей. Ни у кого не было ни перчаток, ни каких ни то фартуков. Работать предстояло в только что выстиранной гражданской одежде, голыми руками.
– Ну чего встали? Начинайте. Не на курорт приехали! – прикрикнул стоявший возле вагона мужик в сатиновых брюках, в пиджаке и в натянутой на уши деревенской кепке. – Пока всё не выгрузите, на обед не пойдёте.
Заключённые потянулись к вагонам. Подходили осторожно, словно не веря своим глазам. Вот один ухватился за угол мешка, потянул на себя, дёрнул сильнее – безрезультатно. Пальцы сорвались, на ладонях осталась липкая грязь.
– Сверху начинайте, олухи! – посоветовал мужик в кепке. – Кто же из середины тащит? Вот дурачьё. И где вас только берут, идиотов? Ничего не умеют делать. Погодите! Тут вас научат жизни!
Мужик прибавил крепкое словцо, но никто даже не обернулся. К ругани все давно привыкли.
Вот щуплый парень полез по мешкам на самый верх. Ухватил за угол куль и стал тянуть. Кое-как вытянул наполовину и глянул вниз:
– Ловите там!
Куль полетел на головы товарищей, был подхвачен и отнесён в сторону. Мужик в кепке покачал головой и отвернулся.
Сверху полетел второй мешок, а за ним и третий.
Разгрузка началась.
Пётр Поликарпович не привык отлынивать от общего дела. Подошёл к вагону, встал рядом с товарищами. Увидев скользящий сверху мешок, вытянул руки и весь напрягся. Удар пришёлся на плечи и частично на лицо. Пётр Поликарпович покачнулся под тяжестью, но сдюжил. Вдвоём с товарищем они отнесли мешок в общую кучу, бросили на землю. Стали отряхиваться от налипшей муки, потом сообразили, что всё это бесполезно, и пошли за очередным мешком.
На разгрузку вагона ушло три часа. Все устали с непривычки. Одежда перепачкана, лицо липкое от пота; хотелось снять всю одежду и вымыться горячей водой с мылом. Но не только помыться – даже обсушиться было негде. Да и некогда. Стали подъезжать грузовики с высокими бортами. Теперь нужно было перетаскивать мешки в кузова. Машины газовали и тряслись. Шофера показывали, как следует класть мешки, сопровождая объяснения жуткой руганью, а иногда и подзатыльниками. Заключённые суетились, мешали друг другу, роняли мешки на землю, спотыкались, падали. Состав с пустыми вагонами вдруг дёрнулся и поехал прочь. Но место недолго пустовало. Через несколько минут раздался паровозный гудок, и к платформе медленно подъехал новый поезд, гружённый всё той же мукой.
Заключённых поделили на две группы. Пока одна таскала мешки на грузовики, другая должна была разгружать прибывшие вагоны.
А солнце стояло уже высоко. Была середина дня. Пётр Поликарпович едва держался на ногах. Воздуха не хватало, сердце бешено гнало кровь по жилам, ноги дрожали, а руки ослабели и уже не могли удержать пятидесятикилограммовый мешок. Из последних сил Пётр Поликарпович цеплялся двумя руками за угол мешка, потом вдвоём с напарником они волочили этот куль до борта грузовика, переваливали через край и плелись обратно. Гора мешков на платформе не убывала. Надежды на скорый отдых и обед не было. Да и есть уже не хотелось. Всё сильнее мучила жажда. Глотка пересохла, язык казался шершавым и неповоротливым.
Пётр Поликарпович вдруг остановился, провёл рукавом по лбу.
– Слушай, браток, давай-ка погоди чуток. Нужно передохнуть малость, а то я упаду, – сказал напарнику. Тот лишь пожал плечами. Кажется, он не шибко-то и устал. Его простоватое деревенское лицо было спокойно. Сказали: тащи! – тащит. Скажут: брось! – немедленно бросит с равнодушным лицом. Скомандуют: вперёд! – побежит за милый мой. Будет с упоением кричать «ура» и колоть штыком неприятеля. Этакая покорность – она ведь неспроста. Это равнодушие и умение подчиняться – воспитываются с малолетства, впитываются с молоком матери. Это генетическая память поколений. И вся русская деревня такова! Зачем было этих покладистых работящих людей отрывать от земли и, заклеймив врагами и предателями, отправлять на работу за тридевять земель? Они бы усердно пахали и сеяли там, где родились. Они бы не роптали и обходились той малостью, что оставляла им советская власть – ровно столько, чтобы не подохнуть с голоду. Вот прямо теперь – взять бы и отпустить их всех домой! Они вернутся в свои деревни и станут благодарить гуманную советскую власть за чудесное избавление. Будут почитать за счастье каторжный труд от зари до зари. Потому что всё это дома, на родной земле, среди берёз и перелесков. Дома и умереть не страшно!
Но никто никого не отпустит. Все эти крестьяне, и все горожане, и все военные, и все инженеры, учёные и писатели – все эти люди, попавшие в адскую машину, – уже не вернутся домой просто так. Всем им предстоит пройти до конца свой скорбный путь. Даже если и останешься жив, всё равно не будешь прежним. Прошлое ушло безвозвратно, навсегда. В какой-то миг жуткого прозрения Пётр Поликарпович всё это понял. Сердце болезненно сжалось. Он опустил голову и зажмурился. В ту же секунду почувствовал толчок в спину.
– Ну чего встали? Команды на перекур не было. Давайте шевелитесь. Все вон работают, а вы чего, особенные?
Конвоир – молодой парень – говорил со злобой, глаза его то щурились, то полыхали огнём.
– Ладно-ладно, сейчас. – Пётр Поликарпович кивнул и пошёл к мешкам. Говорить с этаким обалдуем он не хотел. Обычной человеческой речи эти люди не понимали. В этом он уже убедился.
Работать было неимоверно тяжело, но в какой-то момент тяжесть стала понемногу отступать, словно бы растворяться в теле; Пётр Поликарпович перестал чувствовать боль и усталость. В странном отупении подходил к мешку и, почти не чувствуя веса, тащил к машине. Это совершалось автоматически, без участия сознания. Ноги сами брели, куда нужно, а руки совершали положенные движения – тоже сами по себе. Голова была как в тумане, но при этом он видел всё как бы со стороны. Так они работали и час, и другой, и третий. Уже солнце стало клониться к окрестным сопкам, и всё вокруг потемнело. Воздух посвежел и набрал силу. А они всё носили и носили проклятые мешки. Второй состав ушёл, а третий не появился. Пётр Поликарпович отметил это равнодушно. Если бы пригнали новый состав, он принял бы это как само собой разумеющееся, и таскал бы мешки всю ночь, то есть пока бы не упал без сил.
Мешки понемногу убывали и вдруг закончились. Платформа опустела, грузовики уехали. Заключённые растерянно топтались, не зная, что теперь делать. Прозвучала зычная команда на построение, конвоиры встали кругом, колонна кое-как построилась и двинулась обратно в лагерь. Шли молча, никто не разговаривал и окрестным пейзажем не любовался. Всем было наплевать. Особой усталости хотя и не было, но движения были странно замедленные, а мысли растянутые и словно бы не свои. Так и пришли в лагерь – уже в сумерках. У лагерных ворот их обыскали в свете ярких электрических ламп, потом они прошли под лозунгом про спасительный ударный труд и направились прямиком в столовую. Не моя рук и даже не вспоминая об этом, зашли в столовую и получили обед вместе с ужином – пустые щи с чёрной капустой и перловую кашу, по пятисотке хлеба. Ели без аппетита, а скорее по привычке. Никто никуда не торопился. Потом всё так же молча поднялись и, построившись в колонну, отправились в свой барак.
Потом была вечерняя поверка – всех выгоняли из барака и запускали обратно по одному… Это уже было как во сне. Пётр Поликарпович добрался до своего места, с трудом забрался на второй ярус и повалился без сил на голые доски. И сразу провалился в сон, похожий на смерть – без сновидений, вовсе без всяких чувств.
Кажется, вот только что он отключился – и уже кругом суматоха, все торопливо поднимаются с нар и выходят из барака в серую муть. Топот, галдёж, злобные крики дневального – всё слилось в какую-то какофонию. Пётр Поликарпович со стоном поднялся. Голова казалась страшно тяжёлой, и всё тело разламывало так, будто его пропустили через мясорубку. Болело всё – ноги и руки, спина, грудь, рёбра; с трудом дышалось, давило сердце. Сцепив зубы, Пётр Поликарпович спустился на пол. Одеваться не нужно было – он спал, как пришёл с улицы – одетый и в ботинках. Пошатываясь, он побрёл вслед за всеми.
Толпа выходила на улицу, зябко кутаясь и лязгая зубами. Лица у всех бледные, осунувшиеся, глаза странно блестят. Все были озлоблены, вконец обессилены авральной работой накануне.
– Больные и увечные есть? – гаркнул мордатый майор, когда зэки построились в две шеренги. – Кто болен – шаг вперёд!
Строй зашевелился. Как бы нехотя стали выходить там и тут. Вышедшие вперёд стояли сгорбившись и затравленно озираясь. Вышел и Пётр Поликарпович.
Майор подходил к каждому.
– Ты чем болен? А ты? Говори!
Ответы разнообразием не отличались. У кого грудь болела, у кого ноги не шли, кто-то дышать не мог. Майор кривил рот в усмешке и продолжал свой допрос.
Когда очередь дошла до Пеплова, надзиратель словно бы призадумался.
– Ты кто?
– Пеплов моя фамилия…
– Чем на воле занимался, спрашиваю?
– Так это… писатель я. Книги пишу. О революции, о Гражданской войне. Я ведь партизан.
– Бывший партизан, – веско добавил майор. – И бывший писатель. У нас тут тебе писать не придётся. Будешь вкалывать как и все, на общих. На поблажки не надейся. Понял меня?
Пётр Поликарпович поднял голову, посмотрел прямо в лицо майору.
– Мне не нужны поблажки.
– А зачем вышел?
– Я болен. Сердце ноет. Вчера наработался на разгрузке вагонов, едва стою теперь.
– Это ничего! – Майор довольно улыбнулся. – Привыкнешь.
Он посмотрел на строй и крикнул с угрозой:
– Все привыкнете у меня! Запомните хорошенько: вы тут не на курорте. Товарищ Сталин требует от нас железной дисциплины. Сейчас не то время, чтобы распускать сопли. Вы все должны поработать для Родины, искупить вину честным трудом. А кто не захочет работать, того мы заставим. Советская власть шутить не любит. С такими, как вы, у неё разговор короткий. Всё поняли?
Заключённые подавленно молчали.
– Марш обратно в строй! – приказал он всем вышедшим. Обернулся к стоящему чуть сзади долговязому лейтенанту. – Гони их всех на работу. А за писателем этим особо следите, чтоб не отлынивал. Уяснил?
– Так точно, проследим! – ответил лейтенант.
– Ну, добре. Давайте двигайте.
И не дожидаясь, когда майор уйдёт, лейтенант громко скомандовал:
– Слушай мою команду. Напр-р-ра-а-а-во! Ша-агом арш!
Колонна неуклюже повернулась и словно бы через силу пошла.
– А в столовую когда? – крикнул кто-то из рядов. – Жрать охота!
– Не подохнете, – ответил лейтенант. – На месте пайку получите. Скажите спасибо, что ночью вас не подняли.
Он что-то ещё бормотал и ругался. Заключённые не слушали. Все уже поняли: нормального завтрака не будет. И обеда – тоже.
Всё начиналось очень нехорошо. Этап ещё не прибыл на Колыму, а уже было так тяжело, что казалось – не сдюжить. Вместо нормальной работы – аврал. Вместо размеренной жизни – полная непредсказуемость, неразбериха и произвол. Пётр Поликарпович уже понял, что их этап бросают, куда вздумается начальству, нисколько не заботясь о состоянии заключённых. Все они должны очень скоро исчезнуть из лагеря, так чего же беспокоиться? В глазах начальства они были дармовой рабочей силой, с которой можно делать всё что угодно. И нечего тратить на них дефицитные лекарства и бинты. И продукты нет смысла переводить. Небось не подохнут. Там, куда они едут, пусть их лечат, кормят и одевают по сезону. А пересыльный лагерь не для того предназначен. Да и невозможно, в самом деле, накормить досыта и как следует одеть всю эту прорву заключённых, беспрестанно прибывающих поездами и убывающих пароходами. За летнюю навигацию через лагерь проходили триста тысяч человек. Какое-то вавилонское столпотворение, а не общежитие советских заключённых.
Вот и бросали тысячи растерянных, измочаленных бесчеловечным следствием и жутким этапом людей куда придётся – на разгрузку беспрестанно прибывающих товарняков и погрузку убывающих на Колыму огромных кораблей. Посылали на ремонт дорог, на постройку бараков и казённых зданий, на уборку мусора и снега. От всей этой кутерьмы освобождали лишь местных «придурков» – заключённых, работавших в бане и в столовой, на складах и в прочих привилегированных местах. Но там были сплошь уголовники, ненавидевшие политических всей своей чёрной душой. Для пятьдесят восьмой статьи была одна судьба: тяжёлый физический труд в золотых забоях, на оловянных рудниках, на лесоповале и на строительстве всего и вся, что только можно было построить в условиях вечной мерзлоты. Это была работа на износ, верный путь в могилу.
Второй день работы на разгрузке вагонов Пётр Поликарпович помнил смутно. Уже утром, когда он шёл в колонне, его бросало то в жар, то в холод. Иногда казалось, что он вот-вот упадёт – до того кружилась голова, а в глазах темнело. Страшная слабость, изматывающая боль во всём теле, мучительная одышка, и, вдобавок ко всему, у него вдруг скрутило живот. Накануне вечером он вдосталь напился сырой воды в бараке из цинкового бака, и теперь наступила расплата. Нужно было срочно бежать в туалет, пока не произошла катастрофа. Но колонна шла плотным строем в сопровождении конвоиров, и не было никакой возможности отпроситься. Оставалось лишь терпеть, пока не придут на место. И все последующие часы и минуты превратились в сплошную непрекращающуюся пытку. Живот никак не отпускал, и каждые полчаса Пётр Поликарпович должен был умолять конвоиров разрешить ему отлучиться «до ветру». Те ухмылялись и – разрешали. Чувствуя отвращение к самому себе, Пётр Поликарпович торопливо шёл к бетонному забору. Через несколько минут возвращался, уже по дороге чувствуя, что всё это ненадолго. Наконец насмелившись, он спросил таблетку у конвоира. Тот округлил глаза.
– Ещё чего! Таблетку он захотел. Я тебе сейчас выпишу таблетку вот из этого ствола. Мигом выздоровеешь!
После такого ответа охота спрашивать пропала.
Напрягая остатки сил, он носил проклятые мешки от вагонов к грузовикам. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Дневной свет мерк в глазах, он едва стоял на ногах и сам на себя дивился: как он до сих пор не упал вместе с мешком.
В таком полуобморочном состоянии он кое-как дотянул до обеда. Привезли похлёбку в алюминиевых бачках, стали наливать в гнутые миски. Заключённые брали эти миски и пили жижу через край. То же самое проделал и Пётр Поликарпович. Выданную пайку хлеба прижал к груди и отошёл в сторону, присел на бетонный блок, стараясь одуматься, отдышаться. Он понимал, что с ним творится что-то неладное, что нужно как-нибудь встряхнуться, сбросить с плеч тяжкий груз, разорвать пелену, скрывающую дневной свет. Он тряс головой, глубоко дышал и вдруг напрягался, но ничего не менялось. Всё было по-прежнему: слабость не проходила, голова гудела от боли, всё тело словно бы разрывало на куски и всё так же болел живот, хотелось «до ветру». День был в самом разгаре, до вечера ещё далеко. Как всё это пережить – он не знал. И помощи ждать неоткуда.
Но помощь пришла с неожиданной стороны. К нему подошёл пожилой мужчина, внимательно поглядел и сказал:
– Что, тяжко, брат?
Пётр Поликарпович лишь качнул головой.
Мужчина приблизил лицо.
– Ты вот что, скажи конвою, что у тебя дизентерия. У них приказ на этот счёт. Всех больных дизентерией они должны изолировать, чтоб не было эпидемии. Я точно знаю. Сам недавно лежал в больничке. Насмотрелся там. Так ты не мешкай, пока обед не кончился. А то потом к конвою не подойдёшь. Давай двигай. Скажи, понос и всё такое. Все видели, как ты маешься. – Он оглянулся на конвоиров, чуть подумал и предложил: – А то пошли вдвоём. Я сам всё скажу за тебя. Ну? Не дрейфь. Давай поднимайся.
Пётр Поликарпович нерешительно встал, держа двумя руками перед собой пайку хлеба. Зрение двоилось, ноги подкашивались. Он понял, что работать больше не сможет. Просто стоять было неимоверно трудно. И он решился.
Они приблизились к тому самому конвоиру, у которого Пеплов просил таблетку. Первым заговорил спутник Петра Поликарповича:
– Эй, служивый. Тут у нас больной, в больницу его надо. А то заразит тут всех к чертям, будет у вас полный барак дизентерийных.
Конвоир покосился на него.
– А ты откуда знаешь, что он дизентерийный?
– Да уж знаю. Сам болел. Слыхал небось, в прошлом году тут эпидемия была, всю транзитку наглухо закрыли на карантин. Два месяца никого не впускали и не выпускали. Всю территорию засрали, ступить было некуда. Главного лепилу тогда под суд отдали, что допустил такое. Начкара убрали. Ну что, вспомнил?
Конвоир судорожно сглотнул. Он всё отлично помнил: и карантин, и всю эту тьму заключённых, безвылазно сидевших в своих бараках, и дерьмо на каждом шагу. Приходилось носить заключённым завтраки, обеды и ужины прямо в барак, а они, падлы, лежали на нарах и радовались, что их не гонят на работу. Сколько тогда комиссий было, сколько голов полетело – ужас! Воспоминания мигом пронеслись через его сознание, и он уже другими глазами посмотрел на Петра Поликарповича.
– Дизентерия, говоришь… Ладно. Стойте тут, я сейчас доложу. – Быстрым шагом он пошёл прочь.
Спутник подмигнул Пеплову.
– Ну вот видишь, всё устроилось, а ты боялся. Сейчас тебя отведут в лагерь, а там прямиком в больничку. Дизентерии у тебя, скорей всего, нет, но пока проверят да всё выяснят, денька три перекантуешься, оклемаешься малость. А то оставят при больничке. Тогда, считай, повезло. Будешь жить. И про меня, может быть, вспомнишь. Михаилом меня зовут. Фамилия Шишигин. Запомнил? Родом я из Пензы. В сельпо работал до ареста. Статья у меня, как и у всех тут, – пятьдесят восьмая, каэрдэ. Ну, с богом. Вон идут за тобой. – И он показал на приближающегося конвоира. Рядом с ним шёл с важным видом лейтенант, вслед за ним ещё один конвоир – круглолицый и коренастый, с винтовкой на плече. Все трое остановились, не доходя несколько шагов.
Лейтенант поглядел на Пеплова.
– Ты, что ли, заболел?
Пётр Поликарпович согласно кивнул.
– А что у тебя?
– Живот скрутило, второй день маюсь.
– Да дрищет он напропалую! – пояснил спутник. – В больницу его нужно срочно, а то заразит тут всех, потом говна не расхлебаете.
Лейтенант сразу насупился, обиженно поджал губы.
– Ты заткнись, без тебя знаем. – Повернулся к круглолицему. – Сейчас отведёшь этого в лагерь, сдашь в санчасть под роспись. Всё понял?
– Так точно.
– Справишься один?
Конвоир ухмыльнулся.
– Справлюсь. Не впервой. От меня ещё никто не убегал. А этот и подавно не убежит.
– Тогда шуруй. Об исполнении доложишь мне лично и расписку принесёшь.
– Так точно, товарищ лейтенант, всё сделаю как надо.
Пётр Поликарпович боялся поверить своему счастью. Сейчас его уведут от этих вагонов. Больше не надо будет таскать проклятые мешки. Никто не будет орать и толкать в спину, требуя работать быстрее. А живот режет – просто невмочь! Лёг бы и лежал недвижно сутки напролёт. А лучше сразу умереть, и дело с концом.
Но умереть по своей воле было нельзя. А как бы это было хорошо…
Пётр Поликарпович поплёлся вслед за конвоиром, который лениво поглядывал на него через плечо, нимало не беспокоясь, что тот убежит. Конвоиру было двадцать лет, он был полон нерастраченной энергии, шёл бодро и едва не приплясывал от избытка сил. Петру Поликарповичу в январе исполнилось сорок восемь. Но выглядел он гораздо старше. Сгорбился и словно поблёк. Взгляд погасший, тяжёлый – так смотрят глубокие старики. Лицо одутловатое, синюшное, словно у пропойцы. Движения замедленные, неуверенные и какие-то робкие. Да и ещё скверный запах. Всё вместе производило на конвоира крайне отталкивающее впечатление. Если бы ему сказали, что перед ним известный писатель, который водил дружбу с Максимом Горьким, что каких-нибудь двадцать лет назад этот человек командовал многотысячной армией красных партизан, – он ни за что бы этому не поверил. Конвоир точно знал, что перед ним обыкновенный контрик, сволочь, двурушник и шпион. Он не задумываясь пристрелил бы его, рука б не дрогнула. Но повода для стрельбы не было и быть не могло – это он понимал очень хорошо. За стрельбу могут и наказать. Да и возни с трупом будет много. Подцепишь ещё какую-нибудь заразу. Уж лучше отвести его куда положено и спокойно вернуться обратно. Удаль свою он покажет в другой раз, благо заключённых много, случай ещё представится.
А потому он беззаботно шёл по оттаявшей земле, с удовольствием вдыхая холодный морской воздух и слыша за спиной сиплое дыхание. Всё у него было хорошо. Жизнь казалась ясной, как этот весенний солнечный день. Он служил срочную в восемьдесят шестой дивизии конвойных войск под командованием генерал-лейтенанта Бочкова. Служил отлично, очень старался и имел поощрения за своё старание. Неполное среднее образование не помешало ему понять глубинную суть происходящих в стране процессов: классовая борьба обостряется, империализм поднимает голову, угроза растёт и ширится, вот-вот начнётся мировая война за окончательную победу коммунизма во всём мире. В такой момент каждый честный гражданин должен быть предельно бдительным, каждый обязан иметь обострённое классовое чутьё, незапятнанную совесть и твёрдую мужественную руку. Нужно быть беспощадным к врагам, не уступать ни шагу! А ещё нужно быть готовым без колебаний отдать свою жизнь за дело трудящихся! Это не беда, что войны пока что нет. Врагов уже вон сколько – дух захватывает от этих бесконечных толп предателей, вредителей и шпионов, от тысяч лиц, проходящих мимо тебя каждый день. Поначалу он всматривался в эти лица, как-то отличал одного заключённого от другого. Но потом бросил эту затею. Все заключённые стали казаться ему одинаково серыми и безличными, этакими двуногими скотами. И каждого из них он всё сильнее ненавидел – праведной ненавистью борца за права обездоленных людей. Да и как иначе? Тыщу лет попы и помещики угнетали простой народ, травили его борзыми, выворачивали суставы на дыбе, вырывали ноздри и клеймили лоб калёным железом, вырывали из глотки последний кусок хлеба, отнимали детей у матерей и отцов, заставляли обездоленный народ жить в нищете, в грязи, в хлеву – даже хуже свиней! Сами при этом купались в роскоши, охотились на куропаток и жрали трюфеля, развратничали и совершали всякие непотребства. И вот все угнетённые и бесправные – миллионы бывших рабов – восстали против тирании, наконец-то взяли в руки оружие и свергли ненавистных эксплуататоров! К чёрту их всех, в преисподнюю, в кипящую смолу! Пусть они сгорят в адском пламени, пусть в бешенстве грызут камни и плачут горючими слезами за все их злодеяния, за бездушие, за жестокости, за то, что возомнили себя господами. Двадцать лет прошло после Великого Октября, а враг всё не успокоится, всё строит коварные планы, всё вербует сторонников среди подлых и недалёких людей. И тут уже нет выбора: ты вместе с трудовым народом или ты сам враг, которого необходимо уничтожить, вырвать с корнем, со всеми его помыслами и затаённой враждой. Середины тут нет. Или ты молот, или ты наковальня. Так будь же молотом! Возьми судьбу в свои мускулистые руки, переделай мир так, чтобы всем было хорошо, а всякая шваль не путалась у тебя под ногами! Именно так учит единственно правильная и всепобеждающая теория классовой борьбы. Так говорит великий вождь и учитель – товарищ Сталин. И так думают все, кому дороги идеалы свободы и всеобщего братства.
Такие мысли были в голове у двадцатилетнего конвоира, ровесника октябрьского переворота.
Совсем иное чувствовал годящийся ему в отцы заключённый. Хотя трудно было назвать это чувствами. Скорее рефлексы, обрывки мыслей, бессвязные воспоминания. Пётр Поликарпович шёл и не чуял собственного тела. Его продирал озноб так, что трясло; то вдруг накатывала волна жара, и он покрывался липким потом. Ему мерещились грязные мешки с мукой, вот-вот кто-нибудь огреет по спине и заругается матом. А земля так и ходит под ногами. Линия горизонта то кренится вбок, то вздымается, то ухает вниз. Сверху греет солнце, а с моря несёт сыростью и холодком. Конвоир иногда покрикивал на него, требовал идти быстрее. Пётр Поликарпович напрягался и добавлял ходу, но через несколько шагов почти останавливался – сердце билось так, что не продохнуть. Конвоир ругался с досады, но приклад в дело не пускал. Так ни разу и не ударил за всю дорогу.
Лагерная больница разместилась в длинном приземистом бараке. За бараком растянулись большие армейские палатки, в каждой из которых прямо на земле были установлены сплошные нары с проходом посередине – там были палаты для больных. В такой «палате» могло лежать и двадцать, и сорок человек – смотря как укладывать. Но теперь, в начале мая, в палатках было просторно. Пик отравлений и желудочных расстройств ещё не наступил, обмороженных и простудившихся тоже не наблюдалось. Петра Поликарповича завели в такую палатку и указали место, на которое он сразу лёг. Но перед этим его допрашивал фельдшер – отёчный дядька со злым лицом. Он буравил его взглядом и задавал вопросы с таким видом, что отвечать не хотелось.
– Что у тебя болит? – спрашивал отрывисто.
– Да вот живот второй день крутит. Проносит начисто.
– Воды, поди, напился. Или сожрал чего с земли. Ты давно в лагере?
– Третий день. Из Иркутска привезли.
– Из Иркутска, говоришь…
Фельдшер подумал секунду, потом взял больничный бланк и стал его заполнять.
Последовали обычные вопросы: фамилия, статья, срок, год рождения. Голос уже не был грубым, а только лишь усталым. Пётр Поликарпович старательно отвечал, понимая, что от этого человека зависит многое. Если он сейчас скажет, что Пётр Поликарпович ничем не болен и должен немедленно идти обратно на работу, тогда он упадёт на пол, и пусть с ним делают всё что хотят, хоть и стреляют. Он никуда не пойдёт.
Но фельдшер ничего такого не сказал. Заполнив бланк, поднял на Пеплова взгляд.
– Сейчас тебя проводят в палату. Там есть санитар, он тебе всё объяснит.
Пётр Поликарпович поднялся, руки его задрожали.
– Спасибо…
Фельдшер отмахнулся.
– Не за что благодарить.
Санитар в грязном рваном халате сопроводил его до места. Там его принял другой санитар – неразговорчивый пожилой мужик, никак не похожий на санитара, но тоже в халате и с какой-то доской в руках. Подойдя ближе, Пеплов рассмотрел, что это кусок фанеры, испещрённый какими-то знаками. Мужик спросил его фамилию и сделал пометку на своей доске. Потом внушительно произнёс:
– Как срать пойдёшь, обязательно позови меня. Понял? Без меня на толчок не ходи. Я должен твоё говно зафиксировать. – И он постучал пальцем по своей доске. – Если не позовёшь, я тебя отсюда выгоню как симулянта. В карцер тебя посадят.
Пётр Поликарпович согласно кивнул, присовокупив:
– Хорошо.
После этого его подвели к нарам, где он смог наконец-то прилечь. Матраса не было. Зато дали суконное одеяло и плоскую подушку, набитую какой-то трухой. Пётр Поликарпович спросил таблетку, но встретил такой взгляд, что охота спрашивать пропала. Молча лёг на нары и укрылся одеяльцем. В палатке было холодновато. В конце прохода стояла железная печка, сделанная из двухсотлитровой железной бочки. Внутри тлел огонёк. Больные – человек пятнадцать – недвижно лежали на нарах головой от прохода. Все были с головой укрыты одеяльцами. Разглядев всё это, Пётр Поликарпович повернулся на бок и тоже натянул на голову одеяло. Даже если только на этот день он получит освобождение – одно это казалось ему огромным счастьем. Больше чем счастьем! Это была сама жизнь, подаренная ему судьбой, когда казалось, что всё кончено.
В тюрьме Пётр Поликарпович научился спать в любых условиях, днём или ночью, при свете или в темноте, когда вокруг галдят или дерутся и когда тишина. Это ему было всё равно. И сейчас он уснул тотчас, как только закрыл глаза и расслабился. Хотя назвать это сном было трудно. Скорее – обморок, малая смерть, когда ты будто выпадаешь из окружающего мира, ничего не слышишь и не чувствуешь. Временами сознание словно бы возвращалось, но и тогда он почти ничего не понимал, а только ощущал своё отяжелевшее тело, чувствовал твёрдые доски под собой, а ещё – холод и неудобство. Но все чувства тут же гасли, и он проваливался в спасительное забытьё. Так он проспал остаток дня и всю ночь.
Утром его грубо растолкал санитар.
– Ты что, русский язык не понимаешь? Я же тебе вчера наказал позвать меня, когда пойдёшь на толчок!
Пётр Поликарпович разлепил веки, приподнял голову.
– Чего тебе?
– Вставай давай, фельдшер тебя зовёт. Анализы требует. А тебе предъявить нечего. И мне за тебя попадёт. Давай двигай ходулями.
Пётр Поликарпович поднялся, повёл вокруг себя мутным взглядом, припоминая вчерашние события.
– Ладно, сейчас встану.
Санитар отвернулся.
– И кой чёрт тебя сюда привёл…
Через несколько минут Пётр Поликарпович сидел на стуле перед фельдшером. Тот, кажется, и не уходил никуда, по-прежнему сидел за столом и был так же хмур и тёмен.
– Ну что, – начал фельдшер глухим голосом, – наврал насчёт поноса. А? Сейчас вот отправлю тебя в штрафной изолятор, узнаешь тогда, как обманывать.
Пётр Поликарпович опустил голову.
– Не врал я. Все видели, как я в кусты бегал.
– Бегал он. А тут почему не ходишь? Что я должен писать в твою карточку?
Пётр Поликарпович задумался.
– Я не знаю. Кажется, я вставал ночью, ходил в уборную. Плохо мне было, ничего не соображал.
– А теперь хорошо?
– Теперь тоже плохо. Слабость. Еле ноги держат. Санитар ваш спал ночью. Я его будить не стал. Думал, утром всё запишем.
Фельдшер помотал головой. Взял в руки амбулаторную карту Пеплова и смотрел на неё несколько секунд. Потом вздохнул и молвил:
– Ладно, чёрт с тобой. Дам тебе ещё один день. Иди сейчас на своё место, а к обеду чтобы был у меня анализ. Вечером решим, что с тобой делать.
Пётр Поликарпович медленно выпрямился.
– Спасибо.
– Всё, иди.
Пётр Поликарпович вернулся в палатку. Санитар выдал ему завтрак: чёрную горбушку хлеба и жидкую кашицу в алюминиевой миске. Пётр Поликарпович тут же съел кашу, а хлеб спрятал за пазуху. Лёг на нары и стал отщипывать по кусочку и медленно жевать. Крошки растворялись во рту без остатка, хлеб казался необычайно вкусным. Кажется, он мог бы съесть зараз несколько булок, а если б дали каши, то съел бы целое ведро! О мясе и о яблоках он и не мечтал. Передние зубы сильно качались, а дёсны распухли и кровоточили. Но о зубах он думал меньше всего. Без них даже лучше – не болят, и ладно. Совсем другое дело – живот. Стоило проглотить кашу, и опять скрутило. Вспомнив наставления фельдшера, Пётр Поликарпович направился к санитару.
Тот поднял голову и равнодушно спросил:
– Ну что, готов?
Пётр Поликарпович кивнул.
Санитар взял свою фанеру, и они пошли на улицу.
Через десять минут Пётр Поликарпович вернулся на своё место. Лёг на доски и укрылся одеялом. Этот день он точно пробудет здесь, а о том, что будет дальше, старался не думать. Завтрашний день казался страшно далёким, ведь ещё не наступил обед. До обеда можно проспать несколько часов. И после обеда можно лечь и лежать, не двигаясь. Потом будет ужин и долгий-долгий вечер. И целая ночь. За это время он придёт в себя и что-нибудь придумает. Решив так, Пётр Поликарпович прижал руки к груди и крепко зажмурился. В эту минуту он был почти счастлив, если только счастье вообще существует.
На следующее утро его выпроводили из больницы. Фельдшер сказал на прощание:
– Ну, брат, отдохнул чуток, а теперь двигай туда, откуда пришёл. Дизентерии у тебя нет. Ты здоров.
Пётр Поликарпович пробовал спорить:
– Как же я здоров? Вы видите, я едва на ногах стою.
Фельдшер усмехнулся.
– Да тут, почитай, все такие. И что теперь, я всех должен в больнице держать? А вкалывать кто будет?
– Все, да не все. Молодые могут сдюжить. А я что? Какой из меня работник? Мне уже скоро пятьдесят!
– Это меня не касается. – Фельдшер поджал губы. – Не я тебя сюда привёз. И порядки здешние не я придумал. Если ты чем-то недоволен, иди к начальнику лагеря. А лучше прямо Сталину напиши. Может, и ответит.
– Я уже писал Сталину.
– Писал Сталину? Ну и что, ответил он тебе?
Пётр Поликарпович мотнул головой.
– Нет. Вместо ответа дали восемь лет и сунули на этап.
Фельдшер вздохнул.
– То-то и оно. Пиши не пиши, всё едино. Будешь сидеть от звонка до звонка. Или пока не подохнешь тут.
Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу. Пора было идти, но он всё-таки спросил:
– А здесь меня нельзя оставить? Я бы всю работу делал, какую прикажете. Я работы не боюсь!
Фельдшер задумчиво посмотрел на него. Потом кивнул каким-то своим мыслям.
– Я и не сомневаюсь. Я б тебя взял с превеликим удовольствием. Я же вижу, что ты человек образованный, не то что эти урки. Но и ты меня пойми: не могу я тебя оставить. Не имею права. Ты хоть знаешь, что у тебя в спецуказаниях записано?
– Какие ещё спецуказания? – насторожился Пётр Поликарпович.
– Эх ты, простота. С каждым осуждённым по пятьдесят восьмой статье идут его спецуказания – использовать исключительно на тяжёлых физических работах! Тебя ни один начальник лагеря не возьмёт на лёгкую работу, потому что его самого за это накажут. Тот же опер настрочит бумагу кому следует, и мигом снимут такого начальника, а могут и под суд отдать. И меня могут отправить на общие, если я продержу тебя в больнице лишний день. Я и так тебя двое суток продержал на истории болезни, хотя сразу понял, что никакой дизентерии у тебя нет. Скажи спасибо хоть за это.
– Спасибо, – едва выговорил Пётр Поликарпович.
– Пожалуйста, – ответил фельдшер. – Приходи, если станет совсем уж невмоготу. А пока ничем помочь не могу. Разве советом: не пей из луж, не ешь с помойки, соблюдай личную гигиену по мере возможности, хотя бы раз в день умывайся. Тут баня бывает, ты обязательно ходи и хорошенько мойся. А то некоторые не хотят мыться. Им, видите ли, и так хорошо. А сами грязью по уши заросли, обовшивели. Жрут всякое дерьмо, а потом жалуются на живот. Следить надо за собой, тогда ничего не случится и вшей не будет.
– Вам хорошо говорить, – заметил Пеплов. – Попробовали бы сами общие работы, я бы на вас посмотрел.
Фельдшер улыбнулся, обнажив редкие почерневшие зубы.
– Я уже был на общих. Целый год тачку катал на оловянном руднике. Ещё бы немного, и каюк. Так-то вот. Ну да ладно. Что-то мы с тобой заболтались. Можешь идти, я тебя уже выписал.
Пётр Поликарпович коротко кивнул и направился к двери. На пороге приостановился, бросил последний взгляд на фельдшера, но тот сидел за своим столом, опустив голову. Помедлив секунду, Пётр Поликарпович шагнул за порог.
С тяжёлым чувством вернулся он в свой барак. Живот почти уже не болел, и сил как будто прибавилось, но он понимал, что всё это ненадолго. Ещё пару деньков на разгрузке вагонов – и он снова обессилеет. Он уже понял, что болезнь неизбежно приходит к человеку, когда тот измотан и у него нет сил сопротивляться какой-нибудь заразе. На тяжёлой работе можно выдержать день, другой, пусть даже несколько недель или месяцев. Но несколько лет при таком раскладе прожить нельзя, если только не найти себе работу полегче – вроде этого фельдшера. Но для этого нужно иметь медицинскую профессию. А у Петра Поликарповича какая профессия? Писатель! Кому он тут нужен? В лагере гораздо выгоднее быть механиком или столяром-краснодеревщиком. А ещё лучше – хлебопёком! Эти профессии точно пользуются уважением. А писатель, профессор или музыкант – на что они годны? Им всем одна дорога – на рудник, в каменный карьер – с кайлом или лопатой, с неподъёмной тачкой. Это и есть та самая социалистическая перековка, которая сделает из высоколобых интеллектуалов пригодных для социализма людей.
С таким настроением Пётр Поликарпович заходил в свой барак. А там его ждали удивительные новости: оказывается, всех заключённых сняли с разгрузки вагонов и отправили на отсыпку шестикилометровой дороги, ведущей из лагеря в порт. По общему признанию, работа эта была намного легче разгрузки. Не было непрекращающегося аврала с криками и подзатыльниками, не было тяжеленных грязных мешков, не нужно было мотаться как угорелому от вагона до грузовика, рискуя каждую секунду грохнуться с мешком на горбу и переломать себе кости… На отсыпке дороги совсем не то! Дорогу строили давно, тут был свой ритм и уже сложились традиции. Заключённым утром выдавали носилки, лопаты и кайла. Одни заключённые нагружали носилки камнями, щебнем и чем придётся, другие таскали всё это на дорогу, третьи разравнивали и трамбовали эту смесь лопатами и собственными ногами. Конвоиры смотрели безо всякого интереса на эти упражнения, а заключённые не очень-то старались. Носилки наваливали неполные, лопатами махали без энтузиазма. Устраивали перекуры каждый час, а на обед ходили в лагерную столовую. Погода установилась тёплая, солнце всё шибче грело людей и выманивало на божий свет зелёную травку. Для Петра Поликарповича это хотя и не было спасением, но не было и смертью. Весь барак получил временную передышку. А загибаться от непосильной работы на разгрузке вагонов отправили других.
Три недели Пётр Поликарпович ходил вместе со всеми за лагерь. Понемногу он втянулся в общий ритм. С утра, правда, было тяжело и муторно. Но он уже знал: нужно заставить себя утром подняться с нар, чего бы это ни стоило. А после вытерпеть первые два часа. После этого что-то такое происходит в организме, и уже не так тяжело таскать носилки с камнями, время словно бы ускоряется, а на душе становится не то чтобы легко, а как бы всё равно. Чувствуешь себя роботом, каким-нибудь механизмом, который делает одно и то же, почти не чувствуя ни усталости и ни злобы. И он заметил: то же самое было и у его товарищей. Заключённые часто менялись: тот, кто таскал носилки, брал лопату или кайло (и наоборот); ещё лучше было трамбовать грунт на дороге. Однако как ни меняйся и ни берегись, а всё равно вечером ноги и руки гудели от усталости, а спину ломило. Пальцы на руках опухли и с трудом разгибались. И все суставы болели с непривычки. С работы шли прямо в столовую, где механически поглощали безвкусную кашу и пили подкрашенный хлебной коркой «чай». Хлеб уносили с собой в барак и там отламывали его по кусочку и ели по часу и по два, на сколько хватало терпения. Потом была вечерняя поверка и отбой в десять часов. Но вовремя никогда не ложились. То поверка затянется, то сами заключённые никак не угомонятся. Раньше одиннадцати не засыпали, а подъём – в шесть утра. Эти ранние побудки были хуже всего!
А бывало и так, что их поднимали среди ночи и гнали на контейнерную площадку – нужно было срочно разгрузить какой-нибудь состав. Все были как чумные, почти ничего не соображали и работали как черти. В барак возвращались уже под утро и, не ложась, тут же отправлялись в столовую, потом на развод и – снова на отсыпку дороги. После ночного аврала никакого отдыха им не давали. Жаловаться и протестовать было некому. Однажды несколько заключённых забузили и получили по трое суток штрафного изолятора. Все жалобы разом прекратились.
Пётр Поликарпович решил не тратить силы на жалобы и бесполезные разговоры. Все те дни, когда он работал за лагерем, он присматривался к местности. Всё пытался представить, как он поднимется на ближайшую сопку и скроется за ней. А дальше? Обмануть конвоиров, пожалуй, и можно (уйти подальше от дороги, улучить момент, когда те не смотрят, и нырнуть в кусты, а там ползком, ползком и – даёшь ходу!). Но что потом? Конвоиры быстро обнаружат пропажу (в лучшем случае через несколько часов). Уйти за эти часы далеко не удастся. Нормальной одежды нет. Продуктов тоже нет. О документах и не думай. Первый же пост остановит и вернёт обратно в лагерь. Срок добавят, в ШИЗО посадят. Бить будут. Да, всё так и случится. Одному бежать никак нельзя. Нужен надёжный товарищ. И нужна основательная подготовка – продукты, одежда, нож, спички. Хорошо бы компас иметь, и карту тоже надо иметь. Где всё это взять? Станешь спрашивать – тут же тебя и продадут… И он с тоской смотрел и на сопки, и на синеющее вдали море, которое стало казаться очень далёким, недостижимым. И сопки тоже были недостижимы, хотя до них было не больше двух километров.
В последних числах мая, вечером, после работы, когда заключённые грелись возле барака на закатном солнышке, к Петру Поликарповичу вразвалочку подошёл невысокий парень с широким плоским лицом и бегающими глазками. У парня были блатные замашки, он всё озирался и говорил отрывисто, едва раскрывая рот.
– Слышь, дядя. Слушай сюда. Только никому не баклань. Хочешь по-быстрому уйти из лагеря? – протараторил на одном дыхании.
Пётр Поликарпович от неожиданности растерялся. Смотрел на парня и не знал, что сказать.
– У тя чё, олень, со слухом плохо? – прошипел парень. Вдруг приблизил лицо. – Меня слушай! Мы тут с корешем решили в сопки уйти. Пойдёшь с нами?
– Я не знаю, – ответил Пётр Поликарпович. – Я не думал об этом.
– Как же, не думал он, – осклабился парень. – А то я не видел, как ты сопки разглядывал. У тебя же всё на лице написано. Эх ты, олень! В общем, так: у нас уже всё готово – тряпьё там, шмутьё, жратвы запасли, можешь не беспокоиться.
– А я вам зачем?
– Да ты слушай! Втроём-то сподручней. Ты, я вижу, человек бывалый. Тайгу знаешь. Я уж всё выяснил про тебя. Ну так что, согласен?
Пётр Поликарпович призадумался. Очень ему хотелось сказать: да, я согласен, бежим прямо сейчас!.. Но что-то его останавливало. Парень ему не нравился. Стоять рядом с ним было как-то неуютно.
– Я должен подумать, – ответил он.
– Ладно, думай, только недолго, – бросил парень и пошёл прочь разболтанной походкой.
На другой день Пётр Поликарпович из последних сил кайлил каменную россыпь в двадцати метрах от дороги. К нему незаметно приблизился заключённый, сосед по бараку. Это был уже немолодой мужчина со спокойным лицом и внимательным взглядом близко посаженных коричневых глаз.
– Я видел, ты вчера с Кузей разговаривал, – сказал он, внимательно разглядывая Петра Поликарповича.
– Ну, было дело, подходил какой-то тип. Так его Кузей зовут? Странное имя.
– Что он тебе говорил?
Пётр Поликарпович хотел было всё рассказать, но удержался. Всё-таки это был не его секрет. О таких вещах первому встречному не говорят.
– Можешь не отвечать, – произнёс мужчина, заметив его колебания. – Я этого мерзавца знаю давно. Он тут всем новичкам предлагает бежать из лагеря. Его специально переводят из барака в барак, он и дурачит простофиль. Тем и пробавляется. Так что смотри не вздумай соглашаться.
Пётр Поликарпович опешил.
– Так он что, с администрацией заодно?
– Я одно знаю: все, кто согласился с ним бежать, ушли на новое следствие, получили по второму сроку. А ему за это – скидка. Ну и вольготная жизнь – здесь, в лагере. Он второй год тут ошивается. Меня ребята сразу предупредили. Только ты не подавай виду, что раскусил его. Скажи, что боишься. Сошлись на плохое здоровье. Да и куда тебе бежать! Ты вон еле на ногах стоишь. Тут и не такие бегали. И всех ловят, новые срока мотают. А бывает, стреляют прямо на месте. В общем, гляди. Я тебя предупредил. – И, не дожидаясь ответа, быстро пошёл прочь.
Пётр Поликарпович с досадой смотрел ему вслед. Обидно было слышать о себе столь категоричное суждение. А Кузя этот выходил совершенной сволочью, так что даже удивительно – как это может быть, чтобы свои своих закладывали! Да не просто закладывали, а предлагали верную гибель! Это не укладывалось у него в голове, несмотря на весь его опыт и знание жизни. Выходит, не всё он знал об окружающем мире, о своей стране и о людях. Когда он был в партизанах, всё было просто и понятно: вот враги, а вот друзья. Врагов нужно уничтожать, а друзей – спасать, пусть даже ценой собственной жизни. Да, так всё и было. Друзей спасали, а сами погибали. Когда попадали к белым – принимали смерть, но своих не выдавали. И ведь всё могло повернуться иначе: белые бы победили, а всех партизан поставили бы к стенке. Одно время Пётр Поликарпович думал, что так оно и будет. Но из отряда не уходил, потому что решил сражаться до конца, но не предавать светлую идею всеобщей справедливости, в которую однажды поверил. Это была его религия, его катехизис, тот стержень, на котором держалось всё. Да, славное это было время! И счастливое. Разве не счастлив человек, всецело поглощённый какой-нибудь страстью? А если эта страсть связана со всеобщим счастьем, с мировой гармонией и окончательным решением всех проблем? За это и в самом деле не жалко отдать свою жизнь! Тогда всё будет оправданно: и мысли, и поступки, и даже смерть. Ну а теперь что? Идеалы растоптаны, смысл жизни утрачен. Против тебя всё! Не только следователи и конвоиры, но и твои же собратья, такие же, как и ты, бедолаги. Как после этого жить? Для чего? Этого Пётр Поликарпович не знал. И оставалось лишь одно: без устали кайлить каменные россыпи, наваливать лопатой носилки и тащить, ссыпать на дорогу, возвращаться обратно и снова кайлить и наваливать, тащить и сыпать – так с утра до позднего вечера, день за днём. Когда так работаешь – час, другой, третий, – наступает такой момент, когда все мысли и тревоги отступают, а в душе поселяется великое равнодушие. Человек становится одушевлённой машиной, почти роботом. Быть может, это и есть тот идеал, к которому стремились устроители всех этих лагерей?
На другой день Кузя снова подошёл к Петру Поликарповичу.
– Ну что, надумал? – спросил небрежно.
– Надумал, – отвечал Пётр Поликарпович. – Я в сопки не пойду.
Парень скривился, как от уксуса.
– Ну вот, сдрейфил. Так я и знал. Олень ты и есть! Чмо недобитое. Мало вас давит товарищ Сталин! Ну и сиди тут в дерьме, а мы уйдём!
Пётр Поликарпович устало улыбнулся.
– Ты что, не видишь, в каком я состоянии? Куда мне бежать с моими ногами? Я и пяти километров не пройду по этим сопкам. Или ты на себе меня потащишь?
– Ага, разбежался. Нужен ты мне больно. – Он быстро оглянулся, словно о чём-то вспомнил. – В общем, так: ты ничего не слышал, я тебе ничего не говорил. Понял меня? Если сболтнёшь кому, я тебя везде достану.
– Не бойся, не сболтну. Ты сам поменьше трепись.
– Ладно, хорош трепаться. – Парень резко развернулся и быстро пошёл прочь.
После этого разговора Пётр Поликарпович понял одну простую истину: никуда он из этого лагеря не убежит. Слишком тут всё на виду. Полно охраны, вокруг лагеря посты. Весь этот край находится на полувоенном положении. А главное, у Петра Поликарповича не было сил на побег. Даже если он и скопит продуктов, найдёт спички, карту и компас, всё равно это ему не поможет. Побег нужно готовить основательно, а не так – взял и пошёл наугад через горы. Таких беглецов ловили на третий день. Жестоко избивали, травили собаками, а затем бросали умирать в ледяной карцер.
А ещё Пётр Поликарпович понял, что бежать из лагеря можно лишь однажды. Второй попытки не будет. Ошибки быть не должно, любая мелочь может испортить всё дело. К тому же Пётр Поликарпович каждый день ждал этапа. Все заключённые знали, что в этом лагере их надолго не оставят. Колыма требовала рабочих рук, перегруженные пароходы на всех парах шли через Японское и Охотское моря, везя в своих трюмах десятки тысяч заключённых. Путь из Владивостокской транзитки был только один – на север, в Нагаеву бухту. Все об этом помнили и все ждали, когда их загонят в железную утробу парохода и повезут за три тысячи вёрст в страну вечной мерзлоты. Навигация на Дальнем Востоке заканчивалась в октябре. На зиму в пересыльном лагере никого не оставят. В лучшем случае здесь можно было пробыть несколько месяцев. Но на лучшее никто не надеялся. Жизнь учила лишь плохому, несправедливому, обидному. Потому что такой она тогда и была.
Дни шли за днями. В Амурский залив каждые три дня заходил пароход за очередной партией живого груза. Пересыльный лагерь через день принимал очередной поезд, под завязку набитый заключёнными. Среди заключённых были и уголовники, но преобладала пятьдесят восьмая статья со всеми её фантастическими пунктами и ветвлениями. Крестьяне и рабочие, инженеры и техники, начальники всех рангов и их подчинённые (вплоть до неграмотных уборщиц), профессора и их студенты (и даже дети двенадцати – четырнадцати лет), убелённые сединами секретари обкомов и смазливые секретарши, жители юга и северяне, верующие и безбожники, люди идейные и личности без царя в голове – у всех у них была теперь одна судьба, один смертный путь. Поток заключённых всё лился, поезда ползли через всю страну по великому Транссибу с запада на восток, колёса мерно стучали, вагоны тяжко раскачивались – огромные массы людей увлекались в неизвестность, не понимая причин столь резкой перемены своей судьбы, не зная ближайшего будущего. Дальние северные лагеря никто из них не видел, не представлял, что их там ждёт. У каждого жила в душе потаённая надежда: «А вот со мной-то всё будет не так, как со всеми! Что-нибудь такое да выйдет, и меня отпустят, не могут не отпустить! Ведь я ни в чём не виноват перед советской властью!»
Но советская власть никого не выпускала из своих цепких объятий. Не было у неё времени возиться с каждым в отдельности, вникать в детали и пересматривать свои вердикты. Да и с какой стати? Людей в стране много, а задачи перед страной стоят грандиозные. И что значили (в свете этих неслыханных задач) судьбы отдельно взятых Иванов, Николаев, Петров и их многочисленной родни? Даже если и ошиблись с некоторыми – эка невидаль! Ничего страшного! Время теперь такое, что все должны терпеть и работать – вкалывать на совесть и принимать лишения как должное! Не для того советская власть воевала столько лет, исходила кровавым потом и бросила на алтарь победы миллионы жизней, чтобы теперь пойти вспять, отдать попам и помещикам всё их добро. Этого нельзя допустить! И этого не будет никогда! Путь теперь у всех один: вперёд, к светлым идеалам братства и всеобщей справедливости. Борьба ещё не закончена, она только начинается. Будущие поколения оценят все жертвы. Это ради их счастья напрягаются силы и гибнут люди. Всё это надо понимать, помнить каждую секунду! А кто этого не понимает – тому советская власть втолкует, как ему следует жить и во что верить. На длинные объяснения и казуистику доказательств у советской власти никогда не было времени. Все убеждения и правильные принципы вдалбливались в голову единым духом – мощным ударом крепко сжатого кулака, безжалостным проколом трёхгранного штыка, наконец, обыкновенной пулей, пущенной твёрдой рукой чекиста. Слабые ломались и гибли, а сильные выдерживали всё и становились сильнее, вставали в общий строй. Противиться дьявольскому напору не мог никто. Потому что это было выше человеческих сил.
Пришла пора и Петру Поликарповичу отправляться в дальний путь. Вечером, после изматывающей работы, весь их барак без всякого предупреждения выгнали на улицу. Все были встревожены, предчувствовали недоброе. Пошёл по рядам смутный говор: «Этап! Этап! На этап выгоняют! На Колыму повезут…»
Пётр Поликарпович не хотел этому верить, до последнего надеялся, что проведут обычную перекличку или устроят очередной шмон в бараке. Поорут два часа, поматерятся вволю, перевернут в бараке всё вверх дном, а потом загонят всех обратно, заключённые лягут на свои привычные места, и всё пойдёт как и прежде. К этому все уже привыкли и к лагерю приноровились. Работа не казалась такой уж тяжёлой (особенно как подумаешь про страшную Колыму!).
Но как прежде ничего не пошло.
Перед строем встал военный. В темноте его было плохо видно, но голос звучал властно.
– Граждане заключённые, – вещал голос, – сейчас вы проследуете в порт для погрузки на пароход. Во время следования приказываю всем соблюдать порядок, из строя не выходить и не разговаривать. В случае неповиновения конвой стреляет на поражение. Видимость плохая, разбираться, если что, не будем. С собой ничего не брать, всё необходимое получите по прибытии на место. Всем понятно?
– А куда нас отправляют? – крикнули из толпы.
– Узнаете в своё время, – прозвучал бодрый ответ.
Вперёд вышел начальник конвоя. Оглядел притихший строй и заорал во всю глотку:
– Внимание, заключённые, слушай мою команду, напр-ра-а-а-во! Шагом арш!
Колонна нехотя повернулась. Передние двинулись вперёд, остальные беспорядочно затоптались на месте. Кто-то кинулся было в барак, но двери были уже закрыты, у входа стояли солдаты с винтовками. Пути назад не было. Нужно было подчиниться. Или умереть.
Но никто не умер, время для этого ещё не пришло.
Колонна медленно прошествовала до входных ворот, затопталась на выходе, а потом выперлась наружу, оставив позади арку с кровавой пятиконечной звездой, лживый лозунг над входом и всё, что ни есть в лагере: сотню уродливых бараков (в которых копошились на своих убогих нарах двадцать тысяч обезличенных людей), тяжеловесные казармы с доблестными красноармейцами, склады и производства, больницу, клуб, контору, штрафной изолятор, множество вышек с часовыми и тройную ограду с колючей проволокой. Всё это оставалось позади, уходило во тьму. Никто не надеялся сюда вернуться. Никто и не вернулся – ни через год, ни через тысячу лет.
Впереди была тьма. Бухта с поэтическим названием Золотой Рог была сокрыта от жадных взоров. Глухое непроницаемое пространство укрывало землю и стылую воду, скрывая очертания, путая чувства, вздымая первобытный ужас из глубины души. Казалось, что далеко впереди, там, где должен быть залив, находится гигантская впадина, до краёв заполненная вязкой тьмой. Тьма шевелилась, словно живое существо. Тьма готовилась принять очередную жертву – всех этих несчастных людей, бредущих под дулами винтовок, окружённых беснующимися псами с оскаленными клыками. Кругом всё словно вымерло. Ни огонька, ни отзвука. Всё затаилось в страхе, растворилось в беспредельности ночи. Лишь толпа вырванных из привычной жизни людей плелась навстречу своей судьбе, ни на что не надеясь, ни во что не веря, не жалуясь и не плача, воспринимая происходящее как злой рок – неумолимый и страшный в своей неотвратимости.
Этот скорбный пусть продолжался больше двух часов, но Петру Поликарповичу он показался нескончаемо длинным. В какой-то момент он потерял счёт времени, перестал понимать – кто он и где находится. Это медленное движение среди беспорядочно раскачивающихся тел, это сдавленное дыхание множества людей, эта качающаяся под ногами земля и весь этот абсурд затмевали сознание, отвращали от ненавистной действительности. В иные минуты Пётр Поликарпович закрывал глаза и шёл словно бы во сне. Наступало странное чувство покоя, он будто плыл куда-то, не прилагая к этому никаких усилий. Казалось, это движение будет продолжаться вечно, и он согласен всегда так идти! – только бы его не трогали, только бы ничего не менялось. Он смог бы так пройти тысячу километров – так ему тогда чувствовалось.
Но внутренние ощущения часто обманывают человека. Ни тысячу, ни даже сто километров Пётр Поликарпович не смог бы преодолеть. Да и не было в этом нужды. От лагеря до места погрузки было всего шесть километров. Пароход уже покачивался на маслянистых волнах у пирса, его необъятные трюмы принимали в себя разный скарб – доски для ремонта сломанных перегородок и нар, продукты и воду для недельного плавания нескольких тысяч заключённых, большие деревянные ящики с оборудованием и даже лошадей, для которых были устроены на верхней палубе специальные стойла. Лошадей было гораздо меньше, чем людей, и к ним относились очень бережно – для каждой было приготовлено отдельное стойло, рядом стоял бачок для питьевой воды, к бачку привязана кружка. Совсем не то готовилось для двуногих тварей. Во всех трюмах вдоль железных бортов были воздвигнуты многоярусные нары, насколько хватало высоты. Где-то они были в два этажа, а где-то в четыре. Нары стояли так плотно, что просвет между ними можно было пересечь вытянутой рукой. Заключённых загоняли на эти нары с тем расчётом, чтоб они не падали сверху. Впрочем, если кто и срывался во время качки или был выпихнут своими же соседями – тоже не беда. Внизу, под нарами, имелось небольшое пространство. Хоть там и плескалась мутная вода, в которой плавали мёртвые крысы вперемешку с блевотиной и человеческими экскрементами – но чего не вытерпит советский заключённый? Устроители всех этих лагерей и начальники этапов точно знали: советский заключённый выдержит всё, в том числе и такое, чего не сдюжит ни одна скотина. С таким расчётом и обустраивали все эти пароходы: до отказа набивали трюмы людьми, потом задраивали все люки и так шли до самого конца – по неделе, а то и по две. Качка ли была иль семибалльный шторм, сорокаградусный мороз или нестерпимая жара, как в преисподней, – всё это были мелочи, а лучше сказать – издержки производства, его неизбежные отходы. Кто-то и погибнет в пути – это никого особо не волновало (при таком обилии заключённых!). После каждого рейса трупы умерших в пути выносили на песчаный берег бухты Нагаево и складывали штабелями в сторонке. Иногда трупов было больше, иногда меньше. Но трупы были всегда. Да и как же без трупов, когда в переполненных трюмах не было ни вентиляции, ни даже иллюминаторов, а наверх никого не выпускали (кроме как на оправку два раза в сутки – это если заключённые вели себя смирно, а ежели они выражали недовольство, так их так и везли без глотка свежего воздуха до самого конца). Воду давали по раз навсегда установленной норме: по одной кружке в сутки на рыло. Кормили чёрным хлебом и ржавой селёдкой, которую почти никто не ел из-за морской болезни, что настигала заключённых уже на третий день пути. А ведь в трюмах были ещё и матёрые уголовники, отнимавшие у безответных «контриков» хлеб и воду, резавшие их за косой взгляд, за непочтительный ответ и просто от скуки. Конвой во все эти дела не вмешивался, следя лишь за тем, чтобы никто ненароком не выбрался из трюма на палубу. В таких стреляли без раздумий – на то был строгий приказ начальства. А как иначе удержать в повиновении несколько тысяч человек, медленно умирающих в железной утробе парохода, который строили для перевозки грузов, но никак не для перевозки людей, да ещё в таких количествах! Все эти прелести предстояло испытать на себе Петру Поликарповичу и его товарищам – и страшную июльскую духоту, и пересоленную селёдку, и стремительно нарастающую жажду, когда за кружку сырой невкусной воды устраивались кровавые побоища.
Среди глубокой ночи колонна приблизилась к причалу. От воды остро пахло гнилью, слышался плеск волн, скрипели канаты, трещали борта большущего парохода, стоявшего боком к причалу. Пароход мрачной тенью нависал над берегом, подавляя своими исполинскими размерами. Казалось невероятным, что такая громада держится на воде, что она способна принять все эти толпы, а потом куда-то плыть. Широкий деревянный трап, поднимавшийся на борт, сотрясался от множества ступавших по нему людей. Погрузка шла полным ходом. Конвоиры вытянулись цепочкой с двух сторон, оставляя узкий проход для заключённых. По мере приближения к трапу скорость движения нарастала. Впереди слышались злобные крики, мутным потоком лилась отборная ругань, в ход шли приклады и пинки; заключённые торопились ступить на ходящие ходуном доски и взойти на борт.
– Живей шевелитесь, падлы! – услышал Пётр Поликарпович. Быстро обернулся и увидел перекошенное лицо конвоира. Тот смотрел на него, в глазах его сверкало бешенство. Пётр Поликарпович поспешно отвёл взгляд, сделал несколько торопливых шагов и ступил на отвесный трап. С трудом удерживая равновесие, одолел десятиметровый подъём и спрыгнул на железную палубу, едва не подвернув в темноте ногу. Прихрамывая, поспешил за товарищами. Думать было некогда – толпа увлекала его за собой: вдоль железного борта мимо палубных строений, каких-то ящиков, торчащих из палубы цилиндров. Последовал подъём по короткой отвесной лестнице, ещё усилие, и он увидел большой открытый люк и ведущие вниз ступеньки. Заключённые торопливо спускались по этим ступенькам в кромешную тьму. Но это был ещё не конец. Внизу оказался ещё один люк и последний спуск – теперь уже на самое дно. Там-то и предстояло им всем найти себе место. Пётр Поликарпович, спускаясь по узким ступенькам, ударился коленом о железный угол, ткнулся боком в торчащий штырь, но сгоряча не почувствовал боли. Нужно было поскорей занять место где-нибудь в углу, вырваться из общей суматохи, когда никто ничего не понимает и все мечутся как в лихорадке. Все вокруг тоже хотели поскорей найти себе укромный уголок, переждать бурю. Лезли на трёхэтажные нары, забивались в самый угол и успокаивались до поры. А народ всё прибывал, лестница тряслась и грохотала, трюм быстро наполнялся заключёнными, и скоро все нары были уже заняты, так что некуда было лезть и прятаться.
– Эй там, хватит, тут уже некуда! – заорали те, что только спустился до середины и не мог двинуться дальше. – Тут всё забито под завязку!
Но сверху всё лезли и лезли, пока вся лестница до самого верха не заполнилась телами. Лишь тогда движение прекратилось, и люк захлопнулся. Стало темно. Пётр Поликарпович лежал на боку, прижавшись спиной к железному борту. По лицу его катились капли пота. Он хотел их смахнуть, но не мог вытащить руку из-под себя. И уже чувствовал смрадный запах никогда не убираемого и не проветриваемого помещения. Ему вдруг стало нечем дышать. Он дёрнулся изо всех сил, но это было бесполезно. Снизу были крепкие доски, сбоку и над головой – неподатливое железо, а рядом с ним, плотно притиснутые друг к другу, лежали два человека. Если даже и перелезть через них – куда он пойдёт? Внизу, в проходах, всё занято, там люди стоят плотяком и рады бы влезть на нары, да некуда. А единственный выход наглухо задраен. Тяжёлый железный люк невозможно открыть снизу. Это было похуже, чем в столыпинском вагоне. Там всё-таки можно было дозваться конвоира и выбраться в коридор в случае крайней нужды. Здесь же это было невозможно. И главное – воздух! Уже теперь нечем было дышать.
– Братцы, что же они творят? – спросил кто-то снизу. – Ведь мы тут все передохнем, как крысы!
– Эй там, – крикнули с другой стороны. – Подолбите в люк, пусть приоткроют. Дышать нечем!
Послышалась возня на лестнице. Затем раздались глухие удары о железо, сначала едва слышимые, затем посильнее.
Люк распахнулся.
– Какого х… вам надо? – крикнули сверху.
– Слышь, браток, тут воздуха совсем нема. Не закрывай крышку, мы ведь никуда не денемся.
– Откроют, когда в море выйдем, – был ответ.
Крышка с грохотом захлопнулась, запирающий рычаг со скрежетом провернулся. Воцарилась тишина. Все подавленно молчали. Каждый про себя переживал случившееся.
Погрузка продолжалась всю ночь. Лишь под утро осевший глубоко за ватерлинию пароход дал низкий гудок и стал тяжело отваливать от причала. Вода за кормой бешено пенилась, корпус содрогался, а нос медленно отворачивал в открытое море. На палубе было безлюдно, лишь несколько бойцов с винтовками стояли вдоль бортов да на берегу темнели фигуры. Провожать этот рейс было некому. Оставшиеся на берегу испытывали облегчение: вот и отправили очередную партию живого груза в Магадан – четыре тысячи смертных душ навсегда уходили из пересыльного лагеря, освободив места для других, которые через некоторое время точно так же отправятся под покровом ночи в неизвестность. Что их там ждёт и как пройдёт рейс – это уже никого не интересовало. Конвойная команда построилась и двинулась обратно в лагерь – отсыпаться после бессонной ночи. Четыре тысячи заключённых в это время задыхались в глухих смрадных трюмах, сходили с ума от ужасной стиснутости и от сознания невозможности изменить хоть что-нибудь. Люки для притока воздуха никто и не думал открывать – об этом просто забыли. Воды заключённым не давали – ещё не пришло время. И уж конечно, никому не пришло в голову поинтересоваться: может быть, кому-нибудь нужна врачебная помощь? Были среди заключённых и сердечники, и тяжёлые гипертоники, и астматики, и страдающие эпилепсией. Каждый волен был выживать или отдать Богу душу. С первых же минут все запертые в трюмах люди стали молить Господа, чтобы корабль поскорее пришёл в порт назначения, а их всех выпустили на воздух.
О том, как проходил этот рейс, как бесконечно долго тянулись восемь мучительных дней и ночей – по-настоящему рассказать нельзя. Как можно передать мучительную жажду, когда во рту всё пересыхает, а язык становится как наждачная бумага? И что это за мука – на протяжении нескольких суток раскачиваться на длинной волне, чувствуя то щекочущую слабость в груди, то сосущую пустоту, от которой выворачивает внутренности? Голод, жажда, морская болезнь, нарастающая духота и ужас заживо погребённого человека – всё это создавало такую какофонию чувств, такую непрекращающуюся муку, перед которой бледнеют картины Дантова ада. Если бы великий итальянец прокатился в трюме такого корабля, то он, пожалуй, обогатил бы своё творение ещё одним – десятым кругом, в котором мучают ни в чём не повинных людей, и делают это так, будто все они – насильники и убийцы, предатели и лжепророки, прелюбодеи, воры и сластолюбцы.
Нашлись, правда, два счастливца, которым удалось вырваться из этого рукотворного ада. Когда заключённых по очереди выводили на оправку (вдоль борта были устроены специальные навесы – прямо над водой), – двое смельчаков вдруг бросились в море! Дело было днём. В километре от парохода параллельным курсом шёл японский военный корабль. Ввиду таких свидетелей конвоирам было запрещено стрелять по беглецам. Тем более что заключённые плыли не к японцам, а к берегу, до которого было пять километров. Старпом задумчиво смотрел, как среди волн барахтаются два человека, затем довольно громко произнёс (чтобы слышал конвой):
– Всё равно не доплывут. Акулы о них позаботятся. Тут они кишмя кишат.
И ушёл к себе на мостик.
Конвой опустил винтовки. Очень хотелось посмотреть, как акулы будут терзать беззащитных людей, а вода сделается красной от крови. Но беглецы всё плыли и плыли по вздымающимся волнам, а акулы не появлялись. Японцы тоже заметили пловцов. Рассматривали их в бинокли, оживлённо переговаривались и махали руками. Двое русских хотя и находились в нейтральных водах, но плыли к японскому берегу. По всем законам и уложениям нужно было остановить нарушителей. Русские почему-то спокойно взирают на этот странный заплыв, не спускают шлюпок и не пытаются догнать товарищей. О том, что по морю плывут заключённые и что вся их надежда и спасение на чужом берегу – об этом японцы не знали. Все проходящие по Японскому морю советские суда объявлялись грузовыми, их трюмы были заполнены оборудованием для развития северных территорий. Досматривать суда не разрешали, а японцы сильно не настаивали. Пароходы шли в нейтральных водах, хотя и очень близко от Японских островов. Японцы считали всех русских коммунистами и диверсантами. О том, что у них под носом перевозят в районы Крайнего Севера десятки тысяч советских рабов, они не знали. У советской власти всё было шито-крыто. Да и в самом деле: нужно было соблюдать приличия. Объявлять на весь мир количество выявленных врагов самой себе – советской власти было не с руки. Вот и сидели заключённые запертыми в душных трюмах, а по палубе свободно гуляли прилично одетые матросы и старшие командиры. Иногда, правда, случались инциденты. Но они бывали всё реже и реже. Если до этого случая заключённых выводили на палубу в светлое время (а день в июле длится 16 часов), то после оного выпускать заключённых стали лишь ночью.
А те двое, судя по всему, добрались до спасительного берега и со слезами радости сдались японским властям. Валялись в ногах и просили об одном: не выдавать их Советам. Если же выдадут, грозились перерезать себе глотку или задушиться. Они согласны были всю жизнь просидеть в японской тюрьме, выполнять любую работу – только не попасть в лапы чекистам! Беглецы рассказали про жуткий пароход, набитый полуживыми людьми, и про массовые аресты по всей стране, про тайные расстрелы и про всё остальное. Японцы мало что поняли из этого бреда, но возвращать беглецов русским не стали. Их отправили в центральную префектуру для дальнейших разбирательств. Тем более что один русский назвался профессором филологии, а другой – главным инженером крупного предприятия. Правда, вид у обоих был такой, что верилось в это с трудом. С другой стороны, от русских можно всего ожидать.
На следующее утро пароход «Дальстрой» был окружён несколькими японскими катерами. Они проходили довольно близко и внимательно разглядывали борта и палубу. Однако ничего подозрительного увидеть им не удалось. Сквозь железные борта японцы видеть ещё не научились, а сидевшие за этими бортами заключённые не могли подать никакого знака. Только и видно со стороны, как чисто вымытый пароход идёт на всех парах по нейтральным водам. Так и ушёл «Дальстрой» на север, унося с собой свою мрачную тайну. Японцы за все годы так и не решились остановить хотя бы одно такое судно.
Первые сутки Пётр Поликарпович ещё как-то держался, хотя его сразу стало мутить. Он сжимался и скрючивался, стараясь представить, что он в землянке, а вокруг – товарищи по оружию. Все они спят после утомительного перехода, и он тоже должен немедленно уснуть. Вот только воздуху не хватает и тьма такая, хоть глаз коли. Временами он впадал в забытьё, и тогда ему казалось, что он летит по воздуху и вот-вот должен упасть и разбиться. И он падал во сне и тут же просыпался с глухим вскриком. Несколько секунд не мог ничего понять, потом вспоминал всё и старался удержать нарастающий ужас. В такой изматывающей борьбе проходили первые сутки. А потом заключённых стали выводить на верхнюю палубу на оправку. Люк раскрылся, стало чуть светлее, повеяло свежим воздухом. Заключённых выпускали сразу по десять человек. Пётр Поликарпович попал в шестой десяток. С большим трудом спустился с нар – ноги затекли и ослабли. Превозмогая слабость, выбрался по страшно неудобным лестницам на верхнюю палубу, а там задохнулся от холодного плотного ветра, солёные брызги обожгли лицо. Солнце стояло высоко. Вся огромная палуба была ярко освещена, так что смотреть было больно. Едва не падая, он двинулся вдоль борта к странным сооружениям, висящим вдоль бортов над морем. Там уже суетились заключённые, справляли свои надобности у всех на виду. Так и шёл пароход по синему морю, оставляя за собой белый пенный след, а чуть сбоку – струю нечистот.
Перед спуском в трюм Петру Поликарповичу выдали горбушку хлеба и половину селёдки.
– А вода? – спросил он у раздатчика – мордатого парня уголовного вида.
– Мочу свою пей, – не задумываясь, ответил тот. – Шуруй отсюда, пока я тебя не отоварил.
Пётр Поликарпович чуть заметно кивнул и стал спускаться в трюм.
Воду разносили вечером. На десять заключённых наливали неполный таз. С этим тазом нужно было спуститься по отвесной лестнице сначала на один уровень, а потом на самое дно. Непрекращающаяся качка, узкие люки и отвесные ступени создавали почти непреодолимое препятствие на пути водоносов. Едва ли половину воды можно было донести до своих товарищей. Но не тут-то было! В дело вмешивались уголовники. Они налетали со всех сторон, черпали кружками воду из таза, толкались и страшно орали; в результате или таз падал на дно, или от воды почти ничего не оставалось. Все десять человек оставались без живительной влаги на целые сутки. И следующие сутки тоже могли остаться – никто ничего не гарантировал. Конвою было глубоко плевать на все эти дела. Но кому-то и везло – иной получал свои пол-литра и тут же выпивал их, понимая, что оставлять ничего нельзя, да и где оставишь (не в карманы же наливать)!
Так и плыли весь путь до Магадана – почти без воды и без пищи, в страшной духоте и жуткой стеснённости. Сами того не ведая, заключённые проявляли массовый героизм! Но никому бы и в голову не пришло назвать их героями. И мучениками их тоже никто не величал. Ведь были их не единицы и не тысячи, а сотни тысяч! Мучениками они стали поневоле, совсем не думая об этом, не желая такой доли. Впрочем, многие из них, пожалуй, и согласились бы принять мучения. Они отправились бы на Колыму, чтобы совершить трудовой подвиг во имя Родины, – но как свободные люди, по велению пламенного сердца! Нужно было только объяснить им по-человечески необходимость самоотречения. И тогда нашлись бы храбрецы и романтики – не миллионы, конечно, но тысячи, а может, и десятки тысяч простых советских людей. Эти десятки тысяч вольных тружеников сделали бы поболе миллиона измученных и бесконечно униженных арестантов. И все они остались бы живы! Дети выросли бы в полных семьях, а их матери не мыкали бы горе до глубокой старости, не вздрагивали бы при каждом ночном стуке.
Но «отцу всех народов» не приходила в голову такая простая мысль. «Великий почин» (по меткому выражению Ленина) московских железнодорожников не нашёл отклика в его низкой душе. Он видел вокруг себя одних лишь врагов, одних лишь подлецов и предателей; в лучшем случае – лентяев и недоумков. Если б можно было, он бы всех граждан великой страны отправил в трудовые лагеря. Но, к большому его сожалению, это было невозможно. (А что Европа скажет? Как социал-демократы оценят столь ценную инициативу?) Но ведь вольный труд тоже можно превратить в труд подневольный! Вот и были узаконены расстрелы за подобранные на уже убранном колхозниками поле колоски пшеницы (чего до сей поры не было никогда и нигде в мире). Учредили десятилетние сроки заключения за три опоздания на работу. Закрепили всех трудящихся за конкретным предприятием, запретив увольняться по собственному желанию. Ввели шестидневную рабочую неделю при мизерной зарплате, регулярных займах и сверхурочных работах. Наконец, закрепостили сельских жителей по месту их пребывания, предварительно загнав их в колхозы (весь собранный урожай при этом забирало государство, а на трудодни выдавали сущий мизер, так чтоб только не подохли с голоду)…
Такое обличье получил могучий революционный пафос через каких-нибудь два десятка лет после «освобождения трудящихся от эксплуатации и произвола местных помещиков и мировой буржуазии». Так понимал «инициативу снизу» и «сознательность масс» усатый вождь с трубкой в прокуренных зубах. Хотя, конечно, можно было его понять. Куда проще превратить страну в одну большую казарму, нежели носиться со всеми этими дурацкими лозунгами, изображать из себя идейного и радоваться каждому пустяку. Всех идейных и шибко умных усатый вождь уже уничтожил: дурачка Бухарина, мягкотелого Зиновьева, чистоплюя Каменева, масона Сокольникова, гордеца Тухачевского, вечно надутого Рыкова… да всех врагов не перечесть! Остался лишь иуда Троцкий, но и его дни были уже сочтены. Все эти блюхеры и тухачевские, рыковы и пятаковы, рудзутаки и радеки, зиновьевы и рютины, косиоры и смирновы – всё это такая мелочь, что не стоит о ней и говорить. Незаменимых нет – и баста! Стоит уничтожить одних, тут же на их место придут другие, а вместо других мгновенно появится третий слой приспешников и лизоблюдов; все они будут работать за страх, а не за совесть, потому что всё в этом мире держится исключительно на страхе.
Тут нужно понять главное: отдельно взятый человек – ничто! Зато идея – это всё! Но никакую идею нельзя воплотить в жизнь без жёсткой руки, без принуждения, без абсолютной власти. И тогда последний тезис относительно идеи придётся несколько подправить: власть – это всё! И опять же, не бывает коллективной власти. Власть может быть лишь персональная, единоличная. Поневоле согласишься с этим засранцем Людовиком. Хорошо, подлец, однажды сказал (и как это он догадался?): «Государство – это я!» К этой гениальной истине почти уже нечего добавить. К такому идеалу и стремился малообразованный и неотёсанный грузин. И он добился того, что его стали считать чем-то вроде солнца, а самих себя – чем-то вроде клопов, которых можно раздавить в любую секунду, но можно и позволить им ползать и размножаться. Всё зависело от прихоти верховного божества. А ещё – от чистого случая. Кому-то ведь надо было оставаться на воле, кто-то должен был работать на заводах и фабриках, распахивать колхозные поля и сдавать зерно государству?
Да, колхозникам было очень тяжело. И всем остальным было не легче! Но тем, кто попал в тюрьму, кто отведал следствие и этап – эта прошлая жизнь казалась едва ли не раем. Они согласны были работать круглые сутки и получать за это сущий мизер, только бы их не отрывали от родного дома, только бы не били смертным боем, не морили голодом, не топили в нечистотах. Пётр Поликарпович вспоминал свою прошлую жизнь как волшебный сон, как сказку. И сам себе не верил: была ли она? И был ли он сам – всеми уважаемый человек и заслуженный писатель? Была ли у него семья – молодая красавица жена и чудесная дочь? Заседал ли он в президиумах – или это был кто-то другой? И где он настоящий? Тот ли успешный и уверенный в себе человек или этот полутруп, безмолвно лежащий в душном трюме среди таких же, как он, бедолаг? Он никак не мог разрешить этот вопрос, не в силах был понять себя. Что он и кто он, зачем он живёт и какую оставит по себе память? Возврата к прошлому нет – это он уже понял. Никогда он не будет прежним, не сможет уверенно подняться в президиум, а потом смотреть в зал с важным видом. К бывшим своим товарищам он не чувствовал ничего, они были для него какими-то бесплотными тенями. Даже дочь словно бы отдалилась, стала чужой. И уж конечно, он никогда больше не напишет ни одной героической книги о партизанах. Потому что сам он – не герой. Теперь он это понял. Всё было обман и ошибка. Случайные события вознесли его наверх, а потом другие столь же случайные события бросили его в пропасть. А сам он ничего не значит в этом мире.
Эти восемь дней стали тяжким испытанием для Петра Поликарповича. Это был паралич воли и полное истощение сил физических. К исходу восьмых суток он был уже на грани гибели, готов был броситься в море или кинуться на конвоиров, чтоб разом покончить всё. Уже лежали во всех отсеках трупы под нижними нарами, уже крысы плавали в мутных водах и рвали мясо с мёртвых тел, уже воздух сгустился от испарений настолько, что заключённые теряли сознание. Но пароход входил в бухту Нагаево, уже видны были по обеим сторонам покатые сопки, укрытые сплошным ковром из кедрового стланика. И уже готовился выдающийся далеко в море деревянный пирс для приёма очередной партии живой силы. На берегу скапливался конвой, подъезжали грузовики для всех тех, кто не сможет самостоятельно идти, уже и фельдшер готовился намётанным глазом отделять живых от мёртвых. Тех, что ещё можно было спасти, отправляли на двадцать третий километр, в центральную колымскую больницу, а тем, кто отдал Богу душу, предстоял другой маршрут, не очень далёкий. Всех остальных ждал пересыльный лагерь, до которого нужно было идти всё те же шесть километров (по странному совпадению). Но до всего этого нужно было ещё дожить. Заключённые умирали в последние часы перед выгрузкой. Пароход уже сбавлял ход и совершал плавный манёвр возле берега, а люди продолжали умирать в его железном чреве. Кому-то ещё предстояло погибнуть в толкотне и давке, когда были открыты люки и прозвучала команда на выход. Сохранившие силы ринулись к лестнице, и там завязалась отчаянная борьба; сильные оттесняли слабых, в ход шли кулаки и локти, иным попадало каблуком по голове, кого-то сбрасывали, были и порезанные уголовниками.
Пётр Поликарпович не был в числе первых, хотя понимал, что должен как можно скорее выбраться из трюма. Там, над головой, был свежий воздух, там бушевало лето! Он уже понял, что кошмар закончился, что он будет жить, вот только ноги не слушаются, а руки предательски дрожат. Превозмогая слабость, он сполз с нар, в последнюю секунду сорвавшись в мутную жижу. Потом добирался до лестницы, пережидая толкотню; наконец взялся за тёплые перекладины и стал карабкаться из последних сил. Его мутило, голова кружилась, но он сумел выбраться на верхнюю палубу и там едва не упал – кровь резко отхлынула от головы, в глазах потемнело, ноги сделались ватными. Но постепенно слабость отступила, тёплый, напоённый травами воздух проник в лёгкие, голова словно бы стала наполняться горячим паром. Несколько глубоких вдохов, и Пётр Поликарпович снова стал видеть и слышать.
Огромный пароход с раздавшимися бортами тяжко раскачивался на длинной волне в ста метрах от берега. Тёмная мутная вода, похожая на студень, лениво накатывала на железный корпус. В левый борт упирался низкий деревянный пирс, на который осторожно ступали заключённые, балансируя на раскачивающихся сходнях. На берегу был образован коридор из бойцов охраны с беснующимися овчарками; заключённые втягивались в этот коридор и поднимались по пологому песчаному склону. Далеко впереди виднелись одноэтажные серые дома, какие-то будки, чёрные сараи, покосившиеся заборы с колючей проволокой; ещё дальше с обеих сторон вздымались сопки, покрытые сочной зеленью, там были низкорослые деревья, густая трава, бурые мхи. В целом картина была очень живописная. Пётр Поликарпович невольно залюбовался. День был тёплый, солнечный, а пейзаж какой-то дикий, вольный. С берега пахло разнотравьем, но не так, как в Сибири. Запах был очень странный, с какой-то примесью, – острый и пряный одновременно. Небо было тёмно-синее, глубокое, солнце слепило; всё вокруг блистало и лучилось. Обернувшись в другую сторону, Пётр Поликарпович увидел вздымающийся горбом океан, объятый двумя уходящими вдаль берегами. Океан казался очень далёким, извилистая линия берега убегала вдаль на десятки километров. Где-то там остались и Владивосток, и Японские острова, и вечно тёплый тропик. Там же осталась и вся прежняя жизнь. Глядя на темнеющий вдали океан, обводя взглядом холмистую линию берегов, вдыхая всей грудью незнакомые запахи, Пётр Поликарпович с пронзительной силой ощутил чужеродность этого мира, его страшную удалённость от всего, что было привычно и дорого. Берег казался чужим, едва ли не первобытным. Ориентиров не было никаких. И не было дорог через эти сопки, через эти необъятные пространства. Это чувствовалось сразу.
Хотя нет, одна дорога уже была проторена – теми, кого регулярно привозили сюда пароходами последние восемь лет. Сразу от берега, за линией влажного песка, начиналась до странности твёрдая земля, поросшая редкой травой. В этой неподатливой каменистой земле была натоптана широкая тропа, по которой потянулся только что прибывший этап. Едва волоча ноги, жмурясь от яркого солнца, заключённые медленно поднимались по склону. Все были измучены и обессилены, всем страшно хотелось пить. Но воды им не давали. Вода и пища ждали их в лагере, до которого нужно было ещё дойти. Встал в эту колонну и Пётр Поликарпович. Он понимал, что нужно выдержать этот последний путь, а потом будет передышка. Дадут немного воды и хлеба, можно будет ополоснуть лицо, упасть на нары или прямо на землю.
Целый километр поднимались они в гору, и чем дальше, тем круче был уклон. Потом дорога повернула влево и пошла почти ровно. Ещё через полтора километра повернули вправо и опять стали подниматься в гору. Пётр Поликарпович плёлся из последних сил. Ноги не слушались, сердце бешено стучало, пот заливал глаза. И нельзя было вытереться: рукава пиджака были настолько грязными, что страшно было прикасаться к лицу. Под ногами была рыжая взвесь из песка и пыли. Серые камни всех размеров попадались во множестве; казалось, почва наполовину состояла из камней. По обеим сторонам росли невысокие кустики странного вида. Цветов не было вовсе. И птицы не летали над головой. Чем дальше, тем острее чувствовалась непохожесть этой земли на родную Сибирь. Выглядела эта земля не так, была иной на ощупь, и запах был очень странный. Всё вместе рождало смутную тоску. Все заключённые чувствовали тревогу. Шли молча, с тяжёлым придыханием, головы втянуты в плечи, взгляд устремлён в землю. Никто не любовался местными красотами. Всех пугали заросшие густой зеленью сопки. Каждый, верно, думал: доведётся ли выбраться отсюда? Сроки у всех были немалые. Редко у кого меньше пяти лет. У всех «политических» было по восемь и по десять. Цифра сама по себе не страшная и не великая, но попробуй проживи восемь лет среди этих мрачных гор! И как-то оно будет в лагере? Как там примут, куда отправят на работу, чем будут кормить? Есть ли в лагере больница? Какой будет режим?
Все эти вопросы теснились в голове. Заглушить их могла лишь усталость, когда гаснет последняя мысль и словно бы растворяются все тревоги. Мерная ходьба способствовала такому состоянию. Постепенно Пётр Поликарпович перестал замечать окружающее, он упрямо смотрел себе под ноги, переступая через камни и думая лишь о том, чтобы не упасть.
Путь до лагеря занял больше двух часов. Четырёхтысячная колонна растянулась почти на километр, и пока передних уже считали перед лагерными воротами, задние всё ещё брели, вздымая тучи пыли.
Наконец остановились. Пётр Поликарпович поднял голову и прочитал лозунг над лагерными воротами: «ПУТЬ В СЕМЬЮ ТРУДЯЩИХСЯ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ТРУД». Он не сразу понял смысл фразы, каждое слово было словно само по себе. Он никак не мог вникнуть, что это такое – семья трудящихся? А он разве не трудился всю свою жизнь? Отцы и деды его вспахивали неподатливую сибирскую землю, сам он пролил немало пота, когда работал от восхода до заката, не разгибая спины! Но размышлять было некогда. Толпа заключённых уже вливалась в лагерные ворота. Вокруг стояли вооружённые солдаты, вид у них был такой, будто они сейчас бросятся на заключённых врукопашную; собаки рвались с поводков, разбрасывая пену с оскаленных клыков, а с безоблачного синего неба светило яркое солнце, безучастно грело стылую землю, как и тысячу, и миллион лет назад.
Наконец и ворота, и конвоиры с бесновавшимися псами остались позади. Взору открылось внутреннее устройство лагеря. Сразу за вахтой стояли двухэтажные каменные дома, а дальше виднелись в странном беспорядке приземистые бараки с почерневшими крышами. Холмистый рельеф местности усиливал впечатление какого-то хаоса. По всему периметру лагеря были вкопаны столбы, и видно было, что колючей проволоки не пожалели, намотали густо. С интервалом в сто метров разместились высоченные охранные вышки, на каждой пулемёт и прожектор.
Колонну заключённых погнали мимо двухэтажных каменных домов, которые занимала лагерная администрация. Метров через двести они увидели высоченное и довольно уродливое здание, словно бы составленное из разных кусков: внизу были трёхметровые ворота грязного цвета, выше – сеть мелких квадратных окошек, бока здания были сложены из серых плит разных оттенков, двускатная крыша была почти плоской. Всё вместе производило донельзя странное впечатление. Тут же выяснилось, что это местная баня и мимо неё пройти никак нельзя. Колонна остановилась, заключённые оживились, стали разглядывать нелепое сооружение. Против бани никто не возражал. Все были не просто грязны, а загажены до последнего предела, ото всех страшно воняло, и каждый мечтал о шайке горячей воды и куске мыла. Наконец открылась створка неуклюжих ворот. Заключённые двинулись внутрь. Сто человек загнали в просторное помещение совершенно без окон, освещённое лишь несколькими лампочками, висящими на самой верхотуре. На неокрашенном деревянном полу лежала чья-то одежда: плащи и куртки, пиджаки и рубахи, штаны всех покроев, сапоги, ботинки и даже майки с трусами. Всё это валялось в беспорядке, брошенное как попало. Все поняли: одежда осталась от тех, кто пришёл сюда раньше.
Вдруг распахнулась небольшая дверь, ведущая изнутри другого помещения. В зал вошли двое – с наглыми физиономиями, упитанные и крепкие на вид. Не нужно было много сообразительности, чтобы признать в них матёрых уголовников.
– Чего хавло разинули? – крикнул один из них. – Скидывайте шмотьё на пол и дуйте в помывочную. Цацкаться с вами тут никто не будет.
– А с одеждой как быть? – спросил кто-то.
– Ничего с вашим тряпьём не случится, – был ответ. – Получите после бани.
Заключённые переглянулись, потом стали раздеваться. Никаких вешалок или скамеек не было. Всё валилось в общую кучу.
В помывочную пропускали по одному. Каждому заглядывали в рот, проверяли, что в руках. Отбирали любую мелочь и, кажется, готовы были изъять из тела душу, чтобы зэк послушно исполнял любые команды, ничего для себя не требовал и не чувствовал. К этому идеалу стремились хозяева колымских лагерей и очень жалели, что никак не могли его достичь. Души из тел изъять никак не удавалось. А чувства у всех этих несчастных, измученных людей сохранялись до самого последнего вздоха. Справиться с этим недоразумением природы советская власть за семьдесят лет так никогда и не смогла.
В следующем помещении орудовали местные парикмахеры – те же заключённые, облачённые в грязные рваные халаты и вооружённые механическими машинками для стрижки волос. Вновь прибывшие становились перед ними, покорно опустив руки, а те лихо состригали волосы с голов, под мышками и в других местах. Работали торопливо, движения были резкие, грубые; то и дело слышались болезненные вскрики, тут же звучал громкий смех и следовали похабные комментарии. Миновать эту экзекуцию было невозможно. Сами заключённые понимали, что лишние волосы на голове и на теле – это рассадник вшей. А вши были у всех. Поэтому никто особо не противился.
После стрижки все получали по небольшому прямоугольничку мыла и шли в следующий зал, где была помывочная. И тут уже каждый управлялся, как умел. Хватали деревянные шайки, теснились у кранов с горячей водой, потом искали свободное место на лавках и прямо на полу. Лихорадочно мылились, тёрли себя ладонями, плескали воду на лицо… Всё делалось в страшной спешке. Пётр Поликарпович наполнил шайку тепловатой мутной водой, затем ещё раз и после снова сумел налить себе почти уже холодной воды. Вода доставляла наслаждение. Маленький кусок скользкого липкого мыла казался величайшей драгоценностью. Пётр Поликарпович проявил удивительную оборотистость: насобирал на полу крошечные обмылки и мылился, мылился без конца, лил на себя воду, усиленно растирал лицо и остриженную голову. Где-то щипало, где-то кололось – он ничего не замечал. Смыть с себя всю накопившуюся грязь – вот главная задача и смысл.
Вдруг кто-то крикнул, перекрывая шум:
– Всем быстро на выход!
Пётр Поликарпович вылил на голову остатки воды, поставил шайку на скамью и пошёл вслед за всеми.
В следующей комнате он получил застиранные кальсоны и рубаху с длинными рукавами мутно-зелёного цвета. У другого каптёра он получил бесформенные ватные штаны и словно бы изжёванную гимнастерку, в третьем помещении заключённым выдавали телогрейки, кирзовые ботинки и видавшие виды портянки. В самом конце Пётр Поликарпович принял в руки бушлат, шарфик и шапку-ушанку. Размеров никто не спрашивал. Не до того было.
Выйдя из бани, заключённые стали натягивать на себя кальсоны и нательные рубахи. Тут же менялись друг с другом, если размер не подходил. А об оставленных на полу вещах речи уже не было. Если кто и вспомнил, так ничего не сказал. Все так и поняли, что никто ничего назад не получит. Где бы они ни были, какой бы дорогой ни шли – никогда они не возвращались прежним путём. Путь был только вперёд, в неизвестность. Вот и на этот раз заключённых повели вглубь лагеря, где для них был приготовлен барак со сплошными нарами и низкими потолками, с железной бочкой посредине и со всем тем, что и было во всех бараках Севвостлага – одной из самых жутких организаций, какие только знала вся мировая история. Летом 1940 года эта организация включала в себя четыре сотни больших и малых лагерей (среди которых были целые города с 50-тысячным населением вроде Бутугычага). Севвостлаг занимал громадную территорию, простиравшуюся от Чукотки до Владивостока и от Берингова пролива до Красноярского края. На всей этой площади (превышающей площадь Соединённых Штатов Америки) одновременно работали – днём и ночью, зимой и летом – два миллиона человек. Были среди них и вольнонаёмные (погнавшиеся за романтикой, а кто-то и за длинным рублём), но подавляющее большинство составляли заключённые, доставленные в эти необжитые места грузовыми пароходами вроде тех, на котором прибыл сюда писатель Пётр Поликарпович Пеплов. Советской власти на этой территории не существовало, её заменял всесильный НКВД со всем своим репрессивным аппаратом. Дальстроем командовали в разные годы генерал-майоры и генерал-полковники ГБ НКВД, а подчинённым ему Севвостлагом распоряжались (как умели) капитаны, майоры и полковники. Вместо посёлков по всей необъятной территории в спешном порядке строились лагеря. Вместо гражданской власти здесь были военный порядок и чрезвычайщина, грубое принуждение и полное равнодушие к элементарным нуждам людей.
Оно и понятно: какой дурак поедет в эту чёртову даль – строить среди вечной мерзлоты посёлки и долбить на пятидесятиградусном морозе неподатливый камень? На уговоры и увещевания у советской власти времени никогда не было. Гораздо проще было привезти сюда несколько миллионов человек под дулами винтовок и бросить их в безжизненные сопки, заставить строить бараки из окаменевшей даурской лиственницы, ставить двухслойные палатки (на всю зиму) и без продыху долбить мёрзлую сопротивляющуюся землю. Не беда, если половина заключённых умрёт в первую же зиму от непосильной работы, от голода и от побоев (а кого-то и расстреляют за невыполнение плана или за отказ от работы). За умерших и убитых особо не спрашивали. Зато неустанно требовали золото и олово – в непомерных количествах. И получали то и другое – десятками тонн! Это было главное и первостатейное в деятельности Дальстроя, а всё остальное было неважно. Цель оправдывает средства, и всё такое.
В этот первый день пребывания в магаданском пересыльном лагере заключённых так и не накормили. Но это никого не удивило. Все уже знали, что на довольствие всех прибывших ставят лишь со следующего дня. Так было везде и всюду, будь то колымский лагерь или заштатное СИЗО где-нибудь под Воронежем.
После бани заключённые спали особенно крепко. В бараках было тепло (июль стоял), свежий воздух наполнял лёгкие, и места на нарах было достаточно. Никакого сравнения с пароходным трюмом. Пётр Поликарпович лёг на доски, медленно вытянул ноги во всю длину и блаженно зажмурился. Кто-то носил по проходу кипяток в измятых консервных банках, кто-то что-то грыз с сосредоточенным видом, кто-то отрывисто говорил, словно лаял, – всё это нисколько ему не мешало. Страшная тяжесть навалилась на него, чёрный удушливый поток хлынул в голову, и он мгновенно уснул, будто провалился в погреб. И спал так остаток вечера и всю ночь – без сновидений, без желаний и без чувств. Это было лучшее, что можно было придумать в такой ситуации.
Летние ночи на Колыме коротки. В полночь ещё светло, а в шесть утра уже в полную силу светит солнце. Всё это было непривычно, ко всему нужно было привыкать. К резкому сухому воздуху, от которого резало грудь, а голова делалась чугунной. К высокогорью и перепадам температуры, когда днём стоит жара, а ночью собачий холод. К странным запахам, идущим от самой земли, и к неоглядным далям, от которых захватывало дух. Ну и к людям тоже нужно было привыкать и приспосабливаться.
Из этого лагеря Пётр Поликарпович отправил жене письмо, где среди прочих были и такие строки:
«Люди здесь суровые и не расположенные к сердечной дружбе. Несчастье сделало их такими. И я уже не тот, каким вы меня знали… Если бы я имел две жизни, то обе отдал бы только за то, чтобы вы сюда не ездили…»
Стихов в этом лагере он уже не писал. А эти несколько строк каким-то чудом дошли до адресата. Жена получила письмо и хранила его до самой смерти.
На этой магаданской пересылке, устроенной на сопке Крутая в шести километрах от бухты Нагаево, Пётр Поликарпович провёл два месяца. Каждый день к лагерным воротам подъезжали грузовые ЗИСы. Из ворот выводили колонну заключённых, усаживали плотными рядами в кузов, и машина выруливала на Колымский тракт, увозя очередную партию людей в неизвестность. Заключённым никогда не называли конечный пункт следования, они не знали, будут ли ехать в тряском кузове два часа или двое суток. Также никто заранее не знал о предстоящем этапе. В течение получаса заключённых, как скот, сгоняли к вахте и уже там объявляли о предстоящем этапе. Пётр Поликарпович каждое утро испытывал тревогу: не сегодня ли повезут и его в дальние лагеря, про которые рассказывают всякие ужасы (даже и до неправдоподобия)? Тревога не оставляла его почти всё утро, и только после обеда он успокаивался.
Работа разнообразием не отличалась: заключённых каждый день гоняли или на Колымскую трассу, или на окраину Магадана. Город активно застраивался, возводились каменные дома, разбивались скверы, дороги прокладывались. На городских стройках было чуть полегче (и как бы веселее, если здесь уместно такое слово). Ранним утром колонну заключённых гнали по пустым улицам. Заключённые разглядывали покосившиеся деревянные дома и массивные каменные строения, хмуро глядели на редких прохожих, пытались разглядеть море далеко внизу. Уже на объекте неохотно разбирали ломы, лопаты и носилки, а кто-то брал мастерки и пилы; затем приступали к работе. Пётр Поликарпович обычно носил мусор носилками. Иногда ему давали молоток и гвозди и поручали соорудить перила для лестницы на второй этаж, или сколотить какой-нибудь трап, или наряжали прибивать доски к деревянным стойкам. Но на эту работу были свои умельцы. Зато лопаты и носилки были свободны всегда. Мусора на любом объекте всегда предостаточно.
Подъём был в шесть утра (по раз навсегда установленному порядку). У лагерных ворот били желёзной трубой о висящий на проволоке рельс, а в каждом бараке дневальный орал благим матом: «Па-адъё-ом!..», «Вых-ходи на построение!..» (кто во что горазд). Заключённые с трудом поднимались с голых досок и выходили на улицу, там справляли нужду, ополаскивали лицо ледяной водой из рукомойников. Потом их строем вели в столовую, где было всегда одно и то же: миска безвкусной магары и пайка чёрного слипшегося хлеба. В восемь часов был развод, после которого колонны уходили из лагеря: кто в город, кто на трассу, а кто на сопки – рубить кедровый стланик. Кто-то оставался в лагере (тут тоже работы хватало). Самых неудачливых ждал этап.
С утра Петру Поликарповичу всегда бывало очень тяжело. Всё тело, все суставы и кости болели. Давило грудь. Трудно было дышать. На руках ссадины и мозоли. А сил не было вовсе. Кажется: лёг бы посреди дороги и лежал не шевелясь, глядел в бездонное колымское небо, ни о чём бы не думал… Превозмогая боль, он поднимался, понемногу расхаживался, приходил в себя. Боль медленно отступала, как бы уходила в землю через ступни; в голове светлело, и уже не было той чёрной тоски, от которой хотелось рвать на себе волосы или вдруг броситься с кулаками на конвоира. К обеду теплело, солнце блистало на небе, открывая дали и суля свободу. Заключённые исподволь разглядывали сопки вокруг Магадана. На этих сопках не росло крупных деревьев и живности тоже было не видать. Если пойти по этим сопкам наудачу, то через неделю точно подохнешь – это Пётр Поликарпович понял сразу (как бывший таёжник и партизан). И ещё он понял, что никакой конвой его не поймает, если только он отойдёт от лагеря хотя бы на десяток километров. И не погони нужно бояться, а самой природы, в которой нет места человеку. Опытным взглядом бывалого человека он оценил и эти чахлые деревья, и весь изломанный стланик (жалкую пародию на могучий сибирский кедр), и гнущуюся под ветром траву, и студёный ветер в разгар летнего дня. Не зря, ох не зря его пугали Колымой! И ведь здесь, на берегу Охотского моря, ещё не так холодно, как на континенте. Что же будет там – за сотни и тысячи километров от берега? Всё это ему предстояло узнать в самом скором времени.
А пока он таскал носилки со щебнем, орудовал лопатой и как мог экономил силы. Но силы с каждым днём убывали. Он со страхом думал о том, что будет в настоящем лагере, когда наступит лютая зима, а вместо ленивых конвоиров появятся ретивые надсмотрщики? Уже сейчас он голодает, а утром не может без стона подняться. Самое лучшее было – вернуться обратно во Владивосток. Там хотя бы не чувствовалось этой страшной оторванности от остального мира. Там оставалась надежда на спасение. Но вернуться было нельзя, это он знал. В пересыльном лагере его тоже не оставят. Оставалось надеяться на то, что его пошлют в какой-нибудь не очень страшный лагерь. Он слыхал от местных, что тут есть что-то вроде совхозов, в которых заключённые возделывают землю и выращивают урожай. Вот это было бы в самый раз! Он с детства привык работать на земле, любил землю – так, как может её любить только крестьянин, для которого земля не развлечение, а суровая реальность и смысл всей жизни. Уж он бы показал своё умение работать! Но как попасть в такой лагерь? Он запомнил странное слово – «Сеймчан». Уж так его хвалили, так хвалили – просто рай земной! Правда, это где-то очень далеко – километров пятьсот на север, а может, и больше. Говорили, что там и женщины работают. Но до женщин ему дела нет, а вот показать себя в привычном деле – это он может. Тогда и год, и два, и все пять – он сдюжит! Тогда можно всё превозмочь – и обиду, и голод, и болезни.
И он решил обратиться к местному начальству, сказать всё как есть. Всё-таки они тоже люди. Должны понимать, что ему уже много лет, тяжёлой работы не выдержит. Кому будет лучше, если он тут погибнет? Государство потеряет труженика, жена – мужа, а дочь – отца. Нет, не должны отказать!
Так он неотступно думал, плетясь в колонне на работу. И весь день мысль о спасительном Сеймчане не оставляла его. Ложась спать, он представлял, как будет вскапывать неподатливую колымскую землю, на какую глубину бросать семена, чем их укрывать от морозов. И что лучше для питания – картоха или свёкла, морковка или капуста? Получалось, что всё хорошо! Главное, чтобы побольше. Если целый год есть одну капусту, то уже не умрёшь! И цинги не будет. Кожа не будет облазить лафтаками. И вшей можно извести с помощью обычного капустного листа. Какой же это замечательный овощ – капуста! Не зря Пифагор её так расхваливал. Ах, если бы ему позволили, как бы он старался, как старался…
Однажды он осмелился высказать свою просьбу. Правда, он высказал её не военному начальнику, а фельдшеру из лагерной больницы. После работы он пошёл не в барак, а в дальний угол лагеря, где располагался медпункт. Приблизившись, увидел одноэтажный дом, покрашенный известью. Восемь окон в длину, два окна сбоку. Крыша уголком, низенький штакетник вокруг. За домом растут невысокие лиственницы. Напротив, через улицу, стоял почти такой же домик, только поменьше. И за ним другие дома. Собравшись с духом, Пётр Поликарпович направился к самому большому дому, рассудив, что это и есть стационар.
Встретили его не хмуро и не ласково, а совершенно равнодушно. Спросили, с чем пожаловал.
– Да вот, – сказал он как бы с сомнением, – грудь у меня болит. Вот здесь. Дышать трудно. Вообще мне очень тяжело. Работать не могу. Сил нет совсем.
Фельдшер – усталого вида пожилой мужчина с цепким взглядом коричневых глаз – велел ему раздеться до пояса. Затем стучал пальцами по рёбрам, слушая звуки, то склоняясь, то поднимая бритую голову, покрытую седым пухом. Он смерил давление аппаратом Рива-Роччи, потом оттянул большими пальцами веки и молвил со вздохом:
– Всё понятно. У вас глубокое истощение всего организма. Однако никакой болезни я у вас не нахожу, хотя и здоровым вас тоже назвать нельзя. Так-то, голубчик! – И он поднял на пациента взгляд. – Освободить от работ я вас не могу. Увольте.
Пётр Поликарпович согласно кивнул.
– Да, я понимаю. Если освобождать таких, как я, так вовсе некому будет работать.
Фельдшер едва заметно улыбнулся, морщинки у глаз стали заметнее.
– Я не за этим пришёл, – продолжил Пётр Поликарпович. – Я вижу, что вы умный, понимающий человек, а мне очень нужен совет! Просто спросить больше некого.
Фельдшер подался вперёд, лицо стало внимательным.
– Говорите.
Пётр Поликарпович ощутил, как забилось сердце. Вот сейчас решится его судьба. Было чувство, что он идёт по болоту и вот-вот провалится в зыбкую почву.
– Вы опытный врач, многое уже повидали… А я… я три года провёл в следственной тюрьме, там, на материке. Сидел в одиночной камере – без воздуха, без окон, в сырости, в страшной тесноте. Бывали дни, когда в камеру набивали двенадцать человек! Духота, вонь ужасная, параша всё время течёт… Сам не знаю, как я всё это выдержал. А потом, уже после следствия, нас три недели везли в столыпинском вагоне, по двадцать человек в купе – сами знаете, что это такое. А уж как мы по морю плыли, я и рассказать не смогу. Просто слов таких нету!.. И вот наконец я оказался здесь. Но ведь в этом лагере меня не оставят, это же пересылка! И вот мой главный вопрос: куда я теперь попаду? На что мне надеяться? – И он устремил на фельдшера испытующий взгляд.
Тот задумался на секунду, потом ответил:
– Этого я не знаю. Да и никто этого не знает. Тут всё решает случай, кому как повезёт. Хотя понятно, что почти всех заключённых отправляют на золотые прииски. Если только очень сильно повезёт, тогда вы можете попасть в более приличное место.
– Вот-вот, – подхватил Пётр Поликарпович, – если повезёт. Но я не могу полагаться на случай. Вы видите, что я уже не молод, я не выдержу работы на прииске, судя по тому, что об этом рассказывают. Вы согласны со мной?
Фельдшер медленно кивнул.
– Да. На приисках очень высокая смертность.
– И вот я подумал… мне сказали знающие люди, что тут где-то есть крупный лагерь, Сеймчан называется. Слыхали о таком?
Фельдшер кивнул.
– Слышал, конечно, хотя сам и не был ни разу. Там овощеводческое хозяйство. Есть и вольный посёлок. Это на Колыме, шестьсот километров отсюда. Они там снабжают овощами всю округу. Заключённые живут неплохо, сравнительно, конечно. Сами понимаете – свежие овощи, теплицы и всё такое. Это вам не золото.
– Да, я понимаю, – быстро проговорил Пётр Поликарпович, всё больше волнуясь. – Так я вас прямо хочу спросить: нельзя ли мне попасть в этот лагерь? Срок у меня не очень большой – восемь лет. Тем более что три года я уже отсидел в тюрьме, осталось не так уж и много. Это возможно?
Фельдшер молча смотрел на него. Казалось, он не слышал вопроса.
Пётр Поликарпович ждал, что он скажет, но тот молчал.
– Могли бы вы мне помочь в этом деле? – снова спросил Пётр Поликарпович.
Фельдшер отрицательно помотал головой, продолжая неподвижно смотреть на пациента.
– Вы сами сказали, что у меня глубокое истощение, – закончил Пётр Поликарпович упавшим голосом.
Фельдшер всё смотрел на него, словно не узнавая. Потом качнулся всем телом и молвил:
– Если я помогу вам, нас обвинят в сговоре. Затеют следствие. И мне и вам не поздоровится, будьте уверены.
– Да вы что! – поразился Пётр Поликарпович. – Какое следствие? Ведь вы же врач.
– Ну и что из этого? – улыбнулся фельдшер. – Вы думаете, врачей не расстреливают? Да что там говорить! – горестно вздохнул он и махнул рукой.
Пётр Поликарпович медленно поднялся со стула.
– Значит, вы мне не поможете?
Фельдшер глянул на него снизу.
– Хотите, я расскажу вам один случай? Прошлой зимой дело было, на моих глазах всё происходило. Работал тут у нас врач, из заключённых, как и все тут. А в лагере с проверкой был его давний знакомец по воле. Профессор, с бородкой и в пенсне. Проверял, как мы тут боремся со вшами. И вот этот профессор видит в лагере своего бывшего ученика, расспрашивает его обо всём, ужасается, а потом усиленно хлопочет за него у начальника лагеря, говорит о его невиновности, просит освободить и всё такое. Начальник лагеря обещает разобраться и, как только профессор уезжает, пишет докладную старшему оперуполномоченному НКВД. Через месяц в Москве арестовали этого профессора, а у нас тут взяли в оборот его ученика, а заодно загребли нескольких санитаров; всех увезли в Магадан, посадили в дом Васькова. Ещё через месяц их расстреляли. И профессора тоже. Смею вас заверить: случаев таких полно. Вы просто ещё ничего не знаете. Вам повезло, что ко мне обратились. Был бы другой человек на моём месте – не миновать вам штрафного прииска.
Пётр Поликарпович с раскрытым ртом слышал этот невероятный рассказ. Не верить фельдшеру он не мог, но и поверить в сказанное было невозможно. Или фельдшер чего-то недоговаривает, или в окружающем мире что-то такое произошло, чего он совершенно не понимает. Мир переменился. Стал не просто другим, он стал антимиром, где всё не так, всё наоборот. В этом мире нет никакой логики, отсутствует элементарный здравый смысл. В нём нет добра, но одно лишь зло – ужасное, непобедимое зло и – жестокость.
Петру Поликарповичу вдруг стало трудно дышать. Он опёрся рукой о край стола и опустил голову, стараясь собраться с мыслями.
– Поверьте мне, я вам искренне сочувствую, – изменившимся голосом произнёс фельдшер. – Но я и в самом деле не могу ничего для вас сделать. Если бы у вас не было руки или ноги – тогда другое дело. Да вас бы сюда и не привезли. Выглядите вы неплохо. Скорее всего, вы попадёте на общие работы. Тут уж ничего не поделаешь. На золотых и оловянных приисках работают девяносто процентов всех заключённых, какие сюда прибывают. А если взять пятьдесят восьмую статью – так их поголовно на прииски отправляют! На это есть специальное указание из Москвы. Так что готовьтесь. Если станет совсем уже невмоготу, идите в лагерную больницу и требуйте отправки в инвалидный лагерь на двадцать третий километр. Это для вас единственный шанс выжить. И постарайтесь вырваться с приисков до сильных морозов. Сейчас лето, тепло. Но вы не представляете, что там делается зимой. Я видел обмороженных с приисков, их на грузовиках сюда привозят, как дрова. Жуткое зрелище! Уж на что я ко всему привычный, но и мне тяжело на всё это смотреть. Надеюсь, с вами этого не случится. Хотя заранее знать ничего нельзя. Остаётся лишь уповать на Господа Бога! – И он печально посмотрел на Петра Поликарповича.
– Пойду, – произнёс тот, вставая. Сделал два шага и обернулся: – Спасибо. Вы первый человек, кто так вот просто поговорил со мной. Я этого никогда не забуду.
– Прощайте, – сказал фельдшер с мрачным видом. – Надеюсь, вам повезёт.
Пётр Поликарпович не помнил, как вернулся в барак. Сосед по нарам – долговязый черноволосый мужчина со скуластым лицом – буркнул недовольно:
– Ты что, письмо с воли получил? В семье что-нибудь случилось?
Пётр Поликарпович поднял невидящий взгляд, через силу ответил:
– Ничего не случилось. Всё нормально. – И отвернулся.
Он разом отяжелел и обессилел, постарел сразу на несколько лет. Выглядел как глубокий старик, с потухшим взглядом и обвисшим лицом. Жить не хотелось.
Эту ночь он спал как убитый. Ни мыслей, ни чувств, ни образов. Одна лишь тьма – глухая и вязкая, в которой нет ничего.
Прошло три недели – в бесчувствии и душевной опустошённости, без надежд и просветов. Словно что-то надломилось внутри – и сил не стало. Не стало желания жить, цепляться за эту жизнь. Утром Петра Поликарповича грубо расталкивали и стаскивали с нар свои же товарищи. Почти ничего не соображая, Пётр Поликарпович с трудом поднимался и брёл вслед за всеми: куда они, туда и он. Столовая с липкими столами и отвратным варевом в измятых грязных мисках, развод на работы с матюками и угрозами, потом долгое нудное шествие по пыльной каменистой дороге. Уже не хотелось глядеть по сторонам, любоваться красотами. Зелёные сопки вызывали отвращение, от острых запахов чужой земли мутило. День длился бесконечно долго. Солнце недвижно стояло на небосводе, а проклятая работа никак не кончалась. Из последних сил Пётр Поликарпович поднимал носилки и шёл, грузно раскачиваясь и глядя себе под ноги. Руки разжимались сами собой, и однажды, когда он в очередной раз уронил носилки со щебнем, его товарищ подошёл сзади и сильно ударил его кулаком в ухо. Пётр Поликарпович свалился на землю и долго лежал, ничего не понимая. Никто к нему не подошёл, не помог подняться. Все продолжали работу, будто ничего не случилось. Конвоир бросил на него равнодушный взгляд и отвернулся.
Подошёл бригадир. Глянул сверху.
– Ну чего разлёгся? Чай, не министр. Быстро встал на ноги!
Пётр Поликарпович кое-как поднялся. Что «не министр», это он и сам понимал. Знал также, что среди заключённых есть и бывшие министры, и генералы, и секретари обкомов, и референты членов ЦК, и даже следователи. Отличить их от обычных зэков было почти невозможно. Так же как нельзя было признать в самом Петре Поликарповиче известного на всю страну писателя, инженера человеческих душ. Лагерь всех безжалостно равнял, делал безликими, жалкими. И что хуже всего, лагерь заставлял самих людей верить в то, что они ничтожества и заслужили такое к себе отношение. Поверить в это было легче, чем продолжать считать себя чем-то особенным. Поверивший легко сносил побои и оскорбления, безропотно исполнял все приказания. А те, кто продолжали считать себя «человеками», испытывали бесчисленные унижения, начиная с утренней побудки и кончая вечерней поверкой. Таких надолго не хватало, они и погибали первыми.
Пётр Поликарпович долго помнил тот подлый удар, полученный не от следователя и не от конвоира, а от своего же собрата, заключённого. После этого много было ударов и зуботычин, но они уже не вызывали особого протеста или удивления. Всех бьют. Чем же он лучше других? Но тот первый удар он помнил до самой смерти.
Лето на Колыме очень коротко. В августе уже заморозки, а в конце сентября на сопках лежит плотный снег.
Пересыльный лагерь жил своей жизнью: этапы регулярно приходили и уходили. Приходили они с моря, с юга, а уходили по Колымской трассе вглубь континента – на север. Пришёл черёд и Петру Поликарповичу совершить этот скорбный путь. Холодным сентябрьским утром, сразу после развода, его не отправили, как обычно, на работу. Хмурый нарядчик подошёл к нему и велел идти к лагерным воротам. Пётр Поликарпович почувствовал облегчение в первую секунду: не надо тащиться на работу вместе со всеми, он не будет сегодня таскать ненавистные носилки. Что уж там будет завтра – Бог весть, но сегодня он точно работать не будет. Чувство тревоги, постоянное ожидание чего-то ужасного вконец измотали его. Но теперь всё это заканчивалось. Скоро он узнает всё до конца, не будет мучиться неизвестностью. В глубине души он надеялся, что все те ужасы, которые ему рассказывали про золотые прииски, окажутся выдумкой. Всё-таки, теперь не Средневековье. На дворе двадцатый век. Советская власть не позволит без причины издеваться над людьми – над преданными ей гражданами, пускай оступившимися, но не потерянными для общества, для семьи, для будущего великой страны. Пусть ему будет тяжело, пусть будет многочасовая работа в золотом забое; он постарается работать честно, будет стараться изо всех сил. И если не выдержит, не сможет работать как надо, тогда он честно об этом скажет начальству, что он очень старался, но не смог, потому что это выше его сил. Не звери же они, в конце концов! Поймут, оценят его старание и честность… От таких мыслей ему становилось легче. Грядущие перемены уже не страшили. Жизнь брала своё, находя лазейки там, где их, кажется, уже не оставалось.
К лагерным воротам со всех сторон тянулись заключённые, вид у всех был озабоченный. Заключённые вполголоса переговаривались, то и дело слышалось слово «этап». Конвоиры злобно покрикивали и уже распахивали высокие деревянные ворота, за которыми стояли два грузовика с наращёнными бортами. Прозвучала команда, и заключённые гурьбой полезли в кузов. Пётр Поликарпович поставил ногу на колесо, ухватился за верхнюю доску и довольно ловко забрался наверх, занял место на низенькой скамейке у самой кабины по правому борту. Он видел через заднее стекло кабины шофёра в телогрейке и шапке-ушанке, справа от него сидел молодой лейтенант в длиннополой шинели с кожаной планшеткой через плечо. А в кузов всё набивались заключённые. Петра Поликарповича вплотную притиснули к кабине и занозистому борту, так что он не мог пошевелиться. Скамейки стояли так близко, что согнутые колени упирались друг в друга, и заключённые то прижимали ноги к себе, то поворачивались боком, толкая соседей и получая в ответ локтем в живот. Последними в кузов сноровисто забрались два конвоира с винтовками, они заняли угловые места сзади. На головы заключённых набросили рваный тент из выцветшего брезента, прихватили его тесёмками за борта, и машина, дав газ и вдруг дёрнувшись, стронулась с места. Пётр Поликарпович схватился за борт левой рукой, а спиной упёрся в доски, чтоб не биться хребтом при каждом рывке. Дорога была аховая. Кочки и колдобины, камни всех размеров; мельчайшая пыль вздымалась из-под колёс и до странности долго висела в стылом воздухе. Холодный воздух продувал кузов насквозь, и заключённые кутались в свои бушлаты, прятались друг за друга, стараясь укрыть голову от пронизывающего ветра. Пётр Поликарпович притянул к спине край брезента, поднял воротник бушлата и втянул голову в плечи. Он видел в разрывах брезента столб пыли позади машины, а если повернуть голову влево, можно было рассмотреть окрестные пейзажи. Однако ничего интересного там не было. Сразу за длинным пологим подъёмом машина повернула вправо и, набирая ход, покатилась по прямой, как стрела, трассе. Слева на многие километры расстилалась равнина, поросшая жухлой травой и кустарником; на самом горизонте виднелись довольно красивые горы, не очень высокие. Острых пиков не было заметно, верхушки гор словно бы сплюснуты и сглажены гигантской ладонью. Цвет всей этой местности, по мере её удаления, переходил от зелёных в бурые и серые тона. Лишь небо было ярко-синим и казалось бескрайним. А ещё небо было пустынным и каким-то неподвижным, от него веяло холодом и безнадёжностью. Пётр Поликарпович запахнулся покрепче. Путь, судя по всему, предстоял неблизкий.
Машина ехала довольно ходко. Через три часа они подъезжали к Палатке – небольшому посёлку, устроившемуся посреди обширной равнины. Где-то на этой равнине расположились целых три лагеря, один из которых обслуживал Колымскую и Тенькинскую трассы (Тенькинский тракт начинался от Палатки и уводил на север, спрямляя пути-дороги до богатейших золотых приисков Бохапчи и Омчуга), другой лагерь работал на местной железной дороге (тянущейся через вечную мерзлоту и болота до Магадана); третий лагерь был женским, там шили одежду и обувь для заключённых (телогрейки, знаменитые бурки и «ЧТЗ», шапки-колымки, рукавицы, нательное бельё и прочее). Ничего этого Пётр Поликарпович не знал и не увидел. Разглядеть среди густой растительности серые бараки было довольно трудно. Правда, пока они ехали по трассе, то и дело видели заключённых на обочинах – они как заведённые махали лопатами, долбили тяжёлыми кайлами и ломами землю, таскали грунт носилками; то же самое делал и он в пересыльном лагере. Смотреть на всё это было неинтересно. А про то, что Колымская трасса построена «на костях», он слышал много раз – так часто, что это уже и не волновало.
Зато всех волновал другой вопрос: куда их всё-таки везут?
В Палатке сделали первую остановку. Всем заключённым приказали сойти на землю для «оправки». Потом загнали обратно в кузов и велели сидеть тихо. Двое конвоиров остались сторожить машины с заключёнными, а двое других вместе с командирами отправились в приземистый домик, расположенный метрах в ста от трассы.
– Жрать пошли, – сообщил кто-то из заключённых. – А мы тут голодом сидеть должны, как собаки.
Никто не проронил ни слова. Все и так уже догадались о причинах остановки. И уж конечно, никто не надеялся, что их пригласят отобедать в столовой для вольных, съесть тарелку супа или котлету с макаронами. О таких пиршествах и не мечтали. А вот от горбушки хлеба никто бы не отказался.
Через десять минут прибежали два конвоира и сменили тех, что охраняли машины. Лица их лоснились, они дожёвывали на ходу.
Пётр Поликарпович сглотнул слюну и отвернулся.
Ещё через десять минут все заняли свои места, и машины поехали дальше. Опять густая пыль висела над каменистой дорогой, а кузов трясло так, что голова гудела, а внутри всё обрывалось. Солнце стояло в зените, всем было жарко, всё сильнее хотелось пить. Сидеть на жёстких лавках, согнувшись в три погибели, было страшно неудобно. Но все терпели. Сойти с этого транспорта по своей воле было нельзя. А вокруг было всё то же – зелёно-бурая растительность и ничем не отличимые друг от друга сопки. Дорога петляла между этих сопок, кусты и чахлые деревца убегали назад, и тут же словно бы вырастали новые – точно такие же. Пётр Поликарпович закрывал глаза, стараясь забыться, и ему это удавалось на несколько минут. Потом следовал толчок, все подпрыгивали и хватались друг за друга, Пётр Поликарпович вздрагивал и судорожно оглядывался; вокруг было всё то же: однообразные пейзажи, белёсая пыль и слепящее солнце над головой. Так проходил час за часом. Десятки километров трассы оставались позади. Воздух становился резче, холоднее. Машина то взбиралась на перевал, натужно урча, то с грохотом катилась вниз, подпрыгивая на камнях. Казалось, конца-краю этому не будет. С перевалов было видно, что сопки тянутся одна за другой и уходят во все стороны света, теряясь вдали. Ни дымка во всей округе, ни намёка на жильё. Это была чёртова глушь – холодная, равнодушная и жестокая, подавляющая своей безбрежностью и какой-то дьявольской незыблемостью. Это было что-то неуничтожимое и во веки веков неизменяемое. Поправить тут ничего было нельзя. Человек казался здесь даже не букашкой, а каким-то вирусом, мнимой величиной. Тут не было места для человека. Сама жизнь казалась тут невозможной. Пётр Поликарпович представил, как будет пробираться по этим нескончаемым сопкам, продираться сквозь кусты, брести по снегу, – и ему стало не по себе. Тут не было никаких ориентиров, никаких дорог и никакого жилья (не считая бесчисленных лагерей, теснящихся вдоль Колымской и Тенькинской трасс и их многочисленных ответвлений). Куда тут можно пойти? На севере Ледовитый океан, до которого несколько тысяч километров полного безлюдья. На востоке, в пятистах километрах, холодное Охотское море, за ним Камчатка и – край земли. Если идти на запад, то это тысячи километров непролазной тайги до самой Лены, до Байкала. А там свои лагеря и заставы.
Исхода отсюда не было. Он вдруг понял это с потрясающей душу ясностью. И уж после этого не смотрел по сторонам. Сидел, уткнувшись в колени, обхватив голову руками, стараясь ничего не слышать и не видеть. Так много часов, до следующей остановки.
Через пять часов, преодолев в общей сложности двести десять километров, обе машины остановились в Атке – посёлке, почти неотличимом от Палатки. Почти такая же округлая равнина, заросшая травой и кустарником, такие же сопки вокруг. Лагерь, правда, тут был один. Был и небольшой посёлок. Когда Пётр Поликарпович осмотрелся, ему на миг показалось, что они никуда не ехали, а машина газовала на месте и тряслась вхолостую. Вокруг было всё то же, только солнце уже садилось, его косые лучи разрезали прозрачный воздух и придавали пейзажу какой-то неживой, пугающий вид. Присмотревшись, Пётр Поликарпович всё же заметил разницу: сопки тут были покрупнее, а сама равнина поменьше той, где они останавливались днём. Склоны сопок до половины покрыты кустарником, а ещё выше была одна трава, перемежаемая жёлтой землёй. Самые макушки гор были пустынны – ни деревца, ни травинки. А небо всё такое же – синее, глубокое и жутко пустое.
Всем заключённым приказали сойти на землю. Те недоумённо оглядывали пустынный пейзаж. В природе была разлита тоска, как это бывает при закатном солнце. Всем хотелось есть, все ждали, что их отведут в столовую, а потом устроят на ночлег. Вместо этого им велели «оправиться», а потом вытащили из кабины брезентовый мешок и стали раздавать хлеб. Заключённые брали пайки, придирчиво разглядывали.
– Больше ничего не будет, – объявил лейтенант. – Вода вон, в речке. Напьётесь.
Двое конвоиров уже тащили флягу с водой. Поставили возле машины и стали отирать пот со лба и отдуваться.
Все стали подходить к фляге. Черпали большой кружкой ледяную воду и жадно пили. Встал в очередь и Пётр Поликарпович. Пить хотелось нестерпимо. Чёрствый хлеб не лез в горло, казалось невозможным проглотить его всухомятку.
Голод не тётка! Через полчаса все отведали местной водицы и съели хлеб. Становилось заметно темнее, и всем стало зябко – то ли от ледяной воды, то ли от ощутимо холодеющего воздуха. Заключённые с тоской смотрели на темнеющие вдали строения. Понимали: всё это не для них. Местный лагерь не принял этап, не разрешил разместить заключённых на своей территории. Оно и понятно: каждый день мимо возят заключённых, и все норовят заехать внутрь, нажраться в лагерной столовой (а продуктов и своим не хватает), потом требуют ночлега (свои заключённые спят вповалку в переполненных бараках). И начальник лагеря решил проблему просто: распорядился никого в лагерь не пускать, а проезжающие машины пусть себе едут дальше. Колымская трасса длинная – две тысячи километров. Лагерей впереди не счесть. Где-нибудь да приютят. А если и нет – пусть спасибо скажут, что заключённых везут на машинах. Начальник хорошо помнил, как в тридцать восьмом от Магадана на север гнали пешие этапы – по пятьсот и более километров. Да не летом гнали, а зимой, в лютый мороз. И ничего – шли! До места, правда, доходили не все. Бывало, что из тысячного этапа в посёлок Ягодный добирались не больше сотни. Остальные оставались лежать в сугробах вдоль трассы – скрюченные синие трупы, превратившиеся в ледяные изваяния. Теперь не то! До Ягодного можно доехать за двое суток. До Сусумана – за трое. Из машины можно вообще не вылезать. Красота!
Вот и на этот раз потери были сведены к минимуму: после короткой остановки машины поехали дальше. Лейтенант рассудил здраво: лучше плохо сидеть в кабине грузовика, чем хорошо стоять на охолодевшей земле под жутким колымским небом. О заключённых он вовсе не думал, зная по опыту, что эти скоты всё стерпят. Главное, чтобы не разбежались по дороге. И чтоб не околели втихаря. Сдать их всех согласно списку – и вычеркнуть из памяти. Не он это всё придумал. Не ему и менять эту систему.
Местность постепенно поднималась, плавно переходя в высокогорье. Дышать становилось труднее. Солнце зашло, и сразу сделалось темно и холодно. Заключённые укутались в своё тряпьё и согнулись, стараясь сберечь остатки тепла. Пётр Поликарпович стал утрачивать чувство реальности. Эта темнота, непрекращающаяся тряска, этот ледяной ветер, задувающий со всех сторон, эти болезненные удары в спину и с боков, этот надсадный шум мотора и странное чувство полёта – всё это мешалось в какофонию. В иные минуты он сам себе казался машиной, рёв мотора исходил из глубины его естества; казалось, это он несётся среди ночи, высвечивая огненным взглядом каменистую землю, выхватывая из пугающей тьмы странно изогнутые кусты на обочинах. Нет никакой тишины, и нет покоя в мире – всё куда-то несётся и падает, всё зыбко и повсюду гибель. В таких смутных ощущениях, в приступах ужаса и бессилия, в обмороках беспамятства проходили часы. Позади оставались долгие километры, а впереди была страшная ночь, которая никогда не кончится.
Но всё на свете рано или поздно заканчивается. Закончился и этот этап. К исходу вторых суток, преодолев пятьсот двадцать километров, обе машины въехали в посёлок Ягодный – административный центр огромного золотоносного района, на территории которого расположились самые страшные колымские лагеря, в их числе знаменитая расстрельная тюрьма «Серпантинка», которой пугали всех заключённых на Колыме. Тут же были лагеря «Штурмовой» и «Ледяной», «Бурхала» и «Свистопляс», «Дикий», «Эльген», «Партизан», прииски имени Горького и Водопьянова, знаменитая «Джелгала» (которую Шаламов впоследствии называл «сталинским Освенцимом») и ещё несколько десятков лагерей; все они добывали золото из вечной мерзлоты; попасть в любой из них было равносильно смерти. Через полвека жители Ягодного установят памятник на месте «Серпантинки», на чёрной гранитной плите выбьют текст:
«На этом месте находилась следственная тюрьма “Серпантинка”. Здесь были казнены десятки тысяч репрессированных граждан, прах которых покоится в этой земле».
Но ведь у каждого лагеря были свои братские могилы. Никто бы не стал увозить трупы заключённых в другой лагерь. Да и какая разница, где хоронить? Земля везде одинаковая. Главное, сделать так, чтоб незаметно было. На месте захоронений – ни крестов, ни памятников, ни опознавательных знаков. Уж если к живым не было никакого сочувствия, то мёртвых и подавно нечего жалеть.
Вновь прибывших приняли в Ягодном сравнительно неплохо: всех их разместили в местной пересыльной тюрьме. В столовой налили каждому полную миску горячей баланды, которую все признали необыкновенно вкусной (после двух суток чёрствого хлеба и ледяной воды). Потом отвели в барак и заперли на ночь. Пётр Поликарпович доплёлся до нар и упал лицом вниз на голые доски. Вокруг суетились и шумели – он ничего не слышал. Через минуту он уже спал – как есть, в одежде и в ботинках, прижимаясь щекой к доске и вовсе не чувствуя неудобства. О том, что будет дальше, он не думал. На это не было сил.
Утром, когда заключённых выгнали из барака, Пётр Поликарпович увидел довольно высокие, покрытые снегом горы, окружившие посёлок сплошной цепью. До гор было километров пять. Как почти все колымские поселения, Ягодный расположился посреди обширного плато, вытянувшись вдоль извилистой неглубокой речки. Пересыльный лагерь расположился на пологом склоне чуть севернее посёлка. С южной стороны, далеко внизу, виднелась довольно широкая река, противоположный берег её был сплошь покрыт кустами и тонкоствольными деревцами. Дальше шёл кедровый стланик, затем снова кусты и трава, затем начинались сопки – камни и суглинок; на самом верху громоздились снежные шапки. Речка носила странное имя Дебин, деревья на её берегах назывались чосинии (или «чизеня», как величали местные). Геологи пришли сюда каких-нибудь десять лет назад и подивились удобному расположению долины и обилию ягод. Росли тут голубика и брусника – в изобилии. Так и прозвали всю эту долину – Ягодная, будто надеялись, что здесь будут добывать ягоду, закатывать её в бочки и отправлять на материк… Ничего подобного, к сожалению, не случилось. Ягоду заключённые и в глаза не видели. А на материк отправляли одно лишь золото – десятками тонн. Взамен оставляли в долине выпавшие зубы и волосы и даже целые скелеты с остатками гниющей плоти – тысячи, десятки тысяч скелетов обычных людей, вовсе не помышлявших ни о каком золоте, ни о какой Колыме, слыхом не слыхивавших этих чудных названий: Ягодное, Дебин, Хатыннах, Среднекан, чизеня и проч. Однако всё это стало для них не просто реальностью, а стало их второй жизнью – во всей её полноте и беспощадности. К этой жизни нужно было привыкать с первого же шага.
В Ягодном вновь прибывших, конечно же, не оставили. Тут были свои счастливцы, отбывавшие сроки в пересыльном лагере, избавленные от общих работ, держащиеся за свои места со всей страстью загнанного в угол человека. Тут же, за посёлком, в каких-нибудь шести километрах, была знаменитая на всю Колыму больница – Беличья (на сто с лишним коек). В этой больнице спасался от смертных золотых забоев Варлам Шаламов. Грузовик, на котором ехал Пётр Поликарпович, проехал мимо этой больницы, в километре от её ворот. За этими воротами находился будущий летописец Колымы, тридцатитрёхлетний и пока ещё никому не известный заключённый – высокий и страшно худой, шатающийся от слабости и ведущий отчаянную борьбу за свою жизнь. Шаламов многое мог бы рассказать Петру Поликарповичу о золотых приисках Хатыннаха, где он сам едва не погиб пару лет назад. Но встреча эта не состоялась. Жизнь гораздо прозаичнее художественного вымысла (и человеческих чаяний). Счастливые встречи и совпадения чрезвычайно редки в реальной жизни. В реальной жизни человек не спасается от смерти в последнюю секунду. Ему не дают единственно верного совета, когда совет этот жизненно необходим, ему не протягивают руку помощи, когда он молит о спасении. Земля без всякого намёка и предупреждения разверзается под ним, и он летит в бездну – под хохот окружающих. Даже если кто-то и не смеётся, то и не пытается спасти. Всем всё равно (за редчайшим исключением, как это было в случае с Шаламовым). Быть может, где-нибудь в другом месте и в другую эпоху всё было не так, или даже совсем иначе. Но на Колыме в эпоху Иосифа Виссарионовича Сталина всё обстояло таким вот неприглядным образом. А если бы дело обстояло по-другому, тогда на Колыме не погибло бы такое огромное количество ни в чём не повинных людей.
Итак, путь для всех вновь прибывших заключённых лежал дальше. В Ягодном этап разделили: одну машину отправили на прииск «Партизан», а другую – на прииск имени Водопьянова. Пётр Поликарпович оказался во второй машине. И хотя обе машины поехали дальше по одной дороге и сами прииски были не очень далеко друг от друга (сорок километров по прямой), но судьбы заключённых с этой минуты разошлись раз и навсегда. Никто больше не слыхал о тех, кто ехал в другом грузовике. Да никто особо и не интересовался. Каждый сражался в одиночку – за свою единственную и неповторимую жизнь. На эту борьбу уходили все силы.
Сразу за посёлком машина, в которой ехал Пётр Поликарпович, свернула с Колымской трассы направо и поехала на север. Дорога едва заметно поднималась в гору, пока, через пять километров, вдруг не стала петлять. Подъём стал заметно круче. Скорость упала, мотор натужно ревел. Слева был поросший низкорослым густым лесом склон горы, а справа открывался крутой спуск в глубокую долину, на самом дне которой вилась небольшая речка. Уклон всё возрастал, машина газовала из последних сил, и казалось, вот-вот остановится. Заключённые с беспокойством оглядывались. Самое время было выпрыгнуть из кузова. Но конвойные спокойно сидели на своих местах. Видно, им всё это было не впервой.
И точно, через несколько минут грузовик одолел крутой подъём, сделал очередную петлю и, вырвавшись на простор, стал набирать ход. Справа всё так же было глубокое, окинутое тенью ущелье, а слева высился крутой, поросший лиственницей склон. Пётр Поликарпович невольно залюбовался открывшимся видом. Горы здесь были крупнее, чем возле Магадана. Всё тут было строже, суровее. Гористая местность простиралась на сотни километров, вершины гор казались сахарными, а от разделявших их ложбин веяло холодом и какой-то неизбывностью. Картина была жуткая и чарующая в одно время. Если б не конвой, не мрачно поблёскивающие винтовки, не злые лица – можно было залюбоваться этими дикими просторами, восхититься этой мощью и беспредельностью. Машина рвалась вперёд, ледяной ветер неистово рвал брезент. Горная цепь уплывала вправо и назад. Ещё один поворот, и машина выехала на равнину. Сразу сделалось холоднее, все это почувствовали и стали кутаться. Но ехать было уже недалеко. Через несколько километров дорога пошла под уклон, потом вдруг завернула влево, потом вправо, потом опять влево… – началась знаменитая «Серпантинка» – дорога, давшая название одному из самых жутких колымских лагерей. Мимо этого лагеря проезжали все этапы, идущие на Хатыннах – на его многочисленные прииски. Никто из проезжающих не знал, что каждую ночь здесь расстреливают людей – десятками, а иногда и сотнями зараз. Хоронили их тут же, в длинном глубоком овраге. Людей выстраивали в шеренгу на откосе, потом в них стреляли, и люди падали вниз (где уже лежали под тонким слоем их товарищи); упавших присыпали сверху тонким слоем земли, приготовляя место для следующей партии казнимых. Вся толща земли в этом овраге на несколько десятков метров была утрамбована человеческими телами. Однако со стороны этого нельзя было заметить. Ни тогда, ни полвека спустя эти братские могилы нельзя было разглядеть; земля надёжно укрывала следы кровавых расправ.
Проехал мимо «Серпантинки» и Пётр Поликарпович. Взгляд равнодушно скользнул по двум деревянным вышкам, мелькнувшим слева, в двухстах метрах от дороги. Вышек этих он видел вдоль Колымской трассы бессчётное число раз, и все они походили одна на другую. Одной больше, одной меньше – какая разница?
До Хатыннаха было уже недалеко – каких-нибудь три километра. Машина спустилась в долину, переехала небольшой деревянный мост через речку и поехала направо вдоль песчаного берега Хатыннаха – реки, давшей название и посёлку, и всей этой огромной долине, протянувшейся на сорок километров, а в ширину достигавшей десяти километров. Вся эта площадь была густо усеяна лагерями, потому что в двадцать восьмом году доблестные советские геологи нашли здесь богатейшие россыпи промышленного золота. Посёлок Хатыннах стоял посреди золотоносных песков, которые, впрочем, снаружи ничем не отличались от песков обычных (песками здесь называли любой грунт, даже и такой, в котором собственно песка не было вовсе). Заключённые с недоумением глядели на неглубокую речушку с её причудливыми извивами, на бурую растительность на её берегах и жёлтые отвалы земли, на белёсые камни и сухую глину на дороге, поднимали взгляд на цепочку гор, словно бы охранявшую долину от злых духов. Чувствовалось как-то сразу, что это был своего рода «затерянный мир» – со своим воздухом, со своими запахами и со своим особенным небом.
Машина остановилась посреди посёлка. Заключённым приказали сидеть в кузове и не высовываться. Сопровождающий вылез из кабины и пошёл быстрым шагом к двухэтажному каменному зданию казённого вида. Часовой на входе проверил у него документы, потом пропустил внутрь. Полчаса спустя лейтенант вернулся к машине, что-то сказал шофёру, кивнул конвоирам, и машина тронулась. Лейтенант остался стоять на дороге.
Все думали, что ехать придётся долго, но через пять минут машина затормозила. Конвоиры сорвали с кузова брезент.
– Вых-ходи! – прозвучала команда.
Заключённые стали вразнобой прыгать на землю. К ним уже шли от лагерных ворот двое военных. Над воротами висел знакомый лозунг: «Труд в СССР – дело чести, доблести и геройства».
– От работы кони дохнут! – хмыкнул кто-то из заключённых.
Заключённых построили в колонну и сделали перекличку. После чего повели к воротам. Пётр Поликарпович прошёл под лозунгом, чувствуя нарастающую тревогу. Впереди виднелись приземистые чёрные бараки, все они казались нежилыми. На самом деле в бараках спала ночная смена. Работа на прииске была организована предельно просто и эффективно – никаких выходных и никаких простоев. Заключённые работали в две смены, по двенадцать часов, сменяя друг друга, – в любую погоду и в любое время года. Пока одни кайлили грунт, другие занимали опустевшие бараки (и наоборот). Золота в земле было много. Лагерное начальство торопилось его взять и получить положенные награды и повышение по службе. С начальства спрашивали только план – требовали тонны благородного металла. Сколько при этом погибнет заключённых, в каких условиях они живут и каковы их человеческие потребности – об этом у начальства голова не болела, потому что для начальства всё это было третьестепенным делом. За гибель людей никого не наказывали. А вот за невыполнение плана наказывали всех, начиная с начальника лагеря и заканчивая последним доходягой. Начальник писал отчёты и объяснительные и рисковал не только погонами, но и своей головой, а доходяги расплачивались своими рёбрами и выбитыми зубами (потому что больше с них нечего было взять). Выполнение плана достигалось предельно просто: заключённых нещадно били, лишали пищи, сажали в ледяной карцер, тащили на работу на специальных волокушах, влекомых лошадьми; иных расстреливали – для острастки, стало быть (благо «Серпантинка» была неподалёку). Впрочем, неизвестно, что было хуже – медленная смерть от голода и побоев или мгновенная пуля в затылок. Многие заключённые считали, что последнее было гораздо гуманнее и легче.
Все прибывшие ждали баню и санобработку. Но тут были свои порядки. Новичкам выдали кайла и лопаты и повели не в барак и не в столовую, а в разрез, где с восьми утра трудилась дневная смена. Разрез находился в полукилометре от лагеря, на берегу Хатыннаха. В огромной глубокой яме овальной формы копошилось множество людей. По глинистому дну были проложены деревянные мостки, заключённые катили тачки с грунтом по этим мосткам, высыпали содержимое в стоящий наверху большой деревянный короб; внутри бутары (так назывался короб) работали двое заключённых – они сваливали грунт лопатами в округлое отверстие – прямо на движущуюся внизу ленту, которая доставляла грунт наверх, к промывочному прибору. Пётр Поликарпович впервые видел столь странную конструкцию: что-то вроде детской деревянной горки для катания на санках. Только горка была высотой с пятиэтажный дом и имела два длинных пологих спуска. То есть спуск был один, а другой служил для подъёма. Наверх поднималась золотоносная порода (из бутары), и вниз спускалась она же, только на её пути были разные преграды и фильтры – земля и камни последовательно отделялись от крупиц золота. Все эти премудрости были неведомы Петру Поликарповичу. Но ему и не надо было всего этого знать – на то были другие умельцы и знатоки. Его поставили среди тех, кто наполнял тачки золотоносной рудой – на самом дне разреза. Лопата была совковая, с длинной неудобной ручкой. Но Пётр Поликарпович умел обращаться с этим нехитрым инструментом и, поплевав на ладони, энергично принялся за работу. Его появление не вызвало никакой реакции у соседей, будто он всегда тут был. Никто даже не повернул головы. Все мерно захватывали лопатами каменистый грунт и кидали его в деревянные тачки, наполняя их до краёв. Пётр Поликарпович с уважением посмотрел на тех, кто возил эти тяжёлые и неудобные конструкции вверх по трапу. Веса в них было поболе центнера.
Первый час работа спорилась. Пётр Поликарпович разогрелся и даже повеселел. Ничего! Не так страшен чёрт, как его малюют. К тому же наступило время обеда. Против ожидания, заключённых не погнали в столовую, а стали раздавать кашу в мисках тут же, в карьере. Дали такую миску и Петру Поликарповичу. Усевшись на камень, он стал неспешно поглощать водянистое варево, незаметно оглядывая окружающих. Все ели торопливо, не глядя по сторонам. В эти же миски наливали жидкий несладкий чай и давали всем по пирожку с картошкой.
На всё про всё ушло меньше десяти минут. Ещё минут пять отдыхали, растянувшись на земле, а потом где-то наверху ударили в рельс, все подняли с земли лопаты, взялись за тачки – и работа продолжилась. Такая спешка не понравилась Петру Поликарповичу, но он ничем не выдал своего неудовольствия. Нужно было работать не хуже других. Ведь он решил делом доказать свою лояльность советской власти, ударным трудом искупить вину (пускай и несуществующую). Пусть его считают врагом – это не главное. Главное – работать не хуже других. И тогда все оценят его старание, его терпение и мужество.
Однако всё оказалось не так просто. К вечеру на ладонях появились волдыри, а спина почти уже не разгибалась. Лопата не держалась в ослабевших пальцах, в голове шумело. Пётр Поликарпович с тоской поглядывал на товарищей, без устали махавших лопатами. Иногда они менялись: те, что катали тачки, брали в руки лопаты, а рудокопы катали тачки к бутаре. Но к Петру Поликарповичу никто не подходил, не предлагал поменяться. Лишь бригадир – задумчивый белобрысый мужик деревенского вида – изредка бросал на него косые взгляды и тут же отворачивался. Он и сам не стоял на месте, работал наравне со всеми.
Уже смеркалось, когда в разрез спустилась вторая смена. Пётр Поликарпович с облегчением положил лопату на землю и пошёл вслед за всеми наверх. Дальше всё было как обычно: озлобленный конвой, бестолковое построение и перекличка хриплыми голосами; бригада наконец двинулась в лагерь. Пётр Поликарпович чувствовал странное раздвоение: он точно знал, что сегодня утром приехал в этот лагерь на грузовике, и в то же время ему казалось, что он уже давно тут находится. Вот сейчас они придут в столовую, сядут за липкие столы и будут жевать безвкусную кашу. Потом двинутся в барак, лягут на нары и провалятся в сон, как в яму. Словно и не уезжал из магаданской пересылки. Те же бараки, такие же бушлаты и телогрейки, та же печать отрешённости на измученных лицах.
Вечером уже, после ужина, бригадир подвёл его к вагонке и сказал, положив руку на верхние нары:
– Вот твоё место. Подъём в шесть. Вставай сразу по команде. Делай то же, что и все. Понял? – И он поднял блеклые глаза на Петра Поликарповича. По взгляду этому нельзя было сказать: добр он или зол, умён или глуп. Глаза ничего не выражали. Они таили в себе пустоту.
Пётр Поликарпович на всякий случай кивнул:
– Да, я всё понял. – И тут же спросил: – Тебя как зовут? Есть тут зачёты рабочих дней?
Бригадир уже повернулся уходить, но остановился, глянул сбоку.
– Зачётов тут нет. А зовут меня Лёхой. Фамилия Зимин. Статья пятьдесят восемь, пункт десять. Будут ещё вопросы?
Пётр Поликарпович отрицательно мотнул головой. Хотя вопросов было множество: почему нет зачётов; есть ли тут больница; какова продолжительность рабочего дня; какие нормы питания, когда будет баня и где взять рукавицы для работы. Но он посчитал нескромным так вот сразу обрушивать на бригадира столько тем. Есть ведь и другие люди, можно у них узнать ещё вернее.
Он взобрался наверх шконки и увидел на соседнем лежаке русоволосого мужчину крепкого сложения. Тот смотрел на него в упор. Лицо было скуластое и серьёзное, но не злое.
– Здравствуйте, – сказал Пётр Поликарпович. – Соседями теперь будем.
Мужчина коротко кивнул.
– Устраивайся. Наверху-то оно теплее. Сейчас пока ещё ничего, а как морозы придут, так все наверх полезут. Ещё и драться будут за места.
Пётр Поликарпович насторожился.
– А что, холодно тут бывает?
Мужчина криво улыбнулся.
– Да уж не жарко. Прошлую зиму я был на Сусумане, так там три недели минус пятьдесят пять держалось. В марте ещё стояли морозы за сорок. А тут нисколько не теплее. Так-то, браток.
Пётр Поликарпович помнил по своей деревне сорокапятиградусные морозы, как мгновенно прихватывало щёки, а вздохнуть было невозможно – воздух обжигал лёгкие, будто наждачной бумагой водили изнутри. Пробежаться по околице в шубе и в валенках по такому морозу ещё можно было, а целый день пробыть на улице не было никакой возможности. Это он знал твёрдо. И все односельчане это знали. В лютые морозы все сидели по избам и целый день топили печи берёзовыми дровами. Лепили пельмени всей семьёй, сидя за круглым столом, ставили кипятиться пузатый самовар, смотрели сквозь замёрзшее стекло на заснеженную улицу и радовались, что в доме тепло и уют, пельмени и квашеная капуста.
– Послушай, как тебя зовут? – обратился он к соседу.
– Дмитрием родители прозвали.
– Дмитрий, значит. Хорошо. А скажи-ка, когда сильный мороз, вы ведь не работаете? Мне говорили, что когда за пятьдесят, на работу не выгоняют. Потому что не положено.
Сосед вдруг оживился, приподнялся на локте.
– А это уж как начальник решит. Надо будет – и в шестьдесят градусов отправит в забой, и будешь всю смену вкалывать, пока не околеешь. Бывали такие случаи! Конвою-то чего – разожгут костры и греются весь день да меняются каждые два часа, а ты паши как проклятый – одно спасенье. А не то замёрзнешь… – И он добавил крепкое словцо, которое тут было очень кстати.
Пётр Поликарпович судорожно сглотнул.
– И что же, приходилось тебе в такой мороз вкалывать?
Сосед помрачнел.
– Приходилось. И тебе придётся. Не сомневайся. Зима тут длинная! На всех хватит. А станешь отказываться – ещё хуже будет. На Штурмовом прошлую зиму такую штуку откалывали: всех отказчиков загоняли в бревенчатый сруб без окон и с одной дверью, потом дверь запирали на амбарный замок, а сруб ставили на сани и отвозили на тракторе в тайгу за несколько километров и там оставляли. Через сутки сруб привозили обратно, замёрзшие тела выбрасывали, а внутрь загоняли следующую партию. Так и жили цельную зиму. Зато работали как черти, боялись, что в тайгу увезут. А тут начальник вроде ничего, шибко не злобствует. Хотя законы везде одинаковы. За три невыхода – расстрел. Так что ты сам смотри. Будешь волынить – отправят на Луну.
Больше Пётр Поликарпович ни о чём не спрашивал. Да и сил не было долго говорить. Он уронил голову на доски и сразу же уснул тяжёлым сном наработавшегося за день человека.
Кажется, только закрыл глаза – и уже орут подъём. Голова раскалывается от страшной боли, всё тело как неживое, и нет сил пошевелиться. Но все вокруг поднимаются, прыгают на пол и уже топчутся в проходе. Спины раскачиваются в полутьме, никто ни с кем не разговаривает, только вдруг зарычит кто-то среди толпы, произойдёт сумбур, толкотня, неловкая драка с воплями и тумаками, и тут же всё стихнет, снова качаются спины, бригада идёт из барака вон.
Превозмогая себя, Пётр Поликарпович спустился на пол. Он спал в телогрейке и в ботинках; так и пошёл вслед за всеми.
Это первое утро на прииске запомнилось ему надолго. Всё было в диковинку: довольно крепкий мороз и выпавший ночью снег; низкое мутное небо, пронизывающий ветер. Пейзаж вокруг был зловещий, какой-то нечеловеческий. Всё вокруг казалось придавленным невидимой дланью. Это было забытое Богом место, проклятая земля! Пётр Поликарпович поспешно опустил глаза. В груди болезненно заныло. Как же тут выдержать четыре года? Ещё зима не наступила, осень только началась, а уже так холодно и бесприютно. Что же будет, когда придут настоящие морозы?
Опустив голову, он брёл в колонне, стараясь не думать о том, что будет дальше. Жить одной минутой – вот спасение для заключённого! Не заглядывать далее сегодняшнего дня. А иначе – сойдёшь с ума или бросишься с кручи вниз головой.
Когда они уже были в разрезе, к Петру Поликарповичу подошёл бригадир.
– Будешь работать в паре с откатчиком, – произнёс, глядя исподлобья. – Норма на двоих – двадцать кубов. Если не выполните, оба у меня сядете на штрафпаёк. Я за вами следить буду. – И пошёл прочь, не дожидаясь ответа.
Стоявший рядом заключённый – невысокий щуплый парень – смачно сплюнул и выругался.
– Вот же, б…, наградили меня напарничком. Я-то почему должен за тебя отдуваться? – И он со злостью посмотрел на Петра Поликарповича.
– Да ты не кипятись, – ответил тот. – Я работать умею, не впервой.
– Ага, умеет он, – скривился парень. – Видел я вчера, как ты умеешь. В общем, смотри, будешь филонить, я тебя вот этим вот кайлом приголублю, понял? Я из-за тебя подыхать не хочу.
Пётр Поликарпович кивнул:
– Ладно. Хватит трепаться. Давай работать.
Парень взял пустую тачку и подкатил к куче мёрзлого песка.
– Объясняю первый и последний раз, – сказал внушительно. – В эту тачку входит одна десятая куба. Нам на двоих нужно загрузить и перевезти в бутару двадцать кубов, это двести тачек. Сечёшь?
Пётр Поликарпович снова кивнул.
Парень продолжил:
– Работаем так: сначала ты накидываешь, а я катаю. Потом меняемся. Ты мне наваливай тачку с горбом, а я тебе пока буду накидывать неполную, чтоб не скопытился с непривычки. Откатка тут не очень далёкая, но катить нужно в гору. Главное, держи колесо на доске. Вильнёшь в сторону – и улетишь на фиг. Что рассыпешь – голыми руками будешь собирать. Там наверху нарядчик стоит с арматурным прутом. Гляди, чтобы не перетянул тебя по хребту. Спиной к нему лучше не поворачивайся. Тут от него уже пострадали двое, под сопкой оба лежат. Смотри, я тебя предупредил.
После таких речей Петру Поликарповичу ничего не оставалось, кроме как накинуться на работу. Он взялся за лопату и стал энергично кидать грунт в тачку. Ладони саднило от вчерашних мозолей, спина не гнулась, дышалось тяжело, но он терпел и всё кидал и кидал тяжёлые смёрзшиеся куски в прямоугольный зев тачки, пока не заполнил весь объём.
– Хорош, – остановил парень. – Смотри, как я делаю. Сначала приподнимаешь за ручки, но не шибко высоко, а слегка, только чтобы от земли оторвать; потом упираешься в землю ногами и наклоняешься всем телом вперёд; толкать нужно прямо перед собой, и смотри держи равновесие!
Пётр Поликарпович внимательно смотрел, как парень сноровисто взялся за деревянные ручки, приподнял сантиметров на пять, резко наклонился вперёд и толкнул тачку; та словно бы нехотя сдвинулась и покатилась, доска под ней гнулась и трещала.
– Наваливай вторую, пока я обернусь! – крикнул парень.
Пётр Поликарпович отёр рукавом телогрейки взмокший лоб и перехватил поудобнее лопату.
Первые десять тачек промелькнули как в калейдоскопе. Но потом дело внезапно осложнилось. Песок закончился, кидать стало нечего.
– Бери кайло и руби скальник, – сказал парень, быстро оценив обстановку. – Тут порода мягкая, хорошо пойдёт.
Пётр Поликарпович недоверчиво глянул на округлую выемку в вертикальной скале.
– Так это ж долго будет, – произнёс неуверенно. – Не успеем норму сделать.
– А ты как думал? Если не кайлить, так любой дурак справится. А ты попробуй сначала раздолби эти кубики, а потом уж вози! Давай не филонь. Обед уже скоро.
Пётр Поликарпович поднял с земли железное кайло с деревянной ручкой. Ручка была короткая, круглая, занозистая, а кайло – чуть изогнутое, похожее на клюв ворона. Весу в нём было килограмма три.
Неуверенно размахнувшись, Пётр Поликарпович воткнул кайло в песчаный откос.
– Ты чё, дурак? – воскликнул парень чуть не с восторгом. – Ты бей под камень, выворачивай его из земли. А песочек можно и лопатой взять. Смотри, как это делается!
Схватив другое кайло, он стал прицельно бить под округлый камень, выпирающий из стены. Несколько ударов, уверенный зацеп железным клювом, и камень вывалился на землю.
– А теперь лопатой шуруй! – сказал парень, опуская кайло и выпрямляясь. – Давай-давай, не стой. Время не ждёт.
Пётр Поликарпович несколько раз с силой ткнул лопатой в стену, но всё безуспешно. Лопата лишь высекала искры и отскакивала.
– Да-а-а, – протянул парень. – Так мы с тобой далеко не уедем.
Он поплевал на ладони и взялся за кайло.
– Отойди-ка!
Через пять минут у его ног образовалась приличная куча.
– Ну чего стоишь, бери лопату и закидывай в тачку! – крикнул парень, продолжая энергично махать кайлом.
Пётр Поликарпович подивился такой силе в тщедушном теле. Мелькнула мысль: стоило ли так надрываться ради усиленного пайка?
Но он ещё не знал, что это такое – штрафной паёк. Каково это – когда не только бригадир, но и вся бригада презирает тебя, обзывает филоном, а каждый второй норовит дать подзатыльник. Когда повар на раздатке с отвращением швыряет тебе миску, а дневальный замахивается палкой всякий раз, когда проходишь мимо. Всего этого Пётр Поликарпович пока ещё не испробовал, но глухая тревога уже шевелилась в душе. Все вокруг работали как черти, не поднимая головы и невзирая ни на холод, ни на усталость. «Видно, тут так принято», – подумал Пётр Поликарпович. Взял лопату и принялся накидывать грунт в тачку.
Когда тачка была полна, парень кивнул:
– А теперь кати её наверх.
Пётр Поликарпович помедлил секунду, потом взялся за деревянные ручки, попробовал приподнять. Едва-едва оторвал тачку от земли и сразу едва не опрокинул. Казалось невозможным сдвинуть её с места. Парень бросил кайло и быстро подошёл. Взял лопату и выкинул из тачки излишек грунта.
– Давай пробуй. Я за тебя жилы рвать не собираюсь.
Пётр Поликарпович поднатужился и поднял-таки тачку, качнул пару раз и сдвинул с места. С неимоверными усилиями прокатил несколько метров по доске и выехал на центральный трап. Тут же на него заорали сзади:
– Ходу!
Он оглянулся – и не удержал тяжёлый груз, тачка завалилась на левую сторону, почти весь грунт высыпался на землю.
Тут же подскочил десятник с перекошенным лицом.
– Эх ты, раззява! Чего стоишь, болван, собирай быстро, пока я тебе в глотку этот песок не затолкал!
Пётр Поликарпович стал торопливо собирать вывалившийся грунт голыми руками. Дело шло очень медленно, тачка никак не наполнялась.
Десятник стоял рядом, ударяя в левую ладонь железной арматуриной. По лицу его скользила кривоватая ухмылка. Не понять было, радуется он или щерится от злости. Пётр Поликарпович изредка бросал на него взгляды через плечо, памятуя о предупреждении напарника.
Через пятнадцать минут он собрал весь грунт и, напрягая все силы, покатил тачку к бутаре. Этот промах научил его многому. Он понял, что ни на сантиметр нельзя нарушать равновесие: если тачку повело вбок, то уже не удержишь. И ещё он понял, что нужно выбирать такой момент, когда по трапу никто не бежит. Он видел, как здоровущие тачечники попросту сшибали с трапа замешкавшихся товарищей, не желая ждать, когда те посторонятся. Всё это он принял как данность, с которой придётся жить. А ещё он с ужасом ощутил свою слабость. Все эти заключённые, высокие и низкие, жилистые и неказистые, были сильнее его. Он был тут самым слабым, и ощущение собственного бессилия поразило его в самое сердце. Он вдруг понял, что ни интеллект, ни образование, ни широта души тут ничего не значат. Ценилась одна лишь физическая сила. Выносливость животного, бесчувственность носорога – вот что было в почёте, служило мерилом нравственности. Будь он моложе лет на двадцать, он бы всё превозмог, научился, приспособился. А что ж теперь?
Но рассуждать было некогда. Остановиться было нельзя. Задумчивый вид был здесь невозможен. Пётр Поликарпович высыпал грунт в деревянный короб и покатил ставшую вдруг невесомой тачку вниз по запасному трапу.
Он хотел снова взять лопату, но парень не позволил.
– Катай пока тачку, приноравливайся. Полную не насыпай. Сегодня уж как-нибудь обойдёмся. А завтра будешь возить полную.
И ещё два часа Пётр Поликарпович возил на бутару золотоносный песок. Каждый шаг давался с неимоверным трудом. Казалось, что это последний рейс, больше он не сделает и шага. Но в забое его уже ждала новая тачка с песком, и он молча брался за неудобные ручки. Парень смотрел на его усилия неодобрительно, но помалкивал. Может, из уважения к возрасту, а может, вспомнил, как сам он тут работал первые дни. Так и дотянули они до обеденного перерыва. Пётр Поликарпович, шатаясь от слабости, поднялся на пригорок и без сил опустился на холодный камень. Все вокруг торопились получить свою порцию каши, ревниво заглядывали в миски соседей, глотали водянистое варево и поминутно оглядывались, будто ждали нападения разом со всех сторон. Пётр Поликарпович вовсе не чувствовал голода, его подташнивало и клонило к земле. Он со страхом думал о том, как будет работать дальше. Сил уже не осталось, от одного вида тачки его мутило.
– А ты чего не жрёшь? – вдруг услышал он из-за спины. Обернувшись, увидел своего напарника. Тот держал в одной руке миску, а в другой горбушку хлеба. – Иди скорей за пайкой, пока не уехали. – Он кивнул на стоявших поодаль раздатчиков в грязных фартуках.
Пётр Поликарпович поднялся.
– Да, я сейчас…
Через несколько минут он подходил к раздатчикам. Один из них – здоровый лоб – смерил его взглядом.
– А тебе что, особое приглашение надо? В следующий раз опоздаешь – будешь лапу сосать у медведя! – Он захохотал во весь рот, сверкая стальными фиксами. Отсмеявшись, шмякнул в миску черпак каши. – На, шамай, пока я добрый.
Пётр Поликарпович взял миску и хлеб, отошёл в сторону. Ложки ему не дали, и кашу он отхлёбывал через бортик, увидев, как это делают другие. Каша была чуть тёплая, жидкая и совершенно безвкусная. Кое-как проглотив это варево, он вернул миску и пошёл обратно в забой. Напарник уже держал в руке лопату, приготовившись кидать грунт.
– Ну что, успел похавать? – спросил.
– Успел, – кивнул Пётр Поликарпович.
– Вот и ладно. Бери кайло и долби потихоньку. А я покидаю.
Пётр Поликарпович поднял с земли кайло и шагнул к отвесной выемке. В это время ударили в рельс. Обед закончился.
Дальнейшее было как во сне. Пётр Поликарпович так и эдак ударял кайлом в отвесную стену. Кайло то вонзалось в грунт, то отскакивало от камня и летело вниз. Раза два он заехал себе кайлом по ноге, до крови содрал ладони о корявую рукоять и поминутно отирал пот со лба и щёк. Кажется, время остановилось, а проклятой работе не будет конца. Он забыл обо всём, видел лишь бугристую стену перед собой и слышал резкий режущий звук лопаты, вонзающейся в песок. Напарник споро набрасывал полную тачку и увозил её прочь. Через несколько минут возвращался и брался за лопату. А Пётр Поликарпович орудовал кайлом, которое становилось всё тяжелее. Во рту пересохло, перед глазами стоял туман, и он уже не понимал, что делает. В какой-то момент почувствовал руку на плече и оглянулся.
– Отдохни чуток, – сказал парень, – а то с копыт упадёшь.
Пётр Поликарпович опустил кайло, подержал его в подрагивающих руках и словно бы нехотя бросил себе под ноги. Кайло глухо стукнулось о землю.
Парень всё смотрел на него.
– Скажу бригадиру, чтоб перевели тебя на другой участок, – произнёс раздумчиво. – Тут ты не работник. И я из-за тебя ноги протяну.
Пётр Поликарпович слышал эти слова, но никак не мог вникнуть в их смысл. Понял лишь, что им недовольны. Он и сам понимал, что работник он никудышный. Там, в Магадане, тоже было тяжело, а порой мучительно, но то, что было здесь, не шло ни в какое сравнение с работой на Колымской трассе. Там можно было иногда останавливаться и работать не в полную силу, а здесь нельзя было стоять ни секунды. Там была обычная лопата и нормальные «человеческие» носилки. Здесь же, кроме тяжеленной лопаты, было страшно неудобное кайло и неподъёмная тачка, которую нужно было катать двенадцать часов кряду. К концу смены они с напарником едва набрали половину нормы. Виноват в этом был Пётр Поликарпович, о чём напарник поминутно напоминал, обещая никогда больше не вставать в пару с таким филоном.
Кое-как дотащившись до барака, Пётр Поликарпович рухнул на нары и сразу забылся тяжёлым сном животного, загнанного до полусмерти.
И снова было тяжкое пробуждение, словно он восставал из мёртвых. Кто-то орал ему в ухо, тормошил и дёргал за рукав, потом посыпались удары, от которых он (как ему казалось) уворачивался, но на самом деле голова его безвольно моталась по доскам, а сам он походил на тряпичную куклу. Наконец его сбросили с лежака, и он сверзился на пол с полутораметровой высоты. Опора вдруг ушла из-под него, он ощутил щемящее чувство полёта, инстинктивно весь сжался и вдруг грохнулся оземь; всё тело прошила судорога, в голове ослепительно взорвалось, он вскрикнул от боли и широко раскрыл глаза.
– Поднимите его, – приказал кто-то.
Пётр Поликарпович почувствовал, как его берут под руки и поднимают. Поставили на ноги и крепко встряхнули.
– Ну же, стой прямо, тебе говорят!
Пётр Поликарпович поднял голову и словно в радужной дымке разглядел приземистого человека с волчьими глазами.
– Будешь работать? – спросил тот.
Пётр Поликарпович стоял, крепко сжав челюсти. Человек вдруг сделал шаг и как-то странно дёрнулся. В ту же секунду голова Петра Поликарповича откинулась от сильного удара. Во рту стало горячо. Он провёл языком по сломанным зубам и выплюнул кровавое крошево на пол.
– Последний раз спрашиваю: будешь работать, гад? – последовал новый вопрос.
Пётр Поликарпович шатался как пьяный. Теперь он уже и не мог ничего ответить. Он не чувствовал ни губ, ни языка. Рот быстро наполнялся кровью, которую нужно было глотать, чтобы не захлебнуться.
Человек замахнулся, и Пётр Поликарпович упал на спину, крепко ударился затылком о доски и потерял сознание. Спасительная тьма хлынула в мозг. И это было для него действительным спасением. Удостоверившись, что он в «полной отключке», бригадир с дневальным отступились. Послали за местным лепилой, а вся бригада отправилась в столовую, а потом на работу – делать то же, что вчера, и позавчера, и месяц назад. Эту смертельную карусель ничто не могло остановить.
Фельдшер – высокий худой дядька со злым лицом – пришёл быстро. Наклонившись, долго всматривался в лежащего на полу человека. Потом выпрямился и изрёк:
– В стационар.
Дневальный тут же запротестовал:
– Да ты что, начальник, какой стационар? Он же ничем не болен, обычный филон. Получил по морде пару раз от бригадира, поделом ему!
Фельдшер посмотрел на него в упор.
– Ты хочешь, чтоб он тут дуба нарезал? Он сейчас кровью изойдёт, а на тебя дело заведут, срок добавят.
– Я-то тут при чём? – опешил дневальный. – Я его пальцем не тронул.
– Ты не позволил оказать ему медицинскую помощь. Я в рапорте так и напишу, а там уж пусть с тобой кум разбирается.
Дневальный сплюнул с досады.
– Чёрт с тобой, забирай. Только бумажку мне напиши, а то с меня спросят.
– Будет тебе бумажка, – заверил фельдшер и стал осматриваться. – Это кто там у тебя в углу ошивается?
Дневальный осклабился.
– Там Зюзя со своими шестёрками. К ним лучше не соваться. Сам знаешь, поди.
Фельдшер кивнул.
– Знаю. Ты вот что, поди скажи Зюзе, чтобы пару человек мне прислал. Этого доходягу нужно отнести в больничку. Или ты сам понесёшь?
– Я-то скажу Зюзе, – нехотя молвил дневальный. – Только смотри, он меня пошлёт куда подальше. С него станется.
– Не пошлёт. Скажи, что я попросил. Потом рассчитаемся.
Дневальный помедлил секунду, потом направился в дальний угол.
Пётр Поликарпович не слышал этого диалога. Не чувствовал, как его подхватили за руки и за ноги, положили на носилки, а потом несли, раскачивая, по зоне. Втащили в процедурную и перебросили на деревянный стол, накрытый грязной клеёнкой.
– Всё, начальничек, мы пошли.
Двое заключённых с серыми, словно бы стёртыми лицами развязной походкой почапали из процедурной. Фельдшер подождал, пока они уберутся, глянул в окно и задёрнул занавеску. За два года своей практики он много видел выбитых зубов, сломанных костей, вытекших глаз, вспоротых животов. Но всё никак не мог привыкнуть к этим бессмысленным избиениям ослабевших от голода, абсолютно беззащитных людей. Поделать он тут ничего не мог – ни предотвратить всю эту жестокость, ни вернуть искалеченным людям здоровье, вставить выбитые зубы. Из лекарств у него была одна лишь марганцовка, а всё лечение сводилось к простейшей антисептике и полному отдыху больного, во время которого организм восстанавливал себя сам. Или не восстанавливал. В таком случае больной отдавал душу Богу. Его переносили в холодный пристрой и бросали на земляной пол. Когда трупы уже некуда было складывать, их увозили на грузовике к ближайшей сопке, где сваливали в большую уродливую яму, а потом закидывали камнями и снегом. В официальных бумагах указывали вполне приличную причину смерти каждому умершему: «Рак желудка», «Двусторонняя пневмония», «Инфаркт» или что-нибудь подобное. Истинную причину – дистрофию, пеллагру, обморожение или избиение с ломанием черепа и костей – указать было нельзя. Если десятник в припадке бешенства прибьёт железным прутом какого-нибудь доходягу – не подводить же этого десятника под расстрел (где ж столько десятников набрать)! И когда блатные, куражась, режут в бараках «контриков» и «террористов» – не расстреливать же их за все эти проказы! Десятники заботятся о выполнении плана по добыче золота (это нужно понимать и ценить), а урки помогают держать в узде всю эту ораву вредителей и смутьянов, мягколобых интеллигентов-путаников, помогая тем самым администрации в её отчаянных усилиях по перевоспитанию всех этих отбросов. Все фельдшера, все лагерные лепилы должны были участвовать в этом грандиозном сокрытии правды. А если бы кто-то воспротивился, то разделил бы участь мертвецов – место в братской могиле ему бы нашлось.
Осознание соучастия в этом неправедном деле, чувство собственного бессилия и вины – сопровождало каждый шаг, любую мысль долговязого фельдшера. За непроницаемым лицом скрывалась живая, отзывчивая душа, в которой шла беспрестанная борьба между инстинктом жизни и врождённой совестливостью. Пойти на смерть он не мог себя заставить. Да и что бы это изменило? Тут же его место займёт какое-нибудь мурло вовсе без медицинского образования, без искры сострадания, без проблеска какой угодно мысли. Таких деятелей он уже видал – на «Партизане» и на «Аркагале». Доходяг они не лечили, а всё своё старание употребляли на ублажение воров – давали им больничный отдых, выписывали горячие уколы и усиленное питание. На прииске Водопьянова такое тоже происходило (вовсе без этого не обойтись). Но и обычные доходяги также имели шанс получить освобождение от работы, как этот вот старик… Фельдшер склонился над безвольно лежащим телом, прислушался к дыханию, потом выпрямился, покачал головой. С первого взгляда ему было ясно, что этот заключённый не переживёт зиму. Да и до зимы вряд ли дотянет. И это счастье его, если он умрёт быстро, не будет мучиться ещё несколько месяцев. Понимая всё это, фельдшер развёл в стеклянной чашке щепоть марганцовки и стал отирать марлей кровь с разбитых губ пациента.
Так он и жил все эти годы в лагере – думал одно, а делал совсем другое. Поэтому и приняло лицо непроницаемое выражение. Лишь глаза иногда словно бы вспыхивали, выдавая внутреннюю борьбу.
Пётр Поликарпович очнулся глубокой ночью. Сперва ничего не мог понять. Мелькали обрывки воспоминаний – он видел огромную железную тачку с камнями и песком, гнулся и скрипел под ногами деревянный настил, тяжёлое кайло вонзалось в осыпающуюся стену, в спину задувал ледяной ветер, тяжёлый каменный свод каждую секунду грозил обрушиться – всё это мешалось в какую-то какофонию, казалось кошмаром. Было ли это в действительности? Или это бред воспалённого воображения, судороги испуганной души?
Пётр Поликарпович приподнял голову, стал осматриваться в темноте. Он находился в маленькой комнатке с низким потолком и двумя крошечными оконцами по одной стене. Рядом, на трёх кроватях, лежали под одеялами какие-то люди. Сам он занимал четвёртую кровать у стены. Несколько секунд он всматривался в неподвижные тела, потом опустил голову на подушку, закрыл глаза. Это усилие отняло у него слишком много сил. Было ощущение чего-то непоправимого. Случилось в его жизни что-то страшное, но что это было – он никак не мог припомнить. И он лежал в этой тёмной комнате с голыми стенами, в Богом забытом краю, не сознавая себя, не помня ничего, без надежд, без чувств, даже и без жалости к самому себе. Вся его прошлая жизнь, весь его опыт, таланты, преданность, усердие и мечты – ничего не значили. Всё это осталось в прошлом, возврата к которому не было, как бы всё это происходило в другую эпоху, в другой вселенной, с другим человеком. Тот человек был ненастоящий Пётр Поликарпович, все его заслуги были фальшивыми. Настоящий Пётр Поликарпович – вот он, здесь! – жалкий, раздавленный жизнью человек, неспособный к сопротивлению, не стоящий даже той постели, на которой лежит. В голове его билось назойливо: «Тварь дрожащая… тварь дрожащая… тварь дрожащая…» Он и был этой дрожащей тварью. А прав не имел никаких. Вот и решение всех на свете проблем! Всё очень просто. И чем проще – тем оно лучше. Грубая сила и принуждение – вот главный аргумент и доказательство – факт, с которым не поспоришь. Не нужно мучиться и ломать голову, делать умозаключения, искать оправдания и смыслы. Необходимо покориться, исполнить то, что от тебя требуют, а потом спокойно умереть. А можно умереть сразу, высказав таким образом протест против действительности. Но для этого нужны силы. А сил как раз и не было – ни душевных, ни физических.
Думать об всём этом было слишком тяжело. Пётр Поликарпович вытянулся, откинул голову, поворачивал её влево и вправо, стискивал челюсти и глухо мычал, пытаясь отделаться от жутких мыслей. Голова болела всё сильнее, тьма давила со всех сторон, он порывался вскочить и броситься вон из этой комнаты; ему казалось, что он встаёт и выходит в коридор, идёт к выходу, потом глухой тамбур, распахивается дверь – и вот он уже на свободе. Кругом ночь, ярко светит луна, по краям дороги недвижно стоят чёрные деревья; он бежит, не касаясь земли, мимо этих деревьев, всё дальше от страшной комнаты, от удушливой тьмы. Как хорошо на просторе! Как бездонно ночное небо и как ярко светит луна! Он дышит всей грудью и радуется этой свободе, этому восхитительному полёту в бесконечности сверкающих пространств. Ах, если б можно было раствориться в этих пространствах без остатка! Стать этим сиянием, слиться с беспредельностью, улететь к звёздам…
Пётр Поликарпович метался в бреду по растерзанной кровати, а губы шептали волшебные блоковские строчки – как панацею, как спасение от ненавистной действительности:
И под божественной улыбкой Уничтожаясь на лету, Ты полетишь, как камень зыбкий, В сияющую пустоту…В лагерной больничке Пётр Поликарпович пробыл целых три дня. Фельдшер удалил ему осколки раздробленных зубов и слегка подлечил разбитые в кровь дёсны. Челюсть оказалась цела, а сотрясение мозга тут не считалось серьёзной травмой. Мало ли кому дадут по морде, эка невидаль! Глаза на месте? Руки-ноги целы? Тогда марш в забой, нечего занимать койко-место! Фельдшер не должен был вообще забирать его в больницу, тем более – держать на койке столько времени. Но бригадир особо не настаивал на возвращении в бригаду такого работника. Он бы предпочёл вовсе от него избавиться. Но, к его огорчению, вечером третьего дня Пётр Поликарпович вернулся в барак, занял своё место на верхних нарах.
– Что, опять будешь филонить? – спросил бригадир, стоя возле вагонки и сумрачно глядя снизу на Петра Поликарповича.
– Я не филонил, – ответил тот. – Просто не мог подняться. Я очень устал, сил не было.
– Подняться он не мог, – усмехнулся бригадир. – Да тебя втроём поднимали, а ты упирался. За это и схлопотал.
Пётр Поликарпович посмотрел ему в лицо.
– Это вы мне зубы выбили. Зачем это? Я ведь не фашист какой-нибудь. Я в партизанах был, с Колчаком воевал. Я тебе в отцы гожусь, а ты руку на меня поднял.
Бригадир молча выслушал эту тираду. Подумал несколько секунд и ответил:
– С кем ты там воевал – это меня не интересует. Здесь ты должен работать, как все. Я не хочу из-за тебя идти в штрафной лагерь. Так что имей в виду: или ты выполняешь норму, или отправим тебя на Луну. А бить я тебя больше не буду, не боись. Руки не хочу пачкать. Будешь филонить – карцера отведаешь. Имей в виду.
Пётр Поликарпович лёг на спину, устремив в потолок невидящий взгляд. За три дня он отоспался, немного пришёл в себя. Хотя кормили в больнице очень скудно, но, как выяснилось, и этой малости было достаточно, лишь бы тебя не заставляли работать. Этой передышки ему хватило, чтобы ясно понять одну вещь: в этом лагере он умрёт, и случится это очень быстро. Ничего, кроме забоя и тачки, ему тут не светит. Махать кайлом по двенадцать часов в день, без выходных и перекуров, на скудном пайке – это была верная смерть. Хотя он мог и не мучиться. Можно было улучить минуту и броситься на конвой. Его пристрелят, и дело с концом. Этот выход он держал в голове на самый крайний случай. Сама по себе возможность такого исхода придавала ему уверенности, и он уже не чувствовал отчаяния. Но наверняка были и другие варианты. Только он их пока не видит. Нужно обязательно что-нибудь придумать, пока голова не затуманилась от работы, пока ещё есть силы.
Весь вечер Пётр Поликарпович напряжённо думал. Первая мысль была о побеге. Но, хорошенько поразмыслив, он вынужден был отказаться от этой заманчивой идеи. Побег означал ту же смерть, только отсроченную на несколько дней. Его через неделю поймают и изобьют до полусмерти (а могут и пристрелить на месте, а в лагерь принесут отрубленные кисти рук для опознания по отпечаткам пальцев, он уже знал, что так тоже бывает), или он замёрзнет где-нибудь в сопках – без огня, без тёплой одежды, без жратвы. Единственный шанс на спасение – это больница. Только не лагерная, а главная больница Колымы. Фельдшер слово в слово повторил то, что он уже слышал в магаданской транзитке: необходимо попасть в центральную колымскую больницу на двадцать третьем километре. Это был единственный шанс вернуться на материк – через врачебную комиссию и инвалидность. Но фельдшер предупредил, что получить инвалидность будет непросто. Всех саморубов и членовредителей безжалостно судили и мотали новый срок и всё равно оставляли тут же, на Колыме. Одноногих возвращали на прииски, ставили туда, где не нужно было ходить – на промывочный прибор или на бутару; а однорукие целый день утаптывали снег на целине, что было немногим легче золотого забоя. На материк отправляли лишь тех, кто сам нуждался в уходе: калек без обеих рук или ног, полностью слепых, сошедших с ума, припадочных и тому подобный, ни на что уже не годный человеческий материал. Попасть в этот разряд Петру Поликарповичу было затруднительно, да и не очень-то хотелось. И всё же надежда на инвалидность у него оставалась. Фельдшер обещал сделать направление в центральную больницу, если только он действительно заболеет чем-нибудь серьёзным. Назвал при этом несколько болезней, из которых Пётр Поликарпович запомнил только пневмонию и дизентерию. И ещё фельдшер сказал, что никаких анализов он тут сделать не может, а диагнозы ставит «на глаз». И если в центральной больнице его диагноз не подтвердится, то Петра Поликарповича сочтут за симулянта, а фельдшера могут наказать за потворство.
Одним словом, всё было очень непросто. И всё же это был шанс. Ничего другого придумать было нельзя. И оставаться на прииске тоже было нельзя. Это он понимал твёрдо и решил уйти из этого лагеря во что бы то ни стало. С этой мыслью он уснул.
А утром начался ад. Температура на улице резко упала, ветер пронизывал насквозь. Заключённые надевали на себя всё своё тряпьё, заматывали шею и голову. В ход шли вафельные полотенца, какие-то немыслимые папахи, куски брезента и любая ветошь. Пётр Поликарпович надел казённую шапку-ушанку и телогрейку. Намотал потуже портянки и затянул верёвочки на ботинках. В таком виде вышел из барака и едва не задохнулся – так холоден был воздух и так задувало в рот и глотку. Он отвернулся от ветра, прижал руки к лицу, стараясь отдышаться. Казалось невозможным пробыть на таком морозе целый день. Но вернуться в барак было уже нельзя.
Прозвучала команда на построение, и заключённые стали строиться в колонну по пятеро. Пошёл в общий строй и Пётр Поликарпович, встал в середину, безуспешно стараясь укрыться от ветра.
Колонну повели в столовую. Там удалось немного отогреться. Горячее варево согрело желудок. Пётр Поликарпович глотал жижу через борт, чувствуя, как горячая пища идёт по пищеводу и словно бы уходит в ноги. По телу пробегает дрожь наслаждения; кажется: не уходил бы никуда из этой столовой! Пусть кругом толкаются и шумят. Главное – не выходить на мороз, не идти в ледяной забой!
Но выйти всё же пришлось. Бригадир полоснул его взглядом, смачно выругался, и Пётр Поликарпович послушно пошёл на улицу. Там их снова построили и повели на плац. Снова стояли на пронизывающем ветру, ждали, когда закончится перекличка. Потом вся колонна двинулась к лагерным воротам. Там были замешательство и ругань. Затем они торопливо спускались под гору; конвой подгонял и матерился, вымещая злобу на доходягах. Втянув голову в плечи, Пётр Поликарпович почти бежал в общей толпе.
Затем была адская работа. Час, другой и третий – Пётр Поликарпович накидывал тачки песком пополам с камнями. Его уже не заставляли катать стокилограммовые тачки по прыгающим доскам. Но и стоять на месте тоже было нельзя. Все гнали и гнали работу, так что Пётр Поликарпович сначала согрелся, потом его прошибла испарина, потом испарина высохла и какое-то время было тепло, а потом по спине потёк ледяной пот, стало неуютно и зябко от мокрого испода; ещё через какое-то время он вновь почувствовал тепло в руках и ногах, – но к этому моменту он уже начал задыхаться. Руки отяжелели, поднять лопату с песком он уже не мог. Тогда он стал захватывать неполный совок. Но тут же к нему подступил заключённый с замотанным грязной тряпкой лицом. Кто это был, Пётр Поликарпович так и не понял.
Заключённый произнёс угрожающе:
– Ты чего сачкуешь? Думаешь, я не вижу?
Пётр Поликарпович опустил лопату, с трудом произнёс, задыхаясь:
– Я уже не могу, руки не держат.
– А я что, за тебя тут должен вкалывать?
Он подождал, что скажет Пётр Поликарпович, но тот молчал.
– Смотри, ещё раз увижу… – И он потряс лопатой над головой, держа её как знамя. – Я с тобой цацкаться не буду, махом череп раскрою!
После таких посулов ничего другого не оставалось, как удвоить внимание. Пётр Поликарпович стал реже махать лопатой, давая себе секундный отдых, зато набирал полный совок. Напарник всё видел, но помалкивал. Он понимал, что этот старик работает из последних сил, и грозился лишь по привычке, а ещё – чтобы выпустить наружу душившую его злобу. Он злился на весь белый свет, потому что и ему было холодно и неимоверно трудно, он тоже работал из последних сил и в любой момент мог загреметь в ледяной карцер. Он грозился ещё и потому, что ему самому грозили много раз – бригадиры и конвоиры, начкары и десятники, лагерные повара и парикмахеры, блатные и свои же товарищи – «политические», с которыми он делил нары. Такая тут была атмосфера, такие устои. А если бы всё было иначе, так вся эта система давно бы уже развалилась к чёртовой матери. Работали все из страха. Выполняли план, чтоб не подохнуть. Деньги, женщины, комфорт – все эти понятия были давно забыты, утрачены навеки. Остался лишь голый инстинкт жизни – на него и делали ставку устроители всей этой «благодати».
Этот день длился бесконечно долго. Пётр Поликарпович кое-как дотянул до обеда. Потом, чуток подкрепившись и передохнув, некоторое время работал довольно споро. А затем снова стал набирать неполную лопату и урывать себе секунды отдыха. То же самое было на другой день. И на третий. И на четвёртый тоже. А на пятый, когда он шёл, пошатываясь, в утренней колонне, его дёрнули за рукав. Он оглянулся, с трудом узнал бригадира.
– Вот что, – сказал тот, выдыхая белый пар изо рта, – дам тебе кант. Сегодня поработаешь траповщиком. Знаешь, что это такое?
Пётр Поликарпович на всякий случай кивнул. Понял только одно: махать лопатой сегодня не придётся.
– Подойдёшь к мастеру, он тебе всё объяснит. Я его предупредил. – Бригадир растворился в толпе. Пётр Поликарпович проводил его взглядом, словно не веря себе и всё это ему померещилось.
Но всё было взаправду. Когда они пришли в разрез, ему выдали топор и кулёк с гвоздями – «шестёркой». Нужно было ремонтировать центральный трап, по которому беспрерывно катили гружёные тачки, – менять сломанные доски на целые, расшивать там, где узко или слишком круто. Кроме центрального трапа, было множество «усиков» – те же доски, только ведущие от центрального трапа к каждому забою. Там доски были заметно жиже и плоше, но там-то и требовался догляд.
Пётр Поликарпович принялся за дело: целый день мотался из конца в конец разреза, таскал доски, присаживался и вколачивал гвозди в плотный листвяк. Руки плохо гнулись, пальцы потеряли чувствительность, глаза слезились от ветра, но выручала его деревенская закалка. Топор он умел держать в руках. У себя в деревне помогал отцу строить и баню, и дом, и сеновал. Умение это теперь очень пригодилось. От этого умения теперь зависела его жизнь.
И бригадир, и вольный мастер, и заключённые – все видели, что дело спорится у Петра Поликарповича. Его бы и оставить на этой работе. Но тут была своя очередь. Каждый бригадник ждал этой передышки – хотя б денёк отдохнуть от кайла и тачки. Поэтому на другой день Петра Поликарповича снова послали махать лопатой в забой. Перечить он не смел, да это было и бесполезно. Он видел, как бригадир безнаказанно избивает заключённых и как они заискивают перед ним, трепещут от взгляда его застывших глаз. Трусом Пётр Поликарпович никогда не был. И лебезить тоже не привык. А потому он молча выслушал распоряжение бригадира и на другой день отправился в ледяной забой.
Сил хватило на две недели. Была уже середина октября, стояли тридцатиградусные морозы. Пётр Поликарпович застудил грудь, так что внутри всё болело и сжималось – даже при обычной ходьбе по морозу. А уж когда начиналась работа и он брался за лопату, всё тело словно бы пронзало длинной иглой, в груди что-то натягивалось, и он до крови кусал губы, стараясь заглушить эту боль. На какое-то время это удавалось, боль отступала, но не пропадала вовсе, а как бы пряталась где-то в глубине. Он кое-как доживал до обеда, а после уже не мог стоять на ногах, не в силах был оторвать от земли лопату с песком. Однажды пришёл бригадир и молча смотрел на его потуги. Потом перевёл взгляд на Петра Поликарповича и долго сверлил взглядом, словно стараясь выискать причину такой странности. Лицо его было похоже на маску – неподвижное и суровое, ни одной мысли не было заметно в глазах. Наконец он разомкнул плотно сжатые губы и изрёк:
– Хана, доработался. Пять суток карцера у меня получишь. Пошёл вон отсюда!
Пётр Поликарпович тут же бросил лопату. Едва волоча ноги, поплёлся из забоя. Бригадир двинулся следом. Они подошли к конвоиру, и бригадир что-то сказал ему, показывая на Петра Поликарповича. Конвоир снял винтовку с плеча и велел ему идти в лагерь. Пётр Поликарпович почувствовал величайшее облегчение, почти счастье. Ему всё равно было, куда его ведут – хоть бы и на расстрел. Главное, он не будет больше работать. По крайней мере сегодня. Всё остальное было неважно. Он чувствовал, что ещё немного, и он бы умер от непосильного напряжения. Пусть всё что угодно, только не тачка, не лопата! И он шёл, чувствуя нарастающую радость, оставляя за спиной огромную уродливую яму, в которой копошились и теряли остатки здоровья его несчастные товарищи.
Штрафной изолятор стоял на отшибе и выглядел совсем не страшно – это был обычный бревенчатый дом, длинный и словно бы жмущийся к земле. Над входной дверью – покатый навес о двух столбиках. Затянутое мешковиной и забитое досками квадратное окно, плоская крыша с торчащей в небо железной трубой, заметённые снегом стены и свободно гуляющий по чёрным брёвнам ветер. Сразу за домом была граница лагерной зоны – похожие на виселицы рогатины с изломанной колючей проволокой; поодаль маячила вышка охраны. Петра Поликарповича завели внутрь дома, провели тёмным коридором несколько шагов и втолкнули в совершенно пустую комнату без единого окна. Дверь закрылась, Пётр Поликарпович остался один.
В первую минуту он даже обрадовался этому внезапному одиночеству. Было, правда, довольно холодно. Сразу он не ощутил ледяного дыхания земли, но уже через несколько минут его охватила дрожь. Пётр Поликарпович опустился на корточки и приложил ладонь к земле; та была холодна как лёд – сруб стоял на вечной мерзлоте, прямо на грунте. Он поднялся и стал шагать от стены к стене, четыре шажка туда и столько же – обратно. А можно было ходить кругами вдоль стен: шестнадцать шагов в одну сторону и столько же – обратно. Так шагая – то вдоль стен, то по диагонали, – он коротал время и прогонял холод. Иногда он останавливался и стоял, привалившись к бревенчатой стене, закрыв глаза и шумно вдыхая холодный воздух. Голова кружилась, тело наливалось тяжестью, хотелось упасть и не двигаться. Но он понимал, что чем дольше продержится на ногах, тем больше у него шансов выйти отсюда живым. На первый раз ему дали трое суток «без вывода». Считалось, что «без вывода» – это намного тяжелее, чем «с выводом» (на работу то есть). Но Пётр Поликарпович обрадовался такому наказанию. Если бы он всю ночь пробыл в ледяном карцере, а утром его бы погнали в забой махать лопатой и катать тачку – тогда бы он точно не сдюжил. А так ещё можно было перетерпеть. Главное – не останавливаться. И он всё ходил и ходил по этой клетке, временами впадая в беспамятство и двигаясь как сомнамбула. Он даже успевал увидеть мимолётный сон за те несколько секунд, пока брёл вдоль стены, потом следовал удар, он приходил в себя, поворачивал и двигался до следующей стенки; через какое-то время следовал новый удар, и всё повторялось. Сколько всё это продолжалось, он не смог бы сказать. Только вдруг почувствовал по какой-то особенной тишине, что уже наступила ночь, всё замерло кругом. Стало заметно холоднее. Ночь всё длилась и длилась, казалось, ей не будет конца. А потом дверь вдруг распахнулась. Пётр Поликарпович сделал несколько шагов по инерции и остановился.
На пороге стоял надзиратель.
– На вот, пайку тебе принёс, – объявил он. Присмотрелся и спросил уже другим голосом: – Не задубел тут?
Пётр Поликарпович всё глядел на него, словно не понимая.
– Ну бери же! – надзиратель протягивал горбушку хлеба. – Пожуй хлебушка, а то дуба нарежешь.
Пётр Поликарпович взял пайку, поднёс ко рту и с трудом откусил, стал медленно жевать чёрный мёрзлый хлеб, не чувствуя вкуса, роняя на землю крупные крошки. Надзиратель всё смотрел на него, словно хотел что-то сказать, потом махнул рукой и захлопнул дверь. Слышно было, как он протопал по коридору и вышел на улицу.
Пётр Поликарпович снова стал ходить вдоль стен. Теперь это происходило помимо воли, ноги сами несли его вперёд, а он не противился, рассудив, что тело само знает, что ему надо.
Тело и в самом деле знало: останавливаться было нельзя, остановка означала смерть.
Но силы человеческие не беспредельны. Природу нельзя обмануть.
К исходу третьих суток в комнату зашёл всё тот же надзиратель. Пётр Поликарпович неподвижно сидел в углу, обхватив руками колени и укутав лицо в своё тряпье. Он не шевелился, и было впечатление, что он закоченел и уже не встанет.
Надзиратель приблизился и, склонившись, толкнул склонённую голову.
– Эй, поднимайся. Кончилась твоя ссылка. Вставай! Пошли давай! Слышишь меня?
Пётр Поликарпович слабо шевельнулся и остался сидеть неподвижно. Подняться с земли он уже не мог. Он даже не умел понять, чего от него хотят.
Надзиратель особо не удивился, всё это было ему хорошо знакомо. Из этой чёртовой избушки редко кто выходил на своих ногах. И он принял обычные в таких случаях меры.
Через полчаса Петра Поликарповича под руки заволокли в барак и бросили на пол.
– Забирайте своё дерьмо, – сказал один из конвоиров, отряхивая руки.
К Петру Поликарповичу подошли заключённые. Стали рассматривать.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – сказал кто-то. – Эк они его отделали.
Но через несколько минут выяснилось, что никто Петра Поликарповича не бил, а просто он ослабел от голода и закоченел. С трудом воспринимал окружающее, не понимал, что с ним происходит и где он находится. Все так и решили, что он не жилец на этом свете. И сразу потеряли к нему всякий интерес. Смерть тут никого не удивляла и, уж конечно, не пугала. Это уже стало для всех обыденным явлением – как смена дня и ночи.
Петра Поликарповича в четыре руки закинули на верхние нары и оставили так до утра.
А утром его опять избили. На этот раз избиение было особо жестоким и бессмысленным. Все видели, что этот человек не может двигаться, что он не осознаёт своих действий. Бить его – это всё равно, что добивать издыхающую лошадь или добивать смертельно раненного человека. Однако бригадир и дневальный с азартом пинали безвольное тело, вымещая на нём свою злобу и всё то чёрное и страшное, что таилось до срока в самой глубине их чёрных душ.
Наконец кто-то крикнул:
– Эй, хватит. Вы его убьёте!
– Таких и надо убивать! – отозвался дневальный. Пнул ещё раз и остановился. – У-у, вражина. Ажно взмок.
Бригадир тоже словно бы одумался.
– Ладно, хватит с него. Я ему ещё вечером добавлю. Будет знать, как филонить.
Вся бригада отправилась на работу, а Пётр Поликарпович остался лежать на заплёванном полу. Так он второй раз уклонился от общественно полезного труда, призванного сделать из него образцового советского человека. И даже умудрился повторно попасть в медпункт к уже знакомому фельдшеру. Тот ахнул, увидев недавнего пациента. Покачал головой и велел санитару снять с больного окровавленные лохмотья и нагреть таз воды. Многое он повидал в лагерях, но даже его удивила столь быстрая деградация ещё не старого человека (Петру Поликарповичу было о ту пору сорок восемь лет). Всего лишь две недели назад он видел его если и не здоровым, то и не доходягой. Теперь же пред ним было что-то бесформенное, безвольное и ни на что уже не годное. Работать в забое он уже не сможет – это было ясно. Но другой работы для него здесь не было. Оставалось лишь одно: отправить его в центральную больницу на врачебную комиссию. А иначе – смерть, и смерть весьма скорая. Фельдшер понимал, что этот заключённый уже не жилец на этом свете. В штрафном изоляторе он застудил себе лёгкие и, судя по всему, у него началась двусторонняя пневмония. К тому же у него распухли все суставы на руках и ногах и даже на пальцах. Сжать кисть в кулак никак не удавалось, а это верный признак острого ревматизма. Артериальное давление зашкаливало за двести, а сердце билось с явными перебоями. По всем статьям это был безнадёжно больной человек, вымотанный до последнего предела, к тому же ещё и жестоко избитый. Даже при полноценном лечении и усиленном питании потребовалось бы несколько месяцев, чтобы поставить его на ноги, вернуть утраченные силы.
Но все эти недуги – ревматизм, пневмонию (неподтверждённую), сердечную недостаточность (тоже взятую на глазок) – он не мог указывать в своём ходатайстве об отправке заключённого в центральную колымскую больницу. Вот если бы ему оторвало руку или ногу на производстве, тогда другое дело – это сразу всем видно. А так – весьма сомнительно. И всё же он решил рискнуть, рассудив, что в главной больнице работают опытные врачи, среди которых есть светила медицины, европейские профессора, известные медики, по учебникам которых учились студенты медицинских институтов. Они и сами должны понять причину отправки с прииска этого больного.
И он твёрдой рукой написал врачебное заключение, поставив в графе диагноз – shigellos, а в скобках дописав: «дизентерия». В «анамнезе» он отметил всё то, что и было в действительности – изношенное сердце, ревматизм, гипертонию и сломанные рёбра. Он мог бы приписать сюда дистрофию, пеллагру, цингу, диарею и деменцию. Но не стал этого делать: всё это и так очевидно. И главное, ни цинга, ни пеллагра, ни мультифокальная деменция не могли служить причиной для получения инвалидности, поскольку этими недугами страдали девяносто процентов всех заключённых советской Колымы. Возвращать их на материк никто не собирался, потому что там они напрочь испортили бы картину передового социалистического строительства. (Да и кто тогда будет добывать так нужное стране золото?..) Советская власть не могла допустить публичного позора. Деяния рук своих она надёжно прятала (преимущественно – в землю).
В долине реки Хатыннах уже трещали пятидесятиградусные морозы. Знаменитый полюс холода – Оймякон – располагался в той же климатической зоне, на той же широте, что и прииск имени Водопьянова. До него было даже ближе, чем до Магадана. Знаменитые северные новеллы Джека Лондона, в которых небо блестело, «как отполированная медь», а малейший шёпот казался «святотатством», – описывают ту же природу, тот же климат, что и на Колыме. То же «белое безмолвие», те же «зловещие деревья» и тот же «дух скорби», витающий над всем этим краем. Но знаменитому писателю и первому председателю студенческого социалистического общества в Америке даже в жутком сне не могло привидеться то социалистическое будущее, которое наступит через сорок лет после написания его замечательных новелл, – когда сотни тысяч людей будут брошены в эти ледяные пустыни и все они под страхом смерти станут долбить мёрзлую землю в пятидесятиградусный мороз, получая за это килограмм хлеба, миску баланды и ежедневные проклятия и тумаки от озлобленных охранников и потерявших человеческий облик уголовников. Ничего такого не было и не могло быть в его мужественных рассказах. Придумать такое мог лишь какой-нибудь средневековый мистик вроде Данте Алигьери (да и то сомнительно, ведь в аду тоже была какая-то справедливость, совсем уже невинных людей туда не принимали и зазря никого не мучили!). Но советская действительность затмевала самые мрачные прогнозы и превосходила самую жуткую фантазию. В этом ей не было равных.
Пётр Поликарпович Пеплов должен был умереть в этой северной глуши, остаться навеки в ледяных песках с ничтожной примесью золота, сделаться частью этой каменистой почвы, удобрить её своим телом. Смерть уже тянула к нему свои костлявые руки, предвкушая очередную поживу. Но судьбе угодно было отсрочить это событие. Пётр Поликарпович не умер в эту зиму 1940 года, как умерли сотни тысяч других заключённых – на этом и других приисках Колымы. Это была неслыханная удача, каприз судьбы, благосклонный взгляд Фортуны, случайно брошенный на уже умирающего человека.
Ранним морозным утром из лагерных ворот выехал грузовик, кузов которого был затянут обындевевшим брезентом. В кузове, среди сломанных лопат, тачек и прочего дрязга, прямо на занозистых досках лежал, притиснутый к борту, человек. Этим человеком был Пеплов Пётр Поликарпович. Перед отправкой его одели в изорванный, в нескольких местах прожжённый бушлат третьего срока носки, завернули в тряпьё, какое попало под руки, на ноги натянули измочаленные валенки, а на голову нахлобучили шапку-ушанку. Начальник лагеря сперва никак не соглашался отправить заключённого в центральную магаданскую больницу, считал это едва ли не личным оскорблением. А когда понял, что сделать ничего не может, распорядился везти его в открытом кузове – все пятьсот километров. Приказание было исполнено в точности. Фельдшер был рад и этому: всё же это было лучше, чем оставлять умирающего заключённого на прииске. К тому же пузатый начальник никогда не ездил по колымским просторам в кузове грузовика. Он не знал, что когда машину сильно трясёт (а на Колымской трассе её трясёт всегда), то едущему в кузове пассажиру никакой мороз не страшен. Удары и толчки согревают тело лучше всякой грелки, не дают ему застыть и превратиться в лёд. Это наблюдение подтверждено множеством свидетельств, тысячью рассказов! Убедился в этой истине и Пётр Поликарпович; он проехал в кузове полуторатонки от Хатыннаха почти до самого Магадана. А это пятьсот пятьдесят километров постоянно петляющей трассы. Двое суток в пути со множеством остановок – в Ягодном, Дебине, на Спорном, в Оротукане, на Стрелке, на Атке и в Палатке. Если бы не тряска и не ухабы, то в центральную колымскую больницу привезли бы закоченевший труп. Составили бы акт, прокололи грудь штыком, прикрепили к большому пальцу правой ноги бирку и бросили в мёрзлую яму к другим доходягам и фитилям. Одним больше, одним меньше – какая, собственно, разница?.. Но Пётр Поликарпович не замёрз (несмотря на сорокаградусный мороз). Когда грузовик спустился с Яблонового перевала, заметно потеплело, а в Палатке было уже совсем хорошо – каких-нибудь минус десять. С мутного неба сеялись крупные белые пушинки, и вся местность была укутана толстым снежным одеялом.
Упрямый фельдшер добился своего – его подопечный попал в благословенную больницу, где были настоящие доктора и хорошо обученный персонал, где делали любые операции и ставили на ноги мертвецов. В эту больницу мечтали попасть даже вольные, они усиленно хлопотали об открытии для них двух палат при хирургическом отделении (и в конце концов добились своего).
Знаменитая на всю Колыму «инвалидка» располагалась в приболоченной безлесной низине в шести километрах от центральной Колымской трассы и в двадцати километрах от той магаданской транзитки, которую Пётр Поликарпович покинул каких-нибудь два месяца назад. Главный больничный корпус располагался в огромном четырёхэтажном здании на тысячу коек. Здание не отличалось архитектурными изысками – это был громадный параллелепипед грязно-серого цвета с геометрически ровными рядами зарешеченных окон по всем четырём этажам. В пятидесяти метрах, параллельно ему, расположилось ещё одно каменное здание – о двух этажах и вдвое короче; за ним – третье, ещё ниже, а далее были разбросаны там и сям строения самого разного калибра и пошиба. Это был настоящий посёлок со своей котельной, хлебопекарней, с подсобными производствами и жильём для охраны и для вольных. В то же время это был самый настоящий лагерь, огороженный колючей проволокой и обставленный вышками с часовыми. На территории больницы действовали точно такие законы, как и во всех лагерях УСВИТЛа.
Медперсонал больницы состоял в основном из заключённых, обученных в этой же больнице на ускоренных фельдшерских курсах, на которые мечтали попасть все зэки Колымы, от последнего доходяги и до каптёра и мордатого повара, ибо никакая другая должность не давала заключённому столько привилегий и власти. Но матёрых уголовников и блатарей в медицину не брали по причине их дремучего невежества и полной непригодности к лечебному делу (да и к любому другому делу тоже). Фельдшерами становились, как правило, люди образованные и сострадательные, тут действовал тот же закон, что и во всём подлунном мире, когда всё наносное и случайное безжалостно вымывается и выдувается мощными потоками Жизни, а всё ценное и единственно верное – остаётся и становится частью общего организма, обеспечивая порядок и требуемый результат. Командовали больницей чины из НКВД. Главный врач хотя и был из вольных, но состоял на военной службе и получал двойную зарплату за свои труды. Во всём остальном это была обычная больница, где лечились те же болезни, что и везде, использовались общепринятые методы излечения недугов. Человек везде одинаков. На всех материках и во все эпохи – у него одна и та же красная кровь со множеством эритроцитов, те же самые кости и одинаковый набор мышц и нервных волокон. Он одинаково чувствует боль и противится смерти, даже когда смерть для него – благо.
Процедура приёма больных в центральной колымской больнице была весьма своеобразной. Первичный осмотр всех поступающих больных проводил заведующий приёмным покоем – фельдшер из числа заключённых. Фельдшер этот был мрачен, высок и чрезвычайно худ. Потемневшая кожа туго обтягивала крупный лошадинообразный череп, а ввалившиеся щёки свидетельствовали о полном отсутствии коренных зубов. Взгляд его был чрезвычайно мрачный, тяжёлый и пронзительный. Этим взглядом он смотрел на пациента, а правильнее сказать – сквозь него, – и что-то про себя решал. Главный вопрос был всегда один: заслуживает ли больной госпитализации. Попадёт ли он на больничную койку, получит ли спасительный отдых от убийственного труда, от мучительных морозов, от ежедневных избиений. Хотя, конечно, были среди привезённых в больницу и симулянты, были и бытовики с липовыми диагнозами, полученными от насмерть запуганных лагерных лепил, – но всех их ждало разочарование. Долговязый фельдшер со злым лицом сразу видел фальшь и – твёрдо отказывал всей этой шатии-братии. Но все те, кто нуждался во врачебной помощи – получали её. Обострённая интуиция бывшего доходяги, многолетнего обитателя золотых забоев и профессионала по части тачки и кайла, непосредственное знание самого дна жизни и её обитателей – помогали ему безошибочно отличать истинно страдающих от симулянтов и паразитов всех мастей.
Когда в приёмный покой втолкнули Петра Поликарповича, фельдшер всё понял с одного взгляда. Заплывшее потемневшее лицо со следами обморожений, отсутствующий взгляд, заторможенность и полное рассогласование всех физиологических отправлений – всё это он видел бессчётное число раз – и в своей прошлой жизни обычного зэка, и в теперешней, когда он обманул смерть и сам стал вершителем судеб.
– Откуда? – задал он единственный вопрос сопровождающему.
– С Ягодного. Из Хатыннаха, – был ответ.
Фельдшер согласно кивнул.
– Понятно. – И, обернувшись к своему помощнику, коротко распорядился: – Оформляй в триста пятнадцатую. Там есть свободная койка.
Он произнёс это скупо, нисколько не изменившись в лице, не сделав лишнего движения, а перед глазами промелькнула целая череда видений. Хатыннах он знал слишком хорошо, был там на доследовании в тридцать восьмом, когда ему клепали второе дело, а потом возили в Магадан и едва там не расстреляли. Очень ему запомнился шестидесятиградусный мороз, прыгающие звёзды в чёрной бездне над головой и как его везли под этими звёздами от «Партизана» до Хатыннаха, а потом по всей Колымской трассе – в открытом кузове полуторки под продувающим насквозь ветром.
Такое не забывается. И уж конечно, не прощается.
Но вот перед ним человек, повторивший его смертный путь, так же, как и он, чудом вырвавшийся из когтистых лап смерти. Мог ли он ему отказать? Такой вопрос даже не стоял перед ним. Два года назад, стоя глубокой ночью в ледяном забое, он впервые в жизни плакал от бессилия, от нестерпимого холода, от страшного унижения, от смертного ужаса. Тогда он со всей остротой впервые ощутил то главное, что есть в этом мире, что движет миром и не даёт ему распасться на атомы. Сила эта – сострадание всему живому, глубокое сочувствие всему зримому и незримому, стремление помочь всему сущему, сохранить его целостность и соразмерность, но не крушить, не уничтожать и не глумиться! Разрушение окружающего тебя мира – вот самый страшный грех, какой только есть на свете! Тогда, два года назад, он дал себе страшную клятву: если только он останется в живых – все силы без остатка он употребит на помощь другим людям. Потому что нет и не может быть другой цели в жизни человека. В этом оправдание его существования, в этом смысл и высшая награда.
Клятву эту он ни разу не нарушил. И теперь решил сделать всё возможное для спасения Петра Поликарповича. Изучив его документы и внимательно осмотрев обескровленное тело, он назначил ему усиленное питание, «горячие уколы» хлористого кальция, внутривенные вливания глюкозы, скипидарные растирания и полнейший покой. С Петра Поликарповича сняли завшивевшую одежду, самого его тщательно вымыли горячей водой с мылом, наново остригли волосы на голове, а потом уложили в кровать на чистую простыню, укрыв двумя стёгаными одеялами. Всё это можно было почесть за чудо, но Пётр Поликарпович не чувствовал радости. Он был в таком состоянии, когда окружающий мир отдаляется и становится нереальным, будто видишь его в мутном сновидении. Вокруг что-то происходит, но тебя это не касается, тебе это глубоко безразлично. Даже если с тебя будут сдирать кожу – ты не воспротивишься и, уж конечно, не испугаешься. Про таких знающие люди говорят: «Этот не жилец». И это справедливо, потому что почти все таковые умирают. И Пётр Поликарпович должен был умереть на больничной койке, тихо отойти в мир иной. Это было бы для него наилучшим выходом, разрешением всех проблем, избавлением от мучений. Однако, вопреки логике и всем расчётам, Пётр Поликарпович не умер в ту зиму. Три недели он находился между жизнью и смертью. Каждое утро санитар ожидал увидеть окостеневшее тело и гримасу смерти на перекошенном лице. Вместо этого он каждый раз видел шевеление под одеялом, улавливал слабое дыхание и чувствовал тепло, когда трогал бритую голову. Пётр Поликарпович никак не соглашался умирать. Изношенное сердце продолжало биться – днём и ночью, вечером и утром – без остановки. Кровь упрямо бежала по венам, мёртвые клетки заменялись живыми, и силы – кажется, утраченные навсегда, – постепенно возвращались. Это было подлинное чудо воскрешения. Ещё одна демонстрация великого инстинкта жизни, преодолевающего любые преграды, опровергающего всякую логику, сохраняющего гармонию среди всеобщего хаоса и разрушения.
На двадцать пятые сутки пребывания в больничной палате Пётр Поликарпович впервые осмысленно посмотрел вокруг себя. До этого он словно находился в полусне, слышал звуки как через вату, чувствовал смутное неудобство, видел непонятное мельтешение. И вдруг словно лопнула невидимая мембрана: звуки мощной лавиной хлынули ему в голову, глаза широко раскрылись, и он ясно увидел окружающее, почувствовал своё тело, понял, что он всё ещё жив! Он лежал на кровати возле стены, окрашенной зелёной краской с наплывами. В ногах была белая дверь, а слева стояли ещё восемь кроватей – четыре ряда по две, и ещё одна кровать находилась сзади; там же были два окна, в которые едва просачивался с улицы мутно-серый свет. С грязно-белого потолка свисала лампочка на изогнутом проводе с беспорядочно торчащими волосками. Всё это Пётр Поликарпович разом увидел и всё это осознал. Он понял, что находится в больнице, что он жив и что ему ничто не угрожает. Осторожно поднял голову и посмотрел на своё тело, укрытое ворсистым одеялом неопределённого бурого цвета. Пошевелил ступнями, слегка согнул колени. Высвободил из-под одеяла одну руку, потом другую. Глубоко вздохнул и опустил голову на подушку, закрыл глаза. Было чувство оглушённости, будто его выбросило на берег после кораблекрушения, и вот он лежит на тёплом песке, а в голове какие-то обрывки воспоминаний – что-то жуткое, тяжёлое и пугающее… Нет, лучше не вспоминать. Пётр Поликарпович снова открыл глаза и увидел раскрывающуюся дверь. В палату вошёл мужчина в белом халате и мятом колпаке. Он скользнул взглядом по Петру Поликарповичу, сделал два шага и вдруг остановился.
– О-о, привет семье! Жмурик наш одыбал! – и поглядел с торжествующей ухмылкой на Петра Поликарповича. И все больные обернулись и тоже посмотрели. Лица их были угрюмы, никто особо не радовался. Да и было бы чему! Кого тут удивишь внезапными воскрешениями и смертями? Каждый из них видел десятки и сотни смертей – самых неожиданных, подчас несуразных, а большей частью – тихих и незаметных; и каждый был углублён в свою собственную болезнь, в свою неповторимую единственную судьбу. Каждый знал, что после этой больницы его ждёт лагерь со всеми его прелестями. Знание это тяжким грузом лежало на душе. День выписки неумолимо приближался, и душа болезненно ныла, предчувствуя беду. В этой палате не было увечных, тут лежали больные пневмонией, аневризмой аорты, ревматизмом, гипертонией и чем угодно, но не инвалиды и не калеки, не кандидаты для отправки на материк. Таким же был и Пётр Поликарпович. Как только он очнулся от своей летаргии, так сразу же начался для него обратный отсчёт времени пребывания в этих стенах.
Санитар шагнул к нему, потрогал лоб, заглянул в глаза и удовлетворённо кивнул.
– Пойду скажу доктору, – объявил он и вышел из палаты.
Доктор явился через пять минут. Это был тот самый фельдшер, который три недели назад встретил его в приёмном покое. Внимательный оценивающий взгляд, секундная пауза, и фельдшер опустился на краешек кровати.
– Как вы себя чувствуете? – спросил бесцветным глухим голосом, всматриваясь в заросшее щетиной лицо.
Пётр Поликарпович изобразил улыбку на лице и слабо кивнул.
– Спасибо, хорошо, – прошелестел, почти не двигая губами.
– Грудь болит? – последовал новый вопрос.
– Не знаю, нет как будто.
– Ну-ка… – Фельдшер откинул одеяло и стал сильно давить пальцами на рёбра. – Так больно? А так? А здесь?
Пётр Поликарпович морщился и кивал. Больно было везде. А фельдшер не унимался. Заставил перевернуться на живот и снова тыкал в рёбра и вдоль позвоночника. Потом слушал сердце стетоскопом, измерил давление и неторопливо записал показания в амбарную книгу. Пётр Поликарпович с беспокойством ждал, что он скажет.
– Теперь всё будет хорошо, – объявил фельдшер, закрывая книгу. – Вы поправитесь. Кризис преодолён.
Пётр Поликарпович без видимых эмоций воспринял эту информацию, подумал несколько секунд и спросил:
– А что со мной?
– У вас сильное истощение. Ослаблена сердечная мышца. Признаки аритмии. Ревматоидный артрит, авитаминоз, пеллагра в начальной стадии. Обычный набор.
Пётр Поликарпович облизал пересохшие губы.
– И я поправлюсь?
– Конечно. Теперь уже в этом нет сомнений.
– А потом… что? Обратно в лагерь?
Фельдшер некоторое время смотрел на него, потом отвёл взгляд.
– Этого я не знаю. Моя задача – поставить вас на ноги. Вас привезли сюда едва живого. Думали, не выкарабкаетесь. Но вы молодец, справились. Организм сильный. Ещё поживёте.
Фельдшер лукавил, а сказать точнее – щадил больного. Конечно, он знал, что сразу после выписки из больницы все заключённые этапируются обратно в лагерь. (Хотя и не в тот, откуда они прибыли; по существующим правилам заключённые после больницы или нового следствия никогда не возвращались на прежнее место.) Но самим заключённым было от этого не легче. Новый лагерь был ничуть не лучше прежнего. Те же общие работы, тот же двенадцатичасовой рабочий день, то же кайло, та же пайка чёрного слипшегося хлеба и те же побои, когда бьют от души, нисколько не думая о последствиях. Всё это фельдшер отлично знал, но у него язык не повернулся так сразу сказать всё это человеку, только что вернувшемуся с того света. Чуть подумав, он добавил к сказанному:
– У нас в больнице работает аттестационная комиссия. Я не исключаю, что вы получите инвалидность. Это вполне возможно. Я нахожу у вас острую сердечную недостаточность. Если даже вас и не отправят на материк, то вам могут сделать ограничение на лёгкий физический труд. А это уже совсем другое дело. Вас больше не пошлют в забой наравне с другими.
– И меня не отправят обратно в лагерь?
Фельдшер хотел ответить, но глянул по сторонам и сдержался. Он уже досадовал, что дал втянуть себя в этот разговор, да ещё при свидетелях. Он решительно поднялся, одёрнул халат.
– Давайте не будем торопиться. Мы ещё поговорим об этом. – Обвёл строгим взглядом сразу притихшую палату и вышел в коридор, застучал каблуками по деревянному полу.
С этого дня началось медленное возвращение Петра Поликарповича к жизни. Трижды в день он получал жидкую пищу – на завтрак, обед и ужин – какую-то размазню в алюминиевой миске, пайку хлеба и прозрачный, чуть тёплый чай. Порции были крошечные, но ему и этого хватало. Ведь он ничего не делал, лежал целый день на железной кровати, лишь изредка вставая и прохаживаясь по коридору.
Понемногу он познакомился с обитателями палаты. Все они были недоверчивы, в разговор вступали крайне неохотно. Больше молчали и слушали. Ближе всех Пётр Поликарпович сошёлся с соседом слева, койка которого стояла на расстоянии вытянутой руки. Полноватый, большеголовый, с красным одутловатым лицом и внимательным взглядом больших коричневых глаз. Он долго не шёл на контакт, но постепенно недоверие растаяло, и они разговорились. Звали соседа Александром Ивановичем, он был родом из Минска, работал инженером-конструктором в проектно-изыскательском институте. В Минске у него остались жена и дочь. Когда Пётр Поликарпович сообщил, что у него тоже осталась на воле жена с малолетней дочерью, Александр Иванович дрогнул, по лицу его прошла судорога, и он уже другими глазами посмотрел на собеседника. Придвинулся ближе и спросил:
– За что вас взяли?
Пётр Поликарпович пожал плечами.
– Я и сам не знаю. – Заметил недоверчивый взгляд и прибавил. – Официально – за участие в террористической организации бывших партизан Восточной Сибири. Я ведь в партизанах был, воевал с Колчаком, входил в руководящие органы Всесибирского совета. У нас там в девятнадцатом году целая война была, почти два года воевали, ведь территория-то какая! Всю Европу в наших лесах можно разместить, и ещё место останется. Драчка была отчаянная, никто никого не жалел, бились с белыми насмерть. Теперь об этом не хотят вспоминать, будто и не было никакой войны, а советская власть сама собой установилась по всей Сибири. И ладно бы просто забыли! В тридцать седьмом всех бывших руководителей партизанского движения разом арестовали. И почти всех расстреляли.
– А вы как уцелели?
– Я не подписал ни одного протокола, ни в чём не признался. Стоял на своём – не виновен, и точка. Да и в чём мне признаваться? Я чист перед советской властью, даже и в мыслях не было ничего такого. Да и с какой стати мне с ней бороться, если я сам же её устанавливал, по лесам с винтовкой шастал, спал прямо на снегу и чудом не погиб. А эти все, которые теперь руководят, где они тогда были?.. – Он испытующе посмотрел на собеседника, но тот ничего не ответил. – Три года меня мурыжили на следствии, – продолжил Пётр Поликарпович. – Три следователя сменилось за это время. Начальника областного НКВД сняли, затем второго – обоих расстреляли. А я всё сидел, никак не могли решить, что со мною делать. Потом дали по ОСО восемь лет и отправили сюда.
Александр Иванович испустил вздох, лицо приняло глубокомысленное выражение. Он медленно кивнул, думая о своём:
– Не признались, значит. Понимаю. Только, видите ли, в чём дело, у нас в Минске в тридцать седьмом расстреливали всех подряд – и признавшихся, и ничего не подписавших. Я тогда сидел в минской внутрянке на Комаровке. У нас там каждую ночь расстреливали – внизу, в подвале, – а трупы увозили на грузовиках. Помню, двадцать девятого октября взяли из камер сразу человек двести и всех тогда же и кончили, никто назад не вернулся. И на этап никто из них не ушёл, мы бы знали. Я тоже готовился к смерти, но меня почему-то не тронули. Я многих знал из тех, кого забрали в ту ночь. Там писатели были, журналисты, учёные – Валера Моряков, Михась Зарецкий, Миша Камыш, Алесь Дудар… Всех убили в ту ночь. Ведь до сих пор о них нет никаких известий! Ни от кого из них до сих пор ни письма, ни весточки. Уж я знаю. Да и все мы знали там, на Комаровке, что внизу по ночам расстреливают нашего брата. Такое ведь не скроешь. Надзиратели нас постоянно пугали расстрелом. Да мы и сами слышали, как стреляют, и крики тоже было слыхать. В тюрьме ничего не скроешь.
Пётр Поликарпович молча выслушал этот рассказ.
– Да-а, – протянул он раздумчиво. – У нас в Иркутске то же самое было. И тоже всё шито-крыто. Постреляли людей, и концы в землю. А ведь ответить за это всё равно придётся. Как вы думаете?
Собеседник замер на секунду, потом слабо улыбнулся.
– Да, ответить придётся. Сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Только вот доживём ли мы с вами до этого конца, увидим ли, как всех этих гадов поведут на эшафот…
Последнее уже не было вопросом, а скорее констатацией факта. Дожить до того дня, когда темницы рухнут и свобода всех примет радостно у входа, никто и не надеялся. На Колыме были свои масштабы, своя шкала мер и ценностей. Планировать свою жизнь на год вперёд? Это и в голову никому не приходило. Дожить до будущей весны, до тепла – вот о чём грезили все заключённые – все, кроме ничтожного меньшинства, пригревшегося на тёплых местах вроде бань, каптёрок и складов. Остальные знали: жить им отмерено ровно столько, насколько хватит их стремительно убывающих сил. В золотых забоях сил хватало ровно на три недели – это было точно установлено, многократно подтверждено множеством примеров. Через три недели работы на износ здоровый крепкий мужчина неизбежно превращался в доходягу – полусумасшедшего, вконец обессилевшего человека, грязного и вонючего, больше похожего на зверя, чем на образ Божий. Оба они – Пётр Поликарпович и Александр Иванович – видели таких людей, и оба в любой момент могли примерить на себя эту роль. Оба понимали, что им несказанно повезло, что находятся в больнице, лежат в тёплой палате, а не среди мёрзлых камней у подножия безымянной сопки, слегка присыпанные песком и снегом, закиданные ветками стланика.
Разговор на этом прервался. Оба вдруг вспомнили, что будущего у них нет, потому как нет надежды вырваться из этого ада и вернуться к прежней жизни. Да и сохранилась ли она – прежняя жизнь? Стояли на своих местах города, откуда они прибыли, и в городах было то же, что и раньше, – дома, улицы, те же люди ходили по этим улицам на работу, будто ничего не случилось. В городах остались семьи заключённых, друзья и знакомые. Но если прямо сейчас вернуться домой, как глядеть в глаза всем этим знакомым? О чём с ними говорить? Как поведать о том ужасе, что испытали они во время следствия? Нужно ли им знать о том, что чувствует полураздетый человек, двенадцать часов кряду работающий на пятидесятиградусном морозе? Что им даст это знание? Но главное даже и не в этом. Главное в том, что сами они – бывшие писатели, инженеры, военные, колхозники и рабочие – уже не верили ни во что, больше не считали себя ни писателями и ни колхозниками, они были раздавлены морально, презирали себя. Даже если они и не виновны, даже если и не признались ни в чём, – но всё то, что с ними сотворили, все унижения, допросы, побои, смертные этапы, весь этот хаос жизни – глубоко вошли в них, стали частью их естества. И они уже сами не знали, прежние ли они люди или они и в самом деле твари, с которыми можно сделать всё что угодно – растоптать, смешать с грязью, заставить поверить, что они ничтожества и достойны того позора, которому их предали. Да, с человеком можно сделать всё что угодно – это они уже знали. А узнав, не могли жить как прежде – радоваться пустякам, ругать за двойки детей, строить планы и смело глядеть в будущее. Впереди была непроглядная тьма, позади были позор и предательство. Так зачем им жить? К чему стремиться? Прошлое перечёркнуто и разрушено, а будущего для них не существовало. Смысл жизни был утрачен. Оставался один лишь инстинкт – тот самый инстинкт, который заставляет издыхающего червя ползти по раскалённой почве в поисках воды и прохлады.
Другим соседом Петра Поликарповича был невзрачный старичок – маленький, сухонький, с измождённым лицом и гноящимися глазами. К изумлению Петра Поликарповича, старичок оказался профессором какого-то московского института. Лицо его подёргивалось, глазки бегали, сам он был постоянно возбуждён и всё время чего-то боялся. Вздрагивал, когда резко открывалась дверь. Испуганно оглядывался на окно, когда в стекло ударяла снежная крупа. Со страхом глядел на любого, обратившегося к нему с вопросом. Точно так же он опасался Петра Поликарповича, пока не узнал его поближе. Природу его испуга Пётр Поликарпович так и не смог понять – профессор не сказал о себе ни слова. А на все расспросы лишь мрачнел и опускал голову, поросшую жиденькими, наполовину седыми волосами. Можно было догадаться, что в прошлом его было что-то тяжёлое, тёмное, такое, о чём не хочется вспоминать. Пётр Поликарпович и не спрашивал. В конце концов, какое ему дело до этого старичка?
Кровать у окна занимал совсем ещё молодой парень с наполовину отрубленной правой кистью. Он часто куда-то уходил, потом возвращался с куском хлеба или селёдочным хвостом, а то приносил недокуренную папироску и долго с ней возился, сооружая из неё две другие, поменьше. Всё это он проделывал левой рукой, вовсе не замечая своего увечья. Лицо его было сосредоточено, но без печати горести или несчастья. Пётр Поликарпович очень хотел с ним познакомиться, но всё как-то не удавалось. Узнал только, что парня звали Ваней, а руку ему отрубили блатные – топором – наискось – за какую-то провинность. (Следователи клеили ему членовредительство, но потом догадались, что самому себе отрубить правую кисть левой рукой под таким неестественным углом никак не получится; и поверили, что не сам он это с собой содеял.) Ну – отрубили и отрубили, и пёс с ним. Соседи этому нисколько не удивлялись. Пётр Поликарпович видел одного старика, которому уголовники выкололи оба глаза (сделав ему «две ночи», по их блатному наречию), другому оторвали кисти обеих рук, привязав к ним капсюль-детонатор и запалив шнур, третьему перебили позвоночник ломом, четвёртому переломали все рёбра, прыгая на него двумя ногами с верхних нар… Много чего было в лагере такого, что и не снилось всем тем, кто спит в своих постелях и пьёт по утрам кофий с булочками. А в больницу Ваня попал из-за высокой температуры и заражения крови. Все в палате знали, что Ваня по ночам подмешивает кровь в баночку со своей мочой. Утром баночку уносили на анализ, а довольный Ваня снова куда-то уходил, приносил что-нибудь съестное, переполовинивал и уносил в другие палаты. Это было что-то вроде коммерции, когда из одной папироски получается две, а пайка хлеба выменивается на селёдку, которая затем выменивается на полный обед – и так далее, всё таким же макаром. Заниматься этим было намного интереснее и здоровее, чем весь день махать кайлом под зорким взглядом конвоира. Да его и не пошлют теперь в забой с одной-то рукой. Найдут, быть может, что-нибудь другое: например, снег топтать под будущие разработки или крутить огромный конный ворот, налегая на него грудью (вытаскивая из глубокой шахты бадью с породой), – для этого руки и вовсе не нужны.
Однажды Ваня подошёл к Петру Поликарповичу.
– Сменяем «горячие уколы» на пайку, а? За каждый укол – тебе четерёхсотка и мне сто. Идёт?
Пётр Поликарпович не сразу понял, о чём речь. Но потом догадался и отрицательно помотал головой.
– А чего не хочешь? – удивился Ваня. – Ты уже поправился, тебе не надо. А там, в драматическом, – он ткнул пальцем в потолок, – там хороший человек чалится. Давай, старик, соглашайся!
Но Пётр Поликарпович снова помотал головой. Такой обмен показался ему сомнительным.
– Ну смотри, тебе жить, – со скрытой угрозой молвил Ваня, глядя сверху вниз.
Петру Поликарповичу потом растолковали, что продажа «горячих уколов» – это вполне обычное дело. Такие уколы очень любили блатные, это напоминало им волю, когда они кололи себе морфий или нюхали кокаин, рассыпанный по бумажке. Хлористый кальций – это далеко не морфий. Но что-то в нём было такое, за что блатные с лёгкостью отдавали свою пайку. В радостном предвкушении они шли в процедурную и назывались ложным именем, подставляли руку для вливания живительного раствора. А пайку съедал тот, кто должен был получить укол в свою вену. Ну и конечно, что-то перепадало Ване, взявшему на себя обязанности посредника.
В общем, больница жила своей ни на что не похожей жизнью. Впрочем, всё на Колыме было своеобычное, ни на что не похожее, ни с чем не сообразное. Сама Колыма – от первой палатки и до последнего брёвнышка – была большой чудовищной авантюрой, когда по прихоти узколобого тирана в эти гибельные места были брошены миллионы людей – без предваряющей подготовки, без элементарных условий для проживания. Люди высаживались на пустынный берег, загонялись в безжизненные сопки – и там приспосабливались как могли. Почти все они умирали, а на их место пригоняли других. Эти другие достраивали и доделывали всё, что могли, потом тоже гибли (хотя и в меньших количествах), а на их место всё гнали и гнали новые этапы, благо страна большая и посадить пару лишних миллионов ни в чём не повинных граждан не составляло особого труда; наоборот, массовые посадки мирных граждан были проявлением геройства доблестных внутренних войск, без устали ведущих борьбу с мировой закулисой и с внутренним врагом, которого (по мнению «великого кормчего») становилось больше день ото дня. Да, больница эта была необычная, и нормальному человеку она показалась бы сумасшедшим домом, он не вытерпел бы в ней и одного дня. Но всем тем, кто прибыл сюда с приисков, эта больница казалась настоящим раем. Они мечтали только об одном: никогда не вставать со своих кроватей, не покидать душных переполненных палат, всю жизнь питаться жидким супом и чёрным хлебом и – не выходить, ни за что и никогда не выходить из больничных ворот! Потому что там, за воротами, – страшный лагерный мир, там смерть, там боль, там равнодушие и жестокость, про которые и рассказать нельзя.
Пётр Поликарпович постепенно восстанавливал силы, он неотвратимо выздоравливал. И чем больше у него прибывало сил, тем мрачнее он становился. Дни шли за днями, и своим чередом пришёл январь сорок первого. Ещё немного – и весна! Первая колымская весна, которую он никогда не видел (но зато слышал о ней много чудного). Хотел ли он увидеть эту весну, этот выжженный солнцем снег, эти выдуваемые безжалостным ветром сопки? Нет, конечно. Он не хотел этой весны, страшился будущего. Хотя и понимал, что это будущее неизбежно настанет, что рано или поздно он предстанет перед врачебной комиссией; и… что тогда? Обратно в лагерь? От одной мысли об этом внутри у него каменело, сердце становилось тяжёлым, а в душу заползал страх. Лагерь означал неминуемую смерть, теперь он знал это наверняка. И каждый день решал неразрешимую задачу: как уклониться от лагеря? Что он должен сделать такого, чтобы не попасть в золотые забои, в «пески», в штурмовую бригаду, где его будут морить голодом и бить смертным боем? Он думал об этом день и ночь, но в голову ничего не приходило. Это потому, что решения этой задачи попросту не существовало. Спасти его могло только чудо. Случится ли оно? Там, на Большой земле, чудеса иногда происходили. Таким чудом была революция, в которую никто по-настоящему не верил и которая грянула как гром среди ясного неба. Другим чудом (со знаком минус) были все эти аресты лучших людей страны. И вот теперь должно было произойти что-то ещё, что опровергнет совершённую ошибку, эту чудовищную несправедливость. И если есть Бог на небе, то он спасёт Петра Поликарповича, не даст ему погибнуть от непосильной работы, от кулака нарядчика или бригадира, от нестерпимого холода и от неизбывной тоски. На это и оставалось уповать. Ничего другого он не мог придумать. В стране воинствующих безбожников миллионам униженных людей оставалось надеяться только на высшую силу, на вселенскую справедливость. От земных властителей такой справедливости они уже не ждали.
В конце марта, когда Пётр Поликарпович уже свободно гулял по коридору и всё чаще выглядывал в окно на улицу, где по-весеннему светило солнце, к нему подошёл фельдшер. Они встали в сторонке, у окна. Фельдшер был, как всегда, угрюм и задумчив. Он как-то по-особенному взглядывал на Петра Поликарповича, словно не знал, с чего начать. Потом лицо его как-то странно обмякло, и он проговорил своим глухим голосом:
– Завтра в десять утра врачебная комиссия. Вас будут осматривать. Я буду настаивать на инвалидности. Если всё сойдёт гладко, получите третью группу. Это всё, что я могу для вас сделать.
Пётр Поликарпович с нарастающим волнением слушал эту речь, смысл сказанного доходил не сразу. Он чувствовал, что происходит что-то чрезвычайно важное и – нехорошее. Это нехорошее было во взгляде фельдшера, в его тоне. Взгляд был какой-то виноватый, словно он провожает его на казнь, готовит к смерти. Сердце вдруг застучало, во рту пересохло. Пётр Поликарпович непроизвольно напрягся. Вот сейчас он должен сказать что-то такое, что спасёт его. Нужно только найти верные слова.
– А здесь мне остаться нельзя? Пока потеплеет…
Фельдшер с минуту смотрел на него, потом ответил:
– Это невозможно. Я и так передержал вас лишний месяц. С меня ведь тоже спрашивают за каждое койко-место. Тут много желающих отдохнуть. Одна больница на всю Колыму. Сами должны понимать.
Пётр Поликарпович торопливо закивал.
– Да, я понимаю и благодарен вам. Но нельзя ли устроить меня санитаром или уборщиком? Я на всё согласен! – И он с мольбой посмотрел в измождённое лицо собеседника.
Тот снова помотал головой.
– Это совершенно исключено. Тут все с медицинским образованием. Просто так сюда никого не берут.
Пётр Поликарпович подумал секунду.
– Так, значит, меня снова отправят в лагерь?
– Да, отправят. Но есть разница – попасть на рудник или на какую-нибудь лесную командировку. Скоро уже весна, лето не за горами. Тепло будет. Если попадёте на сельхозработы, тогда для вас всё будет хорошо. Но для этого нужно получить третью группу. И я постараюсь это устроить. Если на комиссии будут спрашивать жалобы, упирайте на сердце. Жалуйтесь на аритмию, на острую боль в груди, скажите, что если резко наклонитесь, то можете потерять сознание, что так уже было не раз. Ну, чего мне вас учить? Сердце у вас и в самом деле больное. На воле вас бы из больницы не выпустили, прописали постельный режим, а потом отправили на воды, куда-нибудь в Ессентуки. А здесь свои порядки, не нам их менять. – И он испустил протяжный вздох.
Пётр Поликарпович опустил голову, ему стало трудно дышать. Снова возникли мысли о побеге. Взять и прямо сейчас убежать, пока ещё не поздно. Он посмотрел украдкой на заиндевевшее окно. За стеклом была стужа. Наступила календарная весна, а морозы держались под сорок.
– А вторую группу получить нельзя? – спросил на всякий случай.
Фельдшер отрицательно покачал головой.
– Это исключено. Могут и третью не дать. Тут всё очень зыбко. И вы на комиссии сами не говорите об инвалидности, что хотите получить группу. Они этого не любят. Жалуйтесь на сердце, говорите о болячках. Но не пережимайте! – И он предостерегающе поднял палец.
– Да, я понимаю, – кивнул Пётр Поликарпович. – Это как в книге – читатель сам должен сделать нужный вывод. А если автор будет ему навязывать своё мнение, то читатель обидится и не станет дальше читать.
Фельдшер слабо улыбнулся.
– Я сразу понял, что вы умный человек. Жаль будет, если вы погибнете. – Сказав столь сомнительный комплимент, фельдшер повернулся и быстро пошёл по коридору. Он даже не попрощался и через минуту уже забыл про Петра Поликарповича. Но все эти мелочи ничего не значили. Главное, фельдшер обещал помочь. Само по себе это было большой удачей, ведь на Колыме никто никому не помогал, каждый сражался в одиночку. Чем больше Пётр Поликарпович думал, тем яснее понимал это.
Ночью он почти не спал. Сначала не мог заснуть, всё ворочался, скрипел провисшей сеткой. Потом забылся в полусне, как вдруг раздался грохот в коридоре – послышались хриплые голоса, звуки ударов, ругань и возня – кого-то проволокли мимо двери, тяжело бухая каблуками в пол. Пётр Поликарпович тихонько поднялся и прошёл на цыпочках к двери, осторожно открыл и выглянул в коридор. Там ярко горели двухсотваттные лампочки и было пусто, лишь в самом конце виднелся пост часового – за ободранным столом сидел вооружённый охранник. Он поднял голову, и Пётр Поликарпович отпрянул. Прикрыл дверь и лёг на кровать, укрылся одеялом с головой. Хотелось спрятаться, слиться с темнотой, уснуть – и никогда уже не просыпаться. Но уснуть никак не удавалось. И он всё ворочался, всё скрипел железной сеткой, ёрзал по жёсткому матрасу. А за окном была колымская ночь. Был мороз, и была тишина – мертвящая тишина северной глуши. Взошла луна – яркая, жёлтая, в ореоле мельчайших блёсток. Встала перед окном – и прямо против Петра Поликарповича, на бледно-жёлтой стене, отчётливо отобразился крест – увесистый и мрачный. В первую секунду Петра Поликарповича обуял ужас, он увидел в этом смертный знак, будто он лежит в могиле, а в ногах у него возвышается чуть скошенный крест. Но потом оглянулся на окно и понял, что это оконная рама отбрасывает на стену такую страшную тень. Ему стало чуть легче, но ужас вовсе не прошёл, сердце всё стучало, на лбу выступил холодный пот. Ёжась от озноба, он плотнее укутался в одеяло, крепко зажмурился и постарался забыться, утратить рассудок. Некоторое время он лежал, сжавшись в комок, потом почувствовал, как по телу побежало тепло, он стал тяжелеть и словно бы проваливаться в зыбучий песок; в ушах зашумело, его закачало, и он наконец уснул – тревожным сном человека, не ждущего от жизни ничего хорошего.
Утром он проснулся с тяжёлой головой и почти без сил. Чувствовал себя совершенно разбитым. С недобрым предчувствием ждал врачебную комиссию, всё не верил, что в это утро решится его судьба. Мелькала мысль, что, если бы он вдруг упал на лестнице и сломал ногу, тогда бы комиссию отменили, а его снова стали бы лечить, наложили гипс и заставили лежать на кровати ещё несколько месяцев. Вот была бы красота, вот было бы чудо!.. И он пожалел, что не подумал об этом раньше. А теперь было уже поздно. Просто так ногу себе не сломаешь, это дело непростое, тут готовиться надо.
С такими мыслями он перешагнул порог кабинета, в котором сидели за длинным узким столом шесть человек – все в белых халатах, лишь один в военном кителе и в фуражке. На столе перед каждым лежали бумаги, у всех был усталый вид, на лицах явственно проступало недовольство. Пётр Поликарпович глянул мельком на склонённые головы и тут же отвёл взгляд, боясь показаться дерзким.
– Ну что с ним? Быстро докладывайте! – повелительно произнёс тот, что был в кителе.
Вперёд выступил долговязый фельдшер. В руках у него была история болезни Петра Поликарповича. Он перевернул первый лист и стал читать глухим голосом. Пётр Поликарпович от волнения почти ничего не понимал. Фельдшер сыпал латинскими терминами, употреблял слова: «анамнез» и «акинезия», «тахикардия» и «олигурия». Пётр Поликарпович отчего-то чувствовал себя виноватым и хотел как-нибудь исчезнуть, раствориться без следа. Лучше бы про него позабыли вовсе.
Наконец фельдшер закончил чтение и опустил бумаги, посмотрел на членов комиссии. Те молчали. По лицам их нельзя было ничего понять.
– Какие будут предложения? – задал вопрос военный, обводя тяжёлым взглядом присутствующих.
Никто не пошевелился.
Фельдшер выдержал паузу, потом заявил:
– Считаю нужным определить заключённому Пеплову третью группу инвалидности, учитывая его болезни, а также возраст и крайне ослабленное состояние организма. Общих работ он не выдержит, это совершенно очевидно. Если его послать на общие, то через месяц он снова будет здесь, и это в лучшем случае. А в худшем… – Он не договорил, но все и так поняли его мысль. И все были в душе согласны с фельдшером, но молчали, ожидая, что скажет суровый человек в кителе. Пётр Поликарпович догадался, что всё решает именно он.
Военный поднял голову, посмотрел на Петра Поликарповича таким взглядом, что тот поёжился.
– Ну-ка, пройдись по комнате! – вдруг скомандовал.
Пётр Поликарпович сделал два шага и остановился.
– Присядь… Встань… Подними руки… Голову поверни налево, теперь направо…
Пётр Поликарпович послушно исполнял приказания.
– Понятно, – молвил китель. – Вон какой здоровый лоб. Ему работать и работать. Если таким давать инвалидность, как же мы тогда выполним наказ товарища Сталина? – И он грозно посмотрел на фельдшера, который всё это время неподвижно стоял возле стола. Фельдшер спокойно встретил этот взгляд, лицо его оставалось бесстрастным.
– У Пеплова порок сердца, ревматоидный артрит, пеллагра. Он не выдержит общих работ. Это не только моё мнение. Его осматривал профессор Никитинский.
– Никитинский его осматривал, – проворчал военный. – Все вы тут заодно. Разогнать вас надо к едреней фене, чтоб не мутили воду. Устроили богадельню. Отправлю вас всех на штрафняк, узнаете тогда и артрит, и гидропирит, и пирог с перцем.
Пётр Поликарпович стоял ни жив ни мёртв. В эту секунду он был готов ко всему. Если бы его прямо из кабинета повели на расстрел, он бы не шибко удивился. Но расстреливать его пока было не за что. Да и не с руки. Не для того везли его на Колыму длинным этапом, чтобы здесь так просто убить. Прикончить его можно было и в Иркутске безо всех этих хлопот. Но раз уж привезли, надо было выжать из него все соки, получить максимальную отдачу, а уж потом пусть подыхает – не жалко! Так странно получалось, что от таких вот доходяг, от миллионов измученных, полностью выпотрошенных людей зависело благополучие огромной страны! Чтобы там, на материке, миллионы граждан ели по утрам батон с маслом, а вечером ходили в театры и на стадион – здесь, на Колыме, должны были издыхать от непосильной работы сотни тысяч таких вот Пепловых, Ивановых, Сидоровых. Такая получалась диалектика по Сталину, такой закон единства и борьбы противоположностей по-советски. Такая высшая справедливость.
– Всё, свободен! – кивнул на дверь китель. – Пошёл вон!
Пётр Поликарпович вышел на негнущихся ногах. Потом стоял возле стены, рассматривал потёки бурой краски и словно бы вспоминал что-то важное, будто он упустил нечто такое, от чего зависела его жизнь. Но вспомнить никак не удавалось, он не мог ни на чём сосредоточиться, мысли прыгали с одного на другое, и всё вокруг казалось нереальным, призрачным. Его бил мелкий озноб, дыхание было прерывистым.
Наконец вышел фельдшер. Приблизился с мрачным видом и произнёс, глядя мимо Петра Поликарповича:
– Всё хорошо. Вам дали третью группу. Поздравляю. – Последнее он произнёс таким тоном, будто отдавал приказание или сообщал суровую весть. Потом наклонил голову и быстро пошёл по коридору, глядя себе под ноги. Пётр Поликарпович хотел что-нибудь ответить, но так ничего и не придумал, лишь проводил взглядом долговязую фигуру. Он чувствовал подспудную радость, но всё равно продолжал тревожиться, будто обманул высокую комиссию и сейчас обман выяснится, а его примерно накажут. Но никто не обращал на него ровно никакого внимания. В страшный кабинет проникали всё новые больные, без рук и без ног (безногих затаскивали на носилках, одноногие прыгали сами), с перевязанными головами (похожие на мумии); были и такие, как Пётр Поликарпович, без видимых изъянов. Из-за двери слышались голоса, то требовательные и громкие, то тихие и слезливые, с просящими нотками. Высокая комиссия быстро управлялась. Приближалась весна, вот-вот должен начаться промывочный сезон. Сотни приисков настойчиво требовали рабочие руки – взамен тех, кто ушёл под сопки, потерял здоровье и уже не мог выдавать на-гора «кубики». Все увечные и обессилевшие, способные держать лопату хотя бы одной рукой и прыгать на одной ноге, должны были вернуться туда, откуда они были выброшены как шлак, как отработанный материал. Чудовище не хотело отпускать свои жертвы, никак не могло насытиться. В его бездонную утробу падали всё новые жертвы.
Пётр Поликарпович вернулся в свою палату. К нему сразу подступил Александр Иванович. Узнав про инвалидность, он просиял. Лицо расплылось в счастливой улыбке.
– Поздравляю! – произнёс с чувством. – Признаться, не думал, что вам дадут инвалидность. Раньше такого не было. Значит, что-то меняется. У нас появляется надежда.
Пётр Поликарпович пожал плечами.
– Не знаю, что сказать. Не сегодня завтра меня отправят в лагерь. А что там будет – одному Богу известно. Или чёрту.
– Ну уж! Зачем так мрачно? У вас в деле теперь будет стоять штамп – «ЛФТ». Вас больше не заставят катать тачку целый день. На этот счёт есть строгие инструкции.
Пётр Поликарпович тяжко вздохнул.
– Не знаю. Там, где я был – нет никаких правил. Инвалид, не инвалид – всё едино. Начальник прикажет – и все идут на работу. А за отказ – карцер. Я три дня просидел. Еле жив остался.
Александр Иванович кивнул.
– Ну да, конечно, бывает и такое. Но теперь весна, скоро станет тепло. Не думаю, что вас снова отправят на дальние прииски. Возле Магадана полно лагерей. Тут где-нибудь и оставят. Здесь и зима не такая холодная. На побережье так вообще морозов почти не бывает. Вот бы нам с вами тут где-нибудь пристроиться! Как вы думаете?
Пётр Поликарпович улыбнулся против воли.
– Да, было бы неплохо. Хотя и в обычном лагере могут все жилы вытянуть. Попадёшь к злому бригадиру, или дневальный тебя невзлюбит – и всё, хана. Никакая инвалидность не поможет. Последнюю шкуру с тебя спустят.
Александр Иванович тяжко вздохнул.
– Это тоже верно.
И оба погрузились в невесёлые размышления.
Но грустить на Колыме некогда. Всё движется и меняется каждую секунду. Не успел заключённый сомкнуть глаза, как уже его будят на работу. Только-только присел отдохнуть, как следует грозный окрик, а то и подзатыльник: нечего сидеть без дела, надо вкалывать, кругом проклятые империалисты, нужно трудиться не покладая рук, а то задавят нас, сволочей, другие сволочи! Вот и Петру Поликарповичу не оставили времени на бесплодные сомнения и сожаления. Уже на следующее утро ему выдали на складе зимнюю одежду и повели к больничным воротам, где собирался этап. В кузов грузовика набилось больше двадцати человек. Быстрая перекличка – и машина выехала из ворот. Заключённые с тоскливыми лицами смотрели на удаляющиеся ворота, видели, как боец в белом тулупе смыкает створки, а потом заходит в будку-проходную. Дверь закрылась, и всё замерло. Этот оазис милосердия среди необъятной ледяной пустыни остался в прошлом, пути назад не было. Все это понимали. Никто сюда уже не вернётся.
Теперь всё внимание было обращено на дорогу. Пётр Поликарпович знал, что до основной трассы шесть километров. И если они свернут налево, тогда всё будет хорошо; слева – Магадан и бухта Нагаево, пароходы и неоглядная морская даль. А если повернут направо, тогда всё очень плохо. Там – страшная Колымская трасса со всеми её лагерями, штрафняками, спецзонами, ОЛП и командировками – две тысячи километров аж до самого Якутска. В эту сторону лучше не сворачивать (была б граната – бросил бы под колесо!).
Грузовик ЗИС-6 – с квадратной кабиной и сдвоенным задним мостом – быстро ехал по зимней трассе, оставляя за собой снежную взвесь. Окрестный пейзаж не отличался разнообразием – во все стороны расстилалась холмистая равнина, укрытая толстым слоем снега. Кое-где из-под снега торчали чёрные кусты, а деревьев не было вовсе. Вдали, за десятки километров, были едва различимы горы с округлыми вершинами. И ни дымка, ни намёка на жизнь. Вся эта равнина казалась вымершей. Да так оно и было, потому что всё то, что пряталось в её волнообразных складках, нельзя было назвать жизнью; в лучшем случае – существованием, тотальным стремлением спрятаться от жестокой реальности.
Грузовик наконец приблизился к основной трассе. Все замерли, кажется, даже сердца перестали стучать! И как только передние колёса въехали на утрамбованный наст, так сразу машину повело вправо, и ещё, и ещё…
Послышался вздох разочарования.
– Сволочи, – отчётливо произнёс кто-то, – не могли на местную отправить!
Никто больше не проронил ни слова. Пётр Поликарпович крепко стиснул зубы. Опустил голову и несколько минут просидел в согнутом положении, стараясь успокоиться, говоря себе, что ещё ничего страшного не случилось, до Яблонового перевала далеко. Тут поблизости много лагерей, не может быть, чтобы их отправили за пятьсот километров, когда и здесь полно работы. Нет, не может! (Почему этого не может быть, он и сам не знал, но крепко в это верил.) А машина уже мчалась по заснеженной трассе, прибавляя ход. Замелькали прямоугольные столбики по обочинам, заискрился снег. Некоторое время Пётр Поликарпович внимательно следил за дорогой, потом перестал. Слишком это было муторно.
Летели минуты, оставались позади километры. Всё дальше от больницы, от Магадана, от Нагаевской бухты. Ступит ли он когда-нибудь на побелевшие от соли брёвна причала? Взойдёт ли на корабль, идущий на материк?
– Уптар проехали, сорок седьмой километр, – услышал Пётр Поликарпович. Поднял и тут же опустил голову. Машина ревела, в ушах свистал ветер. Было страшно, холодно, жутко.
Проехали ещё полчаса, и вновь кто-то всезнающий крикнул:
– Палатка! Палатку проезжаем! Вон она!
Все подняли головы. И точно – с левой стороны виднелись деревянные строения. Пётр Поликарпович смутно помнил, что был здесь осенью, они тогда делали остановку. Но теперь он не мог узнать это место. Да оно и ни к чему было – машина промчалась мимо, даже не притормозив. И уж после этого всякие сомнения отпали – их везут куда-то очень и очень далеко – умирать.
Но прогнозы на Колыме – штука ненадёжная. Через несколько минут Пётр Поликарпович в этом убедился. Грузовик отъехал от Палатки несколько километров и вдруг стал поворачивать налево. Секунда – и они уже мчатся куда-то в сторону, основная трасса осталась позади, а впереди показалась речка и деревянный мост. Вот и мост остался позади, машина свернула влево и поехала в обратную сторону, параллельно основной трассе. Через минуту – резкая петля вправо, и машина помчалась вглубь материка.
– Куда это мы? – крикнул парень от борта.
Некоторое время все всматривались в быстро меняющийся пейзаж, словно не веря себе. Потом кто-то уверенно сказал:
– Это мы на Теньку свернули. Я тут бывал. Трассу тянут аж до самого Сусумана, года три уже. Тоже не сахар. Гиблые места.
Все разом обернулись.
– А чего тут ищут?
Заключённый махнул рукой.
– Да всё то же. Золота навалом. Оловянные рудники. Дорожные участки. Хрен редьки не слаще. Но есть тут, ребята, скажу я вам, особый лагерь – Бутугычаг называется. Тысяч пятьдесят народу в нём сидит! Во как! Не приведи господь попасть туда. Если только нас везут туда, тогда нам всем крышка, верно говорю. Полгода повкалываешь – и каюк.
Повисла тягостная пауза. Потом кто-то спросил:
– А далеко до этого гутугычага?
– Километров двести с гаком.
Машина тем временем мчалась точно на север. Трасса была ровная, прямая, с плавными извивами. По обеим сторонам стояли стеной невысокие кусты, а впереди вздымались горы. И чем дальше они ехали, тем горы становились выше, мрачнее. Машина незаметно шла на подъём и через полчаса оказалась на возвышенности, откуда открывался роскошный вид на сотни километров. Во все стороны тянулись хребты, составленные из каменных глыб, покрытые снегом и льдом. Пейзаж был чудесный и какой-то жуткий, от него веяло холодом и первобытной силой. Заключённые заворожённо взирали на эту дикую красоту. Одолев перевал, машина покатилась под уклон, помчалась по длинной пологой дуге, пока не вылетела на равнину, и снова понеслась прямо, вздымая облака снежной пыли. Пётр Поликарпович стал мёрзнуть. В спину тянуло холодом, задувало за воротник, лицо горело огнём, дышать становилось всё трудней. Очень хотелось есть, нутро просило тепла, горячего чаю, а ещё лучше – миску супа (кажется, выпил бы через край единым духом!). Голова раскалывалась от надрывного гула, поясницу ломило, а машина неслась и неслась вперёд, глотая километры, оставляя позади сопки, заснеженные поля и чахлую растительность. Всем было неуютно, тревожно и тягостно, но нужно было терпеть, как бы тяжко ни было. Лагерь учит человека терпению и кротости. Наука эта – наиглавнейшая для любого заключённого, если только он не хочет погибнуть в первые же дни.
На семьдесят втором километре машина притормозила и свернула на боковой просёлок, резко накренилась на левый борт и медленно поехала по заснеженной извилистой дороге. Все разом встрепенулись, закрутили головами.
– Никак свернули?
– Точно!
– Куда это мы?
Но никто ничего не знал. Между тем грузовик с заключёнными приближался к Мадауну – небольшому посёлку, вытянувшемуся вдоль берега причудливо извивающейся речки Магдавен. В пойме реки, среди камня и песка, расположилось дорожно-строительное управление, отсюда были пробиты зимники к целому вееру лагерей, добывающих касситерит и золото. К одному из этих лагерей и направлялся грузовик с заключёнными. До лагеря было не так уж далеко – двадцать семь километров. Но в иные месяцы эти километры легче было пройти пешком, нежели проехать на грузовике. Дорога вела на восток и тянулась берегом Армани – довольно крупной речки, берущей начало в отрогах Колымского нагорья и впадающей в Охотское море в шестидесяти километрах западнее Магадана. Летом, когда вода поднималась, дорога становилась непроходимой. Весной, в ледоход, тут и вовсе было не пробраться. Лишь поздней осенью, когда вода спадала, грузовики могли проехать по обнажившемуся руслу. Зимой ездили по льду, предварительно очистив трассу от снега. Недостатка в рабочей силе не было – пять больших лагерей расположились по берегам Армани – в глубоких распадках, среди каких-то марсианских пейзажей, под бездонным тёмно-синим небом. Горы были высокие, с крутыми подъёмами, неприступные на вид. Но что может устоять перед напором революционных масс, перед мощью социалистического строительства?
На высоченных сопках, на самой крутизне – руками безотказных заключённых были построены циклопические сооружения из железобетона, протянуты металлические тросы и проложены самые настоящие рельсы (это там, где приходилось карабкаться на четвереньках). По этим рельсам спускались с верхотуры гружённые касситеритом вагонетки, а обратно возвращались порожние. На самом верху, среди кедрового стланика и мхов, были вырублены в земле огромные пещеры. Неподатливый грунт рвали аммонитом и кромсали железными кайлами, забрасывали лопатами в вагонетки и отправляли вниз, на обогатительную фабрику – день и ночь, день и ночь! Арманская обогатительная фабрика, заброшенная в эти необжитые места, давала столь нужное стране олово. И если бы понадобилось спуститься за оловом на дно Северного Ледовитого океана – заключённых отправили бы и туда, в подводных лодках и просто так, в чём есть. Не так далеко было время, когда алчущие взоры большевиков устремятся к звёздному небу, где плавает среди ночного эфира никем не тронутая Луна и летают во множестве никем не учтённые астероиды, состоящие из молибдена, никеля и всего того, чего так не хватает советским домнам и мартенам. Но сталинские соколы никак не могли оторваться от грешной земли (потому что создатель советской космической индустрии, будущий академик Королёв, трудился тут же, на Колыме, на прииске Мальдяк, что в тридцати пяти километрах севернее Сусумана, – наравне с другими заключёнными таскал носилки с золотоносным песком, кайлил вечную мерзлоту, жевал мёрзлую пайку своими сломанными во время пристрастных допросов челюстями и едва-едва не отдал душу Богу, каким-то чудом уцелев и вернувшись на материк). Но всех этих чудес никто тогда не знал и не предполагал. Сам Королёв не ведал своего будущего – не мог и помыслить, что сменит лагерную робу на цивильный костюм, будет жить в Москве и отправит в космос Юрия Гагарина, за что получит ордена и престижные звания, а также почёт и уважение, какие редко кому достаются в этом жестоком и циничном мире.
Двадцать семь километров – не бог весть какое расстояние. Но двухосный ЗИС одолевал его целых три часа. Редко когда удавалось проехать строго по прямой хотя бы двадцать метров. Дорога всё время петляла и пряталась, иногда вздыбливаясь, а то пропадая вовсе. То она шла по замёрзшему руслу, то поднималась на заснеженный берег, чтобы тут же спуститься обратно; ни одной секунды из этих трёх часов заключённые не сидели спокойно. Их кидало то в одну сторону, то в другую, сперва все дружно валились назад, цепляясь за борта и скамейки, а потом всем скопом наваливались на кабину, так что та трещала и гнулась. Слышались проклятия и стоны, а машина всё урчала, всё переваливалась на ледяных торосах, всё ехала по ложбине между мрачных нависающих склонов. Уже стемнело, окрестные горы скрылись в густой черноте. Солнце опускалось позади машины, а та устремлялась в надвигающуюся тьму, словно в преисподнюю. Становилось всё холоднее, всё глуше. Пётр Поликарпович поминутно тёр ладонями щёки и нос и тут же хватался за борта, чтоб не расшибиться от резкого толчка. Кто-то уже плевался кровью, кто-то стонал, и все желали одного: чтобы проклятая дорога поскорей закончилась. Все понимали, что не может такой маршрут длиться вечно. Ведь ехали они не на страшный север, а на восток – по направлению к Колымской трассе, огибающей весь этот участок справа и уводящей на северо-запад.
Наконец-то этот жуткий рейс был окончен. Машина последний раз взревела и стала, мотор дёрнулся и затих. С минуту заключённые сидели не шевелясь, оглушённые, словно не веря себе. Воцарилась мёртвая тишина. С обеих сторон высились мрачные громады. Белая лента реки убегала вдаль, теряясь во тьме. Небо было тёмное, беззвёздное, глухое. Всё вокруг было непроглядно, как если бы они очутились на другой планете, где нет жизни, нет тепла и нет света. Однако жизнь тут всё-таки была. На берегу, скрытый невысокими раскидистыми деревьями, похожими на громадно разросшиеся кусты, расположился довольно большой лагерь, официально именуемый весьма сухо: «Обогатительная фабрика № 6 Тенькинского горнопромышленного управления». Сжатый крутыми сопками и стоящий на вечной мерзлоте, куда почти не попадали солнечные лучи, лишённый всякой связи с внешним миром, лагерь этот был поистине гиблым местом. Оловянные рудники были ничем не лучше рудников золотых. Там и здесь – неподатливый камень, впрессованный в недра гор. Там и тут – тачка и кайло, сделанные по одному шаблону. Там и здесь взрывные работы, двенадцатичасовой рабочий день, скудное питание и непосильные нормы, придуманные в тиши кабинетов людьми, которым никогда не приходилось целый день махать кайлом и катать стокилограммовые тачки. И везде заключённых бьют и унижают, везде из них стараются вытрясти душу, словно они не люди, а зловредные насекомые – вроде вшей, которых нужно уничтожать каждую секунду, каждый день и в любом месте, как только увидишь!
Заключённые не без труда выбирались из кузова, спускались на заснеженный лёд реки и подавленно озирались. Никто не ожидал увидеть столь мрачную картину. Если бы они приехали днём, впечатление было бы не столь удручающим – светило бы солнце, а небо было бы синим и снег блестел бы. Но теперь, в непроглядной тьме, после тряской изматывающей дороги на тридцатиградусном морозе, все чувствовали себя вконец вымотанными – ноги не гнулись, спины одеревенели, и мысли ворочались тяжело. Конвой не дал им времени одуматься. Последовала команда на построение, и колонна из двадцати человек двинулась в лагерь. Они прошли по заснеженному руслу Армани несколько десятков метров и повернули налево; река в этом месте раздваивалась: основной поток уходил прямо, на восток, а слева был небольшой рукав – ручей Светлый. На берегу этого ручья им теперь предстояло жить и работать. Здесь, в довольно густом заснеженном лесу, среди лиственниц, чосинии, брусничника и вездесущих мхов, стояли деревянные бараки, сделанные всё из той же лиственницы и устроенные прямо на земле. Бараки были приземистые, узкие, длинные и страшно холодные (как и всё здесь). Внутри было темно и смрадно. Стояли двухэтажные сплошные нары; в середине – двухсотлитровая железная бочка с самодельной трубой из жести, служившая вместо печки. Посреди прохода расположился узкий стол из неструганых досок. В сенях стояла деревянная параша. А окон не было вовсе (да и зачем они? – только холод запускать). Таких бараков тут было несколько десятков. Территория лагеря была огорожена колючей проволокой, натянутой прямо на деревья; по периметру ограды возвышались караульные вышки. Сама фабрика расположилась на берегу Армани и являла собой удивительное зрелище: посреди леса, в окружении заснеженных гор высились десятиметровые бетонные блоки. Они казались здесь нелепыми, инородными, ненужными. Было непонятно, как эти огромные глыбы были сюда доставлены? И главное – зачем? Кругом – крутые осыпающиеся склоны, изломанный ветрами и морозами лес, кругом холод и полное безлюдье. Но наперекор всему здесь была построена исполинская фабрика, где было всё то, что и бывает на подобных производствах: дробильные машины, транспортёры, конверторы, ротационные машины и генераторы электрического тока. Но главной движущей силой были, конечно же, люди – бывшие писатели и журналисты, актёры и секретари райкомов, крестьяне и машинисты локомотивного депо, бухгалтеры, врачи, учителя, недоучившиеся студенты… Всем им предстояло начать жизнь заново, освоить рабочую специальность, получить социальный статус и заслужить уважение товарищей. Былые заслуги тут никакой роли не играли. Всё нужно было начинать с нуля – неважно, двадцать тебе лет или шестьдесят. Скидки никому не делали. От каждого – по труду, и каждому – пайку в зубы (а кому и дрыном по хребту).
Задыхаясь в разреженном морозном воздухе, с трудом переставляя ноги в сыпучем снегу, Пётр Поликарпович брёл за своими товарищами. У лагерных ворот заключённых пересчитали, сверились со списком, потом запустили внутрь. Всем хотелось поскорей попасть в тепло, получить ужин и упасть на нары. О завтрашнем дне никто не думал, все жили настоящей минутой, мечтали пережить лишь её, невольно исполняя завет Иисуса: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы». Заключённые и хотели бы позаботиться о завтрашнем дне, но это было невозможно. Личные желания тут ничего не значили. Всё делалось по приказу, по грубому принуждению. Всеми руководила чужая воля. И все должны были этой воле покориться.
На ночь всех прибывших загнали в тёмный холодный барак. Им не дали ни ужина и ни куска хлеба, не сказали ни одного ободряющего слова. Захлопнули тяжёлую дверь и закрыли снаружи на замок. Возиться с ними никому не хотелось, да и чего беспокоиться? Лагерное начальство рассуждало очень здраво: ко всему привычные зэки дотерпят до утра без воды и без хлеба – чай, не подохнут. И холод как-нибудь перенесут. Всё это было многократно проверено и не вызывало вопросов. Было установлено опытным путём, что заключённых можно не кормить целую неделю – ничего страшного при этом не случится. Для острастки можно расстрелять пару десятков человек, а остальные сами успокоятся, ещё и рады будут, что живы остались. Вот и этих доходяг, прибывших в лагерь прямо из больницы, никто и не думал как-то по-особому встречать. Да и шутка ли – цельную зиму припухали в больничке! Пора бы и честь знать.
Утром их подняли, как и положено, – в шесть часов. Пришёл хмурый нарядчик в бушлате и грязных валенках и, хмуро глядя в список, быстро распорядился – кого и куда определить. Пётр Поликарпович попал на общие работы. Его и ещё двоих заключённых забрал тут же стоявший бригадир. Он скептически оглядел пополнение, криво усмехнулся и распорядился:
– Топайте за мной.
Топать было не очень далеко. Четверо человек вышли из барака и сразу же погрузились в морозную мглу, от которой прихватывало дыхание. Пётр Поликарпович закашлялся. Морозный воздух резал лёгкие, так что нельзя было глубоко вздохнуть. Он прижал рукав к лицу и так шёл, втянув голову в плечи, почти не видя тропы. Над головой стояло звёздное небо, ярко светили звёзды в ледяной пустоте, и нельзя было поверить, что уже утро, так было темно и глухо. Но лагерь уже не спал. Из бараков выходили чёрные фигуры, резко скрипел снег под ногами, слышался надрывный кашель, кто-то ругался, кто-то кричал фальцетом, тут же шастал конвой с винтовками – начиналось обычное утро обычного колымского лагеря. Бывалые заключённые уже приноровились к раннему подъёму, к морозу и грубости всех вокруг, не исключая своих же товарищей, они молча выходили из барака, привычно вставали в строй и послушно исполняли приказания, экономя дыхание, не тратя попусту силы. А новички постигали науку выживания подобно зверям, которых дрессируют и калечат, когда за каждое неверное движение следует грозный окрик и удар бича. Хотя следует признать, что с дикими животными обращаются гораздо гуманнее: их не морят голодом, не выгоняют на сорокаградусный мороз и не заставляют весь день работать на этом морозе. Оно и понятно: при таком обращении все животные давно бы уже передохли. Но человек выносливее любого животного, это уже доказано. Там, где дохнут лошади и околевают собаки, где ни одна тварь не выдержит и нескольких суток – человек выдерживает недели и месяцы, а иногда и целые годы. И никому это не кажется удивительным.
Вслед за бригадиром Пётр Поликарпович вошёл в своё новое жилище – барак, ничем не отличающийся от остальных. Бригадир показал новичкам их места на нарах и объявил, что прямо сейчас они должны идти в столовую, а потом на работу.
Пётр Поликарпович решил сразу объясниться.
– Мы только что из больницы, – произнёс он отрывисто.
– Ну и что? – спокойно ответил бригадир, молодой мужчина с круглым лицом и равнодушными глазами.
– То есть как… – растерялся Пётр Поликарпович, – мне инвалидность дали, третью группу. Сказали, что на общие работы меня больше не пошлют, будет лёгкий физический труд. У меня и в деле так записано.
Бригадир усмехнулся.
– А это и есть лёгкий физический труд. У меня вся бригада такая. Норма для вас – пятьдесят процентов от обычной выработки. А пайку получать будете за все сто. Понятно? – И он подмигнул.
Пётр Поликарпович хотел было кивнуть, но отчего-то удержался. Про половинную норму он уже знал, но он ведь не об этом спрашивал. Почему его отправили на общие работы – вот что его волновало! Он и по золотому забою знал, что половинная норма выработки может загнать человека в могилу, особенно если у него больное сердце. Но как всё это растолковать бригадиру?
– Ладно, хватит трепаться, – вдруг отрезал тот. – Побудете пока у меня, а там видно будет.
Делать было нечего. Все трое переглянулись и пошли вон из барака.
Этот первый день в новом лагере особенно запомнился Петру Поликарповичу. Он всё-таки надеялся, что будет легче, чем на золотом прииске. Но здесь оказалось даже тяжелее (несмотря даже на половинную норму). В бараке было холоднее. Кормили хуже. А к месту работы приходилось карабкаться по засыпанному рыхлым снегом крутому склону. На гору карабкались – кто как умел. Пётр Поликарпович с непривычки несколько раз падал и скатывался на несколько метров, цепляясь за колючий стланик и за что придётся, ломая ногти, сдирая кожу с пальцев. Кое-как добрался до вершины. А там – ледяной ветер, продувающий насквозь. Сразу захотелось лечь, спрятаться в какую-нибудь нору. Бригадир махнул рукавицей на круглое отверстие в горе, из которого выходила узкоколейка. Остальные заключённые уже шли к отверстию, скрывались в тёмной дыре; пошёл вслед за всеми и Пётр Поликарпович.
Это был шахтный ствол, входящий в гору под крутым углом. От ствола ветвились в разные стороны квершлаги – подземные выработки, где работали забойщики. Всё это напоминало откатку на золотом прииске, с той лишь разницей, что там всё происходило под открытым небом, а здесь было упрятано под землю, в недра каменной горы. На прииске приходилось катать тачку по деревянному трапу, здесь же были вагонетки, катившиеся по железным рельсам. Где было легче?.. Этого нельзя было так сразу сказать. Трудно было и там и тут. Внутри горы не было пронизывающего ветра, но не было и солнца! Работать приходилось в полутьме и в страшной зажатости, при свете тусклых и страшно неудобных карбидных ламп. Ну а инструменты были всё те же – выкованное из железа кривое кайло, совковая лопата с сучковатой ручкой, а ещё кувалда и железные клинья для разбивания камня – всё какое-то допотопное, страшное и очень неловкое. В первый день Пётр Поликарпович испробовал и кувалду, и кайло и вполне убедился, что даже половинная норма – пять кубов оловянного камня – вещь для него непосильная. Он уже имел опыт такой работы и знал, что сил хватит ненадолго. Неделя, от силы – две. А потом… Потом будет то же, что было на золотом прииске. Штрафной изолятор, побои (сначала умеренные, а потом до крови и увечья), физическое истощение, утрата последних сил и – смерть. До лета он здесь вряд ли дотянет. Был только конец марта, а тепло придёт лишь в мае. Да и что толку в этом тепле? Внутри горы вечная мерзлота, лёд на стенах не тает и в июле. Если Петра Поликарповича не переведут на другую работу, тогда дело его дрянь. Зря его возили в больницу. Уж лучше бы всё закончилось там, в ледяном Хатыннахе. А ещё лучше – в пересыльном лагере под Магаданом, когда было тепло и были ещё силы. Отказался бы от работы – и его бы расстреляли без лишней волокиты. И не было бы всех этих мучений.
Думая обо всём этом, чувствуя подступающее к сердцу отчаяние, Пётр Поликарпович изо всей силы бил кайлом в мёрзлую стену. Стоять просто так было нельзя, да он бы и замёрз, если б не работал. И он поднимал и опускал железный снаряд, высекая искры из камня, отворачиваясь от летящих в лицо осколков. Вагонетка наполнялась очень медленно, до обеда с трудом удавалось наполнить одну, и ещё одну – до конца рабочего дня. Это и была половинная норма – пять кубов за смену. А целая норма – в десять кубов – казалась фантастической. Но кто-то же совершал и этот подвиг, получая усиленный паёк! Кому-то же давали премиальное блюдо в лагерной столовой! Пётр Поликарпович давно понял, что никакие блюда и никакие усиленные пайки не восполнят силы после такого вот труда. Вручную нарубить в скале десять кубометров камня, потом съесть полтора килограмма хлеба, пару мисок баланды и лечь на голые нары в холодном бараке, проспать сном животного шесть или семь часов – и снова идти в ледяной забой, так несколько месяцев подряд, – всё это находилось за пределами человеческих сил. Однако деваться было некуда – надо было работать или же умереть сразу. Отказчиков расстреливали – на всех приисках, во всех лагерях вполне официально убивали заключённых за три отказа от работы, на то был специальный указ. Расстреливали даже и за невыполненную норму, приравнивая это к саботажу. Впрочем, заключённый, получавший штрафной паёк, всё равно был обречён на смерть. Вокруг каждого колымского лагеря были безымянные кладбища – без крестов, без каких ни то знаков. В тридцать седьмом году хоронили поодиночке, а уже начиная со следующего года – только скопом, только в братских могилах – по несколько десятков или даже сотен скрюченных тел зараз. Потому что каждому заключённому рыть могилу не было никакой возможности. Да и гораздо удобнее это – свалил всех в кучу, завалил камнями – и нет ничего! Ни памятного знака, ни единой фамилии. Словно и не было на свете всех этих людей, не рожали их матери, не мечтали все они о счастье, не строили планов на будущее.
Пётр Поликарпович понимал, что из этого лагеря живым его не выпустят. Если бы он протянул хотя бы год, тогда ещё была б надежда на перевод в другой лагерь. Но целый год он здесь не выдержит. До лета ещё можно как-нибудь дотянуть. А что потом? Снова пятидесятиградусные морозы и убийственный труд? Сердце уже сейчас работает с перебоями, и все суставы болят так, что невмочь. Нет, целый год он не сдюжит. Оставалось лишь одно – бежать из этого лагеря. Надо только дождаться тепла. Ну и составить какой-нибудь план. Самое простое – сплавиться по реке. До Охотского моря километров двести. Можно за трое суток доплыть. А что там будет дальше, Пётр Поликарпович не загадывал. Казалось: только бы добраться до берега, увидеть море, и всё сразу же образуется. Без этой веры он не смог бы дальше жить. Просыпаясь утром в насквозь промороженном бараке, он думал лишь о том, как наступит тепло и как он поплывёт по реке на плоту мимо высоких гор – всё дальше и дальше, прочь от лагерных вышек, от уродливых бетонных блоков, от грохота дробильных машин – к свету и теплу, к вольной жизни на берегу необъятного океана, за которым скрываются тёплые страны и добрые люди. В глубине души он понимал, что всё это утопия, несбыточные мечты. Но красочные видения упрямо вставали перед глазами, он никак не мог их прогнать. Ступая по скрипучему снегу под холодным светом неподвижных звёзд, чувствуя обжигающий холод на шее и на щеках, он видел внутренним взором синее море и жёлтый песок, ступал по этому песку босыми ступнями, чувствовал тёплую набегающую волну, слышал крики чаек, рассекающих воздух.
И лицо его расслаблялось в блаженной улыбке, так что товарищи косились на него, потом переглядывались и кивали друг другу с понимающим видом. Им казалось, что этот нелепый старик потихоньку сходит с ума. Они так и ждали, что он выкинет какую-нибудь штуку: бросится с кручи вниз, или запустит кайлом в охранника, или вдруг зальётся идиотским смехом, так что придётся его бить, пока не издохнет. Но Пётр Поликарпович лишь тихо улыбался и ничего такого не вытворял. Все так и решили, что помешательство его безобидное. Интерес к нему постепенно угас.
Только бригадир всё присматривался, всё хмурился, глядя на Петра Поликарповича. Этот заключённый не нравился ему. Он сразу почуял в нём чужака. Этот внимательный взгляд, тихая речь, повадки интеллигента – всё было чужое и чем-то очень неприятное. «Иван-иванычей» в лагерях не любили. Как-то ещё терпели работяг, подтрунивали над деревенской простотой, в открытую смеялись над попами, но вот интеллигенты здесь были на особом счету. Им мстили за все унижения, подлинные и мнимые, которые эти умники чинили простым советским людям на воле. Там они командовали и ухмылялись, важничали и чванились; здесь же им пришлось хлебнуть всего того, что с рождения хлебали «простые советские люди» без высшего образования – пахари и работяги, слесари и лудильщики. Всю свою злобу, все обиды и все унижения возвращались к интеллигентам сторицей. И это казалось всем правильным и справедливым. Не надо было гордиться на воле, не пришлось бы теперь раскаиваться и плакать горючими слезами.
Пётр Поликарпович чувствовал нарастающую враждебность товарищей. С ним не разговаривали нормальным языком, то и дело толкали при выходе из барака («Ну ты, ходи да поглядывай!»), не пускали за общий стол в столовой («Жри стоя, так больше войдёт!»), ему доставались худшие инструменты при утренней раздаче в инструменталке – погнутые лопаты и слетающие с деревянной ручки кайла. Он всё это терпел. Силы постепенно убывали, и он считал каждый прожитый день.
В середине апреля вдруг подул тёплый ветер с юга. Пётр Поликарпович вышел из шахты, повернулся навстречу тёплому ветру, расправил плечи и стал глубоко дышать; в голове приятно зашумело, почувствовалось что-то очень хорошее, хоть и бесконечно далёкое. Солнце стало раньше показываться из-за соседней горы. Но снег ещё не таял, не сбегал ручьями по склонам, а как бы испарялся, истончался и сходил на нет. Пётр Поликарпович внимательно рассматривал открывающуюся перспективу. Хорошо было смотреть с высоты. Было видно, как река изгибается вправо, пробивая себе путь среди каменной гряды. Огибая лагерь и стоящую на берегу фабрику, речка стремилась на запад, а потом должна была повернуть на юг, к морю. При мысли о том, как он поплывёт по этой речке на плоту, у него сладко ныло сердце. О том, что по обеим берегам Армани стоят оперпосты, что через тридцать километров река достигает Мадауна, в котором полно народу и плот сразу заметят, – Пётр Поликарпович не думал. Всё это было лишнее, мешающее счастью. Он не мог лишить себя надежды на спасение, какой бы призрачной она ни была. Если бы надежда исчезла, он не смог бы дальше жить.
В конце апреля его перевели в другую бригаду, и это был добрый знак. Больше не надо было подниматься на проклятую гору и весь день долбить мёрзлый камень. Теперь он ходил за дровами за территорию лагеря, собирал хвою стланика в большие кули, носил воду с речки в столовую и баню. Всё это не шло ни в какое сравнение с ледяным штреком. Тут было разнообразие впечатлений, можно было перевести дух и оглядеться. И главное – не было производственного плана, никто не стоял над душой и не требовал «кубики», не пугал карцером, не замахивался лопатой и чем придётся. Да, это было доброе предзнаменование! К тому же Пётр Поликарпович получил возможность осмотреть местность, пройтись по лесным тропам, лучше узнать обстановку вокруг лагеря. Обычно они с утра уходили на север по узкому распадку вдоль ручья; местность едва заметно шла на подъём, слева высилась гора, а справа тёк ручей. Здесь же росли невысокие лиственницы, белки проворно скакали по веткам, а над головой сквозило синевой безоблачное небо. И хотя по утрам было морозно, уже чувствовалось всепобеждающее дыхание весны. Снега становилось заметно меньше, обнажались белёсые зеленоватые мхи, и уже можно было найти прошлогоднюю ягоду среди травы – бруснику и голубику. Ягоды были маленькие, сморщенные, бордового и фиолетового цвета. Но вкус у ягод был потрясающий, какой-то космический – сладко-кислый, чуть забродивший. От ягод кружилась голова, тело становилось невесомым, хотелось упасть среди кустов и лежать так, вдыхая странные запахи оттаивающей земли. Это был не запах цветов, и не благоухание трав, и не весенняя прель, а что-то острое, со скипидарным привкусом, и вместе с тем пряное, кружащее голову. Запах казался неприятным, порой невыносимым, и в то же время хотелось вдыхать его всей грудью, упиться диковинной смесью, составляющей глубинную суть этой сопротивляющейся жуткому холоду земли. Мысли прояснивались, становились особо чёткими и почти осязаемыми, взгляд обретал остроту и выхватывал мельчайшие детали; все предметы в лесу, все камни, деревья, ветки и рыжая хвоя на земле – всё это чувствовалось самым непосредственным образом, словно было частью естества, его продолжением и тайной сутью. Хотелось взять в руки иссохшие хвоинки и растереть их в пыль; было неодолимое желание слиться с оживающей от зимней спячки землёй, стать частью этой молчаливой природы, раствориться в ней без остатка. Вся прошлая жизнь казалась Петру Поликарповичу одним пёстрым сновидением. Книги, писательские съезды, Максим Горький, революция, бравурные марши, пятилетки, всеобщий энтузиазм… Было ли это всё? Он ли писал книги о Гражданской войне, о героизме простых людей, об их подвигах во имя освобождения трудящихся от гнёта помещиков и попов? Почему же теперь он здесь – на положении дикого зверя? Бредёт как лунатик по незнакомому лесу, радуется каждой ягодке и уже не думает ни о подвигах, ни о мировой революции? Как это всё произошло? И что случилось со всей страной? Быть может, власть захватили враги советской власти? Так нет же, кругом красные знамёна, пятиконечные звёзды и всё те же лозунги, какие были и двадцать лет назад. Ленина, правда, нет с нами. Но есть же Сталин – продолжатель его дела, несгибаемый борец с мировым злом, вождь мирового пролетариата. Так почему Пётр Поликарпович оказался по ту, а не по эту сторону баррикад? Почему его называют контриком и делают всё, чтобы он сгинул в этих безжизненных сопках?
Пётр Поликарпович возвращался в барак, ложился на своё место и лежал с закрытыми глазами. Перед глазами были каменистые склоны, тёмная река, бездонное синее небо, багровый брусничник, густой светло-зелёный мох, густо усыпанный рыжими иголками. Кажется, это так просто: взял и пошёл по этому мху, по кустам и медвежьим тропам! Будешь идти много дней и ночей без остановки! И в конце концов придёшь куда-нибудь. Где-нибудь да будет край земли – место, где нет лагерей и колючей проволоки, где легко дышится и не нужно бояться. Думая об этом, Пётр Поликарпович едва заметно улыбался. Сосед по нарам видел эту странную игру эмоций на его лице и однажды решил спросить:
– Ты чего лыбишься?
Пётр Поликарпович открыл глаза. У соседа было вытянутое лошадинообразное лицо, густые брови, обтянутые серой кожей острые скулы. А глаза были как у волка. И всё же Пётр Поликарпович понял, что человек этот не злой, не зверь, как некоторые. Просто он смертельно устал и болен. А ещё – он никому не верит и никого не любит. Да и кого тут любить? В лагере нет места для любви и жалости, для сострадания, даже и для задумчивости.
Пётр Поликарпович приподнялся на локте, посмотрел соседу в глаза.
– Ты тут давно? – спросил.
– Давно.
– А сам откуда?
– Из Воронежа.
– А я из Иркутска, – сказал Пётр Поликарпович и снова лёг, устремив взгляд в потолок.
Сосед помолчал.
– Я говорю, чему ты всё время улыбаешься? – уже другим голосом спросил он. – Я давно за тобой наблюдаю. О чём ты думаешь?
– Я-то? – Пётр Поликарпович скосил глаза. – Я думаю о том, как бы поскорей убраться отсюда. Мне всё это надоело.
Сосед отстранился.
– Как это – убраться. Куда?
– Да куда глаза глядят. Просто взять и уйти! Мы каждый день ходим за лагерь. А там иди в любую сторону, никто тебя не поймает.
Сосед задумался, взгляд его затуманился.
– Видно, правду про тебя говорят, что у тебя с головой неладно.
– Это у вас всех с головой неладно, а у меня с головой всё в полном порядке! Если хочешь, загибайся тут, а я не собираюсь, – сказал Пётр Поликарпович и отвернулся.
Разговор на этом прервался. Сосед больше не приставал, а Пётр Поликарпович не напрашивался на разговор. Однако в следующие дни он стал исподволь наблюдать за соседом: скажет он кому-нибудь об этом разговоре или нет? Он вполне мог заложить Петра Поликарповича, сообщить бригадиру или кому-нибудь из лагерного начальства. Тайных осведомителей в любом лагере хватает. Заключённые сдают друг друга за пайку, за оказанное начальством доверие, за обещание лёгкой работы и прочие штуки. И если только сосед из таких, тогда очень скоро Петра Поликарповича вызовут к оперу и станут мотать новый срок. Но если это случится, Пётр Поликарпович скажет, что он просто пошутил. А ещё лучше – ничего не помнит, был в бреду. Да и в самом деле: что за глупости – пойти куда глаза глядят! Так в побеги не ходят (тем более – не болтают об этом направо и налево). На этом и нужно стоять: ничего не помню, не знаю, сам не понимал, чего молол языком.
Однако, оправдываться не пришлось. Сосед никому ничего не сказал – не только начальству, но даже однобригадникам. Отношение в бригаде к Петру Поликарповичу нисколько не изменилось, им всё так же пренебрегали, считая его за пустое место. И это его устраивало. Чем меньше на него обращают внимания, тем проще будет осуществить задуманное.
Через несколько дней сосед снова обратился к Петру Поликарповичу. Это случилось за лагерем, когда они возвращались с работы и их никто не слышал.
– Слышь, ты, – буркнул он, – так ты в самом деле бежать надумал?
Пётр Поликарпович остановился, опустил мешок с хвоей на землю, неспешно огляделся.
– Ну, допустим, – ответил спокойно. – А ты что, тоже хочешь уйти?
Парень с готовностью кивнул.
Пётр Поликарпович улыбнулся, обнажив сломанные зубы.
– Ясно… Как тебя зовут?
– Николай.
– А я Пётр Поликарпович. Будем знакомы.
Он взял куль на плечо и пошёл дальше. Парень догнал его.
– Я тебя спросил: ты действительно хочешь уйти из лагеря или попусту языком мелешь?
– Хочу.
– А меня… меня возьмёшь с собой?
– Тебя?.. – Оценивающий взгляд, секундное размышление. – А что, могу и взять. Вдвоём-то оно сподручнее. – Пётр Поликарпович снова остановился. – Ты только не делись ни с кем. Ещё никому не рассказал?
Парень замотал головой.
– Я чё, дурак? Я понимаю, что об этом нельзя болтать. У нас в бригаде каждый второй к куму бегает. Я их всех знаю.
– А я, по-твоему, не бегаю? – спросил Пётр Поликарпович.
Парень осклабился.
– Не-е, ты не бегаешь. Я бы видел.
– Ну-ну. – Пётр Поликарпович взвалил мешок на плечо. – Ладно, пошли. Вместе думать будем. Тут всё не так просто. Кругом тайга на сотни километров. Нужно дождаться тепла, продуктами запастись. Хорошо бы компас иметь. Хотя можно и без компаса. Я по солнцу умею ориентироваться.
– Что, приходилось бегать?
– Нет, не приходилось. Научился, когда в партизанах был. У нас там тайга почище этой будет. Такая глухомань, что не приведи господь. Месяцами плутали. А о компасах у нас и понятия не было. Обходились как-то. Белые – те плутали, это было. А нам-то что? Мы ведь все местные были, выросли в тайге, потому и победили эту белогвардейскую сволочь.
Несколько шагов прошли молча, потом парень спросил:
– Не понимаю, за что вы сюда попали. С белыми вон воевали в Гражданскую. Ведь у вас пятьдесят восьмая?
Пётр Поликарпович кивнул.
– Пятьдесят восьмая. – Вскинул голову. – А ты чего мне выкать начал? Я не такой уж и старый.
– А сколько вам?
– Сорок девять.
Парень вдруг остановился, лицо его вытянулось.
– Вот так да! А я думал, лет семьдесят.
– Ну ты тоже скажешь, семьдесят, – недовольно буркнул Пётр Поликарпович. – Если б мне семьдесят было, меня бы сюда не привезли.
– Тут всякие есть, – возразил парень. – Я и стариков видал, и пацанов совсем, и женщин тоже.
Пётр Поликарпович подумал секунду, но ничего не ответил. Двенадцатилетних подростков он и сам видел в пересыльном лагере, малолеток там хватало. А стариками кажутся все побывавшие на золотом прииске. Он и сам не раз ошибался, принимая тридцатилетних мужчин за глубоких старцев. Да и в самом деле: отличить доходягу от измождённого старика почти невозможно. В больнице он видел одного такого, при росте метр восемьдесят тот весил сорок восемь килограммов. Было ему чуть за тридцать, но можно было дать и все сто. Думали, что он помрёт, но, ко всеобщему удивлению, этот человек выжил. Его выходили, и скоро он предстал пред всеми довольно приятным молодым человеком, хотя в лице его осталось что-то такое, отчего трудно было смотреть на него долго. Ну а на приисках на доходяг вовсе не обращали внимания. Пётр Поликарпович и сам был таким доходягой. Повторять этот опыт ему не хотелось. А потому он уже всерьёз стал думать о побеге.
Апрель подходил к концу, вот-вот вскроются реки и ручьи, всё вокруг зазеленеет. Две-три недели – и пожалуйста, плыви куда хочешь. Однако он понимал, что по реке далеко уйти не удастся. Ночи тут коротки, а днём его сразу заметят. Вот если пойти берегом до Мадауна и уже там сделать плот или украсть лодку в посёлке. Но пройти по заломам и спутавшимся кустам тридцать километров было непросто. Да и заставы на каждом шагу, как их минуешь?
Однако был и другой вариант. Пётр Поликарпович слышал про него ещё зимой, когда был в больнице. Сначала он отнёсся к нему недоверчиво, но теперь, поразмыслив, нашёл вполне пригодным. А дело вот какое: нужно добраться до одного из притоков Колымы и потом плыть вниз по течению аж до самого Ледовитого океана – в бухту со странным названием Амбарчик. В бухту эту, по верным слухам, заходят американские и английские пароходы. И если попасть на такой пароход да заплатить капитану золотом, тогда тебя увезут в благословенную Америку! А там – свобода, гуляй – не хочу! Ни одна энкавэдэшная сволочь тебя не достанет и работать на морозе не заставит. От этих мыслей сладко ныло внутри. Невозможное казалось возможным. Надо только найти подходящий приток, собрать плот из брёвен и – сплавляйся по реке, лови рыбку, собирай ягоду и грибы. О том, что по обеим берегам Колымы стоят лагеря, Пётр Поликарпович особо не думал. И про то, как он будет плыть на самодельном плоту две тысячи километров, он тоже размышлял как-то отстранённо. А уж о том, что в Амбарчике стоят советские погранзаставы, что на рейде барражируют военные катера и что американские суда заходят сюда крайне редко – он и вовсе не знал. Хотелось верить в чудесное спасение – и он верил, несмотря на все мыслимые и немыслимые препоны.
Своего соседа он в эти планы не посвящал, всякий раз говоря одно и то же: уйдём в сопки, будем двигаться на юг по распадкам, пока не достигнем Охотского моря. А там что-нибудь придумаем… Верил ли сосед этим обещаниям?.. Скорее всего, нет. Но помалкивал. Он догадывался, что Пётр Поликарпович что-то придумал себе на уме, да не хочет пока говорить. Быть может, у него есть знакомый пилот, который увезёт его на самолёте? Он слыхал, что с материка на Колыму летают самолёты и гидропланы. Есть несколько аэродромов, запрятанных в тайге, а гидроплан так прямо на воду садится – ещё удобней! И если только найдётся такой пилот, который возьмёт их в свою крылатую машину, тогда… – дальше воображение отказывало. Представлялось что-то такое, чему не было названия, – какое-то сияние, бестелесность и вечное блаженство. О том, что на всей территории Советского Союза нет такого места, где бы сбежавший заключённый чувствовал себя в безопасности, он не думал. Улететь за границу было нельзя – у самолёта не хватит топлива, чтобы пролететь две тысячи километров хотя бы до Аляски. А если и пролетишь – ещё неизвестно, как там встретят. Но все эти соображения мало тревожили помутившееся сознание. Очень трудно было убить в себе надежду, особенно если эта надежда – последнее, что связывает тебя с жизнью.
Наступил май, но было ещё холодно. В низинах лежал снег, река и ручей были покрыты толстым льдом, который и не думал таять, от земли несло могильным холодом. Отправляясь в лес за хвоей, Пётр Поликарпович каждое утро выходил за лагерные ворота и всё ждал, что его снимут с этой лёгкой работы, вернут в бригаду и заставят кайлить оловянный камень. Сил едва хватало, чтобы вечером дотащить раздувшийся мешок с хвоей до лагерных ворот, и он со страхом думал о том, что будет, если снова придётся подниматься на гору и брать в руки ненавистное кайло. Вся его одежда пришла в негодность. Острые сучья разорвали бушлат в нескольких местах, шапка потемнела от грязи и пота, расползшиеся ботинки были всегда мокрыми и едва держались на распухших ногах. Утром он со стоном поднимался с нар. Болели все суставы, особенно колени и лодыжки. Казалось невозможным пройти хотя бы несколько метров. Но он знал, что боль пройдёт. Нужно заставить себя подняться и пойти в столовую, а потом на развод. Ноги понемногу разойдутся, слабость отступит. И так оно и происходило. Но всякий раз ему было всё труднее выполнять дневную норму сбора хвои. Временами накатывало отчаяние. Пётр Поликарпович со страхом думал о том, как он пойдёт своими больными ногами через сопки, как будет ночевать на холодной земле. Но он гнал от себя эти мысли, потому что остаться в лагере ещё на одну зиму означало верную смерть. Это же подтвердил лагерный лепила – мрачный субъект с синюшными наколками на обеих руках и повадками уркагана. Как он попал на должность фельдшера, оставалось лишь гадать. Но понятий о медицине он не имел вовсе. В этом Пётр Поликарпович убедился во время так называемого приёма. Поздно вечером он постучался в дверь медпункта и услышал хриплый голос:
– Кого там чёрт принёс?
Пётр Поликарпович вошёл. Внутри было холодно и грязно. Фельдшер сидел на деревянной тахте и, приторно улыбаясь, смотрел на вошедшего. Пётр Поликарпович сразу понял, что фельдшер пьян. Тут же на грубо сколоченном столе стояла ополовиненная мензурка со спиртом, рядом – погнутая алюминиевая кружка, куски хлеба и ошмётки сала. На фельдшере не было ни халата, ни иных атрибутов медицинской профессии. Он густо зарос щетиной и больше походил на жуликоватого десятника, но никак не на человека, призванного избавлять ближнего от мучений.
– Ну, чего уставился? – спросил фельдшер, продолжая улыбаться. – Жрать небось хочешь? А я не дам. Нету! Если вас, дармоедов, кормить, так самому есть нечего будет. Ну, говори, зачем пришёл?
Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу. Захотелось тут же уйти. Он оглянулся на дверь и нерешительно молвил:
– Я болен. У меня сердце больное, суставы болят. Ходить тяжело.
– Ну и что?
– Дайте каких-нибудь таблеток, – упавшим голосом закончил Пётр Поликарпович. Он уже понял, что всё это бесполезно.
– Вишь чего, таблеток он захотел! – с деланым удивлением протянул фельдшер, приподнимаясь. – А дрына не хочешь? Какой умник – таблеток ему надо! Да на тебе пахать можно, а ты мне мозги паришь. Иди отсюда, пока морду тебе не расквасил. И чтоб я тебя здесь больше не видел!
Пётр Поликарпович сделал шаг к двери.
– А если я умру?
– Туда тебе и дорога. Мало вас давит товарищ Сталин. Ну ничего, я вам устрою ударный труд, узнаете у меня, что такое советская власть!
С таким напутствием Пётр Поликарпович вышел из медпункта, в котором не было ни таблеток, ни медицинских инструментов, ни самого медицинского работника (в привычном смысле этого слова). По мнению лагерного начальства, все эти глупости были тут вовсе не нужны; лагерное начальство, даже и не читая Гоголя, исповедовало принцип его комического персонажа, по мнению которого, «человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». Но Гоголю, конечно, и не снились все эти лагерные прелести: пьяные, заросшие грязью фельдшера с наколками по всему телу и убогие амбулатории, где из лекарств одна лишь марганцовка. Если б он всё это увидел, то вовсе бы ничего не написал.
Так и получилось, что надеяться Петру Поликарповичу было не на кого, кроме как на себя самого. Был бы он в родной сибирской тайге, хоть бы и в самой её глубинке, – он сумел бы спастись. Как ни сурова Сибирь, но всё же не зря её величают «матушкой». В тайге можно выжить, если, конечно, подойти к делу с умом. Но никто никогда не называл Колыму ласковыми именами. Просто потому, что здесь не было места человеку, с его слабостями и надеждами. В магаданском порту, прямо на берегу бухты Нагаево, следовало бы поставить гигантские ворота и протянуть сверху надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий!» Через много лет Варлам Шаламов назовёт бухту Нагаево «причалом ада». Но, как известно из той же литературы: из ада иногда возвращаются. И каждый заключённый, оказавшись на Колыме, таил в душе надежду на возвращение домой – несмотря на всю гибельность и безнадёгу. Ничего другого не оставалось бедному человеку – униженному, раздавленному жуткими обстоятельствами, лишённому буквально всего, кроме самой жизни (да и та ему фактически не принадлежала).
Таким образом, судьба Петра Поликарповича окончательно определилась. Ему оставалось лишь одно: бежать из лагеря – как можно скорее и как можно дальше. Но к побегу нужно было подготовиться: надо было запастись продуктами. Нужны прочные ботинки, надо иметь с собой спички, нож, кусок брезента на случай дождя. А ещё хорошо бы запастись компасом и винтовкой. Но последнее, конечно же, было неосуществимо. Винтовки сразу хватятся и пошлют в погоню целую армию. А компас – вещь, конечно, очень нужная, но где же его взять? И карту местности также днём с огнём не сыщешь – все карты засекречены и хранятся в железных сейфах за семью печатями. Приходилось надеяться на смекалку, на природную наблюдательность да на удачу. А ещё – на русский авось, который иногда вывозит в трудную минуту. Или не вывозит. Это уж кому как повезёт.
В последних числах мая сосед по нарам, назвавшийся Николаем, сообщил Петру Поликарповичу с заговорщицким видом:
– Всё, можно уходить. Я жратвы достал.
Пётр Поликарпович с удивлением посмотрел на него.
– Какой жратвы? Где?
Николай мотнул головой в сторону лагеря.
– На складе. Договорился с одним фраером.
– Договорился? Ты что, рассказал ему о побеге?
– Нет, конечно. Я ему денег обещал.
– Откуда у тебя деньги?
– Да так… в карты выиграл.
– Ты ещё и в карты играешь?
– Играл когда-то. Теперь вот пригодилось.
– Ну-ну… – молвил Пётр Поликарпович, с интересом разглядывая долговязого парня. – И что он тебе даст?
Николай приблизил лицо, заговорил шёпотом:
– У него на складе рыба есть – горбуша. Солёная, правда, падла, но ничего, сойдёт на первое время. Хлеба обещал, сахару. Много не даст, но пару хвостов кинет и хлеба булок пять.
Пётр Поликарпович сглотнул слюну, в глазах его вспыхнул голодный огонь.
– А сейчас нельзя взять? Надо бы подкормиться, чтоб силы были.
– Взять-то можно, только потом жрать нечего будет. Уж лучше с собой возьмём. Сам должен понимать.
Пётр Поликарпович кивнул.
– Да, я понимаю. – Подумал немного и спросил: – А одежонку новую у него нельзя достать? У меня ботинки прохудились. Как я в них пойду? – И он кивнул на свою обувь. На одном ботинке подошва отстала и хлябала, другой был весь в дырах и едва держался на ноге.
Николай засопел, поджав губы.
– Да-а, в такой обутке ты далеко не уйдёшь. Ладно, что-нибудь придумаю. В крайнем случае, я тебе свои отдам.
– А сам в чём пойдёшь?
– У меня ещё одни есть. Я дал тут поносить одному. Придётся обратно забирать.
Пётр Поликарпович улыбнулся, покачал головой.
– А ты шустрый! Не знаю, что б я без тебя делал…
Николай внимательно посмотрел на Петра Поликарповича.
– Так ты уже всё решил? Уходим, да? Ты не тяни, это нужно быстро решать.
Пётр Поликарпович оглянулся. Они стояли на лесной тропе. Под ногами уже зеленела травка, кусты покрылись зеленью, и на деревьях тоже что-то такое появлялось – с прозеленью, с микроскопическими почками на тоненьких ветках. И хотя воздух был стылый, но солнце в полдень поднималось высоко и грело весьма ощутимо. По всем признакам наступало лето. Пётр Поликарпович протяжно вздохнул и вымолвил:
– Да, в общем-то, уходить можно хоть завтра. Пока погода стоит…
Николай встрепенулся.
– Так в чём дело? Завтра и пойдём! Ты сам подумай: нас могут в любой момент забрать на сопку. А там охрана, и бугор смотрит в оба; оттуда уже не сбежишь. Надо пользоваться моментом. Ну же! Давай решай!
Пётр Поликарпович и сам понимал, что всё может измениться в любую секунду. Прямо сейчас выйдет из кустов боец с винтовкой и поведёт их в лагерь, а там станут допытываться: о чём говорили да чего так долго стояли посреди леса, когда все вокруг заняты делом? Или подойдёт вечером бригадир и велит идти в другой барак, в бригаду забойщиков. И всё, хана! Николая больше не увидишь и света белого тоже. А значит, и в самом деле медлить нечего. Все планы могут рухнуть в одночасье. Бежать надо немедленно. Вот и погода установилась подходящая. Снег уже почти везде растаял, ручей освободился ото льда. Вдоль ручья они и пойдут – на север! За эти дни Пётр Поликарпович придумал кое-что новое. Сплавляться по Армани они не станут. Он уже понял, что дело это безнадёжное. Да и где взять плот или лодку? Предположим, пилу можно раздобыть. Но как начнёшь орудовать этой пилой в лесу – так сразу застукают. Но если даже сумеешь набрать брёвен – опять незадача: чем крепить? Длинных гвоздей взять негде (их куют тут же, в кузнице, и все они наперечёт). К тому же брёвна из листвяка так тяжелы, что плот из них делать бесполезно, утонешь к чертям собачьим, и вся недолга. Вот и получалось, что уходить нужно было в сопки, где их не станут искать. Сразу кинутся на реку, будут обшаривать берега, ставить заградительные кордоны на всём протяжении до Мадауна. А они обманут всех: пойдут вверх по ручью. Оно и удобнее. Здесь они собирают хвою, отсюда сподручнее уйти на север. Через три километра тропа раздваивается, а потом снова будет ветвиться и петлять. За несколько часов они пройдут километров двадцать – этого хватит для начала. А потом что-нибудь придумают. Главное – покинуть ненавистный лагерь. На свободе-то как хорошо! На свободе и думается совсем иначе. Мысль в лагере тоже ведь несвободна, она как птица в клетке – лишена полёта и смелости. Но стоит убрать клетку – и птица полетит навстречу солнцу, чтобы уже никогда не вернуться.
– Ладно, – наконец решился Пётр Поликарпович. – Иди к своему знакомому и бери у него всё, что даст. В барак не носи, оставь где-нибудь в кустах за колючкой, а утром заберём, как выйдем на работу. И про ботинки не забудь. Если всё сложится удачно, завтра и двинем.
– Здорово! – обрадовался Николай. – А куда мы пойдём?
– Завтра всё узнаешь, – ответил Пётр Поликарпович. Остановился и строго глянул на парня. – Но ты смотри, ещё есть время. Я тебя не неволю. Если хочешь, оставайся. Дело рискованное, могут пристрелить при поимке, сам небось знаешь.
– Да всё я знаю! – отмахнулся тот. – Решили – значит, всё, уходим. Я тут ни за что не останусь. А ты что, бросить меня решил?
– Нет, просто предупреждаю. Шансов у нас немного. Если поймают, плохо нам будет. Так что… – Он не закончил, но всё и так было понятно.
Николай промолчал. Для него вопрос был решён окончательно и бесповоротно. Он не рассказал Петру Поликарповичу о том, что у него были особые отношения с уголовниками (а сам он был «бытовичком»). Однажды он вчистую проигрался в карты, использовал последний шанс – играл «на представку» – и на другой день не смог отдать картёжный долг. Уголовники без лишних слов приговорили его к смерти. И он был до сих пор жив лишь потому, что дал взятку нарядчику и тот перевёл его в инвалидную бригаду, подальше от урок. Но всё это были временные меры. Никакая бригада, никакая больница и никакой нарядчик не могли спасти его от расправы. Счёт шёл на дни. Тот же нарядчик предупредил его, что к нему приходили гонцы из «индии» (так назывался барак блатных) и велели немедленно отправить беглеца к ним в барак (а не то нарядчику худо будет). А уж что там с ним сделают – этого заранее знать было нельзя. Нарядчик дал Николаю два дня на улаживание всех вопросов, а потом он выполнит требование блатных, потому что сам он тоже хочет жить, а подставляться из-за какого-то фраера ему нет никакого резона.
Николай знал, что в бараке блатных его ждёт жестокая расправа. Хорошо, если просто зарежут. А могут сделать и кое-что похуже. Защиты от этого у него не было никакой. Жаловаться начальству было бесполезно, над ним бы только посмеялись. Сил для сопротивления тоже не было (урки все с ножами, с топориками, действовали исподтишка, часто набрасывались во сне; как тут убережёшься?). Оставалось единственное средство: побег. А ещё можно было повеситься (как это сделали трое заключённых прошлой осенью, когда их отказались отправить в больницу; все трое повесились в обеденный перерыв, перекинув верёвки через прочную балку в производственном корпусе; среди них был один умелец, который помог товарищам завязать узлы, а потом проверил, ладно ли лежит петля на шее). Но повеситься Николай всегда успеет. Нужно быть полным дураком, чтобы не уйти из лагеря, имея возможность каждый день уходить в лес. В этих диких сопках, где нет ни души, его ни одна сволочь не достанет! А насчёт того, что его могут поймать, так он этого не очень-то боялся (он ведь не политический – значит, ему будет поблажка). Даже если и схватят – ну, понятное дело, изобьют для порядка, это вполне возможно. Будет следствие, и будет новый срок. Но в этот лагерь он уже не попадёт и обещавших его убить уркаганов никогда больше не увидит. Он останется жить, а это главное. Пускай ему добавят ещё лет пять или даже десять. Это уже неважно. Восемь лет сидеть или восемнадцать – какая разница? Всё это были сроки фантастические, не укладывающиеся в голове. А значит, можно об этом сильно не думать. Главное – пережить этот день, эту зиму и ближайшее лето. А там видно будет.
В общем и целом выбора у него не было, и он не колебался ни секунды. Узнав о решении Петра Поликарповича бежать на следующий день, он шибко обрадовался, хотя и не показывал вида. Как и всякий бывалый зэк, умело скрывал свои эмоции. Вечером, вернувшись в лагерь, сразу пошёл в дальний конец зоны, где располагался продуктовый склад и отирался его кореш, которого он однажды крепко выручил. Кореш не забыл об этом и согласился дать Николаю продукты просто так, в знак благодарности. Никаких денег у Николая не было, это он сказал Петру Поликарповичу, чтобы долго не объясняться. Да и какая тому разница, откуда возьмутся рыба и хлеб? Главное, чтобы побольше да чтоб не застукали.
И всё у них сперва пошло отлично. Вечером Николай принёс в барак свои старые ботинки. Пётр Поликарпович примерил – ботинки были великоваты, но с двумя портянками плотно сидели на ноге. Главное, они были крепкими и почти целыми. В таких ботинках можно было идти хоть на Северный полюс! С продуктами тоже всё было в ажуре: три солёные горбуши, две килограммовые буханки чёрного хлеба и килограмм сахара. Всё это богатство Николай сложил в холщовый мешок и спрятал за территорией лагеря (сказав охраннику, что его послали за дровами в лес; тот его спокойно выпустил, потому что за дровами зэки ходили каждый день после работы). Карты местности, конечно, не было. И компаса взять было негде. Но зато у них были топор и большой тесак, которыми они рубили сучья стланика. А ещё у каждого был большой брезентовый мешок; его можно было использовать вместо палатки, на нём можно спать, а можно укрываться от дождя и холода. В крайнем случае мешки можно разодрать на портянки или на одежду. В тайге всё сгодится! Но главным приобретением был большой коробок спичек на пятьсот штук. На лицевой стороне его была картинка – жёлто-синий молодец, нарисованный в старинно-лубочном духе; снизу шла надпись: «Фабрика “Красная Звезда”, г. Киров». Пётр Поликарпович взял в руки коробок и грустно улыбнулся. В душе поднялась целая буря чувств. Первый раз за последние четыре года он держал в руках спички. Это были посланцы внешнего мира – мира живых людей. Где-то были большие города, в которых работали фабрики и заводы, дети ходили в школу, по улицам ездили автобусы. Вернуться в этот мир было уже нельзя. И всё же они попробуют.
Тридцать первого мая тысяча девятьсот сорок первого года была суббота. В шесть часов утра по всей Колыме прозвучала команда на подъём, и множество людей, проклиная судьбу, скидывали с себя обовшивевшие одеяла, поднимались с грязных нар и, пошатываясь от слабости, выходили из бараков. Однако не все в это раннее утро хмурились и проклинали судьбу. Пётр Поликарпович почти не спал эту ночь. Ему всё казалось, что уже утро; он порывался встать, но все кругом лежали недвижно, укрывшись с головой. Он закрывал глаза и безуспешно старался уснуть. Лишь перед самым подъёмом задремал и почти сразу услыхал металлические звуки ударов железкой об рельс. И сразу же поднялся. Вот оно! Пришла долгожданная минута!.. Сердце радостно забилось, руки тряслись. Он стал торопливо застёгивать пуговицы на рубахе, опустил ноги на пол, а тут ещё радость – новые ботинки! Склонившись, долго приноравливался, затягивал шнурки, поворачивал ногу так и эдак. Всяко получалось хорошо.
Дальше всё было как обычно: столовая, утренний развод и вывод бригад на работы. Пётр Поликарпович боялся, что в последний момент их не выпустят из лагеря, завернут на сопку. От этой мысли он холодел, всматривался в каждого, кто шёл в его сторону, молил Бога и чёрта, чтобы ничего такого не произошло в это солнечное утро. Только бы выйти из лагеря, только бы выбраться за ограду!..
Николай чувствовал что-то похожее, хотя и не подавал вида. Был сосредоточен и предельно собран, внимательно зыркал глазами из-под нависших бровей. На Петра Поликарповича старался не смотреть. Но когда их построили в колонну, встал рядом и, быстро обернувшись, незаметно кивнул: мол, всё нормально.
Колонна уже двигалась к воротам. Ещё несколько томительных минут, проверка выходящих по списку, и они вышли из лагеря. В бригаде было восемнадцать человек. У всех были с собой большие мешки и самодельные тесаки. Каждый должен был набрать до обеда сто килограммов хвои и после обеда – столько же. Метров пятьсот шли все вместе по широкой тропе. Потом стали рассредоточиваться, уходить влево и вправо. Пётр Поликарпович с Николаем тянули до последнего, стараясь уйти как можно дальше. И это им удалось. Уже на границе леса, там, где начинались каменные россыпи, они наконец остановились. Бригадир показал на чахлые деревья, растущие во обеим сторонам ручья, и пошёл обратно. Ему и в голову не могло прийти, что эти двое задумали побег. Он прекрасно видел, что у них нет ни провизии, ни всего того, что потребуется в тайге. Но провизия была надёжно спрятана недалеко от лагеря, под густым мхом. А всё остальное было при них – спички, мешковина, одежда и тесак с топором.
Они без каких-либо происшествий проработали до обеда. Солнце встало в зенит, сделалось тепло и необычайно светло, небо словно бы распахнулось, сделалось бездонным, от него непривычно веяло теплом. Пётр Поликарпович часто поднимал голову и всматривался в голубую бездну. Николай в такие минуты бросал на него недовольные взгляды, но ничего не говорил. Кроме них двоих, тут никого не было, стало быть, никто ничего не заподозрит.
Набрав по полному мешку хвои, вернулись на место сбора. Сдали хвою, потом съели обед, сидя за кое-как сколоченным из неоструганых досок столом, минут пять полежали на травке, а потом встали и пошли по тропе в лес. Зайдя за деревья, Николай огляделся и быстро шагнул в чащу. Через минуту вышел с холщовым мешком в руке, быстро спрятал его в свой необъятный куль, и они двинулись дальше.
– Ну всё, можно уходить, – проговорил вполголоса. – До вечера нас не хватятся. Давай-ка поднажмём!
И они поднажали. За полчаса дошли до каменной россыпи; валуны всех размеров и форм сплошным ковром покрывали крутой склон горы и имели какой-то аспидный цвет. Дальше тропа вилась по открытому месту, но они пошли смело, держа кули за плечами, как бы спеша по делу. Здесь никого не было, и они прошли ещё два километра, пока снова не начался лес. Тропа была очень неровная, вся в камнях и рытвинах. Приходилось прыгать и петлять. Пётр Поликарпович стал заметно уставать, но темп не сбавлял. А Николай шёл не оглядываясь, будто сто раз тут ходил. Так они дошли до развилки. Справа был миниатюрный мостик через ручей, а с левой стороны начинался крутой подъём по большим серым камням в гору. Николай остановился, снял мешок с плеча.
– Ну что, куда двинем?
Пётр Поликарпович подумал с минуту. Потом уверенно произнёс:
– Нужно идти в горы. Нас будут искать по ручью. А тут, – он поднял голову и посмотрел вверх, – здесь такое раздолье! Тут мы затеряемся, поди сыщи!
Николай согласно кивнул.
– Хорошо.
Закинул мешок за спину и полез по камням вверх.
Подниматься по крутому склону было очень тяжело. С непривычки ноги тряслись, в глазах темнело. Но останавливаться было нельзя – на голом склоне они были хорошо видны за несколько километров. Надо было поскорее перевалить через сопку и уходить как можно дальше. Но горы, казавшиеся издали не очень высокими, на поверку оказались настоящими громадами. Склон всё время осыпался, идти прямо было невозможно, приходилось делать зигзаги, а это страшно замедляло движение. Целый час они поднимались в гору, высота которой не превышала пятисот метров. Наверху стало чуть полегче, но там пошли заросли стланика, да такого густого, что не продраться. Пришлось обходить. Они шли длинной дугой вдоль зелёной поросли, ощетинившейся колючками. Под ногами был мягкий мох причудливой раскраски – от тёмно-зелёного до бело-голубого. А ягод не было вовсе (хотя брусничник тут имелся). Ещё через час они обогнули заросли и вдруг увидели далеко внизу голубой овал озера. Зрелище было необычное, яркое и невероятно красивое. Словно кто-то всемогущий вылил в эту естественную чашу расплавленный хрусталь да так и оставил на века. Странно было видеть этакую красоту среди голых сопок, в полнейшей тишине. Озеро было довольно большое – километра два в длину и километр в ширину. Склоны окрестных гор круто спускались к воде, а гладь была как полированное стекло – насыщенного синего цвета. И никакого движения вокруг. Ни птица вспорхнёт, ни рыба всколыхнёт гладкую поверхность. Озеро казалось мёртвым и холодным.
Пётр Поликарпович поглядел на спутника. Тот стоял, тяжело дыша, и пристально смотрел на озеро. Заметно было, что он тоже вымотался.
– Пойдём вниз? – полуутвердительно произнёс Пётр Поликарпович.
Николай помолчал, потом ответил:
– Пошли. Надо сделать привал, а то ноги гудят.
И они стали спускаться к воде. Вошли в заросли стланика и несколько минут продирались сквозь перепутавшиеся колючие ветки, пока не увидели берег всего в нескольких метрах.
– Надо ещё немного отойти, – с трудом выговорил Николай, отирая пот с лица.
– Да, конечно…
Небо стало темнеть. В это время они обычно возвращались с работы. Их вот-вот хватятся. Пошлют погоню. Далеко ли они ушли?
Пётр Поликарпович и так считал, и эдак, но всякий раз выходило, что недалеко. По тропе прошли километров семь. В гору поднимались ещё с километр. Наверху – километр, и к озеру спускались столько же. Всего-то и прошли с десяток километров. А сил потратили уйму. Как же они дальше пойдут такими темпами?
Но раздумывать над этим уже не было сил. Хотелось лишь одного – опуститься на землю, вытянуть усталые ноги и неподвижно лежать, закрыв глаза и ни о чём не думая.
Они нашли укромное место среди кустов. Сверху их было не видать и с озера тоже не заметно. Густая зелень надёжно скрывала их от преследователей.
Николай вытащил из мешка припасы – рыбу и хлеб. Споро порубил тесаком горбушу, разломил ржаную буханку. Вода была тут же, в нескольких шагах.
Ели торопливо. Хотя торопиться было некуда – до утра они уже не двинутся с места. Попили ледяной воды. Потом стали устраиваться на ночлег. Костёр разводить не решились – дым могли заметить. Одну ночь можно и перетерпеть. С наступлением темноты температура резко упала, от воды несло промозглым холодом, да и земля была проморожена до самой глубины. Быстро нарубили зелёных веток и настлали на землю. Растянули сверху один мешок, а другим укрылись. Плотно прижались друг к другу и почти сразу же уснули.
Ночь была беспокойной. Они всё ждали, что послышится треск, из кустов выскочат солдаты с винтовками, станут орать и драться. Но никто не выскочил. Это казалось странным, неправдоподобным, но вокруг стояла мёртвая тишина. От воды поднимался ледяной туман, а за горой по тёмному небосклону разливался розовый свет. Где-то там, на востоке, всходило солнце.
Они живо поднялись, собрали мешки и, даже не испив водицы, пошли дальше по берегу. Им повезло, что их не схватили в первую же ночь, но теперь они должны уйти как можно дальше. Лишь тогда у них появится шанс на спасение.
Однако движение снова замедлилось. Идти по открытому берегу было опасно, и они с трудом продирались сквозь кусты проклятого стланика; вместо тридцати минут потратили три часа, пока обходили озеро. Дальше нужно было подниматься на сопку, переваливать через неё и так далее, и так далее – всё сопки, всё нехоженые тропы, густой мягкий мох, непроходимый стланик, камни и простор, от которого захватывает дух.
– А куда мы идём? – вдруг спросил Николай, когда они поднялись на гору и остановились перевести дух.
– Будем двигаться на северо-запад. Тут где-то проходит Тенькинская трасса. Надо держаться возле неё. А не то заплутаем, к чёрту. Сам видишь, какая тут глушь. Надо быть поближе к людям.
– К каким ещё людям? – Николай недоверчиво посмотрел на него. – Тут одни лагеря кругом. А по трассе военные ездят. Мигом скрутят. Нет, я так не согласен.
– Я не предлагаю на дорогу выходить. Пойдём повдоль трассы. Если повезёт, машину захватим, продуктами разживёмся. Мало ли тут ротозеев. Ты водить-то хоть умеешь?
Николай подумал чуть, потом сказал:
– Если понадобится, смогу. Да только бесполезно всё это. По трассе нам не уйти. Надо аэродром искать, в Америку лететь.
Пётр Поликарпович улыбнулся.
– В Америку, говоришь? Что ж, мысль неплохая. Да только нету здесь аэродромов. Ближайший – в Магадане. А там полно охраны.
– Тогда на север двинем, до Усть-Омчуга. Там крупный посёлок. Вольные живут. Дома большие. Можно на чердаках прятаться. Продуктами разживёмся.
Пётр Поликарпович кивнул.
– А что, тоже дело. Мне говорили, там речка есть, так она впадает прямо в Колыму! Построим плот или лодку найдём и поплывём до самого Ледовитого океана. Будем рыбу ловить. За месяц доплывём. Всё-таки не ногами идти.
– Зачем нам это? – изумился Николай.
– Есть там бухта одна, Амбарчик называется. Туда суда разные заходят. Американцы, англичане. Если попасть на такое судно, можно уйти за границу. Смекаешь?
Николай несколько раз моргнул.
– За границу, говоришь… – протяжно вздохнул. – Да я-то не против. Только вряд ли мы туда доберёмся. Экая даль! Не доплывём. – И он решительно помотал головой.
– Ну, об этом пока рано говорить, – ответил Пётр Поликарпович. – Для начала нужно от лагеря уйти подальше. А там посмотрим.
И они стали спускаться по безлесному склону, осторожно ступая меж камней и осыпающихся ям.
За этот день они прошли пятнадцать километров. Оба выбились из сил и едва не падали от усталости. Небо было ясное, воздух прозрачный, видно так далеко, насколько хватало зрения. Но все эти виды, это синее небо, эти однообразные сопки – уже порядком надоели. Оба понимали, что сколько ни иди – всё будут однообразные горы, скудная растительность, студёный ветер, слепящее солнце, камни и мох под ногами. И будет ощущение нарастающей тревоги, когда каждую секунду ждёшь катастрофы: вот-вот покажется на ближайшем склоне отряд красноармейцев! И уже не хватит сил уйти от них. Налетят собаки, станут рвать живое мясо…
Но не было собак, и не видать было красноармейцев. Расчёт Петра Поликарповича оказался верен. Их искали вдоль ручья, проскочив мимо едва заметного отворота к озеру. И по берегам Армани тоже отправили погоню. Там и здесь преследователи дошли до последнего предела: первые прошагали до истока ручья, не найдя никаких следов. А вторые допёрлись до Мадауна, а там их встретили смешочками и язвительными советами не считать ворон, а получше смотреть за «контингентом». Стало ясно, что ни в верховьях ключа, ни в Мадауне беглецов не было, проскочить мимо посёлка они никак бы не смогли. Тогда стали проверять весь лагерь, решив, что заключённые могли спрятаться в промзоне или в горной выработке (такие случаи уже бывали). Всё это сыграло на руку беглецам. Они смогли за несколько дней уйти так далеко, что никакая погоня из лагеря им была уже не страшна. Теперь их могли поймать лишь случайно, в силу того непреложного факта, что вся эта местность была испещрена лагерями, ОЛП и «командировками», что день и ночь по Тенькинской трассе сновали ЗИСы всех модификаций и что местное население – простодушные эвены, юкагиры и тунгусы – имели обыкновение вылавливать беглецов и передавать их властям – за пуд муки, за ведро сахара и просто за спасибо.
Тенькинская трасса оказалась даже ближе, чем ожидалось. Беглецы вышли на неё в районе сто первого километра. Здесь, на ручье Правый Итрикан, была небольшая дорожная командировка – стоял барак и рядом небольшой квадратный домик. В бараке жили заключённые, работавшие на трассе. Домик был предназначен для охраны. Пётр Поликарпович и его спутник долго рассматривали трассу и снующие по ней машины; решили, что высовываться им нет никакого смысла. И хотя продуктов у них почти не осталось и на подножный корм рассчитывать было нельзя – ни грибов, ни ягод об эту пору ещё не было, – они решили идти дальше на север, в надежде на какой-нибудь случай.
Передвигаться было всё трудней. У Петра Поликарповича распухли и болели суставы. Каждое утро он со страхом думал, что не сможет подняться и сделать хотя бы шаг. Но он поднимался и шёл, думая лишь о том, как бы не упасть. Николай поглядывал на него с тревогой. Он видел его мучения и понимал, что далеко они не уйдут. До Усть-Омчуга было почти сто километров – это если идти по прямой. А они передвигались по сопкам, по камням и ямам. Всяко получалось, что в посёлок они придут недели через две – это если найдут какой-нибудь провиант. От рыбы оставались одни лишь головы, было ещё немного хлеба и сахару – на пару дней. Что они будут делать, когда и хлеба не станет, они не знали. Но упрямо шли вперёд, пробирались по осыпающимся склонам, шагали по камням, среди кустов, по песку и глине; лакали, словно звери, ледяную воду из ручьёв, спали на земле, даже не разводя огня на ночь.
Так прошло ещё три дня. Они сумели добраться до следующей дорожной командировки – на сто сорок третьем километре. Тут стояло несколько бараков, и заключённых было погуще. Николай решился идти на разведку. Оставив Петра Поликарповича среди зарослей стланика, он двинулся к баракам. Пётр Поликарпович остался ждать. Он решил, что если его товарища схватят, то пусть берут и его. Один он дальше не пойдёт.
Но Николая не схватили. Через несколько часов он вернулся. В каждой руке у него было по буханке ржаного хлеба.
Пётр Поликарпович ахнул.
– Да как же ты?
Николай довольно усмехнулся.
– Да так вот, захожу в барак. Там дневальный. Уставился на меня: «Чего надо?» Я ему: дай пожрать чего-нибудь. Седьмой день не жрамши! Ну и рассказал всё, как было.
– Да ты что? – изумился Пётр Поликарпович. – Зачем же ты это?
– Да он никому не скажет. Если бы хотел, он бы меня прямо там скрутил. А он хлеба мне дал, махорки насыпал. И до сих пор всё тихо. – И он показал на бараки, где не было заметно никакого движения.
Пётр Поликарпович подумал секунду, потом спросил:
– А он про наш побег ничего не слыхал?
– Ну как же. Были у них бойцы с собаками, в бараках шмонали. Наказали сообщить, если чего заметят. Пока мы в сопках бродили, тут на трассе каждый день машины с солдатами ездили. Только вчера и успокоилось. Видно, не ждут нас уже тут.
– Это хорошо, – со вздохом произнёс Пётр Поликарпович. – А до Усть-Омчуга отсюда далеко, ты не спрашивал?
– Нет, это нельзя. Спросишь, а он потом сболтнёт кому-нибудь. Я сказал, что мы обратно в сопки пойдём, подальше от трассы.
Пётр Поликарпович кивнул.
– Это правильно.
Они поели хлеба с сахаром, запили водой и двинулись дальше. Это был десятый день побега. Их искали и в сопках, и на трассе, и в окрестностях лагеря. Впрочем, большого ажиотажа не было. С наступлением лета заключённые бежали изо всех лагерей, и почти всех ловили (кроме тех, что умирали сами – от холода, от бескормицы или от медведей, которых тут было много). Те машины с солдатами, про которые говорил дневальный, искали не только их, но и других беглецов. Для охранников это было своего рода развлечение – прокатиться по трассе, пробежаться по сопкам, стрельнуть по кустам, если что-то померещится. Они понимали, что беглецы никуда не денутся. Рано или поздно их найдут или они придут сами – чумазые, вконец истощённые, оборванные, обовшивевшие. Их даже бить не станут – кому охота марать о них руки? Или сразу пристрелят, или бросят в ледяной карцер, из которого живыми они уже не выйдут. Редко кто из беглецов доживал до следствия.
Что-то такое уже начинал понимать и Пётр Поликарпович. Силы его слабели, неизбежно слабела и воля. Сопки казались бесконечными. Дух захватывало, когда с какой-нибудь горы открывалась бесконечная перспектива, этот марсианский пейзаж – волнообразный, пропадающий в темнеющих далях, раскинувшихся на тысячи километров во все стороны. Там, за далями, был Ледовитый океан, вобравший в себя весь холод мира. Там было полное безлюдье, и там не было никакой жизни. Но именно туда им нужно идти, их спасение – в царстве холода, а не среди живых людей, не там, где движение и жизнь, где светит солнце и веет тёплый ветерок. Всё трудней было бороться с искушением выйти на трассу и сдаться первому же патрулю – пусть что хотят, то и делают. Но он понимал, что это была верная смерть. Пока есть силы, нужно двигаться. И они продолжали свой путь на север.
Хлеба хватило на три дня. Сахар кончился на вторые сутки. Крепко посоленные рыбные головы они ели с особым тщанием: подолгу сосали жабры и всё, что было у рыб в голове, перемалывали остатками зубов кости и хрящи. А потом вовсе не стало никакой пищи, и они шли, пошатываясь, по извилистой тропе, уже ни на что не надеясь, ничего хорошего не ожидая. Когда уже сил не осталось, они набрели на прошлогодний брусничник – тёмно-зелёный ковёр с бордовыми бусинками сплошь покрывал оттаявшую землю. Несколько часов с жадностью ели ягоду – крупную, сморщенную и такую кислую, что сводило челюсти и резало живот. На время удалось перебить сосущий голод. Но по-настоящему насытиться ягодой нельзя. Необходима нормальная пища – хлеб, мясо, картошка, – а этого как раз и не было. И не было надежды достать что-нибудь съестное. Пётр Поликарпович уже понял, что далеко они не уйдут и до Усть-Омчуга не доберутся. Ему уже не хотелось никуда идти, неудержимо тянуло свалиться на землю и лежать без движения. Все помыслы и все мечты растворились в этой каменистой почве, в невесомом воздухе, в безбрежных далях. Чтобы мечтать и строить планы, нужны силы и отменное здоровье. А когда ни того ни другого нет, тогда жизнь не мила и человеку вообще ничего не нужно.
Как бы там ни было, а они продолжали свой путь вглубь Колымского нагорья вдоль извилистой Тенькинской трассы. На двадцать первый день вышли на довольно широкую каменистую речку Нерючи, на левом берегу которой рос и ширился посёлок со странным названием Усть-Хиниканджа – всё те же бараки, те же сопки вокруг, та же дичь и глушь. Перед самым посёлком была развилка; основная трасса вела на север, а налево почти под прямым углом уходила грунтовая дорога – к прииску имени Марины Расковой. В той же стороне были рудник Хиниканджа и множество мелких командировок и лагпунктов. Это было тупиковое направление – во всех смыслах этого слова. Все дороги и тропы в эту сторону упирались или в лагерные ворота, или в горные выработки, или просто сходили на нет, незаметно растворяясь в голых сопках, среди чахлого кустарника, в каменных россыпях. Оба беглеца смутно почувствовали это, как зверь чувствует западню. Они молча переглянулись и кивнули друг другу. Всё было понятно и без слов – нужно идти дальше на север. Но тут возникло затруднение: Пётр Поликарпович уже не мог передвигаться. Он стёр ноги в кровь, каждый шаг был для него сущей пыткой. К тому же он застудился на холодной земле и сильно кашлял. У него был жар, и сознание уплывало; временами он терял ощущение действительности, не понимал, что с ним и где он находится. Нужно было остановиться хотя бы на день, дать отдых вконец измученному телу, подлечить ноги, одуматься, осмотреться как следует. Николай всё это видел. Он и сам не прочь был отдохнуть, потому что у него тоже болели все суставы, а в глазах темнело от слабости. Он тоже понимал, что далеко они не уйдут.
Делать нечего, пришлось остановиться. Они устроили подобие шалаша в густом кустарнике в полутора километрах от трассы. На землю бросили заляпанный грязью брезентовый куль, и Пётр Поликарпович без сил повалился на него, вытянул ноги и закрыл глаза. Сверху пригревало солнце, ветерок навевал запахи оттаявшей земли, и было так тихо, так тихо, что звенело в ушах, а в теле возникала странная лёгкость. Казалось, что земля плывёт под ним, и он несётся, падает вместе с ней в бездонную пустоту. Это было пугающее, но и чем-то приятное чувство отрешённости, какой-то бесплотности. Николай посмотрел сверху на Петра Поликарповича, на его исказившееся в блаженной гримасе лицо с глубоко запавшими глазницами, заросшее густой щетиной и почерневшее от грязи, и молча отвернулся. Он понимал, что сам выглядит не лучше. И ещё он понимал, что любой ценой должен достать хлеба. Если хлеба не будет, то им обоим хана. Шумно выдохнув, он зашагал в сторону чернеющих вдали бараков.
Вернулся он уже ночью, при свете звёзд. Пётр Поликарпович с беспокойством вглядывался во тьму, кутаясь в тряпки и дрожа всем телом. Послышался шуршащий звук шагов, треск сучьев, и вдруг на фоне звёзд возник силуэт человека.
– Что, заждался? Думал, не приду? – воскликнул Николай, приближаясь.
Пётр Поликарпович перевёл дух.
– Ну… слава тебе господи. Принёс пожрать что-нибудь?
– Принёс. На вот, пожуй. – И он протянул горбушку хлеба. – Это я на кухне тяпнул. Чуть не попался. Больше туда идти нельзя.
Пётр Поликарпович уже жевал чёрствый хлеб, кровавя дёсны и чувствуя солоноватый привкус.
– Да ты не торопись, – заметил Николай. – Спешить нам теперь некуда. Всё равно до утра будем сидеть тут.
– А утром что? – спросил Пётр Поликарпович.
– Придётся уходить. Здесь опасно оставаться. Я там наследил. Будут искать, это как пить дать.
Пётр Поликарпович задумчиво жевал хлеб.
– Сейчас бы чаю горячего да в тёплую постель, – проговорил, глядя в темноту. – Кажется, лежал бы так целую неделю, пальцем бы не пошевелил.
– Належишься ещё, – мрачно пообещал Николай. Оглянулся по сторонам и молвил: – Ладно, спать будем. Утро, говорят, вечера мудренее. – Опустился на землю, запахнулся брезентом и сразу же затих.
Пётр Поликарпович доел хлеб, высыпал в рот крошки и повернулся на бок, укрылся брезентухой. Стало чуть теплей, спокойней на душе. До утра всё равно уже ничего не случится. Он закрыл глаза, и земля под ним поплыла. Засыпая, он думал о том, что лучше бы ему вообще не просыпаться. Жизнь прожита. Что мог, он уже совершил. А будущее – что в нём? Ничего хорошего у него уже не будет. Прошлого не вернуть, он никогда не станет прежним.
Да, это было бы лучшим вариантом – уснуть и больше не просыпаться. Пусть другие работают не покладая рук, верят в светлые идеалы, добиваются поставленной цели. У него больше не было идеалов – ни светлых, ни тёмных. Никаких. И работать он не станет. Последнюю охотку ему напрочь отбили в лагере. Работу он теперь ненавидел всей душой, считал её худшим наказанием, тяжким крестом, от которого нужно бежать. Никаких других целей для себя он придумать не мог. Ни целей и ни смыслов. Для чего же ему дальше жить? Этого он и сам не знал. Он не хотел, чтобы наставало утро, но утро пришло в свой черёд, солнце поднялось, как и положено, – на востоке; Земля в положенный срок совершила ещё один оборот вокруг своей оси. Небо посветлело, скрюченные перекорёженные деревья закачались, зашумели… наступил новый день – двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого года. Далеко на западе, за десять тысяч километров от Тенькинской трассы, уже поднялись в воздух самолёты с чёрными крестами на крыльях, уже двинулись к советской границе армады танков, пошли колонны новоявленных «арийцев» – жечь и убивать, обращать чуждые им народы в свою веру, в которой не было ни Бога, ни заповедей, ни сочувствия, а было чувство собственного превосходства и была ненависть ко всем «недочеловекам». Там, на западных границах СССР, начиналась битва вселенского масштаба.
А здесь, на безжизненном Колымском нагорье, стояла вековая тишина. Никакой самолёт не смог бы сюда долететь. И никакая «арийская» рожа сюда бы не сунулась. И всё же начавшаяся война оказала на весь этот край самое непосредственное воздействие, потому что всё в этом мире взаимосвязано, переплетено тысячью незримых нитей; дёрни за одну – и всё остальное закачается, придёт в движение. На Колыме не было войны, не рвались снаряды, и танки не утюжили эту землю. Но люди гибли здесь массово – от непосильного труда и от усилившегося голода. С наступлением войны и без того скудное снабжение Дальстроя было резко сокращено, при этом были сняты всякие ограничения на продолжительность рабочего дня. Теперь можно было заставлять обессилевших заключённых работать по шестнадцать часов в сутки, вовсе не предоставляя выходных. Не выполнявших норму обвиняли в саботаже и тут же расстреливали. На Колыме действовали законы военного времени – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всё это было впереди.
В этот переломный для всей страны (и всего человечества) день Пётр Поликарпович и его спутник прошли по сопкам ещё пять километров. Шли очень медленно, часто останавливаясь. Пётр Поликарпович несколько раз оступался и падал, после чего не сразу мог подняться. Николай помогал ему, но и он ослабел и едва держался на ногах. Наконец они остановились на проплешине между кустов стланика. Место было сухое, закрытое со всех сторон. Тут же оказался брусничник. Николай набрал ягоды в жестяную банку. Налил воды и поставил на костерок греться. Потом они по очереди пили из банки вскипевшую воду с ягодами и мелкими листочками. Ничего другого у них не было. И не было надежды раздобыть съестное. Когда укладывались спать, Пётр Поликарпович произнёс ровным голосом:
– Я дальше не пойду. Здесь останусь. А ты иди. Не смотри на меня. У тебя ещё есть силы, дойдёшь.
Николай обернулся, глянул в темноте на товарища.
– Как же это? Ведь мы вместе!
– Если ноги не идут, что я сделаю? Нечего и мучиться. Всё равно конец один.
– А я как же?
– Действуй по плану. Дойдёшь до Усть-Омчуга, а там смотри сам – или лодку раздобудь, или плот сооруди. И плыви себе по реке. Не ошибёшься, прямо в Колыму и приплывёшь. Удочку сделай из ивы, в общем, разберёшься, не маленький. Моя песенка спета. Отвоевался.
Николай подумал минуту, потом спросил:
– А ты что будешь делать?
– Тут пока полежу. Отсыпь мне спичек. Буду ягоду собирать, ночью костерок сварганю. Протяну какое-то время.
– А потом?
– Ну что ты заладил? Откуда я знаю, что потом? Что-нибудь придумаю. В крайнем случае, подохну. Подумаешь, какое дело! Лучше уж здесь помереть, чем в карцере загнуться. Так-то, браток.
– Не-е, я без тебя никуда не пойду, – уверенно произнёс Николай. – Это у тебя от голода такие мысли. Завтра раздобудем жратвы, тогда и порешим. Ладно?
– Ладно, – ответил Пётр Поликарпович. Спорить он не хотел, поскольку всё уже решил для себя.
Утром спозаранку Николай ушёл на поиски пищи, а Пётр Поликарпович остался лежать на полянке среди кустов. Так он провёл целый день, то проваливаясь в зыбкий сон, то пробуждаясь. День был солнечный, тихий – самый длинный, самый светлый день в году. На западных границах уже грохотало и стреляло, с неба сыпались бомбы, по мирным полям ехали колонны мотоциклистов, по просёлкам шли солдаты вермахта с закатанными по локоть рукавами, а тут было тихо, как в первый день творения.
Днём Николай не вернулся. Не пришёл и ночью. Наступило следующее утро, а его всё не было. Пётр Поликарпович уже смирился с мыслью, что он не придёт, как вдруг тот вышел из колючих кустов, встал по стойке смирно и крикнул, пуча глаза:
– Война началась!
Пётр Поликарпович вздрогнул от неожиданности. С трудом приподнялся на локтях.
– Какая война? Ты чего мелешь?
– Гитлер на нас напал, уже второй день бомбят западные границы. Я в посёлке узнал. Там чёрт те что творится!
– Погоди! Ты ничего не перепутал? Немцы на нас напали?
– Ну да, я же говорю! В Магадан ещё вчера сообщили, по телеграфу, теперь во все лагеря депеши шлют. Вчера вечером и здесь получили. Боятся, что Япония высадит десант, они ведь с Гитлером заодно. Там теперь такая кутерьма, никто не знает, что делать.
– Как это не знает? – встрепенулся Пётр Поликарпович. – Воевать надо! Чего тут думать?
Николай усмехнулся.
– Скажешь тоже, воевать. Кто тут будет воевать? Здесь одни доходяги. Ты сам вон на ладан дышишь.
Пётр Поликарпович решительно поднялся, выражение лица вмиг переменилось.
– А ты мне дай винтовку – и увидишь, как я буду воевать. Это ничего, что я малость прихворнул. Я ещё поправлюсь, ещё пригожусь своей Родине! – Он постоял с минуту, разглядывая посёлок, потом уверенно произнёс: – Всё, пошли!
– Куда? – опешил Николай.
Пётр Поликарпович махнул рукой вперёд:
– Туда.
– Да ты что? Нас там мигом повяжут!
– Ну и пусть! Скажем, что сами пришли, хотим на фронт, в передовые части. Пусть отправляют на передовую. Не посмеют отказать.
Николай задумался. Такая перспектива была ему явно не по душе. Не то чтобы он не хотел идти на фронт, а просто не верил, что побег так легко сойдёт им с рук. С другой стороны, если случилась война, то ведь должно же что-нибудь измениться? Если Гитлер буром попрёт, а тут ещё Япония вступит, и если наступит всеобщий хаос – что тогда? А тогда придётся выпустить из лагерей всех заключённых, дать им винтовки и отправить на фронт – защищать Родину. Но до этого пока что далеко. Пока ещё ничего не ясно. А значит, торопиться не следует.
– Ты вот что, – произнёс он, опустив голову, – ты не очень-то спеши. Повременить надо.
– Да чего тут временить? – волновался Пётр Поликарпович. – Чего мы будем тут сидеть? Там люди кровь проливают, а мы отсиживаться будем? Нет, я к этому не привык. Никогда не прятался за спины товарищей. И сейчас не стану.
– Ну хорошо, хорошо, я согласен, – сказал Николай, сморщившись. – Но сдаваться тоже надо с умом. Ты что, так прямо в посёлок и придёшь? И что ты скажешь?
– Так и скажу: на фронт хочу, Родину защищать… – начал было Пётр Поликарпович, да и остановился. И в самом деле, всё это было не так просто. Тут на кого нарвёшься. Попадётся какой-нибудь обалдуй – и ещё неизвестно, как дело обернётся. Могут сразу и шлёпнуть без долгих разговоров.
– В Усть-Омчуг надо пробираться, – быстро заговорил Николай. – Там комендатура, начальство разное. Нужно к самому главному начальнику попасть, чтобы он знал, что это мы сами пришли! А то эти дуболомы так дело обставят, будто это они нас поймали. Им за это отпуск дают и пайку добавляют. Уж я знаю.
Пётр Поликарпович призадумался. Николай был прав. Но как попасть в Усть-Омчуг? До него ещё километров тридцать, а то и все пятьдесят. Ему столько не пройти. А что если?.. Он поднял голову и с надеждой посмотрел на товарища.
– Слушай, мы вот что сделаем. Выйдем на трассу и остановим эмку. В эмках завсегда начальство ездит. Вот они и довезут нас до комендатуры. А уж там мы всё расскажем, как есть. Только чур не врать и ничего не придумывать. Мы ведь ничего такого не сделали. Никого не убили и ничего не украли из лагеря. Побег – да, был, с этим спорить нечего. А про всё остальное будем говорить, как оно было на самом деле. И главное, нужно им втолковать, чтоб на фронт нас отправили. В любое, самое опасное место. Не может быть, чтобы нам не поверили!
Николай стиснул зубы и некоторое время стоял, раздумывая. Потом сказал:
– Ладно, чёрт с тобой. Уговорил.
Они выбрались из кустов и двинулись к трассе; шли так, чтобы их не заметили из проходивших машин. Те проезжали с интервалом в несколько минут, вздымая тучи пыли, подпрыгивая на камнях; сплошь грузовики, иные с пустым кузовом, другие с ящиками и с тюками. В кабине рядом с водителем – вооружённый солдат.
– Надо поближе подойти, – сказал Николай, останавливаясь.
Пётр Поликарпович посмотрел на дорогу. До неё оставалось метров сто открытого пространства. Укрыться было негде. Разве что залечь в траву прямо под насыпью…
И в этот момент вдали показалась чёрная точка в облаке пыли.
– Никак легковушка? – воскликнул Николай, вытягивая шею. – Точно! С километр будет. – Вопросительно глянул на Петра Поликарповича. – Ну что, поднажмём?
Тот медленно кивнул.
– Пошли.
Они выбрались из кустов и быстрым шагом двинулись к трассе, Николай впереди, Пётр Поликарпович едва поспевал за ним. Через минуту были уже на обочине, смотрели, как в облаке пыли приближается чёрный автомобиль. Да, это была эмка, машина начальников и высших чинов. Простые солдаты в ней не ездят.
Николай решительно шагнул на середину дороги, поднял руку.
Его заметили. Машина стала притормаживать, взяла влево и остановилась. Распахнулась передняя правая дверца, из салона вышел военный – в хромовых сапогах и гимнастёрке, перепоясанный ремнями с кобурой, с офицерским планшетом на боку. В петлицах – по два красных кубаря. Он ловко выхватил наган и громко крикнул:
– Кто такие? Чего шляетесь?
Николай быстро оглянулся на Петра Поликарповича и уверенно ответил:
– Беглые мы. Сдаваться идём в Усть-Омчуг. Добровольно. На фронт желаем попасть, Родину защищать.
– Беглые, говорите? – военный оглядел обоих с ног до головы. – Откуда вы? Из какого лагеря?
– С Арманской обогатительной фабрики.
– Ах, вон откуда, голубчики. Ну-ну. Давненько вас ищут. – И он сделал знак сидевшим в машине. Оттуда сразу же вылез ещё один военный, тоже в гимнастёрке и с наганом.
– А ну-ка, подняли оба руки! – скомандовал второй военный, приближаясь.
Беглецы исполнили приказание.
Военный подошёл сзади, обхлопал их с боков, обошёл кругом и объявил:
– Нет ничего. А провоняли-то оба, фу, дышать нечем! Я их в машину не пущу. Ещё не хватало!
Пётр Поликарпович с укором глянул на него.
– Мы не дойдём до Усть-Омчуга. Пожалуйста, возьмите нас.
Военный решительно помотал головой.
– Ждите здесь. Я за вами конвой отправлю.
– Зачем конвой, мы же сами вышли!
– Так положено! – отрезал военный. – Вы вон лагерь без разрешения покинули. А за это знаете что бывает?
– Знаем.
– То-то и оно. Благодарите бога, что не попались своей вохре. Они бы из вас отбивную сделали и собакам кинули. Две недели по сопкам их гоняли, чертей.
Пётр Поликарпович всё смотрел на военного, словно пытался взглядом передать то, чего не мог выразить словами.
– Товарищ капитан… – начал было он.
– Какой я тебе товарищ? – вскинулся тот.
– Ну хорошо, гражданин… вы же видели, мы сами на трассу вышли. Мы про войну узнали, немцы на нас напали. На фронт хотим попроситься. Кровью смоем вину перед Родиной!
Военный усмехнулся. Обернулся к товарищу.
– Ишь, чего захотели. На фронт им нужно! Тоже мне, вояки. – Бросил быстрый взгляд на беглецов и заключил: – Ладно, разберёмся. В машину я вас посадить не могу, да и места там нет для двоих. Оставить просто так тоже не имею права. Сделаем так: сейчас тут кто-нибудь поедет мимо, вот он вас и доставит куда следует.
– Только не обратно в лагерь! – подал голос Николай.
– Это уж мы сами разберёмся, в лагерь или ещё куда.
Пётр Поликарпович промолчал. Он понимал, что обратно на фабрику их уже не вернут. Оба военных были не из лагерной администрации. Они или из Магадана, или из местного управления.
Он не ошибся: оба офицера служили в Усть-Омчуге, где располагалось Тенькинское горнопромышленное управление. Здесь, в долинах рек Омчак, Детрин, Иганджа, Дусканья и Кулу, были открыты в тридцать восьмом году богатейшие россыпи золота. Теперь, три года спустя, весь этот край был усеян лагерями, изрезан дорогами, заставлен военными постами. Это была золотая лихорадка по-сталински. Тут не было джек-лондоновских героев с мужественным сердцем в груди. Не было упряжек неутомимых северных лаек. Не было тут взаимовыручки, смелости, благородства. Золото здесь добывали (и в огромных количествах) – полуживые люди, вовсе не помышлявшие о золоте и не мечтавшие о Севере, не желавшие этого золота, ненавидевшие его всей душой. Оба офицера тоже не помышляли о золоте, но они были тут по велению долга, по приказу высокого начальства, распоряжения которого не обсуждались. Они получали двойную зарплату и усиленный северный паёк, пользовались всеми возможными благами и осуществляли полноту власти, какая только возможна в этом диком краю. Вот и на этот раз всё разрешилось предельно просто: один из военных остановил проезжавший мимо грузовик и приказал шофёру посадить в кузов беглецов. Сопровождавшему грузовик бойцу он дал записку и велел ему ехать вместе с заключёнными в кузове, не спуская с них глаз. Тот воспринял этот приказ, как и подобает советскому воину. Глаза его грозно сверкнули, он снял с плеча винтовку и передёрнул затвор. Командиры остались довольны таким рвением и посчитали дело решённым.
Петра Поликарповича и его товарища усадили возле самой кабины, охранник с винтовкой наперевес сел у заднего борта. Один из офицеров подал знак, и машина покатилась по направлению к Усть-Омчугу. Был ясный солнечный день. Даль была видна на десятки километров, ни облачка на синем небосводе! Всё это происходило двадцать пятого июня сорок первого года. Шёл четвёртый день Великой Отечественной войны.
Ехать пришлось недолго – через сорок минут машина въехала в посёлок, предварительно переехав деревянный мост через речку. Пётр Поликарпович во все глаза смотрел на открывшуюся панораму. Ему казалось, что у него двоится в глазах – посёлок, равнина и окружающие его горы были почти такими же, как и в Ягодном, и в Мадауне, и в Атке. Трудно было поверить, что все эти места удалены друг от друга на сотни километров. Однако поверить пришлось. Машина свернула с трассы и въехала в посёлок, покатилась по улице Комсомольской. Проехали мимо котельной с чёрной высокой трубой, миновали пять стоящих в ряд каменных двухэтажных зданий, потом – столовую, магазин, баню, почту, амбулаторию, бревенчатое здание горного управления, затем опять пошли дома – каменные и деревянные, вполне приличные и барачного типа. Машина ехала ходко, вздымая пыль и грохоча. Последовал поворот направо, Пётр Поликарпович успел увидеть указатель: «ул. Заречная». Дорога пошла под уклон, впереди показалась река. Через пять минут машина повернула налево, проехала метров сто и остановилась. Шофёр заглушил мотор и хлопнул дверкой.
Охранник встал, разминая ноги. Навёл винтовку на заключённых и скомандовал:
– Сойти на землю! При попытке к бегству стреляю без предупреждения.
Николай взялся за борт и, толкнувшись двумя ногами, ловко спрыгнул. Пётр Поликарпович поднял голову и увидел деревянный забор и лагерные ворота, над которыми висела надпись, сделанная крупными буквами: «ОЛП Комендантский». Хотелось спросить, зачем их сюда привезли, но он знал, что ответа не получит. Все ответы были в той бумажке, которую вручил бойцу офицер. Пётр Поликарпович не без труда спустился по колесу на землю и стал рядом с товарищем. Тот затравленно озирался. Пётр Поликарпович понял, что он уже жалеет, что поддался на его уговоры. Сил у Николая было ещё достаточно, он мог бы далеко уйти. Но теперь поздно было раскаиваться: сделанного не воротишь.
Боец передал беглецов местному конвою и тут же забыл про них. Начальник караула долго изучал записку с предписанием, потом поднял взгляд на стоявших перед ним заключённых.
– Фамилия, срок, статья, откуда бежали?..
Пётр Поликарпович и его спутник ответили.
– А сюда зачем направлялись?
Пётр Поликарпович переступил с ноги на ногу.
– Гражданин начальник, я очень болен, сил совсем нет. Не могу работать. Думал, что тут есть больница. Подлечиться хотел.
– Понятно. А второй что, тоже больной? – И он грозно сверкнул очами.
Николай поднял голову, губы его дрогнули, но он сдержался и ничего не ответил.
– Так, – начальник караула поджал губы, – в изолятор обоих. – Повернулся к стоявшему поодаль конвоиру: – Кузнецов, веди их. Скажешь Лоншакову, что я распорядился.
Снова Пётр Поликарпович и Николай шли под конвоем. Оба едва волочили ноги, хотелось поскорей куда-нибудь прийти и больше уже не двигаться. Пётр Поликарпович согласен был остаться в этом лагере до конца срока. Сразу было видно, что это не прииск и не обогатительная фабрика. Тут не было грохочущих механизмов, не видно было карьеров и не слышно ругани, какая бывает на золотодобыче. Вдали сверкала на полуденном солнце полноводная речка, горел золотыми искрами впадающий в неё ручей. Ещё дальше были видны покрытые зеленью горы. В самом лагере текла размеренная жизнь. Заключённые были на дневных работах, в лагере оставались лишь местные кадры – повара, каптёры, дневальные и прочие привилегированные личности. Изредка они попадались им навстречу, при этом местные с любопытством глядели на оборванных и зачуханых беглецов, а те, в свою очередь, с завистью глядели на нормально одетых и уверенных в себе обитателей этого чудесного места.
Конвоир завёл их в длинный барак и сдал дежурившему там бойцу. Тот, ничего не спрашивая, взял ключи и отпер одну из пустовавших камер по левой стороне длинного узкого коридора.
– Заходите, – качнул подбородком.
Пётр Поликарпович и Николай зашли в камеру. Дверь за ними захлопнулась, стало тихо. Они осмотрелись. Камера была вполне приличная, хотя и маленькая. Справа стояла полувагонка на два лежака, слева такая же. Против двери у окна – маленький столик и табуретка. В углу возле двери – параша в виде деревянного ведра с крышкой. Окно небольшое, забранное решёткой. За окном виднелся двухметровый забор с колючей проволокой. Перед забором колыхалась от ветра трава. Всё было по-домашнему тихо и спокойно. Они переглянулись.
– Что теперь? – спросил Николай.
– Увидим, – ответил Пётр Поликарпович. Шагнул к вагонке и тяжело опустился на доски. – Спать хочу, – произнёс, опуская отяжелевшую голову.
– А я бы пожрал чего-нибудь, – отозвался Николай. – До завтра ведь ничего не дадут. Знаю я их порядки.
– Это точно, – кивнул Пётр Поликарпович и осторожно лёг на тощий матрас, подсовывая под голову небольшую подушечку.
– А неплохо тут, – сказал Николай. – Я и не знал, что бывают такие лагеря. Это ж надо так назвать – Комендантский. Вроде комендантской роты, что ли? – И он с усмешкой посмотрел на товарища. Но тот уже закрыл глаза и не слушал. Николай постоял несколько секунд, потом сел на койку напротив. – Да-а, – протянул, – набегались!
Пётр Поликарпович уже спал. Лицо его подёргивалось, щёки обвисли, из глотки вырывалось прерывистое дыхание. Николаю стало жаль его. Он вспомнил, как этот уже немолодой человек шёл по камням и крутым склонам, как блестели в лихорадке его глаза и тряслись от слабости руки, как он стучал зубами от холода ночь напролёт, но ни разу не пожаловался на трудности, ни разу не выругался и не сказал ему ни одного обидного слова. И он понял, что все эти дни рядом с ним находился необыкновенный человек – мужественный, мудрый и непреклонный. Это ничего, что он зарос щетиной и похож больше на зверя, чем на человека. На самом деле он больше человек, чем все те, кого Николай знал до сих пор. Если бы их доставить сюда да прогнать по всем этим кругам ада – что б с ними стало? На кого бы они теперь были похожи?.. Вот и получалось, что лучших людей в своей жизни он встретил здесь, на Колыме. И сидят эти люди словно звери в клетках. И сам он точно такой же зверь, которого ловят и травят. А за что? Этого он так и не понял.
С этими мыслями он стащил с себя грязные ботинки и лёг на плоский лежак, вытянул усталые ноги. Он был доволен уж тем, что всё ещё жив, что его не поймали и не пристрелили во время побега, что не избили при поимке, и теперь они сидят в нормальной камере, а не в ледяном погребе, как это обычно бывает с беглецами. А что там будет дальше, он не загадывал, потому что давно понял: ничего заранее знать нельзя. Колыма – это такое место, где не действует обычная логика и где не писаны нормальные человеческие законы. Закон тут один: каждый сам за себя! Здесь первыми погибают самые совестливые, самые праведные. А выживают наглые, жестокие и бездушные. Почему это так, он не знал. Но вполне в этом убедился, уверовал в непреложность такого положения. Засыпая, он видел перед собой серо-зелёные сопки и синее небо над ними, видел лесную тропу среди мхов и камней, густой кустарник, изогнутые стволы лиственниц и – свои ноги, идущие по тропе. И он всё шёл и шёл по извилистой неровной тропе – непонятно куда, неизвестно зачем…
Утром им выдали завтрак – по миске баланды и по трёхсотке хлеба. Всё это было вмиг съедено. Затем их повели в баню под конвоем. Там они задержались на два часа. Местный парикмахер быстро состриг с них грязные спутавшиеся волосы; всё это вместе с провонявшей одеждой было отправлено в печь. Сама баня показалась им каким-то чудом: было вдоволь горячей воды, было мыло и даже была мочалка! Банщик их особо не торопил. Все уже знали, что в лагерь привезли беглецов, и оказывали им соответствующее уважение (хоть бы и через силу). Пётр Поликарпович постарался вымыться как следует – по нескольку раз мылил голову и грудь, тёр вихоткой мосластые ноги, стараясь не разбередить язвы на ступнях и щиколотках. Суставы на ногах распухли и сильно болели, но горячая вода оказала своё благотворное действие: суставы словно бы размягчились и обрели подвижность. Это было восхитительное чувство.
На выходе из моечной им выдали новые кальсоны и нательное бельё, ватные штаны, гимнастёрки и бушлаты, ботинки с портянками и шапки. Всё это, конечно, было уже ношеное, но чистое, без вшей. Было так приятно надеть на распаренное тело чистое бельё – после трёх недель шастанья по грязи и спанья на голой земле.
В таком обновлённом виде они предстали пред светлые очи следователя из Усть-Омчуга – лейтенанта Попова. Это был молодой человек среднего роста, с худощавым лицом, зачёсанными назад волосами и высоким лбом, нос его почему-то смотрел на сторону, а глаза были пристальные, немигающие. Увидев его, Пётр Поликарпович подумал, что в другой обстановке он мог бы подружиться с этим человеком, особенно ему понравился взгляд – внимательный, испытующий и вроде не злой. Была надежда, что это не садист, не служака, а обычный человек, честно исполняющий свой служебный долг.
Но на поверку всё оказалось не так благостно.
После обычных вопросов и заполнения формуляра лейтенант оторвал взгляд от бумаг и спросил ровным голосом:
– Ну а теперь расскажите, с какой целью вы хотели проникнуть в ряды Красной армии. Советую говорить правду. Мы ведь всё равно узнаем ваши намерения.
Пётр Поликарпович в первую секунду не нашёлся, что сказать. Вопрос показался ему настолько нелепым, что он растерялся.
– Мы решили идти воевать с фашистами, – пробормотал неуверенно.
– Так-так. – Следователь откинулся на спинку, неприязненно посмотрел на него. – Если б вы хотели воевать, так не бегали бы от советской власти. Целый месяц за вами гонялись, столько людей от дела оторвали.
– Но ведь мы сами пришли. Как только узнали, что война началась, так сразу вышли на трассу.
Лейтенант посмотрел в бумаги.
– А у меня вот тут написано, что вас задержали на сто шестьдесят первом километре Тенькинской трассы в составе группы из двух человек. Вот и докладная за подписью капитана Ахметшина. Тут сказано, что вы скрытно передвигались вдоль трассы, но благодаря проявленной бдительности были замечены и задержаны. Что вы на это скажете?
– Да не так всё было! – заволновался Пётр Поликарпович. – Спросите у Николая. Мы ещё накануне, когда узнали, что началась война, решили идти сдаваться, а потом проситься на фронт. Зачем бы мы тогда выходили на дорогу?
Лейтенант криво улыбнулся.
– По-вашему, выходит, что капитан Ахметшин всё это придумал? А ведь он не один в машине ехал. С ним был лейтенант Черниговский, а ещё водитель – рядовой Кулик. Все они подтверждают факт поимки. Кому мне верить – военнослужащим Красной армии или беглому зэку, контрику, уже не раз обманывавшему советскую власть?
Пётр Поликарпович устало опустил голову.
– Делайте что хотите, но я говорю правду.
В таком духе допрос продолжался несколько часов. Лейтенант упорно допытывался: с какой целью два врага советской власти хотели попасть на передовую. Подводил к логичному для него выводу: оба беглеца хотели перейти на сторону врага и довершить таким образом своё чёрное дело. Всё сводилось к одному: враги советской власти никак не угомонятся и упорно ищут средства для её свержения. Представился удобный случай, и они сразу решили перейти на сторону врага, предать свою Родину и всё, что дорого и свято.
Пётр Поликарпович поначалу спорил и оправдывался, но потом увидел, что его слова не оказывают никакого действия, и замолчал. А когда следователь предложил ему подписать протокол допроса, в котором он отвечал утвердительно на все провокационные вопросы, он решительно отказался, заявив, что не станет подписывать себе смертный приговор. Следователь согласно кивнул, словно ожидал такой ответ, и приказал увести заключённого.
Вечером уже, когда с допроса привели Николая, они сидели в камере на нарах друг против друга и вполголоса разговаривали. Николай выглядел особенно удручённым.
– Зря я тебя послушал, – говорил с досадой. – Говорил ведь, не надо сдаваться. Поверил тебе.
Пётр Поликарпович и хотел утешить товарища, да нечем было.
– Ничего, разберутся, – произнёс со вздохом.
– Как же, – подхватил Николай, – выпишут семь грамм свинца, и все дела. Мне следак сразу так и сказал, что по законам военного времени нас обоих пустят в расход, если только мы не признаемся.
– Да в чём нам признаваться?
– А в том! Что хотели устроить диверсию, а потом перейти на сторону врага, выдать секреты.
– Какие ещё секреты? Ведь мы ничего не знаем. – И Пётр Поликарпович обвёл взглядом голые стены.
– Следователь так сказал. Ему виднее.
Пётр Поликарпович улыбнулся.
– Ну ты сам подумай, если мы признаемся, что хотели перейти на сторону врага – так нас ещё вернее расстреляют! Им дело нужно раздуть, а на нас им наплевать. Ведь их самих могут на фронт отправить. А так они докажут, что заняты важным делом. Раскрыли заговор, предотвратили диверсию. Ну? Чего ты? Ведь всё же ясно. Нам надо стоять на своём, говорить всё как было. Нам нечего скрывать. Побег был, спорить нечего. Ну и что? Из лагеря многие бегут. А мы-то ведь сами сдались. Вот и пусть делают выводы. Я не собираюсь наговаривать на себя всякий вздор.
Это был их последний разговор. На следующий день Николай с допроса не вернулся. Следуя служебным инструкциям, следователь развёл их по разным камерам. Однако это не принесло желаемого результата. Оба подследственных стояли на своём: ничего плохого не замышляли, на сторону врага переходить и не думали, а на трассу вышли сами. Следователь с удовольствием применил бы к ним меры физического воздействия, но с некоторых пор все эти дела не поощрялись, и он ограничился простым запугиванием, тем более что тут всё было очевидно и особо стараться не было нужды. Об этом он и сказал на очередном допросе Петру Поликарповичу:
– Ты пойми, дурья башка, – говорил он человеку, годившемуся ему в отцы, – семь грамм тебе уже обеспечены! По законам военного времени побег приравнивается к саботажу. Ты самовольно покинул лагерь, причинив ущерб и поставив под угрозу выполнение производственного плана. За такие дела и в мирное время ставили к стенке, а сейчас тем более. – И он сокрушённо вздыхал, всем видом показывая неизбежность кровавой развязки.
– Я не на основном производстве был, – возражал Пётр Поликарпович. – Работал в инвалидной бригаде, на сборе хвои. У меня инвалидность есть – третья группа. Как же я мог поставить под угрозу выполнение производственного плана?
– Вот видишь? – подхватывал следователь, нимало не смутившись. – Тебе поверили, сняли тебя с прииска и отправили в настоящую больницу, там тебя вылечили, а потом предложили исполнять самую лёгкую работу, разрешили тебе бесконвойно выходить за лагерь, а ты не оправдал доверие, подло всех обманул, заставил бегать за собой. И товарища своего сбил с правильного пути. Он ведь не образованный, университетов, как ты, не заканчивал. А ты запудрил ему мозги, внушил ложные идеалы, несовместимые с нашей советской действительностью. А теперь не хочешь разоружиться. Плохо всё это. Очень плохо. – Он смотрел на Петра Поликарповича немигающим взглядом, лицо его суровело и темнело, и он добавлял уже твёрже, напористее: – Для тебя плохо в первую очередь! – и тыкал пальцем в грудь подследственного.
Подобные разговоры – в той или иной вариации – повторялись несколько раз. Следователь склонял Петра Поликарповича к признанию несуществующей вины, а тот в ответ приводил очевидные доводы против нелепых обвинений. Но главного пункта он опровергнуть не мог. Те два офицера, что подобрали их на трассе, оба утверждали, что это они поймали беглых заключённых, а не сами они сдались. Если б только удалось убедить следователя, что они сами вышли на трассу, то это не только коренным образом изменило бы ситуацию, но избавило бы их от смертного приговора, который нависал над ними с крепнущей неотвратимостью. Но у следователя была бумажка, собственноручно подписанная двумя офицерами НКВД, и эта бумажка была пронумерована и подшита в следственное дело. Никаких очных ставок не предвиделось и быть не могло. Искать этих офицеров и дополнительно опрашивать также никто не собирался. Да и что бы они сказали нового? В их ответах сомневаться не приходилось.
В первых числах июля следователь зачитал Петру Поликарповичу обвинительное заключение. Там было сказано среди прочего:
«Работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя 31 мая 1941 года с места работы совершил групповой побег. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161-м километре Тенькинской трассы задержан».
Также там было сказано, что он «работал плохо, от работы укрывался под видом болезни, настроен антисоветски».
Пётр Поликарпович снова попытался объясниться. Он говорил, что и в мыслях не держал «умышленное ослабление Дальстроя» и что никогда не был настроен антисоветски, наоборот, он желает принести своей Родине пользу, согласен отдать жизнь за неё, пусть его отправят на фронт, и тогда он покажет, как он умеет воевать с врагами советской власти и как любит свой народ! Лучше геройская смерть в окопах, чем позорный расстрел здесь, в лагере, с клеймом предателя и врага народа, которым он никогда не был.
Пётр Поликарпович говорил так искренно, как только мог, понимая, что речь идёт о его жизни. Он был очень убедителен и в высшей степени красноречив. Но для следователя это ничего не значило.
– Я основываюсь на фактах, – говорил тот равнодушно. – А факты – это, как вам должно быть известно, упрямая вещь! – И он снисходительно улыбался, как бы говоря: я тоже образованный, умею ввернуть умное словцо. – Согласно неопровержимым фактам, имел место групповой побег, повлёкший за собой отвлечение значительных сил личного состава спецвойск. Вы с подельником не вернулись обратно в лагерь, из которого бежали, а направлялись в противоположную сторону. Ваши голословные утверждения о намерении попасть на фронт не вызывают никакого доверия. К тому же да будет тебе известно: осуждённых по пятьдесят восьмой статье в действующую армию не принимают. Даже если бы и не было побега, всё равно с тобой никто бы и говорить не стал. Ну ты сам посуди: какой тебе фронт? Сам же сказал, что у тебя инвалидность, вон еле на ногах стоишь. А всё туда же – воевать собрался! В общем, дело предельно ясное. Саботаж в чистом виде. Будешь теперь на суде рассказывать свои сказки. Там тебе объяснят права и обязанности. Ну так что, будешь расписываться в ознакомлении?
Пётр Поликарпович взял перьевую ручку, обмакнул её в чернильницу-непроливашку и размашисто написал внизу листа: «С обвинением не согласен. Прошу немедленно отправить меня на фронт рядовым. Обещаю кровью искупить свою вину перед родной советской властью!». Поставил подпись и расписался.
Следователь взял лист и, прищурившись, стал читать. Целую минуту он вглядывался в неровно выведенные буквы, потом отстранил бумагу и произнёс с сарказмом:
– Вон как ты запел. Ну-ну.
Спрятал бумагу в папку и завязал тесёмки. Сел за стол и положил руки перед собой.
Пётр Поликарпович выждал некоторое время, потом спросил:
– Куда нас теперь, в Магадан повезут?
Следователь пожал плечами.
– Это вряд ли. Здесь будете дожидаться выездного трибунала.
Пётр Поликарпович вздрогнул.
– Какого трибунала? Ведь мы же не военные!
– Вы-то не военные, да время нынче военное. Думать надо было, прежде чем в бега подаваться.
– Так ведь не было войны, когда мы в побег ушли. Это ведь когда было! А война только недавно началась. Мы же не знали, что война начнётся!
– Знали, не знали… это уже неважно. Двадцать второго июня на всей территории Советского Союза введено военное положение, указ номер двадцать девять. Этим же указом военным трибуналам на всей территории передаются на рассмотрение дела о государственных преступлениях. А у вас с подельником статья пятьдесят восемь, пункт четырнадцатый – саботаж. Приравнивается к преступлению против государства. Ничего не поделаешь. Придётся отвечать по всей строгости.
– Да какой же это саботаж? Ведь у нас побег. Мы ведь не повредили ничего на производстве и с собой ничего не взяли.
– Как же не взяли? А нож и топор, – это разве не хищение государственного имущества?
– Ну хорошо, пусть будет хищение, но при чём тут саботаж? Ведь мы знаем, что это совсем другое.
– Другое или нет, это вы будете военному прокурору втолковывать. А я следствие закончил и передаю его в канцелярию. – Вышел из-за стола и открыл дверь в коридор. – Малышев, забирай.
Пётр Поликарпович взял руки за спину и, опустив голову, пошёл вон из кабинета.
Его вернули в ту же камеру, где он провёл последнюю неделю. Туда же через полчаса завели Николая. Следствие было закончено, все протоколы подписаны, обвинительное заключение утверждено. Теперь не было нужды держать подследственных порознь. Судьба их была решена, хоть они и не догадывались об этом.
В этой камере они прожили целый месяц. Их кормили три раза в день – всё той же баландой и чёрным хлебом. Раз в десять дней водили в баню. А на работу не водили вовсе. Рабочих рук в лагере хватало и без них. К тому же лагерное начальство опасалось нарушить инструкцию, которая запрещала использовать подследственных на любых работах, предписывая им безвылазно сидеть под бдительной охраной. Обычно на эти запреты не обращали внимания и распоряжались подследственными всяк по своему усмотрению, насколько у начальства хватало фантазии. Но теперь была война, действовало военное положение, и лагерное начальство решило не рисковать. Мало ли что! В любую минуту заявится трибунал и потребует подследственных. А их нету! (А то ещё снова сбегут!) Как бы самому под трибунал не угодить. Каждый день следовали всё новые указы, распоряжения, инструкции – одна грознее другой.
В эти июльские дни немецкие дивизии уверенно продвигались вглубь советской территории. Уже были захвачены Латвия и Эстония, Литва и Белоруссия, враг приближался к Киеву и Одессе, Смоленску и Ленинграду, Туле и Ростову-на-Дону; и уже совсем рядом была Москва. В гигантских котлах под Минском и Киевом, Брестом и Харьковом оказывались сотни тысяч красноармейцев; все они попадали в плен, так и не начав по-настоящему воевать. Огромная страна вдруг оказалась на краю гибели. Уже шла массовая эвакуация в глубокий тыл заводов и предприятий, уже вставали под ружьё миллионы добровольцев – вместо убитых и захваченных в плен. А здесь, на Колыме, как и во всём ГУЛАГе, продолжали сидеть за колючей проволокой сотни тысяч ни в чём не повинных людей; их охраняли вооружённые до зубов дивизии, составленные из молодых, полных сил мужчин, которых так не хватало на фронте! Почти все заключённые (исключая уголовников) просились на фронт, и все они получали отказ. Будто на смех, защищать Родину от врагов предложили уголовникам. Но те посчитали это дело весьма рискованным и в подавляющем большинстве отказались от этой чести. Да и в самом деле: зачем рисковать своей драгоценной жизнью, когда в лагере они чувствовали себя как дома: на общих работах их использовали лишь в исключительных случаях, жрали они от пуза, ночи напролёт играли в карты и без всякого стеснения резали фраеров и «контриков». Политикой они не интересовались вовсе, а всех политических ненавидели (и эта ненависть находила глубокое сочувствие у лагерной администрации). Их истинной родиной была тюрьма, вместо человеческой морали у них были «понятия», а уважали они одну лишь грубую силу. Образования не имели вовсе, многие не могли даже толком расписаться. Но именно они были «друзьями народа», а не академик Вавилов, не конструктор Королёв, не поэт Мандельштам, не маршалы Блюхер и Тухачевский, не тысячи других талантливых инженеров, военачальников, учёных, экономистов, рабочих, колхозников и всех остальных порядочных и трудолюбивых людей. Так решил низколобый диктатор с замашками садиста, злопамятностью слона и повадками беспринципного интригана. Потому и сидели взаперти Пётр Поликарпович и его товарищ в ожидании смертного приговора, в то время когда они должны были быть на фронте, когда они страстно хотели защищать свою землю от жестокого врага.
Так и досидели они до того момента, когда в лагерь прибыли члены военного трибунала – председатель с землистым непроницаемым лицом и молоденькая остроносенькая секретарша. Оба в военной форме, оба важные и полные ощущения собственной значимости. Кроме них, должны были быть заседатели, но этих каждый раз добирали на месте; обычно это был начальник лагеря и его заместитель по оперативной работе. Суд состоялся двадцать шестого августа и занял совсем немного времени. Всего было десять подследственных, на рассмотрение дела каждого уходило не более пяти минут. Когда вызвали Петра Поликарповича, он спокойно вошёл в кабинет, где за обычным столом, накрытым красным сукном, сидели трое военных. Чуть в стороне, за отдельным столиком, сидела секретарша. Она что-то писала в бумагах и даже не посмотрела на вошедшего.
Председательствующий взял со стола следственное дело и стал листать с равнодушным видом. Дело было тоненькое, не больше десяти страниц. Дойдя до последней и прочитав обвинительное заключение, председатель поднял голову и спросил равнодушно:
– Пеплов Пётр Поликарпович, девяносто второго года рождения?
– Да, это я.
– Признаёте себя виновным в инкриминируемых деяниях?
– Никак нет, не признаю. – Пётр Поликарпович глухо кашлянул. – Я там указал свою просьбу. Прошу отправить меня на передовую, буду защищать социалистическую Родину от фашистской нечисти.
Председатель внимательно посмотрел ему в лицо, и оба военных тоже посмотрели. Даже секретарша оторвалась от своих бумаг и как-то сбоку глянула на подсудимого.
Председатель повёл головой вправо-влево и молвил деревянным голосом:
– Как мы можем вам верить, если вы совершили побег из лагеря? Вы и с передовой точно так же убежите. Красной армии не нужны перебежчики.
– Я не перебежчик! – горячо возразил Пётр Поликарпович. – Я воевал за советскую власть в Гражданскую, имею наградное оружие. Я и теперь могу принести пользу. Прошу поверить мне. Клянусь всем, что мне дорого, я оправдаю ваше доверие, кровью смою позор и заслужу прощение!
На лицах военных показались кривые улыбочки, только секретарша не улыбалась, уткнулась в свои бумаги.
– Вы нам вот что скажите, – снова спросил председатель. – Вы же не отрицаете сам факт побега?
– Нет, не отрицаю. Побег был, но это было ещё до объявления войны…
– Хорошо-хорошо, – перебил председатель. – А факт хищения орудий производства признаёте?
– Я взял с собой нож, которым работал, а мой товарищ – топор. Нельзя в тайге без оружия. Там медведи ходят. И вообще…
– Понятно, – кивнул председатель. – А зачем вы направлялись в Усть-Омчуг? Если следовать вашей логике, вы должны были направиться в Магадан, поближе к порту.
Пётр Поликарпович задумался. Он не совсем понял, почему они должны были идти в Магадан за двести километров, но переспрашивать не стал.
– Мы как узнали, что война началась, так сразу решили сдаться. Увидели машину и вышли на трассу. Ведь мы сами сдались, добровольно!
– Вот как? А в деле сказано, что вы были задержаны на сто шестьдесят первом километре Тенькинской трассы. Страница восьмая, тут и докладная есть за подписью капитана Ахметшина и лейтенанта Черниговского. Кому я должен верить?
Пётр Поликарпович понурил голову.
– Я говорю правду.
Председатель поочерёдно посмотрел на заседателей, сидевших слева и справа от него.
– Какие будут вопросы?
– Да какие там вопросы! – отмахнулся один.
– Всё ясно, – молвил второй.
Председатель снова глянул на Петра Поликарповича.
– Можете идти. Решение вам объявят.
Пётр Поликарпович с беспокойством оглянулся.
– Но как же? Почему не сейчас?
– Таков порядок.
К нему уже приближался конвоир. Не дожидаясь, когда он возьмёт его за плечо, Пётр Поликарпович повернулся и пошёл к двери.
В коридоре он увидел Николая. Того подняли со скамьи и повели в зал заседания. Пётр Поликарпович кивнул ему, желая приободрить. Но тот вряд ли его понял. Лицо его было нахмурено, взгляд сосредоточен. Как видно, он не ждал от трибунала ничего хорошего.
Два часа спустя, когда Пётр Поликарпович и Николай были уже в своей камере, дверь распахнулась, на пороге показался конвоир, в руках у него были две бумажки.
– Держите, – произнёс с угрюмым видом.
Пётр Поликарпович и Николай одновременно поднялись.
– Это что? – спросил Пётр Поликарпович прерывающимся голосом.
– Выписки из приговора. Велели вам передать. Ну что, будете брать?
Николай опомнился первым, шагнул к конвоиру и взял у него бумажки, каждая из которых была размером в пол-листа ученической тетради. Отдал одну Петру Поликарповичу, а вторую тут же стал читать.
Пётр Поликарпович поднёс листок к глазам.
На желтоватой бумаге в синюю клетку был отпечатан текст – едва различимая третья копия, отпечатанная через две копирки. Текст гласил:
«Выписка из приговора выездной сессии
Военного трибунала войск НКВД ИТЛ Дальстрой
от 26 августа 1941 г. по делу № 059
Материалами предварительного и судебного следствия установлено, что подсудимый Пеплов Пётр Поликарпович, будучи враждебно настроенным к советской власти, работая на обогатительной фабрике № 6 ТГПУ, откуда в целях сознательного уклонения от исполнения установленного режима в ИТЛ НКВД и с целью отказов от работ для умышленного ослабления деятельности Дальстроя, совершил групповой побег 31 мая 1941 года. Во время пребывания на обогатительной фабрике работал плохо, настроен антисоветски. Принятыми мерами розыска 26 июня 1941 года на 161-м километре Тенькинской трассы задержан. Руководствуясь Указом Президиума СССР “О военном положении” № 29 от 22.06.1941 г., выездная сессия Военного трибунала ПРИГОВОРИЛА: Пеплова Петра Поликарповича на основании ст. 58–14 “б” УК СССР приговорить к высшей мере наказания – расстрелу.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Военном трибунале ИТЛ Дальстрой в течение 72 часов с момента вручения копии приговора осужденому.
Выписка верна.
Секретарь Военного трибунала войск НКВД
Антонова».
Пётр Поликарпович опустил руку, листок дрожал в потерявших чувствительность пальцах. Он силился что-нибудь сказать, но горло сдавила судорога. По телу разливалась предательская слабость, он чувствовал, что вот-вот упадёт.
– Вот сволочи, десятку накинули! – услышал он возглас Николая. Тот со злостью смотрел в бумагу, по лицу ходили желваки. – Говорил я тебе…
Пётр Поликарпович лишь жалко улыбнулся.
– А у тебя что, тоже десятка? – спросил Николай, оборачиваясь. – Ну-ка, дай!
Взял выписку и стал читать, шевеля губами. По мере чтения лицо напрягалось, каменело, наливалось кровью.
– Да что ж они, сволочи, делают! – воскликнул. – Они что, совсем ополоумели?
– Ну ты это, потише ори, – внушительно произнёс конвоир. – Будешь буянить, доложу куда следует. Давайте сюда выписки.
– Ну вот ещё, – запротестовал Николай. – Я её себе оставлю, я законы знаю!
– Да зачем она тебе? – опешил конвоир. – Следователь велел забрать их у вас и принести ему.
– Вот пусть сам идёт и забирает, – отрезал Николай; внимательно глянул на Петра Поликарповича: – Верно я говорю?
Но тот остался безучастным. Приговор оглушил его, лишил воли к сопротивлению. Он будто оказался в безвоздушном пространстве, и всё происходящее его уже не касается. Горячность Николая казалась ему нелепой, ненужной. Он уже не хотел ничего – ни спорить, ни доказывать свою правоту. Всё ему стало глубоко безразлично. Хотелось лечь, закрыть глаза и ничего не видеть и не слышать.
Он сделал шаг и медленно опустился на нары, повернулся на бок, лицом к стене. Николай что-то говорил ему – Пётр Поликарпович не слышал его. Тело вдруг стало невесомым, он смежил веки и словно бы поплыл в тёплых волнах. Николай взял его за руку, потянул легонько, потом отпустил. Глянул укоризненно на конвоира, тот лишь пожал плечами.
– Вот до чего человека довели, – произнёс Николай с угрозой.
Конвоир лишь хмыкнул, всем своим видом показывая, что он тут ни при чём.
– Ну что, отдашь выписку или позвать начкара?
Николай протянул ему свой листок.
– Бери. А его выписку не получишь. Скажи лейтенанту, пусть сам сюда придёт. И бумагу пускай прихватит. Мы будем жалобу писать. Так и передай.
Конвоир ушёл, а Николай сел на нары и стал пристально смотреть на Петра Поликарповича. Тот лежал не шевелясь, даже дыхания было не слыхать. Николаю стало жутко. Наклонившись, он прислушался. Различив слабое дыхание, выпрямился и глубоко вздохнул. О себе он в эту минуту не думал. Добавку срока он предвидел и внутренне был с этим согласен, а возмущался больше для вида, по привычке, а ещё – от избытка чувств. Ведь он тоже сильно рисковал. Следователь сразу дал ему понять, что если бы у него была пятьдесят восьмая статья, то не сносить ему головы. Но он рискнул и выиграл. Он добился главного – покинул лагерь, где дни его были сочтены. А все эти добавочные сроки он не воспринимал всерьёз, будто это не ему предстояло горбить долгие годы, а кто-то другой будет ещё восемнадцать лет тянуть лямку и жрать пустую баланду. Все эти приговоры трибуналов, «троек» и Особых совещаний представлялись полным абсурдом. Должно что-то случиться такое, что сломает сатанинскую систему, перешибёт хребет чудовищу, которое всё это придумало, – в глубине души он в это верил, ждал чего-то такого. Но вот перед ним был человек, для которого уже не было ни будущего, ни надежд. Его могли расстрелять через три дня, могли через полгода, а могли и вовсе не расстреливать. За что Петра Поликарповича приговорили к смерти, Николай так и не понял. Ну да, война с немцами началась, вот и указ вышел. Но при чём тут они? Как их побег мог повлиять на обороноспособность страны – здесь, за десять тысяч километров от линии фронта, куда ни один фашист не сунется? Кому нужна эта нелепая смерть? Какой во всём этом смысл?
Ответа на все эти вопросы не было. И он уже знал, что следователь тоже ничего им не объяснит. Он скажет то же, что и раньше: сошлётся на московские указы и постановления, произнесёт гневную речь об изуверах-фашистах и о страданиях мужественного советского народа. А на Петра Поликарповича ему наплевать. Таких «поликарповичей» у него сотни. И все чего-то хотят от него, добиваются какой-то там справедливости. А чего можно добиться здесь, в лагере, с клеймом врага народа? Раньше надо было думать – там, на Большой земле, когда их брали из тёплых постелей. Другим следователям нужно было доказывать свою невиновность. А если уж не смог доказать, если попал сюда, так нечего теперь ерепениться. Нужно терпеть и принимать всё как есть. Тем более, если тебе не сидится на месте, если ты уходишь в побег и заставляешь бегать за собой целый взвод красноармейцев. Тут разговор короткий – приговор трибунала и пуля в затылок! Такими категориями рассуждал лейтенант госбезопасности Попов, сам никогда не бывший под следствием, не нюхавший пороху и, в общем-то, ничего по-настоящему не знавший о реальной жизни, о её безднах и ужасах, взлётах и падениях, о терзаниях души, сломанных судьбах, растоптанных надеждах и порушенных мечтах.
Следователь пришёл на следующее утро сразу после завтрака. Он по-хозяйски вошёл в камеру и глянул на лежащего на нарах Петра Поликарповича. Хотел сделать ему замечание, но посмотрел на Николая и не решился.
– Чего звали? – спросил недовольно.
Николай выдержал его взгляд.
– Поговорить надобно, – ответил с вызовом.
– А этот чего разлёгся?
– А вы думали, он плясать будет от радости, что вы ему вышку дали?
– Я ему ничего не давал, – ответил следователь, нахмурившись. – Всё сделано по закону.
Николай рывком поднялся.
– Да какой же это закон? Ведь мы сами сдались! И вы об этом хорошо знаете.
– Ничего я не знаю. В деле есть докладная, а я должен руководствоваться фактами, а не голословными утверждениями.
– Это у них голословные утверждения, а мы вам правду сказали. Да и как бы они нас поймали, ведь они мимо ехали по трассе? Если бы мы не вышли на дорогу, они бы нас ни за что не заметили!
– Ладно, хватит трепаться, – отрезал следователь. – Теперь уже ничего не поправишь. Где выписка? Мне нужно в дело подшить.
Николай подал ему бумагу. Следователь глянул и молча кивнул, спрятал в планшетку, висевшую на боку. Вопросительно глянул на Николая.
– Кассационную жалобу будете подавать?
– Я – нет. А он будет, – без колебаний ответил Николай.
Следователь снова посмотрел на лежащего без движения Петра Поликарповича.
– Что-то непохоже.
– Я сам за него напишу, а он подпишется, – вступился Николай.
Следователь подвигал бровями и милостиво разрешил:
– Ладно, валяй. Пять минут тебе на всё.
– Бумагу принесли?
Следователь вынул из планшета половинку листа и карандаш.
Николай пристроился за столиком. Поднял голову:
– На чьё имя писать?
– Значит, так, пиши в правом верхнем углу: «Начальнику Дальстроя, комиссару госбезопасности третьего ранга Никишову И.Ф. от заключённого Пеплова П. П., осужденного выездной сессией военного трибунала от 26.08.1941 г.» Написал? Ниже пиши по центру большими буквами: «Кассационная жалоба». Ну и дальше сам сформулируй.
Николай быстро покрывал лист корявыми буквами и вдруг остановился.
– А что дальше писать, я не знаю. Вы уж сами подскажите.
Следователь крякнул с досады.
– Всё вам объяснять надо. Короче, пиши так: прошу пересмотреть моё дело и отменить вынесенный приговор, в скобках – расстрел. Обязуюсь искупить свою вину ударным трудом. Ниже поставь дату, а этот пусть распишется своей рукой.
Через минуту Николай поднялся с листком в руке, шагнул к товарищу, тронул за плечо.
– Пётр Поликарпович, ты это, поднимись на минутку, подпись тут твоя нужна, чтоб жалобу подать.
Ответа не последовало.
Николай потянул его за руку.
– Ну встань, не упрямься. Гражданин следователь ждёт, нельзя задерживать.
– Ничего я не буду подписывать, – глухо произнёс Пётр Поликарпович в стену. – Пусть стреляют. Не хочу жить.
– Вот те раз! – Николай озадаченно почесал затылок. – Зачем же так? От тебя ведь ничего не требуется, только расписаться, а уж они сами там решат, что делать.
– Не буду я ничего подписывать, отвяжись.
Следователь шумно вздохнул и покачал головой.
– Вот видишь. Сам не знает, чего хочет, а я же ещё и виноват. Вот и пусти такого на фронт. Он там навоюет…
Не успел он договорить, как Пётр Поликарпович дёрнулся всем телом, вскочил на ноги. Он был страшен в эту минуту. Стоял, пошатываясь, и смотрел на следователя. Лицо подёргивалось, челюсти ходили ходуном, глаза налились кровью.
– А ты почему не на фронте? Чем ты тут занимаешься? Невинных людей на смерть отправляешь? А пусти тебя под пули – как ты там запоёшь? Не знаешь? А я знаю. Я был под пулями, я жизнью своей доказал преданность революции. А такие, как ты, в тылу всегда отсиживаются. Мрази, мерзавцы, холуи!
– Ты что, ты что, замолчи, дурак! – Николай обхватил его руками, прижал к себе. – Молчи, я сказал! – И, повернувшись к следователю, быстро заговорил: – Не слушайте его. Он с ума сошёл от переживаний, вы же видите. Пожалуйста, уходите. Я заявление потом передам, он подпишет, вот увидите.
– Ничего я не подпишу, – рвался из рук Пётр Поликарпович, – пусть убивают, я их не боюсь!
Следователь наконец опомнился. С лица сошла бледность, он попятился к дверям. Видно было, что он порядком струхнул. Выйдя в коридор, крикнул со злостью:
– Никаких заявлений! Больше меня не зовите. Надо было вас обоих шлёпнуть, тогда бы узнали…
Он что-то ещё бормотал и грозился – было уже не разобрать. Николай прислушивался с минуту, потом сел на нары, покачал головой.
– Да-а, брат, наделал ты делов!
Пётр Поликарпович стоял посреди камеры, руки его сжимались в бессильной ярости. Но постепенно он стал успокаиваться. Эта вспышка придала ему сил, вернула к жизни. Он сделал два шага и опустился на нары. Сидел, опустив голову, крепко ухватившись двумя руками за нары. Лицо сосредоточено, взгляд устремлён в пустоту.
– Так вот, Коля, бывает в жизни, – проговорил задумчиво.
– Да уж вижу, – ответил тот. – Только зря ты на него набросился. Не виноват он. Не в нём дело.
– Ты так думаешь? – Пётр Поликарпович поднял голову. – А кто виноват? Почему я должен бегать по сопкам, словно дикий зверь? Зачем нас тут держат?
Николай отвернулся. Сказать ему было нечего. Он и сам хотел бы знать, почему находится здесь, в этом богом забытом краю, а не дома с престарелой матерью, которая едва ходит и почти уже ослепла от горя и непосильной работы. Его десятилетний сын растёт безотцовщиной, жена живёт без мужней ласки, работает из последних сил и едва сводит концы с концами… Он рассеянно глянул на бумажку в своих руках и задумчиво произнёс:
– А ведь и в самом деле расстреляют. Хватит духу!
– Да уж скорей бы, – молвил Пётр Поликарпович. – Надоело всё это – бояться, бегать, всё время что-то доказывать. Ничего не хочу. Пусть что хотят, то и делают.
Остаток дня прошёл в тягостном молчании. Николай ждал, что следователь как-нибудь накажет их за выходку. Но ничего такого не случилось. В обычное время им принесли ужин – чуть тёплую кашу из магары и по горбушке хлеба. Николай съел свою порцию, а Пётр Поликарпович не притронулся к пище.
– Бери мою, я не буду, – только и сказал.
Николай хотел было отказаться, но потом рассудил, что через минуту миски унесут со всем содержимым и каша пропадёт. Опыт старого лагерника протестовал против такой глупости. И когда надзиратель через пару минут приказал вернуть миски, те уже были пусты и блестели так, что и мыть не нужно.
Остаток дня Пётр Поликарпович лежал лицом к стене, то погружаясь в подобие сна, то вздрагивая и просыпаясь. Глядел на тёмную поверхность перед собой и всё пытался представить: как это будет? Его поведут на расстрел, поставят лицом к стене, подойдут сзади и выстрелят в затылок. Он почувствует сильный толчок, пуля пробьёт кость и застрянет в мозгу, а может, пройдёт насквозь – разорвёт лицо, раздробит зубы, выбьет глаз. По лицу потечёт горячая липкая кровь, и он упадёт, захлёбываясь этой кровью; трепыхнётся в последний раз и затихнет… А что дальше? Вечная тьма? Совсем ничего? Или новая жизнь? Что-то там церковники болтали про райские кущи. А что, если всё это действительно существует – где-нибудь там, в заоблачных высях? Попадёт ли он на небо, удостоится такой чести? Ведь он не верит в Бога и всю жизнь презирал церковников. А если Бог всё-таки есть? Если Он спросит Петра Поликарповича: «Зачем ты жил? Что ты сделал хорошего для людей? За что Я должен тебя прощать?»
О-о, если бы только Он спросил! Тогда бы Пётр Поликарпович сказал, что он воевал за счастье людей, боролся против несправедливости и угнетения, думал о благе обездоленных и обманутых, все свои силы отдал этому! И тогда Господь скажет ему ласково: «Да, Я всё знаю. У тебя доброе сердце и правильные мысли. Ты умер за правое дело, тебя не в чем упрекнуть…»
Господь представлялся ему в виде благообразного старичка с большой белой бородой, у него были маленькие смеющиеся глазки и тихий голос, и Он был совсем не страшный, а очень добрый, всё понимающий, снисходительный. Он смутно напоминал кого-то. Пётр Поликарпович стал припоминать, долго мучился, крутил головой и вдруг вспомнил: был такой старичок – ещё до революции. Он жил на заимке в глухой тайге верстах в двадцати от их села. Держал небольшую пасеку, пас коз, обрабатывал немудрящий огород с морковкой и луком. Жил он с дочерью – такой же тихой и пугливой. Сколько он его помнил – старик всегда улыбался, смотрел на всех ласково, щуря свои маленькие глазки и показывая недостаток передних зубов. Видно было, что это очень добрый, бесхитростный человек. Никогда и ни о ком не говорил плохо, а жизнью своей был всегда доволен – так, по крайней мере, казалось со стороны. Да так оно и было на самом деле. (Хотя односельчане подсмеивались над стариком, считали его блаженным, дурачком.)
Уже после революции Пётр Поликарпович узнал, что старика этого убили вместе с дочерью. С дочерью перед смертью сотворили непотребство. Кто их убил – белые или красные, – он так и не понял. Говорили всякое. Кто-то громко обвинял в их смерти каппелевцев, другие вполголоса и как бы стыдясь указывали на красных. И теперь Пётр Поликарпович подумал, что, действительно, это могли сделать и красные. В Гражданскую всякое бывало. Зверствовали и те, и эти. И село их поделилось поровну, кто-то был за новую власть, кто-то ненавидел большевиков. А убивали все одинаково – до смерти, нередко лютуя. И если раньше Пётр Поликарпович думал об этом отстранённо, как о чём-то неизбежном, без чего нельзя обойтись, то теперь ему вдруг сделалось страшно. Зачем погибло столько народу? Почему брат пошёл на брата, а сосед на соседа? Зачем они разрушили весь этот тысячелетний уклад? Так ли уж плохо они жили? И что получили взамен? Колхозы, в которых земля не принадлежит помещику или барину, но и крестьянину она тоже не принадлежит; и всем вместе глубоко плевать и на самый колхоз, и на урожай, который всё равно отберут, – отчего и голод, и всеобщая бескормица, и душевное опустошение, и лютая злоба, и новые смерти без счёта. А в городах – заводы, где рабочие получают сущие гроши и уже не могут по своему желанию переменить место, а за малейшую провинность идут под суд. Получили целую армию садистов в форме НКВД, которые хватают всех без разбору и всем дают срока, а через одного – пулю в затылок? Что же такое они сотворили тогда в семнадцатом? Для чего проливали свою кровь в Гражданскую? Зачем погубили столько народа? Чтобы теперь самим лечь в сырую землю? Но кто же тогда останется на земле? И как они все будут жить после этого? Как будут объяснять внукам весь этот хаос, эту кровь? Скажут ли о погибших доброе слово? Вспомнят ли их вообще или постараются забыть – как кошмар, как страшное недоразумение?..
Ответа на все эти вопросы не было. Как не было и спокойствия. Эти последние дни своей жизни Пётр Поликарпович мучился от осознания какой-то страшной ошибки, которую он совершил. Но никак не мог понять: что он сделал не так? В какой момент всё пошло наперекосяк? Почему такая ясная и прямая перспектива вдруг затуманилась и обратилась в свою противоположность? Ещё совсем недавно он был уверен в себе, полон сил и планов, а все вопросы решал просто, ни в чём для него не было затруднения или тайны. Но теперь тайна была во всём, всё вокруг представляло неразрешимую загадку. Лучше всего было вовсе не думать. Но не думать он не мог, мысли всё время возвращались к одному: скоро он умрёт. Даже если расстрел отменят, жизнь всё равно была кончена, идеалы растоптаны, достоинство утрачено навеки. Зачем тогда жить? Нет уж, лучше сгинуть теперь. Разом поставить точку – и дело с концом.
Да, он приготовился к смерти, признал её правоту и подспудную логику. Но каждый раз вздрагивал, когда в замке скрежетал замок и дверь распахивалась. Всё ждал, что ему скомандуют «на выход без вещей». Особенно томителен был третий день. Он уже знал, что на рассмотрение жалобы отводится трое суток; если за это время не приходит приказ об отмене казни, то приговор приводится в исполнение. А он даже и не подал свою жалобу. Следовательно, расстрелять его могут в любой момент. Но дни шли за днями, а его не расстреливали. Прошёл и третий день, и четвёртый, уже и неделя минула, а Пётр Поликарпович всё томился в камере, всё думал о своей жизни, искал ответа на неразрешимые вопросы. И понемногу тяжесть стала отступать. Забрезжила надежда, что не расстреляют, одумаются или случится что-нибудь такое, что перечеркнёт все приговоры и вздорные решения. Всё-таки была война – самая страшная война в истории человечества. Могло случиться всякое, и тогда понадобится помощь всех тех, кто способен держать в руках оружие. Заключённых выпустят из лагерей и отправят на фронт. И уж там решится, кто достоин жизни, а кто должен будет умереть, кто герой, а кто подлец и тварь дрожащая. Если бы теперь ему сказали, что он погибнет лютой смертью уже на следующий день по прибытии на фронт, он бы с радостью согласился, почёл бы за счастье! Погибнуть в бою с жестоким врагом – это совсем не то, что принять позорную смерть от руки своего собрата, сгинуть в этих бескрайних просторах. Пётр Поликарпович поминутно переходил от надежды к отчаянию. Временами казалось, что жизнь продолжается и будущее открыто, но потом наваливалась тяжесть, в душу заползал мрак, и он ложился на нары и лежал так несколько часов кряду, не шевелясь, ни о чём не думая, бесчувственный, как труп.
Через две недели лагерное начальство решило, что нечего приговорённым сидеть без дела. Петра Поликарповича и Николая стали выводить на работы. Был уже конец сентября, заметно похолодало, по утрам на траве блестела изморозь. Ежась от лёгкого морозца, Пётр Поликарпович шагал за конвоиром по лагерю, оглядывая чёрные бараки и всё то, что попадалось на пути, и недавний суд и приговор казались ему каким-то сном, будто всё это было не всерьёз. Вот он, как и все, идёт на работу, сейчас ему дадут лопату, и он будет нагружать землю на носилки, а потом носить, куда скажут. Потом будет обед и короткий отдых, а потом опять работа, пока не стемнеет. В эту пору темнело рано, часов в пять. Поэтому рабочий день был короток – не для всех, конечно, а только для обитателей лагерной тюрьмы. Пётр Поликарпович это понимал и печалился. Ему хотелось оказаться в обычном бараке среди обычных заключённых. Он согласен был вставать, как и все, в шесть часов, а потом работать весь день без роздыха, – только бы не убивали! Но в обычный барак его не переводили, на то не было права у местного начальства. И расстрелять Петра Поликарповича так просто тоже не могли. Местному лагерю он уже не принадлежал. Судьба его решалась в более высоких инстанциях. И все ждали этого решения: одни с равнодушием, нисколько не беспокоясь об исходе этого дела, другие с любопытством и долей сочувствия, а Пётр Поликарпович – со страхом, веря и не веря, что он смертник и жить ему осталось недолго.
* * *
В октябре сорок первого решалась судьба первого в мире социалистического государства. Фашисты рвались к Москве, сосредоточив на этом направлении два миллиона солдат, две тысячи танков, четырнадцать тысяч орудий и самоходных установок, восемьсот самолётов. На карту было поставлено всё!
Третьего октября немцы взяли Орёл. Пятого октября пал Юхнов, шестого – Брянск. Седьмого октября под Вязьмой в окружение попали тридцать семь советских дивизий, девять танковых бригад, тридцать один артиллерийский полк и управления сразу четырёх армий. В плену оказались почти семьсот тысяч советских солдат и командиров. Тринадцатого октября пала Калуга. Шестнадцатого – Боровск. Восемнадцатого – Можайск и Малоярославец. Ожесточённые бои шли в восьмидесяти километрах от Москвы. Пятнадцатого октября было принято решение об эвакуации столицы, и на следующий день город охватила паника – сотни тысяч людей тщетно пытались вырваться из города.
Двадцатого октября в Москве было введено осадное положение. Казалось, что всё кончено.
Такая тогда была обстановка.
* * *
Двадцать третьего октября, глубокой ночью, Петра Поликарповича разбудили. В камере он был один – Николая накануне куда-то увели.
Пётр Поликарпович сперва ничего не понял. Подумал, что его забирают на этап, стал торопливо собирать вещи.
– С собой ничего не брать, – произнёс строгим голосом военный в белом полушубке и мохнатых якутских торбасах.
Пётр Поликарпович вскинул голову.
– Но это мои вещи!
– Они тебе уже ни к чему.
Пётр Поликарпович подумал секунду, потом медленно выпрямился, вытянул руки по швам.
– Что ж, я готов.
Его вывели из барака и повели к воротам – военный с пистолетом в кобуре на поясе и два бойца с винтовками; бойцы были в рыжих овчинных тулупах, на ногах – валенки светлого ворса. Лишь Пётр Поликарпович был одет не по-зимнему – в телогрейке и чёрных стёганых штанах, на ногах – ботинки, на голове – убогая шапчонка.
У ворот была минутная остановка. Потом тяжёлые створки раскрылись, и они вышли наружу.
Сразу от ворот пошли влево, вдоль трёхметрового забора из чёрных покорёженных досок. Пётр Поликарпович вдруг подумал, что его ведут в другой лагерь или куда-нибудь в посёлок по казённой надобности, а он неправильно понял военного. Но когда они свернули направо и пошли вниз, к глухо шумящей реке, сомневаться перестал. Надежда, вспыхнув словно искорка в непроглядном мраке, тут же и погасла.
В эти последние минуты он чувствовал необычайную лёгкость. Тело казалось послушным, он чувствовал каждую свою клеточку, свободно управлял каждым мускулом. Грудь дышала глубоко, жадно. Морозный воздух свободно вливался в лёгкие, отчего кружилась голова, и всё вокруг казалось сказочным, таинственным – и чёрное небо, на котором остро блестели синие, розовые и белые звёзды, и неподвижные чёрные горы вдали, и шумевшая за раскидистыми кустами речка. Земля была укутана толстым пушистым снегом. Мороз стоял изрядный, но Пётр Поликарпович не чувствовал его укусов, то есть он понимал, что холодно, но холод словно бы отскакивал от него. Он машинально стянул шапку с головы и нёс её в руке. Военный покосился на него, но ничего не сказал. Так и шли до места.
В последнюю минуту, стоя на заснеженном бруствере спиной к реке, а лицом к расстрельной команде, стоявшей прямо перед ним в пяти метрах, Пётр Поликарпович пытался определить, в какой стороне находится его дом. Он крутил головой, но везде было одинаково темно и глухо. Поднял глаза к небу и стал искать Полярную звезду. Вдруг увидел прямо над головой перевёрнутый ковш Большой Медведицы, а чуть правее и выше горела белым пламенем главная звезда северного небосклона, этот маяк для всех мореплавателей и землепроходцев, сколько их ни было и не будет впредь. И тогда он понял, что смотрит на север, а родная сторона находится слева. Он повернул голову и попытался представить родной Иркутск, свой дом, жену и дочурку. Через всё тело прошла волна нежности, согревшая его среди этих снегов и промороженных сопок. Всё-таки не зря он прожил свою жизнь. Было и в его жизни счастье! Счастье – это не борьба с белогвардейцами и не ночные рейды по спящим сёлам, не митинги и не собрания, не пафос революции и не разгорячённые лица товарищей, а это – любимая дочь и любящая жена, это тихие вечера у детской кроватки, это шелест страниц у ночной лампы, это нежный взгляд любимого человека…
Военный вынул из-за пазухи лист бумаги и стал зачитывать приговор:
– Именем Союза Советских Социалистических Республик…
Слова вырывались из глотки вместе с морозным паром и без остатка растворялись в чёрной пустоте, сами становились пустотой. Пётр Поликарпович не слушал, словно всё это не имело к нему ни малейшего отношения. Он всё смотрел в левую сторону, будто пытался пронзить взглядом несколько тысяч километров пустого, насквозь промороженного пространства.
Военный возвысил голос и смолк, спрятал бумагу обратно за пазуху.
– Отделение, г-товь-сь!
Щёлкнули затворы, поднялись стволы.
– Целься! Пли!
Выстрелов Пётр Поликарпович не услыхал. Его с силой ударило в грудь. Он хотел глянуть, что это такое, но в ту же секунду тёмное небо со звёздами и заснеженный берег завертелись у него в глазах, и он полетел куда-то назад и вбок, уже не чувствуя ничего, не понимая, не помня себя.
Военный спустился в неглубокую ямку к лежащему на спине телу, наклонившись, заглянул в лицо, потом поднёс ко лбу заранее приготовленный наган, приблизил вплотную и выстрелил. Голова откинулась назад и вбок и застыла, пальцы правой руки судорожно стиснули горсть снега. В полуприкрытых глазах искрились звёзды, от лица поднимался белый пар. Военный выпрямился, помедлил чуток, потом спрятал наган в кобуру и молвил удовлетворённо:
– Готов.
Вылез на бруствер, и все трое быстрым шагом зашагали обратно в лагерь.
Иркутск – Магадан, 2015–2017 гг.




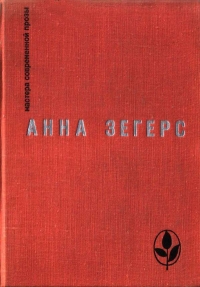
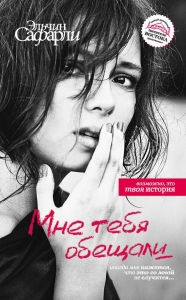






Комментарии к книге «Бездна», Александр Константинович Лаптев
Всего 0 комментариев