Лев Трутнев Живи и радуйся
Книга первая. За окаёмом войны
От автора
Вряд ли найдется человек, который бы в зрелые годы не вспоминал детство, юность, молодость. Какими бы они не были, а память о них всегда осветляет душу, и, видимо, потому, что на подъеме жизни, в зареве надежд, все воспринимается глубже, острее, желаннее… И как бы ни сложилась судьба того или иного человека, изначальная ее завязь во многом близка с другими судьбами – поскольку основные общечеловеческие понятия однозначны, разница лишь в их осмыслении и жизненной направленности. Именно внутренние убеждения, как нравственное начало, являются главными определяющими тех общественных и духовных позиций, на которые опирается человек, выбирая свой судьбоносный путь. И при любом общественном укладе жизненный опыт в своем многообразии служит ключом в будущее.
Моё детство выпало на годы Второй мировой войны – Великой Отечественной, как её принято называть у нас. О ней написано много и еще долго будут писать. Причем не только о боевых её составляющих, но и о тыловой жизни тех времен. И хотя мне вначале той, общечеловеческой, трагедии не было и шести лет, обо всём, что пришлось пережить и что запомнилось, повенчалось выстрадать в творчестве, показать тот самый, военный тыл – жизнь сибирской деревни, прошедшую не только перед моими глазами, но и испытанную наяву, глубоко обжегшую душу. Ибо война для меня – это, прежде всего, невосполнимая утрата – потеря отца. А сколько еще потерь неподдающихся осмыслению? Постичь ли, соизмерить, возместить? И вряд ли я ошибусь, если скажу, что ни один мой ровесник, выросший без отца, прикидывал, как бы сложилась его судьба – не будь войны? И какими бы ни были эти прикидки, неотъемлемой их частью всегда является, спрятанная в тайниках души, некогда тяжкая, а после привычная, как день и ночь, боль. Обида за неполноценное детство, юность, молодость, да и добрый отрезок дальнейшей жизни. Поскольку на всех этих этапах отец дает нам то, что не может дать ни один другой человек на свете: кровную завязь, родственность души, жизненную поддержку, благодаря которым, прямо или косвенно, формируется и характер, и духовность, и ориентировка на будущее. Тут и без всяких прикидок ясно, что жизнь изначальная и жизнь дальнейшая при живом отце всегда основательнее, весомее, тверже и, вероятно, светлее…
Начало войны я помню смутно. Вокзал, паровоз, вагоны, бравурная музыка. Отец в военной форме. И деревня. В ней, у деда по материнской линии, я и вырос, познал труд, людей, природу, основы учебы. Причем трудиться пришлось едва ли ни сразу, в первый же год. Вначале по желанию, в охотку, в силу необходимости – на своем подворье, позже – в колхозе, по принудиловке. В десять лет я уже пропалывал хлеба от сорняков, убирал овощи, возил копны к скирдам в сенокосную страду, а в двенадцать стал косить самостоятельно. Испытать пришлось и голод, особенно в последние годы войны и первое время после неё; и холод – не было ни надлежащей обуви, ни должной одежды, то и другое чинилось, перечинивалось; и унижение – колхозное руководство не особенно с нами, подростками, церемонилось. К тому же эхо войны долетало до нас тяжелыми утратами или вовсе – горем, а отзвуки этого эха долго прокатывались по грядущим годам.
Все эти перипетии довольно подробно раскрываются в предлагаемом романе, но это не биография в литературном исполнении, а художественное произведение с теми или иными отклонениями от истины, при которых многие события хотя и имели место в жизни, но несколько трансформированы для полноты раскрытия образов и цельности сюжетных линий. Тем не менее это именно та жизнь, та духовная закваска, на которой поднялись поколения людей, явивших миру непревзойденные высоты науки, литературы, живописи, музыки. А ровняться на них или нет – решать читателю. Автору остается лишь тешить себя доброй надеждой и пожелать всем светлого чтения.
Предисловие
Время за нами, время перед нами,
а при нас его нет.
ПословицаСветлы и радужны мысли о детстве, трепетно сокровенны, не редко обвальные, хотя память иной раз и не в состоянии отличить былое от налетного, слышимое от увиденного, сны от яви. Сполохи изначальных воспоминаний высвечивают такие туманные дали, что выстроить в них временные или духовные связи невозможно, лишь отдельные образы рисуются в воображаемом прошлом, волнуя душу, и всё…
Опускаясь в глубины памяти, теряясь и растворяясь в них, вижу перед собой некую красную обволакивающую пелену – будто гляжу я сквозь прикрытые веки на солнце – и не улавливается что-либо осветленное между этой безбрежной краснотой и ясными мгновениями сознания…
* * *
Пустая комната в одно окошко. Я стою в деревянной кровате, держась за ее боковину, и оглядываюсь. Яркий свет, выливаясь из окна, падает на пол четким пятном, а сбоку, на белой стене, висит чей-то портрет в рамке. Мне непреклонно хочется дотронуться до этого портрета, и я тянусь к нему, тянусь – ближе, ближе… Дальнейшее стерлось временем… Когда я, уже в зрелые годы, как-то рассказал об этом матери, то она лишь улыбнулась своими удивительно лучистыми глазами и покачала головой: «Не можешь ты, сынок, помнить того случая: чуть больше года тебе было. Жили мы тогда на таможне, в горах, день езды в телеге до города Зайсан, твоей родины. Спал ты, а я обед готовила – отца ждала, слышу – что-то грохнулось. Забегаю в комнату – ты стоишь в кроватке, а за ней, на полу, картина с разбитым вдребезги стеклом. Меня холодом окатило: ведь могла эта рама упасть тебе на голову…»
* * *
…Горные громады в острых изломах, глубоких провалах, густых тенях, до неба закрывающие пространство. Крутые отвесы, нагромождения каменных россыпей, гасящие взгляд расщелины. От гигантов, сжимающих синеву бездонности, наплывет что-то мощное, порождающее ни то страх, ни то восхищение, и я, покачиваясь в такт телеги, пляшущей на неровностях дороги, то прикрываю глаза, затаивая дыхание, то стараюсь через ресницы следить за открывающимся миром. Успокаивает одно: рядом матушка и отец с возницей. На задке телеги наши немудреные вещи.
Прошло немало времени, прежде чем меня укачало, полураспахнутые ресницы сомкнулись сами собой, и я уснул.
Холод и монотонно клокочущий шум разбудили меня. Телега стояла среди плещущей, бурно катящейся воды. Ни лошадей, ни отца с возницей не было. Одни мы с матерью сидели в телеге посредине этого шумного потока. Из потемневшего неба падали редкие снежинки.
Испуг ожег меня сильнее, чем чувство холода. Я кинулся к матери и заплакал. В моем лексиконе еще не было слов, с помощью которых я бы мог объяснить свое состояние, и единственным выражением моих чувств были слезы.
Она утешала меня, что-то говорила, но не все сказанное понималось. Едва-едва я успокоился, и тогда мать запеленала меня в перину.
«Мы переселялись с таможни в город, – уже взрослому рассказала мне она про тот случай, – а колесо у телеги сломалось на камнях среди горной речки. Отец с возницей и ходили за помощью в ближний аул. Мы с тобой часа четыре куковали на телеге. А тут еще снег пошел. Я тебя и завернула в перину. Самой уж, как пришлось»…
* * *
И далее… Широкая кровать с рядами подушек в цветастых наволочках, затененные шторами окна, комод, на котором стоит гармонь. Она, напевная, трогающая душу особой волной, влечет меня, хотя я и знаю, что брать гармонь нельзя. Но в комнате никого нет – бабушка куда-то отлучилась, а отец с матерью и вовсе ушли по делам с самого утра.
С трудом придвинул я к комоду стул и влез на него. Усилия, которые помогли мне стянуть гармонь вначале на стул, под ноги, а после на пол, в вертикальное положение, не запали в сознание. Лишь сладость издаваемых звуков, когда я, натуживаясь, растянул меха, залила сердце. И тут бабушка – шлепок по мягкому месту и обида. Да такая сильная, что широкая бабушкина юбка в белый горошек по темно-синему фону, заслонившая от меня все, осталась в памяти навсегда, а лицо родной бабушки не запомнилось…
* * *
Шлепанье плиц огромных колес парохода. За округлой кормой расплываются валики белесых бурунов. Они притягивают мой взгляд, манят живой необычностью, и, заметив, что мать заговорилась с какой-то попутчицей, я короткими перебежками пробрался к самому кормовому бортику, под леера, и стал наблюдать за водяными кудряшками волн. Лицо опахнуло прохладой, обнесло влажной пыльцой. Дотянуться бы до этих игривых выплесков! Они почти завораживают меня, и я клонюсь все ниже и ниже… Тихий охват за плечи – я вздрогнул. Бледное лицо матери с широко открытыми глазами, в темных зрачках не погасший испуг, который неким образом передался и мне. Сердечко сжалось, слезы брызнули… Возможно, это был первый истинный испуг в моей жизни… «На пароходе мы плыли с тобой от пристани Тополев Мыс, что на озере Нор-Зайсан, в Омск, куда отца перевели работать, – помнила этот случай и матушка, – ты и убежал, пока я разговаривала со знакомой женщиной. Сильно меня испугал тогда: мог ведь и свалиться в воду…»
* * *
Полупустой трамвай с лязгом катится по затемненному сумерками городу. Через глазок, вытаянный на замерзшем стекле дыханием отца, я вижу гирлянды огней и слышу отцовский возглас: «Ёлка!»… Мне радостно, легко и знобко.
* * *
Общая баня. Суета. Жарко и влажно. Я стою одетый в предбаннике и жду отца. Время идет медленно, а жар натекает и натекает за воротник. Держа в памяти наказ родителя – никуда не уходить, выскакиваю на улицу. Тепло, солнечно, воробушки чирикают. Вдоль улицы тянется дощатый тротуар. Припоминаю, как мы с отцом шли по нему в баню, какие делали повороты – весь путь до недалекого дома, и, не торопясь, с радостным чувством самостоятельности, шагаю по широким доскам, тайно надеясь, что отец меня догонит…
Почти у самого дома услышал я торопливый топот и оглянулся – радостное лицо отца, взлет на его крепкие руки. Попало или нет мне за самовольство – не запомнилось, но, вероятно, тогда я впервые ощутил истинное дыхание свободы.
* * *
Отец купил мне заводной автомобиль – по тем временам подарок ценный. Вышел я на тротуар обкатать игрушку. А тут какой-то паренек со свистулькой из-за угла вывернулся. Завлек он меня переливами звуков, дуя мастерски в «петушка», и променял я свою новенькую машинку на свисток из обожженной глины. Парень ее за пазуху и снова за угол. Начал я дуть в свистульку – не получается так забавно, как выходило у него. Пошел в дом, к отцу, за советом. Понял он, в чем дело, выскочил на улицу, а парня словно и не было.
* * *
Соседские ребятишки роются в песке, что растекшейся кучей насыпан за двумя кленами, напротив нашего дома. Я к ним, погружаю руки в прохладу щекочущих кожу частиц, приятно и забавно пересыпать песок с ладони на ладонь… И вдруг – острая боль по запястью левой руки! Кровь быстрой струйкой потекла к локтю. Жгучий страх стиснул горло. Кричу и не слышу себя в быстром беге к дому. В комнате один отец. Те синие, тревожно распахнутые его глаза остались в памяти навсегда.
* * *
Женщина врач, осторожно разматывая присохшую к телу ткань тюлевой занавески, которой отец замотал мне пораненную руку, все нахваливала меня, предвосхищая крики боли. Ну как можно было не поверить ей, что я герой?! Как уронить себя в глазах отца, докторши?! Нет, лучше терпеть этот болевой ожег, прошивающий руку до самого плеча…
Чуть ли не пол-ладони распластало мне ни то осколком стекла, ни то какой-то жестянкой. И после, на перевязках, та же докторша постоянно обласкивала меня, подбадривала, нахваливая. И, возможно, в тех первых усилиях над самим собой и закладывался дух того терпения, что сохранился в моем характере на всю жизнь…
* * *
Как-то, уже к концу лечения моей ладони, мы с матерью возвращались домой поздновато, ближе к вечеру. У соседнего двора толпились люди. Они поглядывали на небо. Слышался говор: «Это не к добру… Это к войне…» Поднял и я голову: на матовом небе, во весь его простор, разливалась яркая краснота, обжигающая взгляд. Было в этом неимоверном разливе что-то кровавое, пугающее… А под утро прошел ливень с градом и ураганным ветром, посек деревья, выбил стекла в домах, стоявших окнами на запад. С куриное яйцо падали градины, втрамбовывая в землю и зелень огородных грядок, и цветы в палисадниках, и траву. И людям, не успевшим укрыться, досталось. До полудня таяли округлые куски льда, жемчужно поблескивая в кустах выстриженной травы. Было ветрено и прохладно, а через день или два в говоре взрослых то и дело стало слышаться слово – война! Непонятное и тревожное. От их поведения, словесных интонаций, беспокойства в глазах передалась и мне тягостная тревога, и с тех безрадостных дней моя память раздвигает завесу времени во всем развороте следовавших друг за другом событий.
Часть первая. По первому кругу
Глава 1. На пороге
1
Война! Война!.. Это слово будто билось в летнем, накаленном зноем воздухе, отлетая отзвуками от залитых солнцем кленов и тополей, поседевших тесовых крыш, бревенчатых и дощатых стен, заборов, песчаного ложа пыльной улицы, возносясь к чистому, до слезинок в глазах, синему небу и вызывая жгучие волнения, не ясные, сжимающие душу образы, страх. А вскоре появились и первые зримые признаки этого страха.
Из большой, трехэтажной школы, заслонившей полквартала дворов, вывезли парты и столы, а вместо них подняли кровати и тумбочки, и я узнал новое слово – госпиталь…
* * *
Соседка, приоткрыв двери, крикнула:
– Раненых привезли! Пойдем смотреть!
Мать отложила шитье и поднялась. Стал и я сдвигать в угол игрушки.
– Побудь дома, сынок, – поняла она мою спешку, – еще напугаешься.
– Не напугаюсь! – с твердой решимостью откликнулся я. В сознании почему-то мелькнуло улыбчивое лицо докторши, лечившей мою руку и признающей во мне маленького героя, а сердце заплыло сосущим жаром. Почти не ощущая ног, выбежал я за ограду.
Солнце скрылось за домами, но его лучи еще обжигали серый фасад школы и высокую чугунную ограду, возле которой стояли машины с ярко-красными крестами на крытых кузовах. Эти кресты в белых кружках я заметил сразу, от самой калитки, и замер.
Из машин выгружали носилки. Я увидел людей, обмотанных бинтами. У кого была обелена голова, у кого – ноги, у кого – грудь… А на той непривычной белизне – кровавые пятна, потемневшие и яркие, округлые и расплывчатые. Сжалось моё сердечко, глазенки распахнулись, ноги потяжелели – одно дело слышать о войне, что-то воображать, другое – увидеть её выплески в непосредственной близости.
* * *
Жар. Духота. Говор толпы. Музыка…
– Ничего, Аня, это ненадолго, – улавливаю я слова отца из общего шума. – Дня через три будет подвода из деревни – поезжайте туда. В городе тебе не выжить…
Дальше голос его стал тише – слов не разобрать.
Блеск рельсов слепил глаза. Ярко зеленели скверы, а мрачное здание вокзала почти закрывало своей тенью перрон, к которому медленно двигался черный и громадный паровоз. Несколько зеленых вагонов с узкими окнами тянулись за ним.
Пляшущие тени зарябили перрон. Раздался оглушительный свисток. Я вздрогнул и откачнулся назад.
– По вагонам! – раздался властный голос.
Оркестр рванул что-то трепетно бравое, распахивающее душу. Толпа колыхнулась. Шум, гвалт, плач… Отец поднял меня на руки и прижал к груди. И я охватил его шею изо всех сил. Никогда еще любовь к нему не прошивала меня с такой пронзительной остротой и обуревающей крепостью. Перед зажмуренными глазами поплыло что-то горячее, обжигающее сердце и высасывающее душу. Казалось, что стоит мне оторваться от отца и все кончится, сгорит в чем-то всеобъемлюще неподвластном. Он щекотно обдавал мне ухо, что-то говоря, но я, дрожа натянутой струной, не улавливал смысла слов, и очнулся лишь тогда, когда медленно, как бы нехотя, тронулся поезд. Отец быстро поставил меня рядом с матерью и ловко вскочил на подножку ближнего вагона.
Покатились, застучали колесами зеленые вагончики, замелькали распахнутыми окнами. Из них и из всех дверей выпархивали машущие руки, пилотки, картузы… И окружавшие нас с матерью люди что-то кричали, вздыбливались, пытаясь угадать своих среди этого мелькания. И я поднялся на цыпочки, надеясь еще раз увидеть отца, но в дробном мельтешении света и теней различить что-либо было невозможно. А вагончики катились дальше и дальше, продолжая щетиниться прощальными отмашками, и вскоре слились в одну сплошную полосу…
Всю жизнь эти зеленые вагончики катятся перед моим мысленным взором – стоит памяти поплыть к тому роковому времени, а уже девятый десяток потянулся, более полвека прожито в одном краю, в одном городе – через рубежи двух веков, двух тысячелетий, двух государственных устройств. Сколько пережито, перевидано, передумано, принято и отвергнуто! Разве увяжешь все в один сноп, утолчешь в одной ступе!..
2
Подвода пришла дня через три после тех проводов. Это была обыкновенная телега с одной впряженной лошадью. В передке сидел большеголовый и седой старик. Он поговорил с матерью о чем-то и, сбросив с телеги пахучее сено, стал таскать в нее наши вещи. Мы брали с собой кровати, посуду, одежду…
Лошади и в городе были, и эта деревенская, худая и неприглядная, меня не привлекала. Я, как мог, помогал грузить вещи, и старик, заметив мое усердие, подобрел.
– Старательный малый! – сказал он матери. – Помощник в деревне будет, а там всегда работа найдется… – И разговорился…
Я не все понимал из его рассказов, но прислушивался. Сложное чувство владело мной: было радостно оттого, что предстояла встреча с дедом, у которого мы хотя и были всего раз и давно, а что-то светлое осталось от того приезда в деревню, и грустно – уезжали мы без отца на неизвестное время и в неизвестное будущее.
Попрощавшись с соседями, мы разместились на сене среди нагромождённых вещей. Повозка покатилась мимо тихих домиков, окруженных палисадниками, и я разглядывал их с высоты телеги.
Скоро впереди блеснула вода. Запахло сыростью. Широко открылась в светлых бликах река. Ни лодки на ней, ни парохода. Один дощатый паром стоял у берега, загруженный повозками и людьми.
Старик ушел к парому и скоро вернулся – нашлось и нам место. При съезде с кручи телега опасно накренилась, и я со страхом глядел на близко плескавшуюся воду.
– Слезайте с телеги, а то голова закружится, – распорядился старик-возница, и мы с матушкой кое-как сползли на дрожащие под ногами доски парома.
Едва мы умостились на краю деревянного настила, как паром незаметно отчалил. Закрутилась и заплескалась вокруг него большая вода. Потянуло свежестью, резче запахло лошадиным потом, кожей и сеном.
Течение тянуло паром вдаль, к зеленому острову, но он, надсадно тарахтя, упрямо пересекал реку.
По пыльному взвозу мы поднялись на другой берег. Быстро пропал за бугром город, и перед нами открылись широкие просторы с островками леса. Пахнуло медвяным запахом, знойным теплом. В глазах зарябило от ярких красок, и я притих, затаив дыхание. И в городе были цветы, но разве такие!
– Гляди, – толкнул я плечом опечаленную мать, – одни голубые! А бабочки!..
Она только улыбалась и ничего не говорила. Глаза ее оставались грустными.
Старик оглянулся на мои восторженные крики.
– Дите – есть дите, – сказал он и замолчал…
Становилось жарко. Я продавил углубление в сене, и вскоре мои глаза затуманились легким сном. Широко цветущую степь заслонили городские улицы, из которых выплыла школа, подле нашего дома, крытые машины с красными крестами, носилки, перевязанные бинтами люди, пятна крови… Я вздрогнул и проснулся. Все так же спокойно катилась по дороге телега. Чуть-чуть покачивался в такт ее движению угрюмый возница. Грустно глядела матушка в какую-то одну точку. Застоялое тепло, тонкие запахи трав и цветов. Мягко и удобно…
Снова мои глаза закрылись потяжелевшими веками: я увидел яркую зелень сквера, длинный перрон, толпу людей, беззвучный оркестр, здание вокзала… И вдруг черный паровоз стал накатываться на все это, мощно и грозно, увеличиваясь в размерах. Миг – и из его зеленых вагончиков начали выпадать люди в военной форме, несуразно размахивая руками и ногами. Они тут же растворялись в воздухе, что-то неслышно крича широко открытыми ртами. Я в ужасе вглядывался в их лица, стараясь узнать отца, и с содроганием проснулся.
– Хозяин, встречай гостей! – послышался возглас, и я поднял голову.
Телега стояла возле деревянного дома с небольшими темными окнами, как-то грустно глядящими в палисадник. Высокие покривившиеся ворота, дощатый заплот с калиткой… Вдоль широкой улицы, почти сплошь заросшей мелкой зеленью, тянулись к лесу другие дома, низкие, темноватые. Тихо и знойно.
Хлопнула калитка – я оглянулся и увидел старика, высокого, сухого, с рыжеватыми усами. Что-то знакомое было в его обличии: где-то я уже видел и торчащие в стороны усы, и большой нос с горбинкой, и ласковые глаза. «Дедушка!» – Я вскочил, и он поймал меня в охапку, притянул к себе, щекоча усами.
– Подрос, подрос, – глуховато проговорил дед, тиская меня твердыми, как палки, пальцами. От него пахло табаком и сеном. – А ну, босая команда, встречайте гостей!
У ворот я увидел парнишку, худощавого, узколицего, стриженого наголо, а рядом с ним – девчонку, веснушчатую, голубоглазую, с кудлатыми волосами соломенного цвета. Изношенное платьице свисало складками с ее худеньких плеч.
Дед ухватил с телеги чемоданы, и девчонка прошмыгнула мимо него, взяла меня за руку.
– Большой какой! – потаенно сказала она. – А помню голышом бегал.
– Мужик! – Мальчишка подмигнул одним глазом, весело, с хитрецой, и сразу мне понравился. Я почувствовал, что нахожусь среди родных мне людей.
– Кольша, помогай! – обернувшись, приказал дед. – А ты, Шура, веди гостя в избу!..
Он толкнул калитку, и передо мной открылся широкий двор с постройками, заросший низенькой травкой, плетеный задник ограды, за которым широко раскинул сучья развесистый клен, навес с поленницами дров, телега… Робко стало, и я уперся.
– Идем, идем, – потянула меня Шура за руку. – В доме не жарко…
Через прохладные сени мы прошли в избу. Громадная печь, занимавшая почти половину кухни, вверху: полати из свежих досок, полки с цветастыми занавесками, широкие лавки вдоль стены, массивный стол…
Вошел дед с чемоданами, щурясь, сказал:
– Проходи в горницу и выбирай место, где спать будешь…
В комнате было пустовато. У окна стояла широкая кровать, напротив ее – круглая печь-голландка, такая же, как и у нас в городе, в углу – маленький столик и все. Место в дальнем углу, рядом с боковым окошком, мне понравилось сразу – туда и поставили собранную в два счета мою железную, на пружинах небольшую кровать.
Шура с явным интересом разглядывала каждую занесенную вещь, и вдруг спросила, поглаживая блестящий шарик на спинке кровати:
– А ты паровоз видел?
Мне представилась черная, лязгающая железом громадина, окутанная паром, причем не та, настоящая, с проводов отца, а из сна, стремительно движущаяся по степи. Почему-то жутковато стало, и я с трудом разжал губы.
– Видел.
– А как он гудит? – Шура явно мне не поверила.
– Му-уу, – вытянув губы, прогудел я как можно громче.
Она залилась громким смехом, прикрыв рот ладошкой, и с оттенком издевки кинула:
– Чтой-то он мычит, как наша Зойка?
– Какая Зойка? – не понял я.
– Да корова! – Шура хлопнула себя рукой по бедру. – Ну совсем непонятливый.
– А я их не знаю, – признался я без обиды.
– Как? – Глаза у Шуры расширились, стали синими-синими. – И другую скотину не видел?
Я не понял ее вопроса, смутно догадываясь, о ком идет речь, покачал головой.
– Чудно. – Она поглядела на меня с сожалением и схватила за руку. – А ну, пойдем во двор!
Этот ее приказной тот, легкая насмешка с недоверием, навязчивая опека – мне не понравились, и я резко вырвал руку из ее ладони.
– Пойдем, пойдем. – Шура, видимо, поняла мой настрой, однако ничего не сказала.
И началось мое знакомство с обширным дедовым двором, со всех сторон заслоненным какими-то постройками. Лишь в широкой прорехе, распахнутой на задворки, темнел покосившийся плетень с воротцами и калиткой, за которыми торчали желтыми шляпками подсолнухи. У плетня расхаживали куры, а среди них выделялся пестрый, с золотистыми перьями и красным гребнем петух. Заметив наше приближение, он вдруг шумно захлопал крыльями и воинственно прокукарекал. Я даже вздрогнул от его крика и остановился.
– Дальше не пойдем, – поостереглась и Шура, – он может наброситься. Видишь какие у него шпоры. Больших он боится, а нас нет.
– Каких больших? – не понял я.
– Ну, тятю, других взрослых.
– Какого тятю?
– Моего.
– А кто это?
– До чего же ты глупенький! – Шура снова хлопнула себя рукой по бедру. – Тятенька – это отец.
Теперь удивился я.
– А я своего папой зову.
– Так это по-городскому, а по деревенскому – тятя.
– Смешно, тятя.
– Ничего смешно нет. – Она крутанула железное кольцо калитки и открыла дверцу. – Пойдем лучше гороху поедим…
Широко и глубоко раскинулся огород в густой зелени овощей: у плетня возвышалась длинная грядка с вязью огуречных листьев, к ней почти примыкали капустные головки с листьями-лопатами, дальше торчали острыми пиками перья лука и чеснока, кудрявилась кружевной ботвой морковка, и еще что-то, и еще… Такого в городе, на приусадебных участках, я не видел, и с нескрываемым любопытством слушал Шуру, объясняющую мне, где и что, и зачем…
* * *
Когда мы вернулись, все наши вещи были расставлены и распределены по углам. Дед суетился у стола, наставляя на него какие-то чашки и кружки, Кольша помогал ему. А матушка сидела на скамейке. Лицо её посветлело, глаза повеселели. Она все говорила что-то деду. Но я не прислушивался, почувствовав глубокий голод. Кольша будто понял мое состояние, и тут же сунул мне румяную оладышку. Какая же она была вкусной!
За столом меня удивила большая посудина, по самые края налитая душистым варевом. Емкими деревянными ложками мы, как бы по очереди, начали хлебать из неё наваристый борщ. Ни слов, ни шепота. Лишь легкое постукивание ложек о края посудины. Поскольку в городе мы ели каждый из своей тарелки, то меня это поразило. Да и деревянные ложки были в новинку, и полное молчание… Но как аппетитно было есть в общем ритме! Как вкусно! Такого восторга в еде я вряд ли испытывал где-либо раньше…
А какой сладкий запах пошел от той же посудины, когда дед поставил её посреди стола, наполненную мясом! Я было дернул к ней руку, но Шура исподтишка толкнула меня в бок острым локотком. Пришлось подавить жгучее желание ухватить кусочек парящего теплотой отварного мяса. Дед не сильно стукнул своей ложкой по краю этой необычной чашки, и все потянулись за мясом. Взял и я первый попавшийся под руку кусок. И пошло, пошло… И вдруг дед шлепнул ложкой Шуре по лбу.
– Не части, – произнес он, не повышая голоса.
А Шура покраснела во все лицо и, отстранив Кольшу, заспешила из-за стола.
Я покосился на деда: а не влетит ли мне за то же самое? Не слишком ли я часто ныряю в посудину?
Но он обсасывал очередную косточку с невозмутимым спокойствием. Будто ничего и не произошло.
– Чего уж ты так, папаша? – не удержалась от замечания матушка, когда дверь в горницу захлопнулась за Шурой.
– Пусть не нарушает порядок. – Он почему-то поглядел на меня. – А то под своим краем горушку полуобъеденных косточек наложила. Хитрить начала: закончится мясо в общей чашке – так она еще будет те косточки обгладывать полчаса. По жизни с таким прицелом к добру не дошагаешь, и пока еще не от боли, а от стыда краснота на щеках загорается – такие заскоки выправить можно…
Мне было жаль Шуру, но и слова деда каким-то образом понимались, дрожали тонкими отзвуками в душе, тянули кружевной вязью неизведанные ранее мысли. Я понял, хотя и интуитивно, что кончилась моя детская единоличность в семье. Теперь я в ином мире, хотя и родственном, но более сложном и более непредсказуемом. В нем нужна особая осторожность, особое поведенческое чутье.
Глава 2. Новые знакомые
1
– Пойдем на пруд, – как-то позвал Кольша, когда я мало-помалу освоился в дедовом дворе и начал привыкать к тихой деревенской жизни.
Я не понял его, зная, что прут – это гибкая хворостина, которой взрослые иногда наказывают детей, и не мог представить, как это можно идти на прут.
– Да не прут, а пруд, – поправила Шура, когда я переспросил об этом. – Ой, он вовсе без понятия!
– Поживет – поймет. – Кольша усмехнулся и потрепал мой короткий чубик. – Ну что, идем?
– И я с вами! – загорелась в радости Шура…
– Ты бы не ходила, – осек ее Кольша, – там одни ребята купаются.
– Не-е. С другой стороны и девчонки есть…
Мы вышли за ограду. Справа от дедова дома стоял такой же рубленый дом с одиноким тополем в палисаднике, слева – дом побольше, крашенный зеленой краской, с крытым двором… Дальше – бугры, заросшие бурьяном, а за ними – широкое поле и лес.
Ослепляющее солнце, жар.
Кольша свернул вправо и, обогнув крайнюю усадьбу, направился по приметной тропинке в поле. Я едва поспевал за ним, семеня. Высокая трава с ковылем переливалась, блестела на солнце, как стеклянная, и так далеко-далеко, до самого темного леса. Над травой порхали разные птички, и их крылышки, высвеченные солнцем, казались прозрачными. Непривычно, вольготно и умиротворенно…
Вначале я услышал веселые крики, а потом увидел на бугре голых ребятишек, и сразу из-за травы открылась большая вода.
– Вот и пруд, – кивнул Кольша, приостанавливаясь. – Теперь видишь, что это такое?
Шура молча свернула в сторону и исчезла за ближним бугром.
Я, почему-то робея, окинул водоем взглядом. Он был почти круглый, с крутыми берегами. Ребятишки на дальней его стороне казались маленькими.
– Кольша, иди сюда, – крикнул от берега кто-то из мальчишек и поманил рукой.
В ложбинке, на мелкой траве, лежали совсем голые мальчишки разного возраста. Я застеснялся и опустил глаза.
– А это что за шкет? – кивнул на меня позвавший нас парнишка. Судя по возрасту, ровесник Кольши.
– Племянник из города. – Кольша стащил с себя старенькую рубаху, протертую на локтях, штаны – больше у него ничего не было.
Я заметил, как чуть ли не все лежавшие на луговине ребята, обернулись, рассматривая меня, и съежился.
– Раздевайся, если купаться хочешь, – предложил Кольша, слегка заслоняя рукой низ живота.
Я еще ни разу в жизни нигде не купался, и окунуться в прохладу большой воды хотелось до замирания сердца, и не только от зноя, но и от предчувствия особых, неизведанных ощущений. Но на мне была матроска и штаны с лямками крест-накрест, трусики, и подумалось: просмеют из-за них, а представив себя голым, даже поежился от внутреннего озноба, и как не велико было желание зайти в пруд – пришлось отказаться.
– Ну, как хочешь. – Кольша разбежался, сверкая белыми ягодицами, и с размаху прыгнул в воду. Он скрылся за фонтаном брызг и долго не появлялся. Я даже встревожился: не утонул ли? Но Кольша вынырнул далеко от берега, закричал с восторгом и поплыл, широко размахивая руками, даже завистно стало.
– В гости, что ли? – спросил вдруг широколицый крепыш, надевая штаны с протертыми наколенниками.
– Папка на фронт уехал, – без особой охоты ответил я, – а мы пока поживем, у дедушки.
– Значит, соседями будем. – Парнишка улыбнулся, как-то смешно растягивая верхнюю губу. – А как тебя зовут?
– Леня. – Я смелел.
– Знатков?
– Не-е, моя фамилия Венцов.
– Значит, отцовскую имеешь. Ну а я – Степка Лукашов – материн сын. Для тебя просто – Степа. Тебе сколько лет?
– Шесть.
– Пацан еще – мне больше в два раза с лихвой. Покажи-ка мускулы. – Он шагнул ко мне.
– Какие мускулы? – не понял я.
Лежавшие неподалеку ребятишки, явно прислушивающиеся к нашему разговору, дружно захохотали.
– Во! – громко сказал кто-то из них. – Он даже мускулов не знает.
– Вот видишь? – Новый знакомец согнул правую руку, и на ней, около плеча, заметно взбугрилась кожа. – Пощупай!
Я потрогал этот бугорок, ощущая его упругую твердость.
– Теперь ты так сделай.
Рука непроизвольно согнулась в локте, и Степа потискал мое плечо.
– Фи, – он скривил полноватые губы, – палка. Ты даже Мишку Кособока не поборешь.
Я пожал плечами, понимая, что дело идет к чему-то не очень для меня приятному, и стал искать взглядом Кольшу.
– Попробуешь? – гнул свое Степа, заглядывая мне в глаза.
Над прудом звенели голоса, смех. В разных местах взрывались у берега фонтаны брызг, а к средине пруда вода ослепительно блестела.
– Иди-ка сюда, Кособок, – кивнул кому-то Степка, по-своему поняв мое молчание.
С лужайки поднялся худенький мальчишка моего возраста и стал напротив. Глаза его были широко открыты, с влажной поволокой, но страха в них не было. Наоборот – некий вызов заметил я в его темных с искоркой зрачках.
Тут и выскочил из воды мокрый, лоснящийся на солнце Кольша, плюхнулся брюхом на мягкую траву, даже не спросив, чем я занимаюсь. А Степа подвинул нас с мальчишкой ближе друг к другу и стал поучать.
– Так, – заправил он мою правую руку мальчишке за шею, – одну руку сюда, другую под мышку, пальцы сцепили на спине и начали!
Кольша лежал, ничего не говоря, лишь искоса поглядывая на нас.
До этого я никогда не боролся. Рос в городе под опекой матери и играл лишь с соседской девчонкой, но почувствовав, что меня валят вбок, напрягся, потянул противника на себя. Бечевка у него на штанах лопнула, и мы, потеряв равновесие, упали вместе. По счастливой случайности я оказался наверху.
– Смотри, уложил! Аж штаны не выдержали! – Степа похлопал меня по спине. – Молодец! Попробуй теперь с Антохой Варькиным схватиться…
Похвала меня подзадорила, и когда передо мною встал загорелый крепыш, я вцепился в него, как клещ. Долго мы пыхтели, сгибая друг друга под дружные подбадривания и советы мальчишек. Их лица мелькали перед глазами, будто мы не боролись, а танцевали особый танец. Изо всех сил рванул я противника вбок, и тот, потеряв равновесие, упал. Наверху снова оказался я.
– А говорил: не умеешь бороться, – услышал я голос Степы среди других голосов. – Ты там, в городе, нахватался всяких приемов, да и щи, видно, ел с мясом.
– И сейчас будет есть, – добавил кто-то. – Дед у него не из бедных.
– Теперь тебе в самую пору с Марфиным Пашей схлестнуться, – продолжал свое Степа.
– Хватит, – вступился, наконец, за меня Кольша, – в другой раз. Видишь, дышит, как загнанный жеребенок…
– Ладно, отложим, – согласился Степа, махнув рукой.
Интерес ко мне сразу пропал. Ребята заговорили о своих деревенских делах. Лишь один мальчишка, которого Степа назвал Пашей Марфиным, нет-нет да и бросал на меня быстрые взгляды, как бы оценивая, и в душу закрадывалось что-то тоскливое, съедающее все то теплое, что открылось мне в новом знакомстве. Уж я-то знал, что борец из меня аховый и те две победы были случайными и, когда придется схватиться с крепким, словно сбитень, Пашей, более сильным, чем я, все и раскроется. С тихой тревогой я робко прилег рядом с Кольшей.
– Чего не искупаешься? – спросил он тихо. – Стыдишься?
Я кивнул.
– Тут стыдиться нечего, – услышал нас Степа, – все свои.
– Коля-я, Леня-я, – услышал я крик, – пошли обедать!
– Это Шурка зовет, – понял Кольша, поднимаясь, – пошли, наотдыхались. Воды еще качать на полив из колодца…
– И я с вами, – отряхивая штаны, сказал Степа, – по пути, и кишка кишке бьет по башке.
Поглядев еще раз на зеркало пруда, как пояснил Кольша, вырытого казной еще до революции, я зашагал, как можно бодрее, чтобы не отставать от старших, и немало удивился, когда заметил, что и Паша Марфин идет за нами, держа некоторое расстояние.
Мое частое оглядывание не осталось без внимания: Степа остановился, поманил преследователя рукой.
– А ты куда? – Он преградил Паше ход.
Крепыш не ответил, но в его глазах не было и тени робости.
– Язык проглотил, – поддел его Степа, – тоже мне, силач, увидел городского и поджилки затряслись.
– Да пусть идет, – встрял Кольша, потянув Степу за рукав. – Тропы не жалко…
Но, когда Степа свернул в свой двор, а мы двинулись дальше, Паша направился за нами.
– Ты к нам, что ли? – поинтересовалась Шура.
– К вам, – с беспечной серьезностью кивнул навязчивый попутчик, – хочу посмотреть, с мясом вы щи едите или нет.
Шура закатилась задорным смехом, и Кольша заулыбался.
– Если с мясом, то бороться с Ленькой не будешь? – понял он Пашу.
– Не знаю, – искренне сознался тот, – я-то пустые ем…
Никакие приглашения деда, матери, наши не смогли завлечь Пашу за стол. Так и просидел он на ящике, у дверей, пока мы обедали.
Когда стали убирать со стола, Паша поднялся и, ничего не сказав, ушел. Какие он сделал выводы, было непонятно.
– Это Таи Марфиной парнишка? – спросила матушка у деда, когда Паша промелькнул мимо кухонных окон.
– Её. – Дед поглаживал лихо загнутые на концах усы, щурился по-доброму.
– Какой упрямый, а ведь вряд ли сыт.
– Не в этом дело, – дед полез за кисетом, – ты же знаешь, что по старому обычаю, в крестьянстве, детей вместе со взрослыми за стол не пускали, а отец его – Максимка строгих правил был мужик. Так что – тут воспитание, – последнее слово дед произнес с оттенком некоего уважения и замолчал.
– Почему был? – В глазах матери мелькнула тревога.
– Месяц на фронте, а уже бумага в совет пришла – без вести пропал…
Дед еще что-то говорил, а мне вспомнился отец, его веселое лицо, васильковые глаза, крепкие руки, ласковый голос, и глухая тоска тиснула встрепенувшееся сердечко.
2
– Вставай, сынок, – будила меня матушка, – к тебе новый друг пришел, у ограды ждет…
Я вскочил и подбежал к окошку: на траве-мураве, развалившись, лежал Паша Марфин. Стало как-то радостно оттого, что он объявился, и робко – вдруг бороться затеет…
С необычной поспешностью и тревожными мыслями натянул я штаны и рубаху. Плеснув несколько раз на ладонь холодной воды, зачерпнутой кружкой из ведра, и выпив стакан молока, выскочил на лужайку.
– Ну ты и спишь, – без всякого приветствия встретил меня Паша, – идем играть. – Не дожидаясь ответа, он развернулся и побежал трусцой по тропинке через широкое поле, разделяющего окраины двух смежных улиц. Он был босиком. Вообще, обутых ребятишек я в деревне не видел и несколько стеснялся своих легких сандалий.
Низенькая избушка без чердака, обмазанная глиной, глядела двумя маленькими окнами на улицу. Через короткие сенцы с земляным полом мы прошли в полумрак Пашиного жилища. Сумрачно, прохладно. Под ногами тканые половики…
– Это Анютки Знатковой сынок? – услышал я низкий женский голос, еще не успев разглядеть находившихся в избушке людей.
– Ее, – ответил другой голос, позвучнее.
Тут я и увидел двух женщин, копошившихся у какого-то громоздкого сооружения из деревянных стоек и поперечен, длинный хвост тканой дорожки, тянувшийся среди этих устройств, и силился понять, чем они занимаются.
Паша между тем по-хозяйски прошмыгнул куда-то за печь и попросил:
– Мам, дай по пирогу, мы играть пойдем за избушку.
– Так бери под полотенцем, на листу, что на припечке…
– Мужик-то ее тоже там? – снова прозвучал высокий голос.
– Где ж ему быть…
И тут Паша толкнул меня под бок и обдал хлебным запахом:
– Пошли!
В сенях, на бегу, я почувствовал, как новый друг сует мне в руку что-то мягкое и понял – пирог.
– Попробуй, с ягодой, – устремляясь на яркий свет, произнес он.
Рот раскрылся как бы само собой: сладко, душисто, вкусно – таких пирогов я раньше не ел.
Все так же – бегом мы вынеслись на бугор, за избушку. У глухой ее стены были нагорожены какие-то игрушечные строения из досок и железяк, и Паша опустился подле них на колени.
– Это МТС, – пояснил он, – тут всякая техника.
Я вглядывался в разбросанные как попало железки и ничего похожего на мою обмененную на свистульку машину или нечто подобное не находил.
– А у вас кто еще есть? – спросил я совсем о другом: меня занимал тот разговор, что состоялся в землянке.
– Никого. Тятьку на фронт забрали, а бабушка давно умерла.
– А что за тетенька?
Паша махнул рукой:
– Да соседка. Они с маманей половики ткут на станке пока есть время между дойками. Доярки они.
Не очень-то я понял про ткацкий станок и доярок, но промолчал, чтобы не показаться смешным, мысли скользнули в другом направлении.
– У меня тоже бабушки умерли, – решил я уровняться в родственном положении с новым другом, – и дедушка всего один.
Паша как-то круто нагнул голову, возможно, позавидовал тому, что у меня есть дед, и, немного помолчав, кивнул:
– Бери вон ХТЗ, пахать будем. – Он смешно выпятил губы и загудел, подражая тракторному рокоту. Его трактор-железка медленно пополз по траве, волоча за собой на проволоке целую связку мелких жестянок.
Я взял предложенную железину и тоже попробовал погудеть – не получилось.
– Мотор барахлит, – сделал вывод Паша, – ремонтировать надо. – Он перевернул мою «технику» и стал деловито в ней ковыряться. Глядя на него, я подумал, что отец его, вероятно, был трактористом и, как выяснилось позже, не ошибся.
Над нами сияло чистое небо, ослепительно горело солнце и висела сонная тишь, а где-то шла война, ужаса которой мы еще не осознавали, и не только мы, но и большинство взрослых…
3
Напротив дедова дома зеленела лужайка мягкого спорыша, за которой поднимались покатые бугры давних землянок, заросшие конопляником и лебедой, а дальше, через поле, виднелся густой лес.
Лужайку мы с Пашей освоили вдоль и поперек, вволю повалявшись на ней и покувыркавшись, и в бурьянах полазили. Даже нашли в них старый полузавалившийся колодец с прозрачной водой, в котором плескались большие и маленькие лягушки с головастиками. Дня два мы изводили их сухими комками глины, оставшимися от разрушенной когда-то печки, пока Кольша, застав нас за неблаговидным занятием, крепко не поругался, пояснив, что лягушки полезные и убивать их нельзя.
– Пойдем к Антохе Варькину, – предложил тогда Паша, – сманим его играть…
Я не протестовал, и мы двинулись длинной улицей вдоль палисадников и заборов. Безлюдно и тихо во всем доступном взгляду пространстве. Деревня будто вымерла. Хотя нет-нет да и замечал я любопытные взгляды в некоторых окнах, да и во дворах не раз кто-то угадывался. Скорее всего, это была ребятня, хозяйничавшая в домах, пока все взрослые работали в поле, да глубокие старцы.
У небольшого деревянного дома, спрятанного за пышным палисадником, мы остановились.
– У них собака зверская на цепи, смотри, осторожней! – Паша потянул за ремешок накидного запора, открывая калитку.
Черный мохнатый пес с разинутой красной пастью вылетел из глубины обширного двора и, рванув с размаху короткую цепь, почти опрокинулся, захлебываясь злобным рыком.
Мы, сторожась, двинулись вдоль стенки дома, почти прижимаясь к ней, а пес бился в ярости, брызгая слюной, в двух-трех шагах. «Оборвется – загрызет», – мелькали жуткие мысли, но я шел, не останавливаясь, боясь оказаться трусом.
По широким крашеным доскам крыльца мы прошли в просторные и высокие сени. Дверь в избу скрипнула, распахнутая Пашей, и я увидел старуху у окна, теребящую шерсть.
– А где Антоха? – смело спросил Паша, не здороваясь.
– Я тута. – Занавеска на печи колыхнулась, и из-за нее высунулся тот мальчишка, с которым я боролся на пруде.
– Айда играть, – позвал Паша.
– А я играю.
– Иди, иди с ребятками, лежебока, – глуховато проворчала бабка. – Тараканов мучает, а они твари божьи и к счастью в доме водятся…
Антоха покривился, показал бабке язык и поманил нас рукой.
Паша быстро влез на приступок и нырнул головой под занавеску. За ним и я взобрался по печуркам и тут же откачнулся назад, едва не упав: вся запечная стена кишела тараканами. Встревоженные, они быстро и беспорядочно двигались, и шелест их лапок был отчетливо слышен.
– Глядите, как тянут!
Тут я увидел с полдесятка тараканов, связанных друг с другом швейной ниткой. Они медленно ползали по кругу на гладкой печке, волоча пустой спичечный коробок, и Антоха, не давая им убегать, всякий раз заворачивал палочкой вожака – здоровущего рыжего таракана.
– Рысаки! – восторгался он, но на меня это занятие произвело неприятное впечатление.
– Брось ты гадостью заниматься! – скривился и Паша. – Пошли лучше на зады, к пруду.
– Гляди, гляди, как гарцуют! – Антоха нехотя отбросил палочку-погонялку, и тараканы потянули свою повозку в дальний угол…
Ясный день и буйная зелень рассеяли неприятные ощущения, и я вскоре забыл о запряженных тараканах. Мы пустились наперегонки по узкому переулку. Впереди несся Паша, за ним – Антоха, сзади – я. Навострились они бегать: не в городе – вон какие просторы.
Остановились только на задворках, недалеко от пруда.
– Давайте в красно-белые, – предложил Паша.
– Так нас всего трое, – засомневался Антоха.
– А ты сбегай за Мишкой Кособоковым, – приказным тоном кинул Паша: он был вожаком, как более сильный физически, и я не лез в их устоявшийся порядок, да и не знал ни деревенских игр, ни ребят. – Мы тут пока маскировку заготовим. – Паша повернулся и пошел к луговине, густо зеленеющей на урезе высоких трав.
– Какую маскировку? – поинтересовался я, когда Антоха рванул в ближний переулок и исчез за лопуховыми зарослями.
– Узнаешь. – Паша приглядывался к чему-то, проверял дерн пальцами ног и, когда под подошвами стал мягко пружинить густой мох, упал на четвереньки. – Гляди! – Он стал ловко отдирать мох от земли, широким ковриком закатывая его в рулон. Обнажилась тусклая земля, все ее неровности и бугорки, а Паша крепкими пальцами отслаивал и отслаивал сцепленный перевившимися корнями мягкий дерн, и когда закатка стала почти неохватной, оторвал ее от общего пласта. Подняв эту своеобразную овчину, он в двух местах проделал в ней отверстия и сунул в них руки, накидывая моховую безрукавку на себя.
– Во, видишь какая маскировка! – Паша вдруг отбежал на несколько шагов от меня, наблюдающего с чувством глубокого любопытства за всеми этими действиями, и упал в траву.
Лишь зная, где он находится, я видел зеленоватый бугорок. Никто иной ни за что бы не распознал, что за этим бугорком кто-то прячется.
– Теперь понял, – Паша тянул в усмешке полноватые губы, – давай и тебе такую же заготовим… – И мы вдвоем стали драть мягкую моховую накидку.
Вскоре появились ребята: Антоха с Мишаней и еще один незнакомый мне мальчишка, худенький, рыжеволосый, тихий, которого звали Петушкой, и Паша разделил нас на две команды. Одну возглавил он, а другую – Антоха. Мне, как новичку, надо было еще научиться тонкостям предстоящей игры, а Петушка был явно слабеньким, и Паша, поступаясь качеством, брал количеством. Антоха объединился с Мишаней, тоже опытным игроком. Бой решено было провести на буграх, оставшихся от бывших дворов. По словам Паши, там имелись и ямы, заросшие лопушником и коноплей, и канавы с густой травой, и остатки строений. Тут же мы кинулись занимать позиции. Резвые наши противники вломились в гущину зеленых зарослей и скрылись в них.
– Главное, не торопиться, – предупредил Паша, оборачиваясь на бегу, – спрячься и жди. Кто-нибудь да и выйдет на тебя…
Мы нырнули в тень огромных лопушников, листья которых тут же сомкнулись над нами, образовав крышу. Внизу, между стеблей, было просторно и даже светло. Лучи солнца, пробиваясь сквозь листья, высвечивали их до жилки и оттого все было зеленоватым, даже наши лица.
– Ты выползай на ту сторону, – стал командовать Паша, – на самый край лопухов, будешь разведчиком. Только шибко не высовывайся, качай листья, чтобы заметили, и все. Тебя наверняка убьют, но и мы их застукаем…
Не хотелось быть «убитым», но приказ не обсуждают. Молча и неумело я двинулся в указанную сторону, осторожно лавируя между толстыми стеблями лопухов.
Раскидистые листья надежно прикрывали меня сверху и с боков. Пахло чем-то горьким и терпким. Даже голова без привычки закружилась. Руки и колени колола старая трава, но я упорно полз, выполняя «боевое» задание. Что делал Паша и Петушка, я не знал. Со всех сторон стоял густой лопушник, закрывая даже самое близкое пространство. Руки устали от частого упора в мягкую податливую землю, кожа на коленях засвербела, когда впереди вдруг стало светлеть. Я понял, что близко край, и пополз тише, выбирая место погуще.
Открылась неширокая прогалина между зарослями бурьянов, и я прилег, затаиваясь. Большая мохнатая гусеница оказалась моей соседкой. Она лениво ползла по стеблю лопуха, и находиться рядом с ней было неприятно, но перемещаться в другое место становилось опасным: по тому, как закачались метелки близкой конопли, я понял, что меня заметили и будут окружать. Даже сердечко притихло, дыхание осеклось – так не хотелось попадать в плен. «А может, и папка там, на настоящей войне, так же затаился и ждет врага?» – мелькнули мысли, всколыхнув что-то в груди, а с ними потекли и жгучие мгновения напряженного ожидания, которые то опрокидывали меня в виртуальный мир настоящей войны, где я присутствовал вместе с отцом, то возвращали в реальность. В этих тревожных перескоках я не заметил, как ко мне подобрался Мишаня.
– Пу, Ленька! – услышал я возглас и даже вздрогнул, увидев руку с нацеленным на меня указательным пальцем.
– Пу, Мишаня! – тут же раздался тоненький голосок Петушки. Он, оказывается, лежал недалеко от меня. Мы двое выбыли из игры и встали. Я – с любопытной оглядкой, Мишаня – с недовольным лицом.
Теперь видно было все поле «битвы», и я заметил, что Антоха притаился в яме, густо заросшей лебедой. Ему оттуда все видно, попробуй – подойди. Но Паша и тут проявил завидную смекалку, послав в качестве приманки Петушку. Когда Антоха, подпустив ползущего противника к самой яме, наставил на него палец и крикнул:
– Сдавайся, Петушка, не то застрелю! – Паша сзади, в упор, «сразил» противника – наша взяла.
Игра захватила, мы стали таиться глубже, хитрить. Еще через два боя Паша перераспределил нас: назначил меня командиром вместо Антохи. Тогда заартачился Мишаня.
– Я больше не играю, – заявил он, – огурцы пора поливать.
– А мне надо гусей смотреть, – поддержал его и Антоха, разжалованный из командиров в рядовые, – а то залетят к кому-нибудь в огород.
– Схлюздили! – поддел их Паша. – Тоже мне, вояки. Вот так потом и в жизни. – Он сплюнул в сторону.
– Да нет, Паш, – Мишаня мотнул головой, – в самом деле – грядки полить надо…
– Пошли, Лень, коростелей погоняем. Пусть они домой двигают, – предложил Паша и направился в сторону пруда.
Я – за ним, решив, что новый мой друг прав. Однако Петушка не пошел за нами, а двинулся в переулок вместе с ребятами.
Впереди заершилась сухими островками осока, и Паша остановился возле одного из них.
– Ты коростелят видел? – задал он мне неуместный вопрос: но где я их мог видеть в городе? – Ложись в осоку у этого края, а я с другого конца их нагоню.
Я послушно лег в шелестящую осоку, оставив для наблюдения узкий проход, и, притаив дыхание, напряг глаза. Седловинка примятой осоки открывала взору небольшой промежуток между двумя островками зарослей, и там, по словам Паши, должны были появиться таинственные птички.
– Кыш-шш, кыш-шш, – донеслись крики друга, и я еще плотнее припал к пахнувшей сыростью земле, но в прогалине ни одна травинка не ворохнулась. Подумалось даже, что Паша решил подшутить надо мной, и в этот момент, шагах в пяти от себя я увидел темненьких, с белыми пестринками на груди, остроклювеньких птичек, похожих на цыплят с длинными шейками. Сгрудившись, они словно раздумывали, перебегать или нет через открытое пространство. Но Паша подвигался ближе и ближе, зычно покрикивая, и птички, настороженно, цепочкой, быстро пронеслись через неширокий промежуток, скрываясь в осоке напротив. Я даже подумать ничего не успел, ощутить, как исчезло это чудное виденье.
– Видел? – послышался Пашин вопрос.
– Ага. – Я поднялся, отряхиваясь от прилипших на штаны травинок.
– Поймать можно, если бы всем вместе взяться, – по тону голоса было понятно, что Паша все еще сердился на ребят за их уход.
– А зачем? – не поддержал я друга. – Пусть живут – они такие забавные…
4
Дед собрался в лес за валежником, и после долгих просьб согласился взять меня и Пашу с собой.
– Комары с паутами пожучат – в другой раз палкой вас туда не загонишь, – стращал он, смазывая солидолом тележные оси, – и синяков насобираете…
– Терпимо, – по-взрослому хорохорился Паша, – я с тятенькой бывал.
– Знато дело, слезы из вас, коль заупрямитесь, и хворостинкой не вышибешь, тащите вон сюда хомут.
Паша сразу нашел его под навесом, и я помог ему.
Кольша заводил лошадь в оглобли тележки, улыбался, поглядывая на нас.
– Пупки не сорвите, шкеты, – подначивал он.
– Сам ты малахольный, – обиделся Паша.
– И то правда, – отозвался с неодобрением дед, – родился слабым, еле выходили.
Наперебой полезли в телегу. Дед легонько шевельнул вожжами, и лошадь тронулась. Телега покатилась мягко, без скрипа. Узкая травяная дорога не пылила и тянулась среди высокого, набравшего силу разноцветья. Сбоку и впереди телеги порхали разные птички, многоголосно покрикивали на всякие лады. Мельтешили у цветков яркие бабочки, дикие пчелки и шмели.
– Чечетки, – со знанием кивнул Паша на близких красногрудых птичек. – Жалко рогатки нет – можно было сшибить.
– Все бы вам сшибать, – снова вмешался в наш разговор Кольша, – летают себе и пусть летают.
– Сам будто не бил, – не согласился с ним Паша.
– Бил по глупости, а вы будьте умнее…
Дед сидел впереди, покуривал и не оборачивался, а я помалкивал, не совсем разбираясь в тонкостях разговора.
Телега поравнялась с первым колком. Стрекотали в нем сороки и мелодично посвистывали какие-то птицы. Одна из них промелькнула среди веток ярко желтым оперением и странно, почти по-кошачьи прокричала.
– Кто это? – удивился я.
– А, кошка полевая, – махнул рукой Паша.
Я не понял:
– Говори, кошки не летают.
Кольша рассмеялся:
– А ты послушай, послушай.
– Не морочьте ему голову, – вдруг вмешался дед, – иволга это – птица такая, кричит, что мяукает, а по-местному ее зовут неправильно…
В лесу травы были выше и гуще, в сложном кружеве переплетений. Дед повернул лошадь с дороги в промежуток между двумя березовыми рощицами, и колеса телеги скрылись в траве, больно захлестали по ногам жесткие метелки дудника. В разные стороны сыпанули от телеги насекомые, с криком выпорхнули две большие птицы.
Запахи распаренных трав и цветов потекли с разных сторон густым ароматом. С непривычки даже в носу засвербело. И тут же дед остановил лошадь.
– Слезайте, приехали.
Я, торопясь опередить Пашу, не устоял на ногах, спрыгнув, и завалился в траву. Кузнечики сыпанули во все стороны, букашки, и пока я поднимался, Паша с Кольшей скрылись за первыми кустами. Отмахиваясь от зароившихся вокруг комаров, и я кинулся в лес, боясь потерять их из виду. Бойко стрекотали сороки. Из-за их непрерывного крика ничего не было слышно.
– Ну как? – раздался сзади голос деда. – Комары еще не заели? – Под его тяжелыми шагами похрустывал валежник.
– Да не-е, – храбрился я, ежась в то же время от частых укусов этих кровососов.
– Ну пошли, пошли собирать сушняк. Зимой здесь дрова пилили – макушки и остались. Подсохли они – порохом гореть будут. На растопку зимой лучшего не найдешь…
– Леня-я! – вдруг раздалось из глубины чащи. – Иди сюда, тут сорочата, – звал Паша.
Не дослушав деда, я кинулся в гущу молодой ивняковой поросли, прикрывая от хлестких прутьев лицо.
Паша стоял возле толстого ствола размашистой березы и глядел вверх.
– В том вон гнезде, – показал он куда-то вверх, – Кольша туда полез, сейчас достанет.
Из-за густоты веток не видно было, что делается наверху. Лишь часто порхали с резкими криками сороки.
– Не трогайте их, – объявился следом за мной дед, – пусть себе сидят.
Но Кольша уже показался на нижних сучьях березы. В одной руке у него я заметил пестроватую птицу и догадался, что это сороченок.
– Держи, – спрыгнув на землю, сунул он сороченка Паше в руки. – Да гляди, клюется.
– Зачем взял? – Дед кинул суровый взгляд на Кольшу. – Хуже маленьких!
– А чего? Пусть посмотрят. – Кольша насупился.
– Не за этим приехали…
– Паша, дай мне подержать! – Не спуская глаз с птенца, не особенно прислушивался я к словам недовольного деда.
С глубоким сожалением во взгляде протянул мне друг сороченка.
Тельце птенца было горячим и мягким, пальцы мои ощутили частые удары маленького сердца.
– Я его беречь буду, дедушка! – Жалость и восторг переполнили мою душу, и дед понял мое состояние, но не подобрел.
– Твои заботы ему не помогут, – пресек он мою радость. – Ему мать нужна, как вот тебе. А это вольная птица – среди людей все ровно погибнет.
– Я ему буду кузнечиков ловить, червячков, – по-своему понял я утверждение деда.
– Выпусти, внук, – не уступал дед моим чувствам, – мы уедем – родители его найдут, докормят. – Он легонько коснулся моих волос, и будто внушил свое желание.
Медленно разжал я руки, и сороченок, падая, почти у самой земли затрепетал крыльями, медленно-медленно поднимаясь над травой, и дотянул до ближайшего куста, на одну из веток которого и зацепился. Тут же, с отчаянным стрекотанием, подлетела к нему сорока.
– Пошли, – позвал дед, – не будем их пугать.
С неохотой побрели мы к опушке, отмахиваясь от наседавших комаров.
– Смотрите сухой вершняк по сторонам, – наказал через плечо дед, – и тягайте его к телеге.
Я заметил за одним из пней ветвистую валежину и заторопился. Осторожно, боясь поцарапать руки, поднял ее и потянул на опушку. Сухие сучья цеплялись за кустарник, деревья, траву… Руки немели, краснело лицо, а тут еще кровососы лепились со всех сторон на голое тело и жгли укусами, но я стойко терпел, напрягаясь всем телом.
– Ну как? – встретил меня дед возле телеги.
– Ничего, только комары злющие…
– Ладно, – дед взмахнул рукой, – поиграй с другом, а мы с Кольшей сами хвороста натаскаем.
– Пошли к бурьянам, – заторопился Паша, – там вон коршун летает. Может, гнездо найдем! – Не дожидаясь моего согласия, он побежал размашисто, вприпрыжку к высоким метелкам травяных зарослей, над которыми кружила большая серая птица. Я даже приотстал от него на полполяны, хотя и стремился во весь дух. Остро запахло полынью и коноплей. Паша вдруг со всего размаха упал в гущину бурьянов, и я едва на него не налетел.
– Ящерка! – заорал он, оглянувшись. Из-под его ладони пыталось выбраться какое-то небольшое животное, темно-серое, с узким и длинным язычком, раздвоенным на конце, который оно то прятало, то быстро высовывало. Змея! Я даже отпрянул, но увидел когтистые лапки и понял, что ошибся.
– Держи! Держи! – орал Паша. И в этот момент, ящерица прытко метнулась куда-то в траву.
– Оторвала! Оторвала! – с непонятной радостью закричал Паша, поднимаясь. – Правда, значит!
– Чего оторвала? – Я даже оцепенел, подумав, что ящерка что-то у него отхватила.
– А вот гляди! – Паша разжал руку – на ладони у него извивался длинный хвост ящерицы. – Сама отрывает, чтобы убежать!
– Это ты отдавил, – не поверил я другу.
– Да нет же! Я сам раньше не верил, а теперь убедился.
– Она же без хвоста пропадет!
– Не-е, – Паша покачал головой, – у нее новый вырастет.
– Не обманывай! – Я верил и не верил другу.
– А пойдем у твоего деда спросим. – И мы припустили наперегонки к телеге.
Но ни лошади, ни телеги на опушке знакомого лесочка уже не было. Один дед стоял у толстенной березы и поджидал нас.
Вперебой, мы заговорили о ящерице.
– Это правда, внук. Она таким образом от неопытных врагов спасается: пока те возятся с оторванным хвостом – ящерка и убегает куда-нибудь в норку.
– И новый хвост у нее отрастает?!
– А как же…
Пораженный необычной возможностью маленького животного, я замолчал.
– Ну вот что, звероловы, грибы собирать будите?
– А где Кольша? – Паша оглядывался.
– Так хворост повез. Мы все равно на возке все не угнездимся. А пока он доедет, да разгрузит валежник – мы грибов на жарку соберем…
Паша тут же юркнул за кусты и почти сразу закричал:
– Вот обабок!
Миг – и я был возле него. Взгляд невольно скользнул к замшелому пеньку – там торчала еще одна такая же светло коричневая шляпка.
– И у меня гриб! – Едва не завалившись через колодину, я почти уткнулся носом в прохладную, пахнувшую особым ароматом шляпку крепенького гриба.
– Давай сюда! – позвал с опушки дед…
Завечерело. Затрещали кузнечики, залетали над травой стрекозы, оживились птички. С полной корзиной грибов мы вышли на травянистую дорогу, уставшие, проголодавшиеся, но довольные.
5
Проснулся я от солнца. Оно заглядывало в комнату поверх занавесок, тревожило. Даже зажмурившись, я ощущал сквозь пылающие краснотой веки его жгучую силу. В избе было тихо и душно. Опять я проспал то доброе время, когда по улице гонят коровье стадо, когда топится печь и пахнет чем-нибудь вкусным, когда в тени еще ощущается дыхание влажной и знобкой ночи, а уже слышны запахи полей и лесов, когда на пределе птичий гвалт, прозрачен воздух, играет солнце, на душе чисто и легко и хочется объять необъятное…
Дед устроился в дровнике, под навесом, где прохладнее: покатая крыша давала тень, а высокие поленницы хранили ночную влагу и не пропускали горячий ветер. Он достал с полки деревянный ящик и стал выкладывать из него инструменты, почти все мне незнакомые.
– Что будешь делать? – заинтересовался я, присаживаясь на чурбак.
Дед глянул ласково. Глаза у него с голубизной, и хотя брови низко нависли над ними, все равно видно, что они добрые.
– Небось заметил, что ворота плохо открываются?
До ворот я еще не добрался, но кивнул, зная, что дед не обманет.
– А как их делают?
– Всякий инструмент есть: топор вот, молоток, стамеска, бурав…
Я разглядывал названные инструменты, осторожно трогая их гладкие рукоятки.
– А можно попробовать?
Дед щурился в доброй усмешке – мое любопытство ему нравилось.
– Надо же вначале узнать, как ими пользоваться, а потом пробовать. А так – загубишь инструмент или поранишься.
– Так ты покажи!
– Гляди. Я сейчас буду заготовлять бруски для ворот, а ты наблюдай. Топор я тебе, конечно, не дам – рано тебе еще с ним заниматься, а вот молоток и долото – осваивай. Дело нелегкое, но, если постараешься, – что-то выйдет. Не сразу – со временем. – Дед взял стамеску и показал, как надо долбить дерево. Слоистые пластинки древесины так и сыпались с чурбака, а квадратное отверстие в нем быстро углублялось.
– Понял, понял. – Я протянул руку к молотку.
– А молоток возьми поменьше, вот этот. – Он достал из ящика другой молоток. – Да пальцы не пришиби.
Долото легко вошло в мягкую древесину, а я все бил по нему и бил.
– Куда загоняешь?! – огорчился дед. – Чай не гвоздь это. Помаленьку бери. – Он снова показал, как надо работать, и дело наладилось: первая щепочка откололась, вторая – и пошло-поехало, и хотя я несколько раз вскользь попадал молотком по пальцам, инструмента не бросил. Больно было, но желание проделать в чурбачке дырку пересиливало эту боль.
– Вот так, так, – послышались дедовы слова, – продолбишь так-то десятка три дырок и настоящее дело можно попробовать. – Жесткой ладонью он слегка коснулся моих волос, осматривая не круглое и не квадратное, а непонятно какое отверстие. От этой похвалы и ласкового прикосновения сердце замлело.
– А можно буравцом?
Дед покачал головой.
– Не торопись, и до него дойдем, когда силенок прибавиться…
Мы заработались и не заметили, как напекло землю жгучее солнце, как жаром обдало травы, и вялая полынь у плетня пустила густой горький запах, а за нею и конопля сладко заблагоухала, затем – ромашки…
Я услышал тяжелый топот и поднял голову: мимо будто кони бежали. Дед тут же встал.
– Коровы бзыкуют, надо загонять, а то плетни поваляют. – Он, торопясь пошел за ограду.
Я выглянул из дровника – голову обдало жаром, и в этот момент в ограду влетела бурая корова с большими острыми рогами, кинулась под навес. Я едва успел отскочить к поленнице дров. Влажное и горячее дыхание попало мне на лицо, перед глазами мелькнули рога. Корова сунулась в угол и стала.
Вбежал дед, замахал палкой:
– А ну пошла отсюда! Пошла!
Корова шарахнулась назад, роняя ящик с инструментами.
– Не зацепила? – Дед наклонился, в глазах испуг. – Совсем ошалела от жары. Ты держись от скотины подальше – еще заденет рогом…
– А чего она так? – все же спросил я у деда, когда он запер корову в сарайке и вернулся.
– Личинки оводов у них под кожей шевелятся, скотина и дуреет. – Дед поднял опрокинутый ящик, стал собирать инструмент. – Давай заканчивать – вон какой жар поднялся, да и обедать пора…
Глава 3. Близкий круг
1
От отца пришло письмо: маленький листок, свернутый в треугольник. Я долго его разглядывал, разбирал буквы, складывал слова, но всего прочитать не смог и несколько раз просил матушку повторить те места, в которых говорилось обо мне…
– Под Ленинградом отец-то воюет, – пояснял услышанное дед. – Это самый главный город после Москвы…
«В другое место его и не пошлют, – думал я с гордостью, – только на главное…»
– Помню этот город, пришлось побывать там после германской войны. Тогда он Петроградом назывался.
– А ты воевал, дедушка? – удивился я: мне казалось, что он всегда был старым.
– Довелось, довелось и не мало.
В памяти снова всплыли желтые машины с красными крестами возле школы, окровавленные бинты…
– Расскажи что-нибудь!
Дед послюнил скрученную цигарку, прищурился.
– Мал ты еще, не поймешь про войну-то, да и лучше бы ее не знать. – Глаза его, с искоркой, погрустнели. Взгляд ушел куда-то вдаль.
Я притих, надеясь услышать нечто интересное, глядел выжидающе.
– Залегли мы как-то на увале, – тихо начал дед, – окопались. Ждем – вот-вот германец двинется в атаку, и дождались: вой, грохот, земля дыбом от снарядов. Чувствую и подо мной заходила она, как необъезженная лошадь. Сунул я голову в уголок ямки, и словно кто-то по затылку мне поленом жахнул – темнота, провал сознания. Очнулся, открыл глаза – вижу перед собой черную круглую дырку. В мгновенье она показалась мне с добрую трубу, и я не сразу понял, что это дуло винтовки. Лишь когда услышал: хенде хох – руки вверх, значит, по германски, взгляд прояснился. Вижу – стоят надо мной двое в мышастых шинелях. Один направил ствол винтовки мне в переносицу, другой – тоже штык наготове держит. Шевельнулся – в глазах полыхнуло, а голова чугун-чугуном. А тот, что сбоку стоял, пинком под ребра. Едва-едва поднял я свое отяжелевшее тело. Глянул искоса, а вокруг еще человек пять наших с поднятыми руками перед кучкой германцев стоят. Понял – плен: пуля-то рядом притаилась, в винтовочном стволе германца – только ворохнись. Да и штык в пол-аршина от брюха. – Дед умолк, глубоко затянулся, раскуривая самокрутку, на ее кончике красный огонек затаял.
Я молчал, пытаясь представить высокого, под матицу, деда с поднятыми руками. Потемневшие от времени доски потолка ломали это воображение.
– А дальше, дедушка, дальше?!
Дед стряхнул пепел с самокрутки в широкую ладонь.
– А дальше, набили нас, как скотину, в темные вагоны и в немчуру, без пищи и воды двое суток маяли, издевались, как хотели. – Он покрутил кончик уса. – Уже в неметчине начали нас выдергивать из вагонов по три-четыре человека и куда-то отправлять. Попал и я с двумя рассейскими мужиками к одному их бауру, кулаку по-нашему, в работники. Держал нас за тягло – работали с темна и до темна, а кормили баландой из прогорклой муки, да вареной брюквой. Было дело, и запрягал нас этот баур троих в конный плуг – пахать заставлял, погоняя плетью. И рвали жилы – пахали, куда попрешь…
Сложное чувство жалости и гнева холодило мне грудь.
– Убежали бы! – почти выкрикнул я.
Дед обернулся, улыбка осветила его большое лицо: вероятно, понял он мое состояние.
– И убегали – да бестолково: ни я, ни мои напарники не знали, где мы находимся, куда идти. Первый раз поймали быстро, и хозяин плетью всех отходил, а второй раз мы крались на восток ночами, по звездам, и пришли к каким-то пограничным вышкам. Побежали к ним с радостными криками: оказались поляки, а они снова сдали нас немцам. – Дед опять пустил клубок дыма, затянувшись цигаркой. – Били несусветно! До сих пор внутри что-то так и заноет, как вспомню. Не понимаю, как выжил. Из тех двоих, что со мной были, одного так и забили насмерть. – Дед сжал в пальцах недокуренную самокрутку. Глаза его потемнели. – После – в глубокую яму посадили, держали за собаку. Добро война кончилась, освободили всех пленных, а то бы не быть мне тут с тобой. Вот и теперь германец снова на нас залупился. Да думается – не дадут ему хода, остановят и разобьют, хотя и похуже будет, чем тогда-то…
2
Проснулся я от грохота и ярких вспышек и встревожился: не война ли? Чуть разомкнув ресницы, заметил, что в оконное стекло хлещут тугие струи дождя, и понял – гроза. Раскаты грома катились один за другим. Молнии высвечивали каждый листочек тополя в палисаднике, каждую трещинку на оконных рамах. В комнате в эти мгновения становилось светлее, чем днем. Сжавшись под одеялом, я лежал, затаив дыхание, прислушиваясь к негромкому храпу деда, легкому постаныванию Кольши – он спал на полу, рядом с моей кроватью…
Почти неслышно подошла матушка в ночной рубашке. В отблесках молниевых вспышек ее лицо было бледным и озабоченным. Я прикрыл глаза и притворился спящим, но она поняла мою хитрость.
– Не бойся, сынок, – прошептала матушка, наклонившись к моему уху. Я даже ощутил теплоту ее дыхания. – Это гроза. Пройдет. – Она поцеловала меня в щеку и поправила одеяло в ногах. От ласки матери стало теплее и спокойнее.
Дождь все хлестал жестко и настойчиво. Гром разрывал небо. После одного особенно сильного его удара перестал храпеть дедушка. Он поднял голову от подушки, кашлянул и сел на своей деревянной кровати, свесив ноги. Молния озаряла его, белого в рубахе и кальсонах, с взлохмаченными волосами. Поднявшись, он тоже подошел ко мне, слегка погладил волосы. Я ощутил запах табака и твердые пальцы и не выдержал – поймал его руку.
– Да ты не спишь, – тихо сказал дед, – и тебя гроза разбудила. А ну, пошли ко мне! – Он поднял меня на руки и понес, прижав к груди. И такое блаженство накатилось, что я притих, как бы сливаясь с теплом родного тела, сердце зашлось, дыхание перехватило.
Кровать деда не такая мягкая, как моя: проверено было – под матрасом – доски, а не пружины, но лежать на ней приятно, особенно рядом с дедом.
– Небось испугался грозы-то
Я не ответил.
– Дождичек хорош! Только бы сено не испортил, и мы накосили, и колхоз…
3
Утром я не узнал деревню. Улица, обмытая ливнем, четко выделялась среди яркой зелени: темнела уходящая вдаль дорога, напоенная влагой, темнели отсыревшие дома и надворные постройки, плетни и заплоты, плыли по всему окоему темные разрозненные облака, натягивая хмарь и нагоняя легкие тени на осветленную землю.
Взглянув на яркое в разводьях облаков солнце, дед сказал:
– Сегодня банный день, будем воду носить в баню и дрова, а пока ее топят и выстаивают, на озеро сходим: мордушки надо проверить – поди, карасей да гольянов за эти дни там порядочно набилось…
Мы стояли в ограде, радуясь свежему утру, ласковому солнцу, теплу, и мне было особенно отрадно, поскольку дед говорил со мной, как со взрослым, да еще на какую-то рыбалку взять обещался.
– Вы с Кольшей дрова носите, я – воду, пошли…
За сенями, на сухих сучьях столбика, похожих на какие-то рога, висели ведра, и дед направился к ним, а Кольша нырнул в дровник.
Сухие березовые поленья были плотные и тяжелые. Я взял на руки три полена и хотел положить четвертое, но Кольша покачал головой:
– Зачем надрываться? Еще придем…
Дед поджидал нас у калитки, открыл воротца в большой огород, обнесенный пряслами и глубокой канавой, заросшей лопушником и крапивой. Почти посредине огорода возвышался колодезный сруб с журавлем, мимо которого тянулась к бане, стоящей в конце огорода, извилистая тропка. Мы и направились по ней.
В бане было сумрачно и сухо. Закопченные стены отдавали гарью и дымом. Из-под дощатого полка, встроенного между кирпичной каменкой и стеной, пахло старыми листьями и берестой.
Мы бросили поленья у каменки и пошли назад.
У колодца дед черпал воду. Сухой скрипучий журавль уткнулся концом в самый сруб, поднимавшийся чуть ли мне не до груди. Я перегнулся через него и сразу увидел далеко блестевшую воду.
– Шибко-то не наклоняйся, – предостерег дед, – нырнешь ненароком.
Пришлось откачнуться.
Ведро стремительно поднималось, расплескивая через края воду. Слышно было, как тяжелые брызги бьются где-то в глубине черного зева, поднимая прохладу. Чистая, как слеза вода, затрепыхалась в вынырнувшем ведре, и дед успокоил ее, поймавшись за влажную дужку…
Изрядно потрудившись, мы сошлись у заднего плетня, притулились к нему. Дед снял с его торчащего кола старое ведерко и взял лежащий поверху длинный сухой шест.
– Пошли. Трава теперь обсохла: солнышко вон как припекает, да и ветерок делает свое дело… – Он двинулся по тропке, вдоль огородных прясел. Кольша – следом, я – за ним. Обогнув изгородь, мы вышли на обширную луговину. Вольно раскинулась приозерная степь – ровная зеленовато-белесая, уходящая в недоступные взгляду дали. С правой стороны ее отсекал темнеющий лес, а слева, до самого окоема, тянулись пестреющие желтизной тростники.
Трава поднялась выше, и тропинка почти потерялась в ней. Отчетливо стал слышен непрерывающийся гомон птиц на озере, и я спросил у Кольши – кто это кричит.
– Чайки, гагары, утки разные, гуси – там всего полно…
Пахнуло сыростью, тиной, совсем близко зеркально заблестела вода. Дед положил шест, поставил ведро и, закатав штаны до колен, полез в густые заросли тростников.
– За лодкой, – пояснил Кольша, – он ее прячет, чтобы кто-нибудь не угнал.
Тихо шелестел камыш, заслоняя обзор. Куда не взгляни – везде желтовато-зеленые стебли с узкими листьями. Лишь долгий проход с чистой водой раздвигал тростники, но и он терялся где-то за изгибом…
Лодка показалась внезапно – ее толкал дед.
– Садитесь, – позвал он нас.
Кольша запрыгнул первым и протянул мне руку. Дед, упираясь шестом, погнал лодку по проходу. Я сидел в самом ее носу, и передо мной тихо раздвигались тростники, казалось, что я не плыву на лодке, а парю среди всех этих зарослей над самой водой…
Скоро впереди открылось неохватное взору пространство. Дух захватило от этого водного разлива и зябко стало сидеть в узкой плоскодонке. Волны закачали ее, забаюкали, и всякий раз, когда она взлетала вверх, сжималось сердечко, и я непроизвольно хватался за шершавый борт.
Далеко на воде чернели плавающие утки. Их стаи летали над озером туда-сюда. А чайки трепыхались вдали белыми лоскутами. Лодка остановилась у торчащего из воды колышка.
– Вынимай, – кивнул дед Кольше, указывая на колышек и удерживая лодку на месте.
Кольша выдернул кол и потянул веревку, привязанную за него. Вода вспучилась, покатилась в стороны, и у лодки показалась плетеная из лозняка ловушка. С трудом удерживая тяжелую сырую вершу, Кольша вынул травяной кляп из ее отверстия. Оттуда выскользнула золотистая рыбка, вторая, третья – и вдруг они часто-часто посыпались в лодку. Я опешил в изумлении, а караси кучно бились на дне лодки, разбрызгивая откуда-то просочившуюся воду. Одного, упавшего близко, я схватил за хвост и едва успел вдохнуть его терпкий запах, как карась трепыхнулся и выскользнул из рук за борт.
– Не дается рыбка? – Дед улыбался. – Ее надо за жабры брать. – Он взял за голову самого крупного карася и поднял. Чешуя заблестела на солнце позолотой. – Вот так!..
Положив в вершу объедков со стола, завязанных в тряпицу, Кольша снова воткнул травяной кляп на место и опустил снасть в воду. Ловушка бесшумно исчезла, вытолкнув наверх пузырьки воздуха.
Лодка скользнула в небольшой заливчик. Вторая верша вывернулась у Кольши из рук в тот момент, когда он почти положил ее на поперечину лодки. От неожиданности Кольша опрокинулся и сел на борт. Лодка резко качнулась, черпанула воды. Дед не успел перекинуть шест на другую сторону, чтобы выправить плоскодонку, и мы стали погружаться в теплую воду. В короткое мгновенье я увидел, как всплыли в лодке караси, судорожно забились, устремляясь в глубину, и, даже не успев вскрикнуть, тоже ушел в воду. Сильный рывок выдернул меня назад. На миг я зажмурился от яркого света, а когда открыл глаза, то увидел Кольшину голову над водой и рядом деда.
– Утопил, раззява! – заворчал дед, удерживая меня в воде. – Руки, как крюки. Ладно, что не глубоко, а если бы подальше? Вылазь на камыш! – приказал он Кольше. – И этого туда прими…
Кольша полез на плотный залом камыша, настилая его под себя, и умостился там полусидя.
– Давай к нему. – Дед потянул меня по воде. – А то до берега далеко и убродно. Лодку поднимать придется…
Я чувствовал легкий озноб, но было тепло и солнечно. Цепляясь за толстые, как карандаши, камышовые стебли, я полез к Кольше. Вода потекла с меня холодными ручьями, и кое-как мы утвердились на той полузатопленной камышовой крепи.
Дед сошел с затонувшей лодки и погрузился в воду по плечи. Плоскодонка сразу же всплыла. Наклоняя ее на борт, он стал вытягивать лодку на примятый камыш, выливая из нее воду. Я видел, как ему тяжело, как надуваются жилы на трясущихся руках…
Вскоре дед почти опрокинул лодку на бок и остаток воды выскреб черпаком. Переселив нас в нее, он подал Кольше шест:
– Держи равновесие! Буду с кормы подниматься…
С трудом, рискуя вновь зачерпнуть воды, дед влез в лодку…
Мокрые, без рыбы, мы вернулись домой, но с того момента острый запах свежих карасей запомнился мне навсегда, а в душе осталось не проходящее чувство робости перед широтой и таинственностью водно-тростниковой стихии озера.
* * *
Вечер подступился тихий, мягкий, ласковый. Дед раньше нас ушел в баню, а мы с Кольшей немного задержались.
– Подождем – пока он попарится, – пояснил Кольша, – а то туда сейчас не сунешься – уши свернутся от жара…
В предбаннике была настелена свежая трава, отдавала ромашкой и приятно щекотала ноги. За дверями слышались хлесткие удары, довольное кряхтение деда, и пока мы располагали по лавке снятые рубахи да штаны, дверь резко распахнулась, из бани выскочил дед в клубах пара, красный и мокрый, упал в угол, на траву.
– До хребта прожарился! Шкуру дерет! Облезу!
От его влажного тела шел тонкий парок.
– Пошли, – кивнул мне Кольша, – а то он на второй заход нацелится.
И мы шустро нырнули в темноватый зев распахнутых дверей. Тело обожгло горячим дыханием каменки, и я сразу присел. Кольша проскочил к маленькому окошку у стены, на лавку.
– Иди сюда, – позвал он, и я, задыхаясь жгучей горечью, на карачках проскочил туда же.
Кольша поставил у наших ног объемистый тазик и стал наливать в него щелок из кадушки, стоявшей в углу.
– Мой голову! – приказал он мне.
Я сунул пальцы в горячий щелок и тут же отдернул их.
– Горячо!
Вошел дед обсохший, белотелый. Глаза его молодо блестели. Волосы свисали мокрыми прядями на широкий лоб. Усы прилипли к подбородку.
– Нагибайся! – живо посунулся он ко мне и, пригнув лицом к тазику, стал плескать на голову едкий горячий щелок. Я ежился, но терпел. Твердыми ногтями дед скоблил мне кожу, ероша волосы. – Вот так, вот так, – приговаривал он. – Глаза береги. Щелок ядренее всякого мыла…
Закончив мыть мне голову, дед распрямился и попросил Кольшу:
– Плесни-ка, малый, на каменку – я еще похлещусь веником.
Пар ударил тугим ожогом, и я упал животом на скамейку, головой под полок, рядом – Кольша. И тут что-то мягко горячее, жгучее до невыносимости, заелозило мне по ягодицам и дальше, к низу живота.
– Аа-аа, – зашелся я в невольном вскрике, и почувствовал, как Кольша тоже дернулся в крутом изгибе.
– Выставили тут свои неприличности, – послышался веселый дедов возглас. – Подпеку вот яйца – будете знать, как загораживать полок. – И снова жгучая мягкость по тем же местам.
Кольша сорвался со скамейки и к дверям. Я – за ним. Вмиг выкатились мы в прохладный предбанник.
– Ну, тятька и пошутил. – Кольша широко улыбался. – Заваренным веником да по яйцам…
И хотя приятного было мало: мягкие места все еще горели от прикосновения взбодренных в кипятке березовых листьев – смешно мне стало и удивительно легко. Лежа на травяной подстилке в душевном блаженстве, я вдруг вспомнил общую городскую баню, хотя и не закопченную, но холодно неуютную, осклизло сырую. Как мы ходили туда с отцом… «Где он теперь? Что делает? Может, стреляет?..» И зажглось сердечко, зачастило…
Скрипнула входная дверь. Прохлада прокатилась по моему еще горячему телу. Вошел Степа Лукашов – за ним незнакомый старик.
– Здорово были, без нас не тужили! – созорничал Степа, улыбаясь.
Я знал, что к нам в баню придут Лукашовы, но полагал, что они будут мыться после нас, и несколько смутился за свою наготу.
А Степа без всякого стеснения снял штаны и рубаху и ловко водрузил их на гвоздь вешалки.
– Ну как, уложил Пашку? – ущипнув меня за влажный бок, спросил он…
– Мы еще не боролись, – поддался и я его игривому настроению.
– Трусишь, видно?
– Чего бы.
– Погодь, помогу. – Степа потянул со старика рубашку, обнажив его сухую спину.
В широком размахе хлобыстнулась о стенку дверь, и дед, красный, как пареная морковка, выкатился через порог бани.
– Сгорел! Совсем сгорел! – будто простонал он, вытягиваясь на траве в том же углу.
– Дорвался, как дурной до мыла! – покачал головой старик Лукашов, доставая из холщовой сумки шапку-ушанку и толстые рукавицы.
– Пошли обмываться! – подтолкнул меня к дверям бани Кольша. – А то там такое начнется, сваришься! Видишь, дед Лукашов с шапкой да рукавицами собрался париться.
Я не понимал ни того, зачем в бане шапка и рукавицы – там и без них жарища, ни Кольшиной тревоги, но покорно юркнул в пахнущее березовым настоем нутро бани.
Вновь обожгло горячим воздухом обласканное прохладой тело. Мы устремились на лавку, к маленькому оконцу. За нами – Степа. Не торопясь, шагнул через порог и старик Лукашов, держа в одной руке шапку с рукавицами, в другой – объемистый веник.
– Давайте, щеглы, шустрее, – произнес он. – Мне надо париться. Пока я веник завариваю, да пот нагоняю на полке, вы чтоб свои дела сделали…
Уже одеваясь, я слышал, как вспыхивала шипящим паром политая водой каменка, и даже через невидимые глазу дверные щели пробивались белесые струйки этого тугого пара. Можно было лишь представить, каким жаром дышала прокопченная, не раз прожаренная до наружной обмазки банька.
Вечерело. Пахло сеном и цветами. Тихо было и покойно…
4
– Сидеть-то дома не с кем, – сказал дед, опустив мне на плечо тяжелую руку, – Шуру забрали на прополку хлебов, Кольша тоже комаров кормит, сгребая колхозное сено, а нам с матерью пока отсрочка выпадает: она не колхозница, я – из годов вышел. Себе пойдем косить сено…
Новость меня обрадовала. Еще бы – целый день в лесу! Вприпрыжку вынесся я из дома, за палисадник, к Паше, ждавшему меня у глубокой канавы.
– Ничего хорошего, – не разделил друг моего восторга, – жарища и трава колючая. Пойдем что-то покажу. Пока ты прохлаждался, я по канаве полазил.
Мы опустились в канаву, по самый урез заросшую густой травой. Паша раздвинул бледно-зеленые стебли, и под дерновым козырьком я заметил маленькую корзиночку с желторотыми птенцами.
– Видишь голышата мухоловкины. – Он сорвал травинку и поднес к самому гнезду. Птенцы заверещали, потянулись клювами к стеблю, тесня друг друга. – Есть хотят.
Я не успел что-либо сказать, как над Пашиной головой, почти рядом с моим лицом, затрепетала прозрачными крыльями маленькая пичужка, забилась в тревожном крике.
– Пойдем, мамка их прилетела…
С неохотой вылезли мы из канавы и расстались. Паша рванул к дому – только пятки засверкали, а я пошел под навес. Дед возился там с косами.
– Я еще вчера отбил литовки, пока вы по лопухам лазили. – Он попробовал пальцами лезвия кос. – Острее бритвы. Косить такими – удовольствие…
Над озером горело ослепительное солнце, сгоняя росу с лучистых трав, кричали в том распахнутом пространстве журавли, и тихо постукивали друг о дружку косы, которые нес на плече дед. Мать держала в руках сумку с едой и жбанчик с квасом, а я шел налегке, прислушиваясь и рассматривая этот необычный в утреннем освещении мир.
Обойдя несколько ближних к деревне лесков, дед свернул на обширную поляну, стелящуюся густым травостоем между тальниковых кущей, и остановился.
– Пожалуй, тут и откроем покос.
Ни одна былинка не колыхалась на облитой голубизной поляне, все еще слегка блестевшей от росного налета, и я, не чувствуя отсыревших сандалий, заворожено смотрел в эти голубеющие дали, на росплеск клонившихся другу к другу трав в плотном переплете, на отливающие осветленным изумрудом леса. А мать прошла по ней пару шагов с просиявшим лицом и сказала с радостью в голосе:
– Сено здесь будет духовитое, как чай!
Дед кинул под куст старенький пиджак и взялся за косу.
– Ну, начали!
Вжиг, вжиг – и упали первые клочья травинок на почерневшее от влаги лезвие косы, образовав прореху в зеленом кружеве и открывая невидимый взгляду мир таинственной жизни. Следуя за дедом, я замечал теперь и разных букашек, и маленьких бабочек с намокшими, слипшимися, как цветочные лепестки, крыльями, и торопливых муравьев, и даже маленьких лягушат. И с каждым взмахом косы, от рассыпаемых в пыль росинок, над травяным урезом искрились всплески тончайшей радуги. От этого чуда холодело в груди и замирало сердце. И чтобы меньше мокли ноги, я пытался ступать в дорожку дедовых следов, хотя они и тянулись в широком для меня разводе. Пришлось идти, раскорячиваясь, враскачку. Тут-то и мелькнуло что-то красное в траве и, нагнувшись, я увидел крупную ягоду в веснушках мелких семян.
– Дедушка, ягоды!
Он остановился. Глаза веселые.
– Ну и отойди в сторонку, чтобы под литовку не попасть, да и лопай.
Осторожно раздвинув траву, я увидел целую россыпь налившихся краснотой ягод. Дугой согнулись тонкие стебли под их тяжестью, и первая из ягодок, раздавленная пальцами, брызнула соком, а вторую я сорвал с осторожностью. Во рту она растеклась ароматной сладостью. Таких ягод мне есть не доводилось, и, с некоторой поспешностью, ненасытно, я стал срывать их одну за другой.
* * *
Усталые и умиротворенные мы возвращались с покоса. Обогнув последний лесок, мы увидели лошадь, запряженную в телегу, а подле неё мужика, широко размахивающего рукой. Он кулаком бил лошади в ухо. На телеге сидел мальчик лет пяти.
– Не бей Зорьку, дедушка! – кричал он. – Мне её жалко – она плачет!
В этот момент лошадь упала на колени, протяжно заржав.
Дед бросил в траву литовку и кинулся к мужику. Я – за ним.
– Ты что, Прохор, делаешь! – Дед схватил мужика за руку. – Угробишь лошадь – не рассчитаешься! Да и посадить могут.
Я увидел, как из ноздрей лошади просекаются капельки крови, а из глаз текут слезы.
Мужик, бородатый с седеющей шевелюрой, легко оттолкнул деда, но махать кулаком перестал.
– Зауросила, скотина: брык, да брык, а мне её председатель на два часа дал. Хочу стожок перевести, пока время есть.
– Бить-то таким образом зачем? Да и не просто заупрямилась тягло, не без причины. Ты сбрую-то хорошо просмотрел?
– Да торопился…
Дед засунул руку под седелку и вытащил оттуда щепку.
– Вот тебе и причина.
Мужик тряхнул головой и хлопнул себя по ноге.
– Вот дурья башка! Сбруя-то в дровнике лежала. Щепка и зацепилась за потник в седелке. А я и не поглядел – бах на спину лошади. Ну, спасибо тебе, Данилка, а то бы в самом деле изувечил скотину. – Он, торопясь, сел в телегу и тронул вожжи. Лошадь взяла с места рысцой.
– Этот Прохор Доманин – мужик не плохой и особой силы, – глядя на удаляющуюся повозку, заметил дед, – только вспыльчивый, с чудинкой. Поехал он как-то в Канавное, на мельницу. – Дед поднял косу, отряхнулся. – А очередь – бричек с полдесятка. Он к мужикам: пропустите, мол, без очереди – у меня всего один мешок и торопиться надо с подготовкой к свадьбе, сына женю. «Ну, раз такое веселое дело, чего же не пропустить с одним мешком-то». А у Прохора мешок из матрасовки сшит – в нём обычных мешков не меньше трех, и зерна пудов на десять. Поднял Доманин свой мешок из телеги – мужики и ахнули. Да слово дадено – назад не вернешь. Стал Прохор подниматься по лестнице наверх, к засыпной воронке – та и закачалась. Едва не рухнула.
– А сколько это: десять пудов? – проявил я интерес к рассказу.
– Пуд – шестнадцать килограммов. – Дед усмехнулся. – Вот и кумекай.
Я «скумекал», скорее интуитивно, чем подсчетом…
– Разве человек столько поднимет?
– Смотря какой. – Дед помедлил. – Обычный – вряд ли. Я бы тоже на спину не закинул. Разве что от земли приподнял. А вот Прохор даже на лестницу с такой тяжестью поднялся, и, думаю, что это для него не край. Еще при единоличной жизни вез он дрова по осени, а телега в хляби застряла. Лошадь тужилась, тужилась, дергала постромки, а возок не подается. Прохору свою-то лошадь жалко. Распряг он её, и в оглобли – вытянул телегу, да ещё и посетовал: «Сам, мол, едва справился, а хотел, чтобы лошадь вывезла». Вот так-то…
5
По утрам уже становилось прохладно. С кочковатого болота, уходящего в западинах к самому озеру, наползали туманы, оседали на травах обильными росами, темнили влагой заборы и надворные постройки, уплотняли пыль на раскатанной телегами дороге. Глухо текли звуки с ближних полей – разгоралась страда. В столь горячее время нарядили и деда возить зерно от комбайна. А как не покататься на пароконной бричке с емким деревянным корытом, не поглядеть на трактор с комбайном, на уходящее к дальним лесам пшеничное поле?! Уселся и я рядом с дедом, на кучерскую доску. Замелькали внизу лошадиные ноги: взад-вперед, взад-вперед – будто заводные, затрепыхались в легком перехлесте длинные хвосты, затряслась упряжь, притороченная к дышлу, и телега мелко запрыгала на неровностях дороги.
За деревней открылось желтое поле пшеницы, взбегающее на ближнюю гриву, втянуло в себя узкую дорогу, словно прорубленную в высоких хлебах и зияющую щербинкой на самом гребне возвышения. Слабый ветерок прокатывался волнами по этому безбрежью, и тогда вдали цвет поля менялся в плавных переливах: светлел или темнел, отливал то палевой накипью, то оранжевым росплеском.
– Уродился хлебушек, – с особой теплотой в голосе, любовался дед житом, – он сейчас нужнее нужного: вон сколько наших людей воюют и всех накормить надо. Погода постоит – так за месяц и управимся…
А мне вдруг подумалось, что, может быть, и отцу моему перепадет краюха хлеба, испеченного из муки, намолотой из этой пшеницы, и как-то потеплело в груди, острее поплыл взгляд над распахнутым желто-зеленым раздольем.
С бугра открылся дальний край поля, от которого медленно плыла длинная сцепка машин. Послышался монотонный рокот моторов. Дед поторопил лошадей, хлестанув их вожжами.
Большой гусеничный трактор, без кабины, с железной бочкой наверху, тянул высокий и длинный комбайн красного цвета. Множество всяких колесиков, звездочек и шестеренок вертелось на нем под бегущими внахлест ремнями. Но меня привлекла жатка с длинными лопастями и зубастой косилкой. Машущие лопасти подгибали стенку стеблей с налитыми колосьями, и те, срезанные лязгающей пилой, покорно ложились на транспортер подборщика, похожего в клубах пыли на огромную пасть.
На тракторе сидел в одной майке, запятнанной масляными разводьями, крепкий парень чуть постарше нашего Кольши, а за штурвалом комбайна, похожим на штурвал парохода, виденного мной в младенчестве, – второй, в кепке и больших очках со стекляшками в кожаной оправе, с черным от пыли лицом. Когда он улыбнулся, заметив нас, зубы его словно осветились изнутри сахарной белизной.
Тракторист остановил трактор. Моторы заработали спокойнее. Жатка устало взмахнула пару раз крыльями и затихла. Дед направил лошадей вдоль комбайна, приноравливая бричку к конусу бункера.
– Еще чуток, еще! – командовал сверху комбайнер, сдвинув на лоб квадратики очков, отчего белые круги вокруг глаз, на темном от пыли лице, делали его голову похожей на совиную.
Звякнула задвижка горловины бункера, и в корыто брички хлынул поток желтовато-белой пшеницы. Дед схватил деревянную лопату, лежащую на дне корыта, и начал разравнивать быстро растущий ворох зерна. Приятно и терпко пахнуло полем. Я подставил ладонь под эту сыпучую массу и почувствовал мягкие и тугие клевки налитых зерен. Несколько их я успел поймать зажатой ладонью. Продолговатые, похожие на маленькие городские сайки, зерна напомнили мне недавнюю, но кажущуюся далекой-предалекой жизнь, и что-то тиснуло сердечко, а мысли нанесли совсем иное, еще недавно незнаемое, незнакомо-безразличное: это сколько же надо таких вот маленьких «саечек», чтобы получилась одна настоящая сайка?! С этой задумкой, как-то непроизвольно, стал и я разгребать пшеницу руками, хотя и слабо, незаметно в гуще такого наплыва зерна, но старательно, с теплым чувством своей принадлежности к важному делу, осознавая и посильную помощь деду. Может быть, даже и не обязательную, никчемную в данный момент, но важную для меня самого. Желание это возникло из каких-то иных, доселе неведомых мне чувств.
Быстро наполнилось не очень-то емкое корыто, и комбайнер закрыл задвижку бункера. Гулко зарокотали моторы, и сцепной агрегат медленно отошел от нас.
– Отборное зерно! – радовался дед. – С такого и крупчатки намолоть можно…
Заметив, что я нечаянно сыпанул через борт корыта немного пшеницы, нахмурился:
– Хлеб рассыпать негоже. Подобрать придется.
Я был удивлен: там и горсти доброй не было, но дед был непреклонен:
– Подбери, подбери! Ежели каждый постольку рассыплет – ворох получится.
На душе тягостно стало: будто меня уличили в чем-то нехорошем, и даже обида тиснула горло. Но деда я уважал и без лишнего разговора полез с брички, косясь на задние лошадиные ноги, на метелки хвостов. Среди примятой стерни нашел я рассыпанные зерна и подобрал их, все еще тая горечь досады. Лишь много позже я понял, что не о зерне тогда пекся дед, а о моем воспитании, моем духовном стержне.
Назад ехали шагом. Нагруженная бричка не так прыгала на неровностях дороги, со скрипом переваливаясь с колеса на колесо. Я молчал, так и не посветлев душой после недавней обиды, вглядывался в недалекие деревенские дворы, тихие, будто бы застывшие в лучезарном, прошитом ядреным солнцем пространстве. И дед не лез ко мне с разговорами, видимо, понимая мое состояние. В таком душевном равновесии мы и подъехали к большому, крытому соломой току. В тени его возвышались покатые кучи ссыпанной на утрамбованную землю пшеницы. Возле одной из них суетились женщины, лопатами вороша зерно, всплескивая его на самый верх кучи.
– Сейчас и мы свою бричку разгрузим, – заговорил, наконец, дед, останавливая лошадей. Он неторопливо слез с телеги и взял с одного из ворохов зерна жестяной совок-плицу.
– А мне? – поняв, что этим совком дед будет ссыпать зерно, как бы с удивлением спросил я.
– Тебе еще рановато плицей орудовать, походи вон по току, погляди…
Опять досада тронула душу, но тут же ушла. Таинственные полутени от крутых ворохов пшеницы, расплывшиеся по длинному, казавшемуся бесконечным, току, манили своей неизведанностью, силуэтами каких-то машин, прохладой. И я пошел в глубь этого хлебного лабиринта, прислушиваясь к чириканью воробьев и улавливая легкие дуновения ветра…
6
За ужином дед сказал:
– Пора картошку копать. Вот-вот заненастится, а там и до заморозков недалече. Уберем по-сухому – не свернемся с голодухи. На хлеб теперь рассчитывать не придется: фронт все вытянет. Теперь картошка основной едой станет. Ее надо не сгноить. А погреб сырости не любит. Так что тянуть дальше не резон…
За окнами было темно, как в том самом погребе, о котором говорил дед и который они с Кольшей чистили днем. Керосиновая лампа освещала лишь стол да часть кухни с печкой. Дальше – все тонуло в полутьме. Даже оконного проема в горнице не угадывалось, и казалось, что там, за палисадником, за едва проступавшими в отсвете лампы кустиками оголенной смородины, нет ничего, лишь темная бездонная пропасть, и знобко становилось от этих мыслей, и нет-нет да и пытался я уловить хотя бы бледное пятно соседского окошка. Дед уловил мои взгляды:
– Глухая осень, хотя и ранняя. Плотно давит – глаз выколи. Пока морозы не выбелят небо – все так-то будет…
Утро было хмурое и зябкое. Высокая ботва холодила ноги. Дед и Кольша выворачивали емкие кусты картофеля лопатами, а мы втроем выбирали ядреные клубни в старые ведра. Я старался ухватить картошку покрупнее, и мне это прощали за малостью лет, а Шура ловко и быстро разгребала каждую лунку, выбирая мелочь. Работа не нравилась, но я пересиливал неприязнь к ней и ползал на корточках по рядкам.
Когда мы наполняли ведра, дед и Кольша несли их на край огорода и высыпали картошку на сухую траву.
– Сколько я ее перебрала, сынок, тяжело вспоминать, – заметив мое вялое отношение к работе, начала матушка. – Бывало, родители уедут хлеб жать, а нас, подростков, домовничать оставят и поручение дадут – картошку копать. Был тогда у нас Петя – твой дядя, умер он маленьким. Посажу его на травку, он играет, а я горблюсь: выверну несколько лунок, соберу картошку и дальше иду. Петю на спине перетаскиваю – на руках не одолевала: тяжелый был. А еще куры и гуси на догляде, двор весь…
Слушая мать и вглядываясь в ее усталое бледноватое лицо, я заметил, что и глаза у нее грустные, без искорки, и голос печальный, и дух у меня зашелся от острой жалости к ней, губы дрогнули: как же тут не стараться работать? И в этот жгучий момент мимо меня пролетела картофелина, мягко шлепнулась в рыхлую землю. Я вздрогнул и поднял голову: дед копал лунки размеренно, без напряжения, Кольша – усердно, торопясь. Понятно было, что это он бросил картошку – больше некому. Потеплело в душе, помягчило. Опустив глаза, я стал наблюдать за Кольшей исподлобья, и он потянулся, взял новый клубень, взмахнул рукой. Вмиг попался мне на глаза комок земли, и я вскочил, широко размахнувшись, запустил им в Кольшу. Но он ловко уклонился и поднял голову, указав рукой в небо.
– А вон журавли!
Высоко-высоко темнела в небе вереница каких-то птиц. Они казались маленькими – не больше голубей. Кур-лы, кур-лы, – донеслось из поднебесья печально щемящее, даже сердце сжалось от некой тоски. И откуда, почему возникла эта тоска, – не понять. Вмиг сгорел мой веселый настрой. Душа отозвалась на крики журавлей впервые, но и после, с годами, когда мне приходилось слышать это прощальное курлыканье, тонкая грусть наполняла сердце. Снова и снова приходилось гадать: что это? Почему? В каких тайниках натянуты те струны, которые вздрагивают под действием звуков, рожденных журавлиными криками?.. Где ответ?..
– Давайте копать, – вернул нас к делу дедов голос. – Лучше синица в руки, чем журавль в небе, – добавил он, – а синица теперь – это наша картошка…
7
Тихо и светло. Видно, как медленно опадали с деревьев листья. Таинственного и сумрачного леса будто и не бывало. Будто и не тут я ел ягоды, томился от зноя и терпел комариные укусы. Все выглядело спокойно, умиротворенно, блекло. И одинокий стожок сена, сложенный дедом, аккуратно очесанный, желтел на поляне.
Дед с матерью принялись накладывать сухое, пахучее сено на телегу. Вилы в руках у матери казались несуразно большими. Лицо ее напрягалось, когда она поднимала уемистые навильники. Жалость трогала сердце, но помочь ей я не мог – силенок еще не хватало.
Воз становился выше и шире, ершился большущей всклокоченной головой.
– Давайте бастрык, – крикнул дед сверху, и мать потянула вверх толстую ошкуренную жердь. Я, цепляясь сзади, помогал ей.
– Осторожно. Не ушиби руку, – беспокоилась она.
Прижим лег посредине воза, и дед, накинув на него веревку, стал утягивать раздавшийся на две половины воз.
– Хочешь наверх? – увязав спрессованное сено, спросил он.
Страшновато сидеть там, на шатком верху, но и соблазн немалый.
Мать подсадила меня немного, а дед поймал за руку – я и очутился наверху. Сразу стало видно всю поляну, и даже часть соседнего луга с копнами сена, и лес глубоко открылся в своей просветленности. Заметив, что дед приноровился спускаться вниз, я забеспокоился – одному на возу боязно.
– Лошади тяжело будет, – понял меня дед, – она хотя и скотина безответная, но все животное – с самого утра в упряжке. Плечи хомутом до бесчувствия наминает. А ты сиди-сиди, привыкай. Держись за бастрык покрепче, да поглядывай…
Вначале сердце замирало, когда воз кренился в какую-нибудь сторону. Так и думалось, что сено сползет, а потом боязнь эта прошла, обвыклась, и я стал с интересом наблюдать за открывавшимися с высоты воза далями. Леса и поляны, маленькие домики деревни, темнеющая среди увядших трав дорога… Тихо, запашисто от разворошенного сена. Лишь лошадь изредка пофыркивала да поскрипывала телега. И хотелось ехать и ехать вот так без забот и тревог, в неведомые дали и страны…
Глава 4. В предзимье
1
В пору обвальных проливных дождей, загнавших меня на долгое время в пространство дедовой избы – на полати да печку, я осиливал чтение и счет, приглядываясь к потрепанным страницам старого букваря, доставшегося от Шуры. Тянулся я к знаниям почти в одиночестве: дед постоянно отлучался во двор, готовя наше нехитрое хозяйство к близкой зиме, а матушку привлекли веять зерно на колхозном току. Кольша с Шурой до обеда учились, а после, наскоро поев, уходили перебирать картошку в колхозном овощехранилище. Лишь к вечеру наполнялась изба неуемными голосами, к которым я прислушивался с чувством жадного понимания, ибо эти разговоры дарили мне кое-какие новости, пусть не всегда понятные, но все равно из той жизни: с улицы, с живого людского общения, отголосков того большого, недосягаемого ни разуму, ни духу мира. Даже мой день рождения прошел тихо. Матушка, уходя на работу ранним утром, поцеловала меня куда-то за ухо, пожелав расти здоровым и умным, а дед принес из магазина горстку конфет-подушечек. Лишь Кольша с Шурой, отметив мой рост легкой зарубкой на дверном косяке, устроили игру в жмурки и все.
Как только ветер угнал за горизонт слоистые, низко висящие над землей космы туч, похолодало. В день-два задубела земля, выглянуло неяркое солнышко.
Утром, едва просинели окна, пришел Паша в старых стоптанных набок валенках с галошами и сразу, с порога, заявил:
– Айда на пруд, посмотрим: застыл или нет.
В доме – никого. Как уйти?
– Да идем, – настаивал Паша, – дед твой, я видел, в кузню направился. Пока его дождешься – земля оттает, грязюка пойдет…
Всего-то на год и три месяца опередил меня Паша по возрасту, а стал первоклассником. И с тех пор, как он пошел в школу, мы с ним почти не виделись: то работа на огородах мешала, то нудные дожди, то холодная слякоть… А тут выходной выпал, как отказать другу?..
Шли мы через простуженное поле, по жухлой безжизненной траве, круто отворачиваясь от пробивного ветра, и не разговаривали. Непривычно знобкая погода, серые однотонные дали не радовали. С унылым шумом надземного сквозняка, гнавшего свои тугие струи между двух грив, настаивалось и унылое настроение, и я тайно пожалел, что согласился на предложение друга.
Некогда светлый игривый пруд был неузнаваем: затянутый матовым льдом с редкими плешинами промоин, он походил на огромную дырявую овчину, распятую среди желтеющих в крутом изломе берегов.
– Скоро совсем застынет – кататься будем. – Паша поднял комок глины и с размаха бросил на лед. Лед громко ухнул, а из-под обрыва вылетела какая-то птица. Она пролетела низом вдоль кромки берега и снова скрылась за срезом обрыва.
– Утка! – крикнул Паша и побежал, пригибаясь. Я – за ним, как-то непроизвольно, ничего не понимая.
У приметного места Паша осторожно выглянул из-за бугра.
– Чирушка это, видно, раненая.
Я тоже заметил у края льда серенькую взъерошенную уточку. Она косила черным глазком на нас и не шевелилась.
– Давай поймаем! – Паша, не дожидаясь моего согласия, стал осторожно приближаться к утке. Когда до нее оставалось с полшага – рукой дотянуться, дикарка забила мокрыми крыльями по льду и перелетела на новое место. Мы – за ней. И опять все повторилось. Несколько раз Паша подкрадывался к уточке, но все безуспешно.
– Палку надо, – Паша стал глядеть по сторонам, – все равно она не жилец.
– Ты что? Разве можно такую убивать?!
Он опустил глаза.
– Так иначе пропадет или замерзнет.
В это время на другом берегу появился какой-то мальчишка.
– Это Рыжий – Толяня Разуваев с соседней улицы. Давай скорее ловить, а то он не пожалеет! – И мы снова погнались за отлетающей уткой. Один раз Пашина рука скользнула по перьям, но, утомленная нашим преследованием, птица, собрав последние силы, перелетела на другую сторону пруда, как раз к наблюдавшему за нашими попытками парнишке.
– Сачок бы, – огорчился Паша и осекся, кинув взгляд на дальний берег.
Я тоже увидел, как пришедший после нас толстячок схватил палку и стал подкрадываться к опустившейся неподалеку от него утке.
– Не трогай! – заорал Паша во все горло, сложив ладони лодочкой. – Это наша чирушка. Не трогай, гад!
Но тот, с другого берега, или не слышал его крики, или не обращал на них внимания.
Взлетела палка в высоком размахе. Парнишка поднял и показал нам хлопающую крыльями птицу.
– Живодер! – Паша понесся с такой силой, что я едва за ним поспевал, хотя валенки с галошами были у него и не по ноге, и тяжелее моих сапог.
Может, причиной тому были слезы, нежданно выступившие из моих глаз и мешавшие дыханию? А может, и в самом деле Паша так рассердился, что летел вдоль берега, как на крыльях? Во всяком случае, парнишка с добытой уткой припустил от нас с не меньшим усердием. Догнать его из-за большого расстояния, разделявшего нас, вряд ли было возможным. Понял это и Паша и остановился.
– Ну, погоди, гад, – погрозил кулаком Паша в холодное пространство, – подловлю я тебя перед школой и сопатку расквашу…
В не меньшем унынии мы возвращались домой. Серым и печальным показался мне набравший силу день, и наш поход на замерзающий пруд запомнился надолго.
2
В предзимнем лесу светло и тихо. Опавшие листья скрадывают шаги, но ходить по ним скользко. Ноги от постоянного напряжения быстро устают…
Две соседских собаки, которых Кольша взял гонять зайцев, ушли сразу же, как только мы выбрались из первого от деревни леса. Пару минут слышался их отдаленный лай, а потом и он затих. Напрасно Кольша выстаивал с ружьем наготове долгое время, прячась за тальниковыми кустами – ни собак, ни зайцев не было. Один раз вырвался из травы суматошный выводок белых куропаток и быстро нырнул в чащобу. Кольша и выстрелить не успел.
– Невезуха, – огорчился он. – И эти дворняги куда-то удрали. Теперь всю округу всполошат…
Пройдя еще один долгий лес, Кольша остановился и присел на валежину.
– Отдохнем, а то подошвы скользят по листьям, ноги устали…
Я давно уже потерял интерес к этой охоте. Даже какие-то осиротевшие леса не радовали и не волновали, и чувство ожидания какой-либо живности постепенно угасло. Как шел я следом за Кольшей, так и опустился на мягкую подстилку там, где услышал желанные слова. Тихо. Пустынно. Неуютно… Ни светлых чувств, ни теплых мыслей…
– А ты ведь на тропе сидишь, – оглядевшись, показал на уплотненные листья между черных тальниковых корневищ Кольша. – Видишь, как ручейком тянется прибитой косыми опадыш.
Но вставать не хотелось – уж больно удобно я устроился.
Не успел Кольша еще что-то сказать, как где-то совсем близко затявкали собаки, с рыком и визгом. Послышался топот, шум, что-то шибануло меня в спину и опрокинуло. Резкая боль обожгла шею. Раздался свирепый рык и жуткий жалобный плач. Оглушенный и очумелый, я вскочил на ноги, и, тараща глаза на клубок бьющихся в злобе собак, различил среди них сучившего лапами зайца. Кольша прутом стегал разъяренных псов.
Горячо стало под шапкой и что-то живое поползло к лопатке. Я привычно мазнул пальцами по шее и увидел на них кровь. Тут же тупая боль свела спину. С тревожной растерянностью глядел я на кровь, и машинально шевелил плечами, чтобы прогнать непонятно откуда взявшееся болевое ощущение.
А Кольша, отняв придушенного зайца у собак, обернулся ко мне:
– Спина-то не болит? Косой ведь со всего разгона налетел на тебя. А я тебя предупреждал. В другой раз будешь знать, где садиться. – Заметив на шее размазанную кровь, Кольша в тревоге оглядул ранку. – Все же коготнул кто-то тебя: может, заяц, а может, и собака. Они все через тебя перелетели. Ничего, сейчас вот найдем подорожник, залепим листом царапину – и всё пройдет. – Он цыкнул на собак, все еще старающихся стащить с его спины зайца, и заторопился к опушке леса.
3
Дед ввалился в избу с головы до ног обрызганный снегом.
– Едва успел со скотиной управиться, – произнес он, отряхивая фуфайку у порога, – запуржило так, что в ограде заблудишься…
Я тут же кинулся к потемневшему окну, приплюснул о стекло нос, пытаясь что-нибудь разглядеть на улице, но даже в палисаднике снег бился такой неистовой россыпью, что, кроме вихрящихся в слабом отсвете керосиновой лампы искрометных снежинок, ничего не увидел.
– Это все – зима, – с печальным вздохом отозвалась матушка. – Как переживем ее, что нас ждет?
– Пока ничего утешительного, – дед раздевался не торопясь, размеренно, – сегодня сводку в сельсовет прислали – немец-то уже под Москвой.
– Как же так?
Дед не ответил, почему-то покосился на двери и стал разуваться.
– Где-то наши школяры задержались, – перевел он разговор на иное, – видно, снова после уроков оставили. Хоть иди да встречай, чтоб не заплутали в такую погибель.
– Объявятся. Они гурьбой, всем нашим краем ходят…
* * *
Утром деревня и вся округа открылись в заволоке снежного раздолья: белым-бело, куда не погляди – до самого леса в одном окне и до неба, за озером, в другом. После осенней черноты и серости, непроглядного окоема в низких тучах, белизна просторов завораживала взгляд, манила в мягкие, чуть-чуть засиненные дали, тревожила неосознанным волнением, налетными мыслями о таинствах природы. Несли они меня куда-то в неизвестность, в жизнь-сказку. А подлинная жизнь светила иными зарницами, в иных тонах, ином рассудке, и хотя она открывалась мне лишь маленькой россыпью тревог, услышанных или душевно воспринятых от взрослых, она играла другими заветами, иными мерками.
Особенно скучно мне было по утрам, когда Кольша и Шура находились в школе, матушка – на колхозном току, а дед управлялся во дворе. В пустом доме устаивалась какая-то грустная тишина – даже маломальских звуков не улавливалось извне. Если там что-то и брякало, мычало через двойные оконные рамы, тем более, через плотные, оштукатуренные изнутри деревянные стены, не слышалось, а в доме ни часов, ни даже сверчка не было. Да и интереса какого-либо ищи не ищи – не найти ни в горнице, ни в кухне. Того, что находилось под запретом: в старинном ли сундуке у стены или на зашторенной под потолком полке – я не касался, чтя наказы матери и деда, а из книг, кроме потрепанного букваря, освоенного мной дней за десять, невысокой стопкой лежали лишь непонятные и неинтересные мне учебники. Две книжки с картинками были мною много раз смотрены-пересмотрены, запечатлены в памяти до малейших штрихов и не привлекали, а других не приносилось. Даже мысли о той, довоенной жизни в городе приходили все реже и реже. Лишь иногда во сне, да из-за каких-нибудь малейших колебаний настроения, уносило меня в прошлое: к тому бытию, к светлому образу отца…
В зыбке той печальной тишины выкачивалось и мое душевное состояние: лежа на печи или на полатях, я изучал почерневшие от времени узоры на досках потолка или глядел в окна, открывавшие то одну, то другую сторону заснеженной улицы с силуэтами знакомых дворов, и тоже почти всегда пустынную в это время. Редко проезжал кто-нибудь по ней на лошадке, запряженной в розвальни, или проходил неспешно. Но и от этого малого разнообразия теплело в душе, набегали свежие мысли, оживлялось воображение. И в столь скудное для новых ощущений и событий время особо остро воспринимались рассказы или даже обыденные рассуждения деда, приходившего с улицы передохнуть, уставшего, с мокрыми от пота волосами, свисающими на высокий, почти прямой лоб, со льдинками в усах, с потемневшим взглядом. Не раздеваясь, сняв лишь шапку, он садился или на сундук, или на скамейку, и я мало-помалу раскачивал его на разговор своими вопросами. Тут и разыгрывалось воображение, поднимало меня на такие высоты, от которых дух захватывало и в глазах застило яркостью явлений, и еще долгое время после очередного ухода деда во двор, до того самого момента, когда являлись из школы Кольша с Шурой, сохранялось это особое состояние души. Лишь их приход разрушал и мой настрой, и мои образы: начинался иной разговор, иные действия.
Эти наши разговоры, старого да малого, подогревали и меня, и деда, сближали. Больше и больше тянулся я душой к нему, чувствуя, что и дед привязывается ко мне. Иногда, отвечая на какой-нибудь мой вопрос, он настолько увлекался прошлым, настолько глубоко и далеко уводили его воспоминания, что забывал дед и про двор, с вечной работой – делай не переделать, и про меня.
Светлая сердечность наших отношений как-то побудила меня на вроде бы простой, мимолетный вопрос:
– Дедуля, а у тебя был дедушка?
Скручивая цигарку из клочка старой газеты, он метнул на меня быстрый взгляд со снисходительной улыбкой и кивнул:
– А как же? Без деда человек на свет не появляется. Вот не было бы меня – не было бы твоей матери, а стало быть, – и тебя. Только я своего деда почти не запомнил – всего-то раза три его и видел. Там, на орловщине, в российской губернии, мужики, как барщина кончалась, все на заработки уходили, и дед мой с батькой где-то горбатились. Семьи-то большие – кормить надо… – Поплыл сизый дымок от самокрутки к потолку, ко мне, на полати. И хотя не доходили его тонкие росплески до матицы, таяли, запах тлеющего табака ощущался стойко. – Запомнилась низкая землянка с маленькими окнами, – тянул рассказ дед, – мы с братом Митькой на печке. Холодно до дрожи. Как вспоминаю об этом – хребет немеет. Митька черен от копоти, одни глаза блестят да зубы: печка-то по-черному топилась, соломой. Дым из нее под потолком стелился, в отдушину над дверями уходил. Теплый. Мы в него и совали головы, чтоб согреться. Мать подалась за соломой на поле. Печка чадила, чадила и затухла. Мы – в драных рубашках до колен, а под ними голое тело. Зубами зачакали – терпения нет. Того и гляди корючка скрутит. Тут заскрипела шаткая дверь – во весь ее проем куча соломы протиснулась, а за нею дед. Веселый. Давай печку оживлять. Леденцами угостил…
Землянки из пластов дерна я уже видел на крайней деревенской улице и, слушая деда, представлял что-то похожее на нашу баню, топившуюся каменкой по-черному.
– …С тех пор я его больше не видел. – Дед притих. Пепел на его самокрутке опасно согнулся: вот-вот сорвется на широченные, выскобленные до соломенной желтизны доски пола.
– А почему? – не выдержал я затянувшейся паузы.
– Сгинул где-то. Сказывали, на тех самых заработках. То ли перенапрягся и умер, то ли погиб, то ли злодеи порешили, позарившись на заработанное. Отец в тот год дома остался – Настя родилась. – Умолк дед. Упал пепел самокрутки ему на колено, обтянутое залосненной штаниной, потекли мои мысли, навеянные рассказом деда, в давнюю даль, глубоко, ясно, тревожно…
4
Дед взъерошил мне волосы:
– Давай-ка, малый, проветрись, погода стоит сиротская, не осопливишься. – Он только что вошел с улицы, и холодком потягивало от его одежды, да и в руках тепла не ощущалось – пальцы будто неживые, не успели нагреться.
Улица все же не изба: больший простор открывает, хотя в заваленных снегом далях, пронизанных светом и холодными ветрами, глядеть-то особенно не на что, а все живет к ним интерес, тянется взгляд. Особенно широко распахивается околица с огородных прясел, куда легко подняться по жердочкам: желтое безбрежье озерных камышей, подпирающих горизонт; тонкая вязь лесных отъемов, щетинившихся на стыке неба и земли, как бы сшивая их неровной стежкой; широкий размах деревенских дворов, гуртящихся в разломе леса и степи… Глядеть бы да глядеть, если бы не хваткий морозец с ветерком, против которого моя одежда долго не защитит.
Обычно, я сам выпрашивался на улицу с долгим уговором, с надеждой на доброту, на уступчивость, сочувствие, играл на этом, хотя и не всегда удачно, а тут дед предложил заветное.
Пока я собирался, путаясь в одежде, дед ушел во двор. И, вынырнув на крыльцо с прищуром от яркого света, струившегося с белых снегов, я увидел его посредине ограды, рядом с коровой, и какого-то старика с роскошной бородой по пояс, сплошь выбеленной сединой, без шапки, в стеганой тужурке и непомерно больших валенках. Он лазил под животом коровы, что-то щупая, затем заглянул ей под хвост, подняв его, раза два-три приложился ухом то к одному, то к другому округлому боку. Что бы это означало? Я – тут как тут. Дед глянул на меня, но ничего не сказал.
– Стельная твоя корова, Данилка, – развел, наконец, широкие плечи в разгибе необычный дед и стал гладить бороду. – Считай, к марту отелится.
– А что же ветеринар мне обратное пел, – отозвался дед с сомнением. – Советовал повторно к быку подвести? Он ведь как-никак – в грамоте, прибором слушал?
Бородач даже не улыбнулся.
– Сказал тебе: к марту отелится и все тут. Голову даю на отсечение…
И дед поверил. Лицо его посветлело.
– Ну, коли так, пойдем, Афанасий, в дом, посидим – друг на друга поглядим…
Дед повел корову в закуток, а я, немного поглядев на странного, сутуловатого и большеголового бородача, осмысливая не совсем понятные его действия и разговор, пошел к пряслам, на своё наблюдательное место.
Плавился в снегах солнечный свет, заливая округу отблесками позолоты, искрометным сиянием снежинок, окаймляя легким радужьем контуры лесов и крайних дворовых построек на дальней улице; тек, отражаясь, от понизовья в бездонность небесной голубизны, уводя за собой не только взгляд, но и нечто духовное…
Слабый шелест уцелевших листьев старого клена за плетнем, наплывающий скрип снега под ногами у деда.
– Шибко-то не студись, – предостерег он меня, – подыши чуток свежим воздухом да в избу… – Отдаляясь, дед еще что-то говорил, но уже бородачу. Дверь в сенцы захлопнулась, и вроде ветер притих.
Там, в избе, теперь можно было услышать что-нибудь более интересное, чем увидеть в пустой ограде, и я, недолго раздумывая, тоже потопал в дом.
Пахнуло домашним теплом с устойчивым запахом печеного хлеба и упревших щей, и сразу захотелось есть, хотя мы с дедом и позавтракали не так давно, одни: мать и Кольша с Шурой ушли еще по темну, когда я спал. Она – на работу в зернохранилище, школьники – в школу.
Бородатый уже сидел за столом, а дед возился у печки, бренча чашками-ложками. Он даже слова мне не сказал и голову не повернул.
Я уже знал, что по неписаным деревенским правилам садиться за стол вместе с гостями детям не положено, и, раздевшись, полез на полати. Оттуда, из-под занавески, я стал слушать и наблюдать дедов. Мой, суетясь, полез в подпол и быстро вынырнул оттуда с огромной бутылкой в руках, бородач, склонив голову и поглаживая волосы, заметил:
– Я ведь, Данила, не употребляю, ты знаешь.
– А может, полстаканчика?
– Ни капли.
– Тогда я промочу горло…
Хлебали они щи из большой эмалированной чашки, размеренно, поочередно перекидываясь редкими фразами. Услышать и понять что-нибудь из скупого их разговора, уловить ход мыслей – не удавалось. Напрасно я пытался связать отдельные слова в нечто осознанное, где-нибудь слышанное, они не связывались. С полчаса я поворачивал то одно, то другое ухо в их сторону, вникая в низкие звуки голосов – глухо. Лишь когда дед затряс кисетом и начал сворачивать папиросу, а гость принялся оглаживать бороду, отряхивая с коленей ее концы, какие-то фразы стали цеплять мое сознание.
– Не мое тут дело, Афанасий, а коль мы одни, дозволь полюбопытствовать, – начал мой дед, расслабившись после еды, – давно думаю, что не простой ты поселенец. Ну, сам посуди: явился ты неизвестно откуда, без семьи, без бумаг, живешь бобылем на отшибе, в знахарстве и скотине знаешь толк, костоправ, каких в Иконниковской больнице нет. Да и слушки разные ходят…
Бородач и не пошевельнулся, продолжая лелеять бороду.
– Пять лет живу с вами, а все угомону нет. Вот и ты туда же, – с грустинкой пробасил он.
– А ты не серчай. Ни хочешь о себе – не надо. Давай о другом.
Гость чуть откачнулся назад.
– Знаю я про те слушки: и в белые офицеры из армии Колчака меня зачисляли, и в политические, и в каторжане, да хоть не трогают пока и то ладно.
Дед пустил к потолку синеватое облачко дыма.
– Если бы ты не лечил скотину, не костоправил, слушками бы дело не обошлось…
Что-то подрагивало у меня в душе, тянуло тревожные мысли к не связным образам давнего прошлого: темные окна в наплывах дождя, беспокойство матери, какие-то незнакомые тетки и, наконец, подстриженный наголо отец, радость его появления…
– И на том, как говорят, спасибо. – Гость поднялся, потряс бородой, почему-то глянул в угол, где у нас висела прокопченная почти до черноты икона и, сутулясь, полез из-за стола. – Благодарствую за угощение, Данила. – Он чуть помедлил. – А любопытство свое припрячь пока. О другом тревожься: вон какая погибель пол-России накрыла. Сибиряков наших сколь полегло – похоронка за похоронкой. Утром две в сельсовет принесли… – Бородач еще что-то говорил, но мою душу так встряхнули его последние слова, что глаза затуманились, и разговор их я воспринимал только, как звуки, не улавливая смысла: про похоронку уже слышалось – понимал, что она значит. Унесли меня воспоминания на жаркий перрон городского вокзала. Вроде бы даже музыку я уловил, ту тревожно прощальную…
* * *
Дед еще и папиросу не докурил после того, как ушел от нас странный гость, как появился – Паша, с холщовой сумочкой через плечо, весь обсыпанный снегом, и остановился в дверях.
– Где Ленька? – не успев оглядеться, начал он и попытался влезть на припечек.
Я притаился на полатях, кося одним глазом в промежуток между занавеской и матицей.
Редко стал приходить ко мне Паша. Времени ему на игры не оставалось – один в хозяйстве: и корову напоить, накормить, и дров натаскать, тепло в избушке поддерживать – мать-то его с раннего утра и до темна на работе, а еще уроки…
– На полатях твой друг валяется, а ты только из школы?
– Оттуда. – Паша отмахнул шапкой занавеску, заглядывая в сумрак полатей.
– Ав, – гаркнул я из угла. Да так громко, что Паша откачнулся. Ловко и быстро снял он валенки и нырнул ко мне на полати. Пришлось отдергивать коленки от его ледяных ног.
– На улице снежище валит, – щекотал мне ухо друг, изрядно согревшись в нашей возне, – пойдем, поиграем. Знаешь, как забавно в буран прятаться!..
* * *
Снег шел удивительно тихо, опускаясь на землю легкими, почти невесомыми пушинками, да так плотно, что, кроме густо мельтешивших хлопьев, ничего не было видно даже в нескольких шагах.
Паша нырнул за ограду и исчез. Я за ним. И тут послышались какие-то крики. Замаячили в белизне бурана люди.
– Драка, что ли? – толкнул меня под бок появившийся откуда-то Паша.
Но я увидел неодетую, растрепанную женщину. Она бежала, размахивая руками, и что-то кричала, хватаясь за голову. За ней еще кто-то маячил. Сердечко сжалось в тревожном предчувствии, ноги будто утонули в рыхлом снегу. Несвязные мысли метнулись: что это? Почему?..
Женщина вдруг упала, ни то поскользнувшись, ни то в бессилии, а те, сзади, их было двое, подхватили ее и стали поднимать. Крики, суматоха, мелькание ног и рук. В непонятной той кутерьме появилась какая-то девчонка, пронзительно, с плачем заголосила:
– Мамочка, миленькая, не надо! Миленькая…
Высокий, до надрыва, ее голос словно ножом полосонул по сердцу, непонятный страх опахнул голову. Я почувствовал, как Паша качнулся ко мне, и со звоном в ушах услышал:
– Похоронку, видно, получили…
Я затрясся от непонятного озноба, и не до игры стало…
После еще долго звенели в моих ушах пронзительные крики девчонки и билась в душе не проходящая тревога…
5
– Вставай, вставай! – кто-то щекотно зашептал мне в ухо.
Я, еще не совсем проснувшись, понял, что это Шура: только от нее пахло сухим березовым листом – она всегда мыла голову той водой, в которой распаривали веники.
– Вставай, папка твой пришел!
Вмиг отрезало сон. Гулко, с радостным содроганием екнуло сердце, в голове пошел звон: «Дождался! На побывку? А может, совсем?..»
– Вчера ночью пришел, когда ты спал, – все шептала Шура. – В кухне вон, умывается. Иди скорее…
Ознобило меня с головы до ног. Горло перехватило от волнения. «Что делать? Как себя вести?.. Что сказать?..»
Обостренным слухом я уловил мужские голоса в кухне: один глуховатый – дедов, другой живее – чужой, незнакомый. Мелькнуло сомнение: голос-то не отцов. Но душа не приняла этого колебания – мало ли что могло произойти с его голосом за такое время. Стеснительная нерешительность сковала мои действия: ноги никак не попадали в штанины, рукава рубахи путались…
– Побыстрее ты! – торопила Шура. – Чего возишься!
А меня трясло. Тихо, с робкой осторожностью приоткрыл я двери в кухню: пахнуло чем-то печеным, жареным, табачным дымом. На лавке, спиной к дверям, сидел дедушка; в кутке, у печи, возилась мать; Кольша стоял и смотрел в окно. Больше никого не было. «Обманула!» – Кровь толкнулась в виски, но слабый запах одеколона уловил я и шире распахнул двери. У рукомойника, нагнувшись, стоял какой-то мужчина в галифе и хромовых сапогах. Медленно, ни на кого не глядя, я сделал несколько шагов в его сторону и увидел незнакомое лицо, чужие улыбчивые глаза. Жгучее разочарование поразило меня острой обидой. Каким-то чудом я успел развернуться, подлететь к кровати и упасть на нее тупым обрубком. Осчастливленное светлым известием мое сердце не вынесло столь подлого обмана, горькие слезы ожгли глаза. Они почти душили меня своей непрерывностью и обилием. Еще никогда в жизни я так не убивался и, возможно, не стал бы плакать сильнее, даже получив более страшное известие. На пределе остроты были тогда мои детские чувства, и вряд ли в более позднем возрасте можно так тонко дрожать, страдая, ибо все познаваемое впервые проявляется ярче и сильнее…
– Ты это чего? – затряс меня дед с тревогой в голосе. Я не слышал, как он подошел.
– Это я виновата, – загнусила Шура, всхлипывая, видно, испугавшись моих горьких рыданий. – Я сказала, что отец его пришел, а он поверил…
– Разве так шутят! – повысил голос дед. – Вожжей захотела!..
– Как дам сейчас! – Это уже Кольша вмешался.
И пошло, и поехало! Слезы, и крики, и суматоха, и, как не странно, мне вдруг полегчало: откатилась зыбкая волна душевного надрыва, погасла горечь утраченных желаний, проклюнулось легкое беспокойство: «Что же я натворил!.. Шум такой поднялся…»
Что-то теплое упало мне на щеку. Я почувствовал легкую ладонь матери и вовсе замер.
– Успокойся, сынок, успокойся. – Она стала гладить меня по голове, а с этим поглаживанием потянулась и моя душа на светлый настрой.
– Не расстраивайся, – это уже чужой голос раздался где-то рядом, – будешь еще встречать своего отца. Я-то на побывку прибыл, по ранению, – как бы оправдывался передо мной незнакомец. – В свою деревню тороплюсь, да ночь в дороге застала. Вот и пришлось у вас остановиться. Дедушка твой пригласил. – Голос его звучал тихо, душевно, с каким-то оттенком виноватости. Я уловил это и еще больше застыдился своей слабости. – Возьми-ка вот складничок трофейный, на память. Будешь им карандаши подтачивать…
Скосил я глаза, посмотрел в щелку между пальцами. Военный держал в руке маленький ножичек с перламутровой ручкой. От такого подарка разве откажешься. Да как его брать без одобрения взрослых. И дед будто понял мою нерешительность, подмигнул с хитрецой:
– Бери, бери, коль дают…
А потом был сытный завтрак, и я, хлебая наваристые щи, не поднимал глаз, стыдясь своей недавней слабости. Утешало одно: в кармане штанов лежал особый подарок.
* * *
Когда мы остались вдвоем, дед достал из-под матицы ружье, протер тряпкой и предложил:
– Давай прогуляемся до первых лесков, в ивняки, – авось кого-нибудь подстрелим. На улице хотя и поземка, но не холодно. Зверье в такую погоду поспать любит. Может, зайчишку вытропим или лиса…
О такой прогулке можно было лишь мечтать! Скорее за одежду и валенки!
Снег, выпавший ночью, сгонялся ветром в укромные места, и по затишью натянуло сыпучие наносы. Мягко и вязко. И все же, прячась за дедову спину, я бежал хотя и вприпрыжку, но с особой легкостью, поднятой раздумьем о предстоящей охоте, и не заметил, как впереди поднялись густые тальники с редкими деревьями. Дед с ходу остановился и начал разглядывать что-то на снегу.
– Вот и напетляла здесь длиннохвостая, – обрадовался он непонятно чему. – Хотя поземка и припудрила стежку, а все видно – недавний след.
В снегу просматривались неглубокие лунки.
– Может, это собаки набегали, – усомнился я в дедовом утверждении.
– Следок мельче собачьего и продолговатый. Лис это. – Дед пошел ходко, и я стал не успевать за ним. – Ты иди-ка вон туда, в кусты, – крикнул он. – Постой, погляди. Я скоро…
В ивняке было тише и теплее. Напористый ветер не пробивал густые куртины подлеска и не знобил.
То торопясь, то робко шагая, дед кружил по полю, топтался на месте, поглядывал на ивняки. Казалось, что он забыл про меня и будет выслеживать хитрого зверя слишком долго. Медленно, исподволь подступало желание побежать к нему, объявиться. Но дед, когда я вышел на край пахоты, вдруг призывно замахал варежкой.
Пришлось поторопиться. Несколько раз я спотыкался о стылые комья земли.
– Чего мчишься как угорелый, – пожурил дед. – В охоте, малый, спешка ни к чему – одни неприятности. Посмотри-ка, где плутовка укрылась! На самой опушке, в чаще. Сейчас я ее разбужу!..
В тальниках, забитых мягким снегом, я заметил какое-то рыжее пятно и понял, что это лисица. Сильный ветер с поземкой убаюкал ее, и не слышала она нас, и не видела…
– А как ты к ней подберешься, дедушка? – Хотя и новичком был я в поле, но все же понимал, что дикий зверь так просто охотника не подпустит.
– Сумею. Особый прием есть. – Он быстро снял валенок, другой. – Ты побудь здесь, подержи пимы, а когда покличу – принесешь их…
Я оторопел, глядя, как дед увязывает на ногах концы портянок.
– Ты ведь ноги обморозишь! У меня в валенках и то озябли.
Дед отмахнулся.
– Я скоро. В шерстяных носках и портянках ничего не будет, а зверь меня не услышит… – Он подобрал полы шубейки и смешно запрыгал по гребням пахоты.
Забылось про бьющий в лицо ветер, про холод. С трепетным волнением следил я за охотником.
Странно, но дед бежал не к затаившейся в чаще лисице, а куда-то в сторону. Мне показалось даже, что он не видел зверя. Но, проскакав до кромки кустов, дед сразу остановился и, вскинув ружье, пронзительно свистнул.
Лисица взметнулась пламенем над сугробом. Хлопнул выстрел. Я увидел, как зверь застрял в ветках и затих. Какие там валенки! Какие призывы! Понесся я в горячке к кустам напрямую и с размаху влетел в глубокую борозду – лицом в снег. Жгучая его россыпь плеснулась в глаза, уши, под шею, за воротник, немного остудив и отрезвив меня.
Пока я поднимался и стряхивал с себя весь этот холодный выплеск, дед успел надеть валенки и вернуться. Вместе мы и кинулись к подстреленной лисице. Небрежным пинком дед выбросил ее из тальника, и тут же зверюга махнула за куст, прямо на меня. А до страха ли, когда добыча уходит?! Словно подброшенный пружинами, сиганул я за ней и успел ухватить лисицу за хвост. Резко изогнувшись, она цапнула меня за локоть. На миг в руку вкогтилась боль, и я разжал пальцы. Роскошный хвост метнулся вверх, замелькал в кустах. Миг – и надо мной громыхнул выстрел. В ушах зазвенели колокольчики. Дед поднял меня, с тревогой заглянул в лицо, что-то спросил. Одно ухо отошло, уловило его слова:
– …Шибко прокусила?!
Как тут проявить слабость: охота – есть охота, и я покрутил головой, вытряхивая из рукавов снежные хлопья.
– Притворилась, что ли, бестия, или оглушил я ее вначале.
Лисица лежала неподалеку, уткнувшись мордой в снег, и радость притупила слабую боль в руке, тревогу о возможной промашке. Дед хлопнул меня по загорбку:
– Ну ничего, дома разберемся. Молодец: пострадал, зато, смотри, какую красавицу заполевали! Заготовитель за нее хорошо отоварит: керосину даст, ситцу, мелочевки всякой… А не придержи ты ее – я бы берданку перезарядить не успел – только б хвостатую и видели. – Он пошел к лисице и поднял ее. Огнем полыхнула над снегом рыжая шубка, и я окончательно успокоился, отдаваясь сладкому чувству удачи, доброй похвале деда, и даже потеплело вроде в поле, и день показался не таким уж хмурым и печальным.
6
Зима не торопилась с морозами, хотя и хмурилась, подбрасывала снегу, а силы не набирала. Дед даже сетовал, вздыхая: «Пора уж гусей забивать, да мясо по такой погоде не застынет. И корм на исходе…» А для нас, огольцов, мягкие дни – благодать: играй себе в войну на задворках или в сенниках, пока не стемнеет. Впереди еще столько нежданного-негаданного. Дух захватывало от разговора взрослых про беспредельность сибирской зимы, жгучести ее холодов, необъятности сугробов….
Раза два-три мы с Пашей были у Антохи Михеева, по уличному – Варькина, и всякий раз заставали его на печке, в игре с тараканами. Позже ему и кличку дали – Таракан. А тут пришли как раз в то время, когда вся его семья: бабка, мать, две сестренки – усаживалась за стол обедать. Нам бы уйти, чтоб хозяев не смущать и самим не стыдиться, да на улице ждать зябко, и пес у них, что зверюга – неймется ему и в холод из будки вылезать. Остановились мы у дверей, оперлись на косяки, а все Михеевы, не обращая на нас внимания, стали размеренно креститься, что-то нашептывая. Паша ткнул меня локтем под бок и кивнул: смотри мол, что они вытворяют.
Память моя держала нечто знакомое, тем не менее я удивился. У деда хотя и висели иконы, но он не молился и нас не заставлял. Как-то раз я его спросил: «Есть ли Бог?» Он уклончиво ответил: «Есть ли – нет, не нам судить. Ты слушать – слушай, глядеть – гляди, но сам никогда не касайся божьего дела. Ни плохими словами, ни худыми мыслями, ни плохим поступком…» Помня наказ, я не поддержал Пашину иронию, отвернулся, и расхотелось мне играть в войну, убивать кого-то – пусть нарочно – или самому быть убитому. Опять отец вспомнился, проводы… Толкнул я Пашу и торкнулся в двери. Он, чуть помедлив, – за мной.
– Видал, пережитки разводят! – Паша теснил меня плечом в быстром шаге, когда мы, под злобный рык неугомонного пса, выбежали на улицу. – Нам учительница в школе говорила, что никакого Бога нет. Вранье все, темнота…
Не нашелся я, что сказать другу, лишь промолчал.
– Ладно. В следующий раз лучше Мишаню выманем играть, – понял Паша мое молчание по-своему, как согласие, и побежал домой. А я в свою избу…
– Ты где полкаешь? – Шура тихонько толкнула меня в плечо, когда я стал раздеваться. – Твой отец фотокарточку прислал!
Я еще с порога заметил, что мать какая-то необычно веселая, и кинулся к ней.
– Где письмо, маманя?
– Да вон на полке. – Глаза ее светились радостью. – Поел бы вначале – потом глядел.
– Не-е, покажи!
Мать достала узенький конверт, вынула из него фотографию.
С дрожью в руках я поднял ее к глазам: группа военных у леса, а среди них, впереди – отец, показывает куда-то рукой. В военной одежде он здорово изменился, но я сразу узнал родное лицо. «Командир!.. – Гордость теплой волной тронула душу. – А как иначе – он же офицер?! Как говорила мамуля: воевал еще в какую-то “финскую”…»
Отец стоял в близком окружении слушавших его людей, с сумкой через плечо, с бумагой в руках – дед сказал, что это карта местности. «Видно, там, куда он показывал, фашисты и скоро будет бой…» Остро и как никогда свежо, насколько позволяли знания, представил я напряженность, даже трагизм той далекой, теперь уже свершившейся обстановки. Представил, что кто-то из отцовского окружения, наверное, погиб в том, неподдающемуся исчислению бою, а сколько их еще будет? И как уцелеть в них отцу, командиру?! Он же впереди!..» Зачастило сердечко, и лица людей на фотографии стали расплываться, и чтобы не показать жгучего волнения, я, молча, протянул ее матери.
– Давайте вечерять, – то ли понял мое состояние дед и решил отвлечь от горьких мыслей, то ли в самом деле время ужина подошло, но его слова спугнули сполохи воображения, унесшего меня в страшную виртуальность. Промелькнули там в какой-то зыби санитарные машины с красными крестами, люди в окровавленных бинтах и растворились… Тихо полез я на свое место за столом, в угол, как раз под икону. Рядом со мной уселся Кольша, напротив дед, а Шура сбоку, поближе к матери.
Свежие, упревшие в печке щи были особенно вкусными, с гусятиной – забил все же дед одного гусака на пробу. В общей большой чашке густо плавали мелкие куски мяса, и каждый из нас поддевал себе на ложку какой-нибудь кусочек, но с оглядкой на других, как бы по очереди, совестливо, чтобы не выловить лишнего, не показаться бесчестным, лишенным всякого уважения, хапугой. Порядок этот, установленный дедом, мы чтили беспрекословно и ели спокойно, в полной тишине – лишь ложки постукивали о края чашки, да смачное чмоканье кого-нибудь из нас, при обсасывании попавшейся косточки, раздавалось изредка, но и при этом дед хмурился, а иногда и одергивал чересчур увлекшегося этим удовольствием едока. И с первых же дней пребывания в деревне я четко усвоил, что за столом нельзя разговаривать, смеяться, кривить рожу, чваниться и вообще заниматься чем-либо другим, кроме еды…
Сосредоточив внимание на чашке с едой, чтобы не упустить своего момента и дотянуться до нее в очередной раз, я все же заметил, что Шура стала орудовать ложкой чаще обычного, нарушая общий ритм застолья. Вероятно, она куда-то торопилась, может к подругам, и хотела быстрее наесться.
– Опять частишь! – осадил ее дед, но ложкой не замахнулся, и никто не проронил ни слова по этому поводу – слова были лишними.
7
В пространстве, ограниченном дедовой избой, оградой и ближайшим размахом нашей улицы, я мало встречал чужих людей, и судил о многом по настроению и разговору своих близких. Но трепетное слово: «Победа!» – высветилось в моем сознании как бы само собой, из иных, близких по смыслу понятий, иного разговора.
Первым, с улыбкой во все лицо, появился Кольша. Кинув сумку на сундук, стоявший у двери и заменявший и бельевой шкаф, и скамейку для приходивших к нам людей, он оглоушил и меня, и деда:
– Дали наши фашистам по сопатке! Расколошматили их главную армию под Москвой! Километров сто драпали!..
Дед, свивавший какие-то веревки посредине кухни, сразу бросил свое занятие.
– Эт-то, малый, ты откуда узнал?!
– Так учителя в школе сказали, и директор с уроков всех отпустил…
– Чуяло мое сердце, что рано или поздно обрежут германцу постромки, завязнут они в наших землях, – дед стал отряхивать руки, стуча ладонью о ладонь. – А то ишь вздыбились со своим норовом. Мы хотя и недавно лапти скинули, а в штыковую сойдемся, помню, и самураи от нас пятками сверкали.
– Что за постромки? – Дедово сравнение было для меня непонятным.
– В упряжи, у лошадей, с их помощью бричка тянется. Видел, когда зерно возили.
Кольша улыбался, понимая мое незнание простых деревенских вещей.
– Пора бы уже всю упряжь изучить, – пожурил он, – не маленький. Летом сам запрягать лошадей будешь.
– Ну и буду…
– Надо бы про новость Прокопке сообщить – пусть душу облегчит – у него там сын Илюшка погиб…
– А ты пойдешь со мной на карусель? – Кольша торопился, переобуваясь.
Да разве от такого отказываются?! Но без разрешения матери я не мог уходить из дома, даже со старшими.
– Потом. Я маманю подожду.
И, словно по моему хотению, стукнула дверь в сенцах, и в следующий момент в избу вошла мать. Лицо румяное, а глаза красные.
– Мокроглазили, что ли? – утягивая полушубок опояской, нахмурился дед. – Людям радость, а вам все носы в платок.
– Так и плакали от радости. Вспоминали…
Не очень-то вникал я в разговор взрослых, дрожа от непонятного волнения, поднявшего меня на светлый настрой вместе со всеми. Разве объяснить глубину тех чувств, которые приходят сами собой в особых, неподвластных разуму случаях? С легкой веселостью крутился я возле родных мне людей, словно отключившись в некой нереальности от всех своих прежних желаний. Даже про карусель забылось. Слова, слова в зыбком трепете проникновенных звуков, солнечно ласковых, почти нереальных…
Снова послышалась возня в сенцах: кто-то обметал старым полынным веником обувь. Печально вздохнула тяжелая дверь в избу – холод метнулся над полом курчавым облачком, и на пороге появился Степа.
– Здорово были! – с улыбкой выкрикнул он. – Слышали?
– Здорово, – отозвался дед, – проходи, порадуемся вместе.
– Значит, слышали. Теперь попрут наши мухоморов! – Степа дернул меня за нос. – Ну что, накопил силенок, сидя на печке?
Я не ответил, спешно одеваясь и пытаясь понять его слова про мухоморов.
Дед, поглядывая на меня с веселым прищуром и теребя усы, пообещал:
– Зайду и я посмотреть на эту карусель, все одно по пути…
* * *
Снег светился, играя искрами, слепил глаза, отвыкшие в сумрачной избе от обвального света, и я щурился, стараясь спрятаться от этого блеска за деда, шагавшего широко и размеренно. Кольша со Степой убежали от нас, едва выскочив за ограду, и вскоре их не стало видно.
Широкая улица с набитыми тропками вдоль дворов и рыжеющей от санного наката дорогой была тиха и безлюдна во всем своем развороте, лишь с дальнего края доносились легкие всплески веселого гомона. Ежась с непривычки даже от небольшого мороза, я млел от оглушавших своей пронзительностью мыслей. То затаивая сердечный трепет в предчувствии близкого карусельного буйства, то уносясь с ним в безбрежность виртуальной игры, в грозовых всполохах которой ликовала не только наша деревня, но и оставшийся за горизонтом город, и недоступные воображению дали, и некая бездонная глубина.
Усилившиеся крики и хохот за поворотом узкого переулка спугнули радужный наплыв нереальности, и я заторопился, поняв, что эта веселая канитель связана с каруселью, и попытался обойти деда.
Он оглянулся с усмешкой:
– Не рвись. Без меня ты и к кругу не пробьешься, да еще и санками зашибить могут…
Орава ребят гуртилась в широком проеме между двумя дворами и трудно было разглядеть, что там происходит. Хохот, свист, крики, беготня… Лишь когда тропинка поднялась на бугор, оставшийся от развалин чьей-то усадьбы, я смог увидеть тележное колесо, вращающееся на низком столбе, и отходящую от нее длинную жердь с санками на конце. Колесо крутили за прикрепленный к нему толстый березовый обрубок несколько человек. Санки, с кем-то из смельчаков, носились по кругу с такой быстротой, что взгляд не успевал за ними. Белые фонтаны снега взметались из-под полозьев на крутых виражах, обсыпая толпу. Широко раскатанный желоб круга то вздымал санки на тот или иной гребень вала, почти опрокидывая их набок, то утягивал в узкую, будто очерченную огромным циркулем, выбоину с редкими полосками стылой земли. Буйно и знобко до замирания сердца.
– Ишь как бесится ребятня, – кивнул дед на широкий разворот карусельной площадки, будто поняв мои ощущения. – Так и покалечится недолго…
И словно подтверждая его слова, санки с лежащим на них человеком вдруг взыграли в каком-то невероятном подскоке и опрокинулись вверх полозьями. Ездок оказался под ними и еще несколько шагов скользил юзом по льдистому накату.
– Вот так! – Дед сплюнул. – Спустит последнюю одежонку чей-то оболтус, да еще и ребра себе посчитает.
Большого недовольства в его голосе я все же не уловил, и мы спустились с бугра. Ребятня перед дедом расступилась, открывая взгляду всю карусельную площадку. Как раз в это время на санки мостился Степа, упираясь ногами в головки полозьев. И я, опережая деда, подался к самому краю накатанного желоба.
Налегли пацаны на слегу-водило – подалось колесо во вращении вместе с качнувшейся жердью, дернулись санки и раскатились: быстрее и быстрее. Меня даже ветром обдало, когда они пронеслись мимо. Вроде и не быстро крутили ребята колесо, а санки за один оборот обегали несравнимый с его ободом круг, и не успел я проморгаться от первых крупиц снега, как в лицо мне ударило такой россыпью твердого наста, что пришлось зажмуриться. А когда я открыл глаза, Степа уже поднимался из сугроба, отряхиваясь под дикий хохот и крики толпы.
– Дайте-ка мне старые кости размять! – вдруг крикнул дед, шагнув на круг.
Я опешил и даже сказать ничего не успел, как он очутился возле санок.
– Не ушибем, дядя? – крикнул кто-то.
– А вы потише. – Дед, не торопясь, с оглядкой лег на санки животом и крепко ухватился за гнутые головки полозьев.
Затаилось что-то в груди – будто не дед, а я сам вжался в стылые вязки салазок, даже скулы свело от напряжения, а те, что крутили карусель, заорали, засвистели и дружно поперли на слегу плотной гурьбой. Санки резко рванулись за чуть прогнувшимся концом жердины и заметались по желобу, заскребли льдистый накат, цепляя грядками снег на обочине площадки. И все в стремительном вихре головокружительного разгона, на грани опасного переворота.
Эх, дед, дед! Не на коня уросливого вскочил ты, а на неуправляемые, без живинки, салазки, зашибиться с которых в этой бешеной круговерти дважды два. И зачем так рисковать? Да еще и старику… Остро метались мысли в тревоге за деда. Даже за санками не успевал я следить, потеряв счет описанных ими кругов. Уловил я лишь тот момент, когда они вдруг отлетели от жердины в крутом раскате и ринулись на бруствер круга, переворачиваясь. В густом облаке снега барахтался дед, пытаясь подняться, и жуть ознобила спину: вдруг расшибся. Но дед живо справился с глубоким сугробом, и я увидел его красное, в тонкой наледи, лицо с белыми, как у Деда Мороза бровями, озорные глаза, широко разинутый рот под обвисшими усами в мелких сосульках, и смех сотряс все мое ослабевшее тело. Кольша и Степа кинулись к нему, помогая подняться, и я смело пересек укатанную и утоптанную площадку, направляясь к ним.
– Вот тебе и дед! – послышался чей-то возглас. – Шесть кругов отмотал и удержался.
– Вязка оборвалась, а то бы мы его все равно сковырнули…
Легкость и светлая радость залили душу: вот какой у меня дед! Смелый и сильный!
– Чего полез-то? – неодобрительно выговаривал ему Кольша, отряхивая с полушубка густой налет снега.
– Так проверить дух свой захотелось, – как бы оправдывался дед. – Давно на таком пределе не был.
– А если бы поводок не оборвался?
– Оборвался – не оборвался, – дед поправил шапку, – не в этом дело. Главное – на сердце посветлело. – Он потуже затянул опояску. – Ладно, вы тут кувыркайтесь, а я пойду, куда наладился. Да смотри за Ленькой. Ему еще рано на карусель…
Дед ушел, а я еще долго бегал в толпе зевак следом за Кольшей и Степой, орал, смеялся, прыгал в восторге, даже покрутил колесо вместе со всеми, но на санки так и не сел, хотя Степа не раз подстрекал меня на это и Кольша помалкивал. Я не только помнил наказ деда, но и просто еще боялся.
8
Через несколько дней с северов потянуло таким лютым дыханием, что носа не высунуть. Даже дед чаще обычного забегал в избу погреться, развязывая опояску, стягивающую полушубок, и обрывая с усов наледь. А мне и вовсе было заказано выходить на улицу. Да и в избе к середине дня становилось прохладно.
Дед принес из сарая маленькую железную печурку на тоненьких ножках и с длинной круглой трубой, изогнутой коленом.
– Вот и душегрейка, – с деловой веселостью пояснил он. – Сейчас установим ее рядом с печкой и живи не тужи – от пары поленьев тепло будет.
– А куда дым пойдет? – недоумевал я.
– Туда же, в общую трубу. Видишь там дырку заткнутую кляпом? Вот и воткнем в нее колено от железной печки.
Из горницы выскочила Шура, недавно вернувшаяся из школы.
– Ломтиков напечем! – Она кинулась в закуток, задвигала там ведра.
Дед обтер тряпкой отпотевшую печурку и стал возиться с трубой.
– Клади-ка в нее полешка три-четыре, – обернулся он ко мне, – а я щепок натешу.
Охапка березовых дров всегда лежала в нише, у припечка, приготовленная для утренней топки. Выбрав поленья потоньше, я открыл маленькую дверцу печурки и положил их в пахнущее ржавым железом и золой нутро.
Дед сунул туда же наструганную щепу с лоскутком бересты. Огонек от спички весело побежал по закрутившейся в трубочку бересте, лизнул щепку. Дверца захлопнулась. В маленькие ее отверстия было видно, как сильнее и сильнее разгорается пламя. Потянуло от печурки теплом. Она мягко загудела.
– Порядок! – Дед приподнялся с колен. – Теперь не допустим, чтобы изба выстывала.
– А вот и ломтики! – Шура стала накладывать на покатые бока печурки картофельные пятачки. – Пусть поджарятся!
Вкусно запахло печеным картофелем. Даже есть захотелось.
– И скоро они будут готовы?
– Сейчас переверну и все: только следи – отставать начнут и отваливаться. Прозеваешь – на пол шлепнутся.
Дрогнул один из ломтиков, пополз вниз, и я успел его поймать.
Горячий, поджаристый, он захрустел на зубах тонкой корочкой. Вкуснятина!
Глава 5. Свои люди
1
Ближе к Новому году накатились такие непроглядные метели, что за окнами, с наледью по краям стекол, дальше палисадника ничего не было видно, и весь короткий день в избе стояли сумерки. Дед приходил с улицы облепленный снегом и подолгу курил, о чем-то думая с отрешенным взглядом, даже со мной не разговаривал. В такие минуты и мне становилось грустно. Мыслилось с каким-то невероятным перескоком. То в мареве воображения рисовался город в тесноте упрятанных за дощатыми заборами дворов; то черная громада паровоза с зелеными вагончиками и бегущие за ними люди; то дед, запряженный в плуг толстопузым недругом; то война, которую я не видел даже в кино, но как-то представлял по разговорам взрослых…
Чаще всего лежал я тогда на полатях, снова и снова разглядывая изученные до каждой трещинки потолочные доски, и думал, думал… Но были и другие минуты, когда дед вдруг оживлялся и начинал снова что-нибудь рассказывать по моей просьбе, и нас обоих уносило в те далекие времена, когда деревня только-только расстраивалась, когда прибывали и прибывали люди из далеких российских краев в эти полудикие сибирские просторы, когда было другое время, другая эпоха… И хотя не все понималось в той сложной жизненной путанице, но я не перебивал увлекавшегося деда, притаившись и боясь спугнуть то сладостное состояние, в которое уносило меня светлое воображение…
– Я, ведь малый Ленька, – как-то начал дед, – в твои годы уже боронил. Когда дед сгинул, отец не стал ходить на заработки, а взял у нашего помещика положенный надел и десятин семь-восемь издольщины на половину урожая. Мне, как самому старшему в семье, приходилось свою землю обрабатывать, а тятька на аренде трудился.
И хотя наша пашня была шириной всего-то в триста с добавкой лаптей и длиной чуть больше, походи-ка по пахоте босым. К концу работы ноги не гнулись, круги шли перед глазами, а попробуй – не сделай вовремя: лошадь-то на оговоренный срок давали. Вот и борони на себе, если не успеешь за отведенный день управиться.
Года два-три мы кое-как перебивались: и себе на зиму, хотя и не досыта, хлебца хватало, и с барином за издольщину рассчитывались, а потом недород. Что делать? Как шесть душ кормить и отдавать издольщину? Да и привлечь могли за недоимку. Тут многие засобирались в Сибирь переселяться, на вольные земли. Ну и отец тем же загорелся. Кое-как с долгом справились, отдав последнее и заложив паевую землю. Бумаги нужные к весне выхлопотали и в дорогу. Телег пятнадцать сельчан набралось. А чего было жалеть? Курную землянку да пару десятин малоурожайной земли? Даже родни близкой не оставалось. В тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году это было – запомнил потому, что мне тогда десять лет минуло. До сих пор снятся наши мытарства. Чего только не пришлось пережить на постоялых дворах! От вшивости и голода до болезней – сестренка двух лет умерла в дороге, а другая – постарше – простудившись, оглохла. И грабили нас злые люди, последний скарб отбирали, лошадей, и драки были лихие, только артелью и выстаивали. Приходилось и подаянье просить. Худо-бедно, к концу лета прибыли скопом до Омска, а оттуда нас направили в Алтайский округ. Еще чуть ли не месяц добирались до отведенного участка. А там, куда ни кинь взгляд, – степь и степь, ни деревца, ни кустика, одни травы в ковылях колышутся и до волостного села верст двадцать. Не приглянулось многим тогда то место, но время поджимало: пока тепло, надо было как-то обустраиваться. Стали землянки рыть, дерном обкладывать. Сохранившимся лошадям загон из камышей сделали. И всё сообща, миром: от малого до старого были в посильной работе. В одиночку, и даже семьёй, тех дел не переделаешь. Успели к осенней распутице на толику денежного пособия закупить кое-каких съестных припасов и притаились в ожидании зимы. А она пришла неожиданно, почти на месяц раньше расейской. Да и закутила-замутила, где кого захватила – там и живи: белого света не видно было дня три. Кое-как отлежались в своих берлогах. А потом мороз скрутил степь, да такой, что до ветру не выйти…
2
Заголубело небо, осветилось ярким солнышком, и зачастили морозы. Окна покрылись замысловатыми рисунками, похожими на тропические дебри, которые я видел на картинках в одном из учебников. Такие правдивые, словно сотворил их неведомый художник. Спросил я об этом у деда, но и он не смог объяснить, как они получаются, кто, тесня льдистые кристаллики к кристаллику, выкраивал реальную вязь кружевных узоров…
В самый последний день года помягчило, обжигающий яркостью окоём затянуло мороком, снежная пыльца обсыпала дворовые постройки, и они побелели, словно облитые молоком…
Маманя вынимала из печки большие пироги с курятиной. Запах теплого печеного хлеба смешанный с тонким мясным ароматом плыл по избе, выжимая слюнки.
– Один с собой возьмем, – улыбчиво говорила она, – а другой оставим для дома.
По случаю Нового года они с дедом собирались куда-то в гости, а нас с Шурой оставляли домовничать, одних – Кольша, управившись со скотиной, убежал на свои игры.
– Щи я с краю поставила, ужинайте, – наказывала матушка, – да не балуйтесь. Ты, Шура, за домохозяйку, гляди тут…
Оставшись вдвоем, мы с Шурой долго смотрели в темнеющие окна: она в одно, я – в другое, пока темные силуэты деда и матери не растаяли в легких дворовых тенях.
– А вон кто-то побежал белый, с собачку, – вдруг начала дрожащим голосом Шура.
– Где? – Я притаил дыхание.
– Вон, вон, на дорожке от пустыря.
Между разворотом дальних дворов окраины и нашей улицей тянулся широкий прогал в буграх и яминах, и я, не моргая, стал вглядываться в белесую пелену снега, облитую тонкими переливами света, и там, у одного из бугров вроде бы действительно кто-то стал шевелиться.
– Кто это? – едва разжал я сведенные судорогой челюсти.
– Откуда я знаю, – еще тише, с придыханием, отозвалась Шура. – Ты бабку Варькину знаешь?
Память высветила полутемную кухню в избе Антохи Михеева, древнюю старуху у окна, теребящую шерсть, тараканов…
– Говорят, она колдунья, – не дождавшись моего ответа, добавила Шура.
– Скажешь. Мы с Пашей видели, как она крестится.
– Это для отвода глаз. Кольша прошлым летом, когда пошел на охоту в самую рань, заметил ее бегающую за огородами в ночной рубашке.
– Ну и что? – пытался я прогнать душевный холодок. – Может, она от чего-нибудь лечилась.
– Как же. – Шура тряхнула кудлатой головой. – А в свинью зачем превращаться?
Это было уже выше всякой игры, воспринимаемой подсознательно, выше потаенного страха, за пределами привычных и непривычных понятий, несуразицей. Но я не успел разгадать в ее словах ни шутки, ни серьезности, как Шура отпрянула от окна и крикнула:
– Скорее выворачивай фитиль! Кто-то ходит в горнице!
Не веря Шуре, я все же кинулся выполнять ее просьбу, выкручивая фитилек лампы на самую малость и с опаской поглядывая на темнеющий дверной проем горницы.
– Выдумываешь все ты – никого там нет. – Голос мой все же дрожал.
– А ты зайди, зайди! – подначивала Шура.
– Ну и зайду! – цепенея, не чувствуя подошвами пола, я сделал шага два и заглянул в горницу: кровать деда, моя, матери… – Ну и никого!
Шура остановилась за спиной.
– А ты знаешь, что колдуны превращаются? Их можно и не увидеть.
– Как это превращаются?
– В зверей всяких. Степин дед рассказывал.
– Он просто шутил.
– С чего бы это? Давай вот поедим, и я расскажу тебе, как нечистого увидеть!
До этого заявления мне казалось, что Шура все же играет, дурачится, а тут, даже при всех сомнениях, жутковато стало.
– Какой-нибудь обман устроишь? – высказал я своё предположение.
– Зачем? Все по-настоящему будет. – Она прошла в куток, вытянула из-за печки ухват и открыла заслонку. На тонких и худых руках Шуры вспухли жиденькие мышцы, четче обозначились синие ниточки вен. Она изогнулась в спине, вытягивая чугун. И тут раздался стук в двери. Мы переглянулись. Я заметил, как у Шуры дрогнули губы.
– Кто-то идет? – прошептала она, нагоняя робости. – Я же сенцы на щеколду закрыла?!
Стук повторился, глухой, настойчивый. Шура сиганула в горницу, а я остался один на один с тенями, пустотой, напряженной жутью…
Опять кто-то заколотил в массивные двери, и, пересиливая сухость во рту, я все же шевельнул языком:
– Кто там?
– Открывай! – прохрипели за дверью, явно коверкая голос. Было в нем что-то неуловимо знакомое, и я чуточку осмелел:
– А ты кто?
– Хозяин! – послышалось, совсем узнаваемо, со смешком.
– Паша?! – Я скинул с петли крючок и распахнул двери.
В сенях стоял Паша и улыбался.
– Что, сдрейфили? – Он ввалился в избу, стряхнул с голых ног валенки. – Я умышленно попугать вас решил.
Из горницы вынырнула Шура. Глаза ее сияли наивной голубизной.
– А как ты сенцы открыл? Я же щеколду задвигала?
– Палочкой-выручалочкой. – Паша щурился. Пухлые его губы растягивались в усмешке.
– Ты играть, что ли? – Я тоже не скрывал радости.
– Мамка ушла Новый год встречать, а мне одному скукота.
– Рассказывай, – Шура усмехнулась. – Поди, тоже домовых боишься?
– Не-е. – Паша отмахнулся. – У нас хозяин добрый.
– Какой еще хозяин? – не понял я друга: он же жил вдвоем с матерью.
– Который в каждом доме имеется, невидимый.
– Что я тебе говорила! – вмешалась в разговор Шура, радуясь.
– Это из сказки, что ли? – недоумевал я, заглядывая Паше в глаза. Но лицо его было серьезным.
– Не знаю, – Паша почему-то смутился, – все так говорят, и маманя тоже.
В окна гляделась густая темнота, а в пустой избе копилась неосознанная тревога, и наш разговор никак не вязался со всем привычным, устоявшимся, понятным.
– Я ему только что про нечистого рассказывала. – Шура потянула на стол чашки и ложки. – Он не верит.
– Ну и правильно, – вдруг поддержал меня Паша, усмехаясь. – Я тоже в них не верю.
– Смеяться каждый может. – Шура оглянулась на темную запечную щель. – А вот хочешь – я тебе покажу этих нечистых?
– Где? – Глаза у Паши все еще искрились веселостью. – Что-нибудь сворожишь?
Шура распахнула двери в горницу – свет от керосиновой лампы упал на чистую беленую стенку.
– Вот на этой стене. – Она говорила полушепотом, с оглядкой и выражением легкого испуга в глазах, отчего у меня холодело в груди.
– Трусишь? – играла Шура на Пашином самолюбии. – А еще храбрым считаешься.
– Боялся я твоих нечистых! – хорохорился Паша. – Давай, показывай!
– Неси шарфик. – Шура подтолкнула меня к вешалке.
Ее затея была непонятной, тревожной, но я вынул из рукава тужурки свой узенький шарф и подал Шуре.
– Садись на кровать! – приказала она Паше, толкнув в плечо. – Обмотай шарфик один раз вокруг шеи и медленно тяни за концы в разные стороны. На стенку гляди, не мигая, в одно место, там и увидишь нечисть.
– Так и задушиться можно, – усомнился Паша в ее загадке.
– Не-е. Сам себя никогда не задушишь, – заверила Шура. – Многие смотрели, и я смотрела. Только не пугайся бесов, они всякие.
– Да ладно, – Паша отмахнулся, – все равно это понарошке. – Он обмотал шею шарфом, оставив справа и слева концы, и стал потихоньку затягивать петлю.
Я замер, наблюдая. Темнота комнаты. Острая тишина. Белая, как бумага, стенка. Тени. Жгучий холодок в груди.
Лицо у Паши медленно наливалось краснотой. Глаза вначале расширились, потом выпучились, по краям белков заблестели слезы.
Я сунулся к нему, но Шура молча придержала меня за руку. В этой позе мы и затаились, тяжелея во взаимной тревоге.
А Паша стал бледнеть и заваливаться набок. Неосмысленный его взгляд уперся куда-то в потолок, и, раскинув руки, Паша упал на кровать без движения.
Я оторопел в жарком испуге: не умер ли? А Шура подскочила к Паше и стала похлопывать его по щекам.
– Очнись, очнись, чего ты! – чуть ли не со слезами лепетала она. – Говорила же, что испугаешься…
«Неужели вправду Паша кого-то увидел и с ним что-то случилось?! – Сердечко мое притихло в жгучей остроте испуга и таинственной неизвестности. – Как же так? Мы ведь никого не заметили на этой самой стене и ничего не слышали? Может, и вправду существует нечто невидимое?!» Мысли путались в тупике безответности, погружая меня в такое противоречие чувств, что происходившее воспринималось каким-то особым, необъяснимым, образом: полуявью, полусном…
Паша открыл глаза, зашевелился. Крупные слезинки скатились по его ожившему лицу, дрогнули губы.
– Лихотит, – вяло произнес он и стал двигать голову к краю кровати.
Шура резво кинулась в кухню за помойной шайкой.
Тревога, тонко дрожащая в моей душе, тут же исчезла. Лишь мысли о той, неопознанной, тайне усилились до напряженного томления…
Пашу рвало недолго. Он встал и молча прошел в кухню.
– Полей, я умоюсь! – приказным тоном обратился он к Шуре.
Та с поспешной готовностью зачерпнула ковшик воды из ведра – под лавкой у нас всегда стояло два-три ведра колодезной воды для домашних нужд.
Паша умывался медленно, со взрослой степенностью, и так же медленно, старательно утирался чистым рушником. Взгляд его скользил мимо нас, будто он сквозь стены видел недоступные нам дали или еще что-то неведомое. Глаза грустные, посуровевшие.
– Ну что видел? – наконец осмелилась спросить Шура.
– Дура ты, – с грубоватой серьезностью заявил Паша, – так и окочуриться можно.
– Живой же. – Шура отвернулась, явно обидевшись.
– Ну скажи, Паша! – не поборол и я мучительного любопытства.
– А ты сам погляди, – испытывал моё нетерпение Паша, – и спрашивать не будешь.
Вспомнив его с выпученными глазами, бледного и вялого, я внутренне вздрогнул.
– Да, чтоб блевать.
– Видел ерунду всякую, – смягчился Паша, поняв мое состояние. – Сначала огонь мелькал, потом разные краски пошли: зеленые, синие, черные – вроде, мохнатое что-то полезло, и я потерял сознание. Только, думаю, что все это оттого, что я перехватил себе дыхалку. Опасно это – умереть можно. – Паша потянулся к вешалке. – Пойдем лучше прогуляемся, пусть Шура со своими нечистыми остается.
* * *
Удивительно звонкой и прозрачной была ночь! Небо глубоко светилось каким-то внутренним светом, в котором вместе с изморозью блесток, растворяющихся в туманной бездонности, иллюзорно плавали искрящиеся брызги вселенского мироздания, глядя на которые ощущаешь тонкий трепет души, несущий ни то неосознанную тревогу, ни то неосознанную благодать. Ни потому ли не сразу отрывается взгляд от захватывающей дух бескрайности? Что там? Где? Как?..
Чернели в белизне сугробов уснувшие дворы. Тонула улица в серой неясности ближних далей, за которыми поднимался размытый звездными отсветами окоем, и широко разворачивалось небо, словно всасывающее всю деревню вместе с округой.
Глушь и безлюдье. Лишь в некоторых домах слабо светились окна, да тихо поскрипывал снег под нашими быстрыми шагами.
Паша заявил, что знает, где отмечают Новый год наши матери, и торопился в тот двор, хотя я и не разделял его намерения, понимая, что вряд ли стоит там появляться без должного разрешения. Но Паша едва ли не бежал, и в этой гонке я никак не мог уловить момент, чтобы высказать ему свои сомнения. Так и мельтешили мы тенями вдоль забитых снегом палисадников, словно играли в догонялки, пока не услышали песню, пробивающуюся через двойные рамы окон.
– От дают! – как выдохнул Паша, останавливаясь. – Я знаю, где у них двери, пошли!
Из глубины двора вдруг выкатилась собака, и я замер, опасаясь её.
– Не бойся, – спокойно заявил все и всех знающий в деревне друг. – Это Пиратка – он не кусачий.
Пес и в самом деле сунулся мне мордой между ног и, вздыбившись, бесцеремонно лизнул лицо. Отстраняясь от него и пятясь за Пашей, я едва не споткнулся о низкое крылечко. Плотная дверь избавила меня от собачьего знакомства, и мы очутились в темных сенях с запахами соленых грибов и квашеной капусты. Паша долго шарил рукой по невидимым дверям, отыскивая скобу. В распахнутый проем рванулся теплый воздух, сдобренный табачным дымом, и ошеломляющая, бьющая в уши до дребезжания перепонок песня.
С затаенным сердцем – не попадет ли – ввалился я вслед за Пашей в избу и на миг прищурился от обилия света.
– Во! Мужики подвалили! – раздался чей-то женский возглас, и песня стала стихать.
– Так это ж наши мужики! – узнал я родной голос, и в тесном застолье разглядел нарядную раскрасневшуюся мать, а рядом с ней и тетку Таю, и деда…
И все, кто сидел к нам спиной, стали оглядываться. Послышались громкие вопросы: кто, да что, да как? И про меня, и про моего отца… И глаза, глаза. Их веселое любопытство кинуло меня в острую неловкость, захотелось рвануть назад, хотя ни одного недоброго взгляда я не уловил.
– Проходите, сынки, проходите! – Полная, улыбчивая старушка будто выкатилась из-за стола, затормошила одной рукой Пашу, другой – меня, расстегивая пуговицы на верхней одежде. – У нас дюже тесновато, но на печке место найдется…
Забеспокоились на своих местах и наши матери, вставая со скамейки.
– А вы сидите, сидите, – махнула им рукой хлопотливая старушка, – не обижу ваших деток…
Теплые её руки касались то моего лица, то рук, и от этих ласковых прикосновений натекала в душу тихая благодать. Вот ведь как получалось: я тревожился, что нам, по меньшей мере, как-то выскажут недовольство за столь внезапное появление, а по большей – спровадят домой, а тут такой радушный прием. И сердечко постукивало в сладком блаженстве, и мысли светлые умиротворяли.
– Лезте на печь, она у нас широкая, – все топталась возле нас добрая старушка, – а я вам туда гостинцев подам…
Высокая, побеленная печь, с приступкой и печурками, задернутая поверху цветастой занавеской, была рядом, и Паша первый шагнул к ней, я – за ним.
– Вот так-то, – глядя, как мы юркнули под занавеску, одобрительно произнесла старушка и двинулась в куток.
Умостившись поближе к трубе, я стал поверх занавески оглядывать сидящих за столами людей, и невольно отметил, что застолье больше пестрит женскими нарядами. Мужиков – реденько, да и то больше пожилых и старых. Зароились мысли, отыскивая в моем еще не окрепшем разуме должный ответ на столь явное несоответствие – в городе, насколько я помнил праздничные торжества, мужчин и женщин почти всегда бывало поровну?..
– Нате-ка вам по гостинчику, – отмахнула своим грудным голосом мои налетные раздумья сердобольная старушка, протягивая под занавеску два широких ломтя хлеба, сдобренных сверху увесистыми кусками холодца. – Потом ватрушечек с клубникой и творогом принесу…
Паша, взяв свой ломоть, многозначительно взглянул на меня, словно догадывался о тех моих сомнениях, которые я не успел ему высказать во время нашего стремительного хода по улице – мол, видишь, как здорово все получилось…
До чего же вкусными были эти немудреные бутерброды! А ватрушки!..
Уплетали мы их с Пашей до самозабвения, даже перестав на какое-то время воспринимать происходившее, и лишь восторженно поглядывали друг на друга.
Но кто-то снова завел песню. Её тут же подхватило несколько голосов. И снова поднялась она с трепетной силой до густого надрыва, забивая все тесное пространство уютной избы и выкатывая в ней каждый потайной уголок и каждую щелочку в поисках выхода. В трех керосиновых лампах, висевших над столами, заколебались язычки пламени, а у меня вновь завибрировали ушные перепонки. Причем, когда я открывал рот, откусывая очередной кусок ватрушки, песня будто глохла, а когда закрывал, жуя, – наоборот, усиливалась, как бы отдаваясь от бревенчатых стен и мокрых, в потных подтеках, окошек. Такое сильное и ладное пение я еще не слышал – в городе так не пели, и напрягался, пытаясь уловить и слова песни, и мотив.
– От дают! – вновь произнес Паша свои привычные слова, выражающие восторг.
А я почему-то подумал: справляют на войне Новый год или нет? Представил отца, всегда поющего в застольях, и решил, что справляют: война – войной, а жизнь не остановишь – радость все равно должна быть у человека…
3
За темными окнами медленно оседали лохмотья густого снега. Они падали на гребень высокого сугроба, наметенного у палисадника, и долго там пушились, наслаиваясь друг на друга.
Сидя в горнице у окошка, я наблюдал за тем, как они, широко лепясь в слоистые кудели, поднимались к самому верху забора, неумолимо пряча в своей холодной рыхлости острые зубцы штакетин.
В горнице топилась печка. Бойкие языки пламени метались за чугунной дверкой, кидая на пол яркую пляску отсветов. В поддувале мягко гудел перегретый воздух, а там, за двойными стеклами рам, вытанцовывал свое обильный снегопад.
Тихо было в избе, благостно. Кольша и Шура куда-то ушли, дед или еще убирался во дворе со скотиной, или тоже ускользнул к своему другу Прокопу Семенишину, а матушка хлопотала в кухне, у печи, что-то варила или стряпала. Да вкусное такое! Запахи, натекающие в горницу, дразнили ноздри, тоненько щекотали что-то внутри, тянули слюнку. Два раза я выскакивал в освещенное керосиновой лампой пространство, вскидывал вопрошающий взгляд на матушку, но она, как всегда, ласково улыбаясь, только покачивала головой – печка еще не выдала ожидаемое чудо еду.
Меня уже подмывало в третий раз унять свое нетерпение, как в сенях кто-то гулко затопал. Я едва успел откачнуться от окна, как дверь в избу широко распахнулась и из темного её проема вынырнул вначале Антоха Михеев, а за ним и Мишка Кособоков. Радость полыхнула окатной волной. Ко мне! Но ребята, не проронив не слова и затворив двери, сдернули шапки и стали у порога плечом к плечу. Устремив взгляд куда-то под потолок, они вдруг нескладно затянули:
Рождество, Твое, Христе Боже наш, Воссияй свет разума. Тебе кланяемся, Солнцу правды, Тебя видим с высоты Востока. Господи, слава Тебе!И опять ни слова, ни взгляда. Будто я и не стоял на пороге горницы. Их взоры были устремлены на матушку.
«Чего это они? – метались тревожные мысли. – Никогда не были, а тут пришли и песню какую-то непонятную ни с того ни с сего пропели? – Я – без внимания?»
А матушка между тем засуетилась возле печки, достала из её жаркого зева широкий железный лист с пирогами, взяла два и, перекидывая их с руки на руку, сунула ребятам в подставленные варежки. Так же молча, торопясь, скрылись мои приятели за дверью. Только Антоха, не оборачиваясь, махнул через плечо свободной от пирога рукой.
Все еще не одумавшись от непонятного поведения ребят, их странной песни, я повернулся к матери:
– А мне!
– Пусть немного остынут. Им-то я в варежки подала, а ты обожжешься.
Один за другим она сложила румяные пироги в большую чашку, ранжируя в особый цветочный узор, и стала через гусиное крыло окроплять их колодезной водой, отчего сладкий запах теплого хлеба еще сильнее поплыл по кухне.
– Чего это они вдруг пришли ни как все и запели?
– Так завтра Рождество Иисуса Христа – Бога нашего. Вот и славят его пением, по дворам ходят, подачи собирают. Свят вечер сегодня, если по вере, то до первой звезды есть нельзя…
Разве ж мог я не расспросить мать поподробнее обо всем услышанном. Вот и повелся наш разговор. Да увлеченно, с доверием, теплотой. Тогда, пожалуй, впервые закрепились у меня понятия о Боге, о православии, религии. Но не до конца. Нашу душевную беседу прервал новый топот торопливых шагов. Вновь распахнулись двери. Впереди я увидел мальчишку в надвинутой на глаза большой шапке, и с трудом узнал в нем Петушку, с которым играл в войну летом, а за ним – двух незнакомых девчонок, закутанных в облепленные снегом шали.
Я, маленький хлопчик, Принес Богу снопчик, —тоненько затянул Петушка, выпучивая глаза. —
Христа величаю, Всех вас поздравляю.– Пирогов да каши ложку – нам подайте на кормежку, – в голос завершили его надрывное пение девчонки.
И снова матушка уделила всем по пирогу.
«Так и нам ничего не достанется», – проклюнулись у меня тревожные мысли, и я сказал об этом матери.
– В печке еще на одном листе пироги доходят, – она остро взглянула на меня, – а если и их разберут, то порадуемся – значит, Господь на наш дом обратил особое внимание. Посидим и без пирогов в этот Святой вечер – зато весь год будет у нас счастливым, с достатком. – Она взъерошила мне волосы. – И запомни, сынок, Христос учит нас делиться с людьми последним – тогда и благодать его прибудет…
Странные её утверждения западали в душу жгучими каплями, запоминались. Божья ли воля на то была или необычное состояние, в которое я погрузился, слушая мать, но та простая христианская философия стала моим незыблемым ориентиром по жизни.
4
В святки устоялись обвальные морозы. Чаще обычного стал приходить со двора дед. В заиндевелом на спине полушубке, с белесыми от инея бровями, с сосульками на усах. Сутулился, простирая руки к железной печурке, в которой с утра и до вечера горели березовые чурбаки. От его толстых, в голицах, варежек, кинутых под накаленное днище печурки, поднимался витиеватый парок. А с пышных усов начинали скатываться мелкие бисеринки растаявших льдинок. Все это я замечал в тонкостях, свесив голову с полатей, где я, коротая время до вечера, до того времени, когда наша семья собиралась полностью и можно было услышать житейские новости, наловчился рисовать на узеньких пробелах в старых Шуриных тетрадках разные разности, но больше всего – город. Он все же тянул меня к светлым воспоминаниям. Пусть обрывочным, налетным, но живым и ярким, и как-то теплело в груди, когда я выводил тупым огрызком карандаша то рядки домов, то высокую, в несколько этажей, школу, то соседскую девчонку у раскидистого клена, с которой играл в прятки подле нашего казенного дома, то вокзал с паровозом… Но нет-нет да и перекидывало меня воображение к новым, полученным уже в деревне, впечатлениям: к лесу, озеру, птицам…
– Вот те и студа крещенская навалилась, – не поворачивая головы, делился своими выводами дед. – Двух замерзших на твердь воробьев подобрал в дровнике – пали ночью из-под застрехи. Даже бойких сорок не слышно. Скотина к колодцу не идет, горбится… И твое, Ленька, место теперь на печке. Грей бока да думки гоняй по своим малым меркам, прикидывай: кто да что? А коль заковыка какая появится – спрашивай. Мне вот теперь тоже долго не выдюжить во дворе. Тоже бы на печку пора – погреть старые кости, да хозяйство запускать не резон. Оно хотя и небольшое, но держит нас в достатке – пусть малом, но и пока еще не в голоде. Война-то только разворачивается, а что там будет дальше – одному богу известно. Немец силен и хитер, как тот волк: исподтишка налетел – и его тем же манером бить надо. А мы ведь бесхитростные, доверчивые. Одолеть-то его одолеем, но какой ценой?..
Негромкий его разговор, ни то с самим собой, в успокоение, ни то со мной, – побуждал на новые размышления, иные образы. И я опасался задавать деду возникавшие вопросы, чтобы не спугнуть его душевный настрой. Знал: хватится он еще не совсем согревшийся, что пробыл в избе долго, и снова заторопится во двор. А как бы здорово было, если бы дед был со мной рядом, на печке! Представив его: в кальсонах и ночной рубашке, длинного и угловатого, пропахшего табаком – рядом, я поежился. Но как благостно было жаться к его мягкому и крутому боку, вдыхать тот родной, уже привычный, запах, слушать рокот ласкового голоса и с замиранием сердца запоминать то, о чем рассказывалось! И мое сочувствие к продрогшему на морозе деду оказалось сильнее желания узнать что-то новое, и я, глядя, как разглаживаются от тепла легкие морщинки на его лице, предложил:
– Ты бы, дедушка, все же маленько погрелся на печке, а то еще простудишься.
Он обернулся, благодарно щурясь:
– Разве же это край? Вот раньше были морозы – воробьи на лету падали. Выпугнешь их нечаянно из закутка, а они до изгороди не долетают и в снег. Сейчас вот думаю, как наши школьники будут домой возвращаться – тут целых две версты ходу, а ветерок студеный навстречу. Пробьет одежонку. Да и щеки выбелит…
Я сразу же подумал о матери. Не усидела она дома, вызвалась помогать веять колхозное зерно.
Дед словно уловил мои мысли:
– Мать твоя в зернохранилище работает. Там хотя и не отапливается, а все одно в затишье, теплее. Продрогнет, конечно, за день, хотя он и короткий, но сейчас время такое, тяжкое, поблажки не жди. Мыканье только-только начинается…
«А как же там, на фронте? – стукнула тревожная мысль. – Папка ведь в окопах? Застынет, как те воробушки…» И зябко вдруг стало мне на теплых полатях и безрадостно.
5
– И нужно вам носы морозить, – не довольствовала матушка, утягивая поверх воротника пальтишки мой шарф. – Сидели бы дома, да картофельные ломтики пекли на железной печурке…
Напросился я в зернохранилище – поглядеть, как веют зерно, а Шура меня поддержала – ей тоже захотелось там побывать: вдруг самой, рано или поздно, придется тянуть ту работу.
Ярко искрились звезды – даже самые маленькие, которые и разглядеть-то сразу трудно среди беспредельной их россыпи. А те, что в слезинку, мерцали синеватым отсветом. От разницы их верхового сияния создавалась иллюзия глубокого пространства, и вроде бы освещалась земля. Видно было: и заснеженные дворы, и темный лес, и матово-белое поле, и даже слегка желтеющую дорогу с натерянным сеном и стылым конским пометом. Истаяла недавняя стужа, давившая окрестности больше недели, и мороз, как-то лениво и мягко, хватал за лицо.
Мать шла впереди. Мы с Шурой – рядом, сталкивая друг друга на край дороги. Я нет-нет да и задирал голову, чтобы лишний раз утонуть взглядом в бездонности звездного неба. И тогда казалось, что меня отрывают от земли какие-то силы и тянут, тянут в ту бездну, и я вроде бы лечу в вечно сияющее пространство, в её захватывающий дух бесконечность.
– А вон ведьма! – спугнула Шура мои виртуальные ощущения и перебежала на другую сторону дороги.
И я, упав взглядом на землю, обернулся. Из-за плетня чьей-то ограды высовывалось нечто всклокоченное, как бы вздыбленное, и сразу зазнобило спину. Но в тот же миг я разглядел развороченную верхушку соломенной кучи.
– Солома! – выкрикнул я.
– Она превратилась в солому!
Я понимал, что Шура выдумывает, специально меня пугает, но все равно несколько раз оглянулся, пока мы не завернули в проулок – все казалось, что за нами кто-то идет.
За изгородью открылись длинные строения колхозного двора, знакомые мне с лета, с того времени, когда мы возили с дедом зерно на ток. Темной горой надвинулось зернохранилище. Его широкие двустворчатые ворота были плотно прикрыты, но сквозь невидимые щели все равно приникал слабый свет. Мать без труда нашла небольшую дверцу в одной из створок и открыла её. Мы очутились в высоком и длинном помещении, освещенном несколькими фонарями, подвешенными на опорных столбах. Высоко, под самой крышей, стянутой перекинутыми так и сяк балками, порхали потревоженные воробьи.
Во всю длину просторного зернохранилища тянулись закрома, доверху засыпанные зерном. В средине проезда стояли две веялки. Их крутили женщины за длинные рукоятки. По две на каждую. Рядом с ними – мужчина и женщина ссыпали провеянное зерно в мешок.
Свет и бойкое чириканье воробьев остановили меня у входа, а Шура с матерью пошли к веяльщикам.
– Иди-ка сюда, – позвал мужчина, насыпавший зерно в мешок.
Я невольно подчинился его строгому зову.
– Ты зачем сюда пришел?
– Поглядеть, – заметив веселые искорки в глазах незнакомца, осмелел я.
– Ну, гляди, гляди, только вот подержи-ка мешок, – это уже попросила женщина, работавшая плицей, и я невольно ухватился за грубую мешковину.
Холодное зерно приятно отдавало особым запахом, напоминавшим о свежем хлебе, летних грозах, солнечно мягкой осени…
– Крепче зажимай края, – тянул в улыбке обветренные губы мужчина, – а то сыпанем мы с тобой пшеницу на пол, а она семенная, провеянная.
Мягко шумели барабаны веялок. Чирикали вверху воробьи. Качались по стенам тени. Все это воспринималось с особым настроем, чувством сопричастности к какому-то важному делу, вершимому взрослыми, к той ответственности, что увязывалась с их работой, и я старался удерживать наполнявшийся текучим зерном мешок, хотя мне очень и очень хотелось побегать по зернохранилищу, оглядеть все его потайные уголки. И мужчина будто понял меня:
– Ну, молодец! Помог. Теперь воробьев погоняй. Да на вороха пшеницы не лезь. Нельзя зерно марать – оно семенное.
Но я, прежде всего, рванул к веяльщикам. Одну из них уже крутила матушка с какой-то женщиной. А за длинную рукоять барабана другой веялки уцепилась Шура.
Внутри веялки что-то мелькало, хлопало. Из бокового отверстия било тугой струей воздуха.
– Можно мне попробовать? – спросил я, затаивая дыхание.
– Тяжело это, сынок, – отозвалась матушка.
Я видел, как она напрягалась, качаясь вперед-назад по ходу вращения рукоятки, но все же еще раз как бы выдохнул свою просьбу, пересиливая чириканье воробьев.
– Пусть испытает, – поддержала меня её напарница, – убедится, каково нам часами здесь руки трудить.
Матушка отстранилась, и я, едва обхватив толстую рукоятку, поднатужился, надувая щеки, и с помощью тетки едва-едва прокрутил барабан один раз, да и то моих стараний в том было не уловить. Всю силу вложила в этот оборот незнакомая тетка.
– Теперь понял, какая у нас работка? – снова улыбнулась она.
Я кивнул, отстраняясь.
«Как же матушка здесь всю ночь будет? – озаботился я, направляясь вдоль прохода. – Сколько сил надо, чтобы такое выдержать?! Еще и холодно… И уже с некоторой тревогой оглядывал я высокие, почти под потолок, вороха пшеницы, понимая, что их все надо провеивать. Понимал и как-то не верил, что такое возможно. – Столько работы! Столько трудов!..» И в силу детского восприятия действительности, не понимания происходивших событий, не мог тогда даже подумать, что грядет время, когда эту работу будут считать легкой, устанавливать на неё очередность, чтобы хоть как-то передохнуть от истинно тяжелого труда. Да вряд ли и многие взрослые предполагали такое развитие событий.
6
Холод давил такой, что воздух будто застыл в неподвижности, и серенькие, под воробьиные перья, облака как бы прилипли к блеклому небу. И уже маловатое мне пальто, и меховая безрукавка под ним, сшитая дедом с началом ухватистых морозов, не держали тепло. Но в ограниченном пространстве дома, когда взгляд, скользя по знакомым до каждой извилины предметам, упирается в стены или потолок, тянет к новизне, на простор – не усидеть на печи или полатях, даже в такой промороженный день.
За дровником высовывал верхушку объемистый сугроб. Вскарабкавшись на плетень, я перепрыгнул на его гребень и невольно прижмурился от ударившего в глаза солнца. Деревня, заваленная снегом, курилась высокими дымами из низких труб, пестрела долгими разводами огородных прясел, вязью дворовых плетней, блеклыми стеклами окон. На улице – никого. Будто все вымерли. Только дымы, витиевато катившиеся к небу, и оживляли пространство. А дальше лес, желтизна озерных камышей, степной разворот. Но как не захватывает дух от распахнувшихся далей, долго на сугробе не выдержать. А тут еще какая-то тетка вдруг вывернулась из ближнего переулка и прямиком к нам, в ограду. Её торопливость меня насторожила. Заспешил и я в избу и сорвался с гребня сугроба в провал между плетнем и снежным наметом. Ушибиться не ушибся, но испугался. Хорошо, что заметил небольшой просвет на завороте плетня. Да и снег не был рыхлым, слежался, а то бы засыпало меня полностью в том узком пространстве, и ищи-свищи. Пришлось руками пробивать выход наружу через высветленную щель.
Замерзший, с россыпью снега во всех складках одежды, в рукавах и за воротником, ввалился я в избу.
На лавке, неподвижно, уронив руки по бокам, сидела мать. Лицо у неё было заплаканным. На столе я заметил знакомый уже треугольник фронтового письма, и меня встряхнуло от пронзительного испуга. Не в силах разжать сведенные нервным шоком, еще не согревшиеся от холода губы, спросить что-нибудь, я кинулся к матери, едва передвинув одеревеневшие ноги.
– Ранили папку, сынок, – прошептала она, поняв моё состояние. – Пишет – не тяжело, в руку. Но разве он сознается. – Теплая капля упала мне на шею. Как раз туда, где стал таять набившийся за ворот снег. Матушка вдруг задрожала всем телом, заплакав, и я уткнулся лицом в её колени, не в состоянии произнести каких-либо утешительных слов. Да и не знал я их.
7
Весть о том, что к нам – в Луговое привезут эвакуированных из Ленинграда, облетела деревню. Растревожила и без того неуемную тревожность, постоянно державшую людей в напряжении. Еще бы, это были семьи из того далекого города, за который воевали многие наши отцы и братья. Люди, познавшие войну доподлинно, воочию, хватившие горя и мучений больше нашего. Да никто и не ожидал тех забот – свалилось, как снег на голову, а как принимать, как выкручиваться, если свои семьи выживали только-только? И хотя тяжко было за ленинградцев, а все одно: таи не таи – своя рубашка ближе к телу. Тем более в такое непредсказуемое время. И не многие проявили сердечный порыв на приют эвакуированных. Большей частью власти склоняли сельчан на нужное согласие, исходя из их житейских возможностей. Теснили тех, у кого изба обширнее и семья поменьше. А к таким, как мы, и не подступались – нас самих было пятеро.
Дня два-три только и разговоров было, что о новом событии. Даже дед, обычно более-менее спокойный, и тот заговаривал с волнением в голосе про эвакуированных:
– Это же надо, куда со своих мест тронулись! Им-то Сибирь краем света кажется, а едут. И то сказать: от смерти и на край света побежишь…
И я как-то двояко переживал то, о чем слышал. Тревожно было и за ленинградцев, и за отца. Ему-то в окопах тяжелее и гибельнее, чем простым людям в доме. И крутились в моем еще незрелом воображении жуткие образы…
Когда из района позвонили, что обоз направляется к нам, едва ли не вся деревня собралась возле сельсовета. А уж без детворы – какая встреча! Те ребята, которые были постарше нас, ушли к самой околице, к роще, чтобы первыми увидеть обоз. А мы, мелкотня, терлись возле взрослых: бегали, играли в ляпы, просто толкались, чтобы согреться, прыгали через «козла», которым чаще всех становился Мишка Косолапов, и поглядывали на едва приметную среди снегов дорогу.
Солнечно было и морозно. Медленно текло время. От частого и долгого всматривания в даль прошибала слеза.
– Обманули, поди, – переживал Паша, – в другую деревню направили, а мы тут мерзнем.
Я немного завидовал ему – к ним, по словам матери, должны были кого-то определить на постой. А это любопытно.
– Скоро ли? – пытал и я деда.
– Скоро, скоро, побегай. – Дед тянул самокрутку и перекидывался редкими словами со стариком Лукашовым.
Белее и белее становился иней на деревьях, и солнце четче высвечивало крыши домов, а ожидаемого обоза все не было. Терпение у всех подходило к конечной черте. Кое-кто потянулся к домам – погреться. Иные стали гуртиться в затишье.
– Едут! Едут! – наконец, донеслось издалека.
От тесовых заплотов и дворовых построек, из оград хлынули к дороге озябшие люди, смешались в общую кучу с подбежавшими от рощи ребятами.
Из-за леса, плотно обсыпанного куржаком, показались подводы: одна, вторая, третья… Даже издали было заметно, как заиндевели лошади, как курится парок у опущенных в натуге морд. Минута – и вот они рядом.
Толпа раздвоилась вдоль дороги, растеклась, попритихла. На санях впритык сидели закутанные платками, накидками, какими-то одеялами неподвижные люди.
– Свят, свят! – раздался чей-то испуганный голос. – Замерзли на нет!
Я ощутил, как дробно толкается в груди сердечко, как исподволь наплывает в душу тихая жалость…
А люди ринулись к подводам, заслоняя обоз.
– Эту я возьму! Эту ко мне! – закричала какая-то женщина.
Возгласы, рокот множества голосов – все смешалось в хаотичном движении. Мы с дедом и стариком Лукашовым отошли в сторону от шумевшей толпы.
– Да, – с каким-то сожалением произнес старик Лукашов, – веселого мало – хватим горячего до слез и мы с ними, и они с нами…
Из общего навала показалась упряжка, и я увидел Пашу, примостившегося на задке саней, а рядом с ним закутанного в шаль мальчишку, взгляд которого кольнул в сердце – такие большие и печальные были у него глаза. Он притулился спиной к женщине с открытым и красивым лицом, вероятно, к матери.
Паша, улыбаясь, что-то говорил, клонясь к мальчику, но тот и не шевелился. Будто промерз напрочь.
Некая ревность скребанула душу: «Из-за этого мальчика еще и дружить со мной перестанет…» Но Паша повернулся ко мне и заговорщицки подмигнул, смешно покривив губы.
– Повез твой друг к себе постояльцев, – услышал я голос деда, – так что в вашем полку прибыло.
И тут вторая подвода отделилась от толпы. В передке саней восседал Толяня Разуваев и с гордостью поглядывал по сторонам. За ним, уперев колени в грядку розвальней, полулежал худощавый парень в шинели, плотно обвязанный шарфом. На вид ему было лет пятнадцать. А сзади, прижавшись друг к другу, ютились две женщины – старая и молодая.
– Парня вон с матерью и бабкой взял, – проговорил подошедший к деду с Лукашовым прихрамывающий старик. – Верный помощник будет по хозяйству.
– Ты бы, Григорий, все выгадывал – из-под бабьей юбки выглядывал, – проворчал Лукашов. – Какое теперь хозяйство? Война всех за глотку схватила. Таким подросткам придется дневать и ночевать на колхозной работе, а может, еще и воевать.
– Типун тебе на язык! – осерчал подошедший. – По-твоему, война еще годы продлится?
– Ни по-моему, ни по-твоему, а по жизни. А жизнь вот она – перед нами, в этих санях. И читай хотя бы нашу районную «Трибуну коммунизма». Даже из неё ясно, что на фронте и немец, и мы захлебываемся кровью. И вряд ли скоро это кончится – слишком далеко он залез к нам. Назад шагать – не перешагать. Да еще и упираться будет до последнего солдата.
Я вдруг представил безбрежное пространство, усеянное побитыми людьми, и одинокого солдата, понуро шагающего к горизонту.
– Всем нам придется хребет ломать на работе, – встрял в разговор и дед. – Будет война или нет – хлебушко всегда нужен, а мужиков раз-два и обчелся.
Люди вокруг все еще теснились отдельными кучками, в суете, в выкриках, а я слушал разговор стариков и дрожал от мелкого озноба, трясшего меня, то ли от долгого пребывания на морозе, то ли от накатившихся волнений.
8
День, по словам деда, прибавился на воробьиный поскок. Но, когда я проснулся, заря уже освещала пустырь, отделяющий нашу окраину от соседней улицы. Даже тропинка через него, протоптанная по целинному снегу, четко просматривалась едва ли не до самых дальних дворов.
На ней, допивая стакан молока, я и заметил Пашу: ага, идет все-таки, как всегда, – и заторопился, едва не поперхнувшись.
– Ты куда это спешишь? – заметила матушка. – Так и подавиться можно.
– Гулять с Пашей.
– Смотри. Сегодня ветрено. Шарф аккуратно завязывай. – Она затевала стирку. По случаю приезда эвакуированных, всем женщинам дали выходной.
– Да ну его – давит. – После того случая, когда Паша затянул себе шею, мне стало казаться, что шарф захлестывает горло сам собой, и старался лишь застегивать до верху пуговицы пальто.
– Простудишься…
Но я уже выскочил в сени и чуть не столкнулся с Пашей.
– Куда разогнался? – Он удержал меня за рукав. – Успеем наиграться. Спать вот охота – всю ночь слушал наших квартирантов.
Улица светилась в низком заревом отблеске. Дворы выплескивали тугие сквозняки. Мы направились к горке, накатанной рядом с каруселью еще до нового года.
– Ну и что это за люди? – потянул я начатый Пашей разговор.
– Обыкновенные. Славка мне ровесник, а мать его какая-то лаборантка.
– Ну и что интересного он тебе рассказал?
– А, – Паша махнул рукой, – про то, как бомбы падают и про голодуху.
Шагая по тихой улице, не верилось в бомбы. Даже вообразить то, что пересказывал Паша, мне не удавалось. Светлая улица и ветреность как бы стирали все мои попытки представить бомбежку, рушившиеся дома, бегущих людей, уловить виртуальный вой сирены.
– Парнишка ничего себе, – продолжал Паша, – только слабый.
– Откуда ты знаешь, что слабый? – как-то невольно спросил я: мысли все же тянули меня к страдальцу городу, за который стоял в окопах отец.
– А испытал. Мы с ним на печке спать легли, поборолись в лежачую. Помял я его немножко.
– Обидится. Он же с дороги.
– Не-е, я не сильно, чтоб только не задавался. Он ведь ни нам чета – много чего знает. У них там книг читай – не перечитаешь, а у нас что? Пусто, одни учебники и то не у всех.
В чем, в чем, а в этом Паша был прав. Даже я, ни так давно освоивший быстрое чтение, уже страдал от нехватки книг. Но как было не позавидовать другу? Приезжие были из Ленинграда, а там воевал мой отец, и потому выходило, что Славик вроде бы мне ближе, чем Паше.
– Повозились мы, поговорили тихонько, – не останавливался Паша, рассказывая, – потом вижу: Славик заснул – намаялся с дороги. И я нацелился вздремнуть. Только слышу – мамка с тетей Ритой, так зовут Славкину мать, заговорили громче. То все шепотом, да шепотом, а тут вслух. Видно, решили, что мы спим. Они чего-то выпили с вечера – мамка принесла. Громче да громче, и все про то, как люди гибнут. Про адскую дорогу к нам. Горе мыканье. И вдруг заплакали обе. Да в обнимку. Вижу – Славик проснулся, но глаза не открывает. Ямки вокруг них, в серых кружках, слезы залили.
Снега. Тишь. Безлюдье. Темная кайма щетинистого леса вдали. И мысли, мысли.
– Представляешь! Вот идут там по улице люди, – нагнетал блокадную картину Паша, – и раз – снаряд: кого в клочья, кого просто наповал…
Чего, чего, а этого я не мог себе представить. Даже бы там, в нашей тихой избе, в темноте полатей. А уж на улице – тем более.
– А почему ты его с собой не взял? – попытался я отвлечь Пашу от жуткого рассказа.
– А им в сельсовет надо. Документы какие-то оформлять.
– И надолго они к нам?
– Пока война не кончится. Или до того, как их город освободят, а когда то будет – никто не знает…
Разговоры, разговоры. Тревожные, не детские. А сколько их еще ждало нас – не знали ни мы, ни взрослые.
9
К концу февраля небо подернулось легкой синью, оплыл в золотистых разводьях окоём, лесные дали отуманились сиреневым налетом. Помягчили морозы. Из глубины недоступных взгляду просторов потянуло тонкой волглостью, окрестности налились неясной дрожью.
Налазившись по закоулкам двора и надышавшись опьяняющего воздуха, я увял и, едва раздевшись, полез на полати.
– Квашню не опрокинь, – заметив мою усталость, предостерегла матушка.
Широкая квашня с тестом, накрытая фуфайкой, стояла на печке и, влезая на полати, её можно было задеть ногами.
– Не опрокину. – Я упал на постель и почти в то же мгновенье стал тонуть в наплывающей неге. Сразу или несколько позже мне приснился сверкающий огнями город, березовый парк, и отец на лыжах – бодрый, веселый. Он все намеривался скатиться с высокой и крутой горки, но не решался. Я мысленно подбадривал его, переживал, стоя на другой стороне глубокого оврага, а время текло, текло…
Разбудил меня какой-то стук. Открыв глаза, я увидел смутно белеющий потолок, слабые блики огня на нем и большие движущиеся тени. Подтянувшись на руках за матицу, я заглянул вниз. Над столом висела керосиновая лампа, широко освещая кухню. Возле стола, на лавке, стояла квашня с тестом. Матушка обеими руками вынимала из неё увесистые шматки и шлепала на стол, присыпанный тонким слоем муки. Три выкатанных булки уже теснились на железном листе…
Дед сидел на ящике возле дверей и чинил валенок. Сквозь дырки, проколотые шилом в заплате и подошве, он просовывал навстречу друг другу иглы с длинными нитями дратвы и с силой затягивал стежок. Строчка у него получалась аккуратная и ровная, не хуже, чем на машинке.
Заметив меня, дед улыбнулся, разогнав тонкие морщины у глаз.
– Разопрел в тепле. Даже волосы на затылке слиплись. Слезай – ужинать пора.
Я медлил, умилённо разглядывая кухню и горницу за приоткрытой дверью. Тихо, спокойно. Ну у кого еще есть такая теплая и благостная изба, такой дед?..
Пока я держал душу в сладостном томлении, гнал мимолетные мысли, в сенях кто-то затопал, забурчал непонятным образом. Дверь распахнулась, и в избу вкатился некий невидаль, большой и мохнатый, за ним – еще один: то ли люди, то ли непонятные существа. Они запрыгали по кухне на четвереньках, странно порыкивая и похрюкивая.
Вмиг зазнобило спину, осеклось дыхание, но я быстро распознал в устрашающих шерстяных шкурах вывернутые поверх мехом шубы, а затем и уловил в странных звуках знакомые нотки. Соскользнуть с полатей моментное дело. С замиранием сердца схватил я за спину одного из пришельцев, и он притих, затаился, Послышался приглушенный смех.
– Кольша! – Ну конечно же только он мог так тихо и заразительно смеяться!
Со второго я сорвал мохнатую шапку и увидел улыбающееся лицо Степы Лукашова.
– Ну молодец, Ленька! – Он хлопнул меня по плечу. – Не сдрейфил, не то что другие твои ровесники.
– А что это вы вырядились? – Я ничего не понимал.
– Так Масленка, в потехи играем, блины подбираем. Хочется и на горе покататься, и в блинах поваляться. Ничего не боимся, кроме горькой редьки да тертой репки… – И откуда он только знал всякие прибаутки. В книжках такое не встречалось.
Их веселый задор тронул и меня, и дедушка с матерью заулыбались. Светло и благостно. Эх, жить бы вот так да жить! В добре и радости. Да еще и с отцом…
10
Я проснулся от какого-то шума и приглушенного разговора и, отбросив Кольшину руку, лежавшую на моём животе, потянул голову к краю полатей. В кухне теплилась маленькая коптилка, едва освещая стол и скамейки. Старинный дедов сундук, стоявший в углу, у входа, был развернут и отделял небольшой куток.
Хлопнула дверь и снизу потянуло холодком. Я увидел деда и матушку, вносящих в избу маленького теленка, и вскочил – разве ж можно упускать такой занимательный момент! Миг – и я соскользнул с полатей на пол.
– Разбудили-таки малого, – щурясь в доброй улыбке, обернулся ко мне дед. – Вот видишь, не ошибся тогда Афанасий – прибавка в нашем хозяйстве. – Он не скрывал радости, а я вспомнил того странного незнакомца, что приходил к нам по осени и лазил под коровой.
Мокрый, со слипшейся коричневатой шерсткой и большими глазами, теленок даже не сопротивлялся, когда его укладывали в прихожем углу на подстилку из сена. Руки мои как бы самопроизвольно потянулись к белой звездочке на его лбу, и теленок вдруг лизнул мне пальцы. Отдернув руку, я спросил матушку:
– Он что, будет у нас жить?
– Да нет, с недельку, пока не окрепнет и морозы не смягчатся, побудет в избе, а там – в закутку, – объяснила мне матушка.
– Тебе и следить за ним, – добавил дед. – Как пустит струйку – так и беги подставлять старый горшок. Ну а что другое, пусть на сено кладет – вынесем…
– Теперь и молочко появится. Хотя и не сразу. – Матушка продолжала обтирать теленка сухой тряпкой. – Попоим его первое время молозивом, да и достаточно.
Обрадовал меня новый жилец: еще бы – живое существо, а то все один да один, когда все заняты. Теперь и поговорить, в случае чего, есть с кем.
– А как мы его назовем? – загорелся я этой мыслью.
Матушка обернулась:
– Март начался. Вот и пусть будет Марток.
* * *
Когда я проснулся во второй раз, в окна буйствовало солнце, наполняя избу ярким светом. Взгляд сразу же скользнул в угол, на теленка. Он обсох, и шерстка на голове у него закурчавилась, глаза затеплились живинкой, округлые уши – задвигались. Такого удивительного животного я еще не видел, и снова полез к его лбу.
– А вот за лоб его трогать не стоит. – Это дед, услышав мои шаги, вышел из горницы. – Так он привыкнет бодаться и, когда вырастет, тебя же или еще кого может покатать по земле. Тащи вон горшок – похоже, сейчас струя будет…
Так и потекли дни моего догляда за теленком, а как-то, оставшись один, я начал говорить с ним:
– Вот скоро наступит весна – появится зеленая травка, и ты со своей мамой будешь пастись в стаде. И хорошо, что у нас есть мамы. А вот с папами мы разлучены: твой – неизвестно где, и тебе все равно, есть он или нет, а мой на войне, где каждый день погибают люди, и я постоянно за него переживаю. Как же мне быть без отца, если что случиться? Не знаешь? Вот и я не знаю и боюсь, а жить надо…
Эти мои душевные излияния перед теленком были не один раз. А он лишь шевелил ушами да задумчиво глядел в ближнее окно.
11
– Малость помягчело, – послышался дедов голос, – будем у колодца поить скотину. Я лед из колоды выдолбил.
Выглянув из-под занавески, я увидел его сидящего на корточках возле железной печки.
– А ну поднимайтесь, лежебоки, – заметив меня, скомандовал он. – Поможете со скотиной убираться. Ишь, разоспались! Кольша аж храпит. Буди его.
Раза два, когда отпускали морозы, я помогал деду подносить сено в закутку, подгонял к колодцу корову, сгребал в кучки навоз, и мне приятно было сознавать свою сопричастность к нужному делу, пусть малую, но в благо, и некая гордость грела душу, да еще и ощущение взросления добавляло света в мои старания.
Окна еще темнели, пятнались бликами от лампы, но уже угадывалась за ними серая рыхлость близкого утра.
Кольша проснулся сразу, как только я его толкнул в бок.
– Ты чего? – угрюмо проворчал он.
– А ничего, – ответил за меня дед. – Подъем.
– Хоть во время каникул дайте мне послабление.
– Я сейчас и Шуру подниму, – поддержала деда матушка. – Нечего лень разводить в доме…
Утираясь полотенцем, я заглянул в жерло печи. Там густым костром полыхали березовые поленья. Огонь бился ослепительной конской гривой, плясал бликами на прокопченном своде припечка, ярясь до белизны, до рези в глазах. Мягкое тепло растекалось по кухне.
Дед привстал.
– Я пошел открывать закуток. – Он нахлобучил овчинную шапку и вышел.
И мы с Кольшей одевались недолго.
Шагнув на крыльцо, я увидел алый росплеск по окоёму, похожий на раскрытое крыло гигантской птицы, готовый вылететь из-за леса. Перья этого крыла широко прочерчивали небо веером, и дух захватывало от такого размаха, сочности красок, налетного сравнения.
Закуток темнел провалом дверей. Внутри его кто-то вздыхал, пыхтел.
– Не вляпайся, – предостерег дед. – Тут коровьих лепешек за ночь по всему настилу. Тяни вон навозные санки.
– Я пойду сено дергать, – проговорил за спиной Кольша.
Санки были тяжелые – даже пустые я еле осиливал.
Дед стал накидывать на них сырой навоз, а я взял лопату и принялся подбирать то, что сваливалось в снег.
Пока мы возились в закутке, небо побелело. Высветился двор, дали за огородом, щетинистый лес.
– Поехали! – Дед ухватился за веревку, а я уперся сзади в черенок воткнутых в навоз вил.
Медленно, переваливаясь с полоза на полоз, сани мяли рыхлый снег.
– Картошки в радость, – опрокидывая возок, выдохнул дед.
– Как это? – не понял я.
– Навоз смешается с землей и будет удобрение. – Дед был доволен моим старанием, посильной помощью. – Теперь скотину будем поить…
Корова с неохотой выходила из теплого стойла, горбатилась, гнула рогатую голову вниз.
– Пошла, пошла! – покрикивал дед, а я сзади помахивал прутом и тоже кричал, подражая ему.
В глубине колодца мрак и толстые наледи сырого льда. Опуская ведро, журавль со скрипом клюнул вниз и, чуть помедлив, выпрямился. Искристо чистая вода полилась в колоду.
Дед, заметив, что я зябну, махнул рукавицей.
– Беги в избу, а то лытки застудишь. Я тут один управлюсь.
Не особенно мне хотелось уходить с улицы, но и ослушаться деда я не мог.
– Замерз, работничек, – Шура помогла мне раздеться. Она раскраснелась у печки, помогая матери сажать хлеб.
– Лезь на полати, – добавила матушка, – погрейся, – придут мужики – будем завтракать.
Ну как не придремнуть на привычном месте? Да еще и после трудов праведных. Я и придремнул. И не мало.
– Вставай, сынок, – долетел откуда-то сверху матушкин голос, – уже все в сборе.
И я очнулся.
Из окон плавился яркий солнечный свет, печатая на полу крестовины рам. Густо пахло пекущимся хлебом, напревшими щами, и вмиг захотелось есть.
Кольша уже сидел за столом. Рядом с ним – Шура, на моем обычном месте.
– Двинься в свой угол, – попросил я её.
Ну и вкусные же щи варила матушка! Объеденье, а не щи! Хлебал бы да хлебал их с ненасытностью.
– Видишь, проработался, – одобрил моё усердие дед, – ложка так и мелькает. Трудовой кусок завсегда слаще. Но ты оставь место и для жареной картошки, а то не войдет…
Смешно – не войдет. Но я, на всякий случай, послушал его, облизал ложку и положил на стол.
– Там теперь, на пустыре, карусель крутят. – Позволил себе дед разговаривать за столом. – С горки катаются. Так что валяйте туда, резвитесь, пока еще снег не набрал волглости. Еще неделька – и поплывет всё…
Вместо чая – молоко. И свобода!
Мать принялась вытаскивать из печки румяные хлеба и класть на расстеленную вдоль лавки скатерку. Тугой дух пошел по кухне. До того сладкий, что и после сытного завтрака захотелось отщипнуть от какой-нибудь булки хотя бы маленькую корочку. Да разве можно? Вдруг все захотят по корочке?..
Обрызгав булки водой через гусиное крыло, мать накрыла их рушниками.
Широко разбежались красные петушки по краям рушников, застыв друг против друга в боевой стойке. Их когда-то, еще в девичестве, долгими зимними вечерами вышивала мать сама, а отец любил рушниками вытираться. «Чем он теперь вытирается?..» – мелькнула искорка и погасла.
Распахнулась дверь, и через порог прыгнул Паша, за ним незнакомый мальчишка. Я узнал его – видел на санях, когда встречали эвакуированных. Он поздоровался тоненьким голоском и остановился у дверей.
А Паша поманил меня рукой – позвал играть. Один валенок у него щерился протертым носком, из дырки торчала тряпка.
– Э, да ты пальцы поморозишь, – заметил прореху и дед. – А ну давай скидывай обувку – чинить будем!
Паша замялся.
– Скидывай, скидывай, – стоял на своем дед, – погрей ноги. Успеете на свою карусель.
– Так и простудиться недолго, – поддержала его и матушка, а Шура, отвернувшись, прыснула в ладошку.
Не без усилия стянул Паша рваный валенок и попытался прикрыть голую ногу штаниной.
– Ну вот, – дед, заметив его красные пальцы, покачал головой, – уже успел хватануть горячего с обратной стороны, а еще упирался. – Он достал с полки ящичек с шильцами, иголками, дратвой и принялся чинить Пашин валенок.
– А ты чего незнакомца не приглашаешь садиться? – Матушка поглядела на меня строго, но я не успел ничего сказать, как снова скрипнула дверь в сенях – кто-то стал обметать валенки старым полынным веником, всегда валявшимся у входа. Изба как бы вздохнула, и на пороге появился Степа.
– Здорово были! – бодро выкрикнул он. – А где Кольша?
– Здоров, здоров, – в тон ему проговорил дед. – Проходи, садись. Кольша вон в горнице чепуриться.
Тут же появился Кольша. Чуб набок, гладко зачесан, примочен водой.
– Идем? – спросил его Степа.
Кольша кивнул.
– Нас бы подождали, – предложил я.
– Пусть идут, – распорядился дед. – Они вам не ровня – у них свои дела, у вас – свои. Успеете надурачиться…
И дурачились, и играли. Шла война, но было и наше детство.
Глава 6. Весенняя круговерть
1
С каждым днем всё больше и больше чувствовалось неотвратимое дыхание близкой весны. Дали заволакивало дымкой, на припеках истончался в льдистую россыпь верхний покров снега, из-под крыш торчали острые зубья хрустально чистых сосулек.
В один из выходных дней дед засобирался на рыбалку. На мою любознательность, о какой рыбалке идет речь, – лишь улыбался.
– Увидишь – поймешь, – и только.
Пока Кольша доставал с чердака сачок, мы все трое: я, Паша и Славик, стояли у ворот, щурясь от солнечного света и поглядывая на темный лаз чердака.
Подошел дед с пешней – острой железной пикой, насаженной на деревянный черенок с веревочкой на конце, тоже поглядел вверх.
– Что он долго возится.
И Кольша появился в чердачном проёме.
– Держите! – Он бросил сачок в размягченный солнцем сугроб.
Паша оказался проворнее нас и первым ухватил его.
– Пошли, – позвал дед, – Кольша догонит. Не забудь мешок и лопату! – крикнул он ему и зашагал в переулок между нашим двором и двором Лукашовых.
– Что-то Степу не видно, – глядя на огороженный высоким плетнем двор, с сожалением произнес Паша.
– Они уже там, на озере, – дед обернулся, – раньше нас убежали с тем эвакуированным парнем.
– Это Ивлев, – отозвался долго молчавший Славик, – они вместе с нами ехали.
Зажелтели вдали камыши, подернутые легкой дымкой. С тех пор как мы опрокинулись на лодке, проверяя мордушки, я на озере не был. Без взрослых туда не сунешься – опасно, а деду и Кольше все недосуг.
Поле блестело, отражая ярый свет, и наши тени, уродливо длинные, гася этот блеск, покачивались впереди. Снег, покрытый тонкой корочкой, с тихим звоном разлетался под валенками, обнажая сыпучее нутро, и походил на зернистую соль. И чем ближе к озеру – тем глубже и глубже он становился.
Дед махнул рукой:
– Стоп! Дальше надо идти гуськом, а то задохнемся.
Кольше ломанулся первым, за ним – дед, потом – Паша и я, задним оказался Славик.
Идти сразу стало легче. Снег как бы перекатывался под ногами, мягко пружинил. За нами оставалась широкая, сереющая на фоне целины борозда.
Было не холодно, а убродистый снег и вовсе нас распарил. Так и подмывало сбросить шапку и тужурку, но дед разрешил нам только расстегнуться.
– Никогда не думал, что так тяжело ходить по снегу, – тихо донес мне Славик, когда я оглянулся. Лицо его все время было каким-то невеселым, а тут порозовело.
Потянулись камыши, становясь выше и выше. На снегу запестрели мелкие цепочки каких-то следов.
– Мыши набегали, – пояснил Паша, оглянувшись, – а там вон – колонок.
Дед остановился.
– Перекур. – Он полез за кисетом и обернулся к Кольше: – Давай, малый, здесь попробуем. По этому берегу ложбинка идет. Карась в ней может залегать на зимовку. Плес теперь отрезало льдом от озера – вода в заморе. Рыба – тоже.
– Чего тут пробовать! – Кольше не понравилось выбранное место. – Все на большом плесе ловят.
– Пусть. На большом и воды больше. Рыбе вольготнее.
– А тут грязь будет.
– Грязь – ни грязь, а убедиться надо.
– Ничего себе – долби метровый лед впустую. – Кольша снял шапку. От его влажных волос шел пар.
– Расчищай снег вон под тем кустиком. – Дед показал на редкие пучки какой-то травы. – И шапку надень – простынешь.
Кольша нехотя двинулся к указанному месту. И мы за ним. На льду снега было много меньше, чем в поле, и Кольша быстро расчистил площадку с кухонный стол.
Подошел дед с пешней. Надев ремешок черенка на запястье правой руки, он с силой ударил по льду, расколов его прозрачное зеркало. Лед гукнул, затрещал, погнав эти звуки к самым камышам. Ямку, в которое ушло все остриё пешни, дед стал расширять, откалывая новые и новые куски льда по всей её окружности. Когда она стала величиной с большое ведро, он убрал пешню.
– Расчищай! – кивнул он Кольше.
И тот выгреб лопатой колотый лед.
Дед снова взялся за пешню.
Мы стояли вокруг, внутренне вздрагивая при каждом ударе и оберегая глаза от разлетавшихся во все стороны льдинок.
А лунка расширялась все больше и больше.
– Ну-ка, малый, теперь ты попарь спину. – Дед распрямился, краснея лицом, и передал пешню Кольше. – Задел сделан – так и держи. – Он обернулся к нам: – Не озябли?
– Не-е! – Я так мотнул головой, что шапка съехала набок. – А скоро вода будет?
– На прикидку – через пару вершков…
Кольша долбил резвее деда, но лед теперь не брызгал осколками – они все оставались в широкой, похожей на кадушку, лунке.
Несколько раз дед останавливал ретивого работника и выгребал лопатой ледяное крошево.
Удары пешни стали отдаваться от крутых стенок лунки, теснясь в её полуметровой глубине.
– Осторожней! – предостерег дед. – Звук пошел утробный – вода близко. Проткнешь в одном месте дыру – и загубишь дело. Вода не даст вскрыть лунку полностью.
Кольша промолчал, но стал обстукивать лед легкими и частыми ударами.
– Эх, дай-ка мне! – не выдержал дед напряжения. Он опустился на колени и, низко склонившись, стал осматривать дно лунки. Что там можно было увидеть – непонятно. Только он вдруг со всего размаха вогнал пешню в оставшийся на дне лунки лед и пошел, пошел крушить его по кругу. Из пробитых отверстий ударили светлые фонтанчики воды, заполняя лунку.
– Давай сачок! – заторопился дед, откидывая пешню. Быстро и ловко он стал выгребать из лунки остатки плавающего льда, а потом запустил сачок глубоко в воду.
Лунка сразу помутнела, и дед вывалил на лед сгусток серовато-коричневой грязи. Снова сачок ушел в глубину лунки, и что-то яркое сверкнуло среди поднявшейся мути. Рыба!
Ближе всех к ошметку грязи стоял Славик. Он и схватил золотистого карася. Глаза его и без того огромные, распахнулись в умиленном удивлении.
– У нас такие вот статуи из золота!
– Какая статуя? Рыба, как рыба. – Паша потянулся к карасю.
– Фигуры всякие, люди, львы…
В это момент дед выбросил на снег еще пару рыбешек. Они затрепыхались, рассыпая искристые снежинки, удивительно яркие среди этой белизны. Кольша отодвинул их ногой подальше от лунки.
– Целые люди из золота?! – не поверил Паша Славику.
– Еще большие, чем человек. – Славик все разглядывал карася.
– Ты заливай – да не до краев, – осерчал Паша.
Кольша рассмеялся.
– Точно, Паша, – поддержал он Славика. – Есть там такой дворец с золотыми статуями. Теперь он под немцами.
Дед все крутил сачком в лунке, выкидывая на лед карася за карасем.
– Долбите вторую лунку, – с придыханием приказал он. – Есть здесь рыба.
Я поднял одного из карасей и повернул на яркий свет. Его чешуйки, закрытые одна к одной в искусном орнаменте, засверкали искристыми блестками, будто в каждой из них вспыхнуло маленькое солнце.
– Точно, как золотой! – согласился я, но рядом уже никого не было.
Паша со Славиком расчищали лед под новую лунку.
Побежал и я к ним, и мы стали выхватывать лопату друг у друга.
Едва обозначилось небольшое пространство, как Кольша начал крушить лед пешней. Не так ловко у него получалось, как у деда, и я не утерпел:
– Дай мне попробовать!
– А в ногу себе не загонишь? – сдвинув шапку на затылок, предостерег Кольша. Он, намахавшись пешней, глубоко и часто дышал.
– Да не-е.
– Ну испытай.
Пешня оказалась не такой уж легкой, хотя и была с деревянным черенком, да еще и с норовом – тыкалась жалом куда попало.
– Крепче держи! – поучал Кольша. – А то она у тебя углы нюхает.
Тут же следили за моими неловкими движениями и Паша со Славиком. И от их пристальных взглядов совсем плохо стало у меня получаться, руки заныли, сердечко зачастило.
– Теперь я! – заметив эту слабость, выкрикнул Паша. Имея кое-какие крестьянские навыки, он оказался сноровистее – пешня у него дробила лед намного послушнее, чем у меня.
Подошел дед.
– Набаламутил я там воду, разогнал рыбу. Пусть лунка устоится.
– Если из каждой лунки будем вытаскивать по десятку карасей, – оглядывал Кольша застывших в снегу рыбин, – то много долбить придется, чтоб на жареху хватило.
– Ничего, – дед был весел, щурился в доброй улыбке, – и из двух натягаем – курочка по зернышку клюет, и мы так-то будем.
Я взглянул на брошенный сачок и даже вздрогнул от радостной мысли: «Себе попробую!» Пользуясь моментом, что все глядят на Пашины старания, я, воровато оглядываясь, шагнул за Кольшу. И вот он – рыбачий инструмент, а рядом лунка, хотя еще и не с совсем прояснившейся водой. Увесистый сачок бесшумно нырнул в глубину и уперся в недалекое дно озерного плеса. Напрягая руки, я хотел, как большой ложкой, подобно деду, пройтись им в лунке, чтобы зацепить ила, но это оказалось для меня непосильным.
Подбежал Славик. Вдвоем мы стали выкручивать сачок из лунки. Но, то ли мы действовали вразнобой, норовя каждый потянуть его к себе, и непроизвольно отталкивали друг друга, то ли смоченный лед возле лунки стал скользить, только Славик вдруг нырнул куда-то мне под ноги. Выпустив черен, я увидел его в лунке, до пояса в воде и ухватил за воротник курточки. Славик уперся руками в лед и попытался вылезти. Мы еще и не закричали, не позвали на помощь, а Кольша с Пашей были уже тут как тут. Подбежал и дед. Общими усилиями мы вытащили бледного и испуганного Славика.
– Вот до чего баловство доводит! – заругался на меня дед. – А если бы тут глубже было и он с головой нырнул!..
Славик крупно дрожал, мокрые штаны прилипли к его худеньким ногам, и от них шел пар.
– Подштанники есть? – обернулся дед к Паше.
Тот кивнул. Лицо его тоже было испуганным – ведь это он сманил Славика на рыбалку и с него спросят дома в первую голову.
– А ну снимай! – Дед быстро стащил с себя ватную телогрейку и бросил на снег. – Вот на ней.
Широкий Пашин нос как-то побелел, словно подмороженный, глаза в разбеге. Я был уверен, что он не побоится холода, а тем более не пожалеет подштанников, и затаил дыхание.
– Живее, живее! – поторопил его дед.
И Паша проворно скинул один валенок, наступил босой ногой на разостланную фуфайку, затем – второй и быстро спустил штаны. Бумажной белизной обнажились под ними подштанники. Ветерок заиграл ими, хлопая по ногам. Раздумывать было некогда. Мелкими пупырышками покрылось беззащитное от колючего ветерка Пашино тело, и странно было видеть полуголого друга среди колючего снега. Накоротке вспомнилось лето, берег пруда, купанье…
Паша шустро стал одеваться, натягивая штаны прямо на голые ноги.
– А ты чего ждешь? – Дед обернулся к Славику. – А ну спяливай мокроту! Помоги ему! – приказал он Кольше.
Славик слабо засопротивлялся, но Кольша в минуту стянул с него сырые валенки, из которых потекла вода, и штаны. Тонкие, как палки, ноги Славика были влажными и красными.
– Быстро надевай! – Дед протянул ему Пашины подштанники. – Теперь ты. – Он обернулся ко мне.
Я не ожидал такого поворота, но не стал мешкать: надо – значит надо. Лихо, не испытывая ни страха перед холодом, ни стыда, я снял валенки, стоя на тужурке, спустил штаны. Мороз хотя и был сиротский, но ожег мгновенно, как прутом стеганул, ринулся под одежду. Животу сразу стало холодно, по телу побежала ощутимая дрожь.
– Чего медлишь? Одевайся! – замешкавшись на несколько секунд, словно испытывая свое терпение на холоде, услышал я.
Славик надел двое подштанников, но все не мог согреться, заметно трясясь и вздрагивая…
– А теперь бегом до дома! – снова скомандовал дед, отряхивая снег с фуфайки и надевая её.
– Я останусь! – Мне не хотелось домой, хотя без подштанников мороз, как комар, пробивал не толстую ткань штанов и покалывал коленки.
– Останусь я с Кольшей! – твердо произнес дед. – А вы все по домам. И быстро!
Я знал, что перечить деду и не принято, и бесполезно: в своих решениях он непоколебим. Знал об этом и Паша и побежал первым. За ним – Славик, потом – я.
– Да трусцой, трусцой, – донеслось вдогонку, – а то запалитесь.
Солнце ослепительно светило в лицо, но тепло его лучей не ощущалось. По пробитой тропинке мы бежали и бежали к чернеющим у леса дворам деревни, и внутренний жар поднимался к голове, обливал горячим дыханием спину, шею, лицо. В груди что-то ныло и жгло, но отставать не хотелось. Славику и вовсе было труднее – он бежал в сырых валенках. Белые подштанники трепыхались вокруг его ног при каждом шаге. Видел ли кто нас – неизвестно. Только, если и видел, вряд ли мог догадаться, в чем дело.
Ребята и не остановились у моего дома, побежали через пустырь к Пашиной избушке.
* * *
Проснулся я от громкого разговора. На печи, за ситцевой занавеской, царил полумрак, а в незакрытые промежутки видно было, что на улице все еще буйствует солнце. В избе пахло озером, рыбой, камышами. Тепло нагретого печного верха разморило меня и вставать не хотелось.
– Полведерка отнесем горе-рыбакам, – услышал я голос деда. – Как-никак, приняли крещение…
Откинув занавеску, я высунулся наружу. Дед сидел на скамейке, напротив него – Кольша. Между ними стояло ведерко, до половины наполненное карасями. Рядом лежал влажный мешок – тоже с рыбой. На полу блестела чешуя.
Услышав шорох, дед поднял глаза.
– Слазь, а то разомлел весь, как вареный. Рыбы вот отнеси своим приятелям…
Радостно стало и светло.
2
С самого раннего утра пригрел я место на лавке, у окна, наблюдая, как из горки белой рассыпчатой муки выкатывался тугой комок теста, из которого рождались чудные птички-жаворонки. С короной на округлой головке, с хвостом, развернутым веером, с распахнутыми крыльями… Жаворонков лепила матушка, а Шура насекала ножом узоры на хвосте и крыльях, выводя перышки, вводила в клювы соломинки и делала глаза из сушеных ягод смородины. Птички получались одна к одной: нарядные, гордые, казалось – открой окно, и их веселая стайка разлетится по проталинам, запоет в воздухе. Чем-то они походили на Шуру: тот же вздернутый клювик-нос, те же хитроватые глаза, та же гордая посадка головы. Да и не мудрено: Шура горела за работой. Глаза её синели, как небо над крышей, лицо излучало тайную радость. Она даже губами шевелила, что-то нашептывая беззвучно.
«Надо и мне одну сделать, – загорелся я, глядя на Шуру. – Настоящую, похожую на живого жаворонка…»
Выпросив у матушки кусок теста, я принялся обстоятельно трудиться. Хотелось сделать жаворонка с узким хвостиком, прозрачными крыльями, выпуклой грудкой, но тесто будто противилось мне: получался какой-то несуразный комок.
– Брось мучиться, – пожалела меня мать, – это же не статуэтка, а пряник. Нужно, чтобы он равномерно пропекался и был красивым, а так – в одном месте засохнет сухарем, а в другом – полусырым будет. Чего еще надо? Ведь похожи наши жаворонки на птиц?
– Похожи вроде, – согласился я. – Только на Шуру.
Матушка засмеялась.
– Зато – этот на тебя, – не осталась в долгу Шура, кивнув на мою поделку, больше напоминающую сапожок, чем птичку.
– Ну и ладно…
– Дай сюда, горе луковое. – Шура, как могла, поправила моего жаворонка, и он, ссутулившись, занял укромное место в уголке жестяного листа.
Заполненный «жаворонками» лист матушка засунула в протопленную печь и закрыла заслонкой.
– Испекутся и пойдем их пускать на бугры, – прошептала мне на ухо Шура.
– Как это?
– Подкидывать и ловить…
За расспрашиванием, за разговорами текло время, поднималось утро.
С улицы вошел дед, кинул голицы на приступок.
– Весной запахло по-настоящему: и нет еще никого из птиц, кроме воробьев, а вроде каждая щепка поет, каждая соломинка играет, и солнце вон что творит – с зари тепло гонит. Пару таких дней – и снега не будет. Радоваться бы да вот…
Я поглядел в окно, жмурясь от яркого света.
Над лесом вставало солнце, выплескиваясь ослепительным огнем на сверкающие от наста дали, на лиловые крыши домов, на широкую улицу с порыжевшей дорогой.
– В сельсовет вызывали, – продолжал дед, – опять заём подписал. Оно понятно – надо, раз беда, немец пол-России сжег, а нам-то как жить?
Я заметил частые сединки, воткнувшиеся в коротко стриженые волосы по всей его крупной голове; как-то печально опустившийся нос с горбинкой; обвисшие кончики закрученных усов, и тонкая жалость ворохнулась в груди, и радость, все утро будоражившая меня, стала таять.
– Выхожу от председателя, – все выговаривался дед, – навстречу Нинка-почтальонша с красными глазами. Она почту сортировала, когда я пришел. «Кому?» – спрашиваю. «Не вам», – говорит и мимо меня в кабинет прошмыгнула.
Мать наклонилась к печке, сдвинула заслонку.
– Снова какой-то семье горе…
Оказывается, вот так просто, в любой из дней, можно получить немыслимую по восприятию, ошеломляющую своей страшной неотвратимостью весть. Я даже почувствовал легкий озноб от налетевшей врасплох мысли.
Но тут показался из печи жестяной лист с выпечкой, и тревога отлетела. От обласканных жаром светло-коричневых жаворонков поплыл по кухне такой щекочущий под ложечкой дух, что я не выдержал и кинулся к лавке, на которую мать поставила лист.
– Осторожно! – осадила мой порыв матушка. – Очень горячие. Пусть немного остынут.
– Любуйся, Ленька, и ешь на здоровье, – с некоторой грустью в голосе поощрил меня дед. – Думаю, что недолго тебе придется довольствоваться коврижками – война всё выметет, и после неё еще сколь лет придется терпеть нужду, пока не оклемаемся от разрухи. Может, и повзрослеть успеешь.
Мудрым был дед – как в воду глядел.
– Своего бери! – крикнула Шура, заметив, что я приноравливаюсь к самой привлекательной «птичке».
– Давайте вначале позавтракаем, а уж потом будем чаевничать.
Пока ели, я нет-нет да и бросал взгляды то на испеченных жаворонков, то в окно, на пустырь, на котором вот-вот должны были появиться Паша со Славиком. Об этом еще вчера было договорено. Но они почему-то не появлялись. Больше и больше я наливался нетерпением. Уж так тянуло меня на улицу. В тот залитый солнцем, обласканный теплым ветерком простор.
– Наелся, – наконец заявил я, не выдержав муки ожидания, и поднялся из-за стола.
– А как же чай? – вскинула глаза матушка.
– Потом. Я жаворонка с собой возьму.
– Одежонку береги, – понял моё состояние дед, – и её вскорости не добудешь…
Осторожно, чтобы не обломать крылышки, я засунул одного жаворонка в карман и выбежал на улицу.
Солнце ослепило, как ударило, от ядреного воздуха на миг закружилась голова; непривычно потянуло запахом подтаявшей земли, навозом и сеном. В ушах затрепетали азартные крики гоношистых воробьев. Едва уловимый тонкий звон висел в воздухе. Он прилетал откуда-то издалека, от сиреневых лесов, голубеющих степных просторов, щекотал душу, поднимая смутную, сладко щемящую тревогу. Волнуясь и радуясь, я побежал через пустырь к Пашиной избушке. Справа и слева от тропы желтели узкие проталины со старой травой. Так и хотелось прыгнуть на них, ощутить земную твердь, но я торопился.
Два темных окна в отраженных пятнах света с немым терпением уставились на меня. Но в низкой и глубокой землянке ничего не было видно. «Неужели куда-нибудь убежали?» – подумалось с преждевременной обидой, и я дернул двери. С яркого света в избушке все было черным, но я уловил какие-то стоны и остановился у порога. То, что я через мгновения увидел, приклеило меня к земляному полу. На кровати, растрепанная, голоногая, в одной ночной рубашке, лежала тетка Тая, неузнаваемо изменившаяся, с заплывшими глазами, некрасиво перекошенным ртом, и странно вздрагивала всем телом, будто обо что-то укалывалась. Причем дергалось ни только тело, но и голова, и длинные голые ноги, и отброшенная на подушку рука.
Спиной ко мне, на табуретке, сидела другая женщина. К её плечу притулился Славик, и я понял, что это его мать.
Паша стоял рядом с кроватью, склонив голову на грудь. Его волосенки свисали дрожащими прядями, закрывая лицо.
Так вот кому пришла похоронка! – понял я всё, и дышать стало трудно. Как же так? Ведь дедушка говорил, что Пашин отец пропал без вести, а тут похоронка? Видно, на войне всяко бывает… И вновь мысли тоненькими звонцами забили тревогу о родном отце. Как никогда, я вдруг осознал, что в любой день, пасмурный или веселый, могло прийти и ко мне это выворачивающее душу известие.
– Пашенька, сынок, – услышал я полустон, полушепот и заметил, как рука поднялась с подушки и стала быстро ощупывать Пашу. – Как же жить будем! Кто нас согреет…
Меня никто не замечал. Я был лишним в накатившейся беде. Непроизвольно дрожа от непонятного испуга, я попятился назад и тихо закрыл двери.
Буйный свет снова ослепил глаза, темные пятна побежали по снегу. Но волглая свежесть будто смыла с меня незримую тяжесть, словно я вырвался из чего-то тесно сжимающего. Опять стало слышно веселое чириканье воробьев, дробное шлепанье обо что-то частой капели, игривый шум налетного ветра.
Я остановился у ворот, вынул из кармана расписного жаворонка, и посадил его на столбик у калитки, на самом видном месте.
* * *
Паша пришел к нам дня через четыре, один, без Славика, и, не заходя в избу, вызвал меня на улицу. Вероятно, что-то горело в его душе, и вкупе с потаенной завистью – мой-то отец еще воевал – возникла и некая отчужденность. Уровнять нас теперь могло лишь еще одно страшное известие, но об этом не мыслили ни я, ни он.
На пустыре темнели пробитые солнцем проталины, на которых, среди жухлой прошлогодней травы, что-то выискивали коровы и овцы, а больше грелись, подремывая в ожидании настоящей весны, живой травки.
Придерживаясь бугров, мы с Пашей шли гуськом и молчали. То ли он ждал, когда я заговорю первым, то ли боялся касаться того страдания, которое пришлось пережить.
Тянул и я с разговором, остерегаясь неловким словом огорчить друга, всколыхнуть в его душе притихшую горечь утраты, но и совсем ничего не спросить о его беде было не по-дружески. «Но как спросить? Что сказать в утешение? Сумею ли?..»
На одном из бугров, почти в средине пустыря, Паша остановился, долго глядел в неясные дали, залитые солнцем, не оборачиваясь ко мне, маявшегося в противоречивых помыслах, и тихо произнес совсем не то, чего я ожидал с некоторым трепетом:
– Хотел на фронт податься, да мамушку жалко.
Я промолчал, понимая его, да и не нашелся, что ответить. Вспомнилась Пашина мать, разметанная на кровати, её надрывный голос, плачь, и острая жалость тронула душу, но донести её до сердца друга я не мог: нужных в таком случае слов не знал – жизнь наша еще только-только начинала подниматься в том тонком восприятии человеческих тайн, которое приходит с возрастом, с долгим опытом познаний, и то не к каждому, а лишь к избранным Богом.
Шумела весна, горело солнце, а мы слушали её и смотрели без прежней радости.
3
Долго плавилось солнце над крутыми сугробами, и сперва открылись проталины по возвышенным местам, а потом налились синью все мало-мальские ложбины. За околицей неохватные взору разливы и вовсе уплыли к горизонту, и на них появились первые прилетные птицы.
Какие-то голоса слышались мне, но я никак не мог проснуться – сон не отпускал.
На фоне белого-белого снега, синей-синей воды я видел жар-птицу с утиной головой. Она уплывала от меня, работая хвостом, как плоская рыба. А я гнался за ней, полупаря в воздухе, касаясь гребней волн, и не мог догнать. Все меньше и меньше становилась чудная птица, пока её не закрыл розоватый туман…
– …Красивый какой! – все же распознал я сквозь дрему голос матери.
– И как ты его подкараулил? – Это уже дед пробасил.
– Да на лывину вон прилетел, чуть ли не под самые окна! – с радостью рассказывал Кольша. – Я его и снял из-за плетня.
Что-то необычное таилось в их разговоре, и едва уловимый запах, от которого дрогнуло сердце, терпкий, знакомый с осенней охоты, вмиг смыл остатки сна. Заученным движением я приподнял занавеску: у дверей, на ящике, сидел Кольша с ружьем в руках, а на скамейке – дед. Он разглядывал какую-то большую птицу, нарядно красивую. Рядом, у стола, стояла матушка.
Едва ли не слетев с печки, я подбежал к деду и схватил длинношеею птицу, утопая пальцами в мягком пуху.
– Дай поглядеть, дедушка!
– Проспал охоту-то. – Он улыбнулся. – А Кольша вон селезня острохвостого подстрелил.
Раньше я видел только серых уток, а этот селезень – в сизо-зеленоватых пестринках, с коричневой головой, тонким и длинным пером в хвосте, голубым клювам – был изумителен!
– Чего меня не разбудил? – разглядывая необычную птицу, с обидой спросил я Кольшу.
– А когда было? Он прилетел на лыву, в наш проулок. Время не терпело.
В окно было видно блестевшую от солнца воду, залившую обширную впадину правее нашего двора.
– Да ты не расстраивайся, – потрепал он меня по голове, – весна только еще начинается. Походим еще за этими утками…
* * *
На другой день Кольша принялся снаряжать патроны. Я не отходил от него, то с дрожью в руках трогал тяжеловатые шарики дроби, то с суетливой готовностью подавал закопченные, пропахшие пороховой гарью латунные гильзы, и необъяснимое волнение охватывало меня, с которым грезились таинственные дали, млело сердце. И сразу, под опьяняющий этот зов, я стал лелеять мысль о совместной с Кольшей охоте: сперва тихо, едва слышно, а потом внятнее начал просить его об этом. К моей жгучей радости, Кольша не долго упирался, и мы вдвоем пошли на кухню уговаривать матушку.
– Да куда ему в поле тащиться! – сразу засопротивлялась она нашей затее. – Удумали…
– Пусть привыкает, – поддержал нас дед, – глядишь, и пригодится охотничий навык. Война еще невесть сколько времени будет…
Втроем мы кое-как убедили матушку.
Путаясь в рукавах и петлях, с горячим ознобом во всем теле, надел я ватную куртку и с трудом натянул на ноги изрядно стоптанные сапоги. А тут еще и шапка куда-то задевалась…
Кольша терпеливо ждал, с понятием поглядывая на мои метания.
Наконец, весь открывшийся передо мной мир полыхнул в каком-то новом качестве: все вокруг сияло, искрилось, жило, издавало звуки в иных, необычных измерениях. Еще бы – первый охотничий поход за утками! Пусть за околицу, к ближнему разливу, но это уже не простая прогулка, а стремление добыть дичь. Деревянное чучело утки, искусно вырезанное опытным мастером и не менее тщательно раскрашенное, я даже не чувствовал в руке и не отставал от Кольши.
Неоглядный разлив полыхнул ярким отсветом, заложил уши птичьим перекликом и лягушачьим кваканьем. Кольша остановился, кивнул на приметный кустик:
– Тут и спрячемся. Это я вчера, по пути из школы, скрадок поставил. – Он взял чучело и опустил на воду. Мелкая рябь вынесла его на чистое место и, будто живая утица, закачалась на легких волнах недалеко от скрадка.
Кое-как мы поместились в тесной ямке, застланной соломой и прикрытой с боков прутьями. Я свернулся калачиком и стал глядеть в промежуток между ветками, прикрывая то один, то другой глаз. Видимое мною пространство ограничивалось частью разлива и жухлой травой бугорка, на котором мы прятались, дальше во всю ширь голубело чистое небо.
– Ты только не высовывайся, – предупредил Кольша и несколько раз прокрякал губами в кулак.
Я еще пуще сжался, затаиваясь и напрягаясь в ожидании чудного появления дичи. Но её не было. А Кольша все продолжал крякать, и зов его относило ветром в сторону разлива.
Через прореху между прутьями струился в глаз ветерок, и выжитая им слеза застила, искажала пространство. Тихо-тихо двинув рукой, я смахнул ненужную слезу и тут же уловил легкий шум, а потом и увидел садящуюся на воду нарядную птицу. Красные лапки у неё были растопырены, крылья изогнуты. Всплеснув воду неподалеку от чучела, дикий селезень мягко закрякал, поворачивая изумрудную голову то а одну, то в другую сторону.
Я замер, не дыша, не моргая и не сводя взгляда с этой дивной птицы. Мгновенье – и гром выстрела оглушил, встрепенул, отрывая от земли. Дымок, метнувшийся над разливом, отлетел, открыв пространство. На воде в искрящихся брызгах трепыхался подбитый селезень. Дикий азарт поднял меня на ноги и, раздав прутья, я выскочил из скрадка.
Кольша что-то закричал, но я не понял его, с разгона влетел в воду и, не чувствуя, как холодные струи заливаются за голенища сапог, с жарким восторгом схватил еще подрагивающего селезня.
Что говорил Кольша, когда я подскочил к скрадку, не улавливалось. Дрожа не то от озноба, не то от холодной воды, хлюпающей в поношенных сапогах, я подал ему селезня.
– Ну ты и шальной! Что теперь матери скажешь?..
Я молчал, все еще не понимая его: какие вопросы? О чем? Ведь у нас в руках желанная добыча! Но Кольша рассудил по-своему: с мокрыми ногами, с тяжелым селезнем в руках погнал он меня домой, наотрез отказав в просьбе остаться. И радость, притихшая было во мне оттого, что Кольша теперь будет один сторожить уток, вновь согрела душу и тело. Я чуть ли не бегом заторопился к дому, представляя, как обрадуются добыче мать и дед, удивятся, что я её достал и один принес домой, а вдруг еще и Паша со Славиком окажутся поблизости!
Новые охоты рисовались в моем возбужденном воображении, в которых один на один с природой уже был другой охотник – я сам. От этих мыслей все во мне замирало, подчиняясь лишь тому единому, тайному зову.
4
Лес, залитый тонкой синью, уплывал в мареве в заозерье, в дрожащую осветленную пустоту, стиравшую границу между небом и землей, и так загадочно манил к себе, что дух захватывало в радостной истоме.
В той теплой тишине стоял несмолкаемый птичий гомон, и мы, воспринимая всё, как должное, обычное, лишь переглядывались, всматриваясь в фиолетовые дали, в светлую чистоту березовых колков.
– Погодите, вот ведро под сок пристроим, – грозил Паша гоношившимся на тальниках сорокам и воронам, – и начнем шерстить ваши гнезда.
Его неприязнь к этим птицам нам была непонятна, и мы помалкивали, следуя за Пашей в качестве помощников: я нес лопату, а Славик ведерко. Паша держал на плече большой топор. Он изредка останавливался и оглядывал размашистые березы, определяя, с какой бы покачать сок.
– У этой должен быть сладкий, – кивнул Паша на одну из них у опушки, – бугровая, отдельно стоит, света ей вволю, а внизу вон лощинка с водой. – Слегка тюкнув топором по шероховатой коре, он выждал, когда потекли светлые капельки сока, и приложился губами к надрубу. – Самое то! – Паша откинулся. – Тут и поставим.
Я невольно облизал губы.
– Чё, охота попробовать? Вот ведерко поставим и напьемся. – Он стал надрубать твердую древесину косым развалом, и частые капли прозрачного сока бойко запрыгали по уступам шероховатой коры.
Вогнав струганный колышек, прихваченный из дома, в прорубленное отверстие и приспособив под него ведерко, Паша распрямился.
– Пока по гнездам полазим – полведра набежит, – заверил Паша. – Теперь солодку поищем. – Он положил топор под куст ивняка и замаскировал старой травой.
День разгорался, захлебываясь парным теплом и накатным светом, вытягивая сырость и холод из оттаивающей земли.
Мы стали обходить лесной отъем по высокой опушке, опять же следуя за Пашей, ничего не зная и не понимая из лесных премудростей.
– Вон сорочье гнездо! – показал он нам на большую округлую кучку хвороста. – Новое. В нем точно будут яйца.
Уклоняясь от хлестких веток, мы ринулись за вожаком. Остро потянуло сыростью и прелью. Тревожно застрекотала сорока.
– Ну, кто из вас смелый?! – Пашин взгляд скользнул по нашим лицам.
Я никогда не лазил по деревьям: ни из баловства, ни по гнездам – и не подозревал, что это нелегко и опасно, но уж больно с нескрываемым превосходством глядел на нас деревенский друг, и решился, молча, пошел к березе, на которой чернело гнездо.
– Погоди, подсажу! – крикнул Паша. – А то сучья высоко, не дотянешься.
С его помощью я влез на нижние сучья, толстые и надежные.
– Вниз не гляди! – предостерег он меня. – А то голова без привычки закружится!
Я, с затаенной боязнью, стал осторожно подниматься по шершавому стволу березки: сук, еще сук, еще… Дальше – выше они становились тоньше, чуточку прогибались. Закачалось и само дерево, хотя ветра и в помине не было, и я решил перевести дух.
Далеко открылись мне желтовато-серые поляны, белесая ткань оголенных лесов, глубокая лазурь неба. Я глянул вниз: Паша и Славик показались маленькими карликами, далеко-далеко. И тут пошло, поехало всё: и усыпанный старым листом колок, и поля, и небо, и сучья… Едва успел я обнять пахнущий корой березовый ствол и закрыть глаза. Сердце сжалось в остром замирании, звон пошел из головы по спине, в ноги. Какой-то особый страх обволок меня всего. «Назад! Вниз! – забились торопливые мысли. – Скорее! – Но что-то слабое-слабое удержало меня от неуправляемой паники. – Струсил? – будто стукнул кто в затылок. – А как же потом? Что скажут Паша и Славик? Как с ними дружить?.. Нет! Уж лучше упасть!..» Подняв глаза, я увидел совсем близко сплетенное из хвороста гнездо на фоне светлого, удивительно ласкового неба, и страх отпустил сердце. Не без волевого усилия я потянулся к ближнему суку.
Еще раза два сжимал меня страх, кружа голову и лишая силы, но до гнезда я все же добрался. Передохнув, не опуская глаза, я отыскал взглядом входное отверстие и, покрепче охватив ствол дерева ногами и левой рукой, решил проверить, есть ли в гнезде яйца. Округлый шар хвороста мешал тому, и пришлось изрядно отстраняться от дерева, чтобы нащупать твердые, тепловатые яйца на мягкой подстилке. Одну за одной я начал опускать их за пазуху, как наставлял Паша, и, выбрав все, стал слезать, не глядя ни вниз, ни по сторонам. Приближаться к земле было куда отраднее, чем лезть вверх. С нижних сучьев я прыгнул на мягкий слой прошлогодних листьев.
Только Паша понял моё состояние – он-то через это уже проходил.
– С тобой и на войну можно, – только и произнес он.
– А где моё гнездо? – захорохорился Славик.
– Найдем и тебе, – благоразумно удержал его Паша. – Сейчас давайте солодки накопаем. Вот она, на поляне. Запоминайте – пригодиться. – Он показал на сухие, темно-коричневые стебли ни то кустарника, ни то жесткой травы и с натугой потянул один из стеблей – корень его отслоил дерн шага на два и ушел в глубину. – Видите, куда полез? Его теперь только лопатой и можно достать, да и то не весь. А нам и того, что откопаем, хватит…
Ощутимо пригревало. Дали подернулись маревом. От земли и от всего того, что высвечивало солнце, исходили тонкие запахи, взбадривали и волновали.
В тени ивняков Паша развел костерок, чтобы испечь набранные яйца и высушить Славикову одежду. Ему опять не повезло: сломалась сухая талина, и он, вместе с сорочьим гнездом, грохнулся в воду. Хорошо, что низко было.
– Ты в самый жар их не кидай, – поучал меня Паша, когда я стал выкатывать зеленовато-пестрые яйца в угли, – полопаются. На краешек, в мелкие угли с золой прячь…
Отворачивая лицо от реденького дыма, я сделал так, как советовал друг.
Славик сидел на пеньке и жевал терпкую и сладкую солодку.
Паша суетился возле костра и сушил его одежду. Я смотрел на него с потаённым уважением и думал: «Повезло мне с другом – без Паши мы бы ничего не знали и ничего не добыли: ни сока, ни солодки, ни птичьих яиц… И лазить на высоту я бы не решился, не осилил бы того едкого страха, что наваливается там, над землей». Но вслух я спросил:
– Паш, а почему ты не любишь сорок и ворон? Гнезда их разоряешь?
Он и глаза не поднял от костерка.
– А вредные они, яйца у других птиц долбят, птенцов, да еще и воровки…
5
– Леня-яя, сыно-ок, – услышал я родной голос и проснулся.
Надо мной склонилась матушка. Её похудевшее лицо было грустным. Но серые глаза под черными, словно нарисованными бровями ласково лучились. Из-под платка выбились густые пряди темно-русых волос.
– Пора, сынок, вставать, – заметив, что я открыл глаза, произнесла она мягко и погладила меня по голове. – Мы все уже работаем, и тебе пора привыкать к труду. – От материнского прикосновения полностью прошел сон. На душе стало радостно и светло.
В избе буйствовало солнце. В короткое мгновенье я увидел его в боковые окна и отвернулся, одеваясь.
– Молоко на столе – ешь и к нам, в огород…
Утро было чудным! По небу растекались невероятные краски, утопая в пугающей глубине, и каждая крыша, каждая изгородь горели огненным наметом, и словно боясь спугнуть это чудное сияние, выстоялась звенящая тишина.
Торопясь, я прошел до открытых ворот и увидел черную, вскопанную лопатами землю. В середине огорода сгибались в работе дед с матушкой и Кольша, а Шура граблями собирала в кучки старую ботву и мусор, накопившийся за зиму.
– А, помощник явился. – Дед распрямился. – Бери вон грабли и помогай убирать ботву. Мы уже нагрелись. Видишь? – Он повернулся ко мне спиной – старенькая рубаха темнела от пота.
Взлохмаченная, красная от натуги, Шура поглядела на меня с каким-то укором, и Кольша не подмигнул, как обычно, и стыдно стало за свой долгий сон. С поспешной суетливостью схватил я лежавшие у плетня свободные грабли и принялся орудовать ими, как это делала Шура.
На первых минутах было не тяжело отрывать высушенную еще по осени, слежавшуюся картофельную ботву, но уже через некоторое время заныли руки и грабли стали почти неподъемными.
На дальних пряслах изводилась в пении какая-то птичка с оранжево-синим нагрудником. Она то вспархивала, мельтеша крыльями, то стремительно бежала по верхней жердочке, поставив хвост торчком. Легкая зависть к маленькой задорнице щекотнула меня: ни работы ей, ни заботы… Но я понимал, что на этой освобожденной мною и вскопанной взрослыми земле вырастут овощи, и в первую голову – картошка, без которой не пережить долгую зиму, и упирался до дрожи в коленях, ломоты в руках.
– Перекурил бы, а то запалишься, – услышал я дедов голос и оглянулся. В спине что-то болезненно шевельнулось, в глаза полыхнул солнечный свет. Синеющее небо очистило взгляд от земной серости.
– Куда-то люди бегут! – тоже разогнувшись, произнес Кольша.
За огородом, в сторону пустыря, бежало несколько ребятишек и женщин.
– Что-то случилось, – встревожилась и матушка.
– А ну, узнай! – приказал дед. – Ноги у тебя резвые. С Шурой вон наперегонки.
И мы побежали вдоль длинной изгороди.
На пустыре, там, где летом буйствовали лопухи, толпились люди.
– Корова Танюхина в яму завалилась, – услышал я чей-то голос. И мы с Шурой пролезли вперед.
В глубокой яме с водой лежала вверх брюхом корова с круто подвернутой головой, растопыренными ногами, как бы устремленными к небу.
Неприятным холодком обнесло спину.
– Шею сломала и каюк, – предположил кто-то.
– Теперь горя хватят. В иное бы время другую купили, а теперь попробуй…
– Пораньше бы нашли – хоть мясо взяли, а сейчас – падаль.
– И как её угораздило?
– Может, на травку зеленую по краю погреба позарилась, да и земля под ней обвалилась…
Смерть, даже коровья, тронула остро, с горечью и страхом. «А как же там людей убивают?» – От хлесткой пронзительной мысли свело дыхание, потяжелели ноги. Воображение метнулось представить человека на месте коровы, но сорвалось, оттиснутое все тем же страхом, уплыло, растворилось в не цельных образах. Дальше смотреть и слушать не захотелось, и я, не найдя Шуру среди толпившихся людей, тихо двинулся назад.
6
Трепетное слово – косачиный ток долгое время билось у меня на слуху, распаляя воображение, и вот сбылось.
– Ночью на ток пойдем, – шепнул за ужином Кольша. – Так что ложимся пораньше, чтобы не проспать…
Какой там проспать? Под тонким одеялом меня долго потрясывал внутренний озноб, загадочные виденья наплывали одно за другим, мешая явь со сном: стены уснувшей избы расплылись, открывая дали и уводя мое затуманенное сознание в лесные просторы… Я и успокоиться не успел, поплыть по этим просторам, как почувствовал толчок в плечо:
– Поднимайся, пора!..
В окна тихой, пахнущей домашним очагом избы гляделась серая ночь, однотонная, без каких-либо внешних звуков. Но едва мы вкрадчивыми шажками выбрались на крыльцо, как отовсюду поплыли ясные и неясные голоса очарованных весной птиц. Ближе всех исходилась в песне обитательница нашего палисадника. Дальше – за околицей, на разливах, то и дело вскидывались в тревожных криках кулички, потаенно подавали призывы утки и гуси, и только непроглядный лес таинственно молчал.
Деревня спала, плавая в рассеянном свете рыхлой ночи, однообразно темная, непривычно раскинутая западшими среди близких рощиц проулками. Одно небо искрилось звездной россыпью, из мутного пространства которого нет-нет да и доносились нетерпеливые переклики перелетных птиц, шушукающие шумы их крыльев. То шли с юга тучевые стаи северных уток.
– Чернушки потянули, – вскидывая голову, с тихой радостью в голосе извещал меня Кольша. – Даже землю обдало воздухом – как скворцов!..
С особой чуткостью улавливал я все эти звуки и запечатлял в памяти расплывчатые контуры ночной околицы…
Лес встретил нас тишиной, прохладой, сыростью, терпкими запахами прели, оживших деревьев, кустарников, трав… Повсюду маслянисто темнела вода в колках, белесо бледнели лужи в низинах, с которых то и дело поднимались утки. Недовольно и лениво покрякивая, они растворялись в этой сонной мути.
В таинственной той тишине и неясности пространства задрожала душа. То ли от робости, то ли от напряжения – в ожидании чего-то необычного, остро пугающего, или от того и другого. Оно и Кольша тревожился, хотя и пытался бодриться. Я это угадывал по тому, как он озирался и держал в руках ружье. Но боязнь эту мы несли дальше, не останавливаясь, не признаваясь в ней друг другу, и в тоже время тонко и обоюдно чувствуя это наше общее состояние. И объяснимо то было: военное время, глубокая ночь, дикий лес. Храбрись не храбрись, а человек всегда робел перед тайнами природы…
Обходя и колки, и лужи, и плотные, пугающие чернотой тальники, мы пришли в большой березовый лес, непроницаемый взгляду, пестро-серый в ночном полумраке. Широким клином раздала его вольготная поляна, набежав от кочковатых подзаболоченных ивняков. У одного из кустиков на опушке леса Кольша остановился.
– Тут и замаскируемся, – еле слышно продышал он мне в ухо, и, прислонив к березе ружьё, начал собирать сухие прутья.
Мне не нужно было пояснять, что и зачем: стал и я искать сушняк по краю леса, зорко вглядываясь в каждое темное пятно и внутренне напрягаясь…
Вскоре небольшой кустик превратился в хорошо замаскированную засидку.
– Хватит, пожалуй, – Кольша поглядел на небо, – будем прятаться, а то косачи вот-вот полетят…
Мы залезли в куст, приминая ненужные побеги, раздали его и затихли, и сразу заметно потемнело вокруг – ниже свету было меньше, лес его не пускал, свято храня свои ночные тайны. Но теперь, когда мы были скрыты от любого взгляда, стало спокойнее и легче: мы могли первыми заметить любую живность, появившуюся в поле нашего зрения…
Тишина вроде поплотнела и нигде не вспугивалась даже маломальским шорохом. Все застыло в глубоком оцепенении. И как не напрягал я и без того обостренный слух, не изучал взглядом очертания видимого пространства, ничего не улавливал и не замечал. Лишь одно Кольшино дыхание да редкий его шорох слышно было в чуткой пустоте скрадка…
Это сонное однообразие начинало утомлять. Сознание ослабевало, гасло…
И вдруг глухой шлепок о землю поймал мой слух, и дрожь прокатилась по вмиг встрепенувшемуся телу, и по тому, как Кольша повернулся ко мне лицом, я понял, что и он услышал этот звук.
Кто мог кинуть горелыш на поляну?! Вот он лежит неподалеку от скрадка головешкой?..
Пока я, не мигая, вглядывался в черное образование, возникшее невесть откуда, и гасил непонятный страх, полыхнувший по спине, комок этот задвигался, мелькнул чем-то белым и необычно громко для напряженного слуха и такой же тишины – зашипел. Я еще не успел как следует воспринять это странное шипение, успокоится, как глухие стуки беспорядочно заколотились в разных местах поляны. И сразу заурчал кто-то мягко, почти по голубиному, и пошло: шипение, хлопанье, урчание…
Поляна будто населилась какими-то сказочными существами, затеявшими свои игры на исходе ночи. Тут я и понял, что начался косачиный ток – тот самый долгожданный, много раз представляемый воображением, и вмиг пропала тревожная робость перед всем непонятным, и трепетный восторг осветил меня.
– Началось! – как выдохнул Кольша и приник к веткам куста. Темные косачи-кочки двигались по поляне, мелькая белыми перьями, чуфыкали и урчали, а к ним еще и еще прибавлялись токовики. И все они наперебой подпрыгивали друг перед другом, хлопали крыльями, издавая свистяще-шипящие звуки, вперемежку с булькающим воркованием. Шум поднялся такой, что можно было разговаривать. Но Кольша все жался к сучьям, все не трогал ружье, хотя косачей можно было неплохо разглядеть, особенно близких. Чуфыкая, они высоко вскидывались, изгибали шеи и гордо осматривались. Прыжки их сопровождались короткими взлетами, хлопаньем распущенных крыльев и резкими криками, похожими на куриные сигналы тревоги…
Один косач до того разошелся, что подскакал к самому нашему скрадку. Тут я его и рассмотрел до каждого перышка: алые брови налиты, шея раздута, перья натопорщины, как у рассвирепевшего индюка, отчего сам тетерев казался необычно большим, хвост распущен веером, вертикально, края его загнуты к самой земле. Он побежал быстро-быстро, будто заскользил по гладкой поверхности, и Кольша, просунув руку между веток, хотел схватить храбреца за отвисшее крыло, но промахнулся. Косач высоко и косо подпрыгнул, глянул через спину на непонятную живность и, отбежав немного, зачуфыкал еще азартнее, К нему подлетел еще один петух, и, подпрыгивая и хлопая крыльями, они стали теснить друг друга, сшибаясь грудью. И везде по поляне, насколько я мог видеть в стремительно наплывающем свете утренней зари, трепыхались в брачном азарте тетерева. И, несмотря на бессистемность их тока, все же был в нем какой-то едва уловимый общий ритм.
– Вот дают! – Кольша улыбнулся широко. – Как пьяные…
Где-то за нами, в лесу и дальше по опушке, заквохтали тетерки, и сразу шум тока усилился, поднялся в своих звуках на новую тональность. Вся поляна взлохматилась прыгающими, хлопающими, подлетающими птицами. Черными космами взрывались они тут и там над старой травой и бились в единоборстве, и чуфыкали, и бурчали…
Лишь отдельные птицы по краю тока сидели неподвижно, наблюдая.
Забубнил в небе бекас-барашек, запела в лесу зарянка. Восторг, долгое время державший меня в своей узде, стал гаснуть, отходить. Новые, глубоко запрятанные чувства набирали силу: ведь мы пришли не только любоваться этим чудом, но и за добычей. И Кольша будто угадал мои мысли – стал медленно проталкивать ствол ружья между прутьями. Я затаил дыхание, пытаясь угадать – каких драчунов он выцелит. Грохот выстрела погасил все звуки. Какое-то мгновенье после этого держалась тишина. Черной тучей взметнулся косачинный слет, закрыл над поляной небо. Миг, два и стало тихо и тревожно. Лишь слышно было, как яростно колотил крыльями по земле один из подстреленных тетеревов.
Кольша перезарядил ружье, довольный верным выстрелом: оба черныша остались в траве.
– Теперь, поди, не прилетят больше…
Я молчал, не зная тонкостей косачинного тока, все еще находясь под действием птичьего таинства. Как стремительно все произошло – словно ничего и не было!..
Свет накатывался отовсюду, угоняя серость предутренних сумерек в плотную чащу. Новые звуки поплыли по лесу, напоминая, что в разгаре весна. Но они как-то уже не радовали особо, воспринимались без остроты…
Большим черным веретеном протянул вдоль опушки одинокий косач и опустился на дальнем краю поляны.
– Пришел один, – тихо прошептал Кольша. – Может, опять начнут.
Тетерев чуфыкнул, раз, другой и забормотал, залился в торопливой песне, и над поляной вновь замелькали подлетающие к току черныши. Так внезапно прерванное чудо разгоралось сильнее и сильнее, хотя той мощи, того азарта уже не было. Да и число игроков заметно поубавилось…
Вновь два драчуна, перескакивая друг через друга, приблизились к нашей схоронке, сшиблись в петушиной ярости, и Кольша снова стал подталкивать ружье вперед. Я сжался, ожидая выстрела. Резко стукнул затвор, но выстрела не последовало – осечка. Косачи все метелили друг друга крыльями, подкатываясь ближе и ближе…
После тугого хлопка так же взорвалась поляна черными хлопьями. Один из петухов забил крыльями по земле, пытаясь взлететь, а другой подлетел к самой опушке леса и упал в густую траву.
Кольша выскочил из скрадка. Я – за ним. Без особого труда мы нашли всех четырех косачей и, щурясь на всходящее солнце, радостные, довольные удачей, полные светлой энергии, заспешили домой, с жаром обсуждая недавнее чудо…
7
Эх, картошка, картошка! Жареная, пареная, толченая, печеная, с молоком, маслом, или без всего! А хрустящие ломтики! Нелегко тебя вырастить и сохранить хлопотно. Но на ней мы выжили в то губительное время. Она заменила нам и хлеб, и мясо, и многие другие продукты, теперь обычно привычные, в достатке, без которых современная жизнь вроде бы и немыслима.
С утра парило. Солнце и ветер высасывали лишнюю влагу из напитавшейся весенними паводками земли, гнали марево куда-то за горизонт, в недоступные воображению края, в дальние страны…
Кольша копал лопатой ямки в подсушенной земле, а я с Шурой накидывал в них семенную картошку. Шаг – картошка, еще шаг – еще картошка и так до самых прясел, а затем – назад. И сколько таких шагов я сделал за то время, пока мы обсаживали не малое огородное поле – несчетно. Вроде и не трудная эта работа, но к каждой лунке надо было подойти, каждой поклониться – иначе упадет картофелина на край или ростками вниз и не жди добрых клубней осенью. Шаг – наклон, шаг – наклон… И до того я нанаклонялся за полдня, что спина заныла и ноги одеревенели.
* * *
А весна налилась полной силой. Раскидистый клен в нашем палисаднике выкинул острые язычки проклюнувшихся листьев. Покатые бугры, оставшиеся на пустыре от бывших усадеб, подернулись зеленой накипью. Легкая дымка зелени затянула и леса. Зыбкие ветры доносили оттуда едва уловимые запахи цветущих ивняков, молодого березняка и осинника, ранних трав и цветов, а по утрам – дробные переливы тетеревиного токования.
И степные разводья потеряли свою желтизну, накрылись тонкой фиолетовой сеткой, над которой плыли родниковые трели жаворонков, несмолкаемые даже ночью. А над приозерьем качался такой гул птичьего восторга, в созвучии с мягкой пляской лягушачьего кваканья, такой угар торжества жизни, что в ушах вибрировало и сердце радовалось. И этот особый настрой в купели биения жизненного пульса поднимал светлую веру в неотвратное торжество будущего, в бессмертность мира сотворенного Богом. И трудно было осознавать, что где-то идет война, бьется в ином пульсе гибельная непоправимость.
А вечером мы читали письмо от отца.
Часть вторая. Второй круг
Глава 1. Летние хлопоты
1
У войны был свой отсчёт времени, свой годовой круг: от конца до конца июня, и каждый год войны вершился теми или иными непредсказуемыми событиями, и так до неведомого предела.
Потянулся второй год войны, второй круг, а жизнь шла своим чередом, несмотря не на что. Тревожная, трудная, с горем, страданиями, смертельными вестями… Но люди бились и за эту жизнь, в душевной маяте, в не менее маятном быту, в изматывающем до изнеможения общем труде. Бились и стояли. И с высоты стороннего осмысления вся эта жизнь могла казаться обычной, простой, плоской, но это далеко не так…
* * *
В дровнике дед с Кольшей пилили дрова, а я складывал подле поленницы нарубленный ими хворост. Было жарко и тихо. Солнце едва-едва перекатилось во вторую половину дня. На лугу, за огородом, паслись чьи-то телята. Видно было, как они помахивали хвостами, отгоняя слепней. Занятой работой, я все же заметил некое там оживление – возле телят появилась большая серая собака. Она по-домашнему заигрывала с ними: припадала к земле, отпрыгивала, когда телята пытались ее бодать, вновь наскакивала. Интересно было, и я сказал деду:
– Какая-то собака с телятами забавляется.
– Что еще за собака? – Дед задержал пилу, распрямился и стал глядеть за околицу. – У нас на деревне таких вроде нет…
Тут собака сделала резкий прыжок и вцепилась в шею ближнего к ней теленка, крутанула его почти по кругу, и теленок упал.
– Волк это! – выкрикнул Кольша и схватил полено.
Будто колодезной воды плеснули мне на спину: так закоробило по хребту кожу.
А дед быстро и ловко вырвал топор из чурки, на которой рубили хворост, и они, без слов, кинулись за ограду. Сорвался с места и я, не осознанно, подчиняясь охвату неведомых чувств.
Кольша что-то кричал, размахивая поленом, опередил деда, огибая огородное прясло. Но ближе к лугу приостановился.
Дед, широко разбрасывая в беге ноги, выскочил вперед, вскинув топор.
Зверь подпустил нас совсем близко, шагов на десять, словно знал, что мы без оружья, и, отпрыгнув в сторону, присел, ощерившись. Дед взмахнул на него топором, наступая, и волк, щелкнув зубами, нехотя побежал в сторону ближнего болота. Но напрасно мы спешили: теленок уже дрыгал ногами, из разорванного его горла хлестала яркая кровь.
– Совсем зверь обнаглел, – наклонившись над зарезанным теленком, горестно проговорил дед, – среди белого дня скотину рвет, а поди-ка ты его сейчас достань…
Непонятный страх и колючая жалость ожгли меня, впервые так близко столкнувшегося с глубинными тайнами природы, с ее вольной дикостью, язык не шевелился, дыхание замерло, мысли – будто остановились.
– Тимохиных это теленок, – глуховато отозвался Кольша, – побегу скажу – пусть забирают. Хоть какое-то мясо будет…
2
Солнце только-только выплыло над лесом, а мы уже миновали первые лесочки, теснившиеся друг к другу за огородами крайних дворов. Дед нес вилы и сумку с едой, а матушка деревянные грабли и бидончик с квасом. Я шел налегке.
Горела сенокосная страда, и Кольша упирался на колхозной работе, а Шура пропалывала овощи. Мы втроем шли сгребать свое сено, накошенное пару дней назад дедом и Кольшей.
Лес еще не полностью очнулся от ночного оцепенения, и листья деревьев понуро висели в полной неподвижности.
Тихо, тепло, мягко.
Обойдя длинный лесной отъем, дед свернул с травянистого проселка, и перед нами открылась широкая поляна с длинными стежками желтеющих рядков сена.
У раскидистого куста ивы дед остановился, повесил на сучок сумку с едой и снял пиджак. И матушка сунула бидончик в затененную траву.
– Начнем, поклонясь, – весело проговорил дед и принялся вилами сдвигать пласты сена в кучку.
Взялась за грабли и матушка.
– Вот так закатывай рядки. – Она показала мне незамысловатые приемы сгребания сена. – Да большие валки не делай.
Тревожно зачирикала в кустах какая-то птичка, и где-то далеко, на приозерных лугах, перекликались журавли.
Оглядевшись, я поднял небольшие грабли с лоснящимися зубьями и принялся за работу. Не сразу удалось наловчиться собирать сено в ёмкие кучки: грабли вертелись в руках, не подчиняясь моему усердию. Но от рядка к рядку я все успешнее справлялся с ними, и уже через некоторое время закатывал валки не хуже матери.
Удивленное солнце старалось подняться выше и выше, чтобы уследить за моей работой, и распалялось в благодати, щедро нагревая воздух.
Становилось жарко. Высушенные цветы и мелкая трава сыпались в ботинки, и от их трухи неприятно зудели ноги. А ладони натерлись до красноты, и тело потяжелело. К тому же глаза устали от однообразной смены желтого и зеленого цветов и хотелось бросить отяжелевшие грабли, уйти в тень тальникового куста, но дед таскал огромные навильники в большую копну, и рубаха на спине у него потемнела от пота. Да и матушка прикрыла лицо косынкой и не с такой быстротой, как вначале, ворошила рядки.
– Устал, сынок? – участливо заглянула она мне в глаза, когда мы поравнялись. – Покажи-ка ладони. Волдырей не натер?
Я и головой повертел – не устал мол, и руки показал. И то ли заметив нашу усталость, то ли услышав разговор, или в действительности время подошло, но дед вдруг воткнул вилы в намет сена и махнул рукой:
– Шабаш – обедать пора.
Расположились в тенечке, что еще держал плотный ивняк, на примятой траве. Вареная картошка с зеленым луком да вареные яйца, а к ним по ломтю хлеба, вот и вся еда. Но какой вкусной она показалась! Будто никогда и не ел ни такой картошки, ни таких яиц, ни такого хлеба. А прохладный и терпкий квас!
– Подремлем часок и будем копны вершить. – Дед лег на спину и прикрыл лицо кепкой.
И меня обволокла истома. Свернувшись на бок, я прикрыл глаза и провалился в некое желто-зеленое пространство.
Любопытное солнце зашло с другой стороны леса, нагнало света на лицо, и я проснулся.
Дед уже таскал увесистые навильники сена в омет, а матушка помогала ему, набирая ёмкие охапки.
«Проспал!» – подумалось со стыдом. Я резво вскочил и побежал по кошенине, царапая о жесткие травяные срезы щиколотки.
– Не торопись, – понял моё состояние дед. – Вот сейчас доложу стожок и полезешь наверх утаптывать сено.
Я обрадовался: все лучше, чем однообразное закатывание валков.
– Ты вон лучше принеси из околка хворосту наверх, а то ветром может завернуть не улежавшееся сено.
Едва я вошел в лес, как вокруг загудели оводы, поднялись к лицу неуёмные комары – только успевай отмахиваться. Но я уже был не тем городским жителем, боявшимся их малейшего укуса – попривык. Ухватив длинную валежину, я потянул её на поляну.
Дед перекинул валежину через копну и велел мне лезть наверх, держась за неё.
Матушка подсаживала меня под зад, и я не без труда влез на омёт. Далеко развернулась скошенная поляна передо мной, обрамленная куртинами кустов, извилистая опушка леса, узкие перешейки между колками.
Навильник сена едва не опрокинул меня.
– Втаптывай под ноги, – крикнул дед, – и трамбуй сильнее, чтоб дожди не промочили…
Солнцу надоело наблюдать за моей работой, и оно медленно, но неуклонно стало сползать к лесу. Застрекотали кузнечики, оживились птицы. Иволга засвистела, сороки застрекотали. Прохладой потянуло.
Мы завершили второй стожок, когда уставший дед отер потное лицо.
– Славно поработали, не зазорно и домой подаваться, а то хозяйство без догляда осталось.
Вечер оседал на лесостепь с мягкой поволокой, гнал волны предзакатного света по изнеженным травам, по кронам деревьев, пробиваясь в самую потаенную гущину листьев, по крышам домов и дворовых построек, по накатной дороге, и затаивался где-то в недоступных взору далях, в иных просторах.
И, несмотря на усталость, благостно было мне и спокойно. Даже некоторое чувство довольства самим собой за то, что помогал матери и деду в серьезной, нужной работе, теплым облачком таилось где-то в груди. Сопричастным к хозяйствованию, к крестьянскому делу, подлинно важному в заволоке, выпавшего на нашу долю, жизненного течения, ощущал я и подражал деду в походке, в молчании, в размеренном покачивании тела. Дед – хозяин, я – помощник, а куда иголка – туда и нитка. И отрадно было осознавать нашу неразрывность не только в кровном родстве, но и в бытовом осмыслении, в тех вешках, что зримо или незримо обозначались в будущем. У меня хотя и не было жизненного опыта, но детская интуиция повыше взрослой. Она и вела меня к определенному поведению.
Светло, умиротворенно и упоительно.
3
Мы с Шурой поливали огурцы, когда через прясла, в огород, перемахнули мои друзья – Паша и Славик.
– Иди посмотри, кого мы нашли! – взволнованно сообщил Паша.
По тому, как они дышали, как глядели с изумлением, я понял, что в действительности они увидели нечто необычное.
– Я еще огурцы не полил.
– После польешь! Пошли!
– Иди уж, – разрешила Шура. – Тут немного осталось – я одна управлюсь.
Пока бежали – не до разговоров было, а когда оказались у заднего плетня Пашиного огорода, он кивнул:
– Вон там, где кол длинный. Прямо под ним.
Раздвигая траву, я даже откачнулся, заметив крупную, почти с голубя, серо-пеструю птицу с розовым, широко раскрытым ртом, желтыми немигающими глазами. Она резко: раз-другой метнула вверх голову с раскрытом клювом, и неприятный озноб плеснулся на спину.
– Он, видно, какой-то паразит, голышат клюёт, – подал свою догадку Паша. – Пасть-то вон не птичья.
На жердях появились какие-то красногрудые и черноголовые птички, запорхали с тревожными криками: чик-чик, чик-чик… Одна из них держала в клюве червяков.
– Ничего не пойму, – следил за птичками Славик. – Неужели они его так раскормили?!
Я разглядел под оперением птицы валики травяного гнезда, а возле них усохшие трупики птенцов-голышат.
– Не-е, Паша, птенчиков он вытолкнул из гнезда. Вон они засохшие лежат. Это чужой кто-то.
– Вот нахлебник! – изумился друг. – И угрожает еще. Сейчас звездану палкой – и каюк.
Я поглядел на тревожно летающих вокруг нас птичек и предостерег друга от неприятного поступка.
– Не надо! Тут что-то не так. Пойдем у Шуры спросим. Она небось, знает.
– Кукушонок там, – с насмешкой пояснила нам Шура. – Кукушка гнезда не вьет, так ей природой положено, а яйца свои в чужие гнезда подкладывает. Птички её детей и выкармливают. Паразитство, но, видно, так надо. Иначе бы зачем этой птице быть. Не трогайте вы его…
Дня два нам было не до кукушонка. Сенокосная страда заметала и старых и малых, а когда выбрали время и пошли смотреть необычное гнездо, кукушонка уже не было. Улетел ли он или какой зверек по нашим следам отыскал его – не ведомо. Только в лесу еще нет-нет да и можно было услышать грустное: ку-ку, ку-ку… А может, кукушка знала о том своем подкидыше и тосковала по нему. Кто знает?
4
Вышел я на крыльцо спросонья и, поёживаясь от вмиг опахнувшей тело холодной сырости, обомлел от изумления: и надворные постройки, и соседние дома плавали в густой белизне, утонув в ней почти наполовину – ни травки-муравки у палисадника, ни дороги вдоль улицы, ни ближнего леса, лишь раскат зари на полнеба и всё. Глянул я себе под озябшие ноги, а ступней нет – размыло их плотным туманом. Забавно как-то – вроде все на месте и в то же время ущербно. И тихо-тихо, ни ветерка, ни какого-либо шевеления. Будто замерло всё или вовсе впало в оцепенение. Ни тебе птичек, ни домашних кур с гусями, ни другой живности. Даже надоедливые мухи где-то затаились. Такого зрелища я еще не видел и ёжился, очарованный столь редким явлением, стараясь руками нащупать это неощутимое покрывало. Но пальцы мои лишь трогали друг друга, будто растворяясь в чем-то. Я попытался разогнать туман, закрывший мои ноги, вспомнив, как дед отмахивает от лица табачный дым, но ничего не получилось – руки мои лишь несуразно замелькали, то появляясь, то исчезая.
– Груздевой туман-то, – увлеченный необычным для меня состоянием, я даже не услышал, как сзади подошел дед. – Дня через два-три после него будем грузди брать. – В его голосе слышалась скрытая радость.
– Какие грузди? – не понял я дедова восторга.
– Грибы, малый Ленька, грибы. И отменные! Вот засолим нашу большую кадку, что в кладовке стоит, и зимой – на тебе к отварной картошке: ешь – не хочу, за уши не оттянешь.
Чудной дед, говорит какие-то странности – я представил себе Шуру над чашкой и тянувшего её за уши деда и не удержался от потаённого смеха. Дед услышал мой слабый смешок и, не поняв его причину, добавил:
– Их и собирать одно удовольствие. Сам испытаешь. А теперь, пожалуй, пошли в избу, а то и насморк схватить немудрено от такой сырости.
* * *
Мягкий августовский день едва перевалил середину, когда мы выехали за деревню. На телеге, едва ли не во всю её длину, стоял плетеный из ивняка объёмистый короб. Мы с дедом умостились на передке, а Кольша с Шурой залезли в короб и сидели на его обводной раме.
Не тряская, дорога повела нас между тихих, дремотных лесов, мимо затканных густым разнотравьем полян и дозревающих хлебов. И, глядя на это чудо, на залитые солнечной позолотой дали, на бледный окоём неба, не хотелось ни говорить, ни думать, чтобы не спугнуть ту сладость, что вливалась в душу вместе с лесной негой и ароматом увядающих трав.
На опушке редкого лесного отъема дед остановил лошадь у раскидистой березы и, бодро спрыгнув в траву, почему-то негромко проговорил:
– Вот здесь и будем брать грузди.
– А почему здесь, деда? – Я тоже стал прицеливаться, куда бы сигануть, чтоб не угодить на дудочник.
– Березы тут, вековые, стоят редко и на высоком месте. Дождик между ними напрямую увлажняет почву, а ни через листья, на которых влага наполовину испаряется, и солнечные лучи греют её через невысокую, что та отава, травку – самая благодать для груздей. Так что – за дело!
Нащупал я в кармане штанов свой заветный ножичек, подаренный зимой ночевавшим у нас военным, и, опережая всех, кинулся в лес. Тут же что-то хрустнуло под ногами, подошвы ботинок скользнули в стороны, и я упал на четвереньки. Резкий запах пахнул в лицо – прямо перед глазами я увидел раздавленную шляпку какого-то гриба.
– Не дави грузди, раззява! – крикнул Кольша.
Рядом, в траве, я заметил еще несколько белеющих шляпок и не удержался от восторга:
– А вот еще грузди! Еще!
– Вот и срезай их ножичком под шляпку, – подсказал подошедший дед, – и в мою корзину. Да осторожно, не выворачивай корешки с землей, не повреждай грибницу, иначе на следующее лето тут пусто будет, а мы здесь из года в год собираем грузди.
С ямкой посредине, немного заполненной дождиком или капельками росы, с увлажненной бахромой в коричневатых прожилках, грибы были чуть больше моей ладони и отдавали таким сложным запахом лесной прели, что голову закружило. Ощущая их легкую осклизлость, я срезал шляпку за шляпкой и складывал в дедову корзину, оставленную подле меня. Краем зрения я видел, что с таким же азартом режут грузди и Кольша с Шурой и дед. А грибы будто вырастали на глазах, то тут, то там появляясь из травы целыми семействами.
Быстро наполненную корзину дед отнес к телеге и перевалил набранные грибы в короб. И после, по мере наполнения корзин, то дед, то Кольша совершали ходки к коробу.
Уже через некоторое время у меня заныла спина от постоянного наклона и стало постукивать в висках. Грибной азарт начал сходить на нет.
Между тем потянуло прохладой, упали на траву длинные тени от берез, зажурчали крыльями стрекозы, охотясь на мошек.
– Пожалуй, хватит на засолку, – решил и дед. Он тоже заметно подустал. – Ведер десять – двенадцать нарезали. Да и домой пора – скоро скотину с пастбища пригонят.
Низкое солнце расплылось в ширину, потянуло через дорогу пестрые тени. Леса затемнели, подернулись красноватой поволокой разводья полян. Тихо, тепло, радужно. Но мысли о том, что где-то идет война и там мой отец, нет-нет да и рвали тонкую вязь душевного умиротворения.
5
Старая травянистая дорога тянулась по отлогим степным гривам, уводя нас к далеким, едва различимым в лучах низкого солнца, одиноким березам у широкого приозерья. По краям дороги выспевали высокие бурьяны, над которыми сверкали прозрачными крыльями стрекозы, а на побуревших от семян головках нежились выводки певчих птиц. Кругом, насколько было видно, выстилались буйные травы нетронутой степи…
Кольша шагал широко, и мне не удавалось держаться с ним рядом – кое-как я поспевал семенить сзади. Он нес на спине холстяную сумку с веревочными лямками, набитую короткими поленцами, отчего его тень на траве была несуразно горбатой…
Безветрие, мягкий вечерний свет, тихие травы, бабочки, стрекозы и спокойные птицы – проникновенная явь дикого мира, дар особых ощущений и особого настроя…
Ноги у меня заметно потяжелели, когда Кольша остановился на опушке глухих зарослей кустарника. Они закрыли и степь, и солнце, и острый запах распаренной ивы наплывал от них, съедая все другие запахи. На дальних сухих деревьях, торчащих вразброс по этим зарослям, неподвижно сидели большие темные птицы, и Кольша, сбрасывая со спины сумку, кивнул:
– Коршуны на ночлег расселись. А тот вон – дальний, орел…
С легким душевным трепетом я осматривался по сторонам, слушая его пояснения.
А Кольша полез в ближний куст ивняка и стал топориком срубать в его середине лишние побеги.
– Здесь наш скрадок будет, – сразу отсек он мои возможные вопросы. – Помогай маскировать, рви траву…
Загрубевшая трава с трудом поддавалась моим усилиям, но кое-что я все же наскреб. Кольша за это время успел нарвать целую охапку разнотравья. Мы поплотнее обложили ими куст и подстилку внутри выстлали.
Неподалеку от куста, на бугорке, среди низкой травы, Кольша стал особым способом укладывать принесенные березовые срезки.
Быстро темнело. Скрылись из вида и сухостойны с хищными птицами, и редкие деревья по увалу, и дальняя оконечность кустов. Тишина нарушалась лишь одним звоном комариков, поднимавшихся из остывающих трав.
Когда огонек заметался под сложенными чурбачками, Кольша живо потянул меня в куст, на подстилку. Там мы и затаились, не двигаясь и не разговаривая. Лишь комаров приходилось отгонять легкими движениями. Всю эту канитель Кольша не стал мне объяснять, отрезав одной фразой:
– Сам увидишь, что к чему…
Напряжение нарастало по мере того, как разгорался костерок, обливая траву теплым светом. Пламя его из-за отсутствия ветра лишь слегка трепетало, робко перебираясь с одного полешка на другое.
Тихо, таинственно, темно… Причудливо размытые темнотой кусты вроде бы колебались, и пугающие мысли прокрадывались в сознание, и трепетно было на душе… И вдруг эту плотную тишину потряс низкий протяжный рев, накатившийся откуда-то сзади, из глубины зарослей. От его звука сжалось сердце и похолодела спина. Я не успел перекинуться взглядом с Кольшей, как к угасающему на самом низком тоне реву припал резкий вибрирующий вой, быстро набирающий силу в подъеме, истончаясь до жуткого срыва. И тут же, дробясь о еще не потухший отзвук дикого вопля, вразнобой затявкали щенячьи голоса. Голову мне покрыло холодным налетом, и волосенки от этого задвигались. Мелкие укольчики покатились с затылка на шею и вниз по хребту, коробя на спине кожу. А рев вновь повис в темноте и вновь его поддержал поднимающийся в небо тягучий вой и нестройное тявканье. Взгляд мой наконец поймал Кольшины глаза и показалось, что они у него необычно светятся – это играли в зрачках отблески близкого костра. Лицо у Кольши непривычно белело, и трудно было понять, от страха это или опять же причина в мягком свете тихого костра. Одно уловил я: Кольша сжимал ружье так, что пальцы рук чуть-чуть плющились.
– Волки! – едва выдохнул он. – Но к нам они не сунутся – костер горит. Да и ружье вот оно – в случае чего.
А жуткий звериный перепев в той же очередности и в том же ритме не прекращался, давя на душу. И в этот момент я краем зрения заметил какое-то движение в отблесках костра, и острая судорога прошила тело с головы до ног, полыхнув зарницей в остановившихся глазах. Но в следующий миг я разглядел не страшного зверя, а серых птиц, робко цепочкой выходящих к костру из гущины трав. И сразу оборвался парализующий звериный вой – стало тихо-тихо, до отчетливого звона комариных крыльев. Теплом обдало лицо и потеплело в груди.
Кольша тоже заметил птиц, но молчал и не двигался. А их вереница почти кольцом окружила костер и двигалась вокруг него с поочередным поворотом шеи и покачиванием головы то в сторону костра, то в направлении кустов. Казалось, что похожие на оперившихся цыплят птицы совершают некое чародейство, связанное каким-то образом с волчьей спевкой. Я, еще не до конца осознав увиденное и услышанное, с тайным трепетом наблюдал этот необычный кордебалет, все же понимая, что перед нами какие-то известные птицы и скорее всего их и ждал Кольша. Не зря же он все это затеял? А раз так, то должен быть выстрел. Но его не было, а причудливая птичья толкотня отвлекала, поднимая в душе светлые чувства.
Кольша сидел все в той же позе, сжимая берданку. И непонятно было: то ли он не отошел еще от легкого оцепенения, вызванного волчьим воем, то ли ждал удобного момента.
Вдруг мелькнуло что-то в темном небе, отбивающим вниз свет костра, и птицы мгновенно юркнули в траву. Большая сова, похожая на огромного мотылька, метнулась над нами в сторону зарослей. И вновь стало напряженно тихо, мертво и как-то печально.
Костер догорал, и Кольша полез из скрадка, держа ружье наготове.
– Кто это был? – не выдержал я игру в молчанку, сдерживая голос и озираясь по сторонам.
– Серые куропатки. Их почему-то огонь в это время интересует. Как завороженные к нему выбегают.
– А чего ты не стрелял?
– Да не успел, сова помешала. – Кольша принялся присыпать остатки костерка землей, ковыряя её топориком.
Но я ему не поверил: времени для верного выстрела было предостаточно. И, чуть помедлив, я сказал об этом.
– Говорю – не успел, – стоял на своём Кольша. – Да и видел же, как они забавно кружатся – залюбуешься…
«А как же охота? Добыча? – метнулись мысли. – Впустую?» И я вдруг ощутил теплоту каких-то иных чувств, иных понятий, связанных с красотой окружающего мира. И новые раздумья овладели моим сознанием.
– Не всегда же нужно стрелять, – словно понял мое состояние Кольша. – Можно и что-то интересное подглядеть в природе…
Темнота обложила нас сразу, едва мы отошли от едва теплившихся углей бывшего костра: ни огонька, ни чего-либо приметного. И я не мог понять, как Кольша определил нужное нам направление, и боялся отстать от него, цепляя ногами густые переплетения вязелей. И эта тревога гасила налетные мысли о том, что пришлось услышать и увидеть в скраде, у костерка. И до самой деревни мною владели лишь ощущения безбрежности и черноты глухого пространства.
Глава 2. Школа
1
Еще летом, задолго до начала учебного года, Паша, уже окончивший первый класс, сводил меня к школе, показал все потайные места её двора, где они по переменам играли в войну, обвел вокруг бревенчатого строения с непривычно широкими окнами, вдоль тенистого палисадника с высоким заборчиком из штакетника и торкнулся в наружную дверь, но она оказалась закрытой. Лишь через мутноватые стекла окон, подсаженный Пашей на его горбушку, проглядел я и длинный, казавшийся необычно большим в сравнении с комнатами знакомых мне изб, коридор и классы, и даже учительскую. И заронившаяся в глубинах души некая робость перед всем тем, что связано со школой, еще больше усилилась, хотя бояться мне вроде было нечего: читал я хотя и не бегло, но вполне сносно, и считать не хуже Паши научился. Тем не менее тревога с накатами радости все сильнее и сильнее охватывала меня по мере приближения заветной даты.
* * *
Я плохо спал, боясь опоздать на уроки в первый школьный день. Но перед утром сон все же поборол меня, и я очнулся лишь после настойчивой побудки.
– Разоспался, как барин, – сердилась Шура, – не успеешь поесть и собраться.
Из кухни пахло хлебом и древесными углями. Нагретая печь дышала мягким теплом.
Я прижмурился от яркого света, лившегося через окна.
Дед сидел на скамейке и пил чай с пирогами. Улыбнулся:
– Продремал малость. Давай умывайся – да за стол, пироги стынут. Кольша вон уже смылся к Лукашовым, хотя ему и во вторую смену учиться.
Матушка хлопотала возле печки. Лицо её румянилось от близкого жара.
– Теперь не поспишь, как прежде, – она обернулась ко мне с радостной улыбкой, – теперь ты ученик. Одногодки твои уже во втором классе, а ты – октябрьский, и потому в прошлом году тебя в школу не взяли. Так что – догоняй, старайся.
Я и так старался: еще с вечера сложил в портфель старый букварь, пенал и ручку с чернильницей, повесил на спинку кровати новую рубашку и костюм, примерил новые ботинки. Все это купил перед войной отец, рассчитывая отдать меня в школу в том, прошлом, году. Вещи и лежали в сундуке в ожидании своего времени. Правда, все они были мне несколько маловаты, но вполне сносны.
Едва я уселся за стол, как в избу ввалился Паша. Без портфеля, с какой-то тряпичной сумкой, в старых, разношенных сапогах, похоже – материнских, и, поздоровавшись, уселся на дедов сундук у порога.
Выходило, что зря меня торопили – уж Паша-то никогда не опаздывает, проверено.
Глядя на его обувь и подштопанную рубаху, мне стало как-то мучительно стыдно. Потянулись безотрадные мысли, и, соскользнув с лавки, я пальцем поманил мать в горницу.
– Чего ты? – негромко спросила она, поправляя платок, закрывавший её густые волосы.
– Давай отдадим Паше одну мою рубашку, а то он в застиранной идет в школу.
Матушка оглянулась, как будто опасаясь, что нас услышат.
– Я уже думала об этом. Но он постарше тебя – не подойдет, поди, ему твоя рубашка.
– А ты ту самую, которую покупали на вырост.
Мать открыла чемодан с вещами, достала новую рубаху и вышла в кухню.
– Померь-ка, Пашенька, вот эту, а то твоя уж больно неприглядная для школы.
Паша покраснел, нагнул голову, но не пошевелился.
– Померь, померь, – обернулся на разговор и дед – он сразу понял, что к чему.
– Новая, Паш, не надевал ни разу, – подтолкнул и я друга в бок. – Бери насовсем.
Кое-как мы уговорили его надеть предлагаемую рубаху, и Паша сразу стал заметнее, красивее вроде.
– Прямо, красный молодец! – не обошлась без насмешки Шура. Она, как мне показалась, не очень одобрила наш поступок.
– Маленько тесновата, но сойдет, – оглядывая друга, порешила матушка. – Носи на здоровье да старайся учиться.
Я рад был за друга, и на улицу мы выскочили бегом, забыв, что идем не играть, а в школу.
День выдался солнечный, игривый, но с блестками изморози на жухлой траве. Попискивали, обследуя застреху сарая, желтогрудые синицы, возились с щебетом щеглы в палисаднике, бились в драке юркие воробьи, что-то не поделив, а мы бежали к школе, навстречу первого дня учебы.
Веселый гомон ребятни мы услышали издали, не дойдя до ограды. Гурьбой носилась они по двору в какой-то игре. Взрослых не было, и это ясно – в страду все работали. Мы было направились к заплоту, на котором сидели знакомые ребята: Мишаня Кособоков и Антоха Михеев, но из школы вышла маленькая старушка и зазвонила в колокольчик.
Всех учеников – от первого до шестого классов – построили в одну шеренгу, и мы вытянулись почти во всю ограду. Юркая невысокая женщина начала что-то говорить с торжественными нотками в голосе, но я плохо улавливал смысл её речи, дрожа всем телом от охлажденного ночным морозцем и еще не согретого воздуха. Да и сердечко трепетало от волнения. Но что удивительного, краем зрения я заметил стоявшего в отдалении того самого старика, который приходил к нам смотреть корову и потчевался дедом за столом. Опершись ладонями на палку, он ни то слушал директрису, ни то сам что-то нашептывал, поглядывая на наш разновозрастный ряд. Его роскошная, словно выбеленная ночным инеем, борода прикрывала полусогнутые колени, волосы на голове дыбились седой куделью, но самое непонятное – дед был босиком. И это на траве, еще не обсохшей от растаявшего инея, выпавшего ночью! Широкие и узловатые его ступни будто и не ощущали холода: не было заметно хоть какого-либо их шевеления.
Вновь резкий и звучный звон колокольчика отпугнул и сердечную тревогу, и несостоявшиеся предположения по поводу непонятного деда. Смешавшись в тесной гурьбе, мы ринулись в коридор, растекаясь в классы. Их оказалось всего два. С нами, в первую смену, определили сидеть третьеклассников – они и заняли два ряда ближе к окнам. А после нас, с обеда, предполагался на учебу второй и четвертый класс. Так что с Пашей – второклассником учиться в одну смену не получалось. Зато Шура была пятиклассницей, и я, как-никак, оказывался под надзором, да и с поддержкой в случае чего. Пятый и шестой классы тоже должны были заниматься с утра – за стенкой от нас.
А Кольша шел в седьмой класс, во вторую смену, и с ним мы не совпадали по времени.
Вбежав в класс, я увидел учительский стол, крашеные в черный цвет парты, в углу – круглую, под самый потолок, печку, обшитую листовым железом, тоже черную. Толчея, споры – кто, где?..
Я не стал претендовать на первые места и сел за парту третьего ряда. Вошла пожилая, высокая и худощавая учительница. Как потом оказалось – она была из тех эвакуированных, которых завезли в нашу деревню зимой. Поздоровавшись, учительница внимательно оглядела едва ли не каждого первоклассника, а было нас не меньше двух десятков, и низким голосом произнесла:
– Во-первых, когда учитель входит в класс, все обязаны вставать, и в ответ на приветствие – дружно его приветствовать. Во-вторых, посторонних разговоров, а, тем более, лишних движений, не должно быть. В-третьих, запомните одно из основных правил – никаких опозданий на уроки. А теперь давайте знакомиться: меня зовут Екатерина Дмитриевна.
Началась перекличка. Учительница поднимала по очереди каждого и спрашивала имя, фамилию, сверяя ответы со списком. Не обошлось и без курьезов. Один мальчишка на вопрос учительницы, как его фамилия, ответил:
– Глухушкин.
Раздались смешки, невнятные возгласы.
– Но у меня такая фамилия не значится?
– Это по-уличному, – выкрикнул кто-то из третьеклассников. – У него мать глухая – вот и прозвали Глухушкиным. Шатков он.
– А прозвища давать нехорошо.
Но оказалось Шатков был не единственным, кто путал прозвище и фамилию. Прозвучали: Варюшкины, Аксюткины, Лизкины, Мишкины и иные – все по именам родителей. И тому причиной являлись не только прозвища: в деревне жило немало однофамильцев и, чтобы не путаться, их удобнее было называть по именам матерей или отцов.
Не очень понравился мне первый день в школе: все, о чем говорила нам учительница, в том числе и домашнее задание, было почти доподлинно знакомо и не вызывало какого-либо познавательного интереса. Одно тешило: на длинной, минут в двадцать, перемене мы большими командами играли в войну, и мне пригодился тот, первый летний, опыт под руководством первейшего друга Паши.
2
Школьные задания давались мне легко, и ясный солнечный сентябрь пролетел быстро, в тех же прошлогодних хлопотах по хозяйству: возили сено, копали картошку, заготавливали дрова, но теперь, во всех делах, я уже был не наблюдателем или суетливым недотепой, а достаточно весомым по своим годам помощником.
В начале октября зачастили напористые ветра. За несколько дней они сбили с деревьев листву, и обнаженный лес потемнел, ощетинился голыми ветками, и дед забеспокоился.
– Надует этот ветер непогоду. Надо последний стожок вывезти, а то по снегу не дадут лошадей гробить. Они хотя и колхозные, но теперь ценнее ценного. Выездных жеребцов отрядили в армию, а оставшихся надолго не хватит – без жеребца, какой приплод.
– Поедем пораньше, чтобы косачей почучелить, – заиграл глазами Кольша.
Дед поддержал его. А куда я от них… И вот наступил долгожданный момент. Я и молоко пить не стал, и говорить старался меньше, так тряс меня внутренний озноб. Дед улыбался, щурясь, понимая мое состояние, а Кольша подтрунивал:
– Чтой-то ты зубами чакаешь? Замерз или боишься?
– Это у него от волнения, – стал на мою сторону дед. – А ты иди-ка за чучелами в сарай, да топор не забудь и вилы. – Он задул лампу, и мы тихо вышли в сени.
Было настолько темно, что в первый момент я даже не различил открытых дверей и задел плечом косяк.
– Глаз коли, – отозвался дед, – а уж скоро заря…
Поглядев вверх, я едва различил слабые контуры крыши сарая.
– Погоди здесь, я запрягу лошадь. – Он тут же пропал в темноте. Сапоги его глухо простучали о промороженную землю.
Несмотря на холодный ветер, дрожь у меня прошла. Я осторожно спустился с крыльца и пошел в сторону ворот. Натыкаясь рукой на доски заплота, долго искал калитку. Дверца скрипнула, словно пожаловалась, что ее рано потревожили. На улице было, как в погребе: темно и тихо. Слабо серели силуэты ближних дворов, а дальше все тонуло в сплошной черноте. Тихая эта таинственность, в который уже раз, взволновала меня, подняв жгучую радость новых познаний…
Телега прогрохотала по застывшей земле. Я увидел лошадь, выступившую из темноты, почти рядом с собой.
– Ты где? – позвал дед, останавливаясь. – Влезай – время не ждет…
Забежав с задней стороны телеги, я плюхнулся на холодную солому, настеленную на досках, и тут же появился Кольша. Он забросил мне под ноги мешок с чучелами, а деду подал топор и ружье.
– Поехали! – ловко перемахнув через борт телеги, крикнул он.
Лошадь взяла резво – телегу затрясло, забросало из стороны в сторону. В вымерзших лужицах захрустел ледок. Защекотал лицо стылый воздух. Но мое душевное волнение не исчезало: что будет там, в неведомом ночном лесу? В таинствах серьезной охоты? Чему удивлюсь? Отчего вздрогну?.. Дома-то все обвыклось, потеряло остроту новизны. А тут такое!..
За деревней стало светлее. Отчетливо выделялись и трава, припудренная инеем, и темная дорога с белыми, как плесень, пятнами изморози. Шире заиграло небо глубинной прозрачностью и густотой звезд…
Как-то незаметно, отдаваясь каждый своим мыслям и чувствам, мы доехали до темного, беспросветного леса. Лишь в его глубине, полностью гасящей взгляд, слабо белели высокие березы, печатаясь вязью голых вершин на посветлевшем небе…
Держась обеими руками за борт телеги, я до рези в глазах вглядывался в каждый куст, каждую неясную валежину, каждый пень… Вдруг за ними кто-нибудь прячется!.. Вдруг волки?.. Или какой-нибудь невиданный зверь!.. Но опушка медленно проплывала мимо, и ничто не нарушало ее зябкой тишины: ни звуком, ни движением.
И вдруг впереди показался какой-то темный большой силуэт. По спине словно провели влажным концом полотенца. Сердечко екнуло… Миг, и я разглядел стог сена…
– Прибыли, – вполголоса объявил дед, останавливая лошадь. – Поднимайте чучела, а я коня распрягу…
Первым спрыгнул в сухую траву Кольша. Он взял топор, мешок с чучелами и пошел к лесу, ничего не сказав.
Я тоже сполз с телеги, ловя затекшими ногами землю, и поспешил за ним. Тревожно застрекотала сорока в глубине леса, и Кольша остановился, вглядываясь в ближние деревья.
– Рано всполошилась. Нас услышала или зверь какой напугал. – Он бросил мешок с чучелами в траву. – Ты со мной не ходи, побудь здесь, я один подчучельники вырублю…
Чутко ловил я каждый шорох, стоя на опушке леса, и слышал, как дед тихо бормотал что-то, разговаривая или сам с собой, или с лошадью, как ломались сухие сучья под ногами у Кольши, как уныло свистел ветер в деревьях, и мысленно торопил события: ну скорее бы началась охота!.. Скорее бы!..
Гулко застучал топор, отпугнув все звуки, и сразу потеплело на душе от этого домашнего стука, отлетели ненужные мысли…
Пока дед возился со сбруей, распрягая лошадь, и маскировал телегу у стога, Кольша приволок три прогонистых березовых шеста.
– Держи, – подал он мне тонкий конец одного из них. Сам он наклонился и вынул из мешка чучело косача, сшитое из черного сукна. – Есть один! – Кольша насадил на шест чучело, всунув его острие в специально оставленное отверстие. – Поехали. – Он потянул шест к разлапистой березе на опушке колка и поднял его, прислонив к одному из нижних сучьев. – Придерживай, чтобы не упал. – Ловко охватив корявый ствол дерева руками и ногами, Кольша полез по нему и быстро добрался до толстого отростка. Опираясь на него, он потянул к себе шест вместе с чучелом, просовывая вверх промеж сучьев.
Я стоял, задрав голову, втайне завидуя Кольше, и восхищался его ловкостью, замирая от остроты чувства страха перед высотой.
Так, перетягивая за собой шест с чучелом, Кольша долез чуть ли не до вершины дерева и укрепил шест раздвоенным концом на одном из сучьев. Чучело зачернело над самыми верхними ветками березы и удивительно походило на сидящую там птицу. Слез Кольша быстро и поволок второй шест с чучелом к другой березе…
– Как тут у вас? – Вздрогнув, я оглянулся. Сзади стоял дед, подняв голову. – Сойдет, – остался он доволен тем, как поставлено чучело. – Валяйте дальше, я пойду скрадок делать…
Быстро светало. Далеко отходил от леса покос со стогами сена, подпирало ближние островки леса обширное жнивье с частыми кучками соломы, и убегала вдаль травянистая пустошь…
Дед ходил по лесу, ломая мелкий валежник, топтался у кряжистой березы. И пока я наблюдал за ним, подошел Кольша.
– Все! Четыре чучела поставил – три на березах, а одно на тальнике пристроил. – Лицо его было распаренным и веселым. – Идем теперь за соломой. – Торопясь, он направился к жнивью. Я – за ним.
Большая кучка соломы желтела невдалеке, Кольша охватил ее сверху и крикнул мне:
– Бери тоже охапку!
Мой клок соломы, который я выхватил сбоку, трудно было назвать охапкой, но кое-что я все же понес. Солома пахла землей и пшеницей. Легкая вначале поноска быстро потяжелела, поползла вниз, мешая ходу. Выглядывая из-за нее, я не терял из вида Кольшину спину и крепился, сильнее и сильнее сжимая немеющие руки…
– Довольно, – услышал я близкий голос деда и тут же почувствовал облегчение: он забрал у меня готовую соскользнуть под ноги солому.
Скрадок из притуленных к березе хворостин был не плотен, светился насквозь, и я, умеряя дыхание, не выдержал:
– Как тут прятаться?! Видно же…
Дед стал напихивать солому внутрь скрадка.
– Спрячемся. Сейчас натрусим соломы поверху и – в аккурат будет.
– Я пойду. – Кольша заторопился.
– Давай. Да лошадь шибко не гони. – Дед уминал подстилку, посунувшись в скрадок. – С болота начинай, с тальников…
Кольша двинулся к стогу. Шаги его скоро затихли.
– Лезь. – Дед подтолкнул меня к скрадку. – Устраивайся.
Меня накрыла теплой волной тихая радость: наконец-то начнется охота! Став на колени, я прополз под сучьями в скрадок и привалился спиной к комлю березы. Отсюда сквозь ветки видно было и заголубевшее небо, и все чучела на крайних деревьях, и ближние дали…
– Ну как, ветки в глаза не лезут?..
Меня немножко трясло от нетерпения: и чего дед канителится?! Прятаться надо!
– Да не-е… – все же отозвался я.
– Вот и хорошо. – На короткое время большой дед загородил половину света. – Да тут чаи гонять можно. – Глаза у него весело поблескивали. – Отрада! – Дед зарядил ружье и прислонил его к сучковатой валежине. – Теперь смотри и слушай!..
Лес прояснился до каждого сучка, до каждой веточки. Даже самые густые его чащи приобрели свой привычный рисунок. В соседнем колке наперебой застрекотали сороки, дробно зачастил кто-то палкой по дереву.
– Дятел, – шепнул мне дед, заметив, как я насторожился. И тут раскатисто, с задором и вызовом, прокричала какая-то птица в соседних кустах, еще и еще.
– А это куропат. – Дед улыбался, понимая меня. – Этот хитрый – на чучела не прилетит.
Кто-то захлопал крыльями о ветки, и дед схватился за ружье. На вершине одной из берез я увидел большеголовую и длинноклювую ворону.
– Кыш, стервятина! – Дед зашевелил сучками, и ворона улетела. – Думал косач…
Над дальним лесом небо порозовело. Закраснелись вершинки деревьев. Робко зашелестел соломой свежий ветерок. Засуетились, запищали какие-то птички, и вдруг где-то далеко-далеко раздался непонятный крик. Кричал не то человек, не то зверь какой. Не отчетливо, глухо, и я качнулся к деду, робея.
– Не бойся, это Кольша орет в ряму, косачей пугает.
И тут я заметил у соседнего леса больших черных птиц, летящих низом, и зашептал, чувствуя, как горло перехватило от волнения:
– Косачи, деда! Косачи!
– Тише ты! Вижу! – Дед заволновался, загораясь давно охватившим меня азартом. Он весь напрягся, глаза засверкали особым светом…
Но косачи осыпали соседний лес, рассаживаясь по нему с громким хлопаньем крыльев. Я чуть отвлекся и замер: к одному из наших чучел садился косач, блестя вороненым оперением в лучах взошедшего где-то солнца. Он коротко проквохтал и затих, вертя головой. А я не смел пошевелиться, замерев в неудобной позе. Выстрел грянул оглушающе, встряхнул лес, прокатившись по нему многократным эхом. Синий дым застлал скрадок, но я все же увидел, как тетерев стал валиться вниз, ударяясь о ветки, и рванулся было наружу, но дед удержал меня:
– Сиди! Он теперь никуда не уйдет, а других отпугнуть можешь…
Пахло горелым порохом. Дым от выстрела медленно таял. Отчетливо слышались Кольшины крики в дальнем лесу. Белыми тряпицами протрепыхали над полем куропатки. Вдруг где-то сзади раздалось знакомое квохтанье. Я оглянулся и увидел на кряжистой березе серую птицу.
– Тетерка, – шепнул дед. – Эта пусть поживет. Она весной выводок даст… – Он не успел договорить, а я осмыслить его слова, как сразу несколько черных длиннохвостых птиц накрыли наш колок, захлопали крыльями по веткам, устраиваясь поудобнее. До чего же эффектны были они в лучах раннего солнца! Не выдержав напора жгучего волнения, я подался к деду, задышал ему в ухо быстро, с отчаяньем:
– Деда, вон еще! Вон еще! – Ответом на мой жаркий шепот был хлесткий выстрел. Но теперь меня дед не удержал. Забыв обо всем, я выскользнул из скрадка и, спотыкаясь о валежник, кинулся к бьющемуся в агонии тетереву.
– Вот он, деда, вот!..
А дед уже шел ко мне с веселым лицом.
– Ну и горячий ты! Разве ж так можно? Чуть лоб не расшиб о березу. – Он потрогал затихшего косача. – Тяжелый, нагулялся. Зерна-то натерялось предостаточно. Ну, пожалуй, хватит. Надо и край знать. Да и сеном пора заняться…
Сверкало над вершинами дальнего леса поднявшееся солнце, играло нежными переливами небо, и сладко замирало сердце от неосмысленных осветленных чувств…
3
От отца пришло письмо. Он писал, что зачастили дожди – под ногами в траншеях слякотно, струйки воды стекают по брустверу, с залива дует пронизывающий шинели ветер, что немцы почти каждый день атакуют, пытаясь сбить оборону, чтобы прорваться в город… «… Вчера водил роту в контратаку, пришлось схватиться врукопашную…» Дрогнуло сердечко, остро подумалось: «Вот так-то, пока мы здесь в затишке сидим – отец там вместе с солдатами насмерть бьется, и в любую минуту может погибнуть…» От этих мыслей даже в глазах заточило, и чтобы проморгаться, я глянул в окно.
По стеклам рам змеились струйки осеннего дождя, и, глядя на них, я живо представил: и траншеи с грязными стенками, и бойцов в сырых шинелях, и рукопашный бой, и с тоской подумал, что в такую непогодь и нос на улицу не высунешь, а бойцы днем и ночью в окопах.
– Дедушка, а как в окопах спят? – с дрожью в голосе сорвалось у меня.
Дед подшивал Шурин валенок и даже не оглянулся.
– Что, отцовское письмо скребет? – понял он мою тревогу. – В окопах, внук, не спят, в них на ночь лишь часовые остаются, а все остальные в блиндажах ночуют. Это такие землянки, накрытые бревнами и дереном. В них хотя и не тепло, но не так сыро, а зимой и печки-буржуйки устанавливают. Так что, кое-какой отдых у бойцов все же бывает. Ну а днем у всех ушки на макушке – все в окопах, только часовые, что были в ночном дозоре, отсыпаются. Вот так-то, Леньк. Не до хорошего. Война, будь она проклята. Когда я был на фронте, «еропланы» только-только летать начинали, бросали бомбы на блиндажи, но без особого вреда, а теперь, поди, от бомбежки и в блиндаже не спасешься – земля дыбится. Да и пушки не чета тем, что были в Первую мировую. – Дед отложил валенок и потянулся за кисетом – вероятно, мой неосторожный вопрос вызвал у него волну тягостных воспоминаний, и табачок в таком разе всегда кстати. – А что касается рукопашного, так и мы частенько с германцами схлестывались и всегда побеждали – сгодились нам навыки кулачных боев, какими мы в деревне нет-нет да и загорались по молодости лет. Думаю, что и сейчас наши германцу не уступят…
Дед явно успокаивал меня, но на душе все равно было тревожно.
* * *
Морозило. Даже в плотной соломенной засидке было зябко, и мы с Кольшей жались друг к другу, стараясь не пропустить ни малейшего шороха в настоявшейся тишине ночи.
К этой охоте Кольша готовился заранее. Еще в сентябре, когда вывозили сено и случайно наткнулись на барсучью нору, он обкосил весь бугор, заросший коноплей и крапивой, обнажив все входы и выходы из звериного жилища. После к двум молодым березкам, росшим на отшибе между бугром и заболоченным лесом, мы натаскали целую копну ржаной соломы с ближнего жнивья, соорудив засидку.
– Пусть зверь привыкает, – объяснил Кольша смысл наших хлопот. – Перед тем как залечь на зиму, барсук усиленно жирует. Вот мы и придем его караулить в полнолуние…
И время приспело…
Огромная луна выбралась из плотного леса, и на пожухлой траве заискрились кристаллики инея. В отраженном свете луны четко было видно весь бугор с темными пятнами отнорков, глубокий провал основного барсучьего лаза, залитого густой тенью, и слегка просветленный таинственно молчаливый лес. В немом том оцепенении, когда ни говорить, ни шевелиться нельзя, млел я в настороженном ожидании прихода зверя, который, по словам Кольши, еще с вечера, по темну, ушел из норы жировать и скорее всего на болото в глубине леса. И душевное это томление наверняка бы увело меня в мир сновидений, если бы не пробиравший до дрожи озноб, вызванный холодом, щекочущим тело через слабую одежонку. И вдруг в этот чуткий морозный настой ворвались переливчатые звуки какого-то переклика. Вначале далекие, едва уловимые, потом сотрясающие этот застывший воздух. Клы-клы-клы – густо, без перерыва, полилось сверху, падая в дрогнувший отголосками лес и накатываясь оттуда многократно усилившись.
Я напрягал глаза, пытаясь разглядеть в мутном, хотя и усыпанном звездами, небе что-либо, но тщетно. Мелодичные крики стали быстро затихать и скоро вовсе растворились в той же прежней жутковатой тишине. Печалью дохнуло от этих тревожных криков улетающей на юг запоздалой стаи гусей. Неосознанной тоской тронуло душу, и тут же мой тонкий слух уловил легкое шлепанье чьих-то шагов по опавшей листве. Голову обдало теплом… Топ-топ-топ – четко раздалось из густых лесных сумерек и тут же затихло. Как ни приглядывался я – ничего и никого не было видно. И опять звуки чьих-то шагов возникли в том же месте, будто кто-то топтался с удовольствием на мягком листовом настиле.
Мы переглянулись. Кольша медленно приложил палец к губам, всматриваясь в облыселый бугор, но там никого не было. И по опушке леса, глубоко высветленной бледным лунным сиянием, не замечалось никакого движения. Но шаги, то возникая, то теряясь, все так же четко падали на листья где-то совсем близко. И робко пробралась в мысли тревожная думка о тайных обитателях леса, о их злом коварстве, колдовстве, и сердце сжалось в легком ознобе: ну кто еще мог так громко топать и быть невидимым?! В это время какой-то черный ком выкатился из-за ближних березок, закружил зигзагами по стерне. Я осознать ничего не успел, как выстрел расколол стылую тишину, покатился в лесные чащи, оглашая своими глухими переливами уснувший мир. Живой черный ком, показавшийся мне мохнатой свиньей, со странным хрюкающим звуком перевернулся несколько раз катком и медленно пополз к черному отверстию огромной норы. Кольша дергал затвор, пытаясь вытянуть застрявшую гильзу, но это ему не удавалось. Я трепетал в избытке чувств, не зная, что делать, а неопознанный зверь явно стремился уйти от нас в нору.
Кольша, сбив солому, рванулся из нагретой засидки. Я – за ним. Мохнатый зверь резко прыгнул нам навстречу.
– Не подходи! – крикнул Кольша. – Цапнет! – Он снова рванул затвор берданки и выдернул раздутую гильзу.
Пока Кольша искал в кармане патрон, я успел охватить взглядом таинственного топтуна. Зверь скреб когтистыми лапами землю и фыркал, тряся узкой ушастой головой с белыми полосками на морде. Зад его был широкий, полушаром, с густой темной шерстью.
Снова громыхнул выстрел, и зверь перевернулся, показывая седоватое брюхо, задергал короткими, толстыми лапами. Холодная тишина снова обступила нас. В ушах тоненько звенело, билась на виске жилка, пылало лицо…
Кольша ткнул ногой затихшего топтуна.
– Здоровый барсучина! Одному и не дотянуть. – Голос его звенел от напряжения. – Неси ружье. – Он подал мне берданку. – Я его на горб поднять попробую. – С трудом захватив когтистые лапы, Кольша взвалил зверя на спину. – Пуда на два будет. Хватит нам мяса надолго.
Я не очень-то еще знал эти пуды, но видел, как Кольша согнулся под необычной ношей. От зверя шел запах крови, мочи и еще какой-то незнакомый.
С гордостью, что мне доверено ружье, шагал я за Кольшей, поглядывая на шерстистый хребет барсука, закрывшего почти всю Кольшину спину, на сверкающий диск высокой луны, на пестрый от света и теней лес, на искрящуюся от изморози траву, понимая, что барсук – добыча серьезная. Не то что утки и тетерева. А с мясом у нас не густо…
Глава 3. Учеба
1
Как-то сразу накатилась зима. Снег шел больше суток, тихо и плавно кружась в черном волглом от нудных дождей пространстве, а потом враз наступило ведро, заслонив засиневшие дали куржачной дымкой.
В воскресный день дед, наточив напильником двуручную пилу и топор, позвал меня и Кольшу в лес.
– Пока снегу немного, подрежем дровец, – утягивая полушубок опояской, как бы оправдывался он за то, что в единственный выходной день гонит нас работать, – а то, сдается мне, зима предстоит морозная, и пяток березовых корней не будут лишними.
– Одевайтесь теплее, – забеспокоилась матушка, явно не одобряя дедову задумку, – на улице, хотя и не очень холодно, но не на один час идете – наморозитесь. – Она тщательно накручивала мне шарф, завязывала шапку и следила за тем, как я надевал валенки.
Ослепительное солнце играло яркими блестками в кристаллах куржака, осевшего на пряслах и заплоте, плавало в отраженных бликах снежного пространства, утекая через степь к белеющему от инея лесу. Некогда наезженный проселок к нему выделялся среди старой травы и бурьянов, чистой, будто специально расстеленной перед нами полосой – ни санного, ни человеческого следа на нем.
Кольша торил дорогу, взрыхляя пушистый, еще не успевший слежаться снег. Мы с дедом шли следом, едва за ним поспевая. Целинный снег хотя и неглубокий, но все равно вязал ноги, и пока мы пересекали широкую луговину, отделявшую деревенские дворы от лесных полян, голова взмокла, и мне стало казаться, что лес не приближается, а, наоборот, – медленно удаляется от нас. «Будто знает, что мы идем к нему не с добром, – мелькнула налетная мысль и тут же погасла. – А иначе, как же печку топить? Замерзать?..»
Наконец обметанные куржаком деревья поднялись перед нами под самое небо, сияя в лучах солнца радужными блестками. Дед стал переходить от одного дерева к другому, гулко стуча топором по их стволу, чтобы сбить с веток густой иней, и оглядывал обнаженные от снежного налета сучья, словно прицениваясь к каждой березе. Причем росплеск оседавшего инея обрызгивал его всего, и дед прикрывался воротником полушубка, чтобы колючие снежинки не попали за шиворот.
Мы с Кольшей остановились поодаль, наблюдая за дедовой ворожбой.
– Чего это он ходит от березы к березе? – обернулся я к Кольше. – Разве они не все одинаковые?
– Выбирает те, которые не пригодятся для плотницких или столярных дел – с кривизной и сучковатые.
– Ему-то зачем? Он же не столяр?
– Не нам – так другим сгодятся. В деревне без делового леса не прожить. Вот он и мудрит.
«Странный дед, – подумалось мне. – Война идет, плотники и столяры там, а он уже о будущем заботится».
– Это у него привычка от давних времен осталась, – как угадал мои мысли Кольша. – Тогда у каждого крестьянина был свой отруб, надел значит от государства, а в том наделе и пашни были, и сенокосы, и лес. Каждый хозяин отруба и заботился о своих угодьях, зная, что земля эта перейдет к сыновьям, внукам, а им жить да жить.
Возле третьей или четвертой березы дед остановился, обтоптал вокруг неё снег и поманил нас варежкой.
– Эту, пожалуй, завалим. – Он все еще оценивающе оглядывал крону дерева. – Не больно кряжистая и наклон у нее, как раз на прогалину. Давай-ка, малый, подруби немного комель с той стороны, – кивнул он Кольше. – Да пониже бери. Как говаривал мой отец, чтобы летом, собирая грибы, мошонку о пень не поцарапать. – В глазах у деда игранули смешинки, но сам он даже не улыбнулся.
Широко размахивая топором, Кольша стал крушить промороженную древесину – корье и мелкие щепки полетели в разные стороны.
– Так и глаз себе вышибешь, – высказал недовольство дед. – Топором махать тоже с умом надо, а не абы как. – Он не стал долго ждать и махнул рукой: – Хватит, пожалуй, давай пилить. – Опустившись на колени, дед кинул пилу поперек комля. – Держи! – крикнул он Кольше.
Низко клонясь, они заработали пилой, шоркая рукавицами по настывшей листве, прикрывающей землю.
Я видел, как тяжело и неловко пилить в таком положении, как туго ходит в прорезе пила, и мысленно помогал им, стараясь волевым усилием напрягать взгляд от одного пильщика к другому.
Когда дед и вовсе уперся локтем в землю, чтобы протащить пилу, а у Кольши лицо покрылось краснотой, береза стала медленно клониться и, через несколько секунд, сбивая куржак с соседних деревьев и ломая их сучья, рухнула в тот самый проем, куда нацеливал её дед.
– Одну осилили, – смахивая со лба пот, удовлетворился работой дед. – Теперь ты, Кольша, обрубай сучья, а мы с Ленькой будем их стаскивать в одну кучу. К концу лета они высохнут и на растопку пойдут.
Разлапистые сучья цеплялись то за комли деревьев, то за мелкий хворост, то за валежины, и таскать их по снегу не так уж было легко: у меня и спина налилась жаром, и ноги в пимах нагрелись.
Управившись с сучьями, дед с Кольшей стали распиливать ствол дерева на части, с таким расчетом, чтобы посильно было их перетаскивать в сани и дровник.
Очистилось от однотонной пелены небо. Подул легкий ветерок, сбивая куржак с деревьев, и день подкатился к вечеру, когда мы управились с намеченной работой и двинулись домой. Несмотря на усталость, налившее тело, остро хотелось есть и пить. Но, плетясь за взрослыми, я ничуть не был огорчен потерянным временем и выпавшей мне работой, храня в душе некое светлое удовлетворение или даже радость от всего того, что пришлось пережить за день.
2
Дед вернулся из конторы, куда его зачем-то вызывали, расстроенный.
– Все, – скидывая полушубок, произнес он с горечью, – отъелись мясца – продналог повысили. Придется забивать бычка, а я планировал его до следующей осени держать – иной бы привес был. А теперь этот налоговый центнер еще и не вытянем. – И пошел у них с матушкой разговор, мне непонятный. Лишь мысль о том, что Марток будет зарезан, скребанула по сердцу: «Как же так? Я за ним ухаживал: кормил, поил, из стада встречал, даже разговаривал – и зарезать?!» – Такое не укладывалась ни в сознании, ни в душе.
– Можно и не травить себя виноватостью, – как угадал мою тревогу дед, – а сдать бычка живьем, заготовителю с мясокомбината, но мы от этого прогадаем. Весом все равно оценят не больше, чем выйдет на самом деле, если еще не надуют, а так у нас останется осердье, требуха и ноги с головой – холодец варить будем.
– А если не сдавать? – Объяснение деда меня не убедило, и боль неотъемлемой потери засела в сердце тревожной занозой.
– Опишут хозяйство и за бесценок все выскребут, или того хуже: с учетом военного времени, саботаж пришьют – в каталажку посадят.
Кое-что я, конечно, понял, но хотелось выяснить все до конца: и про каталажку, и про саботаж, но вошел Кольша и заявил:
– Своего мяса не будет – так зайчатину отведаем, и он показал моток тонкой проволоки. – Сейчас наделаю петель и расставлю по кустам.
Его азартное вдохновение отвлекло меня от тягостных переживаний.
– Это ты в амбаре взял? – не шибко-то поддержал Кольшин порыв дед. – Теперь проволоки нигде не возьмешь – ценнее зайцев будет.
Но разве нас остановишь? И занялись мы изготовлением петель, а через некоторое время уже шагали к ближним тальникам, глубоко увязая в снегу.
У первых же кустов засинели заячьи следы. Натоптанные зверьками дорожки тянулись вдоль опушки кустарников, разветвляясь туда-сюда, и Кольша приостановился:
– Вот видишь, тропы набили косоглазые. Гляди, где они проходят у близко стоящих талин, там и вяжи петли. Он показал мне, как их настораживать: на какой высоте, какой величины, как вязать, чтобы попавший заяц не смог быстро открутить проволоку. Тихая радость от того, что мне доверяют важное дело, вытопила все печальные мысли, и я стал с особым усердием настораживать петли.
Снег засыпался в голенища валенок, холодило мокротой ноги, да и морозец ощутимо щекотал лицо. Но до того ли было, когда занималось такое волнующее предприятие.
Кольша ушел в глубь тальников и где-то ставил свои ловушки, а я ползал с краю.
Не меньше часа провозились мы, настораживая петли, и полные надежд на удачу, в радужном расположении духа, вернулись домой под стылый вечер.
* * *
На другой день, когда Кольша был в школе, я, не сказавшись, двинулся к лесу один.
Зуд нетерпения (а что же там, в петлях?) был выше моего послушания. Едва ли не бегом, используя наши старые следы, добрался я до зарослей тальника. Несколько петель, к моему тревожному разочарованию, были пустыми, две – спущены, и только в одной застыл попавшийся зверек. Вмиг отлетели заплывшие в душу огорчения: еще бы – первый заяц, пойманный самостоятельно, в самостоятельно поставленную петлю! С великой радостью высвободил я добытого зайца и с той же поспешностью, с которой бежал в лес, запрыгал назад, в деревню. Тяжеловат был зверек, но нес я его на плече с гордостью – пусть все видят, какой я добытчик.
Едва ли ни половину широкого поля, отделявшего дворы от леса, пересек я, когда увидел в редких приозерных лесочках толпу быстро бегущих людей, и оторопь остановила мой шустрый ход: ни ко мне ли спешат эти люди? Ни заяц ли в том причиной? Вдруг их нельзя ловить петлями?.. Но, пока я раздумывал, холодея и от накатившихся мыслей и от пронизывающего ветра, бегущие вразброс люди скрылись за первыми дворами. Выждав с минуту, я еще быстрее заспешил к дому, теряясь в догадках: что за люди и в чем дело?
Дома, не до конца выслушав дедову похвалу по поводу пойманного зайца, я выложил ему про бегущую из-за озера толпу и заметил недоумение в глазах деда.
– Там, в приозерных лугах эвакуированные бьют канаву, а почему бежали – не знаю. – Дед поглядывал на меня в раздумье. – Выяснить не долго: сбегаю сейчас к Прокопу Семенишину – у него двое постояльцев из эвакуированных, скажут, что к чему. – Дед стал торопливо одеваться, а я зачастил:
– Какую канаву? Зачем?
– Власти хотят спустить воду из нашего озера, чтобы добывать торф. Фашисты жмут во всю силу. Под Сталинградом бои кровавые. Сколь наших сибиряков полегло там – не счесть. И, возможно, военные заводы придется эвакуировать в нашу глубинку, а им надо и тепло, и электричество. Небольшую электростанцию построят для этого. Торфом и будут топить.
Столько сразу мало понятного. Я и переварить всего не успел, как дед скрылся за дверью. Мучайся теперь – не мучайся, а жди, когда он вернется и расскажет, что к чему.
Лишь вечером выяснилось, что эвакуированные испугались стаи волков, появившейся в степи неподалеку от тех мест, где они работали.
– А что за канава? – приставал я к деду с вопросами. – И как её бьют в такой мороз – земля, что камень?
– Я же тебе говорил про канаву – вода по ней должна пойти в соседнее озеро, чтобы торф обнажился. А долбят землю ломами и кирками. Нелегко, но, видно, надо. Да и кое-что им платят – иначе, как жить без хозяйства. Все с купли.
– Кому там бить эту канаву, – вмешалась в разговор матушка. – Одни женщины да подростки со стариками. Да и побудь-ка целый день на морозе. Похуже той блокады будет.
– Им дрова подвозят. Костры жгут – сами греются и землю греют, чтоб хоть немного отошла. Выстоять можно. Не под бомбами и снарядами в голоде, – пояснил дед. – Им и паек кое-какой выдают. А еще неизвестно, каково нам будет…
Разговоры, разговоры. А я представил широкую заозерную степь и горстку людей, копошившихся возле дымного костра, ломы, лопаты… И вдруг волки из-за кустов, целая стая. Подростки-то побегут, а как другие?..
Вопросы, вопросы. Ни конца им – ни полного ответа. И я решил сходить к Паше со Славиком – уж они-то наверняка кое-что про ту работу знают.
А через несколько дней посветлели у взрослых лица, повеселели голоса – наши разбили немцев пол Сталинградом.
– Шибко-то радоваться рановато, – высказал своё мнение об этой победе дед, – германец еще силен, еще воевать да воевать придется. То, что мы его сломаем, я не сомневался с самого начала, но кровушки людской еще прольется ох как много.
Тем не менее настроение взрослых и нас, малолеток, как-то зацепило, и хотелось стремиться куда-то к еще более светлому горизонту, к высокой учебе с полной отдачей своих способностей.
Глава 4. Недоимка
1
Густо затекли синевой окна, когда мы выбрались из дома. Слабо мерцали звезды на побледневшем небе, и глухо стучала под ногами схваченная морозцем земля, пестрая от запавших в тайники остатков снега и оловянных разводьев подстывших луж. Все, что натопило ярое солнце за долгий весенний день, было сковано ночным возвратом зазимья.
Кольша нес ружье. Я – манишку. Так называлась нехитрое устройство, похожее на большое кленовое семя, сделанное из глиняного шарика, обмотанного белой тряпицей, и двух тоже белых перьев гусиного крыла, воткнутых в шарик под углом друг к другу. В кармане у меня еще лежал клубок старой бельевой веревки, за которую предполагалось привязывать манишку.
Шли мы на какие-то гари, где токовали куропачи и которых, по словам Кольши, там водилось уйма. По давно принятой договоренности мы молчали, придаваясь каждый своим размышлениям и воспринимая живой мир единолично. Пока мы, обходя разливы и лужи, дошли до леса, он весь высветился чистым зоревым наплывом, окрасившим сзади нас небо густым румянцем. Ночной морозец отлетел и почти не ощущался. Глубоко в чащах завязли остатки сугробов, закраины которых блестели тонким ледком, накрывшим талые воды. По травянистым гривам, тянувшимся в междулесье, бугровым плешинам обходили мы затекшие весенним роспуском места. Неопределенные тонкие звуки поплыли в лесных просторах, когда мы остановились на опушке редколесья, за которым плотными валами рдели кустарники.
Кольша долго присматривался к окружающему пространству, пока не выбрал неохватную валежину на краю зимней вырубки, лежащую посреди молодого ивняка. На нее мы и присели, спрятавшись за этими кустами. Кольша забрал у меня и манишку и бельевую веревку и некоторое время прислушивался, приглядывался, разматывая веревку и укладывая ее особым образом.
Вот-вот должно было проклюнуться где-то солнце, и зоревой свет не оставил и следа утренних сумерек: все было видно, как днем. Робко и тоненько затянула несложную трель зарянка, засуетились где-то сороки, лениво прокаркала ворона, и вдруг звучно, в несколько раз громче петушиного призыва, закричала какая-то птица, закуролесила голосом, совсем ни на что не похожим, еще и еще. Где-то там, неподалеку, в молчаливых кустарниках. И дальше, как эхом, отозвались такие же крики в двух или трех местах. Я сразу догадался, что это затоковали куропачи, но не стал об этом спрашивать: молчание на охоте доля успеха…
Кольша покачал в руке манишку и подбросил ее над кустами, целясь в свободный от них промежуток. Взлетев невысоко, манишка медленно завертелась в спуске и упала в траву. Выждав немного, Кольша за веревку подтянул ее к себе и вновь бросил. Точно, как кленовое семечко с двумя крыльями крутилась манишка в воздухе, над кустами, белея и перьями, и тряпицей, словно птица вспархивала в некоем призывном полете.
А бойкие крики куропачей забивали все другие звуки, откатываясь в пространстве такими горловыми выкрутасами, повторить которые невозможно. После нескольких похожих бросков оглушающие крики: ко-ко-ко-ко – раздались совсем близко. Между деревьями промелькнуло что-то белое, дрожащее, и на одном из пней, как ком снега, возникла слегка взъерошенная птица. Вытянув шею, потоптавшись по кругу и чуть-чуть опустив крылья, прилетыш, слегка надувая шею, затянул: кобевв, кобевв, кобевв… Брови у крикуна ярко краснели, хвост топорщился веером… Я смотрел на него, не мигая, и кажется жил в каком-то другом измерении: ничего не воспринимая из окружающего мира, кроме исходящей в брачном экстазе птицы.
Выстрел вывел меня из того колдовского оцепенения. Петушок слетел с пня и исчез, Кольша хмуро осматривал ружье, но я понял, что оно тут не при чем – виноват стрелок. Видимо, и Кольша волновался, тронутый необычной близостью играющей птицы. Не сказав ни слова, он вновь зарядил ружье и подкинул манишку… Не скоро, и на тот же пень, прилетел еще один куропач, и выстрел был более удачным.
Когда солнце залило лес, у нас было уже два добытых куропача, и Кольша решил кончать охоту.
Улыбалась природа, улыбались мы друг другу, неторопливо обходя льдистые места. Я нес в сумке куропачей. Кольша – манишку и ружье. Наплывало стойкое тепло, трезвонили птички, и ни то едва уловимый шепот, ни то легкий звон шел по лесу, а может, то и другое, и спугивать их не хотелось – я и молчал, тая то трепетное состояние, которое охватило меня еще там, в лесу, в момент жаркого ожидания дичи. И Кольша молчал, неся свои мысли: светлые ли, тревожные – во всяком случае, лицо его было веселым.
Уже на подходе к приозерной улице мы услышали какие-то крики и увидели у избушки Журавлихи, прозванной так за отдаленность от основной улицы и фамилию, несколько человек. Издали не понятно было, что там происходит, но отдельные выкрики до нас донеслись.
– Не подходите, зарублю! – взлетал до визга женский голос. – Не побоюсь греха – все равно погибель!
Такого высокого голосового надрыва я еще никогда не слышал и оторопел, вздрогнул, как от неожиданного удара, в мгновенье потеряв и благостный настрой, и теплоту ощущений звенящего дня.
Кольша тоже приостановился, вглядываясь в полуразгороженное подворье.
– Вроде бы Журавлиха кому-то топором у ворот грозит, – не то с тревогой, не то с затаенным любопытством произнес он, – а у ограды три мужика чужих и скорее всего какое-то начальство. Грабить-то у неё нечего.
– Не подходите! – снова вскрик на грани визга. – Рубану!
Я видел лишь какое-то мельтешение за изгородью подворья, но ничего не мог разобрать.
– Пошли! – Кольша дернул меня за рукав. – Нам туда соваться нечего – там что-то серьезное завязалось, не по нашей шапке. – И он быстро зашагал в переулок.
Я отставал, перебирая ногами едва ли не в пробежке. В ушах все еще озвучивались те надрывные крики, а мысли искали ответа: кто, что, зачем?
Дед в ограде возился с самодельной тележкой, что-то в ней направляя, оглянулся:
– Собаки, что ли, за вами гнались – бежите без оглядки? Я ваши шаги еще на улице услышал.
– Там Журавлиха топором машется на какое-то начальство, – торопясь, сообщил Кольша.
Дед распрямился.
– Корову у неё приехали отбирать за недоимку по молоку, понятых тут искали по деревне – да никто не согласился с ними идти. Васька-то Журавлев был классный печник – во многих домах его печки до сих пор людей греют.
Кольша присел на крыльцо, поставив ружьё между ног.
– Он же, говорили, погиб, двое малышей осталось.
– Так-то оно так, да сейчас это в счет не берется. Гаси положенный налог – и всё тут. У Орешкиных вон тоже скот описали за недоимку по мясу. И еще кого-то трясут…
– Но с топором на уполномоченных – подсудное дело, – тревожился Кольша. – Посадить могут, а куда детей?..
Их разговор я едва понимал и, горячась, даже перебивая, расспрашивал и про недоимку, и про налог, и про районных уполномоченных, и про детей. И день не в день светился, и дела без дела стояли.
2
С каждым днем сильнее и сильнее выплескивалось тепло из неведомых далей, сушило землю, слизывало лужи. По буграм зазеленела трава, а на ивняках проклюнулись почки. В воздухе не умолкал птичий переклик. И мы на большой перемене снова играли в войну, успевая и «убитыми» быть, и «победу» отметить.
Разгоряченные, с сердечной дрожью забегали мы в класс, и как бы заново, свежо, вслушивались в голос учителя или с особым усердием читали вслух какой-нибудь отрывок из христоматии. Многие из нас уже схватывали слова с легкостью, а кое-кто еще читал по буквам, и тогда не обходилось без смеха.
– Вы-о-ды-у, – тянул Мишка Кособоков, – воду, вы-о-зят, возят ны-а ще-лы-на-ках, на щенках.
– Как это на щенках? – Екатерина Дмитриевна вскинула брови. – Думай, что говоришь.
Смех прокатился по классу.
Мишка покраснел.
– Так на чем возили воду древляне? – Учительница постучала линейкой по столу, и класс затих. Кое-кто из особо шаливших уже получал этой линейкой по затылку, а то и в углу перед всем классом урок простаивал (всё тогда разрешалось учителям), и мы побаивались и болевого наказания, и жгучего стыда перед сверстниками.
Мишка напрягся, вглядываясь в текст.
– Ны-а, ны-а, че, на челноках.
– Вот. – Екатерина Дмитриева кивнула одобрительно. – На челноках возили воду от дальних источников древляне, а не на щенках.
Побывал и я как-то в том повинном углу, и не за шалость, а по неожиданной причине. У нас в классе учился мальчишка с поврежденным в раннем детстве глазом – Ванюха Гавриков, и все его дразнили Камбалой. А как-то еще много раньше в разговоре с дедом на мой вопрос: «Есть ли животные с одним глазом?» – Он сказал, что рыба камбала плавает на боку и ей второй глаз не нужен, поэтому она одноглазая. Дед, конечно, ошибался по незнанию, не видел эту рыбу, а только слышал о ней и, скорее всего, тоже от человека немудреного, но ему не хотелось пасовать перед внуком, то есть – передо мной – вот он и выдал «истину» про одноглазую рыбу. И как раз, рассказывая про животных, учительница задела тему о глазах, заявляя, что все животные, исключая насекомых, имеют по два глаза.
Тут я и решил похвастать знаниями, выкрикнув:
– А у камбалы один глаз!
Кое-кто из одноклассников захихикал.
Екатерина Дмитриевна, откуда-то знавшая, что мы дразним Гаврикова – Камбалой, подумала, что я ехидничаю, намекая на Ванюху, и посуровела:
– А ну-ка, Венцов, в угол!
Я оторопел, попытался что-то сказать, но учительница была непреклонной.
– У тебя со слухом всё в порядке? – решила она и меня уколоть за «одноглазого» и шевельнула линейкой.
Обидно было до слез и стыдно до покраснения ушей. Это меня-то – отличника, образцового ученика и в угол! И ни за что! За недопонимание. Несправедливо…
Так и простоял я в углу до звонка, сутулясь под взглядами одноклассников, среди которых были и ухмылки.
А когда прозвенел последний колокольчик, извещая об окончании уроков, я специально замешкался, чтобы не слышать ни слов сочувствия, ни обидных выкриков, и неторопливо стал укладывать в портфель свои школьные принадлежности. Тут и появился на пороге Кольша, почему-то раньше обычного времени. Его седьмой класс учился во вторую смену после наших занятий, и мы с ним чаще всего не сталкивались в этот промежуток времени.
– Отличился? – Кольша смотрел насмешливо. – Я еще не успел в ограду зайти, а Мишка Кособок уже прокричал на бегу: «Ваш Ленька в углу стоял!»
Пришлось объяснять, как всё получилось.
– Ну и ладно, – Кольша взъерошил мне волосы, – не переживай. Ерунда всё это. Подумаешь – постоял в углу. У меня вот экзамены на носу – то забота. Я и пришел пораньше, чтобы кое-что повторить.
Теплее стало на душе от его ободряющих слов, и почти с прежней бодростью я выбежал на улицу.
3
Еще в начале марта колхоз посылал в город две подводы по какой-то надобности, и дедов свояк Мамров, живший в городе, передал нам полмешка проса. Где он его раздобыл – неведомо, но дед загорелся тайной идеей: выращивать просо на еду.
– Война еще не один год протянется – с продуктами туго будет, а с просом всё подмога.
– Жди, разрешат тебе сеять, – усомнился в затее Кольша. – Отберут семена, да еще и наказать могут за самоуправство.
– Ясное дело – не разрешат, – согласился дед, – а мы не будем спрашивать – тайком посеем. Залежей брошенных вон сколько в лесах. Найдем какую-нибудь пообширнее и в середине небольшой участок вскопаем по ночам, ночью и засеем. Кто туда сунется без надобности, в полынь да лебеду?
– Объездчик верхом ездит – углядит.
– Ну, объездчик свой человек, наш, деревенский. С ним и договориться можно.
– Не знаю, не знаю…
Я делал уроки и вслушивался в их разговор, не всё понимая. А воображение уже рисовало ночной лес, лунный свет, бурьяны, волков за кустами…
А на следующий день, придя из школы, я не застал деда дома.
– В степь ушел, – доложила Шура, – искать место для проса.
Я наскоро поел похлебки, налитой мне Шурой из чугуна, томящегося в печке, выпил порцию молока и во двор.
Дали плясали в мареве от подсыхающей земли, в ослепительном блеске солнечного света, растягиваясь в вышину и в ширину и создавая игровыми переливами причудливые формы, похожие то на старинные замки, то на городские строения в развале современных кварталов. И я, забравшись на изгородь, с прищуром вглядывался в них, надеясь увидеть возвращающегося из леса деда.
Заливисто пела огородница, передразнивал её скворец на ветках скворечника, поставленного в дальнем углу двора, далеко, в озере, галдели на разные голоса озерные птицы. Тепло и спокойно.
Сравнивая изломы дрожащих далей с городскими кварталами, я невольно перекинулся мыслями туда, в город и к отцу. «Где вот он сейчас? Что делает? Может, стреляет? Или бежит в атаку впереди солдат? Он же командир…» Воображение нарисовало окопы, которые я хотя и не видел, но представлял по-своему, солдат, отца… И в дымке этого воображения взгляд поймал фигуру человека, как бы выплывавшую из переливчатых струй искристых испарений. «Да это же дед идет из леса!» Бежать ему навстречу я не решился – на проселке, по которому он шел, блестели широкие разливы, а мои сапоги не держали воду, однако на задворки я выскочил.
* * *
Луна стояла высоко, и свет от неё заливал всё доступное взору пространство, превращая каждый двор, каждый переулок с запавшими тенями в какие-то тайные прибежища, и я с тревогой вглядывался в их световые изломы, шагая позади деда с Кольшей.
Мы шли в лес, на залежь, которую нашел дед для высева проса.
Чуткая тишина нарушалась лишь нашими шагами да редкими всплесками воды в низинах, с которых слетали ночующие утки. Раза два покружилась над нами болотная сова, то появляясь внезапно из лунных отсветов, то растворяясь в них, и я постоянно вздрагивал, улавливая налетным взглядом её бесшумное появление.
– Мышей караулит, которых мы вспугиваем из травы, – негромко проговорил дед, тоже поглядывая на ночную птицу. – Они от наших шагов шарахаются в разные стороны.
Я стал вглядываться в обочину проселка, но никаких мышей не увидел.
За очередным колком дед свернул в сторону, на покатую гриву в жесткой траве, и, обогнув массивный отъем леса, залитый по опушке водой в световых бликах, мы оказались перед стенкой белесых бурьянов и остановились. Дед вглядывался в расплывчатую округу, что-то прикидывая или отыскивая знакомые ориентиры.
– Вон там должна быть береза. – Он показал рукой в лунную муть и обернулся к Кольше: – Погляди-ка, малый, у тебя глаза позорче моих.
– Да есть там береза.
Её и я увидел, похожую на серое пятно.
– В том направлении и двинемся. – Дед широко шагнул в бурьяны, раздав их руками.
Сапоги сразу зашебаршили о будыльник, заелозили по корневищам, выворачивая ступни. Идти стало тяжело. Все моё внимание и все мысли сосредотачивались лишь на каждом очередном шаге – не отстать бы и не потеряться в этом тесном сплетении высоких, почти в мой рост, бурьянов. С не малым усилием поспевал я за Кольшщей, чувствуя, как натираются ноги о шерстяные носки…
С резким хлопаньем крыльев и оглушительным вскриком сорвались от нас куропатки. Я даже присел от неожиданности, а дед остановился и произнес:
– Вот здесь и обоснуемся. Туда пятнадцать шагов и туда, – отмахнул он рукой направления. – Сначала края обработаем, а потом и остальное. Тебе, Ленька, голиц не нашлось, так что будешь собирать то, что мы надергаем, и складывать в кучу, а то об этот сухобыльняк руки поранишь.
Они начали выдергивать жесткие, как кости, будылья старой лебеды и полыни, обстукивать их корни от комьев земли и откидывать в сторону. Я собирал эти сучковатые стебли, больше похожие на сухие древесные верхушки, чем на бурьян, и стаскивал в кучу.
Но как не попробовать самому выдернуть из земли хотя бы несколько корней! Таясь, я ухватил одну будылину и напрягся, потянув на себя. Остро пахнуло полынью, руки, с легкой болью заскользили по ребристому стеблю, но корень едва-едва отслоился от земли, и с немалым усилием мне удалось вырвать его окончательно. Вопреки моим предположением, дело-то оказалась не из легких – попробуй-ка вот так подрожи от усилия над каждым стеблем! Умучаешься!
Лился и лился лунный свет на сонные леса и поляны, а мы всё мельтешили в этом свете, нагреваясь от напряженной, без отдыха, работы. И если бы кто мог разглядеть нас издали, то принял бы за кого угодно, но только не за разумных людей – догадаться об истине нашего мельтешения вряд ли бы кто смог.
Похолодало. Я это чувствовал дрожащими, саднящими от легких царапин руками.
Луна зависла над окоемом, потускневшая и покрупневшая. А вокруг нас чернела голой землей небольшая полянка.
Дед будто отмахнул от себя работу, бросив руку вперед.
– Будет с нас. Семян бы хватило.
На краю нашего маленького поля мы и сошлись.
– Тропинку в бурьянах не будем торить, – вглядываясь в залежь, решил дед, – а пойдем другим путем – к лесу.
Забрезжило, когда мы дотащились до дома. Спать хотелось невыносимо и хорошо, что наступило воскресенье – свободный от уроков день.
* * *
На другую же ночь мы пошли копать землю под посев проса. Так же плавали леса и поляны в разводьях лунного света, так же теснились в чащобах густые тени и так же белел окоем. Дед нес полмешка семян и грабли, Кольша – две лопаты, я одну – свою.
Снова царапающие сапоги бурьяны, выворачивание ступней на корневищах, запарка.
И вот она – наша плешина. Дед, поставив мешок среди будыльев и сбросив грабли, потянул меня в дальний угол.
– Ты начнешь вот отсюда, – он отмахнул рукой в пространстве небольшой участок, – а мы с Кольшей погоним с другого конца. Да много не бери на лопату. В два-три хлебных ломтя пласт и всё. А то залежь хотя и мягче целины, а всё одно нелегко её поднимать. Руки вывернешь. Да и рановато тебе еще так-то тужиться.
– Ага. Ты мне отметил рядок в три лопаты, а грядка пятнадцать твоих шагов. Это сколько же ломтей надо будет отвалить, чтобы дойти до края?
– А ты теперь грамотный – посчитай. – Дед, наклонившись, заглянул мне в лицо.
Я прикинул:
– Таких ломтей, как ты сказал, в одном шаге будет не меньше двадцати, а шагов пятнадцать.
– Ну и сколько выходит? – Дед прищурился.
– Больше ста, а мы еще по стольку не считали.
– Триста ломтей будет. – Он распрямился. – Я, Ленька, хотя и не грамотный, а счет знаю. Жизнь научила. В крестьянстве без счета никак нельзя. Вот прикидывай: за минуту ты больше трех пластов не возьмешь – отрезать надо, вывернуть и раскрошить лопатой. И выходит, что на всю работу тебе потребуется сто минут. А сколько минут в одном часе?
Я замялся, припоминая.
– Шестьдесят, – ответил он за меня, – примерно, часа два ковыряться будешь. А если с отдыхом, так и три пройдет. И нам с Кольшей тоже не меньше времени придется гнуть спины. Да еще с часок я буду рассеивать просо. Так что управимся мы только к рассвету. Деревня к этому времени вся на ногах будет – кто-нибудь да встретиться может, как на улицу выйдем, и для отговорки придется еще солодки накопать…
Кольша работал, прислушиваясь к нашему разговору.
Взялся и я за лопату.
Какой там три часа! Где-то через полчаса, когда я и трети намеченного не осилил, загорелись ладони и затяжелели руки. Спина заныла, и все чаще и чаще я начал останавливаться, с завистью поглядывая, как споро идет работа у старших.
– Что? Тяжела, Лёнька, земелька? – заметив мою усталость, проговорил дед. – Тяжела. – Согласился он сам с собою. – Но она нас кормит. Так что, отдыхать – отдыхай, а свою прогонку выполни.
Я промолчал, соглашаясь, и снова с ожесточением принялся выворачивать пласты черной земли и разрыхлять их лопатой.
Притух лунный свет. Из-за лесов поплыла по окоёму легкая лазурь. Я, разгоряченный работой до ломоты в плечах и спине, ощутимой испариной под шапкой, согнув колени в дрожащих ногах, притулился на уложенную мною же кучку бурьянов, которую мы вначале хотели сжечь, но дед решил, что на ней удобно будет отдыхать и в прополку, и в уборку проса, и оставил не тронутой.
В ивняках подал голос куропач. Заиграл в воздухе бекас. Журавли прокричали на дальнем болоте. Природа просыпалась, хотя плотно она и не спала: всё время, пока мы работали, нам подсвистывали погоныши на приозерных лугах. Изредка вскрикивали, напуганные кем-то, возможно совой, чибисы, утробно гукала в озере выпь. Да и другие, непередаваемые словами, звуки постоянно текли в пространстве.
Закончив копку, дед и Кольша тоже привалились к моей кучке.
За ближнем лесом заиграли на токовище косачи, и Кольша напрягся, прислушиваясь.
– Кажется, возле Долгих кустов токуют, – предположил он, обращаясь к деду.
– Там, – согласился дед, – на длинной поляне. Они каждый год её облюбовывают.
Они еще немного посидели, тоже вслушиваясь в зоревые звуки, и начали разравнивать вскопанную землю граблями. А я, не вставая, приглядывался к их действиям: граблей у меня не было, а научиться мельчить землю было не лишним.
Свет потек по всему небосводу, проявляя в нём тонкую бирюзу, а над зубцами дальнего леса обозначилась золотая накипь. Утренние звуки, сливаясь воедино и то усиливаясь, то притухая, создавали хотя и не стройный, но плавно текущий фон, вынянчивая в душе легкую отраду.
Дед кинул грабли под кучку и снял шапку. Лицо красное с капельками пота на лбу. Волосы повисли сосульками. В явной запарке и Кольша тут как тут.
Мне стало неловко за своё долгое сидение. «Они вон как уработались, а ты лодыря гоняешь», – будто кто-то сторонний шепнул мне в ухо.
А дед вдруг, весело улыбаясь, произнес:
– Вот она, благодать! Нет ничего отраднее того момента, когда ты нужную работу завершаешь! В душе радость – в теле истома!
Мы с Кольшей промолчали, осмысливая его мудреный восторг.
– Авось вознаградит нас земля за труд, – продолжил дед в том же, никак несвойственном его характеру духе, – уродит проса! А это – хоть кашу вари, хоть супы или кулешь, – тут же перешел он на обыденность. – А там и в следующем году повторим то же самое.
– Размечтался, – откликнулся Кольша. – Дай бог, чтобы в этом году никто нашу полоску не заметил. Живо в сельсовет потянут.
– Потянут, – не стал возражать дед и посунулся к мешку с семенами. – Начну, пожалуй. – Он повесил через плечо котомку и нагреб в неё проса.
Шаг, второй, и дед стал горстями разбрасывать семена налево и направо, посыпая взрыхленную землю.
– А как ты определяешь, куда сколько нужно? – не удержался я от любопытства.
– А, на глазок. Не впервой – в старину вручную гектары пшеницы засевали, а тут что – мелочь. Это теперь всё машинами делают, а раньше – ручками да ручками, и с хлебом завсегда были. – Просо так и брызгало веером из-под его руки, покрывая черную полоску светлыми крупицами.
– Дай, дедушка, мне горсти две посеять, – загорелся я налетным азартом.
– Так в чём дело? Бери вон из мешка семян и зачни своё первое поле.
И я, притаивая дыхание, кинулся к мешку. Невольная радость колыхнула душу. Вот оно, доверие! Выходит, и я уже что-то значу!
Жарко проклюнулось над лесом солнце, и сразу обозначились и деревья в сиреневом отливе, и желто-бурые поляны, и синева далей.
Мы с дедом сеяли просо, разбрасывая его вдоль и поперек делянки, а Кольша снова разгребал землю граблями.
И пошла работа. Не работа – осветление. Напористый восторг.
Стойким теплом потянуло из лесных далей, зашитых отблесками солнечных лучей. Притихли и токующие косачи, и пикирующий в небе бекас, и погоныши. И мы, наконец, завершили потайное дело.
– Грабли запрячем в бурьянах, – распорядился дед, – я их потом, по темну, заберу, а лопаты возьмем – солодку копать. На Крутой гриве я много её видел. Накопаем в мешок для вида, да и пригодиться на чаевую заварку с травами. Сахара теперь не жди, а с солодкой всё какая-никакая сладость.
Крепись – не крепись, а усталость своё возьмет. Безвольно шагал я за взрослыми, придерживая руками высокие стебли сухих бурьянов, и даже когда мы стали обходить отдающий свежестью лесной отъем, не задели меня ни его тонкие запахи, натекающие от едва проклюнувшихся листьев, ни игра света в густых переплетениях ветвей, ни голоса певчих птичек.
Высокое, с легкой покатостью безлесное пространство, которое дед назвал – гривой, было еще покрыто жухлыми куртинами прошлогодних трав.
Возле одной из таких куртин в белесых стеблях дед остановился, ковырнул лопатой дерн, под которым обнажился коричневатый корень, гибкий и длинный, словно обрезок веревки.
– Тяни – таскай! – скаламбурил дед, кивая мне на этот необычный корень.
Потянул я его, а он точно: веревка – веревкой. От одного стебля к другому. Пришлось оборвать. Тут и следующий корень обнажился из-под лопаты деда. Только успевай.
Пошло – поехало, и мы быстро натаскали этих корней почти с полмешка.
– Пожалуй, хватит, – пощупав мешок, решил дед. – А то у меня уже руки онемели.
Едва мы вышли из-за огородных плетней чьего-то подворья, как навстречу нам выкатился на рысях председатель колхоза Разуваев. Он всегда по утрам объезжал на своём жеребце деревню и, не слезая с седла, а лишь постукав кнутовищем в окно, распределял людей на работу.
Еще первой осенью он как-то остановился возле нашего дома и, застав деда в ограде, хмурясь, начал выговаривать:
– Дочери-то твоей, Аньки, пора и на работу выходить.
– На какую еще работу? – не понял его дед.
– А у нас, кроме колхозной, другой работы нет.
– Так она же не колхозница, жена офицера, который на фронте.
– Живет у нас, в колхозе, значит колхозница. А чья она жена, офицера или генерала, – не имеет в военное время значения. Рабочих рук не хватает.
– Об этом не нам судить. Решай свой вопрос с ней самой или где выше.
– И решу! – Разуваев огрел жеребца плеткой и рванул вдоль по улице.
Я тогда складывал сушняк, нарубленный Кольшей, в поленницу и всё слышал. С той поры в душу мне и запала неприязнь к этому человеку. Подумалось с горчинкой: «Мой отец в окопах воюет, а этот, сытенький, здесь командует». Тогда же я и спросил у деда:
– Почему здоровый и еще довольно молодой Разуваев не на фронте?
И дед пояснил, как мог:
– Броня вроде у всех председателей колхоза. Хлеб-то для фронта надо кому-то выращивать. Голодный солдат – не солдат.
– Так его же люди выращивают, не председатель, – не понял я.
– Люди, а руководить людьми кто-то должен…
Давненько был тот разговор, а вот запомнился.
И тут, заметив нас, Разуваев остановился.
– Откуда это вы в такую рань с лопатами? – проявил он интерес.
– Солодку ходили копать, – дед тряхнул мешком, – чаю теперь попить не с чем, так хоть солодкой подсластим.
Разуваев пощупал мешок, пожулькал его содержимое пальцами.
– За солодкой спозаранку наладились, а в колхозе работать один стар, другой – мал. – Он дернул поводья, и конь с ходу взял в крупную рысь.
4
У меня в табеле, среди пятерок, было всего две четверки: по пению – я стеснялся петь, и по военному делу – не шло мне дисциплинарное учение. Видимо, я был сугубо гражданский человек.
Кольша, поглядев мой табель, глубоко вздохнул:
– Эх, мне бы так!
– А в чём же дело? – тут же подхватил его возглас дед. – У тебя что: голова не на том месте, что у Лёньки?
– Место – то, да в ней ни то, – съязвила Шура, и едва не получила затрещину.
– Ты бы помолчала! – обиделся Кольша. – На одних тройках едешь и туда же.
– На тройках и ездят. На чём же еще? – переиначила Шура смысл сказанного. – У самого-то не лучше.
– Мне, кроме как в ФЗУ или в колхоз, до армии ничто не светит. На какие шиши учиться? – стал оправдываться Кольша. – А у тебя еще есть разбег.
– Есть, – согласилась Шура, – года два и в доярки…
Дед резал табак на курево, хмурился.
– И рабочий человек не без почета, – встрял он в разговор, – коль своё дело будет делать по совести…
И пошел у нас семейный разговор без матушки – она работала на посевной.
Кольша был больше склонен оставаться дома до армии. Пусть в колхозной работе, но дома. А дед настаивал на фабричном обучении:
– Сельский председатель сказывал, что сейчас на электриков набирают – дельная специальность: без особой угробиловки и в почете, да и с деньгой. К тому же через год-два война закончится и сколько надо будет поднимать городов. Трудись да трудись. А есть работа – будет и заработок. Мы вот сейчас на картошке спасаемся. Одежонка поистрепалась, а фэзеушников и кормит государство, и одевает…
У меня сердечко заколотилось, когда я представил наш дом без Кольши. Он был моим первым наставником почти во всём, и особенно – в охоте. Ну как без него? И я с дрожью в голосе вклинил в их разговор своё:
– Нам с тобой, дедушка, будет тяжело без Кольши – он много дел по хозяйству делает. Мне до них еще расти да расти.
– Эт-то верно, и так подумаешь, и так, но ему тоже в жизнь дорогу торить надо, определяться. В деревне-то какой разворот? Никто вон из наших деревенских после семи классов с учебой не разбежался – все в колхозе работают. А в город не вырвешься. Там паспорт нужен, а в деревнях его не дают. В тетрадке вон наши фамилии записаны и всё. Да и война идет…
Дед с Кольшей еще прикидывали, как да что, а мне всё тревожнее и тревожнее становилось. Особенно дробно стало в груди, когда дед начал серчать из-за Кольшиных возражений:
– А не пойдешь добровольно – могут и под конвоем повести, – предупредил он. – Твой вон дружок – Степка Лукашов целый месяц по лесам прятался, а всё равно поймали. Да ещё, говорят, и наказание получит. – Дед ссыпал нарезанный табак в кисет и поднялся. – Ладно. Кумекай тут, куда податься, а я пойду литовки отбивать – покос на носу.
* * *
Мы с Кольшей стояли на пряслах огородного задника и всматривались в озерные дали.
Солнце играло в переливах камышей, серебрило плесы, туманило дали. Вдоль береговых отмелей мотались стайки холостых, уже вылинявших, уток, а над росплеском тростников плавились в низком полете болотные луни. Где-то кричали журавли…
– Скучать я буду по всему этому, – глуховато произнес Кольша. – Когда теперь придется побыть в озере с ружьём? Неизвестно.
– Каникулы ведь у тебя будут, – уловил я его грусть.
– То ли будут, то ли нет: война идёт, и нас куда-нибудь погонят работать.
Я не нашелся с ответом.
– Мечтал моряком стать – другие страны посмотреть, а выходит совсем иначе.
– И станешь, – подбадривал я Кольшу, – в армию пойдешь и в моряки.
– Так это военное дело, – отмахнулся он, – а я хотел на простых судах ходить.
– Станешь электриком и на простых доведется поплавать.
Кольша не ответил и спрыгнул с прясла.
– Пошли. Гляди – не гляди, на долгое житье не наглядишься.
Грустно стало, а тихий, слегка затуманенный вечер как бы усиливал эту грусть.
* * *
Увозили Кольшу на колхозной подводе вместе с двумя его ровесниками. Матушка, провожая, прослезилась, и Шура терла глаза. А мы с дедом держали мужскую твердость, хотя и было мне так тяжело, словно в груди вместо сердца кто-то камень вложил, будто застряло там что-то – ни туда ни сюда, и горло подсасывало. Лишь, когда телега скрылась за Марьиной рощей и все потянулись в дом, я махнул в огород – на те же прясла и на ту же жердь, на которой мы вчерашним вечером стояли вместе с Кольшей.
Так же плыли солнечные блики по метелкам камыша, так же летали утки над береговыми плесами, метались чайки, высматривая рыбешку, но осветления в душе не приходило, и мысли мелькали вразброд, ни на чем не останавливаясь.
А день горел, как всегда, разгульным светом, и птички порхали, резвясь, и звуки плыли привычные.
Часть третья. Круг третий
Глава 1. Тревоги
1
Плыло к вершине жаркое лето. Дни стояли знойные и тихие, настоянные на запахах цветущих трав и изнеженных листьев древостоя – самый разгар сенокоса. Дед и матушка уходили на колхозную работу, а мы с Шурой домовничали: поливали огуречные грядки, окучивали картошку, следили за пасущимися на лугу гусятами. Да разве устоишь перед соблазном поиграть, когда приходят друзья?! Паша со Славиком и Антохой нарисовались за плетнем, как только мы с Шурой принялись за картофельные рядки, и начали склонять нас к игре. Заманчиво. Даже Шура, всегда непреклонная в любом деле, опустила тяпку под их настойчивыми просьбами.
– Ладно, отдохнём, – согласилась она, – а то руки деревенеют.
И завязалась у нас игра в прятки. Мы и Шуру втянули в игровой азарт.
Осторожно ступая по дерновой крыше закутка, заросшей травой, я спустился по углу дворовой пристройки в затененный палисадник и присел в самом потаенном его тупике. Слева поднималась глухая стена избы, справа щерилась старыми кольями плетеная изгородь, впереди стояли высокие травы. Я очутился в естественной клетке, и маленьким-маленьким показался сам себе в ряду возвышавшихся вокруг строений и буйных ржанцов с коноплей и крапивами, и вроде бы издалека-издалека долетали до меня голоса ищущих – Антохи и Шуры. Вот, судя по выкрикам, они нашли Славика и Пашу за поленницами дров. Теперь за меня примутся! Я сильнее вжался в пахучую коноплю и вдруг услышал отчетливый стон: ух, ух… – тягуче, жалостливо. Долетел он ни то с чердака, ни то из ближнего угла закутка. Ух, ух – редко, со сжимающей сердце тоской. Меня охватила оторопь – ни в закутке, ни на чердаке никого не могло быть. Показалось?! Но тут снова долетело отчетливое стенание: ух, ух… – и вроде бы еще громче. Цепенея от вмиг накатившегося страха, я едва разогнул колени и, перемахнув через изгородь, выскочил в ограду.
Вероятно, вид у меня был испуганный, так как Шура сразу спросила:
– Что с тобой?
– Там кто-то стонет, – едва проговорил я.
– Где?
– Не знаю, слышно.
– А ну пошли! – решительно заявил Паша. – Только тихо!
Вчетвером мы и двинулись в палисадник, тихонько открыв калитку. Я чувствовал, как колотится сердце, как тоненько звенит в ушах, и напрягался всем телом, стараясь утихомирить поднимавшуюся дрожь. «Может, там дезертир какой или преступник?! А еще хуже – нечисть тайная?! Я-то впереди – мне и страдать…» Мысли в перезвон, ноги, как деревянные. И едва мы присели у изгороди, как отчетливо донеслось: ух, ух… Надсадно и жутко.
Я заметил, как напрягся Паша, согнав улыбку с лица, как побледнела Шура, слегка приподнимаясь с корточек, заерзал в приседе Славик. Но первым шарахнулся назад Антоха, перепрыгнув через куст смородины. За ним ринулись и мы, толкая друг друга. Миг – и вот она – веселая лужайка перед домом. Солнечно, тихо и никаких звуков. В темных окнах избы легкие блики. Они перемещались от наших движений, и казалось, что в доме кто-то бродит.
Мы, отходя от налетного испуга, притихли, оглядываясь и на окна, и на палисадник. Но никто за нами не погнался и никакого стона не было слышно.
– Может, овца чья-нибудь больная забрела в закуток? – нарушил общее оцепенение Паша.
– Нет, это на чердаке! – заявила Шура с присущей ей решимостью.
– А мне показалось, что в доме, – не согласился я с ними. И Славик кивнул, поддержав меня.
Антоха вообще промолчал, таясь сзади нас. Оно и понятно: его бабка была набожней и наверняка внушила ему немало того, чего мы не знали.
– Идем в закуток! – расхрабрился вдруг Паша. – Нас пятеро, кого бояться! – Он подобрал у изгороди какую-то железку и заспешил в ограду. Скорее безотчетно, чем сознательно, мы двинулись за ним – гуськом: Шура, я, Славик, Антоха.
Ограду прошли бодро, но возле закутка наш пыл поутих. С оглядкой, робкой нерешимостью, мы стали подбираться к темному проему открытых дверей.
Снова зашлось сердечко, потяжелели ноги. Я ощутил, как задышал мне в затылок Славик, и замедлил шаг. Пахнуло прохладой, запахом навоза, но никаких звуков не послышалось.
Паша наклонился и заглянул из-за косяка в закутку.
– Никого, – подбодрил он нас и шагнул в проем.
«Вдруг сверху прыгнет?!» – полыхнула тревожная мысль, и я оглянулся на чердачный лаз. В мгновенье показалось, что там кто-то мелькнул, но я промолчал, еще больше цепенея.
Следуя за Пашей, мы осмотрели все углы закутка – пусто.
– Пошли, еще раз послушаем! – решил он.
Снова мы, крадучись, миновали палисадник, и снова тяжкий стон, жалобный и скорбный заставил сжаться и без того часто бьющееся сердце. Тот же заполошный бег на лужайку против дома, тот же торопливый и тревожный разговор. Заходить в избу, а тем более, лезть на чердак мы поостереглись.
– Надо ждать вечера, – решила Шура, – придут наши с работы и посмотрят, кто там.
– Так и будет этот стон ждать до вечера, – не согласился Паша, – смоется незаметно и не узнаем, что к чему.
Мы начали было игру в ляпы, да разве пойдет какая игра, коли есть неразгаданная тайна. Не прошло и полчаса, как мы решили вновь проверить те щекочущие душу звуки. Теперь уже с большей долей любопытства, чем страха, прокрались мы в тот глухой угол палисадника и едва притихли, как отчетливо услышали: ух, ух… Теперь, когда на душе стало несколько спокойнее, можно было более точно определить, что стон идет или с чердака, или из потолочного угла горницы.
– А пойдем в избу! – снова заинтриговал нас Паша. – Я вон зуб от бороны прихвачу…
Осторожно, осторожно приоткрыли мы двери в сенцы, затем – в избу. Тихо. Сонно. Тесня друг друга, мы ввалились в кухню. Никаких звуков из горницы. Но, когда мы резко распахнули резную дверь, из дальнего угла послышался тот же берущий за сердце стон, глуховато, тише. Явно из-за потолка.
– Точно, на чердаке кто-то спрятался! – утвердилась Шура, бледнея, хотя и без неё нам стало ясно, что звуки доносятся с чердака.
Но на чердак мы лезть не решились. Принялись было играть в мячик, катая его по лункам, продавленными в мягком грунте нашими пятками, да не шла радость – каждый из нас нет-нет да и поглядывал исподтишка то на палисадник, то на окна. В конце концов мы уселись на лавочку, возле ограды, и стали строить догадки по поводу услышанного, нагнетая друг другу в душу рассказами про явное и неявное и без того неспокойные чувства.
В этом тревожном перекруте и протянулось оставшееся до вечера время.
Первым появился с работы усталый дед.
– Что-то вы, как воробушки, теснитесь на лавке, дома места нет?
Я и выложил ему всё, не дав объясниться Шуре на правах старшего.
Дед повесил литовку на деревянный штырь в дровянике и не торопясь прошел в избу.
Мы от него не отставали. Он открыл горницу и прислушался, но никакого стона не было.
– Ну и где ваш страх?
Мы наперебой стали уверять его, что все слышали жалобный стон на чердаке.
Дед снова прошел в дровник, взял бересты от березовых поленьев и, приставив лестницу, полез на крышу. Мы – за ним. У чердачного лаза он зажег лучину. Тут уж и мы расхрабрились: едва ли не отталкивая друг друга, нырнули в темное нутро чердака следом за дедушкой.
Слабое пламя осветило сухую пустоту – никого. Дед даже за трубой поглядел и в низких углах.
– Кот чей-нибудь был, да сбег, – предположил дед.
– А чего он стонал, как человек? – усомнился я – все же хотелось, чтобы за всей этой тревогой существовало нечто таинственное.
– Собаки, может, помяли, вот и залез он в укромное место, а в пустом чердаке звуки отдаются, что в пустой бочке. Вам и показалось, что это человеческий стон…
Возможно, дед был и прав, но его слова нас не убедили, а на следующий день, как только мы наладились играть и решили проверить палисадник – стон снова объявился. Теперь и мы, набравшись храбрости, а больше веря в дедово предположение, зажгли лучину и полезли на чердак. По-прежнему там было пусто и звуков никаких не слышалось. Но стоило нам зайти в горницу или пробраться в палисадник – тоскливый стон холодил спину.
С появлением взрослых стон прекращался, и дед уже не верил нам и, посетив таинственное место в палисаднике и тоже ничего не услышав, больше никуда не лазил. А мы несколько раз проверяли необычный стон: то слушали, то смотрели, но так и не разгадали его тайну.
– А пошли к моей бабке! – загорелся на третий день познанием истины Антоха. – Она молится и про все неизвестное знает.
– Ну пойдем, – поддержал его Паша.
– Вы идите, а я на скамейке посижу, – согласилась с ними Шура, – дом не бросишь, да и стыдновато мне с вами водить компанию.
Добежать до Михеевой избы было минутным делом. Наперегонки проскочили мы короткий переулок и, даже не запыхавшись, с робостью вошли в прохладную, с занавешенными окнами кухню.
Сгорбленная и сморщенная бабка, выслушав нас, принялась креститься.
– Свят, свят, спаси и помилуй. Это хозяин худой знак подает, беде быть…
Её шепот не успокоил, а еще больше растревожил и заинтриговал. Тем более что после того посещения тот странный стон прекратился и больше никогда не повторялся.
* * *
В те дни почтальонка – Дуся Новакова всем встречным-поперечным рассказывала, что её брат танкист участвовал в большом танковом сражении, горел два раза, потерял руку, но подбил четыре немецких танка, за что его наградили орденом, что фашистов там расколошматили в пух и прах. А узнала она обо всём этом в районе из передачи по радио. И ей верили – уж больно хотелось, чтобы так и было. А через некоторое время о том сражении сообщили и в сельсовете.
– Теперь-то уж германцу не подняться, – услышав новость, заключил дед, – покатится восвояси…
Пришла и нам весточка от отца. Почерк был незнакомым, и мы сразу насторожились. Я заметил, как задрожали у матери губы, а на виске у неё запульсировала маленькая жилка. Развернув привычный треугольник, матушка протянула листок мне:
– Читай, у тебя глаза зорче.
«Здравствуйте мои родные! – прочел я дрожащим голосом и сразу отмяк сердцем, интуитивно поняв, что это слова отца, а значит, и письмо от него. – В недавнем бою получил серьезное ранение в правую руку: разрывной пулей раздробило мне кисть, и несколько дней пришлось помучиться от боли. Сейчас стало спокойнее и я попросил медсестру написать под мою диктовку вам письмо. Тревожусь, как вы там. Время тяжелое. Крепитесь – сейчас всем нелегко. Поговаривают отправить меня в прифронтовые службы, но я учусь писать и стрелять левой рукой и уже подал два рапорта, чтобы вернули меня на фронт, к моей роте. Пока не добью фашистов – домой не вернусь. Со своими взводными и солдатами я начинал войну и с ними закончу, а если что случится – простите меня за то, что не воспользуюсь возможностью отсидется до победы за линией фронта. Надеюсь, что и рапорт мне подпишут, и до победы довоюю…» Читал я, и смешанные чувства теснили душу: боль за то, что вражеская пуля искалечила руку отца, и радость, что он живым остался, не ударила его пуля в другое, смертельное место.
А матушка прослезилась:
– Он всегда был таким настырным. Отвоевал ведь своё – можно и со спокойной совестью где-нибудь в тылу отслужить до победы, так нет – снова в окопы. Другие вон всякими правдами и неправдами стараются отбояриться от фронта, а его и покалеченного туда тянет. – Губы у неё задрожали, и уже крупные слезы потекли по щекам.
Зашлось сердечко, припал я к теплому боку матери, пытаясь найти слова для её утешения, но только губами шевелил.
Дед, сидевший на табуретке у порога, гася самокрутку, кашлянул и глуховатым голосом произнес:
– Ну, ну, надрываться-то зачем. Дело сделано – не поправишь. Знаю я натуру Емельяна – не мог он, значит, по-иному. Война человека затягивает, прикипел он к своей роте – третий год командует, в обнимку с сослуживцами под смертью ходит, ест, спит с ними и в бой идет первым. А ушел – вроде бы как предал своих товарищей.
– Куда уж воевать-то? – едва справилась с рыданием матушка. – У него, поди, это не первое ранение. Были и другие – полегче. Так разве он признается…
Слушая взрослых и цепенея от накатных образов, рисующих мне то раненого, в крови, отца, то солдат, сидящих в обнимку, то бой, я вдруг вспомнил про странный стон из непонятного места и подумал, что это стонал раненый отец и мы его слышали.
2
В самой середине лета зачастили налетные грозы. Ярые, с обвальными ливнями и не редким градом. Несколько минут захлестывающих пространство потоков и густая туча уносилась за леса, теряясь у горизонта.
Едва вспыхивало солнце через редеющие струи дождя, как мы выскакивали на лужайки и начинали резвиться по залитым водою ложбинам, выбивая из них босыми ногами хрустальные всплески. Необъяснимый восторг сжигал наши души. И дышалось вольготно, и тело казалось невесомым.
* * *
Паша со Славиком лежали на траве и губами срывали ядреную клубнику. Две крынки, обвязанные у горловины веревочной петлей, стояли недалеко от них, доверху, с бугорком, наполненные спелой ягодой. И мой эмалированный бидончик выделялся там же красной шапочкой ягод.
На широкой поляне между двумя колками никого не было, и мы, наполнив верхом наши посудины, до отвала наедались сочной пряно-сладкой полевой клубники.
С утра небо туманилось редкой белесой пеленой. Тускло светило солнце. Тихая прохлада не давала подняться зною и приятно было ползать по траве-мураве, собирая ягоды…
Мало-помалу небо все больше и больше тускнело. Бледным пятном проступало сквозь наползавшую пелену туч полуденное солнце. Из-за леса стал доноситься слабый глухой рокот.
– Дождь будет, – оглядывая потемневший лес и прислушиваясь к отдаленным раскатам грома, встревожился Паша. – Айда домой!
С ношей бежать неудобно: того и гляди споткнешься и высыпешь все, что набрал, потому мы и пошли шагом…
– Колени болят, – пожаловался Славик, – натер травой.
– С непривычки, – посочувствовал Паша, – поживешь в деревне годика три – все стерпишь.
– Ты думаешь, что война еще столько лет продлиться? – ни то обиделся, ни то удивился Славик.
Паша помедлил.
– Да нет, это я так просто – для верности сказал, – успокоил он друга.
– Мы сразу, как только наш город освободят, уедем домой, – с грустинкой в голосе заявил Славик.
– Это понятно…
Я слушал друзей и помалкивал, грея свои заветные мысли: «Вот прибудет отец с фронта, и мы тоже вернемся в город. Отец снова станет работать начальником: его же на машине до войны возили – я это видел не раз в окошко. Я буду учиться в той школе, которая напротив нашего дома. Её хотя и закрыли под госпиталь с началом войны, но снова откроют, как война закончится, и всё будет хорошо»…
Гром между тем нарастал. Тускнело небо. Холодный ветер гнал по траве зеленые волны, лохматил притихший лес. В промежутках между лесами, на короткое время, открывались неохватные взгляду дали и там, темная, с седыми прожилками туча занавешивала небосвод от края до края, наползая рваными краями на белесую деревню, за которой все почернело, словно обуглилось. С солнечной яркостью прошивали эту темень зигзаги молний, и оглушающий грохот перекатывался поверху. Там, за деревней, мощно плыл дымчато-белый вал, всё закрывая собой и сплавляя воедино землю и небо.
Чувствуя, как оттуда, из этого угрожающего смешения черного и белого, потянуло холодом, запахом талой воды, я понял, что гроза идет с градом, и кинул притихшим друзьям:
– Давайте прятаться, град будет.
– Точно, – согласился Паша, – тоже вглядываясь в окоём.
Справа, на поляне, чуть склоняясь набок, стояла одинокая кряжистая береза, и мы кинулись к ней. За могучим узловатым стволом дерева было тише и спокойнее. Толстые его сучья чуть подрагивали под хлесткими порывами ветра, а сам комель стоял, как каменный. Мы прижались друг к другу, упираясь спинами в корявую кору дерева.
Чистый клочок неба над ближним лесом быстро закрывался наплывающей тучей.
– Не спасет она нас от ливня, – оглядывая густую крону дерева, усомнился в нашем выборе Паша. – В лес надо бежать, туда, где погуще.
Я тоже вспомнил где-то слышанное или прочитанное, что нельзя прятаться от грозы под одиноким деревом или отдельным предметом, и забеспокоился. Наша береза хотя и казалась несокрушимой, но стояла отдельно от леса и могла быть заметным громоотводом.
Первые крупные капли дождя уже застучали по листьям и покидать надежное укрытие не хотелось. Но я вскочил и во всю силу крикнул:
– Бежим в кусты!
Ребят как подхлестнули, оторвав от кряжистого комля березы, и мы припустили к лесу, обгоняя друг друга.
Сунув посудины с ягодами под корни тальника, мы упали на плотную, пахнущую перегноем подстилку. И тут грохнуло так, что земля дрогнула, и тяжелый, пугающий шум накрыл лес, обрушиваясь на деревья водяным валом. Все скрылось от взгляда. Даже та могучая береза на поляне, под которой мы вначале спрятались, едва-едва проступала в сплошном потоке воды. Одни ослепительные вспышки выхватывали из мрака очертания опушки леса и отдельные деревья. Грохот сотрясал воздух. Что-то холодное и увесистое ударило меня по голове вскользь, и я увидел градину с сорочье яйцо. Град!
Застучало, засекло по веткам ледяными шариками. Всё пространство слилось в сплошную пелену, и только плотные кусты с вязью переплетенных веток, покрытых не пробивной листвой, спасали нас от ударов градин.
Едва я приподнял голову, пытаясь полюбоваться грозовым разгулом, как полыхнуло так, что глазам стало больно, и удар грома заложил уши. Совсем близко, на короткое, неуловимое по времени, мгновенье я увидел расщепляющуюся на две половины березу на поляне, объятую искрящейся золотой сеткой, и сунулся под корни толстой талины, прикрыв голову руками. Вжатый тугой тревогой в лесную подстилку, я даже не посмотрел на друзей, боясь поднять головы и снова увидеть жгучий удар шальной молнии.
Минута, две, три… И шум падающей воды начал удаляться. Перестали щелкать по веткам градины, посветлело. Гром все еще гулял где-то близко, за лесом, и еще слепила своим неземным светом молния, но уже не так опасно и жутко. Дождь стал ровнее и вскоре сошел на нет.
Я приподнялся на локте и увидел поверженную березу, густо и пышно закрывавшую могучей вершиной часть поляны. Дрожь прошла по моему телу.
– Гляди, – просипел я, толкая Пашу, – березу громом разбило!
Паша и Славик, пораженные увиденным, не проронили ни слова.
С опаской обходили мы распластанные по поляне березовые отростки. Дерево раскололо от макушки до комля. Красноватые по излому, с синим оттенком, ее части исходили паром и были уродливо завиты в жгуты. Зимой дед скручивал на вязки саней разопревшие ивовые прутья. Почти так же страшная сила скрутила, изломала и оторвала от корней толстую, охвата в два, березу. Её листья уже поникли, зеленовато-белесые, мокрые. С них струйками капала чистая, как слеза, дождевая водица. Удивительно пахло свежей зеленью и цветами.
– А если бы мы там остались?! – тихо высказал вслух свою тревогу Славик. Хотя об этом подумал и я, и, вероятно, Паша.
Но мы промолчали, подавленные проявлением страшной неземной силы, жутким видом искореженных сучьев умирающей березы. Любая смерть трогает душу, и даже такая. Не хотелось ни обсуждать происшедшее, ни подбадривать друг друга, и мы, обходя поляну, двинулись к деревне.
В низинах налило воды. Хрустально светились в ней подтаявшие градины, и, когда мы проходили через эти лужи, остро знобило ноги.
Пока дошли до деревни, небо очистилось. Слабый гром еще долетал до нас. Вспыхивали над лесом зарницы, но уже тепло было и удивительно прозрачно…
* * *
Не раз и не два ходил я с друзьями за ягодами. А после одного из походов дед, глянув на горку алых, благоухающих на все избу ягод, рассыпанных на столе, произнес:
– Ягода – она, конечно, с пользой для организма, да силы не дает. Вон на буграх, после дождей, теперь печерички полезли – сходил бы ты их пособирал. Похлебка с печеричками не хуже мясной – язык проглотишь. А жареные они – объеденье.
– Что за печерички? – не понял я деда.
– Грибы такие. Тут у нас псковские переселенцы есть, ни то бульбаши, ни то хохлы, от них мы кое-чего и нахватались. Вот и эти грибы по-ихнему назвали. А сказывали старики, что они шампиньонами зовутся. Но это как-то не по-русски, неудобно.
– Что за бульбаши?
– Белорусы. Они бульбой картощку зовут, и большие её любители, особенно до драников – оладьев из картошки. Вот и пошло прозвище – бульбаши.
– А хохлы?
– Украинцы. Русские это люди, живущие на окраине наших рассейских границ, у края значит. Вот и украинцы потому. Сказывают, что они когда-то брили головы, оставляя на темени длинную косичку, хохол – оттуда и хохлы. Мы их хохлы – они нас москали. Московские значит. Или вовсе кацапы.
– Почему кацапы?
– По-нашему, по тульскому говору, кацап – это раскольник. Видно, как отошла Москва от Киева – нашей общей столицы в старину, откололась – так они и стали нас кликать кацапами, то есть – раскольниками. Вот так-то, малый Ленька. Разумей – что к чуму, авось в жизни сгодится.
– Откуда ты всё это знаешь? – засомневался я в дедовых объяснениях.
– А грамотные люди сказывали. Я ведь, Ленька, пока из Германии до нашей Сибири добирался, много чего наслушался и нагляделся. Хватило и хорошего, и плохого. А ты мотай на ус то, что я сказываю. Вырастишь – проверишь: прав я был или нет.
И я «мотал», подолгу обкатывая услышанное, и не только про хохлов и кацапов, но и многое иное, что вразумлял мне дед, и похлебкой с печеричками объедался, и сковороду с жареными шампиньонами выскабливал.
3
Две ночи подряд дед ходил пропалывать нашу тайную полоску проса. Меня он с собой не брал: то ли жалея, то ли из-за того (как он говорил), что я, толком не зная сорняков, мог выдергивать вместе с ними и просо. Возвращался он из леса в самый сон-час, когда живой свет, поднимаясь от окоёма, гасил свет полнолуния и все вокруг как бы погружалось в глубокую дрему. Я, вольно раскинувшись на полатях, всё же улавливал осторожные шаги деда и, отгоняя легкие грезы, всматривался сквозь щелку между досками в его осветленное окнами лицо.
Присев на лавку, дед задумывался, упершись натруженными руками в колени, и мне становилось жалко его, измученного никогда не проходящей работой и постоянной тревогой о том, как жить дальше, чего ждать, и только неосознанная скромность удерживала меня от желания соскочить с полатей и кинутся к деду с обнимкой. В том горьком осознании я и засыпал, медленно погружаясь в уже новые, навеянные иным состоянием сновидения.
* * *
Дотягивая третье лето в деревне, я уяснил, пожалуй, главную истину сельского бытия: чтобы жить – надо готовиться к зиме с самой весны и проводить всё дальнейшее время в повседневных хлопотах. Иначе – не выдержать, не перенести полугодовой накат холодов и многоснежья. И мы, как могли, старались помогать деду – нашему основному работнику, главе дома. И редко выпадали вечера, когда я с друзьями втягивался в какие-нибудь игры.
В заботах и суете подкатил август – переметный месяц между летом и ранней осенью, показатель урожаев. Уже в начале его можно судить и о том, какие овощи в силе и какими уродятся хлеба.
В это время у сельчан на грядках появились огурцы, и мы, пользуясь ночной темнотой, как бы по традиции, стали нырять в огороды, снимая пробу с этих самых грядок. Поднимешь осторожно огуречную плеть, нащупаешь твердый отросток и за пазуху. Два-три огурца сорвешь и назад, через забор. И что занимательно, у каждого из нас своих огурцов хватало на вольную еду, так нет – чужие всегда казались и ароматнее, и вкуснее.
Как-то пришли ко мне Паша, Славик и Мишаня Кособоков и позвали за огурцами. И они, и я знали, что не очень-то похвально лазить в чужие огороды, но толкало нас в ночные похождения не только желание попробовать не свои огурцы. В риске быть пойманным на месте запретного действия таилось нечто необъяснимо жгучее, тянувшее душу в приключенческие грезы, в игру с опасностью, в показное умение обойти эту опасность, победить слепой страх.
– А к кому вы нацелились? – спросил я, уже зная многих сельчан.
– У Головлевых, говорят, огурцы крупные, – отозвался Мишаня.
Паша мотнул головой:
– К ним не сунешься – собака мошонку оторвет.
– Тогда к Кривому, – тянул своё Мишаня.
– У него мать колдунья, – снова не согласился Паша.
А меня как легким током дернуло:
– Пошли! Это же интересно!
– Ага. Еще наворожит что-нибудь, – отозвался Славик. За время, проведенное в деревне, он так освоился с сельской жизнью, что ничем не отличался от нас.
– А пошли! – махнул рукой и Паша.
И мы вчетвером припустили по ближнему переулку в дальний край деревни.
Уже густо темнело. Затихли во дворах бытовые звуки и огней не было видно: летом день длинный, и, наработавшись, люди, справив дела по дому, сразу ложились спать.
Мишаню мы оставили в дозоре. Он должен был через калитку следить за избяной дверью и в случае опасности покашлять.
Я перемахнул через плетень следом за Пашей, за мной – Славик. Прохладные и шершавые, еще чуть-чуть сырые после вечернего полива огуречные плети лежали на высокой навозной грядке. Я поднял одну из них, ощупал. Толстый огурец попался под руку. Слабо хрустнул его стебелек, но в ночной тишине этот звук показался мне громким. Я едва успел засунуть огурец в карман, как услышал легкое покашливание. Стрельнуло судорогой от пят до затылка. Неведомая сила толкнула меня к изгороди, и я птицей перемахнул через неё, заметив, что и Паша, и Славик тоже метнулись рядом. Путаясь друг у друга под ногами, мы понеслись за огород. Паша сунулся в густые лопухи у заброшенной канавы, и мы – за ним.
– А где Мишаня? – Паша чуть приподнялся на коленях.
Мы молчали, выравнивая дыхание и прислушиваясь. Холодок пополз по хребту: вот-вот кто-то схватит Мишаню и раздастся его отчаянный крик. Вот-вот! Но шло время, а тишина так и висела над околицей.
– Домой, поди, рванул, – предположил Паша и еще раз выглянул из-под листьев лопуха.
– А кто там кашлял? – подал дрожащий голос Славик.
Я не успел ему ответить, услышав мягкие шлепки босых ног о дорогу. Кто? Что? – обожгли мысли, но вместо таинственного существа появился Мишаня.
– Вы чего убежали? – как ни в чем не бывало, спросил он. – Я услышал, как прясла затрещали, и к себе побежал, да разве вас догонишь. Что те жеребята.
– А ты что кашлял? – не понял его Паша.
– С чего ты взял? Я не кашлял. – Потому, как Мишаня произнес это с обидой в голосе, понятно было, что он говорит правду.
– Ты же слышал? – потянул меня Паша за подол рубахи.
– Ну да!
– И я слышал, – отозвался Славик. – И кто-то в ограде промелькнул.
Начиналось нечто необычное, необъяснимое, отчего волосенки шевельнулись.
– Ты точно никого не видел? – подступал Паша к дозорному.
Мишаня не успел ответить, как где-то неподалеку от нас раздался хрипловатый вскрик, похожий не то на блеянье овцы, не то на страдальческий вопль человека. Еще и еще. Я почувствовал, как напрягся Славик, прижимаясь ко мне, как подался глубже в лопухи Паша. Холодок опахнул спину и в ушах тоненько зазвенело.
– Говорили же, что их бабка колдунья, – приглушенно произнес Паша.
И тут Мишаня кинулся бежать вдоль переулка. Какая-то сила подняла и меня, и мы все разом понеслись за ним. А ужасающие вскрики всполошили всех деревенских собак: какие-то из них затявкали, какие-то завыли. И эта холодящая сердце какофония как бы неслась за нами, подстегивая в беге и перехватывая дыхание. Оборвалось всё так же вмиг, как и возникло. Мы замедлили бег и остановились у нашего дома.
– Говорил не надо связываться с колдунами, – начал Паша, едва отдышавшись, – теперь жди какой-нибудь гадости.
– А кто это так страшно кричал? – тихо просил Славик.
– Кто, кто? Ясно бабка ихняя нас пугала, чтобы огурцы не рвали, – заключил Мишаня.
– Люди так не кричат, – засомневался Славик.
– Так она в какую-нибудь зверюгу превратилась, – нагнетал страх Паша.
И пошел у нас разговор вперебой. Вспомнилось, как месяц назад мы слышали непонятные стоны на чердаке, а так и не узнали, кто там стонал, как в зимние вечера пробавлялись россказнями про колдунов, как кто-то и когда-то пострадал от нечистой силы… Нагнали мы друг на друга жути, и ребята засобирались по домам. Добро мне оставалось лишь нырнуть за калитку, а Мишане нужно было бежать на другую улицу. Представив его одного, идущего в темноте, я передернул плечами и быстро юркнул в ограду.
4
Так же, как по весне, мы с дедом вышли из дома в то время, когда округлая луна поднялась едва ли не над головой. Но теперь мы были вдвоём, без Кольши, а матушка и Шура остались домовничать – у них с раннего утра было немало дел.
Дед катил за оглобли колесянку – двухколесную тележку, сделанную им самим, а я, пытаясь ему помогать, нет-нет да и подпирал её сзади, на что дед оглядывался и покачивал головой. На колесянке – не было ничего, кроме пустых полотняных мешков.
Тихо, мглисто, напряженно. В такой немоте мы и одолели лесную дрему и почти уперлись в стену разросшихся бурьянов.
Дед огляделся, что-то прикидывая, а я вспомнил весну, то время, когда мы засевали нашу тайную делянку. С той давней поры я на ней не был и пытался представить, что там выросло. Ведь и мои старания были вложены в тот сев, и от моих разбросанных семян должно было что-то подняться.
– Дальше колесянку не протянуть, – прервал мои прикидки дед, – бурьян вон как плотно разросся. Оставим её здесь, а жито будем таскать к ней в мешках.
Он захватил с собой два-три мешка, и мы потянулись в глубь залежи по едва заметной прогалине, проломленной дедом в бурьянах еще в прополку.
Жесткие травы поднялись настолько, что скрывали меня и, переплетясь со старыми стеблями, были едва проходимы. Они цеплялись за одежду, за ноги, хлестали метелками по лицу, рукам, и мне пришлось напрягаться, чтобы не отстать от деда и не заблудить в этих непролазных крепях.
Светлый разворот чистой полоски открылся весь сразу, и мы остановились.
– Не зря трудились, – с ноткой радости в голосе, проговорил дед, наклоняясь и трогая просо, – вон какие метелки вымахали! Пора их дергать да сушить – на обмолот готовить.
Наляжем, как следует, так ночи за три управимся.
Он объяснил мне, как да что, и началась наша ручная жатва.
В обливном свете полнолуния густые метелки созревшего проса казались белыми и мягко обтекали руки. Пальцы ощущали в них густую россыпь твердых зерен. Двигаясь рядом с дедом, я набивал просянищем мешок, чувствуя, как он тяжелеет и тяжелеет.
– С тебя, пожалуй, хватит, – будто угадал мои потуги дед, – большего не протянешь по такому дурелому, а я пару мешочков прихвачу.
И пошли мы с ним назад, к тележке, теперь уже с набитыми просом мешками.
Бурьяны, будто мстя за наше вторжение в их владения, со всех сторон цеплялись за мешок, как бы стараясь стащить его с моих узких плеч. От напряжения дрожали не только ноги, но и руки и всё тело…
Где-то на третьей или четвертой ходке совсем невдалеке, за противоположным от колесянки краем залежи, раздался вдруг густой рев с подвывом и тявканьем, совсем как в ту августовскую ночь, когда мы с Кольшей караулили у костра серых куропаток.
Я даже присел от неожиданности, почувствовав, как кожу на спине будто осыпало изморозью. И дед остановился, прислушиваясь.
– Волки запели, – проговорил он спокойным голосом, – где-то в болотине. Но ты не дрейфь – они нас не тронут.
Я понимал, что дед тоже не железный, что и ему этот звериный вой не по себе, и он только вида не подает, что встревожен, ободряя меня. Понимал и пытался выплеснуть из души тискающую сердце оторопь, стряхнуть налетный на спину озноб, но мне это плохо удавалось. Какие-то глубинные чувства топили в той жути мой настрой, жгли трезвые мысли, и, слушая зверей, я с тем же сердечным трепетом, с тем же холодком по хребтине шел за дедом, тайно надеясь, случись что, на его защиту.
Лишь к концу ходки, когда мы кинули набитые просом мешки на колесянку, вой волков прекратился. Тишина обложила уши. Слетел озноб. А я все оглядывался, тая тревогу: вдруг волки из-за кустов подкрадутся! И еще некоторое время, пока мы катили в деревню тележку с набитыми просом мешками: дед впереди, за оглобли, а я сзади, помогая ему, – я невольно оглядывался, сторожась волчьей погони.
* * *
Просо долго сушилось. Вначале под навесом, а после на печке. Молотили мы его усохшие метелки тоже под навесом, на пологе, цепами, оставшимися у деда еще от единоличной жизни. А после, всю долгую зиму, просо толкли в деревянной ступе деревянным толкачем, отделяя зерна от шелухи. Получавшееся пшено шло на кашу и похлебку и было весомым подспорьем к нашему скромному столу.
В потоке дел, приятных и неприятных событий, узнал я, что Славик с матерью решили переехать из тесной Пашиной избушки в дом к какой-то тетке, оставшейся одной, после того как её последнего – третьего – сына забрали на фронт. А это почти в конец второй улицы, далеко, так что встречаться со Славиком, а тем более играть, вряд ли светило.
Жалко. А узнал я эту грустную новость от Паши. Так что наша дружная троица распадалась.
5
Он появился в дверях класса как-то быстро, в момент, и ходко прошагал к учительскому столу. Я хотя и знал, что к нам на урок придет бывший фронтовик-танкист, и ждал его в затаенной робости, но, тем не менее, замер в тонко наплывшем напряжении. Вероятно, то же самое или что-то схожее испытывали и остальные ученики, поскольку в классе как-то пусто стало от всеохватной тишины. Лишь через два-три мгновения все поднялись из-за парт, выражая приветствие.
Танкист был невысок, коренаст, плотен, в гимнастерке без погон и галифе. Мой взгляд сразу же уперся в пустой, подвязанный рукав справа и в большую сероватую звезду на груди. От подбородка до щеки у фронтовика темнело какое-то пятно.
Глуховатым голосом он поздоровался с нами и начал рассказывать про войну, про то, как был командиром танка, как несколько раз выбирался из подбитых и горящих машин, как в последнем сражении летом, в котором крушили друг друга тысячи танков, потерял руку и чудом спасся…
Слушал я его с душевным замиранием и пытался представить сражение в тысячи танков, пытался и не мог – всё мыслимое пространство мне загораживали какие-то горящие нагромождения железных глыб и обломков с торчащими стволами пушек. И потом еще некоторое время после той встречи мне снились то пылающие танки, похожие почему-то на гусеничные трактора, то люди с оторванными руками, то подпирающий горизонт железный лом…
6
Крепко заненастило, когда дед принес во двор гусака и гусыню, ни то выменяв их на что-то у своих же деревенских, ни то пообещав за них какую-нибудь отработку. Мужиков-то в деревне осталось раз-два и обчелся, а время не остановишь: и дворы, и домашняя утварь ветшают – а дед мог и постройки подправить, и обувь починить, и еще многое-многое что-либо сделать в сельском быте.
– Заботу тебе, малый, принес, – обратился он ко мне. – Теперь летом ни шибко побегаешь: за гусями глаз да глаз нужен. Уж больно они шустрые. Чуть заиграешься – и ввалятся неокрепшие еще гусята в какую-нибудь канаву или яму и затопчут друг друга или закупаются, если яма с водой. А как подрастут, то норовят в чей-нибудь огород нырнуть – капусту пощипать или молодую картошку выудить из мягкой землицы. А люди сейчас озлобленные: могут и палкой шибануть по шеям. И даже один погибший гусенок – это потеря дней пяти с мясным наваром. Вот и прикидывай, чеши затылок…
Я сразу все понял и буркнул недовольно:
– Одному мне, что ли, за ними глядеть? Жили без них и дальше бы пожили.
– Ан нет, Ленька, – дед прищурился, – сдается мне, что с окончанием войны наше мытарство не закончится: полстраны разрушили – все заново поднимать надо будет, людей кормить, а их там больше, чем в Сибири. Так что, здесь всё выгребать будут подчистую. Глядишь, еще и голодать придется, а гусятина – весомая поддержка. Если экономить, то можно на все зимние месяцы растянуть. Все не постные щи. Да и гуси – птицы неприхотливые: полное лето на траве обходятся, а осенью их подкормим и в забой…
Так оно после и вышло.
Глава 2. Свой расклад
1
Необычно ранней оказалась зима. Уже в середине октября выпал снег – да так и не растаял, хотя и теплило иной день, и сырой налет оседал на деревянные постройки, но земли мы так больше и не увидели.
Не до игры было в столь волглую погоду, и я большую часть времени проводил за горничным столом, почитывая те книжки, которые еще можно было взять в школьной библиотеке. Особенно меня захватил Робинзон Крузо со своими приключениями, и даже на улицу, как говорил дед: проветриться, выходить не хотелось. С большой неохотой я натаскивал дров из-под навеса для утренней просушки в протопленной печи, и снова за книгу. И потекло время, потекло, с редкой радостью от отцовских писем, приходивших в маленьком конверте треугольником, в которых он скупо писал, что немцы не дают расслабляться, что участились бомбежки и артеллерийские обстрелы… И вздрагивало у меня что-то в груди, когда я пытался представить все эти, трудно представляемые, образы, и холодела спина от жутких мыслей. И следующей весточки от отца я уже ждал с некоторой затаившейся в душе тревожностью, и только новое письмо почти на нет гасило эту тревожность, оставляя зыбкий сторожок надежды на дальнейшее благополучие.
2
В широкое окно класса было видно здание сельсовета с маленьким красным флагом на коньке. Одну половину этого деревянного здания занимала колхозная контора, а между сельсоветом и конторой был длинный коридор, в котором нередко толпились сельчане.
Зимние дни коротки и безлюдны, и мы всегда наблюдали в окна за редкими подводами, подъезжавшими к конторе, за любым человеком, проходившим в поле нашего зрения. Наблюдали не то чтобы безотрывно, а так: взглянем и отвернемся, слушая урок, и еще пару раз взглянем, пока не скроется человек или повозка за дворами.
Этого странного человека я заметил сразу. Мне показал на него Антоха Михеев. Человек шел от сельсовета к школе. Необычность его внешности и походки бросалась в глаза сразу: длинная, до снега, одежда, костыли, подпрыгивающий шаг. Его заметили все.
– Одноногий на костылях, – прошептал кто-то, и в классе установилась редкая тишина. Всех встревожило одно и то же: кто? Чей? Каждый из нас вглядывался в матовую белизну зимнего дня, пытаясь разглядеть лицо человека в солдатской шинели, уловить в его движениях что-нибудь знакомое. Кое-кто даже привстал за партой, и учительница, понимая наше волнение, не делала никаких замечаний, тоже поглядывая в окно.
Человек шел медленно, бросая по бокам костыли, словно взмахивая общипанными крыльями, взрыхлял ими снег по краю тропинки.
Сердце трепыхнулось, зачастило, вещая, что не мой то отец – мой бы написал, и я стал исподтишка осматривать одноклассников: кто же из них счастливчик? Ближе всех ко мне был Антоха. Его лицо словно окаменело, глаза застыли. За ним, впереди, стоял за партой Мишка Кособоков, слегка приоткрыв рот. Затаились в остром оцепенении и другие.
Тропинка из переулка завернула вдоль домов, но поднятый воротник шинели, и низко посаженная шапка с отогнутыми ушами как бы прятали лицо идущего человека. Было видно, что человек худой и сутулый, когда он опирался на костыли, то плечи у него поднимались – чуть ли не вровень с головой.
Выйдя на середину улицы, человек остановился и поглядел на школу. Тут же Мишка Кособоков сорвался с места и, без слов, кинулся из класса.
– Дядя Яша Кособоков, – как выдохнул кто-то, и мы повскакали из-за парт, кинулись к окнам.
Видно было, как бежал через дорогу раздетый Мишка, разбрасывая большими, не по ноге, валенками снег и часто спотыкался, как утонул в шинели отца… Дальше многие не стали смотреть – им уже ждать было некого.
Не стал смотреть и я: непонятная зависть распирала грудь. Ну почему не я на месте Мишки?! Почему?!
Я понимал, что мысли мои эгоистичны, злы, но безмерное желание увидеть отца захлестнуло здравый рассудок, как бы отуманив сознание. С тугим комком обиды, подступившим к горлу, я сел за парту и принялся глядеть на школьную доску ничего не видящими глазами. Даже, когда учительница начала говорить, я почти не осмысливал её слов, находясь в каком- то странном оцепенении.
А Мишка вбежал в класс с таким сияющим лицом, что никого не замечал, чумной. Покидав в холщевую сумку свои школьные принадлежности, не спрашивая учителя, он выбежал на улицу.
3
День угасал, тихий и мягкий, без ощутимого холода. Усталые и голодные топали мы с дедом из леса. Дед смотрел нашу старую делянку, рассчитывая подпилить дров, а я ходил с ним за компанию, из любопытства. И отошли-то мы от деревни недалеко, а по целинному снегу набродились, обходя широкий лесной отъем, и, пока выбирались к накатанной в снегу дороге, ноги потяжелели.
– Вот мы и сравнялись: старый да малый. – Дед поглядывал на меня через плечо. – И я, и ты подошвами по снегу чиркаем, а через часок стемнеет, и погода на буран поворачивает. Видишь, как хмарь небо к земле давит.
Я вскинул голову – блеклое небо и белое поле среди темных, почти черных лесов. Тихо, спокойно, пустынно, никого и ничего, и тут же некий, едва внятный, звук уловил я и оглянулся: далеко от дороги лепились на березняк крупные черные птицы, и я узнал их.
– Косачи вон! – показал я деду рукой.
Дед прищурился, пытаясь разглядеть далеких тетеревов.
– Это они на кормежку летят, – пояснил он. – Засекай, откуда поднимаются, у тебя глаза вострые.
Я заметил, что птицы вылетают с заслоненного тальником края леса и сказал об этом.
– Там они и ночевать будут. Наклюются почек и в снег. – Дед как-то оживился. – Эх, поискать бы их с фонарем ночью!
– Как это? – не понял я, пытаясь угадать смысл сказанного.
– А половить. Косач в снегу крепко спит, особенно в тепло. А если и услышит что, так не сразу встревожится, и свет фонаря его на какой-то миг ослепляет. Тут его и накрывай сачком…
Мне представился ночной лес, черные косачи, белые снега…
– А что, давай!
– Так матка тебя не пустит – не дорос еще по ночному лесу шастать. – Дед хитровато щурился.
– Пустит! – загорячился я. – Мы же с ружьем будем?
– А зачем ружье-то? Стрелять все равно не придется. В том и интерес…
Без ружья, ночью, в лесу?..
– А вдруг волки? – заосторожничал я.
– Волков бояться – в лес не ходить, говорит пословица. Да и фонарь с нами будет, а звери света боятся. Ну, так как? Пойдем или во сне будем охотиться?
– Пойдем! – хорохорился я.
– Только с маткой сам договаривайся…
До дома мы дошли незаметно, с восторгом, мечтами вслух, взаимной любовью, долго выискивали момента, чтобы сказать матери о нашей затее.
– Что удумали! – заволновалась она. – Это же лес! Зима! Ночь!
– Да мы тут рядом с деревней, – виновато моргал опущенными веками дед. – И ружье возьмем на всякий случай…
В конце – концов, наше взяло. Дед принес из кладовки сачок с длинной деревянной ручкой и фонарь. Фонарь был квадратным со стеклами-окошками.
– Керосину нальем и все дела, – весело говорил дед, возясь с фонарем.
Я в волнении суетился тут же.
* * *
Сон не шел. Мысли путались. Несколько раз я поднимался, откидывал одеяло, садился на кровати и глядел в окно, приблизив лицо к самому стеклу. Мутные дали тонули в сером ночном свете, чернел непроницаемо лес. Скоро ли? Дед сказал в полночь, а когда она придет эта полночь?.. Кружились в сладкой тревоге мысли, самые диковинные сцены ночной охоты представлялись мне. Вот огромный, с лошадь, косач высунул из снега голову, раскрыл короткий изогнутый клюв и сказал:
– Леньк, а Леньк…
Я открыл глаза. Надо мной склонился дед.
– Вставай, пора…
Как тепло, сухо и уютно под одеялом! А на дворе темень, снег, холод… Но я резво вскочил и стал поспешно одеваться. Что-то было во мне сильнее страха перед зимней ночью…
Я первый вышмыгнул на улицу. Зимой темнота не слишком плотная: на фоне снега чернота далеко видна. Я огляделся: вот баня на краю огорода, прясла, плетень, поленницы дров под навесом. В глубине дровника таинственно и сумрачно. А может, там кто-нибудь спрятался? Какой-нибудь нечистый? Я передернул плечами и сделал несколько шагов к дровнику. Моим напряженным глазам показалось, что там шевельнулась некая тень, и сразу же трепетно заколотилось сердце. Трусишь?! Будто сказал кто-то, и, затаив дыхание, я сделал шага два-три. Вот и дровник. Все в нем знакомо: поленницы, веники, сушеные травы на вешалах – больше ничего и никого. Радуясь своей маленькой победе над страхом, я возвратился к сеням.
Появился дед.
– Сачок взял?
Только теперь я ощутил, что в руках у меня сачок, и показал его деду.
Переулком мы выбрались за околицу. Деревня спала, присыпанная снегом, укутанная тьмой. Ни огонька, ни звука. Вскоре мы свернули с дороги и пошли целиной. Идти сразу стало тяжело – валенки вязли в снегу, хотя и не особенно еще глубоком, сдергивались с ног и приходилось напрягаться, чтоб не остаться разутым. Все мое внимание было занято тем, чтобы попасть в дедовы следы: так идти было полегче – но шаг у деда все же был побольше моего и приходилось прилагать некоторое усилие, чтобы дотянуться до очередной ямки его следа.
Наконец из темноты выплыли черные кусты тальника, и дед остановился, переводя дух.
– Близко уже, – зашептал он, – пора фонарь зажигать. Я подниму стекло, а ты чиркнешь спичкой. – Он протянул мне коробок спичек.
Фитилек загорелся робко, и я тут же закрыл его стеклом, фонарь осветил небольшое пространство возле нас: зернистый снег, засыпанную ветку, ствол березы, тальники…
– Приготовься! – приглушенно выдохнул дед.
Я снял с плеча сачок. На весу он показался не очень легким.
– Тут где-то, – опять зашептал дед, выходя на поляну среди кустов.
Необычно и таинственно было в заснеженных ночных тальниках. Снег истоптан непонятными следами-ямками: у кустов, у берез – как попало, без всякого порядка. Кто топтался, волки? Лоси? Спросить у деда я не успел: около ближней лунки показалась из снега черная змея.
– Косач! Косач! Накрывай! – обдал ухо и щеку теплым дыханием дед.
Теперь и я понял, что это тетерев, и меня овеяло жаром. Руки вмиг онемели, и я шлепнул сачком рядом с птицей. Косач подскочил, стряхивая с себя снег, и попытался взлететь, но, ослепленный светом, потерявший ориентировку, снова упал. Тут я его и накрыл, неуклюже хлопнув пару раз сачком. Дед все время что-то горячо шептал сзади, пыхтел, держа фонарь в высоко поднятой руке, но я его не понимал. Лишь когда черный, как кусок угля, косач забился под сеткой сачка, я оглянулся, не зная, что делать.
– В мешок его, в мешок! – загудел дед мне в затылок. Он наклонился, поставил фонарь на снег и запустил руку под сачок. Ружье, висевшее через плечо, мешало ему. Вытащив из-под сетки тетерева, дед сунул его в мешок.
Тут неподалеку от себя я снова увидел черную голову косача с яркими алыми бровями и упал, придавив птицу животом. Справа и слева начали взметаться снежные фонтаны, затрепетали хлесткие крылья взлетающих из лунок птиц, за ворот мне посыпался снег, и неожиданно пропал свет. Сразу стало тихо и темно. Я чувствовал, как сильная птица толкается под моим животом, пытаясь освободиться.
– Дедушка! – заорал я что было мочи… – Дедушка!
– Здеся я, не блажи! – раздался его голос совсем рядом. – Поймал еще одного, да фонарь раздавил будь оно не ладное. – Он забормотал еще что-то неразборчивое. Слышно было, как по рукам деду бьет крыльями сильная птица. – Эх, фонарь жалко, едрена корень! Где теперь стекла достанешь?..
У меня мерзли руки, а косач все толкался подо мной, то затихая, то снова неистово колотясь. Он уже сместился к груди и в любую минуту мог пробить снег где-нибудь сбоку и вылететь.
– Возьми косача, дедуля, – стал жалостливо просить я, – а то улетит.
В темноте ничего не было видно, но я почувствовал, как дед запустил под меня руку и потянул к себе бьющуюся в испуге птицу.
– И этого в мешок…
Глаза привыкли к темноте, и теперь я хорошо видел деда.
– Эх, фонарь загубил, – стал опять сокрушаться он.
Я поднялся, отряхиваясь. Азарт недавней охоты еще горел, жег сердце.
– Прыг на него, а он в живот головой, как кулаком! – не удержался я от рвущегося желания говорить. – И вперед, и вперед!..
Дед поддержал мой восторг:
– А я шапкой хлопнул да споткнулся и косача придавил, и фонарь…
Темно и снежно было, и глухо раздавались в ночном лесу наши голоса. Со стороны все это и вовсе казалось, поди, колдовством или нечистой игрой.
С разговорами мы как-то быстро выбрались на дорогу, и пока шли к деревне в степи забился мелкий буран, закрыл и ближние колки, и поляны, и малозаметный проселок. И последние сотни шагов мы шли вслепую.
– Хорошо, что задворки рядом, – подбадривал меня и себя дед, озираясь по сторонам, – а то и заплутать немудрено в такой канители…
Глаза у меня были все же позорче дедовых, и я увидел близко чью-то изгородь и обрадовался: был момент, когда мне казалось, что мы действительно заблудились. Но ни страха, ни усталости я не чувствовал. Живым теплым грузом висел за спиной мешок с косачами и от мысли, что и я как-то помогаю семье, было тепло и весело.
4
За окном густо темнело. Плыли в мутной белизне зажатые сугробами дворы. Зыбко дрожали у околицы рваные стежки лесов. Наливались чернотой дали…
Оглядев пустынную улицу, размытую вечерней мглой, я опустил занавеску и направился в горницу. В углу, за столиком притаилась Шура. Она морщила лоб и беззвучно шевелила губами, устремляя взгляд на спрятанную в руке бумажку. Утром она хвасталась, что пойдет с девчонками ворожить и, видимо, что-то учила.
Я плохо представлял, что такое ворожба, но даже само это слово несло в себе нечто таинственное и запретное. От него и в груди холодело, и сердце замирало, и так захотелось хоть одним глазком глянуть на эту самую ворожбу, что я не выдержал душевных мук и начал с тихой надеждой подавать голос:
– Шур, а Шур, возьми меня с Пашей на ворожбу.
Шура затихла, перестав шевелить губами, и скосила глаза:
– Еще чего? С мужиками ворожба не получится.
То, что она назвала нас мужиками, льстило, но желание посмотреть ворожбу от этого ничуть не уменьшилось.
– Скажешь тоже, какие мы мужики?
Шура усмехнулась.
– Все равно мужского рода.
– Да мы ненадолго. Поглядим и все.
– Не проси! Катайтесь вон на своих санках! – Шура заерзала на табуретке.
– Не всю же ночь нам кататься.
– А это ты с матерью говори, может, возьмет она тебя с собой.
Был канун старого Нового года, и у соседей намечалась какая-то вечеринка.
– Жди, там только взрослые будут.
– Не оставят же тебя одного. – Шура начала что-то быстро писать на своем заветном листочке, а я сразу смекнул на чем можно сыграть.
– Я и сам не останусь один, и тебя никуда не пустят, поворожишь тогда.
– А ты не один, с Пашей.
– Мы тут знаешь, что натворим?
Шура, тряхнув всклокоченными волосами, тяжело вздохнула:
– И зачем я только сказала тебе про ворожбу! – В ее голосе прозвучало такое отчаянье, что мне стало жалко юную тетку.
– Да мы тихо посидим.
– Знаю я вас, тихонь. Попадет мне от девчонок.
– Уговорим! – Я понял, что мое взяло, и засобирался к Паше…
* * *
Когда мы выбежали из дома, ночь совсем придавила деревню, и только редкие огни в окнах обозначали улицу.
Шура метнулась в первый переулок и ходко пошла вдоль заснеженных задворков, сенников, изгородей… Она так торопилась, что мы с Пашей едва за ней поспевали. С горки доносились крики играющей ребятни, да как-то протяжно и обеспокоенно взлаивали собаки. От этого ли или от сознания предстоящего таинства внутри у меня все дрожало и, чтобы унять эту дрожь, я напрягался до замирания сердца и перебирал ногами как заводной. Похоже, нечто подобное испытывал и Паша, как-то странно подпрыгивая впереди меня.
Темные провалы дворов таили тревожную тишину, потное тепло овчарен, закутов и до боли в груди усиливали жгучий душевный трепет.
Так пробежали мы чуть ли не всю длинную улицу, и, где-то недалеко от ее конца, Шура нырнула в крытую ограду маленького неприметного снаружи дома. Мы очутились в кромешной темноте, и я ткнулся Паше в спину.
– Шур, ты где? – тихо спросил Паша, приостанавливаясь.
Ни ответа – ни шороха. Шура, шедшая впереди на десяток шагов, исчезла. Паша оглянулся. Лицо его смутно белело в темноте.
– Спряталась, – предположил он, – здесь столько понастроено, что заблудишься.
«Видно, так и начинается ворожба», – мелькнула щекотливая мысль, и я услышал, как Паша ударился обо что-то.
– Ой! Чуть, бляха, стояк лбом не сшиб! – выругался он.
Не в силах унять чересчур раскачавшуюся дрожь я тоже стал шарить руками перед собой.
Паша все уходил куда-то в темноту, и отстать от него я боялся. Во дворе могли быть и злые собаки, и столбы, и дрова, и еще неизвестно что, и в этом забавном слепом движении мои руки вдруг уперлись в нечто мягкое, не холодное. Перед глазами будто высверкнулось что-то, ударило в голову и пронзило все тело до пяток. Рука отдернулась мгновенно. И в тот же миг кто-то толкнулся мне под ноги и странно заурчал. «Шурка?!» – Мне показалось, что я крикнул, а на самом деле только пошевелил губами. Сразу ослабло напряжение. В ушах тоненько запели звоночки. Я схватился за это мягко податливое и услышал едва сдерживаемый смех.
– Паша, вот она! – заорал я что было силы, и радуясь, и отгоняя страх, копившийся в темноте этих длинных невообразимых сеней.
Шура залилась таким безудержным и задорным смехом, что где-то впереди темнота раздвинулась узкой световой щелкой, и кто-то девчоночьим голосом спросил:
– Шур, ты?
– Я, я, – все еще смеялась Шура, хватая меня за руку. – Женихов вот вам веду.
Щель распахнулась широким дверным проемом. Недалеко от него стоял Паша, а в освещенном пространстве – девчонка Шуриного возраста.
– Зачем ты их? – строго спросила она, нисколько не скрывая недружелюбия. – Еще расскажут в школе.
– Привязались, Зой, – виновато отозвалась Шура, – я хитрила, хитрила, даже вот напугать хотела.
– Откуда они узнали? – все пытала девчонка, как я понял, хозяйка дома.
– А чего там знать? – Паша шагнул к двери, берясь за скобу. – Неделю шепчетесь. Пускай, что ли?
Девчонка чуть помедлила.
– Ладно, заходите, только тихо. Мешать будете – рогачом огрею. – Она пошла вперед.
Мы – за ней. Лицо обдало теплом натопленного дома, вкусными запахами стряпни. Мы очутились в небольшой кухне. За столом, на котором горела малюсенькая коптилка, я увидел еще двух девчонок с белыми испуганными лицами.
– Раздевайтесь, – не то приказала, не то пригласила хозяйка. – Кавалеры пришли, – усмехнулась она сидевшим подругам, – которые дома побоялись остаться.
– Сопли еще под носом у этих кавалеров, – грубовато отозвалась одна из них, чернявая, толстолицая, с круглыми, как у куклы, глазами.
– Но, но, полегче, Мока, – раздеваясь, с достоинством осадил её Паша. – Сама небось по ночам еще на улицу ходить боишься – в шайку писаешь.
– Вон рогач-то! – снова предупредила хозяйка.
Я увидел в углу, возле печки, целый набор ухватов, маленьких и больших, кочергу…
– Шли бы вы к своим девчонкам, – примирительно посоветовала она.
– Наши еще не ворожат, – опять солидно ответил Паша, усаживаясь на скамейку возле горничных дверей.
Девчонки зашушукались и будто забыли про нас. Хозяйка прошмыгнула в темную комнату и вынесла оттуда зеркало, потом поставила на стол чашку с водой.
– Набери углей, – сказала она той, которую Паша назвал Мокой. Такого имени я еще не слышал и понял, что это прозвище.
Мока лениво поднялась, прошла к печке и почти наполовину влезла в нее.
Шура и худенькая, какая-то блеклая, будто линялая, чем-то напоминающая бабочку-белянку, девчонка расставляли по столу пустые разнокалиберные чашки, взятые из шкафа.
Мока вернулась, держа перед собой, на вытянутой руке, целую горсть холодных древесных угольков. Узкая ладонь ее была испачкана сажей, и на щеке темнело пятно.
– Вот. – Она тряхнула волосами, и в глазах ее мелькнуло отражение пламени коптилки, высветив всю глубину темных зрачков.
– Давай на эту чашку. – Шура пододвинула одну из металлических чашек, и Мока положила в нее угли. Они матово зачернели на белом дне, непривычно и странно.
– Кроши, Настя, хлеб, чего сидишь как барыня! – крикнула хозяйка худенькой девчонке, подавая ломоть хлеба. – Я за зерном сбегаю. – Она, накинув на плечи тужурку, выскочила в сени.
Паша глядел на возню девчонок равнодушно, со снисходительной улыбкой, почесывал ногой об ногу. Валенки они скинули у порога, в общую кучу, и он был босиком. Я все ждал чего-то необычного, удивительного, пугающего, от которого и сердце замирает, и холодком прошивает насквозь, но то, что делали девчонки, было лишь любопытным и все.
Хозяйка принесла из кладовой целую пригоршню пшеницы и высыпала на свободную чашку. По кругу на столе теперь стояли чашки: с водой, с хлебными крошками, с древесными углями, с пшеницей и зеркало.
– Кто первый? – спросила хозяйка полушепотом, как-то побледнев и блеснув глазами. Она была рыжеволосой, длиннолицей и тонкогубой.
– Давай, Зой, я, – сказала Мока, решительно вставая из-за стола.
На нас девчонки и не смотрели. Паша подтолкнул меня локтем и задышал в ухо:
– Гляди сейчас! – От его горячего дыхания было щекотно, и я поежился, стараясь не отвлекаться, чтобы чего-нибудь не пропустить.
Мока прошла к печке, стала на четвереньки и отдернула вбок занавеску, закрывавшую лаз в подпечек.
Оттуда, из-под печки, послышался какой-то шорох, непонятный клекот. Я весь съежился, готовый к любым неожиданностям, по спине будто покатились колючие и холодные крупинки. Но Мока снова, как и в печку, пролезла в этот лаз наполовину, ничуть не боясь того, кто там шевелился. Раздался еще больший шум, знакомый крик, и сердце у меня отошло, потеплело, пальцы разжались, выпустив край скамейки. «Куры там!» – эхом отдались эти крики в сознании.
Мока вытащила пеструю курицу, поднялась, держа её обеими руками, шагнула к столу. Все молчали. Лица у девчонок как-то неузнаваемо изменились. Но я глядел на курицу. Поняв, что не ястреб ее сцапал и не зверь какой, а люди, курица перестала трепыхаться, успокоилась, щурила блестевшие, будто стеклянные, глаза на слабый свет коптилки, поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, так что свет падал или в правый, или в левый глаз, и трясла маленьким зубчатым гребнем.
– Ставь в середку! – прошептала Зоя.
Курица шагнула по столу раз, другой, как бы ища нужную чашку, и вдруг остановилась возле той, в которой был накрошен хлеб, клюнула лениво и принялась глотать шершавое крошево.
Глаза у Моки вспыхнули оранжевым пламенем, брови поднялись, черные и тонкие, а рот приоткрылся.
– Везет тебе, Любка! – с придыхом сказала Шура, щуря глаза. – Богатый женишок-то будет…
– Ночью на улицу ходить бояться, а женихов ворожат, – опять зашептал щекотно Паша и усмехнулся.
Я молчал, осмысливая ворожбу. «Ну да, хлеб – богатство, ясно. А пшеница, уголь?.. И причем тут курица?..»
– Теперь я! – Шура вскочила, взяла курицу, оттянув ее от понравившейся чашки. Так же, как и Мока, она исчезла в лазе, под печкой. Опять послышалось квохтанье, Шура попятилась, в руках у нее была теперь белая курица.
Я даже привстал со скамейки, так интересна была мне судьба Шуры.
Белая курица гордо прошлась вдоль стола и замерла напротив зеркала. Ее отражение было видно четко, и птица будто любовалась собой. Шура, незаметно для других, подталкивала к ней поближе чашку с хлебными крошками, но курицу не интересовала еда. Она стала поворачиваться перед зеркалом то одним, то другим боком.
– Чепурной у тебя будет, гулена! – прошептала Настя, всплеснув руками, отчего еще больше напомнила мне бабочку-белянку. – Теперь я, я!
– Нет уж, девчонки, – запротестовала хозяйка, – мой дом.
– Ну и что? – сгребая под мышку курицу, крикнула Настя. – Подумаешь!
Девчонки и одуматься не успели, как она, едва ли не вся, скрылась под печкой.
– Выскочка! – Зоя покривилась. – Знала бы – не позвала ее.
– Ничего, – успокоила хозяйку тоже не совсем довольная своей судьбой Шура, – это, может, и к лучшему.
– От разошлись! – сказал довольно громко Паша, но его услышал только я.
В это время Настя появилась из-под печки с черно-пестрой курицей, заторопилась к столу и чуть не упала. Предохраняя себя от падения, она выпустила курицу из рук, и та шмыгнула под стол, в темноту.
– Безрукая! – крикнула Зоя, рыжие ее волосы сыпанули золотистым блеском, и мне показалось, что от них полетели искры.
Девчонки склонились под стол, но курицы там не оказалось, Паша проворно нырнул за скамейку, на четвереньках кинулся в темную горницу, зашумел там, на что-то натыкаясь.
Девчонки вскочили, чуть не свалив меня, ринулись тоже в комнату, но Паша уже нес курицу, отчаянно бившуюся в его крепких руках.
– Теперь на нее не поворожишь! – со злорадством крикнула Зоя. – Она порченая – в мужицких руках была!
Паша горделиво протянул курицу.
– Мужики не люди, что ли?
– Люди, но мы на них ворожим!
Зоя схватила птицу и шмыгнула к печке. Она довольно быстро нашла там особенно красивую по расцветке пестро-красную курицу и поставила на стол. Та, будто понимая нетерпение девчонок, тут же принялась долбить белым, как кость, клювом черные угли.
– Кузнец, кузнец-молодец! – закричала Настя.
– Ну и что, ну и что? Кусок хлеба завсегда будет, а тебе там одноглазая осталась, да петух, – охладила ее радость Зоя.
– Как одноглазая? – «Бабочка-белянка» побледнела.
– А так, кур у нас больше нету. Пять всего и петух. Пятая с одним глазом, выклюнули недавно.
– Чего она с одним глазом увидит? – подлила зла Мока.
– Петух, может, еще лучше, – попыталась замять неувязку Шура.
– На петухов не ворожат, – стояла на своем хозяйка.
– Откуда ты знаешь? – Шура щурила хитроватые глаза!
– Мужики и петухи одного рода.
– Во! – опять крикнул Паша. – Еще подерутся!
– Ладно, пусть будет петух, – вдруг неожиданно согласилась Настя, и все сразу притихли. Зоя даже вызвалась помочь ей поймать кусачего петуха.
Паша ухмылялся, тряс головой, как заправский мужик, слушая шум под печкой.
Великолепный, с огненными перьями петух, с огромным красным и кустистым гребнем, с хвостом в желтых серпах, долго топтался на столе, потом наклонился над чашкой с водой и стал пить, высоко поднимая разукрашенную голову и разевая клюв.
– Пьяница будет, – толкнул меня Паша, но Зоя хмуро взглянула на нас, и мы притихли.
А петух прошел к зеркалу, потряс над своим отражением кроваво-красном бородкой и вдруг оглушительно, на всю избу, закукарекал, замахал крыльями, сдувая со стола крошки. Все было ясно: пьяница, форсун, забияка-весельчак. Вдобавок ко всему, когда девчонки схватили разошедшегося петуха, он нагадил на стол.
Настя-бабочка совсем поникла, будто побыла под дождем. Мне даже стало жалко эту бледную девчонку.
– Но ничего, – успокаивала ее Зоя, когда петуха водворили под печку. – Я еще одну ворожбу знаю. Там можно будет увидеть этого пьяницу. Ты лицо запомнишь и не пойдешь за него…
– От дал! – смеялся Паша. – Чуть не в руку!
– Не скалься, – одернула его хозяйка и взяла со стола зеркало, – а то выгоню.
Паша прижимал зубами нижнюю губу, пытаясь сдержать непрошенную, рвущуюся из глубины души, улыбку, гнул голову на грудь.
– Надо поставить зеркало перед собой, – объясняла Зоя, – и глядеть в него, не мигая, там и покажется этот самый – она явно кому-то подражала, но не совсем удачно, забывала нужные слова. – Только делать это надо в одиночку. Лучше в подполе…
Начиналось что-то таинственное, чего я так долго ждал: сидеть ночью в подполе, да в одиночку, не так просто – смелость нужна.
– В темноте, что ли? – совсем бледнея, спросила Настя.
– Да нет, фонарь зажжем. – Зоя опять тряхнула рыжими волосами, и опять от них пошел искрометный блеск. – Без света в зеркале ничего не увидишь…
По мере того как Зоя объясняла правила ворожбы, Мока все дальше и дальне, незаметно, но верно отодвигалась к краю стола.
А Шура слушала, затаив дыхание и округлив глаза: такое она любила.
– Ну что, будешь ворожить? – тихо спросила хозяйка, голосом полным таинственности.
Настя неожиданно кивнула.
– Тогда я фонарь занесу.
– Такую ворожбу, поди, после двенадцати часов вести надо, – засомневалась в правильности предстоящего таинства Шура.
– Да нет, это же не злые духи, а добрые…
– Ничего себе, добрые, – сказал Паша, внимательно слушая весь разговор, – вон как выкаблучивался перед зеркалом, куражился будто пьяный, а потом дриснул.
– Не лезь ни в свои дела! – опять рассердилась Зоя. – Все равно это еще не злой.
– Может, пойдем на горку? – спросил у меня Паша. Ему надоело глядеть на девчоночье несерьезное занятие. Да, сдавалось мне, он знал или нечто подобное уже видел. Но Настя должна была лезть в темный подпол, сидеть там одна… Нет, этого момента я упустить не мог. А вдруг? Вдруг там, за незримой, не контролируемой, чертой окружающей жизни и есть то, что не поддается нашему осмысливанию? Вдруг Настя и увидит нечто необычное? Тогда ведь и самому можно посмотреть, убедиться в этой неподвластной нам тайне.
– Ты чего, Паша, – зашептал я, – на самом интересном. Подождем, когда бабочка сворожит.
– Какая бабочка? – В глазах у Паши мелькнула задорная искорка.
– Ну, Настя.
Он повернулся, нагнул голову вправо-влево, посматривая на Настю.
– Точно! Бабочка-капустница, беленькая с крапинками…
Зоя уже внесла фонарь, стала обтирать его стекла тряпкой.
– Теперь прилепится. Так и будем ее звать.
Я в душе пожалел, что совсем необдуманно дал прозвище этой, наверно, неплохой девчонке. Но назад слово не вернешь.
– А почему Люба – Мока?
Паша провел пальцем под своим носом.
– Она морковку так звала маленькая. Вот и пристало. В деревне без прозвища нельзя, скучно, – со знанием дела утвердил Паша, поняв мою тревогу, – и тебе дадут, погоди…
Обрадовал, называется.
– Помогите подпол открыть, – попросила Зоя, берясь за железное колечко дверцы.
Мы с Пашей соскочили, как по команде.
– Отойди. – Паша легонько толкнул хозяйку в плечо, сам просунул пальцы в колечко.
Дверца чуть приподнялась от пола, и я ухватился за ее края. Вдвоем мы открыли подпол.
Из темного лаза как тяжким вздохом пахнуло – в кухню поплыл терпкий запах квашеной капусты, проросшего картофеля, плесени.
Зоя тут же осветила фонарем коротенькую лесенку, ведущую в глубокое подполье.
– Можно я прямо тут, у лестницы? – ежась то ли от холода, то ли от страха, попросила Настя.
– Можно в любом месте.
– Ой, девчонки, как страшно! – вырвалось у Моки. Она стояла у самого стола. Глаза ее, в тени сумеречного света, походили на пришитые пуговицы без дырочек. Видно было, как Мока дрожит.
– Языком чесать храбрая, – вмешался Паша. – А тут зубами застучала. – Это он ей за сопляков отомстил.
– Ну. – Настя вдруг быстро перекрестилась и с зеркалом в руках стала спускаться в подполье.
Мне показалось, что там кто-то снова тяжко вздохнул и вроде воздухом холодным потянуло. Но Настя уже стояла возле лесенки, между каких-то горшочков и ведерка с соленьями.
«Вот тебе и бабочка-капустница! Я бы не смог», – представив себя на ее месте, я даже плечами передернул.
– Давай фонарь! – попросила Настя. Голос ее был хотя и дрожащий, но решительный. – Закрывайте! – Крышка опустилась – и стало тихо. Ни звука, ни огонька не пробивалось из подпола.
Мока примостилась на печном приступке, прижав не по возрасту большие кисти рук к груди, остановившимся, бессмысленным взглядом глядела поверх наших голов.
Шура присела на край скамейки и все косилась на крышку подпола, покусывая кончики пальцев. Пышная, плохо поддающаяся причесыванию куделька ее волос бросала на стенку шевелящуюся бесформенную тень, заползающую за шкаф, за печку и под лавку.
Зоя тоже поглядывала на подпол. В глазах ее не было и тени беспокойства, только рыжеватые брови шевелились, перемещаясь вверх-вниз, да почти красные волосы слабо пламенели.
Тишина и ожидание давили, тревожили, накаляли нетерпение, от которого у меня посасывало под ложечкой. «А вдруг на Настю там кто-нибудь нападет? – пытался вообразить я нечто бесформенное, как тень на стене, и странное, но фантазии не хватало. – А если она испугается и умрет?» Жуть подкатывалась к сердцу от этих несуразных мыслей, звон шел по телу. В этот момент в подполе послышался шум. Мы вскочили, тараща друг на друга испуганные глаза. Крышка творила поднялась, показалась голова Насти. Мы и сказать ничего не успели, ни сделать, как она выскользнула между наклонившейся крышкой и полом и, молча, кинулась к порогу, хватая поочередно разные валенки.
Мне показалось, что из подпола вот-вот вылезет тот, кого испугалась Настя, и будто током обожгло меня с головы до ног. Я кинулся к порогу и столкнулся там с Шурой и Мокой, Пашей и Зоей. Ибо то же самое, или близкое к тому, почувствовали и они и себе кинулись за валенками и одеждой. Мы сбились в общей куче, толкая друг друга, не видя ничего, кроме разнокалиберных и разномастных валенок. Настя, с широко распахнутыми глазами и бледным лицом, опережая нас, проворно схватила тужурку и, раздетая, выскочила за двери. Кто-то из девчонок упал, споткнувшись в этой кутерьме, закрыл собой обувь, кто-то закричал.
Как я нашел и надел свои новые валенки, трудно объяснить, но выскочил за дверь не последним. Кажется, Мока еще барахталась, путаясь в одежде, и даже почудилось, что ее держит кто-то, похожий на бьющуюся по стенам тень, принявшую какие-то определенные формы.
В темной и длинной пристройке, пока я бежал, все время кто-то толкался, путался под ногами, и удивительно, как я не поймал лбом одну из многочисленных подпорок.
За калиткой в лицо мягко забили летящие снежинки, и я, немного одумавшись, побежал медленнее, ориентируясь на тусклые огоньки домов по другому порядку улицы – почти не видных из-за падающего снега.
Тихий снег, широкая, хотя и малозаметная улица, обозначенная твердой дорогой, огоньки с серыми пятнами надворных построек успокоили, вернули из ненормального, болезненного состояния, в действительность, реальней мир. Я пробежал еще немного и пошел шагом, оглядываясь. Происшедшее сразу как-то отодвинулось от меня, отошло, вытесненное вначале удивлением, а потом и досадой: было и стыдно и смешно.
– Вылупили глаза, как овечки, – услышал я Пашин голос. Он отделился от чьего-то плетня и шагнул ко мне, – чуть не подавили друг друга. И мы с тобой поддались ихнему страху. Еле одумался. Надо было бы остаться да поглядеть, что дальше будет.
– Даже не знаю, как это получилось. Мока еще там, я видел, как она дергалась.
– Да ну? – Паша остановился. – Вернемся – глянем что и как?!
Страх прошел, и любопытство, жажда докопаться до истины, дойти, как говорят, до точки, вновь загорелись в душе.
– Пошли!
Но не успели мы сделать и десяток шагов, как навстречу нам, припадая на одну ногу, вывернулась из бурана Мока. «Не отхватил ли ей кто-то часть ноги?» – прошибла меня несуразная мысль.
– Где девчонки? – крикнула она каким-то срывающимся голосом. Испуга, однако, в ней не было, да и само поведение Моки: неторопливый, прихрамывающий шаг – не походило на поведение пострадавшего от нечистого духа человека.
– А я почем знаю, – приглядываясь к ней, ответил Паша, – они, может, с испугу в другую сторону махнули, за деревню. Еще и заплутаются в буране.
– Пим мой кто-то надел, этот еле напялила – ногу давит. – Она качнула ногой.
– А мы думали, тебя там нечистый пожевал, выручать собрались.
– Настя, дура, испугалась чего-то или психанула.
– Может, не дура? Вон сколько времени в подполе сидела, а потом оттуда, как из пушки. Даже крышку одолела поднять.
– Девчон-кии! – заорала Мока. – Где вы-ыы?.. – Голос ее утонул в буране. Во дворах вдруг залаяли собаки, и снова стало жутковато.
– Будет теперь орать, собак тревожить, – серчал Паша. – Говорил тебе – не стоит с девчонками связываться. Пойдем лучше к нам, поиграем.
И мы понеслись в буранную круговерть.
5
Потянулись короткие, похожие друг на друга, ничем не примечательные дни, перемежающиеся то крутыми морозами, которые насквозь прошивали мою старую одежонку пока я, сберегая лицо от обморожения, шел из школы до дома, то шальными вьюгами, выплескивающими такое количество снега, что мы с дедом после затишья дня два-три вывозили его в огород.
В эти скучные дни к Шуре зачастила Настя, та самая, которая во время ворожбы не побоялась посидеть в закрытом подполе. Они, пользуясь тем, что матушка работала на току, а дед постоянно занимался чем-нибудь в подворье, закрывались в комнате и о чем-то шушукались. Я хотя и знал, что подслушивать нехорошо, пакостно, но всё же подходил на цыпочках к дверям и прикладывал ухо к створке, пытаясь что-либо уловить из их приглушенного разговора – так велико было моё любопытство, почти напрочь стирающее все этические препоны. Но плотны были двери. Пропуская лишь звуки, они гасили слова. Тем не менее я стал присматриваться к Насте в те минуты, когда подружки впускали в комнату тепло железной печурки. И странное чувство особого восприятия охватывало меня: я находил, что Настя красивая, хотя и ничего еще не понимал в девчоночьей красоте. Оно, это чувство, возникало как бы само собой, исподволь, из тайников души, из глубины сознания. Не понимал, но, вглядываясь в её белое, что бумага, лицо с черными, словно намазанными сажей, дугами бровей, широко распахнутыми глазами в смородинку, затаивался в каком-то сладостном оцепенении. И волосы у неё были пышные – светлее соломы, и это при черных-то бровях и глазах! И голос особенный, какой-то мягкий, глубокий. Приглядывался да приглядывался, и она, вероятно, каким-то образом уловив мой интерес, стала шутить со мной: и то взлохмачивала мои почти такие же, как у неё, волосы, то легонько подергивала за ухо, а то и вовсе щекотала шею. Шура при этом только улыбалась, ничего не говоря, да поглядывала на меня как-то особенно. И всё это было странным, не поддающимся осмыслению – и в нашем классе было немало девчонок, но я не отличал их психологически от ребят ровесников.
А зима катилась глубже, дальше, к долгожданному теплу.
В моменты, когда не было дома ни матери, ни Шуры, а дед занимался чем-нибудь в избе: чиня полушубок или нарезая себе на курево табаку из табачных листьев и корней, я раскачивал его на разговор. Оно и понятно: в деревне не было ни книг, ни радио, ни каких-либо иных источников информации, а так хотелось знать, что да как, да откуда и когда. Обычно я устраивался возле окошка, на лавке, чтобы одновременно и слушать деда и наблюдать улицу. Она хотя и пустовала большей частью, но иногда кто-нибудь да появлялся в поле зрения, вытягивал любопытство.
– Ну расскажи что-нибудь интересное, – гнул я деда на разговор, – ведь были же особые случаи раньше – деревня-то вон какая длинная.
Дед вскидывал глаза на то же окошко, в которое глядел и я, и некая тень ложилась на его худощавое лицо, еще почти без морщин, в крепости.
– Особые, говоришь? Были. И в основном при блажи или, того хуже, в хулиганстве, когда человек становится, как говорится, без царя в голове. Я вот тебе сказывал про ту, Первую мировую войну, про свой плен. Пока добирался до наших краев, Гражданская война развернулась. Да так, что того и гляди или загребут снова в окопы, или вовсе расстреляют. Набралось нас в деревне бывших солдат прилично, и на Покров сошлись мы в гулянке у Юткиных. Дом гудел, что тот улей. Матвей Михалев певец был голосистый. Тянул басом: «…дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою, а за это за всё ты отдай мне жену». – Дед это пропел, причем довольно сильно. – Песня такая есть не про наши дела, – пояснил он. – Подпевали Матвею – тоже не слабые голоса, и огонёк в лампах дрожал, готовый потухнуть.
У двери, за столом, сидел Пашка Доманин – красноармеец, в гимнастерке под ремнем, и горячо спорил с Иваном Демидовым и Егором Соболевым, доказывая им, что на свете нет ни Бога, ни беса. Спор распалялся, в него ввязывались другие, и кто-то предложил Пашке, если уж он никого и ничего не боится, сходить на кладбище, а для доказательства того, что он побывает там, притащить какой-нибудь старый крест. За выигрыш ставили четверть самогона. Обвел Доманин мужиков пьяным взглядом, а те примолкли, выжидают – отступать позорно. Сыграло самолюбие красноармейца, смахнул он шинель с вешалки и шлем со звездой, нацепил стоящую в углу саблю, даренную за храбрость, и за дверь.
Кладбище за деревней, у леса. Огромные вековые березы нависают там над могилами. Много людей похоронено под их корнями, много плача они слышали. Да только листьями трепещут.
У меня мурашки по коже от его слов и наплывших образов. А дед дальше:
– Долго ждали мужики Пашку, да так и не дождались, решив, что, глотнув на улице свежего воздуха, он отошел от дурных намерений и двинул домой. «Сбежал, стервец, – сердился Демидов, – дрыхнет небось давным-давно, а мы тут сидим, дурь гоним. Но я с него завтра четверть сдеру…» А утром нашли Пашку мертвым – на чьей-то старой могиле в обнимку с покосившимся крестом. Пола его шинели была насквозь проткнута саблей и пригвождена к земле.
Я замер, ожидая некой, вот-вот откроющейся, тайны. И дед, щурясь, глядя на меня, помедлил.
– Как полагали мужики: Доманин всё же робел, зайдя на кладбище, и обнажил саблю. Среди ряда могил он заметил покосившийся крест и к нему. Ночь хотя и не была светлой, но на фоне звездного неба кресты различить не трудно. Потянулся Пашка за крестом, а сабля мешает. Он и воткнул её в землю, да через полу шинели. Шинели-то тогда длинные были, до пят. Ничего не почувствуешь, если и, приседая, наступишь на подол. Обхватил спорщик крест, дернул к себе, а пола, приткнутая к земле, натянулась, мешает. Пашку и ожгла мысль, что кто-то его сзади держит. А может быть, в этот миг и сова где-то гукнула или другой какой звук долетел. Пашку и хватил удар.
Я сразу вспомнил странные крики, которые мы слышали, когда лазили за огурцами, и мягкий холодок прокатился по хребту. Представился и человек в обхвате с крестом, и могильные тени, и шушукающиеся березы, и жуткий крик…
– Все вроде понимали причину, так глупо сгубившую человека, – продолжил дед, – но слухи о нечистой силе еще долго жили в деревне.
Дед потянулся за кисетом, поглядывая на меня, а я, всё еще находясь в охвате налетных образов, вдруг спросил:
– И моя бабушка там похоронена?
У деда дрогнули брови. Он опустил глаза.
– Там. Где же ещё.
– А отчего она умерла? – всё дальше раскачивали моё воображение навеянные теми же образами мысли.
– От бабьей недоумке, а точнее – от общего воспаления в организме.
– Как это? – не понял я замысловатого объяснения.
– А так. Заболело у коровы вымя. Ветеринар и наказал делать на вымя холодные компрессы. А как ты их там закрепишь? Вот Алена и, ничего мне не сказав, стала водить корову на пруд и вместе с ней заходила по пояс в воду, стояла там до онемения ног. И так несколько раз. А дело уже было к средине сентября. Вода стылая. Корова вылечилась, а хозяйка слегла, да серьезно, – в начале зимы я её и похоронил. Десять вот лет один детей поднимаю. – Дед примолк, вглядываясь в окно. Глаза его ничего не выражали, будто бы там, на улице, он видел что-то своё, давнее. А у меня сердечко сжалось и глаза заточило.
Глава 3. В запале
1
Пока дед поил корову у колодца, я напихивал сено в ясли, едва различая в темноте стены закутки. Сено пахло лесными травами, летом, тревожило, будило воспоминания. За думами я едва различил глухой стук промороженной калитки, и тут же с жадной торопливостью вбежала в хлев корова. Выбравшись из ее стойла, я вышел в ограду и услышал за воротами разговор деда с недалеким соседом Степиным. Что-то в услышанных словах показалось мне интересным, и я притаился за углом сеней, навострив уши. Из торопливого, чуть-чуть приглушенного их диалога стало ясно, что Степин предлагал поохотиться ночью на волков с поросенком. Что это за охота, я не знал, но тут же в радостной тревоге еще пуще напряг слух.
Семен Егорович Степин, по прозвищу Кривой, ходил в заготовителях сырья от какой-то райцентровской конторы и имел на руках казенную лошадь. На ней он и предлагал деду покататься по лесным дорогам, как луна поднимется. Был у Степина и поросенок, и какое-то ружье, но сам он, потеряв еще в детстве один глаз и повредив руку, не охотился.
Поняв, что все условия этой необычной охоты оговорены и дед уже торкается в ограду, я шмыгнул под навес за дровами. Набирая на руку сухие поленья, я обкатывал невесть откуда налетевшие мысли о том, как попасть на эту заманчивую, отдающую риском и страхом охоту, понимая, что у деда туда проситься бесполезно. И будто кто-то стал направлять мои действия. Свалив дрова возле печки, я отпросился у матери поиграть со сверстниками, а сам переулком пробрался на задворки к Степиным и спрятался в сеннике. Мороз был легкий и в душистом сене почти не ощущался. Мысли несли меня по заснеженным лесам и полям, ближнему редколесью, по которым рыскали хищные звери, поднимали мечты на диковинные свершения, и в таких трепетных грезах прибывал я не меньше часа, когда хлопнула сенная дверь и в ограду вышел Степин. Он прошагал в конюшню и, выведя оттуда лошадь, стал запрягать. Меня потряхивало от волнения. Я боялся даже шевельнуться.
Брякнула калитка – появился дед. Они вдвоем засуетились возле саней-розвальней. Степин принес из сарая большущую овчину, зачем-то привязал ее на длинную веревку за розвальни и кинул на сено. Потом они скрылись в закуте. Я уже хотел было ринуться на сани, чтобы укрыться под овчину, но услышал пронзительный визг поросенка и усидел в пригретом гнездышке. Дед и Степин, бросив мешок с поросенком в розвальни, пошли в дом. Тут я и выскочил из своего укрытия, залез под густой слой сена по самому краю саней, улегся на брюхо и натянул, как мог, поверху овчину. Расчет был на темноту – луна только-только подбиралась к макушкам ближнего леса – и на ширину розвальней, в которых не только вдвоем – впятером можно было разместиться. И понятно, что Степин усядется в самые головки саней, чтобы удобнее править лошадью, а дед, по своей привычке, рухнет на них поближе к нему, с правой стороны. Я и спрятался слева по борту в этих глубоких, напоминающих огромную лодку санях. Так оно и вышло: открыв и закрыв ворота, когда Степин выехал на улицу, дед упал в сено с правой стороны, ничуть не задев меня.
– Ну, с богом, поехали! – крикнул он Степину. И лошадь ходко взяла с места.
Откуда-то забрызгал мне в лицо снег, и я подгреб сена под голову медленными расчетливыми движениями. Сани плавно покачивались, раскатывались поперек дороги туда-сюда, но я всем телом ощущал их тяжелую устойчивость. Так прошло с полчаса. Охотники все это время молчали. Лишь лошадь изредка всхрапывала, продувая ноздри.
– Бросай овчину! – донесся голос Степина. – За поворотом Клочково болото. Их тут завсегда видели…
Дед стал стягивать овчину и коснулся моего локтя. Я почувствовал, как он вздрогнул, и непроизвольно отдернул руку.
– Стой, Семен, что-то тут неладно? – попросил он Степина.
Лошадь, взявшая привычный ритм, не сразу успокоила раскатившиеся сани, и я, поняв, что прятаться дальше бессмысленно, сбросил с себя сено и сел.
– Ах, едрит твою в корень! – выругался дед. – Это ты, малый?!
И пошло, и поехало: как, да зачем, да почему… Сперва решили вернуться и сдать меня матери, но, потолковав по поводу того, что возвращение не сулит удачи, поглядев на наливающуюся яркостью луну, поехали дальше, и я посунулся к деду под тулуп. Как не слаб был мороз, а от долгого ожидания в сеннике и езды на грядке саней тело мое продрогло, и я сразу почувствовал это, прижавшись к деду. От него, как всегда, пахло табаком и еще чем-то близко знакомым, родным… И сразу ушла неясная тревога, все это время державшая меня в напряжении.
Дед зарядил двуствольную курковку Степина и пнул ногой поросенка – тот так и лежал в мешке под сеном, тоже привязанном к саням. И дед перекинул через нас толстую веревку, ловко завязав ее конец на левой стороне розвальней.
Поросенок дал такого визга, словно ему что-то защемили. Тонкий его крик прорезал не только болотную пустоту, но и лесные чащи, и черные тальники, и узкое поле, неприятно скребанул за душу. Даже луна вроде от него качнулась. Но никакого звука не последовало за ним. Лишь все так же мягко бились лошадиные копыта о слабо накатанную дорогу и зудел под полозьями прессующийся снег.
Овчина, привязанная на слишком длинную веревку, распахнувшись, подпрыгивала позади саней будто какое-то животное. Дед снова пощекотал валенком поросенка, и снова тишину пронзил его тонкий испуганный визг…
Я жался к деду, зыркал по сторонам, ничего не различая в запятнанном тенями лесу. Еще и еще взвизгивал поросенок, а лошадь все шла ровной рысцой, мирно похрапывая, бряцая удилами. Дорога плавно петляла среди лесов, легкой тенью моталась за санями овчина. И вдруг, после очередного истошного визга растревоженного поросенка, лошадь прибавила ходу, захрапела как-то по-иному.
– Гляди, Данила? – Степин обернулся. – Где-то звери…
Дрогнуло сердце, зачастило. Напряглось тело… Но, как не вглядывался я в проплывающие мимо лесные опушки, никого и ничего не замечал. А лошадь пошла еще быстрее, почти галопом. Сани, как лодка на волнах, запрыгали из стороны в сторону, раскатываясь и ударяясь в опасном наклоне о снежную обочину дороги. Еще взвизгнул поросенок. Вроде мелькнуло что-то сзади бьющейся в скольжении овчины. Легкие тени трепыхнулись близ дороги. И тут я заметил несколько белесых зверей, едва различимых в обманчивом лунном свете. Их и не уловил бы взгляд, если бы не тени, мечущиеся по искристому снегу.
Теперь сани мотались с неимоверной силой, ударяясь так, что внутри у меня екало – лошадь взяла галопом. Я увидел, как дед поднял ружье. Оно у него качалось при встряхивании саней. Вроде рык скребанул тишину где-то сзади. Овчина как-то странно закувыркалась будто живая. Выстрел громыхнул громом – еще один. Сани подбросило так, что если бы не веревка, под которой мы полулежали, не удержаться бы в них!
– Что, Данила? – заорал Степин.
– Кажется, зацепил, плохо видно…
Лошадь неслась с храпом, выбрасывая из-под копыт ошметки снега выше саней, билась в испуге между оглоблями, унося сани с такой легкостью, будто это были не тяжелые розвальни, а легкая кошева. В этой шальной езде, круговерти бурных чувств, я боялся лишь одного: вылететь из не в меру раскачавшихся саней – и держался одной рукой за веревку, второй – за полу дедова тулупа.
– Направляй к деревне, выбросит! – крикнул дед Степину. – Звери лесом пошли, наперерез!..
У меня нутро похолодело. Как мог, косил я глаза на пролетающие мимо снежные заносы, но волков не видел. И все же искорка спокойствия теплилась в глубине сознания – у нас было ружье, которое дед держал наготове.
– Не бойся, – шепнул он мне в ухо, – на дорогу они теперь не сунутся, а лесом, глубоким снегом, им лошадь не перехватить…
Эти слова еще больше успокоили меня. С игривой веселостью высунулся я из-под полы и тут же получил в лицо отметок снега. Мелькнули в стороне огоньки. Сани покатились ровнее. Деревня! Еще немного, и лошадь почти уперлась оглоблями в ворота Степиного двора.
Первым соскочил я, резво вспрыгивая, чтобы размять ноги. Затем – неторопливо вылез из саней дед, пошел открывать ворота. От лошади шел пар, густо пахло потом.
– Намылилась, – похлопал ее по крупу дед. – Ничего, по утрянке поедем смотреть подстреленных зверей.
– А почему не сразу? – не понимал я деда.
– Сразу – рискованно. Их я не меньше десятка видел. Навалятся скопом: не на нас – так на лошадь, одним ружьем не отстреляешься…
Я еще не остыл от этой шальной охоты: звенела в душе радость, туго билось сердце, разгоняя разгоряченную кровь…
Утром, когда я был в школе, дед со Степиным подобрали в степи двух убитых волков. Но увидеть мне зверей не довелось – Степин сразу же увез их сдавать в заготконтору. На премию за них, разделенную поровну, дед купил мне и Шуре по фуфайке.
2
От Кольши пришло письмо – всего второе за полгода. Он сообщал, что их перевели работать на завод, что трудится он по электрической части, живет и питается пока там же – в общежитии училища, что на работу их возят в автобусе, скопом, а в город пускают только в выходной день. И больше ничего, никаких подробностей.
– Что-то он ни про зарплату, ни про то, как кормят и одевают, ничего не пишет, – посетовала матушка, тая в глазах грустинку.
– Нельзя, видно, об этом сообщать, – предположил дед. – Военное время – всё в секрете. Даже вон о работе как бы вскользь говорит: «по электрической части» – не электриком или там электрослесарем, а в общем. Ясно, что все заводы теперь на войну работают – лишнее, попробуй, болтни – живо потянут, куда надо.
– Прямо, неволя какая-то. – Матушка покачала головой, отворачиваясь.
– А мы все в неволе. – Дед как-то пристально взглянул на меня. – Паспортов ни у кого нет. Фамилии только в сельсовете в тетрадке записаны – попробуй, надумай куда-нибудь переехать. Даже из одного колхоза в другой не разрешат. У нас вон, на той улице, ближе к краю, Прасковья Огаркова с четырьмя детьми живет. Переехали они к нам из захудалой деревеньки Бутовки, что в заозерных лесах. Житье там стало скудным на нет. А ребятишки малым малы. Вот её мужик, где-то незадолго до начала войны, и решил перебраться к нам – колхоз наш покрепче ихнего стоял на ногах. Так он десять лет получил за самоуправство. До сих пор о нём ни слуху ни духу. Прасковья одна с ребятишками бьётся. Старший у неё только в сельмом классе учиться, а остальные едва ли не погодки.
– У меня ведь тоже паспорт забрали, – запечалилась матушка, – из города, говорят, вы выписаны, жить будете в деревне, а в деревнях у нас никакой прописки нет. Зачем вам паспорт? Война кончится – вернем.
– Это на воде вилами писано, – дед усмехнулся, – время сколь пройдет, начальство поменяется. Доказывай тогда свою правоту.
– А что было делать?
– Да ничего, – дед отмахнулся, – и не нужно поднимать давнее, уже оговоренное.
– А со мной Маня Огаркова учится, – решил я поддержать интересный разговор. – А с Шурой её брат.
– Ты, Ленька, слушать – слушай, мотай, как говорится, на ус, да помалкивай, – предостерег меня дед, – никогда и никому про наши семейные дела и разговоры не рассказывай.
– Да он вроде у нас не болтливый, – заявила матушка, строго взглянув на меня.
Её доверие подогрело.
– Чего бы мне говорить про нас, – решил и я заверить родных в своей твердости. – Пусть хоть запрашиваются – я ничего не знаю.
Дед кивнул головой:
– Вот-вот, так и держи вожжи.
3
В воскресенье запуржило. Снежная мгла затянула все видимое из окна пространство. Даже ближние дома утонули в круговороте густого снега.
– Закутило-замутило, где кого захватило – там и ночуй, – высказался скороговоркой дед, топчась у порога, – он собирался навестить своего приятеля и свояка – Прокопа Семинишина и, надев полушубок, подпоясывался.
– Вот и не ходил бы никуда в такую пропасть, – предостерегла его матушка, – еще заплутаешься в такой-то мгле.
– А я от палисадника к палисаднику – по набитой тропке, – с некоторой виноватостью в голосе отозвался дед. – Да и ходьбы-то тут – три двора.
– Где её определишь, эту тропинку, – вон как метелит, – клонила своё матушка, – пропасть. И та убежала, не пообедав, – это она уже о Шуре.
– Придет, – произнес дед уверенно и хлопнул дверью.
Я нашел в старой тетрадке, хранившейся на этажерке, пол-листка чистой бумаги, взял огрызок карандаша – большего не было – и устроился за столом рисовать. А матушка вытянула из угла прялку и уселась прясть кудельку овечьей шерсти. Глядя, как из-под её пальцев тянется тонкая нить, я поинтересовался:
– А что ты с этими нитками будешь делать?
Матушка улыбнулась.
– Носки тебе и деду свяжу, а вообще – многое можно. Раньше и зипуны вязали.
– Что за зипуны?
– Тужурки такие теплые, без воротника…
Утка, которую я начал рисовать, поплыла не в камыши, как я хотел, а к берегу, и глупо – там притаился за кустами охотник.
Рисование захватывало, поднимало воображение, но и разговор с матушкой тянул к себе. Да и матушке, видимо, наше общение нравилось, потому что она продолжила затронутую тему:
– А еще лен пряли и рубашки из него шили.
– Что за лен?
– Растение такое волокнистое. Из него не только тканое полотно делали, но и масло давили из семян.
Из-за нехватки книг любые новые знания захватывали сознание, потому я и с засветившимся интересом попросил:
– Расскажи, расскажи про всё это!
Она покачала головой:
– Будет ли тебе интересно? И поймешь ли, что к чему?
– Пойму! – возгордился я.
– Тогда слушай…
Пока охотник ожидал утку, в небе появился коршун. Его я заштриховал начерно, почти истерев торчащий стерженек карандаша.
– Сеяли лён вначале июня, – потянула свой рассказ матушка, – руками, под околочком, на новых землях, а дёргали во второй половине августа и тоненько стлали на жнивьё от покоса, на бугорке и солнцепеке – улёживаться недельки на две. После – вязали снопы, обколачивали семена и сушили снопы в бане, на полке. По окончании сушки лён мяли мялками. Занимались этим женщины. Обмятый лён вязали в «горсть». Двадцать «горстей» назывались десятком. Часто лён в «горстях» оставляли до глубокой осени, а после – трепали, хотя лён можно трепать и сразу после мялки, коль время есть. Перед трепанием лён сушили на печках. Трепак – это деревянное приспособление в виде маленького весла, скошенного с боков…
Я слушал, мало чего понимая, но молчал. Меня услаждал матушкин голос: ровный, мягкий, спокойный. Что-то далекое натекало мне в душу от этого голоса. Память ли сердца о младенчестве, о том времени, когда матушка рассказывала мне детские сказки, убаюкивая, или глубокая любовь к ней лелеяла душу, но отрадно мне было и сладостно.
Сыновья любовь к отцу как-то притухла за годы войны. Да и не успела она у меня устояться, вырасти до тех пределов, когда и сердцем, и душой чувствуешь кровную связь с родным человеком, осознаешь его неотъёмную близость с собой, глубину его жизненной духовности, и трепетно ловишь каждые отзвуки его голоса. А матушка вошла в моё сознание, возможно, еще раньше грудного младенчества, с самых мгновений моего зрительного восприятия света. Я как бы впитал все флюиды её естества, глубоко и на всю жизнь. Да и где он – отец? Тревога за него засела в душе глубоко и неотвратно: стоит только улететь мыслями в прошлое. А матушка – вот она, рядом…
– …Оставшиеся после трепания отходы, – продолжала матушка, – использовали для грубого тканья на мешки или попоны, или вили из них веревки. Затем шел процесс чесания. Лён чесали специальной щёткой из гвоздей. – Увлекшись, она гнала и гнала пряжу на веретено, и скорее воспоминания подняли в ней желание высказаться, чем мой интерес. – Очесанные «куколки» – по пять «горстей» – привязывали на прялку и пряли, обычно – зимой, на нитки, которые затем мотали на рогатки и крестовины. Полумотки мочили и совали ненадолго в древесную золу…
А охотник-то оказался добрым – он не стал стрелять утку, а поднял ружьё на коршуна. И эх! Кончился стерженек – зацарапали бумагу обстроганные концы карандаша, и пернатый хищник так и остался висеть над уткой. Жалко.
А матушка, не замечая моего сожаления, продолжила:
– После этого их сушили на печке и сутки парили под тряпками, полоскали, снова сушили и разматывали на бобины. Потом – сновали на сновалке и ткали на самодельных станках на холсты. Вытканные холсты мочили, колотили вальками и снова сушили. В то время все берега нашего пруда были сплошь устелены холстами. Мочение повторялась несколько раз в день – мочат и колотят, мочат и колотят. Такое отбеливание длилось недели две: обычно – весной, до прополки хлебов. И холст становился белым. Из него вручную шили рубахи, штаны, рушники, занавески и полога… Рушники и рубахи расшивали специальными нитками, называемые бумагой. Их покупали в торговых лавках…
Уже знакомой в какой-то степени с крестьянской работой, я прикидывал: как да что? И был поражен тем объемом работы, который нужно было проделать, чтобы получить тот самый, пригодный для шитья рубах, холст. «Это сколь же дел! – закрутились в сознании примерные прикидки по всему тому, что рассказала матушка. – Не охватить!» Меня даже рисунок перестал интересовать. Я глядел, как мелькают спицы деревянного колеса прялки, и слушал.
– Почти так же обрабатывали коноплю. Конопляное волокно – грубое и толстое – шло на изготовление веревок, которые сучили на деревянных бобинах, дома, используя специальные отверстия в лавках.
Ткацкие станки, прялки и разные принадлежности к ним продавались в торговых лавках, но многие делали их и сами, украшая различными узорами.
Матушка замолчала и внимательно поглядела на меня.
– В какой-то книжке, у Шуры, я видел рисунок, на котором мужики были в лаптях, – поняв, что она закончила свой рассказ, опустился я в мысленных образах от одежды к обуви.
– Лаптей, сынок, в Сибири не носили: сапоги или чирки. – Матушка отставила к стенке прялку, просматривая сученую нитку. – Мужские чирки шились чаще всего с голяшками, женские – со шнурками. И сапоги, и чирки были из кожи крупнорогатого скота. Для чего сырую и подсоленную кожу погружали в кадки с раствором «квасцов», приготовленных из ржаной муки. Шерсть из шкур в квасцах полностью выпадала, после чего – шкуры дубили. Для дубления использовалась ивовая кора – лыко…
Хлопнула дверь – в избу вбежала Шура, вся облепленная снегом, и наш разговор прервался.
4
Едва я закончил делать домашнее задание, как со двора пришел дед.
– В амбаре я нашел старые заячьи петли, – сообщил он, – надо бы их поставить, попытать удачу, а то постность надоела – мясца хочется.
Я обрадовался такой возможности, выскочил из-за стола.
– Не суетись. – Дед усмехнулся. – Сейчас в лес не сунешься – снегу по пояс. Вот схожу к Дашке Шестовой – её мужик до войны шибко охотой увлекался. Лыжи должны остаться.
– Отдаст она их тебе, – гася вспыхнувшую горячность, засомневался я.
– А что не дать-то? Мужик её в первый же год погиб где-то под Москвой. Жди – не жди, не воскреснет. Самой ей лыжи не нужны, а девчонка у неё еще малолетняя. Да и охотничьи лыжи не для женского пола. Я ей, может, чем-нибудь помогу за это. Без мужского догляда двор их, да и дом, поди, за три года обветшали – руки надо прикладывать, и ни какие-нибудь, а мастеровые. Я, слава богу, еще кое-что могу делать по плотницкому ремеслу.
– Так ты сейчас и иди! – вновь заторопился я.
Дед только усы разгладил.
– Сейчас не сейчас, а вот управлюсь со скотиной и схожу.
У нас была корова, четыре овцы, две гусихи с гусаком и десятка два кур. Как рассказывал дед, нам, русским крестьянам, больше одной коровы иметь не разрешалось, лошадей держать – вообще было запрещено, свиней – тоже. А дать сена корове и овцам я бы и сам смог и сказал об этом деду.
– Так-то оно так, да закроешь ли ты всё, как положено, на ночь, утеплишь? Я буду сомневаться, а зачем это. Да и поить всех еще надо. А вот, чтобы быстрее дело пошло и коль ты уроки осилил, давай вместе будем управляться.
Ну как тут возражать? Прав дед, и мы дружно направились во двор.
* * *
Как уж там получилось, мне было не ведомо, но принес дед лыжи хотя и наполовину облупленные, но целехонькие: широкие, с хорошо загнутыми носками, добротными креплениями из кожи. Правда, эти крепления были великоватые для моих валенок, сползали к голяшкам, но дед не решился их подгонять.
– В следующую зиму у тебя будут другие валенки, побольше, и эти ремни в самый раз к ним окажутся, а трогать так ладно все сделанное не резон, – объяснял он свой отказ. – Приспособишься – тебе ходить много на лыжах не придется. Вон до первых околков и всё – зайцев и там предостаточно.
Пришлось согласиться, а на следующий день я, едва вернувшись из школы, двинулся в лес. Тихо. Солнечно. Искристо. Снег под моим малым весом почти не проваливался, и лыжи, хотя и виляли изредка в стороны, всё же неплохо скользили. Я, поднимая носки валенок, насколько позволяли крепления, выравнивал ход лыж и быстро освоился с тем неровным движением, хотя и впервые в жизни шел таким образом.
А как отрадно было плыть по наметам снега, зная, что там, под лыжами, едва ли не метровые их глубины! Шагни в сторону – и утонешь по грудь. И я, опасаясь слететь с твердой опоры в снеговую купель, двигался с особой осторожностью, внимательно следя за направлением лыж и выравнивая их по ходу.
Вдоль первой же опушки, затененной тальниками, потянулись заячьи тропы, то вытекая из плотных кустов, то уходя в них. Вспоминая, как и где мы ставили петли с Кольшей, я стал присматриваться к заячьим наметам, выбирая подходящие места для вязки петель. И время как бы остановилось для меня. Я ничего не слышал и ничего не замечал, кроме стылых талин и заячьих следов между ними. Мороз был не ахти какой, и я голыми руками мотал мягкую проволоку вокруг молодых осинок и берез, настораживая петли. И час, и два…
Солнце почти упало на лес, когда я выбрался из тальниковых крепей и с легкой радостью заторопился домой. Навыка ходьбы на лыжах, да еще и с неплотными креплениями, у меня не было, и эта спешка сыграла со мной злую шутку: где-то недалеко от последнего перед деревней колка я завалился набок и сразу утонул в рыхлом сугробе с головой. Пришлось выскребаться из сыпучего морока, раскидывая снег почти до земли, а после еще долго я пытался стать на лыжи и удержаться на них, выруливая из образовавшейся ямы.
5
– Раньше мы добывали их по первому снегу коробами, чтобы всю зиму пробовать томленой в печке – с чесноком и луком – зайчатины, – взвешивая на руке одного из двух принесенных из леса зайцев, говорил довольный моим успехом дед.
А я и вовсе цвел плохо скрываемой радостью, даже гордость за себя натекала в душу: еще бы, как не крути, а выходило, что я отменно поставил петли – иначе бы не влетели в них шустрые зверьки.
– Как это, коробами? – гася нотки тщеславия, не понял я.
– А так, – дед обернулся, – соберём десятка два подростков, желающих погонять зайцев, а сами с ружьями на номера. Гай в лесах поднимался такой, что оттуда всё живое, вплоть до малых птах, уносилось, а зайцы едва ли ни гурьбой на нас выпрыгивали – только стреляй. Их тогда было, что мышей в хлебных суслонах. Поодаль, на телегах, короба плетеные стояли, накидаем туда косых до верха и в деревню. Там делим: загонщикам по два зайца, нам – по десятку, а то и больше, как выходило. Причем дележом всегда одни и те же доверенные охотники руководили – все по-честному: каждую кучку, отворачиваясь, окликал кто-нибудь из загонщиков. А у них тоже свой заводила был, и с ним мы и договаривались по загону. Бывало, кроме зайцев, и деньги, сбрасываясь, давали – смотря как постараются гнать. Вот так-то, малый Ленька, мы и жили-были. – Дед щурился весело. – Я их сейчас под навесом обелю, – кивнул он на зайцев, – и одного Дашке отнесешь в подарок – за лыжи.
– А чего не сам? – отвлекся я от наплывающих образов большой коллективной охоты: орущие ребята, зайцы, мячиками прыгающие из кустов, стреляющие охотники…
– Да мне вон надо наледь у колодца отдолбить, а то вечером воды не наберешь – скользко.
* * *
Взяв завернутую в кусок мешковины тушку зайца, я в сумерках отправился к Шестовым. Найти их дом было не трудно: он стоял третьим от края, по другому порядку нашей улицы, небольшой, в четыре окошка. Два из них светились отблеском керосиновой лампы. Опасаясь возможной собаки, я с осторожностью открыл дощатую калитку и, оглядываясь, прошел к дверям. В затененной ограде, заваленной снежными наносами, тихо – ни души. Невысокое, в две ступеньки крыльцо и двери в сенцы. С трудом нашарив скобу избяных дверей, я постучал в них – ни звука. Дернув скобу на себя, увидел за столом девчонку, настолько большеглазую, что в первый момент мне показалось, будто на лице у неё, кроме глаз, ничего нет.
– Ты кто? – смело спросила она, даже не дав мне поздороваться.
От смелого взгляда её угольно черных глаз я несколько смутился и, подняв мешковину с зайцем, пояснил:
– Зайца вот вам принес.
Она усмехнулась. В глазах полыхнули искорки.
– А зачем нам заяц?
– Варить будите. – Я мельком оглядел кухню: печка, как у всех, стол, скамейка, ящик в углу, над ним вешалка.
– В шерсти, что ли, варить? – начала она насмешничать, и я это уловил.
– А, как можите. – Я еще хотел добавить что-нибудь смешное, но тут в избу вошла женщина: молодая, крепкая, с приятным лицом.
– Это что за гость у нас? – оглядывая меня, произнесла она с веселой улыбкой.
– Зайца в шерсти предлагает нам варить.
Меня рассердило девчоночье ехидство.
– Да он ободранный! – Я сдернул мешковину с зайца, обнажая стылую тушку.
– Ничего не пойму, – неподдельно растерялась женщина. – Ты чей будешь-то?
– Это вам за лыжи от деда, – не стал я долго объясняться.
– А-а, понятно, – как пропела Дарья. То, что это была она, я понял сразу. – Ну проходи к столу, гостем будешь.
– Нет. Мне некогда. Надо помочь деду со скотиной убираться.
– Молодец какой! А как тебя хоть зовут?
– Ленька.
– Учишься?
– Во втором классе.
– А моя вон егоза только осенью пойдет.
Я кинул взгляд на ухмыляющуюся девчонку и сделал ей рожу. В ответ и она сморщила носик и покривилась.
– Это что еще, Катька, за фокусы! – прикрикнула на неё Дарья, не видя моей гримасы. – Прута захотела?
А я, пока они отвлеклись, шустро положив тушку на скамейку, торкнулся в двери.
– Неси еще, Ленька, – долетел до меня тоненький голосок, и тут же хозяйское спасибо.
«Вот зануда», – подумалось, когда я вышел за калитку. Но зла на шаловливую девчонку у меня не было. Наоборот, что-то в ней мне понравилось: явно симпатичное лицо или словесная смелость, а может быть, и то, и другое, но как-то посветлело на душе от этой встречи, и я, с непонятной окрыленностью, рванул на рысях к дому.
6
А через несколько дней дед преподнес мне еще один сюрприз: ввалившись в избу с какой-то ношей, завернутой в тряпку, он положил её на скамейку и, с хитрецой улыбаясь, стал слушать, как я повторяю, заданный наизусть, стих.
– Вот-вот, в самый такой-то мороз и вышел из лесу писатель, а тут мужичок. Вроде как я в детстве, – рассудил по-своему дед. – Видать, знал жизнь тот человек, коль правильно все нарисовал. А я вот тебе забаву принес. – Он неторопливо развернул тряпку, и я увидел балалайку.
Когда-то на городском базаре, сидя на какой-то коляске, играл на балалайке безногий мужик, азартно, взахлеб, то потряхивая обернутыми в тряпьё культями, то пряча балалайку за спину или поднимая над головой, и все – не прерываясь в игре.
Проходившие мимо люди кидали ему в шапку, лежащую на земле, медяки. Кинул и я что-то, протянутое мне отцом. Долго потом мне снился и безногий игрок, и напевно бренчащая балалайка. Даже мечталось о ней. А тут вот она, на скамейке!
– Ты где её взял?! – почти крикнул я, едва одолев налетный восторг.
– Митька Шестов, Дашкин мужик, царство ему небесное, весельчак был, – начал пояснять дед, – на этих трех струнах так наяривал, что заслушаешься, не хуже гармошки хватал за душу. Ну и выпросил я у Дарьи этот инструмент. Им балалайка теперь ни к чему, а тебе на пользу. Научишься играть на ней – не лишнее по жизни будет, пригодится.
Я машинально тронул струны:
– Ага, учись, я даже не знаю, как на ней играть.
– А вот так! – Дед, взяв балалайку, присел на скамью и ударил пальцами по струнам. Да быстро: туда – сюда. И приятные звуки словно вырвались из нутра балалайки, и пошло, пошло. – Мне, Ленька, до Митьки Шестова, как до неба, но кое-какие финты по молодости лет я на балалайке выделывал. Вот, например, цыганочку. – И он лихо забил по струнам. Причем лицо его как-то по-особому просветлело.
Я и рот раскрыл от удивления: «Ну и дед у меня! Бедовый! Как тоже наяривает! Может, даже не хуже того Митьки Шестова». И гордость за деда натекла в душу. Вспомнилось далекое звучание гармошки, которую я в младенчестве стащил со стола, и тут же бабушка в широкой юбке, легкая обида… Балалайка пела по-иному, чем гармошка, но все равно как-то тонко знобило от её звуков.
А дед вдруг встряхнул рукой и распрямился.
– Вот так примерно, малый Ленька. До своих выкрутасов я тебя дотяну, а там – время покажет. Хлопни-ка вот пару раз по струнам. – Он протянул мне балалайку.
Острым углом она уперлась мне подмышку, и рука едва дотянулась до струн.
– Ты её старайся на коленях держать, – заметил мою неловкость дед. – А то натрешь плечо. Да и привыкай все делать, как положено.
Хлопнул я пальцами по струнам, и они упруго, едва ли не больно, отозвались на мой удар, издав дребезжащие звуки.
Дед усмехнулся.
– Ничего. Все наладится. Я тоже с этого начинал. Теперь каждый день будешь тренировать руку. Набьешь пальцы – будем какую-нибудь игру разучивать.
Не особенно мне светила эта боль в пальцах, но желание научиться играть было сильнее болевого ощущения. Так все и пошло, как намечал дед, и к весне я уже кое-что наигрывал.
7
Дня три пуржило. Снегу наметало по самые крыши землянок, и вдруг, в одни сутки потеплело. Да так, что все поплыло. Вышел я на крыльцо, как всегда спозаранку, чтобы не опоздать в школу, и ахнул: у самого дома пестрел искрящийся рябью огромный разлив, слизывая остатки снежного наноса за палисадником. И по улице везде темнели лужи, среди которых ясно обозначалась накатанная за зиму дорога, еще не успевшая глубоко подтаять. А за околицей густая синева и вовсе подперла лес, белея местами лишь шапками утонувших в ней сугробов. Даже в ограде, у заборов, проступила старая трава.
В лицо пахнуло таким стойким теплом, что показалось на улице теплее, чем в доме. Поглядев на свои валенки с галошами, я понял, что в школу мне не пройти, и вернулся.
– Пока обочины не подсохнут – всем придется посидеть дома, – понял меня дед. – Тепла натянуло из дальних степей ядреного – всё растает. Такое же вот распутье было во вторую или третью весну, как мы сюда переселились. С неделю тогда воду из землянок отчерпывали – по щиколотку каждую ночь набиралось. А вся улица озером была. Дикие утки под окнами плавали.
– Ну и ладно, – заметив моё расстройство, отозвалась и матушка. – Занимайся дома. И учителя в такую распутицу вряд ли пройдут в школу – обувь у всех поизносилась.
– И обувь не поможет, – добавил дед, – у ручья завсегда воды выше колена было – не пройти.
Из комнаты выскочила Шура.
– Я тоже сегодня не пойду на уроки…
И начался у нас семейный разговор: о том о сем, о теперешнем и былом – тоже интересно. Слушай, мотай на ус.
8
Плоское строение зерносклада густо чернело на фоне потухшего неба. Обойдя лужу, я приблизился к широким двустворчатым воротам с освещенным проемом открытой двери. У дальнего закрома я увидел Федьку Суслякова, по прозвищу – Суслик, он бросил школу и уже что-то делал в колхозе, и Антоху Михеева, маячивших в слабом свете керосинового фонаря. Антоха держал мешок, а Федька насыпал в него зерно плицей. Наверху пшеничного вороха я разглядел кладовщицу – Груньку Худаеву. Она ногами скатывала зерно в сусек.
– Волынишь! – завязывая мешок, хмуро взглянул на меня Федька. – Антоха вон помог мешки насыпать, а ты только явился.
Я промолчал: Федька как никак, а помогал колхозу, а мы еще только осваивались в той помощи.
– Мать подменяешь? – обернулся ко мне Антоха, завязывая мешок.
Я кивнул.
– Моя тоже чтой-то расхворалась, – с печалью в голосе поделился он своей тревогой, – и бабка недужит.
– А моя стирку затеяла, – поддержал и я завязавшийся разговор.
– Хватит сопли распускать, давайте мешки грузить! – скомандовал Федька. – А то попадет от сеяльщиков. У меня вон отец пропал без вести, и то я не плачу.
В широко распахнутых воротах, с обратного торца склада, виднелась бричка, запряженная парой быков. Один из них пустил струю, и в пустоте склада отчетливо слышалось журчание мочи.
Я ухватился за угол мешка вместе с Антохой, и втроем мы поволокли его к бричке.
– Но-оо! – с трудом перевалив мешок в бричку, крикнул на быка Федька. – Распузырило тебя не вовремя!
Кое-как, с горем пополам, мы загрузили мешки с зерном друг на друга и, получив у кладовщицы два керосиновых фонаря, примостились с Антохой в бричке. Федька расписался в накладной, и мы поехали.
Заскрипела телега изношенными колесами, тяжело переваливаясь с бока на бок, и зашевелились мешки с зерном. Опасаясь, что какой-нибудь из них свалится с брички, Антоха распластался по верху, охватывая мешки руками и ногами. А я сидел в задке, упираясь коленями в упругие бока этих же мешков, чтобы не сорваться в хлюпающую под колесами грязь.
– Иванчик теперь заждался, – торопил быков Федька, – возьмет в оборот с матюгами, только поворачивайся!
Ночь густела. Смутно серели впереди спины быков и всё – дальше ничего не было видно. Мы будто плыли в волнах растворенной сажи, и только скрип телеги отметал эту иллюзию. Как Федька ориентировался в этой черноте – непонятно. Ни говорить и даже не думать в таком напряжении не хотелось, и мы молчали, озабоченные лишь одним – быстрее бы доехать.
Где-то далеко, словно на краю неба, зажелтел огонек.
– Это наши костер жгут, чтобы мы не потерялись, – обернулся к нам с передка Федька.
В его голосе пробилась нотка радости. И у меня в душе посветлело.
Костер увеличивался. Стало видно двух человек возле него.
– Второй-то кто? – будто чего-то остерегаясь, спросил я у Федьки.
– Тетка Дарья Шестова. Она на сеялке будет.
Я тут же представил большеглазую девчонку, одну в темном пустом доме, съёжившуюся, дрожащую не то от холода, не то от страха, и даже вздрогнул, когда Федька крикнул на быков:
– Тыр-рр! – В темноте он разглядел край пахоты и темный силуэт трактора с сеялкой.
От костра, услышав скрип телеги и наши голоса, подошли сеяльщики.
– Что так долго? Что-нибудь случилось? – спросил Иванчик Полунин, новоявленный тракторист. Я его видел как-то с Шурой и Настей. Шура тогда сказала, что его вот-вот должны были забрать в армию, он и хорохорился, разыгрывая взрослого.
– Да нет, – виновато отозвался Федька. – Дорога вязкая. Быки еле-еле бричку тянули.
– Оно и понятно, – подала голос Дарья. – За два последних года изъездили скотину на нет – кожа да кости. Как они еще сами собой двигаются.
– Опять сопляков вместо себя прислали, – пробубнил Иванчик, будто и не услышав её реплики.
– Сколько привез? – обратилась Дарья к Федьке, тоже никак не отозвавшись на недовольство тракториста.
– Десять полных мешков.
– Давайте разгружать, а то еще председатель нагрянет – уши затыкай от ругани.
– Значит, так, – начал объяснять нашу с Антохой задачу Полунин, – один ходит – другой отдыхает и за мешками присматривает, и так до утренней смены…
На весь наш колхоз было всего два колесных трактора, которые выпускались заводом без фар, и, чтобы вовремя отсеяться, работали на них сутками, пуская в ночь, перед трактором, человека с керосиновым фонарем. Вот нам с Антохой и выпадало такое поручение взамен матерей.
Впятером мы быстро стащили мешки на межу и засыпали зерна в сеялку.
– Кто идет первым? – спросил Иванчик и стал рукояткой заводить трактор.
– Я! – выкрикнул Антоха. – Я уже носил и знаю как!
«Ну и пусть, – не обиделся я, садясь на мешки, – хоть немного отдохну после этой дороги…»
Трактор зарокотал, и Антоха метнулся с фонарем к передним колесам. Огонек поплыл в темноте над землей, а за ним покатился трактор.
– Гляди тут, – наказал Федька и полез в телегу. – Но-оо! – Он хлобыстнул какого-то быка палкой, и скоро скрип колес затих в темноте.
Я упал на спину, уставившись в небо. На нем кое-где появились светловатые пробоины, и в них заблестели звезды. Они будто подмигивали мне – не дрейфь, мол, – мы с тобой. Как бескрайне далеки были они от меня, деревенского оскребыша, подпаленного войной! Далеки и вечны, даже подумалось: «Все когда-нибудь пройдет, а они будут вот так же подмигивать какому-то другому мальчишке, возможно, более счастливому, чем я. И, возможно, это его счастье высветится благодаря моим, теперешним, страданиям. И трактора будут другие, с фарами, или вовсе самоходные, и хлеба будет вдоволь: ешь – не хочу, и одежды всякой на выбор…»
Далеко-далеко, как бы возникнув ниоткуда, появилась своя, земная, «звездочка» – это трактор повернул назад, и мои мысли потянулись к нашим близким заботам. Я подумал, что надетые на шерстяной носок старые сапоги могут не выдержать долгого хождения в пахоте, развалятся, и сможет ли дед снова починить их, а до конца занятий в школе еще больше недели…
Огонек стал приближаться, и я пошел ему навстречу.
Антоха тяжело дышал и без слов сунул мне в руки фонарь. Разговаривать было некогда – трактор почти уперся в спину радиатором, и я заторопился, стараясь освещать правое колесо трактора и часть борозды, как наказывала матушка. Издали казалось, что трактор ползет как черепаха, а на самом деле он постоянно подгонял меня, надвигаясь сзади жарко и неумолимо. Пришлось шагать быстрее и шире. Ноги вязли в мягкой пахоте, старые дедовы сапоги-бахилы тяжелели и тяжелели. Да и фонарь, показавшийся вначале легким, всё настойчиво гнул руку к земле. Уши забивал грохот мотора, от которого как бы содрогалась земля, а с нею и мое тело. Пахло нагретым железом и керосином. Горячая волна воздуха шла от колесника, нагревая спину и голову. Да так, что под шапкой взмокли волосы.
К концу ходки трактор стал ассоциироваться у меня с ревущим зверем, готовым вот-вот зажевать мое измученное тело. Как я не шлепнулся под его колеса, без устали крутившиеся в своем железном стремлении, одному богу известно. Шаг, шаг, еще шаг, еще…
Оглушенный, задыхающийся, я едва различил возникшего передо мной Антоху и отпрянул в сторону, передавая ему фонарь.
Сколько таких выжимающих волю и силы кругов пришлось вынести за ночь – считать было некогда: во время ходки с фонарем только и думалось, как бы ровнее высветить борозду и не угодить под колеса. А при отдыхе на мешках гудело не только в голове, но и в ногах, какие уж там рассуждения!
К утру усталость раздавила все тело. Ноги одеревенели, поджилки затряслись, тяжесть в затылке потянула голову на грудь, нагнетая непосильный сон, и почти бредилось, что еще круг-два и я неотвратно рухну на землю. Так оно после и вышло: и я, и Антоха, не раз спотыкаясь, падали в борозде, чудом успевая вскакивать едва ли ни из-под тракторного радиатора и снова идти. Иванчик ни гу-гу. По крайней мере, я не слышал его криков, хотя, возможно, они и гасли в рокоте трактора. И только тетка Дарья во время очередного наполнения сеялки зерном подбадривала нас, нахваливая и шутя, хотя, как я понимал, и ей на подножке сеялки, в пыли и тряске, не сладко было…
Когда забрезжил рассвет и уже не нужно было носить фонарь, появилась смена сеяльщиков. И то ли от усталости, то ли от полусонного состояния, а возможно, от того и другого, я с какой-то очумелостью воспринимал слова пришедших людей. И даже не понял, как мы с Антохой разбрелись в разные стороны, торопясь по домам.
Какие силы поддерживали меня, пока я шел до дома, не объяснить. Но, едва разувшись в сенях и переступив порог, я в изнеможении плюхнулся на скамейку.
– Поешь да поспи. – Матушка погладила меня по голове, и от прикосновения её мягких, сыроватых от стирки пальцев полегчало, и скоро я снова побежал перед ревущим трактором, нависшим надо мной от ярко звездного неба. Но это был уже сон.
Часть четвертая. Круг последний
Глава 1. И дома, и в поле
1
В степи, недалеко от озера, густо зеленела кронами старая березовая роща, далеко отстоящая от остального леса, и в ней грачи облюбовали свою колонию. Из года в год прилетали они туда весной, облепляя деревья кучками гнезд. Грай стоял такой, что в деревне, за два километра, было его слышно. А в конце июня вся их ненасытная черная стая вместе с выводками устремлялась в степь, на поля, в озеро и пожирала все, что под силу, а к осени наваливалась на хлеба и огороды. И именно перед тем, как грачиный молодняк становился на крыло, ребятня приноровилась выбирать его из гнезд – ни ради озорства или забавы, а на мясо. Война почти всё вымела из сельских подворий, и в лето у многих не оставалось даже картошки – приходилось держаться на лебеде да крапиве. И молодые откормленные грачата уплетались не хуже курятины.
Я ходил в грачатник с Пашей и Антохой. По два-три раза успевали мы полазить по гнездам, пока у оперившихся грачат отрастали маховые перья. Позже их взять было невозможно: слетыши шустро перепархивали с одного сучка на другой, с дерева на дерево – попробуй догони…
Вылавливать из гнезд грачат лучше всего было днем, когда они, накормленные и разморенные зноем, становились менее подвижными.
* * *
Мы с дедом обновляли прясла вокруг огорода. Он затесывал и вбивал колья, а я ошкуривал тонкие осинки на жерди. И колья, и жерди мы привезли с дедом на колесянке из леса: он – в оглоблях, я – сзади, подталкивая.
Укрепив осинку скобой, я внимательно наблюдал, как сочная кора лоскутами ускользает из-под топора, щекоча мне босые ноги – с изнанки прохладная и скользкая, а сверху шершавая. За какой-нибудь час она свертывалась на солнце в трубочку и ощутимо царапала подошвы жесткими краями.
Дед пробивал колом дерн, намечая отверстие, плескал туда воды из ведерка и вполсилы долбил землю. Слышно было, как после каждого его тычка смачно чавкает грязь в пробитой ямке, и после трех-четырех легких ударов дед со всего размаха ставил кол на место.
Пашу с Антохой я увидел издали – они шли к нам из переулка вдоль огорода – и обрадовался возможному передыху.
– Пока не добьем задник – никакой игры, – как выдохнул дед, тоже заметив моих друзей.
– А я никуда и не собираюсь, – голос мой предательски дрогнул.
– Вот и дело, – одобрил заявку дед, видимо, не уловив моего настроя.
Ребята поздоровались.
– Здорово, здорово, коль не шутите. – Дед хитровато прищурился. – Чего скажите?
– За грачатами вот наладились, – сразу начал Паша, – хотим Леньку пригласить. А то я от одной лебеды в дристуна превратился.
– Эт-то точно. – Дед подобрел. – И в животе пусто – и силенок не густо. Но вы же недавно тута ныряли. И не только вы. Поди, уже всех грачат перетаскали.
– Да нет. Там гнезд на каждой березе по десятку – где их всех переловишь, – гнул свое Паша. Антоха помалкивал. Он вообще был не очень-то разговорчивым, а перед моим дедом и вовсе робел.
– Ну, тогда дуйте, – дал добро дед, – теперь-то и грачата, что когда-то поросята, – срифмовал он. – Хоть как-то поддержимся.
* * *
Из южных далей тянуло жаром, будто там, за горизонтом, топилась гигантская печь и из ее жерла натекал ядреный зной. Ни птичек, ни стрекоз, лишь одни бабочки порхали у цветов яркими лоскутками, да дремавшие в траве кузнечики прыгали в разные стороны, вспугнутые нашими ногами. В ослепленном ярким солнцем пространстве грачиная роща казалась черной, парящей над землей. Луга и луга катились к ней в легком волнении, переливаясь на солнце. Бежать бы да бежать вот так с друзьями по этой удивительной степи в удивительном восторге! Да все кончено: заслонила нам путь высокая роща. Прохладой потянуло от нее и влагой. Грачи хотя и дремали, разморенные зноем, но их сторожа засекли нас еще на подходе и нудно, протяжно закаркали.
Черной бурей полыхнула вверх грачиная стая, поднявшись с оглушительным, гнетущим душу граем. Редкие промежутки между деревьями, сквозь которые просматривалась чистая синь неба, заслонили мельтешившие над вершинами птицы. Угрюмее и темнее стало внизу. Мрак рощи усиливал это ощущение. Черные вороны, черные гнезда, черная листва в сумрачном лесу, беспрерывный хриплый крик – неприятно тревожили и пугали. Молча, с потаенной осторожностью, мы разошлись в разные стороны.
Обогнув куртины плотного ивняка, я оказался возле кряжистой березы, державшей на своих раскидистых сучьях с десяток гнезд. В нижнем гнезде торчали головы любопытных грачат. Я привязал за края мешка веревку, повесил ее на шею и полез вверх.
С того дня, когда мне покорилось первое дерево, я освоил технику лазания в совершенстве. Без страха и напряжения карабкался я по шершавому стволу, упираясь в сучья босыми ногами. На первом толстом, почти горизонтальном, отростке было два гнезда: одно недалеко от ствола, а второе почти на конце. Я, на карачках, стал приближаться к первому. Бойкие грачата запрыгали в гнезде, норовя клюнуть, но осторожничать было некогда: любое неловкое движение могло вывести меня из равновесия, а до земли порядочно. Одного за другим хватал я грачат и опускал в мешок. Они сразу затихали, робко шебуршась в непривычной темноте. Их возню я ощущал коленями. Осатаневшие грачи чертили воздух над самой головой, словно пытались сбить меня с шаткого отростка.
Рискуя сорваться вниз, на плотную чащу и сучковатые валежины, я опустошил еще с пяток гнезд повыше и почувствовал тяжесть мешка. Лезть дальше с такой ношей было опасно. Сдернув петлю с шеи и завязав ею мешок, я пустил его между сучьями. Мягко ударяясь о ветки, мешок запрыгал вниз. Стал и я спускаться налегке, быстро и ловко.
Едва я спрыгнул на землю, как из глубины леса показался Паша. Он держал увесистый мешок через плечо.
– Объедимся сегодня жареного-пареного, – радовался он. Лицо у Паши было красное, со следами наспех размазанного грачиного помета.
Я промолчал – засмеяться бы, глядя на его грязное лицо, но налетная горчинка загасила искру смеха: ведь, прежде всего, до того, чему так радовался Паша, дед должен был отрубить грачатам головы – топором, как цыплятам. Неприятно, грустно и жалко, но как вкусны они, томленные в чугуне да в печке! Не хуже тех самых цыплят, про которых мы уже давно забыли, а уж, тем более, не сравнимы с пустыми щами из лебеды, и я постарался погасить тревожные мысли, спросив:
– А где Антоха?
– Выскочил за тальник, пошли! – Паша отмахнулся от комарья и заторопился на край леса. Я – за ним.
Жар так и полыхнул на нас, едва мы выбрались на опушку, но воздух в поле был легче и прозрачнее, лишенный запахов прелых листьев и птичьего помета. Да и неприятный грай грачей поутих, хотя черные птицы, как большие хлопья пепла от пожара, долго и зло сопровождали нас в степь. Было как-то тревожно и не радостно.
2
Бык шел медленно, с перевалкой, низко опустив лобастую голову. Два полусбитых рога как-то скорбно торчали у его широких, обкорнатых морозами ушей. Пыль из-под уродливых копыт всплескивалась серыми фонтанчиками и тут же падала на изрезанную колесами дорогу. Я не без усилий сидел на его худой, с выпирающей хребтиной, спине, морщась при каждом шаге от болевого вдавливания костлявых позвонков в ягодицы, и с унынием думал о том, что эту пытку придется терпеть весь долгий день на жаре и палящем солнце. Нас, копновозов, было не меньше десятка, и мы замыкали длинный обоз бричек и конных граблей – в страду выгнали на покос всех, кто хоть как-то мог помочь в уборке сена.
Антохе достался высокий, с крутыми рогами, бык, такой же костлявый, как и мой, только попроворнее. Чтобы держаться рядом со мной, Антоха то и дело дергал за налыгач, сдерживая ход быка.
Еще только-только засветилось раннее утро, обрызгав землю скудной росой, робко проклюнулось зоревое пламя над лесом, и в этой слепой знобкой прохладе не верилось в палящую ярость солнца, обжигающий зной, казалось, что так и будет весь день: тихо, вяло и серо… Не хотелось ни говорить, ни думать, хотя в душе и притаилась тревожная искорка: как-никак, я ехал ни на какую-нибудь там прополку, а на более серьезную работу – не подвести бы матушку и деда, не хуже других быть на глазах у людей…
Неохватно широко раскинулись луга в приозерье: травы и травы в еще не ослепленных солнцем далях, да редкие островки ивняков.
Косо проскользнул в стороне соколок в стремительном полете, и какая-то птичка сорвалась из травы, испугавшись маленького хищника. Трепеща тонкими крыльями, она метнулась к дороге, под брюхо моему быку, и погнавшийся было за нею соколок рассек воздух у самой морды равнодушного ко всему одра. Бык даже остановился. В серой пыли я разглядел жаворонка, косившего в небо бусинкой глаза. Показалось, что птичка хитровато подмигнула мне – мол, знай дело.
Соколок взметнулся вверх, крутанулся несколько раз вокруг и свалился в сторону. Тут же юркнул в траву и жаворонок.
– Видал? – кивнул я Антохе.
– Хитрец. Понимает, что ли, где можно спастись? – удивился Антоха.
Вдали, у кустов ивняка, гуртился колхозный табор: распрягали быков, лошадей, ставили в ряд телеги, готовились к работе.
Меня встретила матушка.
– Давай подложим тужурку, – предложила она, когда я показал на костлявый хребет моего быка, – иначе набьешь задницу…
Когда я вновь уселся на спину тягла, прикрытую тужуркой, матушка взялась за ярмо и потянула быка к ближней копне, скатанной из валков сена.
– Заводи вокруг, – крикнула она мне.
Я толкнул быка коленями, и он тронулся с такой же равнодушной неохотой, с какой шел по дороге. Обойдя вокруг копны, бык без команды и принуждения остановился – работа для него была знакомой.
Матушка подсунула тяговую веревку под копну и завязала петлей её конец на ярме.
– Тяни! – Она махнула рукой.
И поволок я копну к зароду будущей скирды. Возле него уже ковырялись деревянными вилами скирдовщики с бригадиром.
– Куда? – обратился я к бригадиру.
– Ставь тут…
И пошло дело – ходка за ходкой, копна за копной… Скирда росла, и вставал день – солнечный, жаркий. Тужурка, подложенная под мой зад, то и дело сползала и приходилось изо всех сил упираться коленями в ребра быку. От постоянного напряжения мышцы на ногах болезненно ныли, теряя силу, и я еле-еле держался верхом. Жар пек непокрытую голову (нечем было), солнце слепило глаза. У истомленного зноем и оводами быка потянулись лохмотья слюны. Он стал упираться, косить налитые краснотой глаза на ближние ивняки…
Ближе к обеду Антоха не удержал своего «рысака». Одуревший от жары и кровососов бык кинулся к незавершенной скирде и снес у неё своим тяжелым телом пол-угла. Едва успел незадачливый копновоз скатиться на землю – раздавила бы его скотина о плотное сено. Но вместо тревоги за мальчишку, бригадир, вырвав у Антохи погоняльный прут, перепоясал им горе-копновоза пару раз. Красный от стыда, Антоха кинулся ловить упрямого быка…
Вроде и не касался я сена, а труха насыпалась за ворот, саднила разопревшее на жаре тело, болезненно зудела на спине и пояснице. Зной тяжело давил темя, в ушах шумело, а ноги все больше и больше немели от перенапряжения. Кроме всего бык, отгоняя оводов, мотал тяжелой башкой и надергал руки.
– Устал, сынок? – участливо заглядывала мне в лицо матушка. В её потемневших глазах угадывалась тревога. – Потерпи, немного осталось до обеда.
Я настойчиво качал головой, пытаясь бодриться, а сам лишь каким-то чудом держался на быке. Еще бы самую малость, чуть-чуть, и силы бы оставили меня.
– Обед! – наконец объявил бригадир, втыкая свои огромные вилы в кучку сена.
И сразу все повеселели, покидали свои грабли и вилы, устало распрямились. Послышались шутки, прибаутки, повеселели лица.
Стан был недалеко, у степного колодца с журавлем, под большими ракитами.
Так и хотелось свалиться с ненавистной, набившей ссадины на заду бычьей спины и побежать вместе со всеми к благодатной тени. Да надо было отвести быков под кусты, в такую же тень, спутать – иначе убегут и ищи их свищи.
Антоха с осунувшимся лицом, едва не плача, тянул своего крутолобого одра за налыгач, поворачивая ко мне. А бык завернул голову в другую сторону, налил кровью глаза и пер в кусты.
Я понял, что Антохе не справиться с упрямой скотиной, внесет бык его в тальники, а там сучья, что пики.
– Прыгай! – закричал я приятелю. – Прыгай!
Но Антоха, бросив налыгач, медлил. Скорее всего, опасался попасть быку под ноги.
С треском вломился бык в зелень кустов. Копновоз слетел с его спины кувырком, будто смахнутый невидимой рукой.
Заходил кругами и мой бык, упрямо закрутил шеей. Ждать Антоху было опасно, а бросать скотину и того больше – убежит в деревню, в прохладу базы, и позора не оберешься. Да и бригадир своё скажет – огреет черенком вил, а это тебе не погонялка. И я дал волю быку. Он даже затрусил полурысцой – откуда силы взялись. Я едва держался, уцепившись за выпирающий загривок, и невольно застонал. Тужурка не больно помогла, и высоко выпирающие позвонки до ссадин натерли мне мягкие места.
Пока я спутывал быка, показался из кустов Антоха и, хромая, двинулся к стану.
Я нашел матушку в тени дуплистой ракиты, и она подала мне миску причитающейся из общего котла каши, сваренной на молоке.
Пока я ел, подковылял к нам Антоха с такой же миской каши.
– Сильно ушибся? – тихонько, чтобы не услышала матушка, спросил я.
– Не-ее, чирей на ноге срезало, как ножом, кровище бежало, еле остановил листом подорожника…
Где-то взвизгивали и смеялись девчата. Хохотали парни призывного возраста. Они или обливались водой, или просто дурачились. Но я уже проваливался куда-то, охваченный неотъемным сном, с какой-то тихой радостью в мыслях и душевным успокоением.
3
В углу огородика, в котором мы сажали овощи, шныряла по пряслам серенькая, с синим галстуком на горле, варакушка-огородница. У неё вывелись птенцы, и она беспокоилась за них, хотя я и ходил по огородику каждый день, поливая огурцы и капусту. «Вот ведь маленькая птичка, а как тревожится за своих детей, – думалось мне, – попуще людского».
– Эй, ты где? – раздалось с улицы, прервав мои философские размышления. – Выйди-ка на разговор.
Голос был вроде знакомый, но чей – не угадывалось. Вылив из ведра воду на грядку, я пошел за ограду. У ворот стояли Паша и Славик. Мы не виделись со Славиком давно, и это его голос я не узнал сразу.
Мелькнула тревожная мысль: «Что-то случилось – ведь не могут же они в такое запарное время прохлаждаться…»
И я, сдерживая голос, здороваясь, спросил:
– Чего вы?
– Да вот, – Паша кивнул на друга, – Славик уезжает.
– Как это? Куда? – Я внимательно поглядел на их лица: не разыгрывают ли?
– Фашистов погнали от Ленинграда, – засиял глазами Славик, – нас всех отправляют домой.
Новость настолько ошарашила, что я какое-то время молчал, пытаясь поймать ускользающие мысли для нужных слов, и едва шевельнул языком:
– Когда вам ехать?
– Да вон уже все собрались у конторы, – Славик кивнул через плечо, – до района пойдем пешком, а там в город нас увезут на машинах – и в Ленинград по железной дороге…
Жаль тиснула сердце. Вспомнилось, как мы дружно играли в разные игры, ходили в лес, рыбачили, как заступались друг за друга в ребячьих разборках, делили радости и огорчения и даже кое-какую еду, если что-то перепадало от взрослых помимо общего застолья. А память потянула из туманного небытия полузабытое лицо отца и всего его с поднятой рукой, призывающей солдат в атаку, в шинели, опоясанного портупеей. Именно таким он был на последней фотографии из полученного по весне письма, и я вдруг сказал Славику:
– И мой отец освобождал твой город и три года стоял за него.
– Я помню. – Славик положил мне руку на плечо. – Приезжайте с Пашей ко мне в Ленинград. Сейчас никто не знает – уцелели или нет наши квартиры и где нам придется жить, а как только всё станет известно, я вам напишу. Ладно?
Паша растянул полные губы в усмешке:
– Ничего себе ты загнул! Это где он есть-то, твой Ленинград! И на какие шиши нам туда добираться и в чем.
– Захочешь – узнаешь где, – Славик ткнул ему пальцем под бок, – а кончится война и все изменится – будут тебе и гроши, и галоши. – Ха-ха. – Он так и светился радостью: еще бы – из такой провальной глухоты да в родную купель, в златой город.
– Пойдем проводим, – кивнул я Паше.
– Не надо, – Славик отмахнулся, – зачем лишние переживания. Давайте здесь прощаться. – Он вдруг обнял меня и прижал к себе до перехвата дыхания. Я даже не ожидал от него такой силы. – Ты, Ленька, наилучший из ребят, с умом. Двигай так дальше и вырулишь, куда тебе захочется.
У меня сердце дрогнуло от его душевности, глаза затуманились.
А Славик охватил и Пашу и что-то говорил ему, но я, в заливе зыбких чувств, не различал слов.
Обменялись пожатием рук, и Славик побежал от нас, сверкая подошвами потертых башмаков.
Мы смотрели ему вслед молча: я – с чувством легкой грусти и осознанием невосполнимой потери, Паша, вероятнее всего, так же.
4
Паша застал меня в дровнике: я укладывал в поленницу наколотые дрова и не заметил, как друг махнул через плетень.
– Пойдем за утятиной, – крикнул он.
– За какой утятиной? – не понял я его горячности. – У тебя что – ружье появилось?
– А мы без ружья. Ребята вон на береговых плесах хлопунцов хлещут.
– Что еще за хлопунцы? – Я придержал поднятое полено.
– Да утиный молодняк. Они уже полностью оперились, а летать еще не могут, что те грачата.
– Где ж ты поймаешь утенка на воде? Они же шустрее шустрого.
– Их и ловить не надо – всё просто. – Паша усмехнулся. – Они как раз сейчас, к вечеру, начнут из камышей на плесы выплывать – разную там мошкару и семена ряски склевывать. Мы их там и застанем. В общем, объяснять долго, увидишь, что и как. Пошли, а то опоздаем!
Ну как не поверить закадычному другу! И я, крикнув деду, что отлучусь ненадолго, выскочил вместе с Пашей за ограду.
– Погодь чуток, – Паша придержал меня, – надо хлысты взять. Я их, как к тебе идти, вырубил и под плетень положил.
– Что за хлысты? И зачем?
– Узнаешь, – Паша подмигнул, – не торопись.
Под плетнем лежали длинные, вроде удочек, ивовые прутья. Забрав их, мы двинулись к озеру.
Огромное солнце облило неистовым светом всё приозерье, золотя травы и маковки камышей, заслонявшие зеркально светящийся плес. У куста чернобыльника мы сняли штаны и полуобнаженные двинулись к берегу. Мягко запружинил прибрежный мох, по щиколотку охватывая погружавшиеся в него босые ноги. Теплая водичка плеснулась на пальцы. Больше и больше. Я не сводил взгляда с идущего впереди Паши, точь-в-точь копируя все его движения. Вот он пригнулся, раздвигая руками реденький береговой камыш. Видно стало и весь размах мелководья, и множество плавающих на нем уток.
– Бежим! – скомандовал Паша, и мы вмиг вынеслись из зарослей на открытую воду.
Несколько утиных выводков оказались совсем близко от нас.
Паша дико заорал и хлестанул пару раз прутом по воде. Что тут поднялось! Напуганные нашим мгновенным появлением и резкими хлопками, похожими на выстрелы, все летающие птицы заметались над водой, а хлопунцы, далеко отплывшие от спасительных камышей, поныряли в густоту ряски.
Паша, подняв прут, остановился и стал оглядываться. Я принял ту же позу, пока еще ничего не понимая. Несколько напряженных мгновений, и из воды в разных местах стали выпучиваться блестящие от влаги кудельки водорослей. Не трудно было догадаться, что под ними затаились вынырнувшие хлопунцы.
Высоко поднимая ноги, чтобы не плескать воду, Паша стал подкрадываться к одной из таких куделек. Я наблюдал.
Приблизившись к ней шагов на пять, Паша со всего размаха хлестанул по той ряске прутом, и из под неё вывернулся вверх брюшком хлопунец. Он еще трепыхался, когда Паша схватил его. Утенок был уже со взрослую птицу, полностью оперенный, лишь на крыльях у него торчали синеватые перьевые трубки с кисточками пуха на концах.
– Есть один! – похвастался Паша и хотел еще что-то сказать, но я уже всё понял и начал скрадывать ближнего ко мне утенка.
Удар по воде – и всполох досады: хлопок хлыстом пришелся чуть левее зеленого бугорка. Хлопунец сразу же нырнул и ушел под водой куда-то в сторону.
– По-стариковски получилось, – заметил мою неудачу Паша, – резче надо и точнее. Пробуй еще…
Мир для меня сфокусировался на этих маленьких кудельках из водных трав – и звуки, и свет были бессильны перед острым мигом возможного овладения добычей. Еще две-три неудачи и дело наладилось, пошло…
К заходу солнца, к тому времени, когда возвращалось с пастбища наше единоличное стадо коров и нужно было встречать истомленную за день скотину, у нас с Пашей было чуть меньше дюжины хлопунцов на двоих.
И что удивительно: наши ли былые удачи в охоте с Кольшей, редкие ли успехи в ребячьих поисках мясного приварка к нашему пропитанию – сгладили мои налетные чувства жалости, и даже к убитым хлопунцам я относился, как к желанной добыче, так необходимой нам в столь нелегкое время.
Глава 2. Горе
1
Перво-наперво, что нас всколыхнуло в самом начале учебного года, это появление нового директора школы и нового классного руководителя. Директриса – Анна Степановна, и наш классный руководитель – Екатерина Дмитриевна, были из эвакуированных ленинградцев и уехали домой вместе со всеми. Новый директор оказался из своих, деревенских, фронтовик, списанный из армии по кому-то ранению, звали его Иван Иванович Сусальников (позже, в разговоре учеников – просто Ван Ваныч). А классным руководителем стал тот безрукий танкист, что рассказывал нам про танковые бои – Михаил Михайлович Соснов (заглазно, для сокращения – Мих Мих), то же наш однодеревенщик.
Раньше я сидел за партой с Мишкой Кособоковым. Но после того памятного сева мы как-то сблизились с Антохой Михеевым. Он и плюхнулся со мной рядом с первым звонком.
Мих Мих, читая наши фамилии в журнале, пристально рассматривал каждого и, закончив список, поднялся.
– Я вижу, – начал он, – у нас немало девочек, и сидят они друг с другом. То же самое и ребята. Это дает лишний повод для разговора во время уроков и отвлекает от усвоения знаний. Давайте будем пересаживаться: девочки перейдут за одну парту к мальчикам на добровольных началах, мальчики – к ним. Я думаю, что они между собой не особенно разговорятся.
Это было второе новшество, всколыхнувшее нас. Но с учителем, да еще и в классных руководителях, не поспоришь.
Антоха встал, растерянно оглядываясь. Я тоже завертел головой, пытаясь угадать ту девчонку, которая сядет ко мне.
По проходу, поглядывая на меня, шла Маня Огаркова, скромница и тихоня, и мне бы с ней было удобно. Но не тут-то было: я и не заметил, как рядом оказалась Лиза Клочкова, темноволосая и черноглазая, бойкая на язык непоседа. Она, не сказав ни слова, решительно толкнула меня локтем в бок, предлагая подвинуться. «Вот тебе и спокойствие! – отметилось с огорчением. – Эта егоза задавит расспросами, да и списывать задания наладится». Но факт свершился. Не прогонять же её. А Лиза как-то забавно игранула дугами угольно черных бровей и усмехнулась, будто понимая моё душевное состояние.
Подавив вздох сожаления, я отвернулся и стал смотреть в окно на играющие листвой тополя по другую сторону улицы, на облитые зоревыми красками крыши ближних домов, в широкий разворот неба над деревней.
– Так и застолбим – кто где, – дал своё согласие с новым порядком рассевшихся учеников Мих Мих. – А тебе, Венцов, что, соседка не понравилась, к окошку отвернулся?
Это уже мне замечание, и я растерялся, но ничего не ответил, а лишь непроизвольно пожал плечами.
2
Рядом с дровником у нас был навес, и в нем дед начал делать новые сани. Он выстругал из двух березовых сутунков заготовки на полозья. Один конец этих заготовок был стесан много тоньше общей длины. На них дед насек топором поперечные зарубки.
– Загибать эти концы буду, – загасил он мой вопрос.
– А как? – допытывался я, стараясь уяснить все приёмы санного ремесла.
– Приспособление такое есть на санном дворе, туда свезу, хотя можно и дома это сделать, но хлопотно.
Вдоль всей длины будущего полозья дед принялся долбить прямоугольные углубления.
– Под копылья, – сказал он и больше ничего не стал объяснять. – Позже сам все увидишь, не спеши вперед батьки. – Чудак дед – затевает какое-нибудь дело и думает, что я его понимаю. Обидно немного, да что поделаешь – таков его метод воспитания: сам, мол, шевели мозгами.
А через два дня во дворе появились полозья с согнутыми полукольцом головками. Дед забил в них копылья (деревянные брусочки) и стянул полозья поперек вязками – распаренными в печке и скрученными наподобие веревки ивовыми хлыстами. На копылья, сверху, наделись грядки – плоские рейки, а к головкам полозьев закрутками дед прикрепил раму и оглобли.
– Специально сани меньше конных сделал, – радуясь, что все у него вышло по задумке, светлел лицом дед, – в них, в случае чего, и корову можно будет запрягать.
Я опешил: шутит, видно, дед насчет коровы, – и высказал сомнение:
– Как же ты ей через рога хомут наденешь?
Дед едва не расхохотался:
– В чем мудрость-то? Быков ведь видел, как запрягают?
– То быков. У них деревянное ярмо. А нашу Зорьку если загнать под неё, то молока не жди.
Дед свел брови:
– Насчет молока ты, пожалуй, прав. А вот под ярмо корову загонять не будем – я ей кожаную, с войлоком, шлею сработаю.
– Да зачем? – все не понимал я деда. – Мы же до этого без коровы обходились.
– Э, – дед поднял пожелтевший от курева указательный палец. – До этого быка в колхозе брали. На нем и сено возили, и дрова, а теперь и быков не осталось. Если и уцелело их три-четыре, то на колхозных работах все световые дни заняты. В личное пользование никто теперь быка не даст. Да и техники почти не осталось. Ко всему тому еще, из-за нехватки тягла, сена на зиму мало заготовили. Боюсь, что и оставшаяся скотина к весне не поднимется. А конца войны пока не видно, да и после неё не сразу все наладится. А жить как-то надо. Вот и придется кое-когда свою корову ставить в оглобли…
Потянуло в глубокое раздумье дедово предположение. Даже грустно сделалось. И уже помогал я ему, молча, с особым усердием, опасаясь поднять дальнейшими расспросами еще большую волну тревожных образов.
3
Под выходной день всю школу вывели в поле собирать после жатвы колоски. Одетые и обутые – кто во что горазд, мы шли туда шумной гурьбой, хотя и веселиться вроде бы причин не было. Даже день поднимался хмурый, по-осеннему знобкий.
На краю поля, того самого, от которого мы с дедом когда-то отвозили зерно, Мих Мих расставил нас цепочкой – шагов на пять друг от друга, и мы двинулись по стерне словно солдаты в атаку.
Почти сразу я заметил белеющий среди желтого жнивья колосок и поднял его. Короткие и оттого жесткие его усы неприятно скребанули по ладони. Кинув колосок в сумку, освобожденную в школе от потрепанного учебника, чернильницы и ручки, я поднял второй, третий… На землю из них посыпались пересохшие зернышки и, вкрадчиво оглядываясь, я стал ловить их на лету и кидать в рот.
Двигаться в таком поиске, соблюдая строй, вряд ли возможно, и шеренга наша скоро сломалась. Ближе всех ко мне оказался мальчишка из пятого класса. Я плохо его знал и решил поостеречься: мало ли какой он по натуре, доложит Мих Миху или бригадирше о моей хитрости с зернами – сгоришь от стыда.
Подавшись к нему поближе, я заметил, что мальчишка нет-нет, да и сует руку в прореху штанов, быстро, с оглядкой. «Что это он? – мелькнуло удивление. – Колоски туда прячет?»
А собирать колоски для себя не разрешалось. По слухам, даже за карман украденной пшеницы судили. Правда, у нас такого случая не было.
– Ты что делаешь? – негромко спросил я, подходя к нему.
Мальчишка вздрогнул и побледнел.
– Я, я на кашу, – зашептал он. – У меня две сестренки маленьких и бабка больная, а в еде одна картошка, да и та в этом году не уродилась…
Полыхнули облетные мысли: с одной стороны, получалось, что он ворует, и это постыдно, с другой – воображение открыло похожих на Катьку Шестову девчонок, худых, с голодными глазами, – и легкая жалость просеклась.
– У тебя что там, карман? – Я, понизив голос, кивнул на его штаны.
– Бабка пришила. – В его светлых, в легкой синеве, глазах копилась тревога.
«Эх, лучше бы я этого не видел! – потянуло душу сожаление. – Что теперь делать? Сказать учителю или промолчать?»
– Отвратно это, – я отвернулся. – Говорить никому про твои колоски я не буду, но уйду от тебя подальше. – Быстрым шагом я перешел на другую сторону поля, успокаиваясь, но мысли о парнишке и его семье еще долго не покидали меня, вырисовывая самые грустные образы.
4
Едва я распахнул двери в дом, как сердце дрогнуло, почувствовав что-то неладное: матушка сидела на скамейке в непривычной неподвижности и даже не шевельнулась и не сказала ни слова при моём появлении. В руках у неё я заметил какой-то листок бумаги и сразу же ослаб в окате пронзительной тревоги.
– Мам, ты чего?! – с трудом произнес я, сделав пару шагов, и скользнул взглядом по бумажке.
«Извещение» – высветилось слово, и чуть ниже: «ваш муж… погиб…» Дальнейшее расплылось в отуманенном взоре. Выплесок войны в виде слов на листке бумаги прошил мою душу тонким жалом, влив в неё острую неотвратность свалившегося горя, полыхнул в груди сострадательным ожогом. Я обнял матушку, пытаясь оживить её. Но она словно окаменела и медленно сползла со скамейки на пол. Я – за ней.
– Мама! Мама! – закричал я, боясь худшего. – Мама!
Дед был где-то во дворе и через неприкрытые до конца двери услышал мои истошные крики. Его тяжелые шаги тугими ударами отозвались в ушах. Не сказав ни слова, он поднял с пола матушку и понес на кровать.
– Давай воды! – раздалось как выстрел.
Я, дрожа в жутком ознобе, зачерпнул кружку воды из ведра, стоявшего в кухне на лавке, и подал деду.
Он, через руку, брызнул матушке в лицо, и я увидел, как из глаз у неё покатились крупные слезы, а грудь сотрясли глубокие рыдания.
– Ну вот, ну вот, – заговорил дед. – Поплачь, поплачь – полегчает…
Жалость к матери внахлест с острым осознанием страшной потери, непоправимости случившегося с отцом, сотрясли меня всего, и неуправляемые слезы залили пол-лица.
Утирал руками глаза и дед…
Только Шура, находясь в школе, отплакала своё вечером.
* * *
Матушка поднялась с постели лишь на третий день. Осунувшаяся, потемневшая лицом, она почти не разговаривала, обходясь лишь бытовым общением. Ни я, ни дед не могли найти для неё нужных слов утешения. Да и были ли они?
Тягостная печаль поселилась в нашем доме. А тут еще пришло большое письмо от командира полка. Он подробно описал, как погиб отец, где и как его похоронили, обещал прислать ордена и личные вещи. И снова материнские слезы с долгим лежанием. Даже со мной мать почти не говорила, только плакала да поглаживала по голове, прижимая к груди.
– Наше горе, сынок, орденами не прикроешь, – заявила она. – Глядя на них, только душу травить будем. Пусть всё отправят, куда положено.
Мне, конечно, хотелось поглядеть на отцовские ордена, пощупать их, подержать, но мог ли я возразить матери в такой момент, лишний раз ранить охваченное болью сердце?
Пошел я по улице, пытаясь отвлечься от гнетущего состояния, и увидел толпившихся у ограды крайнего дома людей. Метнулись щемящие мысли: у кого-то тоже горе.
Я хотел пройти мимо, но услышал тягучий, с причитанием, плач и приостановился. Толпившиеся у ограды люди зашевелились, показались женщины, несущие небольшой гроб из не струганных досок. За ними я увидел Мишку Кособокова и Пашу. Они тоже заметили меня, подбежали.
– Ванятка Стебехов помер от заворота кишок, – сказал Паша. – Наелся лепешек с хлопковым жмыхом и всё…
Я не знал названного мальчишку, но легче от этого не стало.
– Вы-то чего здесь?
Ответить мне друзья не успели: громкий плач спугнул наш разговор.
Не реальным казались мне и гроб из старых досок, и плохо одетые женщины, несущие его, и зеваки, и притихшая ребятня – день в разгаре, солнечно, тепло и тут это мрачное шествие. Зачем? Почему? Круговорот мыслей и вопросы, вопросы, на которые я тогда не мог ответить.
– Это Разуваев отблагодетельствовал, – хмурясь, пояснил мне дома дед. – Урожай был слабый – чуть ли не всё зерно пришлось в план государству сдать – людям крохи достались. А как зиму пережить с таким запасом? Вот он и решил, в довесок к заработанному на трудодни зерну, хлопкового жмыха выписать – с расчетом, что его можно будет добавлять в пшеничную муку и печь хлеб, экономя таким образом. Многие и начали ужиматься по этому совету сразу, а жмых оказался не очищенным, с ватными хлопьями. Их не то что человек – скотина не переварит. Нам вон тоже три мешка жмыха досталось. Будем толочь в ступе и на два раза просеивать через мелкое сито, чтобы не забивать животы ватой.
– А может, без него обойдемся? – тихонько возразил я, уже боясь такого хлеба.
– Вряд ли, – дед покачал головой, – муки у нас немного осталось, и той пшеницы, что перемелем, тоже маловато, а выживать как-то надо…
Он еще что-то говорил, а мне вспомнились румяные булки, которые матушка вытаскивала из печи и раскладывала на чистые рушники вдоль лавки, а после опрыскивала их колодезной водой через сито и закрывала на некоторое время такими же рушниками. Аромат печеного хлеба заполнял всю избу, вызывая острое желание отщипнуть от любой булки кусочек на пробу, и матушка иногда отрезала мне самую румяную часть горбушки – и как сладок был этот хлеб! А ведь было это всего каких-нибудь пару лет назад – недавно и давно – тяжелое время растянулось до зыбкой виртуальности.
5
Дел осенью по хозяйству не перечесть: тут и картошку надо выкопать и перетащить в подпол и погреб, и сено свезти с лесных полян в сенник, и дров заготовить на зиму… И все на себе: на горбу, да в оглоблях на тележке. Добро, что дед, предвидя такое положение, сделал одноколку с небольшими оглоблями и шлею для коровы сшил – дрова и сено на себе не потянуть.
Закрутились, завязали в трудовой напор накатившиеся заботы, сгладили остроту горькой утраты, неотъемлемо осевшей в глубине души. Потянулись угарные, похожие друг на друга дни.
А осень катилась и катилась к ненастью, к нудным дождям и снегу.
* * *
Потянулись звездными ночами косяки крикливых казарок к югу. Табуны уток замотались над озером. Но еще не было холода, еще держалось слабое тепло. Еще пасли скотину в полях и по опушкам лесных отъемов.
По воскресеньям, когда и я, и Шура не учились, дед наладился возить на тележке из леса сухой валежник. Сам он впрягался в оглобли, а мы с Шурой подпирали возок сзади.
В один из дней мы припозднились и вывернули к последнему повороту дороги в виду деревни, в то время когда с пастбищ погнали домой скотину. Еще не совсем «до ручки» дошли сельчане, еще остались кое у кого коровы и овцы.
Разномастная отара переходила перед нами дорогу, и дед остановился. Овчар, парнишка лет пятнадцати, шел сзади стада и по привычке покрикивал на овец, двигающихся тихо и понуро.
И вдруг четыре серых зверя вымахнули из придорожного леса наперерез стаду. Овцы сразу же остановились и сгрудились.
– Волки! – выкрикнул дед, и мне обнесло спину легким ознобом.
Миг, и овцы в диком испуге, наседая друг на друга, валом, кинулись с дороги в поле, но самый крупный волк бросился им наперерез и, поймав за шею первого барана, свалил его на землю. Остальные закружили стадо в живую спираль, с лету хватая крайних овечек. С яростью, на какую способны только звери, волки рвали им шеи, бока, животы, выворачивая одним махом горло, ребра, потроха. Пыль, кровь, отчаянное блеянье, крики пастушонка, топот…
Дед быстро схватил с тележки толстую палку и побежал к отаре. Мы с Шурой за ним, что-то крича. И уже не озноб, а страх сжимал моё сердце, и бежал я за дедом с непроизвольной отрешенностью.
Волки, заметив нас, один за другим скрылись в том же лесу, откуда и выскочили. И все стадо с необычной скоростью, на какую только способна овца, устремилось к деревне.
С полдесятка овец еще билось в предсмертных конвульсиях, кровавя пыль, а еще несколько лежало неподвижно.
Подросток бегал от одного животного к другому и открыто навзрыд плакал. Мы остановились возле ближней к нам овцы. Грудная клетка у нее была разорвана, и в прореху виднелось бьющееся сердце.
– Вот наглое зверье! – Дед был взволнован. – Среди бела дня, возле деревни!
Подбежал пастушонок. Размазывая по лицу грязные от пыли слезы, он залепетал:
– Вы видели, видели! Я не виноват!
– Видели, не плач, – ободрил его дед. – Любой здесь ничего бы не сделал…
Не реальным казалось мне происшедшее. Как в полусне глядел я на поверженных овец, на близкие дома, вдоль широко распахнутой улицы, на оголенные от листвы лесочки у околицы и холодел от мысли, что волки так же могут ворваться и в деревню. Жутковатые образы вообразились, тиснули сердце. Я хотел сказать про свои опасения деду, но из ближнего переулка показались бегущие к нам люди, вспугнули тревожные мысли, посветлело на душе, и отлетели в небытие тени наплывного страха.
6
За месяц, милосердно отведенный нам природой для хозяйственных дел, мы, где втроем, а где вдвоем с дедом, успели и сено сметать в сенник, и валежнику навозить к имеющимся запасам дров. Дед намеривался еще пару раз съездить за хворостом – на растопку, но зачастили дожди, и не какая-нибудь там морось, а в наплыв, с мокрым снегом, и мы не поехали.
Затихла деревня, притаилась в ожидании лучшей погоды, добрых вестей с фронта. Как-то чувствовалось, что всё идет к концу войны. Из разговоров было известно, что наши войска в Европу двинулись, да ходко – рано или поздно не усидеть фашистам в своем логове – зажмут их там, как тех волков – отольются им наши слезы…
Время шло, а моя душа все еще не принимала в полную веру то роковое известие об отце. Малая искорка таилась где-то в глубине сознания, нет-нет да и просекаясь иногда в отрадных мыслях. «Вдруг произошла ошибка и отец не погиб, а тяжело ранен и лежит где-нибудь в госпитале или вовсе попал как-то к немцам, а командиру полка доложили о нем ошибочно. Далеко же от окопов тот находится и не все доподлинно знает, а на войне всякое может быть. Вон Паше сообщили вначале, что его отец пропал без вести, а потом, почти через год, похоронку прислали…» Теплилась эта искорка и теплилась, и никакими усилиями я загасить её не мог, да и не пытался, хотя и бередила она душу постоянно, обманно отвлекая от свершившегося, невозвратного. Сдавалось мне, что и матушку не покидают подобные мысли, греют туманную надежду, хотя мы и не говорили с нею об отце со дня получения похоронки.
Сыро, холодно, печально. И в выходной день приходилось сидеть дома – беречь обувь. Даже Шура, отмыв полы, затихала в своем комнатном уголке: то занимаясь уроками, то довязывая себе варежки. Приходила к ней и Настя, и я не переставал удивляться, как она из той блеклой девчонки, ворожившей в подполе на жениха, превращалась в красивую девушку, и замирал, едва она возникала на пороге, и дела становились не в дела, и ни читалось, и ни писалось.
Пошептавшись с Шурой про свое, Настя подходила ко мне, распахивая и без того огромные глазищи, блестевшие такой превратной чернотой, что душа моя как бы разбивалась о них, охваченная легким трепетом.
– Что-то ты, Леня, долго растешь, не дождусь, когда ты в женихи выйдешь. – При этом, она поднимала дуги тонких бровей, как бы удивляясь, и слепила меня ласковым блеском смородиновых зрачков, приближая милое лицо к моему лицу. А я, сгорая от подступавшего к голове жара и чувствуя, как гулко бьется сердце, пытался поймать в её взгляде насмешку или тайный подвох, но не улавливал даже намека на них. Лишь ямочки на её естественно подрумяненных щеках обозначались сильнее. Ответить бы что-то, но губы не разжимались. И так: глаза в глаза почти с полминуты – ни слов, ни мыслей.
– Не смущала бы ты его, – вспугивала наш перегляд Шура, – рано ему еще в такие игры играть.
– Рано не рано, пусть привыкает. – Настя, подмигнув мне, подавалась к Шуре, и они начинали разбирать какие-то особые приемы вязания.
А я глядел в листки старой Кольшеной тетради, доставшейся мне по случаю отсутствия вообще какой-либо бумаги в школе и дома, и не видел мною же написанных цифр очередного арифметического примера.
Еще ничего не понимал я в девчоночьей красоте, но каким-то особым образом, интуитивно что ли, чувствовал её, и неотвратно был уверен, что Настя красива. А после её приходов, мне как-то приснился странный сон: большие черные глаза, полностью заслонившие взор, шире и шире распахиваясь, притягивали меня к себе, и я не мог противиться этому притяжению, барахтался в бессилии и как бы растворялся в той бездонной черноте. Утром, по дороге в школу, я обдумывал этот сон, чуть ли не заново страдая от того рокового бессилия, но только загонял себя в тупик нерешенных вопросов. Никаких мыслей о таинствах любовных отношений у меня еще не было. Да и не знал я ничего про те тайны и не пытался знать, хотя меня в школе и подразнивали первоклашки, когда я останавливался на переменах возле Лизы Клочковой: «тили-тили тесто – жених и невеста» – смеялись ребята, и Лиза кидалась на них, махая платком. Но ничего схожего с тем состоянием, какое охватывало меня при встречах с Настей, я тогда не испытывал.
Лиза держала моё внимание только, как соседка по парте, и наши отношения с ней были не больше чем дружеские. Когда она узнала, что мой отец погиб, то некоторое время пыталась отвлекать меня от горьких мыслей, нашептывая в ухо что-нибудь смешное, а в свободном общении или в играх всегда поддерживала. Да и я заступался за неё при случае…
Тогда же или чуть раньше мне приснился еще один жуткий сон. Я видел рукопашную схватку в окопах, четко, как наяву, и какой-то фашист, с оскаленными по-волчьи зубами, проткнул отцу спину плоским штыком. Я вздрогнул, онемев от ужаса, и даже проснулся, не понимая несколько мгновений, где нахожусь. И только после полного пробуждения, трепетно обкатывая в воображении тот страшный сон, решил, что, вероятно, все так и было – с неполноценной рукой, да еще правой, не шибко ловко сработаешь в рукопашной схватке. Отец и не смог вовремя отмахнуть беду… Казалось бы, какая мне разница, как он принял смерть – погиб и все, но не тут-то было: образ прошитого штыком отца еще долго преследовал меня, тревожа душу.
7
Всю ночь хлопьями валил снег, тихо и плавно кружась в черном волглом от нудных осенних дождей пространстве. Слепое однотонное утро едва проявило окрестности, размягчая непривычную их белизну слабым неощущаемым теплом…
Дед, сняв ружье с гвоздей и оглядывая его, обернулся ко мне:
– Сходим к охотнику, промнемся, а то засиделись. Пимы ему отнесем. Зима-то на носу, и может так завьюжить, что ни на чем в тот угол не проберешься.
– А чего он так далеко живет? – Я обрадовался возможности поглядеть и на новые места, и на охотника.
– Так промышляет – зверьё пушное ловит, в государство сдает, – объяснил дед. – Как умерла у него старуха, так и подался он в отшельники, хотя, говорит, в районе дом имеет, соседи за ним присматривают.
– Своих детей, что ли, нет? – все любопытствовал я.
– Два сына у него на фронте. Один вроде погиб.
Перед моим мысленным взором снова мелькнул тот страшный сон про отца, и я примолк…
Еще с неделю назад, когда я был в школе, тот охотник приходил к нам и попросил деда подшить ему валенки. И хотя до настоящих морозов было еще немало времени, дед подсуетился и дня за два управился с заказом.
Недолгие сборы, и мы, пройдя переулком, вышли в степное приозерье. Мутно, сонно, безветренно. Пару раз метнулись мимо нас пестрые стайки птичек-подорожников да далеко-далеко проскочила лисица и все. Блекло, пустынно…
Дед шел напористо, раздавая сапогами повлажневший снег. Я – за ним. Он нес в заплечном мешке подшитые валенки. Я – за спиной – пустую сумку и ружье. Приклад берданки свешивался до колена и постукивал по нему. Но я терпел эту легкую боль, гордясь доверием деда.
Размытые влажным воздухом дали, слившиеся с небом, плавающие в туманной мути леса, сонная степь…
Я уже начал уставать, когда увидел дымок в редколесье, а потом разглядел и небольшую избушку с неказистыми дворовыми постройками. Слева, насколько было видно, желтели тростники с белесыми лоскутами застывших плес, справа поднимался непроницаемый взгляду лес. Два крупных остроухих пса встретили нас далеко на подходе к зимовью, и мы замедлили шаги, опасаясь свирепых собак. Кто-то вышел из землянки, окликнул их. Псы сразу же вернулись во двор.
Охотник был высокий, седобородый, морщинистый. Он поздоровался с дедом за руку, заговорил. Я не стал вникать в их разговор. Меня заинтересовал двор с навесом и сараем. Там, под соломенной крышей, висели связки звериных шкур: от маленьких – белых и рыжих, до больших – красных и густо-серых. Я попытался угадать, чьи это шкуры: «Красные, понятно, лисьи – дед такую же добывал, серые, скорее всего, волчьи, а вот остальные чьи?»
– Внук, что ли? – услышал я охотника.
– Мой, – отозвался дед.
– Занимает? – Я обернулся. Охотник глядел внимательно. Глаза у него были добрые, и я кивнул.
– Пушнина сейчас, что золото. Мы за неё оружье покупаем заграницей. – Он глянул на берданку. – А ружье зачем? Сейчас в степи пусто.
– На всякий случай, – ответил за меня дед. – Звери вон у деревни рыскают.
– Да, волки лютуют. Даже днем как-то подходили к моему зимовью. Я одного подстрелил – псы придушили. Теперь приходится собак на ночь в землянку брать…
Сразу же вспомнилось летнее нападение волков на овец, и я поежился.
А дед вынул из мешка валенки.
– Пимы тебе принес, – протянул он их охотнику. – Залатал накрепко, дратвой, так что еще послужат.
Тот оглядел валенки.
– Пойдут, а то я за зиму одну пару совсем пронашиваю, не хватает. А тебе я за них рыбы накидаю. Карась густо ходит по перволедью, да крупняк. – Он взял лопату, сачок и стал спускаться к озеру. Мы – за ним. Собаки побежали сбоку, не отставая от хозяина.
Кацы – как назвал охотник плетеные ловушки, установленные еще с осени, были на втором, размашистом плесе, больше похожим на огромное поле с кустами камышовых островов. Охотник поскреб в приметном месте снег, обнажив соломенный мат, сдвинул его в сторону. Под ним, чуть ниже краев льда с торчащими кольями, темнела широкая прорубь. Охотник глубоко запустил в майну сачок и, вспучивая воду, поднял его. Желтыми слитками затрепыхались в сачке караси-лапти, упали в мягкий снег, отшлепывая хвостами агонию. Еще взмах – и снова караси-лапти, еще, еще…
– Пожалуй, хватит, – приостановил очередной замах охотника дед, – и так пуда два будет, больше не утащим. Лучше уж еще когда-нибудь придем, если погода позволит.
Охотник распрямился.
– Вдвоем унесете, а после без лыж ко мне не сунешься.
– У меня лыжи есть! – хвастанул я, загораясь тайной мыслью о возможном походе к охотнику в одиночку.
– Ну вот и приходи.
– Как же, пущу я его одного в степь, да еще и в такую даль. – Дед стал накидывать карасей в свой мешок. – Вдруг заметелит или зверье перехватит.
– И то верно, – согласился охотник, – погоду зимой не угадать: то мороз жмет, то в одночасье пурга завертит так, что белого света не видно. Да и зверья развелось много – опасно. А самому мне отлучаться надолго нельзя – избушка промерзнет, сырость полезет после топки, а её и так хватает. Того и гляди ревматизма подхватишь.
– Бросил бы этот промысел, – посоветовал дед и взял у меня сумку, чтобы наложить в неё карасей.
– О, это вопрос сложный, – охотник начал закрывать майну, – у меня сыны один за другим ушли на фронт. Старший погиб, а второй еще воюет. И я хоть как-то повоюю – лишний танк на мою пушнину купят – все подмога. Да и привык я охотничить – с малых лет с отцом по лесам лазил…
Меня тронул его довод. «Какой особый дед! – подумалось. – Себе бы так…»
Поблагодарив охотника и попрощавшись с ним, мы двинулись домой.
8
Мне повезло: дед не сжег и не истратил на цигарки старые Кольшины тетради, и я писал на них, пользуясь межстрочными пробелами. Ни новых тетрадей, ни новых учебников нам не давали – их попросту не было. Учились по старым, нередко истрепанным книжкам, передавая их из рук в руки. До трех человек стояли в очередь за некоторыми учебниками, и, чтобы выучить уроки, приходилось торопить друг друга, бегая по вечерам от одноклассника к однокласснику и отстаивая свое очередное право на тот или иной учебник.
Лиза как-то принесла на урок русского языка блокнотик, сшитый нитками из тонких берестяных листиков, а в чернильнице разведенную на воде сажу. Я удивился: как на этих листиках писать, да еще и не чернилами? Но оказалось, что можно: серые буквы на бересте вполне читались. И, с одобрения учителей, такие «тетрадки» стали носить все, у кого не было ни книг, которые можно было использовать для письма, ни газет, ни полуисписанных, как у меня, тетрадей.
Вероятно, и у Кольши в городе не было бумаги, так как от него с самой осени не приходили письма. Дед даже затревожился. Но председатель сельсовета – Полина Ильинична Кудрова успокоила его, сообщив, что дозвонилась в отдел кадров завода, где Кольша работает, и ей сказали, что с ним все в порядке.
Одно радовало: слухи о фронтовых успехах наших армий. Ван Ваныч даже принес однажды к нам на урок скрипку и проиграл какую-то бравурную мелодию.
– Это гимн нашей родины, – сказал он, оглядывая нас, – будем его разучивать и петь каждый день перед началом уроков.
Возражать учителю, а тем более директору школы, в то время было не то что не принято – запрещено, пусть негласно, но твердо. Как говорится, высказывать свое мнение о чем-либо было себе дороже.
Не радовало нас директорское нововведение, но, как оказалось позже, оно было и в районной школе. Исходила ли эта выдуманная необходимость от местных верхов или на уровне государственных масштабов – неизвестно. Мих Мих только заулыбался, выслушав наше недоумение по такой обязанности, но ничего не сказал.
А чуть позже, среди учеников, прошел слух, что всю затею с гимном выдумал Погонец Илья Лаврентьевич. Он где-то перед самой страдой вернулся с войны. Вроде бы по тяжелому ранению, но никаких признаков этого ранения не было заметно. Только хрипел он неприятно, и сразу же в деревне его прозвали Хрипатым. Погонец и до войны был председателем сельсовета и вновь воссел на место Полины Кудровой, обозначившись еще и партийным секретарем. Наши подозрения еще больше утвердились, когда однажды Хрипатый появился в школе перед самым началом уроков и до самого конца прослушал наше пение, одобрительно кивая головой. Возможно, и ему дали целевое указание на обязательное исполнение гимна перед началом уроков, неизвестно, но в следующем году мы его уже не пели.
Тогда меня и дернуло сказать Ван Ванычу, что я поигрываю на балалайке, и он нежданно-негаданно отыскал в школьном чулане мандолину, да еще и со всеми струнами. Медиатором послужила отломанная часть роговой расчески. И с того самого раза все бежали домой по окончании уроков, а я, под руководством директора, тренировался в игре на мандолине, разучивая гимн. К новому году мы с Ван Ванычем исполняли его дуэтом на удивление не только учеников, но и учителей. Он на скрипке выводил тонкую мелодию, а я – на мандолине усиливал её и расширял. И эта музыкальная практика как-то сблизила нас. И Ван Ваныч стал относиться ко мне с заметной теплотой. Да и я все больше и больше проникался к нему уважением. А потом мы пошли от гимна дальше: на иные мелодии, иной размах.
Не забывал я и балалайку: вечерами, когда все собирались в доме, я садился на табуретку, в прихожем углу, и наяривал на ней «подгорную» или «польку» на радость деда и матери. Даже Шура благосклонно относилась к моей игре.
И это увлечение музыкой отвлекало от тяжких мыслей и чувств, нет-нет да и окунавших меня в горечь невосполнимой потери.
* * *
Четвертый круг войны, пожалуй, был не только самым голодным, но и самым трудным в бытовом обиходе сельчан. Нехватка обозначилась во всем: не стало спичек, керосина, соли, исчезли из продажи и такие, казалось бы, малозначащие мелочи, как нитки, иголки, пуговицы, мыло… А как обойтись без них? Если в качестве пуговиц начали, по старинке, использовать палочки, а вместо спичек огниво, то нитки с иголками заменить было нечем, да и мыло тоже – выручал кое в чем щелок, приготовленный на древесной золе, но только – кое в чем. А одежда изнашивалась, рвалась, маралась…
Не у всех, конечно, и не сразу проявились те недостатки: у кого-то запасов оказалось больше или расходов меньше, иные раньше других перешли на жесткую экономию, но большинство сельчан оказались в глубоком провале. Выживали с горем, потерями, слезами, сердечной тоской…
Нам еще вместе с семенами проса привезли, по просьбе деда, с пуд соли, и мы её не расходовали, хранили в амбаре. Дед, по опыту давних лет, знал, что может наступить особо худое время, и пока соль была в магазине брал её там.
Сделал дед и лампадку из жести с трубкой от старой школьной ручки. Фитилем к ней стал свернутый из ваты от изношенной фуфайки жгут, а керосин наливался в пузырек от какой-то микстуры, валявшийся до этого в амбарном ящике. Хозяйственный дед хранил в том ящике не только разные железки и пришедший в негодность слесарный инструмент, но и всякую мелочевку, полагая, что в крестьянском подворье все может когда-нибудь пригодиться, и это не раз нас выручало.
Самодельный тот светильник горел не на лампадном масле, а на керосине, и заметно коптил. Дед и прозвал его коптушкой. Экономя керосин, коптушку гасили сразу же после ужина, и если на улице не было полнолуния или чистоты неба, наступала тьма-тьмущая. Деревня погружалась в непроницаемую черноту, поскольку керосиновыми лампами никто не пользовался из-за дефицита керосина, а электричества в деревне еще не было.
В этой давящей взгляд темноте в окнах отражался только снежный нанос в палисаднике да выделявшиеся на его фоне крестовины рам. Встретить на деревне человека в такое время было мудрено, даже собаки прятались по сеням или в закрытых сараях, побаиваясь возможного появления волков.
В такую рань для сна я сползал с полатей к деду на печку и затягивал его в разговор. Негромко, чтобы не беспокоить матушку и Шуру, устроившихся спать в горнице, он заводил какой-нибудь рассказ. А я, подкатившись к нему под бок, чутко ловил каждое слово, мысленно уносясь в то прошлое, которое воскрешал дед.
– Народ в нашей деревне водворился в основном из Тульской губернии, – как-то начал он. – Мужики, большей частью, мастеровые: плотники, бондари, шорники, слесари… Многие успели и коней купить, и пахотный инвентарь за деньги, выделенные государством на обустройство, но, не имея местных навыков и знаний о сибирском климате, не справились с посевами. Начались такие же вот нехватки с хлебом. А батька мой – Федор Алексеевич добрый шорник был, сбруи лошадиные шил, хомуты ладил. И мы тогда уже две лошади купили у местных киргизов – раньше казахов так называли. По Иртышу тут уже станицы казачьи были. Их основали служивые казаки. Может, подражая им, и стали киргизы казахами, но все переселенцы еще долго, до самой войны, звали местных соседей киргизами. – Дед примолк на минуту. – Так я про что начал-то? Не туда вроде загреб.
– Про хлеб, – дедушка, – что его не стало, – горя нетерпением, как выдохнул я.
– А-а… Вот и решили мы с братом Алешкой – он потом погиб в Первую войну с германцами, – в северные волости съездить, поменять там несколько хомутов и сбруй на муку или зерно. По слухам, там у них пашню давно подняли и пшеница отменно родилась.
Еще затемно навалили мы на задние сани упряжи, сколь отец дал, а на передних сами устроились и решили так: один правит лошадью и держит дорогу, второй, завернувшись в тулуп, или спит, или просто отдыхает. Через какое-то время – меняемся. Я, на всякий случай, берданку под сено сунул и три патрона в магазин вложил. Та берданка вон до сих пор у нас. Её батька купил еще в Туле, возвращаясь как-то домой с заработков. И сохранилась она при должном догляде. Да и стреляли мы из неё мало, от случая к случаю. – Дед вздохнул. – Попрощались мы с родными и в дорогу. Я – за вожжи, Алешка – в тулуп. Лошади сразу взяли накатный ход. Сани-то, считай, пустые. Мы да упряжь не тяжесть.
Пока поднимался рассвет – миновали два ближних поселения, а на восходе, как крепко захолодало, растолкал я Алешку, а сам в тулуп – греться. Да и уснул. Только к обеду, на постоялом дворе, что верст за сто был от нашей деревни, очнулся. Лошади у коновязи. Алешка им овса в торбы насыпает. Денек солнечный, с морозцем. Да нам молодцам он не помеха.
В избе у смотрителя перекусили – он нас даже травяным чаем подогрел – и в путь.
Проехали еще две деревни: хилых, бедных. Ни собак, ни людей. Будто вымерли все.
Лишь по легким дымам, кое из каких труб, можно было судить, что там кто-то живет.
Дорога потянулась малоезженая, и лошади сбавили ход. По обочине бугристые наметы пошли. Леса зачернели беспросветные. К вечеру добрались до какой-то большой деревни. Смотрю – дома крепкие. Всё рубленые, высокие, резные наличники в окнах, ставни. Зажиточные, стало быть, люди в них живут. А раз так, то с ними можно будет и про обмен поговорить. Едем по улице. Вижу, у одного из дворов мужик, в добротном полушубке, подметает снег. Остановились возле него. «Хозяин?» – спрашиваю. «Хозяин, – отвечает, – а что надо?» «Переночевать можно?» – задаю вопрос с ходу – за день-то езды мы подустали, назяблись. «А чего ж нельзя, – осматривая нас и наши возки, заявляет он, – коль люди добрые». И давай расспрашивать: кто, да что, да откуда? Я, по старшинству, и выложил ему все: Алешке тогда только двадцатый год шел, а мне уж двадцать два миновало.
Выслушав нас, мужик пошел к воротам, отворил. «Заезжайте», – кивает. И мы, не раздумывая долго, коней за узду да в ограду. Ограда крытая. Двор тесом-горбылем мощеный. Конюшни на заднем дворе. Мужик в дом, а мы распрягать лошадей. Пока канителились, он появился. «Не беспокойтесь, – говорит, – я лошадок напою, немного погодя, колодец-то вот он, в углу ограды, а то с дороги простыть могут, нагрелись, и овса в торбы насыплю. А вы проходьте в дом, проходьте». Удивились мы столь нежданному гостеприимству, но промолчали. На крыльцо – и, через просторные сенцы, в двери. Рушники, занавески, лавки с резными спинками. Под потолком лампа большая. Все чисто, аккуратно. Затоптались мы у порога, застеснявшись такой благодати. А из горницы вышла хозяйка грудастая, и дочка на выданье – миловидная такая. У меня даже озорные мысли игранули. Но отогнал я их. Жду, что будет дальше. А хозяйка засуетилась, приглашая раздеваться, заулыбались. Что к чему? Сомнение взяло. И я, чтобы не травить душу, напрямик и спросил: «Отчего, мол, такой ласковый приём?» Оказалось, что они из орловской губернии – наши бывшие земляки, даже из соседней с нами волости, и ближнего села. В Сибирь подались еще до указа по переселению, самовольно. Челдоны, значит. По – нашему: беглые, бродяги, ссыльные поселенцы. Прожив в Сибири, без малого, лет тридцать, они, в отличие от нас, недавно прибывших, успели добротно обустроиться. Ну, земляки – так земляки. Нас за стол, как жданных гостей. А на столе всякая еда мясная, рыба, ягоды моченые, грибы, хлеб в больших круглых булках… Такого мы не то что не ели – не видели. Нахлебались, нажевались мы вместе с хозяевами, выпили. Алешку и потянуло на веселье – про гармонь стал спрашивать. А играл он на гармошке отменно. Еще там, в России, научился он всякой игре у соседа. Встал хозяин из-за стола и в горницу – несет оттуда трехрядку. Алешка как увидел ту гармонь – вскочил, глаза загорелись. Растянул он меха и пошел наяривать что-то залихватское – душа загорелась. В избу молодежь повалила. Девицы – «кровь с молоком». Парни тоже такие, что поленом не сшибешь. У меня, внук, без малого два метра будет и силенки бог дал за двоих, но ввязываться в ссору с теми парнями я бы не стал. И понеслось веселье, вечерки устроили. Выдал и я, по плясовому приглашению хозяйской дочки, цыганочку с выходом. Да так, что все притихли. И то – знай наших…
Я, как не прикидывал, не мог представить деда пляшущим. Это с его-то ростом и характером! Даже не поверилось. Но дед никогда меня не обманывал и откатал я назад свое сомнение.
– Почти до самого утра веселились, – продолжил он, – нас даже уговаривали еще остаться, а хозяин заявил, что за всю жизнь таких жарких вечерок не видел. Но я понимал, что в той веселой карусели и потеряться можно, и не на один день, а дома три сестренки и отец с матерью сидят без хлеба, ждут, тревожатся. И как не отрадно было – отказался от приглашений.
Утром наменяли мы пшеницы по деревне и домой. Груженные мешками сани не то что полупустые, и дорога вязкая. Лошади шли шагом, и к вечеру мы только добрались до первой глухой деревни. Подъехали к крайней избе, чтобы перекусить в тепле и, по возможности, попить чаю. Мужик с бабой и пацаном коротают вечер на печке. Ничего, разрешили поесть за столом. Хозяин и говорит: «Ночуйте у меня, а днем поедете. Тут перегон верст тридцать, сказывают – татары пошаливают…» Оглядел я их избенку – неуютно, да и лошадей некуда пристроить: двор голый – раздолье для конокрадов. «Нет, – говорю, – ждут нас, и ночь светлая, поедем потихоньку». А сам про берданку вспомнил и, садясь на задние сани, зарядил её на всякий случай.
Дремал, дремал, а не спится, тревожно как-то, предупреждение мужика на ум всплывает. А ночь лунная, без тучек. Обзор широкий. Вижу – из-за леса вынырнула повозка, а за ней двое верховых. Как же, думаю, мы разминемся? Колея узкая, а на обочине снег лошадям по брюхо, увязнем напрочь и кричу Алешке: «Придержи лошадь и не слезай с саней!» Решил, что встречные налегке, объедут, да и четверо их, и верховые – вытянут, если что. Сам за ружье, жду, что будет дальше. А те, в санях, почти вплотную подперли нас. Один из них, спрыгнув на дорогу, подскочил к нашей лошади и под уздцы. Верховые закружились сбоку, что-то затараторили не по-русски. Понял – татары. Я вскинул берданку, оттянул затвор и заорал во все горло: «А ну отринь от лошади, а то шкуру продырявлю!» Чужак откачнулся назад. Чуть в снег не сел. Держу его на мушке, а сам краем глаза слежу за верховыми. Один из них вдруг резво взмахнул рукой и меня, как ветром сдуло на другую сторону воза. Удар ногайкой пришелся по мешкам. Не ожидая повторения, я выстрелил вверх, над головой верхового. Вздыбилась его лошадь и в намет от саней, даже снег завихрился под копытами. Понесся за ним и второй. И ездоки, в санях, заторопились в объезд. А тот, что сидел сзади, хотел дубинкой меня достать, да мешки помешали. Я передернул затвор – берданка-то у нас с магазином, и еще раз грохнул поверх их лошади. «Хитрый, твоя мать!» – только и услышал я, глядя, как их лошадь выметывается сзади нас на дорогу. Минута, две и они растаяли в лунной мути.
А на другой день, к вечеру, мы, без всяких происшествий, были дома. – Дед примолк и повернулся ко мне спиной.
Вмиг вообразилась ночь, такая же светлая, как при охоте на волков с поросенком, дед на мешках пшеницы, верховые в полушубках…
– Дедушка, – тихонько позвал я, понимая, что рассказ окончен. – А ты бы застрелил человека, если бы они все разом на вас напали?
– Тогда бы вряд ли, – отозвался он уже вяловатым голосом. – Хотя, смотря, как таковое сложилась. За свою и брата жизнь не перед чем бы ни остановился. Вот так-то, а теперь давай спать.
Вздохнув, я полез к себе, на полати. Но те события, о которых рассказал дед, еще долго рисовались в моем полусонном сознании.
9
Морозы и нужда прижали так, что люди из домов выходили лишь по крайней необходимости: накормить и напоить скотину да дровами запастись. Даже в колядки никто не бегал – подавать было нечего…
В школе сидели одетыми. Тепла от круглой печки не хватало, и руки зябли. Писать было невозможно, и мы осваивали только устный счет да чтение. И так больше месяца.
Теплом повеяло лишь к концу февраля. Поголубело небо, посветлели дали. Поплыли по снежному насту солнечные разводья. Зазубрились от сосулек карнизы домовых крыш по южной стороне. Оживились воробьи и синицы.
И хотя в деревне не было ни радио, ни газет, ни других источников информации, отрадные вести с войны к нам все же доходили. Чаще всего их узнавали или через сельсовет по единственному в деревне телефону, или из писем фронтовиков к родным. В такие моменты меня охватывали двоякие чувства: с одной стороны, теплилась надежда, что война скоро кончится и наступит другое время – более сытое и спокойное, с другой – надежда на возможное возвращение отца таяла, как тот снег под наступающей весной. И ходил я с не редкой грустинкой в глазах.
После рассказа деда о поездке в северные края за хлебом, меня долго жгла мысль о гармошке. Я и деда подстрекнул к той затее, и Шуру уговорил поспрашивать подруг и одноклассниц про гармошку. Но все напрасно – гармонистов в деревне было раз-два и обчелся, да и те воевали. А гармошки их берегли как святыню, не подступиться. Даже у погибших. И Ван Ваныч развел руками, когда я ему сказал о своей мечте.
– Чего не достать, так недостать. Гармошка – инструмент дорогой во всех отношениях: и по деньгам, и как память. Я знаю, что у Сусляковых хозяин погиб на фронте, и гармонь у них осталась, да Федя сам учится играть, не даст. Я разговаривал с его матерью, чтобы вы вместе гармонь осваивали, да она замахала руками: «Не, не – испортят!» Не подступиться.
– А как вместе? – не понял я.
– Ходил бы к ним вечерами и учился…
И все же Ван Ваныч отвлек меня от той мечты: на одно из наших занятий музыкой он принес гитару и немного поиграл. Меня и бросило в азарт: освоить гитару! Загорелся, да не тут-то было: пальцы мои еще не доросли до гитары, и пришлось только глядеть, как Ван Ваныч играет, да слушать.
– Не горюй, – утешал меня он, – через пару лет дотянешься и до её струн. Научу тебя, что сам умею.
Так оно потом и вышло.
А на вечере, посвященном женскому дню, я сыграл на мандолине «коробочку» и русскую плясовую, и удачно, что еще больше подтолкнуло меня к занятию музыкой.
Чаще и чаще стал я оставаться в школе после уроков, и, хотя чувство голода отзывалась сосущим нытьем под грудью, пытался постичь гитарные приемы. Пусть в малой толике, больше зрительно, чем теребя струны, но все же с пользой, пошагово двигаясь к заветной игре.
А весна катилась в разворот. Осели сугробы, наметенные у заборов и палисадников, на дороге и в низинах заблестели лужицы, ощутимым теплом повеяло из степных далей. Вот-вот должны были появиться жаворонки на припеках, а за ними и лебеди, оглашая свой восторг трубными криками. И впервые за все четыре года лихолетья мы не лепили и не пекли жаворонков – не из чего было. И даже этот, казалось бы, маловажный факт нагонял тень на радость, дающую нам оживающей природой.
С разрешения Ван Ваныча я стал брать мандолину домой и наигрывать слышимые мною раньше мелодии известных песен. Даже матушка, занимаясь хлопотами по кухне, заводила иногда эти песни, подпевая музыке. А я старался играть что-нибудь веселое, чтобы и её хоть как-то вернуть в радостный настрой, а то она с того рокового извещения совсем перестала улыбаться. И дед как-то начал: «бывали дни веселые – гулял я молодец» – и я довольно быстро поймал эту мелодию, и вышло у нас азартно и в лад. И после мы нет-нет да и заводились в том веселье.
* * *
Еще по дороге в школу я не то ощутил каким-то образом, не то уловил зрительно и на слух особое состояние раскрывшегося утра. Было тихо-тихо, как в замкнутом пространстве. Такие немые дни выпадают раз в год и то не всегда. У меня даже стало звенеть в ушах от той необычности. И удивительно, не только близлежащее окружение, но и дали казались спящими, хотя солнце как бы играло всеми жаркими переливами. Такую «игру» я видел всего раз, на Пасху, специально просидев с Пашей до восхода и проверяя утверждение взрослых, что солнце на Пасху играет. И действительно, тогда, в наплыве светила на окоем, плескались такие переливы красно-желтых тонов, что завораживало и ослепляло – взгляд растворялся и тонул в том необычном свечении.
Я вглядывался и вслушивался в немоту яркого утра, но ничего и никого не заметил и не услышал.
И вдруг в эту убивающую слух тишину, в этот восторг ослепительного утра, в притаившуюся негу проникла какая-то тонкая мелодия. Я даже приостановился, подумав, что мне она почудилась из-за глухого напряжения, но нет – ясно угадывалась какая-то последовательность в наплыве той мелодии. И я заторопился, удивляясь: откуда она взялась? Никогда прежде я никакой музыки в деревне не слышал, и вот на тебе. А звуки все усиливались с моим приближением к школе, и ясно прослушивались тонкие, переливчатые, взбадривающие, поднимающие душу в залет к этому полыхающему от солнечного разлива небосводу, в синеву глубокого размаха. И когда я был уже у школы, то понял: музыка льется именно оттуда. «Что к чему?» – подумалось в удивлении.
В распахнутом окне, на подоконнике, стоял патефон, и от него исходили чудные звуки. В ограде я увидел толпившихся учеников и снова удивился. А Паша, вынырнув из той толпы навстречу, как выдохнул:
– Все! Война закончилась!
Меня не то что не обрадовало это обвальное известие, не удивило: в последнее время, едва ли ни с начала апреля, взрослые только и говорили о конце войны. По этому поводу дед даже «распечатал» запасы муки, и мы пекли лепешки без хлопкового жмыха.
Говор, суета. Вышел во двор Ван Ваныч, радостный, улыбчивый, и загнал всех в школьный коридор, в котором за неимением клуба и кино кое-когда ставили, и вечера отдыха проводили, с песнями и танцами (еще было кому танцевать, еще не успели уйти на фронт парни семнадцати-восемнадцати лет, еще выбирали женихов девчата, их ровесники).
Ван Ваныч и заявил нам о победе и окончании войны и отпустил всех домой.
Бежали мы гуртом от школы. Каждый к своему двору, к своей радости или возвратной печали. А мы с Пашей, определенные судьбами в безотцовщину, свернули в лес в намерении полазить по сорочьим и вороньим гнездам. Да и как-то сгладить на природе ожег долгожданного известия, с радостью и болью прокатившегося по нашим душам.
Дальше и дальше отплывала от меня надежда на возможное возвращение отца. Круг войны замыкался. Впереди высвечивалось что-то иное, новое, а каким оно развернется – я даже представить не мог.
Послесловие
К концу лета стали возвращаться фронтовики. Оживилась деревня, забурлила где всплеском счастья, со слезами радости, а где и сжимающим душу плачем. Полуголодными и полураздетыми встречали своих героев сельчане. На последних крохах заводилось веселье: знали люди, что с возвращением кормильцев им уже ничего не угрожает.
Надежда на добрую жизнь засветилась, как никогда. Ведь такое зло одолели, такие страдания прошли!
Едва ли не первым вернулся домой Петруня Кудров – сын бывшей председательши сельсовета Полины Ильиничны. Его привезла из райцентра на подводе почтальонка Дуся Новакова. Она и сообщила об этом кому-то из первых встречных, да еще и про то, что Петруня привез себе трофейный аккордеон, и пошла эта новость гулять по деревне. Потянулись люди к дому Кудровых посмотреть на фронтовика и на его трофей.
И ко мне пришел Паша – стал звать на «смотрины». Поколебался я немного, опасаясь охвата тревожных мыслей про отца, да любопытство одолело. Побежали мы в намет на соседнюю улицу.
У дома Кудровых – ребятня да молодые женщины. Оттесняя друг друга, они заглядывали в окна, балагурили с веселыми лицами, чему-то удивлялись.
Мы с Пашей не стали топтаться в общей толкотне, а остановились у ограды. В доме, видимо, шло гулянье. Из открытого окна слышались возбужденные разговоры, смех. По голосам угадывался и Разуваев, и Хрипатый, и еще кто-то из тех мужиков, кто по старости или по болезни не был призван на фронт. И то ли Петруня решил показаться на глаза всем землякам – вот, мол, я каков, то ли похвастаться перед ними наградами и аккордеоном, или просто проветриться. Он вдруг вышел на крыльцо, как мы поняли, с тем самым аккордеоном, в гимнастерке и галифе, в начищенных до блеска сапогах, на груди медали в блестках. Толпа притихла, а Петруня присел на табуретку, кем-то вынесенную, и заиграл. Полилась мягкая и плавная мелодия, настолько благозвучная, что я замер в сладком изумлении, почти реально ощутив её отзвуки в груди. Показалось даже, что сердце задрожало созвучно той мелодии.
Притихли все, даже озорная ребятня. А Петруня, склонившись к белым мехам в перламутровых переливах, негромко запел: «на позицию девушка провожала бойца» – да так душевно, что стоящая рядом с нами женщина принялась утирать глаза концами накинутого на шею платка.
Мы с Ван Ванычем эту песню играли дуэтом: он, как всегда, – на скрипке, я – на мандолине, но разве можно было сравнить нашу игру с певучестью аккордеона.
– Вот это гармошка! – как выдохнул Паша с неподдельным восторгом.
Но я даже поддакнуть ему не смог – так околдовала меня музыка. «Вырасту – куплю себе такой же», – полыхнула искрометная мысль.
А из дома стали вываливать люди. Их громкий говор гасил и очарование песни и душевный трепет. Началась пляска уже под другую мелодию. И смотреть на чужую радость как-то не захотелось, и я потянул Пашу в сторону.
– Идем, чего глядеть на пьяных. – И мы побежали в ближний переулок.
* * *
А мужики продолжали возвращаться с войны пусть не гурьбой, не один за другим, но заметно, и деревня гуляла. Радовались жены, встречая мужей, кого с ранениями, а кого и в увечьях: не помеченных вражеской пулей или осколками, штыком ли – почитай не было; радовались дети, узнавая отцов; радовались матери, обнимая сыновей. И растянулась эта радость встреч ни на год и ни на два, а почти на все пять. И хотя ожидания на более емкую жизнь не оправдались и гуляли уже не с таким счастливым азартом, но все же. Не думали сельчане – не гадали, что дальше – больше навалятся такие трудности, которые придется разводить с большими муками, разочарованием и даже злом.
Книга вторая. Мурцовка
Предисловие
Дальше и дальше откатывалась победная эйфория. Поутихли, связанные с войною, тревоги и горести утрат, и если в первое время светилась надежда, что власти дадут возможность победителям пожить не только в семейном, но и в социальном тепле, то год от года она таяла. Потянулись годы тяжелейшего противостояния разрухе – житейские тяготы стали давить едва ли не сильнее, чем в военное время. И длились эти невзгоды без малого лет десять. Сибирь спасала Москву в роковом сорок первом, теперь она спасала едва ли не всю европейскую часть страны от голода. Выгребалось все подчистую – вплоть до половины семенных запасов пшеницы. И если то, что надевалось, еще кое-как чинили-перечинивали, удерживая от полной ветхости, то с едой было настолько гибельно, что временами приходилось жить впроголодь или даже голодать. А в многодетных семьях, в которых из кормильцев осталась одна мать, появились и случаи детских смертей.
Труднее всего приходилось пережидать затяжные весны, когда, запасенные на зиму, продукты заканчивались, а до зелени – крапивы и лебеды, из которых готовили постные щи без какой-либо приправы, – было еще далеко. В общем, как говорится, хлебнули мурцовки – помаялись до последнего терпения…
Истаял еще один послевоенный год, но мало что изменилось в сельской жизни: те же весенние заботы о посевной, тот же сенокосный угар и та же заполошная страда осенью. Только зимой притихала трудовая тревога и то не везде – управа со скотиной давила. И самое неприятное, со слезами и сердечной тоской, наступало время окончательного расчета по продовольственному налогу, который тянул едва ли не все нажитое и поднятое трудами за год: летом надо было вынести на молочный пункт (по простому – молоканку) триста восемьдесят литров молока при жирности более четырех процентов. А если учесть, что молоко с такой жирностью природная редкость (обычно – не выше трех с половиной процентов), то приходилось отдавать в государство литров пятьсот. Особо удойных коров тогда в деревне не было и от надоев оставалось себе едва ли половина. За лето надо было сдать и сотню куриных яиц. А в предзимье забивалась скотина: чаще всего текущий приплод от коровы (теленок сеголеток) – мясо которого тоже почти полностью сдавалось (налог был сто килограммов, а теленок не всегда тянул больше). Держать же разрешалось только одну корову. Иметь свинью запрещалось. Запрещалось русскому человеку иметь в личном хозяйстве и лошадь. Кроме того, в налог требовалось два килограмма овечьей шерсти и две овчины. В общем, как говорится, хлебнули мурцовки – помаялись до крайнего терпения…
Только в 1954 году были сняты с деревень всякие продовольственные налоги и ограничения на количество дворовой живности, а в 1955 году началась паспортизация сельского населения. Раньше паспортов в сельской местности никто не имел – запись в журнале сельского совета и все, и понятно, что без паспорта человек не мог ни уехать, ни сменить место работы. А если прибавить к тому еще и ограничения в собственности, весомые продовольственные налоги и силовую коллективизацию с её беспощадностью, ссылками и расстрелами, то как не подступайся, с какой стороны и под каким углом не гляди, выплывает, что крестьяне без малого сорок лет жили в жестких рамках социального насилия. Лишь с окончанием паспортизации как-то распахнулись горизонты полноты жизни. Живи и радуйся…
Часть первая
Глава 1. Жареное-пареное
1
Редкие и плоские, словно льдинки, облака пристыли к высокому, чуть подсиненному небу, до белизны размытому по окоему. Края их золотились в лучах низкого солнца и обжигали взгляд. Тихо, пустынно, вяло…
Шура торопилась, широко шагая, и я едва поспевал за ней, не без усилия поднимая латанные, не по ноге, валенки в галошах. До баз, чернеющих у самого леса, еще было двигать да двигать ногами. А скрюченные пальцы, удерживающие эти бахилы от ерзанья на голых ступнях, начали ощутимо деревенеть. И рад не рад я стал тому, что напросился к Шуре на дойку. Велика получалась цена любопытству – нахватаешь натертых волдырей и до конца каникул из дома ни шагу.
– Шевелись! – Шура оглянулась. – А то опоздаем – попадет из-за тебя от девчонок. Говорила – не ходи, увязался…
Я знал, что это она так, для порядка, сердится, но попытался прибавить шагу.
Ей, длинноногой и в обуви по размеру, идти не в тягость, а мне гнаться следом – маета, да и шестнадцать лет – не двенадцать, попробуй – сравняйся…
Два года назад Шура закончила семилетку, но учиться дальше ей не пришлось – и не в чем, и не на что. И в город её Хрипатый не пустил, отказав в справке с места жительства – работать, видите ли, в колхозе некому будет, если все в город кинутся. А без той справки нет человека. И Кольша год назад, прямо из города, ушел в армию. Ему не разрешили даже приехать в деревню – так и не простился он с нами…
Выше и выше поднимались базы перед глазами, задавленные с боков желтеющими, от натерянной соломы, сугробами, с шаткими двустворчатыми воротами, с лохматившимися хворостом крышами. Глубокие унавоженные тропки, пробитые к ним, тоже желтели.
Шура свернула на одну из них и повела меня к маленькой кособокой избушке с единственным квадратным окном, толкнула дверь. Лицо обнесло теплом, запахом парного молока и нагретого железа.
У стола, на скамейке, сидели: Маня, известная мне с давней ворожбы, как Мока, и Настя – Шурина душевная подруга и моя симпатия, а с ними, возле печки, тетя Таня Стебехова. Темновато, убого.
– Ты че так долго? – спросила Маня, лениво оглянувшись на скрип дверей. – Мы и печку затопили, и убираться пора. – Она щурила черные блестящие глазищи. – А этого зачем привела?
Шура потянулась руками к печке.
– Пусть поглядит, не помешает. – Она блаженно улыбнулась, касаясь нагретых кирпичей.
Я притулился к бревенчатой стенке, в уголок, робея: вдруг прогонят.
– Успеется. – Это уже тетя Таня вмешалась в разговор на правах старшего. Она глядела ласково, внимательно, бледное испитое лицо ее, с широкими разводами морщин возле глаз, посветлело. – Поглядит и поможет. Дел у нас не перечесть – найдет себе занятие под силу.
Была тетя Таня в истрепанной фуфайке, по плечам и рукавам которой кое-где торчали клочья ваты, в разбитых кирзовых сапогах, каких-то непонятных штанах-стеганках. Из давних разговоров я знал, что у нее погиб муж, а младший из троих сыновей – Ванятка умер прошлой осенью, наевшись с голодухи каких-то ядовитых ягод здесь же, в лесу, у скотного двора. Помнился он, лобастый, всегда улыбчивый, спокойный, и почему-то, встречаясь иногда с тетей Таней по соседству, я всегда прятал взгляд, будто был виновен в смерти Ванятки…
– А вырастет, – все поглядывала на меня тетя Таня, – глядишь и расскажет про нашу каторгу. Учится-то он, говорят, на одни пятерки…
Девчонки переглядывались с загадочными улыбками, рассматривая меня с некоторым интересом. Даже Настя поднимала как наведенные сажей дуги бровей в удивлении, словно впервые видела моё лицо, хотя частенько приходила к Шуре и все пощипывала меня за бока да поглаживала по голове, алея полными губами в трогательной улыбке. Да и слова ее не раз вгоняли меня в краску. Какие-то волнительные чувства охватывали душу, как появлялась у нас Настя…
Маня вдруг встала:
– Вы, как хотите, а я пойду, а то ребята вот-вот явятся.
– Все сейчас пойдем, – опять осекла ее тетя Таня. – Кто сегодня поит? – Она поднялась, кинув руку на поясницу.
– Моя очередь. – Шура отпрянула от теплой печки.
– Тогда пошли…
Я отшатнулся в уголок, пропуская девчонок вперед.
– Ну, как дела, жених? – Настя легонько тронула кончик моего носа. Он, как на грех, был чуточку влажным. – Гляжу – растешь.
Сердце мое трепетнулось, жар пошел в голову.
– Ну, давай расти, да быстрее, а то замуж охота. – Она прошла шустро, обдав меня запахом распахнутой одежды.
– Ха-ха-ха, – закатилась Маня, вываливаясь наружу. – Палец-то хоть от соплей вытри… – Она еще что-то говорила, но дверь захлопнулась.
Я стоял со звоном в ушах, с горечью в сердце.
– Дуреха, – посочувствовала мне Шура, заглянув в глаза. – Ты её шибко не празднуй. Она всегда такая – обидит и здесь же ластится. Пошли.
Выйдя за дверь, я обернулся, ловя взглядом алый закат. Над солнцем висел золотистый столб, предвещая холод. Слабый ветер натягивал из лесов сизую мглу, гася в ней четкость очертаний знакомых далей и деревенских дворов. У ворот ближней базы я увидел запряженного в покореженные сани однорогого быка. Возле них стоял Федюха Сусляков. Он что-то сказал Мане и хлопнул ее по заду. Та зычно расхохоталась и толкнула Федьку в сугроб.
Было в их грубоватой игре что-то залихватски-задорное, и завидно стало: так вольничать с девчонками я еще не мог.
– А ты чего тут? – спросил Федюха, поднимаясь из сугроба и отряхивая с ветхой фуфайки снег.
– Пришел Шуре помочь.
– Нет бы нам. – Он поглядел Мане вслед, унырнувшей в темную базу. – Мы вдвоем с Васеком и навоз выгребаем, и сено подвозим.
– Жидковат еще. – Тут как тут вывернулся из-за ворот Васёк Вдовин. – Пусть подтянется до нашего…
Я обошел их и шагнул в темноту базы. От острого запаха коровьего стойла засвербело в носу, глаза защипало.
– Ты бы не ходил сюда, в сырость, – услышал я Шурин голос и остановился.
Под крышей чирикали воробьи, прилетевшие на ночевку. Вдоль стен базы копились густые тени. Сквозило.
Девчонки покрикивали на коров, разойдясь по клетушкам, сгребали навоз к общему проходу.
– Постой вон с ребятами, – снова посоветовала Шура, ловко орудуя вилами в первом от дверей ряду клетушек.
Я развернулся, но проход загородили сани, которые понуро волок вроде бы безразличный ко всему бык.
– Раздайся назем, – заорал Федюха, – навоз ползет!
Мне стало неловко за свою неприкаянность, и я спросил Шуру:
– А лопата у тебя есть?
– Возьми вон у стояка, да осторожно: под корову шибко не суйся – они сейчас, как звери, голодные, зашибить могут…
Убирать навоз – дело знакомое: дома с ним каждый день приходится возиться, и затянулся я в привычную работу. От полумрака базы, от едкого запаха повели меня мысли к последним дням давних каникул.
– Но, раскорячился! – услышал я Васьков окрик на остановившегося напротив нашей Клетушки быка. – Всегда норовит в базе опростаться…
Я откачнулся, выпрямляясь, окинул затуманенным взглядом базу. Ребята собирали кучки навоза в емкое корыто розвальней. Васёк ломался в коленях, поднимая тяжелые его ошметки на вилах. Бодрись не бодрись, а силенок еще не накопилось в пятнадцать-то лет. Да и копить их не с чего – на одной картошке жизнь держалась…
– Поможешь поить? – услышал я и Шурин голос и заторопился за нею на свежий воздух.
Похолодало. Мороз зазнобил лицо и коленки, защекотал шею.
За деревней, во всю ширь распахнутого неба, горели сполохи зари, пробивая понизу загустевшие леса разводьями тусклого света.
Высокий колодезный ворот выделялся в редких еще сумерках массивными стояками и кругляком с бадьей. Широкая и длинная колода, наполовину вросшая в грязную от помета наледь, лежала рядом с ним.
Шура взяла ломик, стоявший у ворота, и начала скалывать лед со стенок колоды.
– Дай мне, – не утерпел я: стоять было холодно.
– А в ногу не загонишь?
– Не маленький! Да и в пимах, если что…
Ломик хотя и был неказистым, но ощутимо дергал руки, тычась невпопад, скользил по обледенелым стенкам. Пришлось приноравливаться и мало-помалу я освоился с немудреным делом. Шура тут же отошла к колодцу. Искоса я заметил, как она принялась сдвигать с его обледеневшего сруба массивную крышку. Квадратная и тоже вся в наледи крышка со скрежетом подалась в сторону, открыв черноту колодезного зева. Шура, придерживая ворот за ручку, стала спихивать в колодец емкую, в пару ведер, бадью. Деревянная, в ледяной рубашке, она не поддавалась ее усилиям. Я изловчился и ткнул ломиком под бадью, налег на него, как на рычаг. Грузная емкость скользнула к черному зеву колодца и глухо ухнула в него. Шура стала быстро травить лязгающую на вороте цепь, а я, привстав на цыпочки, заглянул вниз. Окантованная толстым ледяным слоем дыра уходила далеко в головокружительную глубину. Там где-то плеснулась вода от упавшей бадьи. От недосягаемой взору пропасти в груди похолодело, и я откачнулся, держась за ломик. Шура, чуть ли не повисая на гнутой ручке ворота, стала накручивать вытянувшуюся цепь на его кругляк, и она дробила тонкий ледяной налет на кругляке, наматываясь на него с нытьем и скрипом.
Скользнув по наледи, я принялся руками выкидывать из колоды ледяное крошево.
Показалась блестящая от влаги бадья, плеснула серебристой водой на горбыли, наполовину закрывавшие сруб колодца. Шура выдернула из стояка ворота железный прут и застопорила им вертлюг. Двумя руками, сгибаясь дугой, она поволокла бадейку к краю колодца и опрокинула по наклонной доске. Игривая вода хлестанула по колоде, но не дошла до ее края.
Темнели дали, леса. Тускнело небо. Крепчал мороз. И казалось, что мы одни в этом блеклом пространстве, и никому не нужна наша канитель у колодца, и мы никому не нужны…
И тут, торопясь, подошла тетя Таня.
– Чего одна тужишься?! – строго вскинула она глаза на Шуру. – Разве можно?
Здоровье положить не долго, потом его не выправишь…
Вдвоем у них дело пошло скорее. Вода быстро поднималась к краям колоды.
– Хватит пока, пойдем отвязывать. – Тетя Таня утерла лицо концом платка и с трудом разогнулась. – Лежачим пусть девчонки таскают…
Ноги у меня застыли, и я заторопился в темный проем дверей базы.
В базе держался отсвет от двух керосиновых фонарей, подвешенных на столбах, и видно было и клети, и коров… Тени метались по залосненным стенкам, по желтым жердям, соломенной крыше.
– Отвязывай с этого края, – сказала мне Шура, махнув рукой вправо. – Да остерегайся. Они сейчас пить рванут, затоптать могут…
Открыв ворота первой клетушки, я смело шагнул к худой, с выпирающими ребрами корове. Цепь, до блеска вышарканная о палки яслей и сено, легко снялась с широких рогов. Корова резко мотнула головой, едва не зацепив меня, и, круто развернувшись, выскочила из стойла. Вторая корова, почти безрогая, лежала. Глаза ее были тусклые, бока ввалились.
– Эту не трогай! – крикнула Шура. – Ей на руках воды принесем.
– А чего? – не понял я.
– Слабая, не встает. – Шура суетилась, гнала коров к выходу. – Пока четыре у нас таких, а по весне половину за хвост поднимать придется: корма-то почти не осталось.
Гуськом, горбатясь, шли коровы на мороз, к колоде с водой, теснились возле нее рядами. Я стоял и смотрел, как они медленно цедили темную, в снежных икринках, воду, жгуче холодную, отдающую илом, и ежился в мнимом ознобе.
Показался возок с сеном. Федюха с Васиком медленно шли за ним, усталые, с повисшими в бессилии руками. В желто-белом, с прозеленью, сене торчали вилы.
Из ворот базы показались девчонки с ведрами. Они направились за водой для немощных коров.
– Ну как, жених, уморился? – Это опять Настя меня зацепила. – А мы каждый день так, да по три раза…
– Шел бы ты в базу, – легонько толкнула меня коленом Маня.
– Давай с нами, – позвал Федюха, – у травы теплее…
Из лесов накатывались сумерки. Первые звездочки зажглись за деревней. В ближней базе заблестели окна – там тоже зажгли фонари.
Возок медленно, рывками, двигался по проходу, и ребята спихивали вилами сено на ту или другую сторону саней. Несколько кучек уже темнело вдоль базы. К острому запаху навоза прибавился запах сена, чистый, дразнящий.
– Вот учись, – с какой-то ноткой обреченности сказал Федюха, – быкам хвосты покрутить всегда успеешь, быстро руки вывернут. На себе вот испытал. Нам-то теперь куда соваться, засупонились – тут и застолбят до армии, а ты, говорят, башковитый…
Слушал я его и жалел, понимая, что тяжело ребятам в скотниках с этих-то лет, но такова обстановка и установка, как сказывал дед, переживая за Шуру.
Шура вернула меня к действительности, крикнув:
– Сейчас скотина побежит назад, сторожись, а то стопчут!
Я притаился недалеко от нее, поглядывая на затемневший проход в полуоткрытых воротах. В нем показались первые коровы, и Шура кинулась направлять их в клетушки, забегала туда-сюда, замахала руками.
– Уйди лучше с дороги! – Это она мне снова крикнула, заметив мое стремление помочь ей. – Все равно не знаешь, куда какую ставить!
Пришлось отпрянуть в уголок, за клетушку.
Крики девчат, чавканье навоза под копытами сопевших в недовольстве коров, лязг надеваемых на рога цепей…
Встрепенулся где-то воробышек под стропилом, разбуженный этим шумом, и затих, и каким-то бутафорским показалось мне это оплывшее полумраком пространство, голоса в нем, тени, запахи… Будто игра какая-то или сон. А может, сном была та недавняя жизнь? Похоронка на отца. Победные веселья по возвращению фронтовиков… Мысли, мысли…
– Помоги сено распихивать по яслям, – тряхнула меня за плечо Шура, – закостенел поди. – Она набрала увесистый навильник и потянула в первое стойло.
И я заторопился, набирая охапку шелестящего сена, пахнувшего летом и озером.
Корова валила с ног, тычась мордой в сено. Рога ее опасно мелькали перед лицом.
Не без труда запихал я поноску в ясли и кинулся за другой охапкой, для другой коровы… Грелась спина, грелся затылок, грелись ноги. Мысли гасились, не успев вспыхнуть… Шло время, венчалось дело…
Закончив таскать сено, я снова притаился у ворот клетушки и стал глядеть на тусклые огни фонарей, на движущиеся по стенам тени от коров и доярок, на большие сани с флягами, появившиеся откуда-то. Слышался хруст поедаемого коровами сена, тяжелые их вздохи, тугие удары молочных струй в ведра, бряканье фляжных крышек, тихий говор. И снова раздумья: уедут большие сани с флягами, наполненными свежим молоком, к приемному пункту. Перегонят на сепараторе это молоко в сливки и – в райцентр. А там, на маслозаводе, собьют из сливок масло, которое пойдет неизвестно куда и кому и почему не нам? Ел я кашу с маслом в первый год войны, когда у деда еще кое-какие запасы были, – вкуснятина. Когда теперь еще придется пробовать такую?..
Занесло меня в кружеве рассуждений в путаницу мыслей – голова затяжелела и в глазах зарябило.
– Иди в избушку, – вынося из клетушки очередное ведро с молоком, крикнула Шура. – Там Настя. Я сейчас закончу.
С чувством сладкой обреченности, с дрожью во всем теле, возникшей вдруг не то от усталости, не то от волнения, побрел я из базы.
Ночь. Мелкие звездочки над головой, да редкие огоньки по деревне. Привычно заныло под ложечкой: чувство голода потянуло на муку, сминая все мои светлые мысли.
Тускло желтело окно избушки. Притаивая дыхание, я толкнул двери.
Настя развязала шаль, и пушистые ее волосы закрыли почти всю спину. Она обернулась и подмигнула.
– Входи, входи, жених. Тут у меня кружка молока, попьешь. Тетка Таня велела тебя угостить. – Она поставила на стол алюминиевую кружку, до краев налитую молоком.
– Пробуй, парное, полезное.
Притихло сердце в растерянности, в нежданной радости. Его, молока-то, и дома редко попробуешь – все в сдачу идет, на молоканку, а тут целая кружка!
– А ты? – почему-то шепотом спросил я, будто кто-то мог нас услышать.
– Обо мне не беспокойся. – Она улыбнулась. Глаза большущие, на худом бледном лице, а губы – удивительно алые. – Скорее! – заторопила Настя. – Пока никто не пришел!
Я взял кружку двумя руками. Она была теплой, увесистой. Молоко, в мелких пузырьках, обнесло лицо сладким запахом. Как живительную силу вливал я его в себя, и мягкая истома растекалась по моему телу, унимая и дрожь, и злую боль под ложечкой.
Настя чуть ли не выхватила у меня кружку, быстро зачерпнула в нее воды из стоявшего в углу, на чурбаке, ведра, и, ополоснув кружку, вылила обмывки в помойный таз.
– Вытри губы! – приказала она.
– А вы чего не пьете? – недоумевал я: разве девчонкам и ребятам не хотелось парного молока? Да и тете Тане…
– Ты чего? – Настя испуганно оглянулась на дверь. – За это засудить могут.
– Неужели совсем не пробуете? – усомнился я, хотя и верил каждому ее слову.
– Так, чуть-чуть, если голова закружится, – не стала хитрить Настя, разглядывая кружку на свет, – под коровой, чтобы никто не заметил. И то зоотехник поймать может. Она у нас рысь рысью: спрячется иной раз под сено незаметно и наблюдает. – Настя едва успела поставить кружку к бачку, как дверь хлобыстнулась в широком размахе и в избушку ввалилась Маня.
– Ой рученьки, мои рученьки! – Она плюхнулась на скамейку. – Отсохли, совсем отсохли! – Маня стала трясти кистями рук. Крупные ее пальцы были красными, в морщинках.
– Чего ты? – встревожилась Настя.
– Да эту первотелку раздоить не могу: сиськи твердые, как подошвы. Рогом еще зацепила в бок. – Она не успела задрать тужурку и показать нам бок – вошла Шура, а за ней тетя Таня.
Я уловил их немое переглядывание с Настей и опустил глаза. Неловко стало. Они-то работают и не могут позволить себе пить молоко. А я распустил губы…
С этим чувством вины не сразу пришлось смириться. Так и этак обдумывал я после все пережитое, увиденное и услышанное в тот вечер. Конечно, кружка молока не спасла меня от недоедания, но, возможно, тогда я впервые осознал истинную цену доброты и принял эту веру как заповедь.
2
Уплотненный за зиму снег отслаивался неровными кусками, похожими на свежеотжатый творог. Легкая, как у топленого молока, коричневатость, неизвестно каким образом пропитавшая его, усиливала эту похожесть. И я, вспоминая туманное, кажущееся неправдоподобным, предвоенное время, сильным плевком выгонял за изгородь тягучую слюну, глубже и глубже вгрызаясь лопатой в сугроб, напрочь закупоривший погреб.
Мутно и печально плавали в сырых далях синеватые островки приозерного леса. Низкое слепое небо наползало на затуманенную степь, топила в своей серости и далекие камыши, и проплешины проталин, и даже бесконечный, измученный ветрами и морозами рассыпчатый снег. Лишь хилые сараи ближних дворов да волглые стены изб, обдутые теплым южным ветром, уныло чернели среди этой затасканной белизны, обозначая широкую, не в один десяток тележных разъездов, улицу с желтой, унавоженной, дорогой посредине, спокойно утекающую к далекому, непроглядному даже в ясные дни лесу.
Я угрелся до мокроты в спутанных волосах, до мелкой дрожи в коленях и слабых руках, но не отдыхал. В погребе, в узком сусеке, хранился последний запас картошки, на которую была вся надежда в весеннюю распутицу. Та, основная, горой засыпанная в объемистый, во всю избу, подпол, долго и аккуратно береженная, недавно закончилась.
Зимние дни хотя и коротки, но жадны и неустанны. Как волны накатываются они один за другим, медленно, но неотступно, смывая все те запасы, которые копят лето и осень. А копить, кроме картошки, было нечего. Война хотя и кончилась два с лишним года назад, да её отголоски еще гнули нас к скудному бытию.
Я представлял, как вечером матушка нажарит большую сковороду картошки и мы будем досыта есть горячую, с парком, рассыпчатую вкуснятину, не боясь обидеть друг друга, а то и гребануть лишнего. Потому что, на первый случай, картошки будет нажарено с горкой: столько – сколько может уместиться в большую чугунную сковороду.
Лопата задела край творила, глухо стукнул верхний венец сруба, мягко запружинила солома, наложенная сверху для утепления. Я еще несколько раз скребанул лопатой по остаткам снега и взялся за вилы. Не единожды пробитая осенними дождями, промороженная насквозь, солома все ещё пахла полем, талой землей и глянцевито поблескивала. В несколько приёмов я отбросил её в сторону. Открылся сруб лаза, рожки вил глухо застучали в дощатую крышку, звякнуло железное кольцо на ней. Остаток соломы я выгреб руками.
Тяжелая набухшая крышка, плотно лежащая на выступах сруба, подалась с трудом. Упираясь ногами в край сруба, я едва её поднял и тут же уронил. Так зло и неприятно пахнуло из погреба. Холодея от страшной догадки, я снова рванул на себя крышку. Запах гнили был настолько сильным, что в горле запершило. Дыхнув пару раз, я почувствовал тошноту и головокружение. Отвернувшись, я подождал с полминуты и наклонился, заглядывая в темный провал погреба. Снова тошнотворно засаднило в горле. Сомнений больше не было – сгнила картошка! Я вскочил, роняя крышку на солому, перемахнул через прясла и кинулся в избу.
День хотя и был слепой, а все светлее, чем в хате, и с лету я в ней ничего не увидел – изба показалась чернее погреба.
– Открыл? – послышался голос деда, и я разглядел его силуэт возле печки.
– Открыл. Да что толку – картошка сгнила. – Как не старался я выдать волнение, но голос подвел своей дрожью.
– А ты хорошо глядел? – Дед привстал со скамейки.
– Глядеть – не глядел, но из погреба воняет так, что тошнота голову кружит.
– Эх, мать её в корень! – Дед засуетился. – Там же и семенная! Это я, старый хрен, виноват! Закупорил плотно, рассчитывая на сильные морозы, а зима оказалась сиротской.
Я глядел в маленькое, непривычно чистое ото льда окошко, и едкие слезы точили мне глаза. Надеясь еще на чудо, я понял, что подкатило страшное время.
– Лезть надо – может, кое-чего и выберем. – Дед зашаркал тяжелыми, в заплатах, валенками, одеваясь.
Непрошенные слезы высохли так же неожиданно, как и появились. Я сдернул шапку и пригладил волосы.
– Пусть немного остынет, а то задохнуться можно.
Надежды деда не оправдались. Напрасно я, преодолевая вязкую тошноту, рылся в отвратительном месиве – твердых клубней не оказалось.
* * *
– Что делать? Что делать? – скорбно повторяла матушка, темнея глазами, когда мы вечером собрались за столом. – В подполе – не картошинки…
– Пойду к Степину, – решил дед, – буду взаймы клянчить, а то протянем ноги в мирное время. Семенной-то картошки, может, и наберем по всей деревне, как люди огороды посадят, а вот тянуть до зелени не на чем….
Один раз я ходил за чем-то к Степиным по просьбе деда и боялся сделать лишний шаг от порога – так старательно была ухожена их изба. Оно и понятно: тетка Федосья Степина, имея какую-то справку о болезни, в колхозе не работала, а Семен Егорович служил заготовителем в районной конторе. Поэтому или по другой причине они жили лучше других.
– И ты со мной пойдешь. – Дед похлопал мне по плечу. – Вдруг Семен расщедрится и мешок картошки даст – нести придется… На том и порешили.
* * *
Густо, с едва заметной синевой, чернело беззвездное небо, сливаясь со степью. Уныло стояли дома, слабо блестя освещенными окнами. Глухо и пусто было вокруг.
– К бурану, – сказал дед, выйдя на заметную среди снега дорогу. – Через полмесяца май, а все непогода. Водолом будет страшный…
Изба Степиных стояла обособленно, в глубине двора, и длинно, сутуло темнела на фоне снега. Два ее ближних окна светились, бросая блики на кусты палисадника.
– Лампу жгут, – кивнул дед на свет, – не то что наша коптилка, ишь, как ярко. Надо бы постучать, а то калитка у них закрыта.
На стук в окно выглянул Степин и вышел нас проводить.
– …А этот на что? – ткнул он в меня пальцем, поняв дедову просьбу. – В степи и лисиц, и горносталей всяких уйма, пусть ловит – отоварю.
– Он же учится, – вступился за меня дед. – Да и какие теперь лисы? Весна.
– Не теперь, зимой. Теперь вон суслики пойдут. Вчерась в районе был, дали указку принимать яйца диких уток. Так что, есть еще статья отличиться. Тебе сколько лет? – Степин склонился ко мне.
– Двенадцать. – Не зная почему, я несколько робел перед этим одноглазым человеком.
– Договор с тобой заключать рано, а пушнину принимать буду. За нее и ситцу дам, и муки, и сахару, и охотничьих припасов – у вас же берданка есть…
У меня вдруг голова закружилась от недоедания, от радостной надежды, и я едва не упал.
– Обувки у него нет подходящей по степи лазить, – почему-то не соглашался на заманчивые посулы дед. – А как простынет, что тогда?
Степин щурил маленький глаз, и без того почти не видимый среди набухших складок век, дергал скулами, ни то улыбаясь, ни то щурясь в нетерпении, и большие угловатые его уши подрагивали.
– Ну а я что могу? У меня своего ничего нет, все подотчетное.
– Ты мне журавлей в небе не сули. – Дед заскрипел табуреткой – он сидел у порога, а я стоял рядом. – Ты мне дай синицу в руки – мешок картошки до новины, там рассчитаюсь.
– Ого, загнул! Синица называется! – Степин почесал здоровой рукой спину. – У меня в подполе мешка два и осталось.
– А ты погреб открой. Ленька поможет. Не жмись. Неужели по соседству не выручишь? У тебя вон сын в танке сгорел, а у него, – дед кивнул на меня, – отец лег в окопах.
Степин нагнул голову. Крупные складки на его шее разгладились, плечи обвисли.
– Ладно, – он махнул рукой, – только пусть твой внук мне сусликов повыливает, как снег сойдет.
– А капканов дашь? – осмелел я от радости, поддаваясь вмиг заигравшему воображению. – И припасов?
– Посмотрю, на что ты способен…
Когда мы вышли на улицу, стало совсем темно. Теплая сырая ночь затопила и деревню, и степь, и небо. Все замерло и притаилось в каком-то тягостном оцепенении. Что-то загадочное таилось в мягкой весенней погоде, в тихом сне зачерненного темью пространства.
Дед сопел, неся мешок картошки.
– Засупонил, – сказал он, оглядываясь на дом Степиных. – И ты в тот же хомут лезешь. Подрежешь здоровьишко по весне, а он тебя объедет на сколь совести хватит, а с совестью у него давно нелады.
Но, как не стращал меня дед, радость не проходила. Да только за то, что я буду ходит с ружьем по степи, кого-то выслеживать, можно было навечно записаться к Степину в работники.
– И нам что-нибудь обломится, – не соглашался я с дедом. – Суп из утки сварим, и то поддержка.
– Эт-то понятно. Да без добротных сапог по талой воде не побродишь, чахотку вместо утки словишь.
– А я буду ходить сторонкой, вглубь не полезу.
– Да и сторонкой не убережешься, сапоги-то твои – дырка на дырке. Я уже и ума не приложу, как их чинить…
У меня, в заштопанном кармане штанов, увесистым комочком постукивала о бедро фабричная дробь на двадцать зарядов, а под шапкой мягко давил темечко завернутый в бумагу порох и радостно билось сердце. Перед глазами стояла не густая апрельская ночь, а яркое утро на зеркальном разливе, и утки – сотни уток…
3
Еще в школе, на уроках, меня не покидало веселое настроение: еще бы – дед обещал дать мне свое ружье и отпустить на охоту! Такое мне и не предвиделось даже во сне, а тут враз навалились: и пропажа картошки, и угроза тяжелого голода, и возможность поохотиться.
Даже Лиза Клочкова, сидевшая со мной за одной партой еще с третьего класса, заметила:
– Что-то ты стал слишком живым. Осчастливился чем-то?
– Угадала. – Я только ухмыльнулся. Мне не нравилось, что она постоянно лезла в мои дела, расспрашивала о том о сем, и все навязчиво, бесцеремонно. В общем, старалась опекать, в чем я, по собственному мнению, не нуждался.
Даже Антоха Михеев как-то заметил:
– Чего это она к тебе завсегда лезет?
Мне только оставалось пожать плечами. Хотя, честно говоря, из всех сверстниц Лиза была мне более симпатична. Но только так: краешком души, что ли. Не в пример Насти Шуевой, один взгляд которой вгонял меня в дрожь. Но как что двигалось, так и двигалось, никаких попыток я не предпринимал, покорно плывя по жизненному течению.
* * *
И вот долгожданный час настал: провожая меня на охоту, дед наказывал:
– Гнездо найдешь, так яйца все не сгребай, не жадничай. Пару штук всегда оставлять надо. Утка туда еще подложит, и получится, что ты и свое возьмешь, и кладку сохранишь. Да запаренные не бери – они не тонут – плавают. Проверить можно в любой луже. Они сейчас везде…
За околицей ударил синью в глаза нескончаемый разлив талых вод, поблескивающий до самого горизонта. Размах его пугал, но я одолел ненужную робость, внимательно разглядывая бьющее светом пространство. За разливом темнела высокая грива, уходящая к озеру, и именно там, на сухих выгорах с прошлогодней травой и полынными островками, могли быть утиные гнезда.
Я далеко прошел краем разлива и остановился у самого узкого места, отделявшего меня от гривы. Вода была еще ледяной, да и лужа могла быть глубокой, но я раздумывал не долго. Солнце пекло чувствительно, даже в легкой, истрепанной куртке было жарковато, и это решило дело. Сняв сапоги, я сунул в них портянки и, перекинув ремень ружья через голову, пошел к луже. Ногам сразу стало зябко, едва я сделал несколько шагов по сырой, не прогретой солнцем, земле, а вода ошпарила их жгучим холодом. Но отступать было не в моих правилах, и, стиснув зубы, я шел и шел, вглядываясь в рябоватую ширь разлива, в чернеющую полоску недалекой гривы. Вода быстро поднялась до колен, зло лизнула высоко закатанные штаны. Я оглянулся – была примерная середина пути. Возвращаться назад не имело смысла, и, подтянув повыше штанины, я пошел дальше. Холод прожег лодыжку. Казалось, что я иду не по весенней воде, а по рыхлому снегу, и колючие снежники, прокалывая кожу, леденят кровь. Почти не чувствуя ступней, я неловко побежал, покачиваясь, тяжело поднимая непослушные ноги. Вырвавшись на сухое место, я тут же сел на первую попавшуюся кочку и стал быстро обтирать покрасневшие ноги краем портянки. С трудом напялив бахилы, я сделал несколько неуверенных шагов. Ноги ходулями поползли в стороны, отозвались колючей болью. Кое-как, медленно, пошло в них тепло, и кожу на подошвах неприятно защипало, иголками воткнулась боль в пальцы. Впору бы закричать, все равно никто не услышит, но я стерпел и это. А ноги все наливались жаром и будто распухали. Казалось, что бахилы вот-вот затрещат по всем своим несчетным швам. Не останавливаясь, я шел и шел по большому и широкому острову, охваченному разливом, и тупая боль начала отступать. От подушечек пальцев, от подошв жар пошел вверх, к коленям, да такой сильный, что создавалось ощущение настоящего огня. Но этот жар, этот огонь переносить было легче, чем проникающий до костей холод…
На первое гнездо я чуть не наступил. В иссушенной белой траве, прямо перед собой, я увидел четыре зеленовато-белых яйца и остановился. За спиной у меня висела старая тряпичная сумка. Подумав, я взял пару яиц и осторожно опустил их в сдвинутую на грудь сумку. Чуть пригнув над гнездом траву, я пошел дальше.
Еще два гнезда попались мне в траве среди кочек. Потом еще – на полынном бугорке… Голод, постоянно мучивший меня, вдруг сломал все добрые мысли и чувства, и я, одно за другим, выпил три или четыре безвкусных яйца. Стало легче и спокойнее…
С необычным шумом, кряканьем, совсем близко, упали на лужу три селезня и серенькая утка. Всплескивая воду, они гонялись друг за другом. Я быстро снял ружье из-за спины и, приложившись, выстрелил почти не целясь. С лужи, с диким испугом, сорвалось только две птицы: утка и селезень. Два других селезня бились в агонии на воде. Дрожа от нервного озноба, я побежал. Вода не показалась мне слишком холодной: ноги еще горели избыточным теплом, а селезни были близко. Да и радость первой добычи подогрела, налила бодростью. Шире стали мои шаги, легче.
Еще часа два бродил я по острову и нашел больше десятка гнезд.
Собрав из них чуть ли не полсумки яиц, я, окрыленный успехом, пошел назад. То ли от радости, то ли от того, что я шел с добычей, холод не так жестоко студил ноги, когда я вновь преодолевал лужу в знакомом месте.
– Ну, малый Ленька, ты, как привязаных, стреляешь, – встретил меня в радости дед на пороге дома. – Сразу двух вострохвостых…
– Ревматизму схватишь, – не особенно радовалась моему успеху матушка. – Сапоги-то худые, ноги вон аж опухли…
Если бы она доподлинно знала, чего стоили мне эти яйца и утки, не то бы было. Я, конечно, не сказал, что босиком переходил лужу, что чуть не свалился от холода.
– Селезней отдадим Степину, – взвешивая добычу на руке, сказал дед, – и яйца. Себе по парочке сварим и все…
Еще отмеривая припасов – пороха и дроби на двадцать зарядов, Степин запросил за них пять уток.
– Какой тогда толк с ним вязаться? – огорчилась мать. – Время тратить и здоровье?
– Так Семен обещался отоварить. Селезни вроде как расчет за припасы, а яйца примет в заготконтору…
Вечером мы с дедом пошли к Степину. Подержав в руке каждого селезня, он выдал:
– Легковатые, излетались.
– Да уж какие есть, – дед усмехнулся, – щупать их в степи некогда.
– Ладно, пойдут. – Степин небрежно бросил селезней на широкую лавку. Длинные их шеи безжизненно трепыхнулись. – С тебя еще три штуки. – Он осторожно взял сумку с утиными яйцами и отошел к печке. Возле нее стояли два ведра с водой. Степин стал опускать яйца в одно из ведер, проверяя на свежесть.
– Откуда сейчас запаренные? – сердился дед. – Только нестись начали.
– А вдруг, – делал свое дело Степин. – Мало ли что, а мне потом платить.
Но яйца тонули в воде, мягко стукаясь о дно ведерка.
– Так, полсотни штук, – сосчитал их Степин. Он взял со стола облупленные счеты.
– Двадцать процентов боя – это десять штук минус, итого – сорок.
– Какой бой? – не понял я. Знал бы он, как они мне достались.
– Обыкновенный, я их через пару деньков, как насобираю, в район повезу. Сейчас распутица, дороги никакой, все целыми не доставишь, а свои деньги платить я не намерен.
– Сочиняешь, или положено? – спросил дед.
– Положено, Данила. – Степин будто обиделся, отвернулся. Дед не силен был в бумагах, верил людям на слово и меня учил тому же.
– Итого, вам надо отовариться на четыреста рублей. Что будете брать?
Дед покряхтел, держась за поясницу.
– Что на эти деньги возьмешь?
– Крупы, муки, сахару?
– Понюхать если только…
Но, несмотря на то что Степин отвесил нам крупы совсем немного, радость первого заработка не покидала меня до самого сна.
4
Как ни крепился я, как ни сопротивлялся простуде, а два дня отлежал с забитым носом и острой болью в горле.
– Бросай, сынок, это занятие, – печально говорила матушка, – а то подрежешь здоровье с малку и не выправишь. – Она усаживала меня над чугунком с парной картошкой. – Все, что сейчас проходит, к старости отрыгнет. Раз нет подходящей обувки – нечего и рисковать. Как-нибудь протянем до зелени, а там ботва пойдет… – Она накрыла меня старенькой шалью. Жгучий пар обдал лицо, прошел в грудь, и больно там стало до остроты. Я трепыхнулся, хотел отбросить шаль, но мать придержала ее руками.
– Сиди, сиди, ты же у меня терпеливый. Пару-то шибко не хватай, а так, короткими глотками…
На третий день прошел звон в ушах, очистился нос и глотать стало не больно. Выйдя на улицу, я даже присел от света и теплого распаренного воздуха.
Бились до одури воробьи под сараем, не поделив самку или подходящее место для гнезда, свистели взахлеб скворцы на скворечниках, тоненько и непрерывно пели жаворонки за огородом. Отовсюду шел ядреный дух: от навоза, от просыхающей завалинки, с талых полей, из лесу…
Даже избяные бревна пахли своим деревянным тленом.
Жмурясь, я протащил бахилы до огородных прясел, снял с кола старое измятое ведро и поглядел на свет. Сеточка мелких, будто проткнутых иголками отверстий играла искорками на дне. Я решил, что вода через эти дырки не вытечет быстро, и взял ведро. У леса, на старых пашнях, я знал норы сусликов и хомяков. Мы их и так, ради забавы, выливали каждую весну немало, а тут Степин сулил за каждую шкурку деньги, хотя и малые, но все же…
Чем ближе я подходил к лесу, тем сильнее плыл запах нагретых берез, талого снега, прошлогодних листьев. Над дальней межой кружил полевой лунь. Он то падал к самым бурьянам, то взмывал, трепеща крыльями. Ясно было, что лунь следил или за мышами, или за сусликом. Опустив глаза, я тут же заметил темное отверстие небольшой норы, круто уходящее в глубину, и остановился – нора была жилой. Совсем близко, в старой канаве, темнела вода. Поискав глазами подходящую талину, я пошел к ней, стараясь не ступать в мелкую, насквозь пронизанную светом водичку, залившую колок. Облюбовав длинный, с кисточкой тонких веток, стебель, я отрубил его одним взмахом топора и тут же ошкурил, оставив короткую метелку на конце прута. Таким прутом мы захлестывали грызунов.
Вода с завихрением, утробным бульканьем, ушла в нору. Я подождал немного и снова пошел к канаве. Второе ведерко тоже укатилось в неведомую пустоту. Третье – залило нору по самый верх. Тут же закачалась в ней набитая пена, раздалась, и показалась голова суслика с большими, на выкате, глазами. Даже не сморгнув от яркого света, зверек кинулся в сторону бурьянов. Я резко хлопнул по нему прутом и увидел второго грызуна, выбирающегося из норы…
Плыло над лесом белое солнце, прожигало чащи, играло бликами на отбеленных за зиму стволах берез, на талой воде, на качающихся стеблях прошлогодней травы, гнало сырой дух отходящей от холода земли, сенную и соломенную гниль. И плыл вместе с ними непонятный, трудно различимый шум и звон, исходящий от степи, лесов, от всего, что заполняло эти теряющиеся в густо голубом небе просторы…
Солодка, которую я долго жевал, занимаясь промыслом сусликов, мало-мальски заглушила не проходящее чувство голода. Горка мертвых зверьков рыжела у края межи, и непонятная, не осмысленная жалость к ним томила меня. Она возникла сразу, как только я захлестнул двух первых сусликов. Но тогда, разгоряченный промыслом, я старался ее не замечать: не из баловства же я их гробил. Но тревога сосала сердце, и с тоскливым отвращением, через силу, я принялся снимать со зверьков шкуры…
* * *
– Ты чего же их обмездрил плохо? – перекидывая подсушенные на пяльцах шкурки, опять нашел к чему придраться Степин, хотя по его лицу видно было, что он обрадовался, увидев столько шкурок. – И просушил неважно.
– Сушил не я, дедушка, – не понравились мне его придирки. Уж кто-кто, а дед все делал лучшим образом. Он и пяльца с клиньями смастерил, и сам следил, как шкурки просыхали под навесом.
– Ну, все же молодец, – расщедрился на похвалу Степин. – По третьему сорту приму…
По каким признакам оценивали шкурки, тем более сортовую их разницу, я в то время не знал, но чуял сердцем, что Степин хитрит.
– Чем будешь отовариваться? – обернулся ко мне заготовитель.
– Пороху и дроби давай, – отогнал я горькие мысли.
– Так, – взялся за свои счеты Степин, – сорок шкурок по семьдесят копеек – двадцать восемь рублей. Банка пороху – девяносто рублей, кило дроби – сорок, итого – сто тридцать минус двадцать восемь – за тобой остается долг сто два рубля…
Долг меня испугал: так с ним и не рассчитаешься.
– А мне банка пороха не нужна, – едва совладел я с языком, – дай половину и дроби полкило.
– Дроби полкило свешаю, а вот порох распечатывать не имею права. – Он загонял меня в угол. Смутно я это понимал, но выхода не видел. Ходики на стене отсчитывали время. Я молчал.
– А чего зря переживаешь, – посочувствовал мне Степин. – Еще наловишь, осенью рассчитаешься…
На том мы и разошлись.
– Вот фокусник! – осерчал дед, узнав подробности нашей сделки. – Оценил-то ниже низкого. Ты одной воды перетаскал ведер двести да еще в погани возился сколь, обдирая сусликов. И я два дня на эти шкурки потратил. И все за такие гроши! Сам он их сплавит первым или вторым сортом…
– Бросал бы ты это дело, – твердила свое матушка, – толку от твоего промысла на мизинец, а беспокойства по маковку…
Но я молчал, решив свое.
5
Потянулись теплые и мягкие ночи, ярко звездные, с густой темнотой. Выходя перед сном на крыльцо, я затаивался, улавливая звуки торжествующей весны. А они шли со всех сторон: с ближней поляны за огородом, над которой трезвонили жаворонки, не умолкая даже с наступлением темноты; с приозерных лугов, облюбованных коростелями и погонышами для гнездовий; с озерных плес, занятых, прилетевшими с юга утками; от лесных отъемов с певчими птичками и сверху – там плыли с зимовок станицы белолобых гусей. Я вслушивался в эти звуки, мысленно уносясь в неведомые дали, в мгновения трепетных чувств, в сжигающий душу азарт. И после, засыпая, я все еще слышал эти волнующие до озноба звуки и тонул в них, теряя реальность.
А белолобые гуси (у нас их ошибочно называли казарками), с радостным гвалтом, опускались где-то на озерных плесах и копились там день ото дня и мне мечталось добыть хотя бы одного из них. Это ни какая-нибудь там утка – в нем не меньше трех килограммов мяса, суп из гусятины даже крапивный – отрада. Но озерные плеса для меня были недоступны – без лодки в озеро не сунешься. А когда я поделился с дедом своей мечтой, он сказал, что гуси обязательно потянут на поля кормиться натерянными среди стерни зернами пшеницы и там их можно будет подкараулить. Я и загорячился сходить на приозерные пашни, на те самые, где мы не раз, всей школой, собирали колоски.
– Так просто, без манных чучел, казарку не возьмешь, – осадил мою горячность дед. – Гусь – птица с соображением. Сходи вон к Дарье Шестовой – её мужик заядлым был в охоте, может, профиля гусиные и сохранились, если в какую-нибудь из зим не пошли в печку. Они ведь фанерные, сухие…
Я вспомнил большеглазую Катьку, её озорной взгляд, бойкие слова и почему-то обрадовался возможности ли найти те самые гусиные профиля, которые я никогда не видел и смутно представил лишь по описанию деда, или случаю снова увидеть ту девчонку-егозу, неизвестно.
* * *
На другой день, ближе к вечеру, я пошел к Шестовым. Волновался. То ли тревожили меня мысли о профилях, которые предстояло выпросить у тетки Дарьи и найти, и сохранились ли они еще; то ли встреча с Катькой каким-то образом щекотала душу, а возможно, и то и другое. Только пока я отмеривал напористым шагом длину улицы, меня не покидало ощущение сердечного трепета и легкого беспокойства. Вспомнилось, как я случайно встретил Катьку на школьном дворе: тогда мы с Антохой Михеевым только что вывалились из школьного коридора, направляясь домой после уроков, а она шла на занятия – так уж получилось, что наши с Катькой школьные смены не совпадали – и если бы я не столкнулся с ней лицом к лицу, то вряд ли бы мы узнали друг друга.
– Где твои зайцы, охотник? – обдав мне ухо горячим дыханием, крикнула она.
Я остановился, вглядываясь в лицо девчонки, ни с того ни с сего, бросившей мне странный вопрос, и сразу же узнал Катьку: разве ж были у кого еще такие огромные глаза под тонкими, словно нарисованными черной тушью, бровями?
– Это ты, стрекоза! – вырвалось у меня. – Уже учишься?
– Во втором. – Она обжигала меня огоньком своих глазищ, слегка улыбаясь.
Антоха стоял рядом, поглядывая на нас с недоумением.
– Ну и как? – Я старался держать возрастное превосходство.
– А ни как! – Катька рассмеялась и шмыгнула между нами в распахнутую дверь.
– Чего ты с ней сусолил? – буркнул недовольно Антоха. – Мелюзга желторотая.
Я не стал ему ни возражать, ни объясняться, чувствуя прилив в душе легкой радости.
И вот домик Шестовых. За то время, которое прошло с моего первого прихода к ним, почти ничего не изменилось. Разве что ограда потеряла ряд изгороди, щербато белея пустыми проемами, да калитка покосилась. С легким волнением открыл я её и сразу же увидел Катьку. Она у заднего забора рвала, как я понял, крапиву. На скрип калитки Катька оглянулась и распрямилась.
– А, это ты, охотник, – улыбаясь, она шла мне навстречу. Те же лучистые глаза, та же озорная улыбка. Только лицо заметно похудевшее и платьишко иное, блеклое в не разглаженных складках, на легкой тужурке заплаты. – Где твои зайцы? – снова зацепила она меня иронией. – А то вот мы собираемся постные щи варить из крапивы.
– Какие зайцы, Катюха? Весна к лету придвигается, а ты зайцы. Их я зимой добываю. А тебе что, понравилась зайчатина?
– Не-е. – Она отмахнулась, пытаясь достать мои руки пучком нарванной крапивы. – Ты понравился.
Ну и заноза! Что ей скажешь на такое заявление?
– Ты мне тоже, – вырвалось у меня как-то само собой.
Ни мгновения растерянности не уловил я на Катькином лице.
– Вот и давай дружить, – заявила она, слегка прищурив глаза.
Тут уж я замешкался на секунду, пытаясь понять: шутит она или серьезно. Но тщетно: в глазах у Катьки по-прежнему светились лучистые огоньки.
– Ты еще не доросла до дружбы. – Я нахмурился. – Тебе сколько лет-то?
– А разве у девушек спрашивают: сколько им лет? – Катька снова попыталась обжечь мои руки крапивой, но я увернулся.
– С кем ты тут разговоры ведешь? – На крыльце появилась тетка Дарья и, увидев меня, заулыбалась. – А, юный охотник! – И она туда же со своим восторгом. – Ну, заходи в дом, коли пришел.
Я замялся.
– Да нет, теть Даша, я по делу.
– Ясно, что по делу. Без дела ты вряд ли бы появился. Что за дело-то?
– Дедушка говорил, что у вас должны быть гусиные профиля из фанеры. От мужа остались.
Лицо у тетки Дарьи погрустнело.
– Я в охотничьих вещах никогда не разбиралась. Ружье вон, знаю, лежит в сундуке, а про какие-то профиля – духом не ведаю. Поищи в сарае – может и найдешь, что надо.
Услышав про ружье, я даже оторопел: ну конечно, – у охотника ведь должно быть ружье, как мы сразу с дедом не сообразили! И, теряя скромность, я попросил:
– А можно мне ружье посмотреть?
Тетка Дарья, намериваясь уходить в дом, обернулась:
– Да оно сломанное, и рыться надо в тряпье, а мне сейчас некогда. Приходи в другой раз – поглядишь.
– И зайца приноси, – ввернула свое Катька, направляясь к сараю.
Я и ответить не успел, поняв, что надо идти за ней.
То ли интуитивно, то ли по какому-то наитию мой взгляд скользнул под крышу, и сразу я увидел то, за чем пришел: профиля торчали за стропилом – всего два, но еще сохранившие большую часть былых красок. Достать их мне не составляло труда.
И уже не до шутливых разговоров было: радость захлестнула меня подобно водному потоку, и побежал я домой, забыв и попрощаться с Катькой, и поблагодарить тетку Дарью.
* * *
И как всегда, в ожидании предстоящей охоты, не было сна. В чуткой дреме ловил я малейшие шорохи и смотрел сквозь ресницы на окна, определяя время. Ружье, патроны, гусиные профиля – лежали на лавке с вечера, и сорваться с постели, одеться, для меня было минутным делом…
Улица окатила знобкой сыростью, стойкими запахами подсыхающей земли, степных палов и талой воды… Я прошел огородом и двинулся к приозерным пашням, не паханным с самой страды. Кругом, насколько хватало взора, молочно белели разливы, и мне приходилось далеко обходить их. Небо медленно просветлялось, делалось глубже и прозрачнее…
Отойдя от дома километра на два, я заметил сзади человека, идущего напрямую, и подумал, что сапоги, выходит, у него крепкие, коль через мочажины прет, и направляется он, скорее всего, в заозерную деревню. Но, когда я свернул к желтеющим вдали полям, человек тоже двинулся следом, и это меня насторожило: охотников в нашей деревне, считай, не было, вот и угадывай – кто да что? Я прибавил шагу, но тяжелые и большие бахилы цеплялись гнутыми носками за землю, да и шаг мой был еще далеко не мужским – человек сзади явно догонял меня. По походке и по фигуре он был мне незнаком.
«Пусть идет, – подумалось успокоено, хотя и с сожалением, – полоса большая – места хватит…» И я резко свернул вправо к одонку соломенной скирды.
– Постой! – крикнул человек сзади. В предутреннем свете лица его я не разглядел.
Останавливаться не хотелось, но я подумал, что от этого быстрого мужика все равно не уйти. С угрюмым недружелюбием, на какое только был способен, стал я смотреть на приближающегося человека.
– Ну, ты и летишь! – Улыбка оживила приятное лицо незнакомца, худощавое и загорелое. – Еле догнал. На казарок собрался? – Он потрогал профиля, зажатые у меня под мышкой.
Я кивнул, разглядывая и охотника, и его новое одноствольное ружье.
– Чей будешь? – Незнакомец был молод, высок и широкоплеч, в полувоенной одежде, и я понял, что это кто-то из бывших фронтовиков: третий год пошел, как закончилась война, а люди все еще возвращались домой.
Нехотя, я назвался – быстро светало, и мне не терпелось заняться делом.
– Ясно, мы с тобой почти что тезки: ты Леонид, а я Алексей, по деревенски, просто Алешка, Алешка Красов. Так что, может, вместе попробуем охотиться? – Он смотрел дружелюбно.
«Увидел профиля, и глаза разгорелись, – подумалось с досадой, – подманивай гусей, а он стрелять будет. За новенькой его курковкой не больно поспеешь…» Не ответив, я пошел дальше: гуси вот-вот должны были полететь на кормежку.
– Ты, я вижу, не очень-то разговорчивый. – Красов зашагал рядом, оглядываясь по сторонам.
«Вот навязался, – все досадовал я, – испортит охоту: у него и ружье новое, и припасов небось с войны прихватил немало. Еще и влет стреляет, сесть гусям не даст, а мне влет стрелять заказано: вдруг промажу – заряды на счету»… С тоской я поглядывал на близкие соломенные кучи.
– Так что решил? – снова спросил Красов.
– Лучше давай отдельно друг от друга, – не стал хитрить я, – чтобы не мешать.
– Ну, как хочешь. – Он скользнул взглядом по дальним кучкам соломы и пошел к ним, слегка увязая сапогами в сыром жнивье.
По мере того как удалялся конкурент, уходила из моего сердца тревога и тень недовольства. Охотничий азарт погасил все смутное в душе, поднимая жгучий восторг перед зарождавшимся утром, тихой степью и жаждой неизвестного. Я посмотрел на белесую полоску у горизонта и стал определять место для засидки. Отдельно лежащая кучка соломы мне особенно приглянулась, и я направился к ней. На узком бугорке я поставил профиля. Краска на них кое-где облупилась, но отмытые от грязи они здорово смахивали на гусей, и надежда на удачу укрепилась. Раздав солому, я спрятался в ее влажное нутро. Запахло тленом, распаренной мякиной и мышами. Я еще и устроиться, как следует, не успел, а залатанные на коленях штаны уже натянули в себя сырости. Пришлось сгрести с просохшего верха кучки сухую солому и подстелить под себя.
С бережливой осторожностью достал я патрон из кармана и зарядил ружье. И тут где-то закричал гусь. Я вжался в солому, ища глазами птицу. Ни со стороны озера, ни справа, ни слева никто не летел, а крик повторился. И тогда, оглянувшись, я увидел гуся возле далекого одонка соломенной скирды. Как раз подле того места, где спрятался Красов. В груди погорячело: сейчас, вот сейчас грохнет выстрел? Но гусь еще раз вскрикнул, послушал и спокойно стал что-то искать клювом в стерне.
«Домашний! – понял я. – Так вот кого нес он в мешке!» Вспомнив наш разговор, представив себя со стороны, я, наверно, покраснел, душу мне покоробило от горького стыда. Получалось, что Красов, предлагая совместную охоту, не о себе пекся. У него-то с манным гусем точно добыча будет, а у меня – как сказать. Сразу поблек полыхающий в полнеба зоревой пожар, неуютно и сыро показалось в соломенной засидке. В этот момент другой крик, более легкий и мелодичный, долетел откуда-то со стороны. Я снова вжался в сырую солому. Быстрый мой взгляд нашел в небе цепочку летящих над полем гусей, и в миг все ушло: и легкая зависть к соседу-охотнику, и тревога за удачу, и досада – одни гуси в дружном развороте завладели моим взором, душой…
Гусак Красова услышал говор птиц гораздо раньше меня и сдержанно, но призывно прокричал несколько раз. Косяк белолобиков в крутом вираже стал планировать прямо к нему. Дружно и красиво падали птицы на стерню, сверкая белыми подхвостьями. С нетерпеливым холодком в сердце ждал я выстрела. Но вначале струя дыма полосонула от кучи соломы в сторону гусей – один гусь перевернулся, захлопал крыльями, а потом я услышал выстрел. Птицы с переполохом поднялись от опасного места. Я надеялся, что они подлетят к моим профилям. Но, гуси, выстраиваясь в ряд, потянулись к дальнему краю полосы.
Красов вылез из соломы и подобрал добытого гуся. Снова легкая зависть тронула сердце: «Не было бы этого конкурента с гусем – эта бы стайка подсела к моим профилям. Некуда ей деться…» И тут я увидел огромную стаю птиц, низко летящую прямо на меня. Съежившись, насколько было возможно, я следил за тяжелыми гусями. Впереди летел крупный пестрогрудый вожак. С молчаливой настойчивостью приближались они к моей засидке. Пятьдесят, тридцать, двадцать шагов… Я разглядел желтые лапки, прижатые к белым подхвостьям, сероватые, в черных поперечинах, брюшки, белые лбы… То ли вожак заметил меня, то ли ему показались подозрительными неподвижные силуэты, но гуси проскользнули дальше, обдав меня тугим воздухом. Слышно было, как свистит у одной из птиц обломанное в крыле перо. Мягко и дружно закричали белолобики над манным гусем и один за другим стали тяжело садится. И снова все повторилось, и снова вылез за подбитым гусем Красов. Поглядев вслед улетающей стаи, он стал махать мне рукой, а потом – шапкой. «Зовет, – понял я, – здесь караулить бесполезно…» Hе хотелось покидать приглянувшееся место, но я понимал, что пара обшарпанных профилей ничто в сравнении с манным гусем, и вылез.
– Ставь свои профиля, да садись, – встретил меня Красов быстрым говором. – Я тут раздал засидку, на двоих места хватит…
В чужой засидке я чувствовал себя неловко, стесненно.
– Подумал, что примазываюсь, – с добродушной улыбкой, спросил он. – Я специально не сказал тебе про гуся…
«Клы-клы-клы, клы-клы-клы», – донесся грустный переливчатый крик.
– Не шевелись! – предупредил Красов, прижимая меня локтем.
Через край скрадка я увидел с десяток гусей, падающих прямо на нас. Они были так близко, что можно было разглядеть отдельные перья на тугих крыльях и хвосте, желтые растопыренные лапы. В короткое мгновенье гуси мелькнули перед глазами и пропали, свалившись вниз. Раздалось мощное хлопанье крыльев и все стихло.
– Ты бери правого, – шепнул сосед, медленно распрямляясь и осторожно высовывая ружье, – а я левого.
Вытягивая шею, стал подталкивать вверх и я свою берданку. Шагах в двадцати от нашей кучки стояли высокие, поджарые, искрящиеся на солнце перьями птицы. Смотрел бы да смотрел на них, но напарник уже приложил приклад к щеке, и я сощурил левый глаз, ища в щербатой прорези маленькую, избитую мушку. Плавно опускаясь вниз, она закрыла весь бок ближнего гуся. Берданка вздрогнула от выстрела, колыхнув солому, и гусь забил по стерне крыльями, пытаясь взлететь. Но попытки его были тщетны: шея птицы медленно гнулась к земле, валилась вбок. Бросив ружье, я выскочил из соломы. Гусь еще мелко-мелко колотился на земле, стараясь поднять тяжелую голову, но глаза его сужались и блекли. Я едва поднял добычу, схватив за шею. Гусь был еще горячий, еще трепетала в нем какая-то живинка, и тупая боль сжала мое сердце, глаза ничего не замечали, кроме этой большой, умирающей птицы.
– И моих тащи под солому, – донесся голос Красова, и только тут я увидел еще двух гусей, лежащих на стерне. Я поднес гусей к кучке и закрыл соломой.
– Больше не прилетят, – подвигаясь, сказал Алешка, – на тот край пошли, видишь?
Далеко, почти у леса, низко строчили по небу цепочки летящих от озера гусей: одна, две, три…
– Услышали выстрелы – и в другую сторону…
Сердце у меня дрожало от волнения, и эту дрожь я ощущал всем телом. С одной стороны выходило, что мне надо было радоваться: я добыл гуся – осторожную и крупную птицу, мясо которой можно разделить раза на два – почти два дня хлебать наваристый ядреный суп, с другой – жалость липла в душе и беспокоила.
– Понимаешь, – Красов щурил глаза, отблески зари горели на его волевом лице, – что-то сердце заскребло за этих казарок.
– Их вон тысячи, – решил проявить я твердость духа. Но бывший фронтовик давно понял мое состояние и не поверил в напускную строгость.
– Людей угробили миллионы, а тысячи гусей угробить просто. Когда ты вырастишь, их уже наверняка столько не будет…
Зоревые полосы потянулись по стерне, залили в лужах воду, зажгли лес, далекие деревенские дворы, край неба – над озером проклюнулось солнце.
Красов поднялся.
– Давай кончать охоту, больше все равно не прилетят.
Мы вылезли из соломы, стали отряхиваться, разминать затекшие ноги. Я начал очищать профиля от налипшей грязи. На душе было безрадостно: четыре гуся, подстреленные конкурентом, не давали мне покоя.
Красов цеплял свою добычу на удавку.
– Возьми-ка вот одного, – он протянул мне увесистого гусака, – а то несправедливо получается: охотились вместе – у тебя один гусь, у меня – четыре… – Он будто угадал мои мысли, и стало неловко.
– Да зачем, и одного хватит, – заупрямился я.
– Бери, бери. Охота – дело фартовое. В другой раз тебе повезет – рассчитаешься. Тем более, я тебе помешал…
Удивительное солнце выкатилось из-за озерных камышей: огромное, круглое, как блин, чистое… Тишь и тепло, и благодать потекли от него на землю.
Мы шли зигзагами, обходя синеющие разливы. Куда ни кинь взгляда – везде вода и вода, и на каждом разливе резвились, славили солнце и весну неугомонные птицы.
– Я, Ленька, ходил во фронтовых разведчиках, – рассказывал Красов, – таскал языков для допросов. В последний год войны нашу группу, при возвращении из немецкого тыла, накрыли минометным огнем. Я получил ранение в грудь, почти год лечился, а потом еще почти год дрался с бандитами в приграничных лесах на западе…
Я слушал его, и душа полнилась светлой радостью: и от весеннего буйства природы, и от мыслей, что в моих знакомых теперь будет такой геройский человек, и от того, что в сумке у меня ощутимой тяжестью лежали два гуся, – и сладкое чувство ликования накатывалось на меня, подобно волнам солнечного света.
* * *
Дед явно обрадовался добыче. Он взвешивал гусей на руке, кивал одобрительно:
– Но, ты и фартовый – первый раз и такая удача. Этих гусей нам на неделю хватит. Щи с гусятиной, пусть из крапивы да лебеды, все навар… – Он еще что-то говорил, но я уже погружался в сон.
Был выходной, и я, вернувшись с охоты, полез на полати – ночь-то прошла в тревожном нетерпении, да и вставать пришлось рано. Мать и Шура ушли на колхозную работу, и никто мне не мешал отсыпаться.
Но проснулся я все же от какого-то разговора – чуть-чуть приподняв занавеску, увидел деда и незнакомого мужика, сидевших за столом. На столе – большая бутылка из толстого стекла и распечатанная банка каких-то консервов. Гость сидел ко мне спиной, и лица его я не видел. Спина сутулая, плотно обтянутая гимнастеркой. «Родня, что ли, какая?» – подумалось, и я хотел было уже объявиться, но вдруг услышал:
– Ну что, дядь Данила, отдашь за меня свою дочь?
Дед прищурился с усмешкой:
– Так у меня их две: одна еще не доросла до замужества, хотя и отрывает руки на колхозной дойке, а вторая была замужем, фронтовая вдова теперь. Сын вон её на полатях дрыхнет.
Меня аж передернуло от удивления: «Свататься, что ли, этот мужик пришел? И кого сватать? – Искорка тревоги ожгла сердце. – Неужели?!» И у меня, пожалуй, впервые мелькнули мысли о том, что матушка еще молодая и красивая и к ней может кто-нибудь посвататься. Я затаился, как заяц под кустом.
А незнакомец налил в кружки вина. Вероятно, он и принес бутылку, поскольку дед не увлекался спиртным и вряд ли бы стал тратить деньги на вино, если бы они даже и были. Да и с какой стати.
– Я веду речь про Анну, – спокойно отозвался на дедову подковырку незнакомец. Голос у него был басовитый. Да и сам он, судя по спине, не был слабым.
Меня огорошило его заявление, сердечко задрожало в ожидании дедова ответа.
– Её, как видишь, нету, – дед пощипал ус, – а без неё какой разговор? Не девица на выданье, как решит сама – так и будет.
– С ней я договорюсь, а меня интересует твое мнение и что ты дашь за дочерью, корову или еще что там? Хозяйство нам поднимать на пустом месте придется. – Мужик взял кружку. – По рукам?
Я замер, в ушах зазвенело: «Это как, жить с этим мужиком без деда?!»
А дед вдруг резко встал и, быстро ухватив незнакомца за шкирку, потянул к дверям.
– Ах ты, едрит твою в корень! – выругался он. – Ты дочь мою пришел сватать или корову!
Мужик было попытался сопротивляться, но тщетно – крепок на руку был еще дед.
– Ты что, ты что, дядь Данила! Ты не так меня понял! – заорал незнакомец, все еще пытаясь освободится от дедова захвата.
Но дед доволок его до двери и, распахнув её ногой, вышвырнул незадачливого «жениха» в сени.
У меня отлегло от сердца. Мысли поутихли.
А дед приподнял занавеску и поглядел: сплю я или нет. Я притворился спящим.
После, в другие годы, к матери сватались еще двое или трое, причем один какой-то начальник из района, но матушка всем отказала. То ли она меня жалела, то ли все еще надеялась на чудо и ждала отца (последнее – скорее всего), так как ровно через десять лет после его гибели она все же вышла замуж за вдовца с двумя малолетними детьми. Вдовец был мужем двоюродной сестры матери, которая умерла совсем еще молодой от туберкулеза. И не в любви или иных расчетах было дело – просто она пожалела малолетних двоюродных племянников
Глава 2. Сенокосная пора
1
Успешно, без троек, я сдал экзамены за пятый класс, и мы с дедом плотно запряглись в хозяйственные дела. Он – за главного, я – в помощниках. А июнь накатился мощно, с яркими зорями, жгучей жарой, душными ночами, погнал в рост травы, рассыпал цветы, и тихо было в лесостепных просторах…
Деду понадобились ивовые прутья на починку короба, и я налегке, с одним топором и веревкой, пошел в лес.
Запах тальников слышался издали. Терпкий и острый он глушил все другие запахи, и сразу потянуло сыростью – в низине блеснула вода в обрамлении ивняковых зарослей.
Найдя кусты погуще, я стал рубить их молодые побеги и складывать на растянутую веревку. Мешали ошалелые комары, оводы, но кучка росла, тяжелела. Попробовав ее на вес в третий раз, я решил, что большего мне не унести, и скрутил прутья веревкой.
Недалеко, среди молодых берез и осин, виднелись небольшие бугры, заросшие бурьяном – остатки чьей-то заимки от доколхозного времени. Оттуда, пока я рубил ивняк, долетал пряный запах цветущей смородины. И заросли, и бугры манили своей таинственностью, и, взяв топор, я пошел туда, оставив вязку прутьев на поляне.
Раздвигая шелестящие стебли бурьянов, я забрел далеко и наткнулся на заброшенный колодец, до краев заполненный водой. Видно было уходящие в глубину венцы сруба, отраженные пятна облаков… Отвернувшись от грозного четырехугольного ока, я двинулся в гущу смородины. Одичавшая, она разрослась буйно и широко. Клейкие ее листья ароматно пахли. Я мял их пальцами и с удовольствием нюхал, продвигаясь в глубину зарослей. И вдруг откуда-то потянуло вонью. Подумав, что где-то в кустах лежит падаль, я хотел повернуть назад, но, сделав три-четыре шага, увидел небольшую выбитую полянку. На другом ее краю, под плотным кустом, темнела нора, похожая на пологую яму. Я подошел к ней и наклонился, заглядывая в темноту. Из ямы шибануло таким зловонием, что пришлось зажать нос. Я бы тут же и ушел, если бы не заметил подозрительного движения в норе. Что-то там мелькнуло, шевельнулось. Меня охватила оторопь. Крепче сжав топор, я присел на корточки и увидел в черной глубине белесых щенят, сбившихся в кучку. «Откуда здесь щенята? – промелькнула мысль, а рука уже тянулась в нору. – Лисятки?..» Схватив за шиворот ближнего щенка, я вынул его на свет. Он не визжал, не рычал, не скулил, а лишь изгибался всем телом, пытаясь вывернуться. Сунув звереныша назад, я насчитал их еще пять.
Где-то хрустнула ветка, и мне показалось, что кто-то остановился сзади. Мгновенный страх прошил все тело, холодная дрожь током прокатилась от затылка по спине. Резко оглянувшись, я увидел в двух шагах от себя большую серую собаку. Взгляд ее блестевших настороженных глаз на миг встретился с моим взглядом. «Волк!» – взрывом вспыхнула страшная догадка, и я бессознательно, падая, перекатился за куст, выставив перед собою топор. Но небо надо мной не заслонилось зверем. Сквозь переплетения веток я увидел, как волк сунулся в нору. Еще несколько раз, как попало, перекувырнувшись, царапая лицо и руки о ветки и бурьяны, я вскочил и, оглядываясь, кинулся прочь из плотных зарослей.
Лишь на поляне, увидев синее небо и залитые солнцем березы, я остановился, хватая ртом горячий воздух. Правая рука, сжимавшая топор, занемела, и я перекинул его в левую, поняв, что теперь волк на меня не бросится. Не спуская глаз с зарослей, я трусцой побежал к вязанке прутьев и, шустро подняв ее, оглядываясь, как мог, заспешил к деревне. И чем дальше оставались тальники, тем спокойнее становилось у меня на душе. Уже и не верилось, что волк был рядом. Не показалось ли?
– Вот те возьми, где устроились! – удивился дед, выслушав мой торопливый рассказ. – Под боком у деревни! Беги к заготовителю, а то волчица перетащит щенят в другое место…
Степин взял новенькую одностволку, как он сказал – казенную, кинул в телегу топор, лопату и мешок и крикнул мне:
– Поедем! Быстрей!..
Он так гнал лошадь, что телега прыгала на кочках, подбрасывая и меня, и даже думать было невозможно, не то что говорить. До ивняков мы доехали быстро, и заготовитель, привязав лошадь к березке, заторопился:
– Бери топор и лопату! Скорее! – Схватив ружье, Степин устремился к буграм: место это он знал не хуже меня, а то и лучше и точно ориентировался. С непонятной тоской двигался я за ним, держа топор наготове.
Снова запахло звериным духом, падалью, и мы вышли к логову.
– Карауль! – приказал заготовитель и, сунув мне ружье, запустил лопату в черное отверстие норы. Раздались какие-то звуки, не то визг, не то урчание. Он нагнулся, вытянул за лапы одного волчонка и ударил головой о лопату.
Темнота полыхнула перед глазами, колючий озноб прошел по хребту, и пока я приходил в себя, заготовитель и второго волчонка убил таким же способом. Наполовину скрывшись в норе, он шарил там, а я, потрясенный злой жестокостью, старался не глядеть на волчат с окровавленными головами.
– Ты же говорил шесть. – Степин полез из норы. – А где они?
Я молчал, не понимая его.
– Унесла, сука! Успела! – отряхнув ладонь о колено, Степин вырвал у меня из рук мешок и покидал туда мертвых волчат. – Ну вот что, будем искать новое логово, перепрятала она их…
Но я, плохо слушая Степина, жалел, что рассказал ему про свою находку. Меня жгла жалость к маленьким, так зверски убитым волчатам…
2
К концу месяца дед собрал мне небольшую косу. Полотно для неё он нашел где-то в сарае, из старых еще запасов, а на черенок взял высушенный до костяной твердости березовый шестик.
– Вот, Ленька, – показывая мне косу, с теплинкой в голосе, говорил дед, – твоя будет лет на пять, пока не станешь осиливать большую литовку. Отобью лезвие на бабке и будет резать траву, что бритва. Полотно-то у неё еще с царских времен, из особенной стали, не то что теперь. Видишь вон на пятке выбитый двуглавый орел? Это царский герб…
Мне было радостно: и оттого, что дед, сделал мне косу и считает меня доросшим до настоящего косаря; и оттого, что коса особенная, царская; хотелось и показать себя в серьезной работе и помочь деду наравне со взрослыми.
– Как разрешат покос, – дед с улыбкой поглядывал на меня, – так мы с тобой и подадимся на луга. Тяжеловато будет – да на корову с овцами все равно набьем. Копен сорок поставим, а ближе к осени начнем сено на тележке домой перевозить…
Я прикидывал в уме: «Это сколько же нам с дедом предстояло работы! Справимся ли? Матушка и Шура не в счет – они в колхозе. Кто их отпустит на свою работу… Еще и дрова на зиму надо заготавливать. А там школа…»
Тревоги, тревоги. Сердечный надрыв.
* * *
Недели через две-три после того разговора, началась сенокосная страда, и колхозное руководство выгнало на заготовку сена всех, кто мог работать, включая школьников. Меня дед не пустил. Разговаривая с Разуваевым обо мне, он пояснил:
– У меня обе дочери работают в колхозе без отпусков, а этот пусть мне помогает. Один я не управлюсь со своим сенокосом.
– Все о себе печетесь, – Разуваев поджимал и без того тонкие губы, – а общее, значит, пусть под откос идет.
– Не больно велика потеря без моего внука, а вот нам, если останемся без коровы, придется «матушку репку петь».
– А, хрен с вами! – Разуваев отмахнулся и хлестанул жеребца плеткой.
* * *
В день-два я освоился с косой и, следуя за дедом, стал выводить более-менее ровные рядки без огрехов и земляных выхватов.
Выходили мы с дедом из дома на восходе солнца, чтобы еще по росе, до жары, сваливать умягченные влагой травы в валки, а когда изрядно припекало, подавались в тень от кустов и, перекусив, дремали или разговаривали до спада жгучего зноя.
Первое время у меня к вечеру в руки и в спину натекала болезненная тяжесть, а дней через пять стало легче, привычнее.
Косили мы траву в приозерных лугах, и в полверсте от нас, на взгорке, нет-нет да и появлялась стая серых журавлей. Они прилетали откуда-то ни то пастись, ни то на отдых, и почти до вечера темнели вдали расплывчатым пятном. И так все дни, пока мы укладывали сочную траву в ровные рядки. Дед, как-то в очередной раз поглядев на увал, сказал мне:
– Видишь, журавли гуртятся на взлобке. Улетают куда-то поутру и к обеду возвращаются, оставляя на облюбованном месте сторожа. Ты бы попробовал его обмануть и подобраться к тем вон кустикам, что неподалеку от выгора. Глядишь – и стрельнул бы одного долгоногого, когда они вернутся, а то мы на одной лебеде скоро литовки не протянем. Да и тебе расти надо – кожа да кости остались, смотреть горько. А журавль – это тебе ни утка какая-нибудь – в нём мяса почти с полпуда будет. Да и упитанные они сейчас. С неделю можно добрый навар хлебать…
Я и вправду всегда видел одного журавля, остававшегося на старой гари, после того как улетала стая. Он находился на самом высоком месте и, прохаживаясь туда-сюда, словно бдительный часовой, подолгу обозревал местность, вытянув и без того длинную шею.
– Да, обманешь такого, – засомневался я в дедовой затее. – Он вон какой высокий, да еще на бугре стоит – все видит.
– А ты постарайся. Ползком по траве, да за кочками, к кустам. Вдруг получится.
– Это сколь ползти-то! Тут до тех кустиков полверсты.
– А ты с отдыхом…
Я и сам не раз поглядывал в сторону журавлей и таил мысль о том, как бы к ним подкрасться. Потому и ни долго упирался. Так – для виду. Наш разговор походил больше на взаимный совет, чем на спор, и дед, и я прекрасно это понимали и всегда, в сомнительных обстоятельствах, изъяснялись таким способом.
Во время обеденного отдыха, подкрепившись огурцом с картошкой да стаканом кваса, начал я подкрадываться к журавлиной дневке, предварительно определив ориентиры, за которыми можно спрятаться и передохнуть.
Густа трава и жестка, ладони от неё загорелись посильнее, чем от косовища литовки, а старичка в ней ощутимо царапала руки и голые ноги. А тут еще ружье елозило по спине и терло ремнем плечо…
Как не прыток я был и гибок, а вскоре выбился из сил и завалился среди кочек, опрокинувшись на бок.
Светилось небо, пряча за поволокой легкой туманности свои глубины. Четко темнели на фоне размытой голубизны хлыстики высоких трав, заслонив окоем от обзора и надежно скрывая меня от постороннего взгляда. Шелестели в зеленой гуще какие-то букашки, напуганные моим грубым вторжением, и шумело в висках от натуги.
Но даже и мыслей у меня не было на отступ, и, полежав пару минут, я снова начал грестись в травостое, раздвигая руками: то жесткое разнотравье, то мелкую осоку, то полынки с ковылем – лишь изредка, на уровне редких стеблей, приподнимая голову, чтобы не потерять ориентировку.
Коленки натерлись о траву и зазудели. Тугой жар стал натекать на лицо, шею и спину. Мышцы рук и ног затянуло легкой болью, и я снова распластался в траве, уронив голову. То же неподвижное небо в световых переливах, те же, едва уловимые, шорохи в травяной гущине, те же несколько минут отдыха и дальнейшее движение по-пластунски. И еще несколько раз приходилось мне, чувствуя, как саднят руки и ноги от многочисленных царапин, тяжелеет тело и истаивает изначально желание подобраться к журавлиной дневке на верный выстрел, сдвинув вбок берданку, опрокидываться на спину и глядеть в безучастное небо. А когда почти не осталось сил, уперся я в плотную куртину лебеды и чернобыльника, выросших то ли на какой-то межевой грани, то ли на старом одонке сена, и присел, чуть-чуть распрямившись. Высокие, не меньше метра, броские метла бурьянов надежно меня прикрывали, и, раздвинув их, я заметил шагов за сто сторожевого журавля, замершего на месте и высоко вскинувшего остроклювую голову. Никаких кустиков впереди не было. Вероятно, из-за дальности, мы с дедом приняли за кустики ивняка эти самые бурьяны. А за недалеким урезом остистого пырея начинался широкий, до самого взгорка, разворот мелкой травы, по которой ползи не ползи – не спрятаться. Екнуло сердце – как ни крути, а выходило, что я напрасно маялся, натирая до красноты коленки и парясь в дурманном настое пахучих трав, от которого кружилась голова и ощутимо билась в висках кровь. В таком отдалении от заветного места журавли вряд ли накроют меня, когда вернуться на отдых. Но дальше хода нет. Сторожевик сразу же заметит мои движения в мелкой траве и отлетит подальше, а к нему потянется и остальная стая. И я решил ждать удачу в бурьянах. Авось повезет и на крутом развороте журавли налетят на меня, а там – на низкой высоте, да в такую большую птицу, вряд ли промахнусь…
Прошло с полчаса, а может, и больше, и усталость, все это время давившая на плечи, склонила меня к земле. Уже сквозь набегающий сон услышал я далекое курлыканье и встрепенулся. Рывок вперед, и я в самой гуще бурьянов. В промежутки между их метелок заметил летящую стаю журавлей. Погорячело в груди. Задрожали руки, сжимая ружьё. Минута-две и вот они – долгожданные. Лениво взмахивая широкими крыльями с прогибом, пошли в скользящем полете на снижение. Один разворот, второй и третий. Да прямо на меня! Да низко! Сшибать передних вожаков дед не велел, и я вскинул ружье в тот момент, когда стая почти протекала надо мной. Где-то третий или четвертый от конца строя журавль зацепился за мушку. Грохнул выстрел, и большая птица, несуразно кувыркнувшись, свалилась в пырей. Какой переполох поднялся! Тяжелые птицы, ломая строй, с хриплым курлыканьем зачастили крыльями, устремляясь вверх по крутой дуге. Сорвался с пригорка и сторожевик. А я, задыхаясь от восторга, кинулся к добыче. Еще бы! Я подстрелил крупную птицу, и теперь можно будет с неделю поддерживаться доброй едой и придавленному заботой деду, и матушке, измотавшейся на колхозной работе, и Шуре, и мне самому…
И вот он – подстреленный журавль! Острый, как пика клюв, на голове красный лоскут голой кожи, непомерно долгая шея и кустистый хвост, похожий на петушиный. А крылья! Я, не без усилия, поднял еще теплую птицу на спину, перекинул длинную шею через плечо и поволок добычу к нашему стану. Причем ноги журавля тащились по траве, а обвисшие крылья прикрывали меня с боков, слегка встряхиваясь при каждом шаге, отчего я сам, вероятно, был похожий на большую птицу, шастающую по широкой степи.
– Молодец-удалец! – похвалил меня дед, когда я, изрядно подуставший от телесного и нервного перенапряжения, от нелегкого возвращения с тяжелой ношей, бросил журавля на траву и упал рядом с ним. – Хороша птица! – С некоторой оживленностью разглядывал он журавля. – Даже жалковато. И так подумаешь, и этак. Но, как не крути, а нам надо продержаться до нового урожая, когда и в огороде что-то будет, и хлеб пойдет какой-никакой. Теперь-то, в самую трудовую пору и полную скудность в еде, и вовсе хоть матушку-репку пой. А ты запомни и больше никогда не стреляй журавлей. Журавль, Ленька, хорош в небе. Залюбуешься, когда они в поднебесье клином двигают и курлычут.
– Ты же сам меня послал на эту охоту, – буркнул я из-под руки, понимая деда, – мне тоже стало не по себе от свершившегося.
– Так время сейчас особое, переломное, – работы по ноздри: покос и страда на носу – на зелени не больно выдюжишь. А жалость – дело душевное, не телесное. Вот погляди-ка сейчас еще, как будут судить сторожевика за то, что он тебя проглядел…
Слушал я деда, и та радость, с какой я нес добытого журавля к нашему стану, те мечты о полноценной еде меркли с каждым его словом. «Скажет же дед – какой суд у птиц?! Они же несмышленые?»
Дед будто уловил мои мысли:
– А ты погляди, погляди!
Я встал. Там, на увале, происходило что-то необычное. Журавли плотно гуртились, махали крыльями, подпрыгивали, как-то хрипловато курлыкали.
– Видишь, клюют виновника и крыльями хлещут, – утверждал свое дед. – Могут и до полусмерти задолбить…
До странно ведущих себя птиц было далеко, и утверждать или отрицать предположение деда я не торопился. Лишь много позже, от кого-то из охотников, я слышал о таком же поведении журавлей, но сам никогда больше не видел ничего подобного. Да и не стрелял я больше их ни при каких обстоятельствах, видимо, каким-то образом осудив самого себя еще в тот необычный день.
3
Несмотря на сенокос, молодежь все же собиралась на уличные танцы, возле недостроенного еще до войны клуба. В гармонистах ходил Петруня Кудров. Голосистый его аккордеон слышно было по всей деревне. И стоило ему растянуть меха у своего дома, направляясь к клубу, как туда же спешили парни и девчата. Да и молодые вдовы, чьи мужья покоились в далеких землях, не отставали от них, надеясь если не обворожить кого-нибудь своими плясками – так хотя бы отвести душу в накатном веселье. Даже мы – сопляки нет-нет да и приходили к танцам, послушать разговоры парней – особенно бывших фронтовиков, которые еще гуляли, еще тянули деревню к веселью, опрокидывали в бесшабашный настрой. Их бравые байки разжигали у нас неотвратное любопытство, поднимая всплески воображения. Да и парни призывники, тоже гуртившиеся возле фронтовиков, одаривали друг друга слухами о деревенской жизни. Ну как тут не навострить уши? Лови, мотай на ус, авось пригодится! Поглядывали мы и на пляски, стараясь запомнить все их жаркие развороты, с тайной надеждой когда-нибудь и себе закружиться в таком же неистовом вихре. Особенно цыганочка будоражила, которую азартнее всех выбивала фронтовая вдова – Груня Кудаева. Крепкая и статная, тонкая в талии, она выкручивала ногами такие коленца, которые никто не мог повторить и, когда Груня, не редко по просьбе кого-нибудь из парней, выходила на круг, любо-дорого было смотреть на неё – вихрь и дробь в накат к мелодии аккордеона.
Слушать-то мы слушали, смотреть – смотрели, да с оглядкой, как бы кто-нибудь из учителей не застал нас в неположенном по возрасту месте. Жди потом вызова родителей в сельсовет на беседу в нелицеприятном тоне. Ну а дома, после того вызова, своя разборка, и у каждого по-разному. Да и не все видимое и слышимое было для нас потребным: частенько парни и за грудки друг друга хватали, и нецензурная брань раздавалась, и непристойные слушки о ком-нибудь, из деревенских, выплывали, попробуй – разберись, прими, как надо.
А еще, кроме учителей, нас гонял с улицы (так называли в деревне эти танцы) умом помешанный – Антип Дукаев. Было ему лет сорок: кучерявые волосы, пронзительные голубые глаза, крепкое сложение – завидный на взгляд мужик. Такого бы и в мужья любой женщине брать не зазорно. Да беда – юродивый.
По рассказу деда, когда Антипу было года два, родители взяли его с собой на покос – не с кем было оставить мальца. В тени, в бричке, на свежем сене, сидел Антипка, а родители невдалеке траву косили – мирно, тепло, солнечно. И вдруг привязанная к бричке лошадь, с громким ржанием, взвилась на дыбы – то ли испугалась чего, то ли укусил её кто-то. Затряслась бричка от её рывков, запрыгала. Пока хозяин добежал до стана и успокоил лошадь, малыш изошелся в плаче. С той поры и потерял он рассудок – стал, попросту говоря, дураком. И то ли по чьему-то подстрекательству, то ли по какой-то иной причине, но стоило Антипу заметить нас – недоростков вблизи танцев, как он хватал любую попавшуюся под руку палку и бросался к нам. Мы, конечно, врассыпную и в разные стороны, а кое-кто начинал и дурачиться, дразнить Антипа, распалять. И тогда не попадайся ему под руку. Если до этого он, даже догоняя кого-то, обычно только угрожал, размахивая палкой, то в злобе мог и хлестануть ощутимо. Все это знали, но нас, сорванцов, раззадоривала любая опасность: где уж там слабоумному Антипу притушить тот угар нелепого героизма, который так и пер из нас.
Антоха Михеев как-то, удирая от Антипа, остановился на мгновенье, спустил штаны и показал задницу, и то ли не рассчитал расстояние, то ли замешкался чуток, но получил такого пинка, что раза два перевернулся через голову. Хорошо, что Паша отвлек Антипа, выпрыгнув от него сбоку, а то бы Антохе еще бы и палкой досталось.
Зачем Антип ходил на танцы – никому было неведомо. Он только улыбался да пожевывал губами, когда спрашивали об этом.
Жил Антип у брата в семье, работая с темна и до темна на подворье. «Ефрем его за батрака держит, – выказывал недовольство дед, отвечая на мое любопытство, – даже кормит не за общим столом, а на табуретке, у порога…» Мне, после рассказов деда, становилось жалко Антипа: полоумный, но все же человек, зачем же так? И я старался держаться в стороне от ребячьего озорства с ним.
4
На исходе августа в деревню приехал уполномоченный по трудовому набору молодежи на Дальний Восток, и Шура с Мокой записались на какой-то рыбозавод.
На отговоры деда и матери она заявила:
– Хуже колхоза не будет. У меня от дойки пальцы стали болеть. И хоть мир посмотрю…
Заявила – и как отрезала. Даже душевная её подруга Настя, усомнившаяся в посулах вербовщика, не могла убедить Шуру не покидать родного дома. А у меня и вовсе потяжелело на сердце: еще бы, самые значимые мои авторитеты – Кольша и Шура, у которых я многому научился и которым во многом подражал, оказывались в далеких от меня краях. С отъездом Шуры окончательно обрывалась нить не только близкого родства, но и струнка душевного созвучия. Один я оставался с матушкой и дедом на дальнейших подвижках по жизни. Жалко было не только Шуру, пускавшуюся в неведомые, чужие для нас края, но и себя, и мать с дедом: как не крути, как не прикидывай, а на их плечи ложилось больше дел и хлопот. Но что складывалось – то складывалось, не изменить.
На проводы собрались у нас: Настя с Любой – Мокой, да Федюха Сусляков с Васиком Вдовиным – все их молодежное звено по дойке, ну, и, конечно, все мы. Дед верховодил, подал даже каждому, исключая меня, водки (по махонькому), в кружке. А меня заставил играть на балалайке. Под её треньканье и танцевали, и песни пели. У деда даже глаза повлажнели, а матушка вытирала слезинки платком.
– Самое главное, – напутствовал дед Шуру с Любой, – держать себя в узде, ни в какие там сомнительные гулянья не подаваться, а если и доведется веселиться, так без лишних шашней…
Дед говорил, а я, зажав балалайку под локтем и не играя, чтобы не мешать его словам, представлял море, пароходы, огромные сети с рыбой, бравых моряков и наших девчат среди них… Истинных-то знаний о морской рыбалке и рыбозаводах у меня еще не имелось – вот и рисовал я те картинки, которые шли в воображение как бы сами собой.
А на другой день мы проводили Шуру в дальнюю дорогу.
5
Разбудил меня непонятный рокот за оградой. Приподняв занавеску над полатями, я прислушался – никакого рокота. «Показалось со сна», – решил я, и хотел было еще поваляться – не так уж поздно было, но дверь в избу распахнулась и дед позвал:
– Вставай-ка, малый, к тебе серьезные люди приехали.
«Какие люди? Что такого я сделал, чтобы они мной заинтересовались». Даже сердечко застучало чаще.
Ополоснул лицо холодной водой и на улицу. За оградой дед с матушкой и незнакомец в военной форме. Рядом с ним – мотоцикл с коляской. Такой я видел у охотников, приезжавших весной из города пострелять уток. «“Харлей” немецкий, трофейный», – определил тогда тот мотоцикл Ван Ваныч, отвечая на уроке на наше общее любопытство. И вот он – «харлей» у наших ворот. Даже одно слово – трофейный, вызывало легкое смятение с потайным интересом, а внушительный вид мотоцикла и вовсе накатывал подобострастный озноб. А тут еще военный в форме. Кто? Что? Сжался я в тревожном неведении, подошел, робея.
Военный окинул меня быстрым взглядом.
– Это и есть Леонид Венцов?
– Он самый. – Дед кивнул.
– На тебя, Леонид, пришла разнарядка из областного военкомата: надо ехать в Москву – поступать в Суворовское училище. Что ты на это скажешь?
Я и вовсе оторопел: «Меня в Москву?!» Вмиг нарисовались: Кремль, башни со звездами, зубчатые стены… Заманчиво, радостно. Но, взглянув на матушку и перехватив ее печальный взгляд, я замешкался. А военный ждал ответа, смотрел спокойно, внимательно.
– Поедешь ты в Москву не один – двое вас таких в нашем районе, – смял он затянувшееся ожидание, – я буду сопровождающим. Проезд – бесплатный и в училище полное государственное довольствие. Пока будешь учиться по школьной программе, а после, при должной успеваемости и хорошем окончании среднего образования, направят в какое-нибудь военное училище осваивать военную профессию, по выбору, станешь офицером, как твой отец, а там и, возможно, академия, генеральские погоны… – Слушал я военного, и дух захватывало от обвальной перспективы. «Это в Москву, столицу, да еще и на полное обеспечение!» Душа так и взыграла, забились в переплясе радужные мысли, сломали и мою робость, и мое минутное колебание.
– Я согласен! – сфонтанировало у меня.
– Ну вот, видите. – Военный взглянул на матушку. – А вы отрезаете звездный путь вашему сыну.
– Из нашей голодухи и навоза, – поддержал военного и дед, – да в такое довольство – это, как из грязи да в князи.
Я понял, что среди взрослых уже состоялся разговор по поводу отправки меня в Суворовское училище, и матушка была против этого.
– Сам сложил голову на чужой стороне и этого хотите забрать!
– Да поймите вы правильно: государство заботится о сиротах войны, берет их на свое полное и бесплатное воспитание. И не всех, а пока только детей погибших офицеров, и то выборочно. Вы будите иметь возможность один раз в год приезжать к сыну в Москву по бесплатному проезду, и он, во время каникул, тоже может бесплатно ездить домой. В чем вопрос – не пойму! Вам такая возможность выпадает – увидеть своего сына на завидном жизненном пути, а вы упираетесь.
– Голова будет на месте и тут выучится. В отличниках вон ходит.
– Вот и хорошо, что в отличниках, – нам такие и нужны сейчас.
Защекотало мне душу от реальных возможностей, потянуло в угар светлых надежд.
– Отпусти меня, мама! – с дрожью в голосе, попросил я. – Хочу в Москву! – Но, взглянув на мать и заметив крупные слезы, выкатившиеся из её глаз, осекся.
– Сам погиб, и ты, сынок, где-нибудь сложишь голову – военный человек подневольный, куда направят – туда и поедешь, – с трудом сдерживая слезы, обратилась ко мне матушка. – И на гражданке можно выучиться, коль желание будет…
Против воли матери не предстояло гнуть свое, и я промолчал.
Еще с полчаса уговаривал матушку военный обо мне и дед его поддерживал, но она – ни в какую.
Два дня на раздумье дал нам военкомовский гонец, и, сев на рыкнувший мотором мотоцикл, уехал в райцентр.
Уговаривали матушку и дед, и двоюродный брат, работавший в райцентре начальником почты, и Ван Ваныч, каким-то образом узнавший про моё направление в Суворовское училище, и близкие знакомые – все бесполезно.
Плакал я по ночам, рвал душу и просился, почти канюча, когда мы оставались вдвоем с матушкой, но она была непреклонной – так глубоко и неотвратно потрясла её потеря отца: боялась она этого потрясения, повтор которого вряд ли бы смогла вынести.
Так и остался я в глухой, полуголодной и полунищей деревне на дальнейшее житье-бытье. А на мою путевку в Суворовское училище поехал сын какого-нибудь военного чиновника, отсидевшегося в войну на тыловых должностях.
Глава 3. Промысловик
1
Осень снова нагнула нас в хлопотных работах. С огорода убиралось все, что уродилось, что выхаживалось в летние дни и сулило стабильную еду на всю долгую зиму и затяжную, скудную на съедобные дары весну. Вечерами, когда солнце подплывало к вершинам леса, мы с дедом укладывали на тележку пахучего сена с копен и накатывали его в сенник. И так каждый погожий день: днем, после школы, в огороде, к вечеру – за сеном. А над озером гуртились утки и гуси, в лесах – тетерева и белые куропатки, скрадывай их да стреляй – коль время есть. Но его-то и не хватало: отойдешь от работы – уроки школьные тут как тут, ждут своего решения. Только к концу сентября просветлело со временем, да дожди пошли затяжные, носа не высунуть без особой нужды. Даже в школу не все одноклассники ходили – не в чем было. Деревня, в грязных, размытых ненастьем дорогах, ждала заморозков.
Я сходил к Степину и взял у него на временное пользование три десятка казенных капканов. Прокипятив их в сенном настое и сложив в сумку, сшитую дедом из прохудившегося мешка, стал ждать погожих дней.
И мое время пришло: больше суток шел снег, а потом наступило ведро. Похолодало, и, ослепленная солнцем степь заиграла дымчатыми снегами, утягивая взгляд к утонувшему в окоеме неба горизонту.
В тихий и мягкий день я взял капканы, с десяток протухших карасей на приманку и пешком отправился в лес. Снегу было еще немного и мои самодельные лыжи только бы мешали движению. Я направился на ближнюю пустошь, туда, где летом собирал лебеду и конский щавель на салаты и щи – там было больше всего мышей и там держались хори, колонки, лисы…
Грустно и неуютно было на пустоши. Черными пиками торчала из снега высокая конопля, желтели голыми скелетами лебеда и полынь… Кружевами вились между ними махонькие следы мышиного пробега. Их пересекали стежки горностаевых петель, более крупные рыски колонков и совсем огромные, по сравнению с мышиными точечками, лисьи печатки…
Часа два бродил я по старой пашне, по межам и тальниковым зарослям, и там, где больше всего пересекалось разных следов, оставлял на пеньках и земляных выступах вонючих карасей, настораживая вокруг этой приманки по два-три капкана.
Солнце светило мягко, свободно пробивая обнаженный лес, и далеко было видно каждое дерево, каждую валежину или пень, каждое темное место, обложенное голубоватым снегом.
Расставив все капканы, я налегке, прямиком, направился в деревню, примечая заячьи тропы и подходящие места для установки петель.
Возле плотных тальниковых зарослей я увидел странный, глубокий след: по снегу будто прополз кто-то. На дне этого волока виднелись непонятные вмятины. Похоже, какой-то зверь тащил тяжелую добычу. Направление хода не угадывалось, но интуиция подсказывала мне, что не в поле пойдет зверь с добычей, а в кусты. Взяв ружье наизготовку, я двинулся этим непонятным следом, вкрадчиво, с оглядкой. Мягкий еще снег без усилия раздавался под старыми валенками и не шелестел, и не хрустел. Я пересек выкошенную поляну и едва завернул за черный ивовый куст, как из осоки, убитой морозом, совсем близко, выскочила рыжая лисица. Странно подпрыгивая на одних передних лапах, она задергалась, будто ее кто-то удерживал за роскошный хвост. Поняв, что зверь или раненый, или в капкане, я опустил вскинутое к плечу ружье и кинулся следом. Лисица, волоча зад, успела сунуться в молодой кустарник, и я, влетев в него с разгона, получил несколько хлестких ударов ветками по лицу. От резкой мгновенной боли глаза заплыли слезами. Но зверя в лозняке не было. След его потерялся в густых мелочах. Внимательно осмотрев поляну, я заметил рыжее пятно среди кочек и решил не рисковать: поднял ружье. После выстрела лисица дернулась несколько раз и затихла. Осторожно взяв ее за хвост, я заметил, как безжизненно, будто перебитые, трепыхнулись задние лапы. Но ни капкана, ни каких-либо ран на них не было. Не догадываясь о причине такого уродства, я со смешанным чувством досады и радости перекинул лисицу через плечо и заторопился в деревню. Решив удивить своих домашних каким-нибудь подарком (а за шкуру лисицы можно было получить что-нибудь весомое), я прямиком направился к Степину.
– Э, так не годится! – покачал круглой головой заготовитель. – Лис-то мой, меченый.
– Как это ваш? – вскинулся я, тая слабые искорки сомнения, тревожившие меня всю короткую дорогу от пустоши до деревни – зверь все же был необычным.
– А так, задние ноги у него подрезаны. Еще в покос я выкопал четырех лисят из норы и перерезал им сухожилия на задних лапах, чтобы потом взрослых можно было без особого труда выловить. Старые-то лисы их не бросают, подкармливают всю осень – они и растут, и мех у них подходящий. – Степин пнул лежащую на полу лисицу. – Этот один из них. Я давно собирался поездить там верхом на лошади, поискать приметных лисят, да все откладывал за неимением времени…
Какое-то зло на себя, на Степина вдруг вспыхнуло во мне.
– Раз так, то лучше из нее шапку сшить. – Я наклонился и зацепил зверя за хвост.
Заготовитель придержал меня:
– Не горячись. Я же еще ничего не сказал. Предлагаю поделить товар поровну, справедливо будет…
Забрав лисицу, я совсем ничего не получал. Роскошная шапка была мне ни к чему: все равно ее поизодрали бы в школе.
– Давай мне ситцу на рубаху и деду, – откидывая зверя на пол, твердо заявил я, во мне поднималась некая неприязнь к этому человеку.
– Многовато просишь. – Степин прятал глаза.
Но я теперь понимал, что он юлит, и настаивал на своем.
– В самый раз…
Кое-как мы с заготовителем договорились: я получил ситцу на две рубахи и банку пороха, но радости от этого не было. Подлый поступок заготовителя, изуродавшего маленьких зверят, угнетал. Недавняя добыча, разговор, лето, лес, лисята – все перемешалось в моем воображении, а в душе устаивались какие-то новые чувства, прислушиваясь к которым, я решил, что никогда не опушусь до такого зверства, какое совершил Степин, как бы тяжело мне не было.
2
В конце школьного коридора, в проеме между дверями и печкой, появился удививший всех учеников плакат, на котором был изображен силуэт какого-то завода рядом с комбайном, а внизу большими буквами написано: «…всей деревней и селом подпишимся на заём». Что к чему – непонятно. А когда я пришел домой, то увидел удрученных чем-то деда и мать. Само собой возник вопрос: кто да что? Но ответа я не получил и стал рассказывать про появившийся в школе плакат о займе. Его, сказывали, Хрипатый, глава сельсовета, приклеил.
Дед тогда и разговорился:
– Вот ты, Ленька, грамоте учишься, вместе со мной по хозяйству спину гнешь, скажи, пожалуйста, что мы такое сможем продать, чтобы этот самый заём выплатить?
– А что это такое? – Я впервые слышал о каком-то заеме.
– Государство вроде в долг у нас берет деньги, в помощь, что ли. Потом облигации – бумаги такие ценные, выпустят, разыгрывать станут: может, кто-нибудь и осчастливится выигрышем. Но, сдается мне, большинство из нас только затылки почешут.
Не совсем все ясно мне стало после дедова объяснения, но кое-что я уловил и понял:
– Какие у нас деньги? Откуда? – загорячился я в удивлении. – Нам же, кроме зерна на трудодни, ничего не платят?
– Вот и я о том же? – кручинился дед.
– Так отказаться надо от этого заема. Помощь-то добровольная.
Дед усмехнулся, глянул на мать.
– Добровольная принудиловка: в совет вызывали, а там уполномоченный по этому займу сидит, на столе наган. Заикнулся я, что у селян денег нет – откуда их взять, а он: «Ты, – говорит, – за всех не отвечай, ты за себя говори». И за себя то же самое, отвечаю. А он наганом пошевелил и так это, с ехидцей, улыбается. «Ты что, против советской власти?» Загнул такое, что мурашки по спине пошли. Вспомнилось, как в колхоз загоняли, кулачили. Плача и горя на всю деревню было хлебать – не расхлебать. Подписался. Теперь вот гадаем, как из этой петли вылезти. Ведь только-только по осени с продналогом кое-как справились и вот на тебе – сойка в воробьинном гнезде…
Наплывал у меня в душу какой-то протест ко всем этим налогам, займам, трудодням, подневольной работе…
– Придется снять денег со сберкнижки, – предложила матушка, – я копила те, которые приходят за погибшего Емельяна, хотела Леньке штаны купить – в залатанных ходит.
– Нет, – дед покачал головой, – те деньги трогать не станем – получится нелепо: государство платит Леньке за погибшего отца, а мы будем эту плату возвращать. – Он помедлил. – Овцу придется сдавать заготовителю.
– У нас же их всего две! – вскинулся я. Штаны у меня и в самом деле были починены и на коленях, и на заднице, и хотелось ходить в школу в чем-нибудь более приличном, но и овцу было жалко.
– У которой ягненок – оставим. – Дед глядел не на меня, а на матушку. – А молодую сдадим.
– Так мы и овец лишимся, – засомневалась в таком решении матушка, – вдруг ягненок не дотянет до лета – слабый он какой-то. А потом где мы возьмем шерсти налог покрывать?
– Ладно, – дед махнул рукой, – не будем с ходу ломать голову, подумаем, время еще есть.
На том и закончилось наше семейное совещание.
3
– Жмет мороз, – входя с улицы и снимая старый полушубок, трясся в ознобе дед, – не ходил бы ты сегодня в степь – обморозишься…
Я собирался проверять капканы. По дедовым приметам вот-вот должна была сломаться погода, повернуть на буран, а коли так, то нужно снимать ловушки, иначе забьет их снегом, захоронит, и жди нового ведра, нового подходящего момента.
– Так неделю не смотрел, куда дальше тянуть… – Накрутив на себя все, что можно было, я взял топорик, надел лыжи и двинулся в лес. Ветер сразу стал проверять крепость моей одежды, биться в каждую дырку, под каждую заплатку, жечь холодом лицо. Даже быстрое движение по целине не спасало: спина грелась, а поясница и ноги стыли. До первого колка я добежал, не глядя по сторонам, а там стало потише – ветер все же разбивался о плотный лесной заслон. По опушкам зажелтели канавки заячьих троп, и я привязал в подходящих местах несколько новых петель, прихваченных на всякий случай. Сердце сладко замирало, томясь надеждой на удачу: как-никак, а я почти в десяти местах раскидал приваду. Да и мудрость деда, обучавшего меня пушному промыслу, пусть на словах, не могла подвести. И предчувствия мои оправдались: двух горностаев, застывших кочерыжками, хоря и колонка снял я со своих ловушек. В радости и мороз показался мне не таким уж страшным. Связав капканы проволокой, я прошел в густые ивняки и подвесил их на сук в приметном месте. Таскать в деревню и из деревни такую тяжесть не имело смысла. Пройдет метель, установится ведро, и снова надо будет идти в степь, искать места жировки зверьков и ставить ловушки.
Налегке, разогревшись в работе, окрыленный удачей, я решил проехать подальше в лес, поглядеть следы, новые переходы. Лыжи разрезали снег, почти не скользя, проваливаясь даже под моим весом. Я видел стежки лисьего бега, заячьи петли, тетеревиные и куропачьи следы, острые ямки осторожных косуль и проскочил довольно далеко в леса. Когда я повернул назад, на жесткий ветер, силенки оказались на исходе – усталость насела ощутимым грузом. Уже у знакомой до мелочей пустоши затряслись у меня коленки, заледенели щеки. Свернув в кусты, я решил передохнуть. Толстая валежина, отжив свое, повисла над самым снегом, опираясь на сухую вершину и пенек. Сняв лыжи, я сел к ветру спиной и затаился. В затишье было теплее. Стылым лицом я ловил лучи бьющего в глаза солнца и ежился и жался к промерзшим насквозь талинам. Безмолвно и мертво было в лесу, и какая-то тоска стала подкрадываться к сердцу, и убаюкивающая дрема размыла передо мной березы и забитую снегом поляну. Пошел по ней зеленый цвет, запестрели цветы, теплом от них потянуло. И вдруг из-за леса выкатился черный паровоз, ударил по траве белым обжигающим паром, угрожающе стал накатываться на меня. Мелькнуло над ним лицо матери, деда… А черная громадина больше и больше закрывала от меня свет, и от ужаса я закричал и проснулся. Все так же блестел снег, и тишь стояла в лесу, только в голове у меня страшно шумело. Двинув руками, я почувствовал такую острую боль в пальцах, что едва не вскрикнул. Страшная мысль о том, что я мог не проснуться и замерзнуть, пронзила сознание. От нее стало больно и ощутимо холодно в груди. Я попытался встать, но не смог: ноги одеревенели и не разгибались. Меня охватил дикий страх. Как заяц в петле начал я биться на прочной валежине. Колотил руками по бедрам, коленям, крутил головой и дергался во все стороны. В слабом моем теле еще остались некие силы, еще держалось тепло, и оно, разбуженное моими несуразными движениями, пошло в руки и в ноги…
Жгучей болью закололо пальцы, заскребло колени. Я едва-едва поднялся, с трудом удерживая равновесие на непослушных ногах, и кое-как нацепил на разбитые валенки лыжи. Слабо, как первогодок, двинулся я от валежины, и с каждым шагом, с каждой минутой возвращалось ко мне тепло. Страх гнал меня к деревне на пределе физических возможностей, и уже у последних колков спина взмокла и есть захотелось. Но мысль о том, что я мог так просто погибнуть, до самого дома холодила сердце.
* * *
Дома был один дед (матушка, как всегда, работала на колхозном току). Он порадовался моей удаче, рассматривая стылых зверьков, но, видимо, заметил в моем состоянии что-то необычное и, не расспрашивая ни о чем, вдруг начал говорить:
– Ты помнишь, как Пашка Доманин погиб, сходив на кладбище за крестом? Я тебе когда-то об этом случае рассказывал. Так вот, Доманиных было три брата, не считая сестер. Старший – Николай воевал в Гражданку на стороне белых, а Пашка был в красной кавалерии, младший из них – Василий, не воевал (в годах еще не вышел) и жил в деревне с родителями. Ходили тогда слухи, что вроде бы где-то в бою пересеклись пути братьев и Пашка зарубил Николая. «Бог его и наказал за брата», – шушукались по деревне после случая на кладбище. А беда в одиночку не ходит.
Уже колхозное время было. Возвращался Василий Доманин в Святки с женой и пятилетней дочкой домой из соседней деревни – под изрядным хмельком. Они были в гостях у кумовьев и до позднего вечера веселились. Мороз крепчал, и Василий то и дело торопил жену – дома еще надо было управляться со скотиной, а Танюха – его жена постоянно отставала. Она нет-нет да и несла девочку на руках. «Так мы до утра проканителимся, – горячился Василий. – Вы давайте потихоньку двигайтесь, – предложил он жене, – а я махну побыстрее. Придешь, а дома всё уже будет управлено…» Так и поступили: ушел Василий быстрым шагом вперед.
Незаметно пролетело время, пока Василий управлял хозяйственные дела. Ночь плотная села на землю, а жены с дочкой всё не было. Заволновался Василий и пошел их встречать. То расстояние, до места, где оставил жену с ребенком, он пробежал едва ли ни бегом, но ни жены, ни дочки не встретил. «Назад, что ли, вернулись?» – решил тогда Василий и бросился в соседнюю деревню. Кумовья уже спали, и недоуменно развели руками – не было, мол, никого. Василий побежал назад, полагая, что жена могла зайти к кому-нибудь из своих подружек в деревне и теперь уже дома. Но дом встретил его темной пустотой. Понял Василий, что случилось что-то неладное. Заблудиться его жена не могла – негде блудить, дорога одна, и он снова рванул в сторону соседней деревни, оглашая леса криками – пока не охрип. Но все напрасно.
Ранним утром Василий поднял людей на поиски жены с дочкой. И я в тех поисках участвовал. А нашел их заозерный охотник с собаками. Мертвыми. В ближнем лесочке. Помнишь того охотника, у которого мы с тобой были? – Я, отогреваясь на печке, отозвался. Рассказ будоражил, тянул мысли к моему недавнему сну на морозе. – У Танюхи, – досказывал дед, – было больное сердце, и случился у неё приступ со смертельным исходом, а пятилетняя девочка не могла знать дорогу и весь колок истоптала в поисках выхода, да так и замерзла. Ну а Василий после похорон напился и повесился. Вот так и сгинули три брата не за понюх табаку, а с ними и род Доманиных – думай, гадай – не угадаешь. Только зло оно и есть зло, чтобы грести под себя тех, кто неразумно оступился. Слушай да гляди. – Это уже дед мне кинул намек.
А я, засыпая в охвате тяжкого воображения, еще раз, кроме всякого прочего, засек для себя, что мороз коварен и с этим нельзя не считаться.
4
Под Новый год затеяли поставить концерт. Оказалось, что новая учительница литературы – Ирина Андреевна, хорошо поет. Мих Мих взялся почитать отрывки из «Василия Теркина», а мы с Ван Ванычем разучили марш «Прощание славянки». Он, как всегда, на скрипке, я – на мандолине. Вроде бы не ко времени была эта музыка, но все боевая, захватывающая дух, и по исполнению не из простых. Федюха Сусляков лихо наигрывал на гармошке «Светит месяц», а Настя Шуева с Ниной Столбцовой освоили дуэтом «Рябину кудрявую». И совсем удивил меня Алешка Красов, решивший спеть «Темную ночь». Были и частушки в исполнении Груни Кудаевой.
Народу в школьный коридор набилось «по завязку». Люди пришли со своими скамейками и табуретками, а многие и вовсе стояли – заманчиво было посмотреть и послушать концерт, пусть свой, самодеятельный, но, после стольких лет угрюмой тишины, все одно – в радость.
Для сцены осталось совсем мало места. Первый ряд зрителей был метрах в двух от «артистов», но других объемных помещений в деревне не было. Затеянный еще до войны клуб, так и был недостроенным.
Ван Ваныч открывал торжественное выступление, хотя в первом ряду я заметил и Хрипатого, но к партийному учению Новый год не имел никакого отношения, более того, советское руководство не очень-то одобряло его празднование.
Первой вышла из учительской Ирина Андреевна. Она запела романс «В лунном сиянии…» Аккомпанировал ей на аккордеоне Петруня Кудров. И как это здорово было! В зале непривычная тишина. Такую тишину я ловил только на охоте, в предрассветном лесу. А потом взрыв хлопков в ладони. Иных восторженных выражений в деревне тогда еще не знали.
Вышли мы с Ван Ванычем. Я сел на табуретку, он стоял. Волнение бурлило во мне диким ключом, тискало сердце, но я, напрягаясь всем телом, не давал ему проявиться наружу. И вот первый звук подал Ван Ваныч, и я тронул струны мандолины медиатором, и сразу словно сползла с меня тугая рубашка напряжения. Я слышал только музыку и видел лишь струны мандолины. И пошло, пошло… С последним аккордом у меня из груди вырвался зажатый в легких воздух, и взрыв аплодисментов. Мельком я заметил, как Яков Кособоков – отец Мишки, сидевший в первом ряду, вытер рукавом глаза. Его деревянный протез, словно дуло какого-то оружья, торчал дальше всех ног, напоминая о недавней войне и как бы укоряя нас в том, что мы вот живы и здоровы, можем играть и слушать музыку, потому что есть он – этот протез.
Федюха Сусляков тоже показал, что он не только способен навоз возить, но и самостоятельно выучился играть на отцовской гармошке, и не просто «пиликать», а дотянулся до более высокой музыки.
Несколько снизила взрывной пыл «Рябина кудрявая», хотя спели её Настя с Ниной на голосах великолепно. А Груня Кудаева снова вернула веселый наплыв в зал, выдав несколько озорных частушек, включая знаменитые «Валенки». Её даже отпускать не хотели, выкрикивая: «Давай еще, еще!»
С легкой хрипотцой, но четко выговаривая слова, прочел про рукопашную схватку Василия Теркина с немцем Мих Мих, заставив кое-кого вспомнить свои схватки, а некоторых и задуматься.
И снова Алешка Красов снизил настрой на веселье, запев «Темную ночь». Голос у него был мягкий, приятного тембра, правильно настроен. И сам он: завидно сложенный, с мужественным лицом, в приятном сочетании темных бровей, глаз, прямого носа, крепких губ и волевого подбородка – был красив. Женская беда да и только. Лишь много позже я понял, что с этого первенца-концерта у многих завязались ниточки судьбоносных отношений, да не на год-два, а дольше, за которые Ван Ваныч женился на Ирине Андреевне, Петруня потянулся к Насте Шуевой, а она запала на Алешку Красова, схлестнувшегося с Груней Кудаевой. И пошло-поехало разрывное время на долгую утряску. Но тогда я и в мыслях не держал что-либо подобное. Получив одобрение от Ван Ваныча и Мих Миха, я, как только начались танцы под аккордеон, быстро ускользнул домой.
5
На школьные каникулы пришел к нам Семен Степин. Я только что вернулся из очередного выхода в лес и отогревался на большой печке. Нахолодавшее за день тело приятно расслаблялось, тянуло в сон.
– Я вот что, Данила, пришел, – начал заготовитель, обращаясь, к деду, – сейчас волчий гон начинается, а у меня телок околел – хорошая привада для зверя. Я в своей конторе три волчьих капкана взял на время, пусть твой внук поможет мне их поставить. Мне с рукой-калекой не управиться.
– Так вон он – на печке, только что из леса приволокся, двух горностаев принес.
Степин вскочил со скамейки и к печи.
– Что ж не ко мне сразу, Леонид? – посетовал он.
Я притворился спящим и ничего ему не ответил. За текущую зиму у нас с ним сложились более-менее приемлемые друг для друга отношения. Иной раз Степин появлялся у нас сразу, едва я сбрасывал в ограде отяжелевшие лыжи, и забирал мою добычу. И хитрить передо мною он перестал, поскольку, я почти один в деревне имел ружье и лыжи и, занимаясь промыслом, помогал ему выполнять план по пушнине. Взрослые, имеющие хоть какое-то отношение к охоте, или считали это занятие несерьезным, или были заняты другой работой. Но из моих сверстников и тех, кто постарше, никто не ставил капканы.
– Ты слышишь, малый, к тебе обращаются? – Это уже дед позвал. Мое увлечение охотой он всячески поддерживал, поняв, что я пусть не слишком весомо, но все же помогаю дому и в пропитании, и в бытовых мелочах. Только за счет пушнины мы брали у Степина и спички, и керосин, и соль, и муку, и многое другое, что нельзя было купить или обменять на что-нибудь в других местах.
– Слышу, слышу, – молчать дальше не имело смысла. Дед знал, что я не сплю – мы с ним за несколько минут до прихода заготовителя говорили о моем промысле.
– Так поможешь? – Степин снова присел на скамейку.
– Вся эта твоя, Семен, затея с капканами ненадежная, – высказал свое мнение дед. – Волка обхитрить трудно. Ты, поди, и не знаешь, как с капканами заниматься. Да и не откроете вы их даже вдвоем. Помню, еще в молодые годы, был у нас волчатник Журавлев, видел я у него волчьи капканы и пробовал взводить – легче вон кочергу согнуть.
– Ошибаешься, Данила. Я их и выварил в сене, и полынью натер, и голыми руками не трогал. А взводить мы их будем специальной струбциной.
– Ну, это куда ни шло: может, и что выйдет.
– Так поможешь, Леонид? – снова обратился ко мне Степин. – Я вон слышал, что вы овцу зарезали, чтобы заем отдать, и поторопились: изловим волка – за него приличная премия положена. Глядишь, и заплатили бы тот заем.
– Все это гадалки, Семен, журавль в небе, а с меня до Нового года спрос был. Описали бы хозяйство и доказывай, что ты не мерин. А ты чего, малый, молчишь? – снова окликнул меня дед.
– Думаю, – буркнул я, прикидывая: стоит ли связываться с заготовителем в промысле. Время потеряю, а он человек в совместных делах не надежный – старается под себя гребануть при всех наших договоренностях. Иное дело, когда я сдаю ему единолично добытое: тут уж извини-подвинься, а держи свои склонности в узде. Мелькнула в образном представлении волчица у логова с пристальным взглядом умных глаз, зверски убитые Степиным волчата, и сразу же полыхнул ужас летнего нападения волков на отару, пастушонок в слезах, разорванные до потрохов овцы, а до этого – задавленный за огородом теленок… И повело меня на месть. Премия – премией, но разве такое может оставаться безнаказанным, и я, вмиг прогнав в мыслях все за и против, спросил:
– Когда поедем?
– Да хоть завтра, – обрадовался моему согласию Степин. – Чего тянуть-то – время сейчас на нас работает.
Обговорив, что да как, заготовитель ушел, довольный нашим соглашением.
* * *
Лошадь едва тащила сани, увязая в рыхлом снегу почти по брюхо. В передке, на подстилке из сена, лежал закостеневший труп маленького теленка, по неизвестной причине появившегося на свет мертвым, и мешок с капканами. Сбоку – две метлы. Мы со Степиным сидели в задке. Он правил лошадь к тому лесному отъему, где летом я наткнулся на волчье логово, а я, по привычке, оглядывал ближние опушки колков, надеясь приметить заячьи следы. Но пусто было в лесу и тихо. Лишь в одном месте лошадь вдруг захрапела, приостанавливаясь, и я увидел глубокую борозду звериных следов поперек нашего въезда. «Волчьи! – понял я. – Потому и никакой живности тут нету». Жутковато стало, завертел я головой, оглядываясь по сторонам, хотя и знал, что рядом со Степиным лежит его ружье. А Степин прикрикнул на лошадь и стеганул её вожжой. Я заметил, как задрожала кожа на боках лошади, но она дернулись и сани поползли дальше.
Объезжая густые куртины кустов, Степин свернул на тянувшуюся между ними объемную поляну и остановился возле какой-то вырубки.
– Возле той вон валежины и бросим приваду. – Он показал на обрубок березового ствола, едва торчащий из снега. – Безобразит кто-то из наших: ровные бревешки взяли, а этот, видно, – витой и сучковатый – оставили. Ну, давай займемся делом.
Мы разгребли снег вокруг обрубка и перетащили к нему стылого теленка.
Степин обмотал цепь с двумя капканами вокруг сутунка и расположил их по обеим сторонам привады. К ним он привязал и цепь третьего капкана. Я помогал ему, выполняя все указания. Зажимая пружины капканов винтовой струбциной, мы, один за другим, насторожили их. Жутковато было смотреть на распахнутые «пасти» ловушек с зубчатыми дугами. Попадись в такую, и ногу потеряешь.
Засыпав капканы снегом и слегка притрусив труп теленка, мы стали метлами заметать все наши следы до самых саней.
– Снежок пройдет и вовсе все заровняет, – оживленно суетился Степин. – Зверь сейчас голодный, пойдет на приманку, хотя и хитер он, да соблазн велик при пустом желудке…
Заготовитель балагурил, но я, по непонятной причине, не разделял его веселости.
* * *
Степин, как в воду глядел, где-то через день-два, после установки волчьих ловушек, пошел снег, мягкий, пушистый и укрыл все земные изъяны, но заготовитель почему-то не торопился проверять приваду.
– Семена не обойдешь, – высказался по этому поводу дед. – Хитер, да и знает повадки зверей не понаслышке – в молодые годы он, как и ты, занимался пушниной. Его, из-за покалеченной руки, не привлекали на колхозную работу. Так – кое-где на подхвате был, да сторожем состоял при зернохранилище, а после, когда окончил какие-то курсы, кладовщиком работал, до тех пор – пока его родителя не привлекли в тридцать восьмом за агитацию против советской власти, хотя агитации никакой и не было. Входил отец Семена в сельсовет да задел плечом портрет Сталина, висевший на стене, – тот грохнулся, и стекло – вдребезги. Старик выругался матом, а кто-то услышал – донес, может, тот же Хрипатый – он тогда секретарем там сидел, и, как в той песне: «никто не узнает, где могила моя…» Семена тоже шпиговали допросами, но он уже жил отдельно от родителей – своей семьей, а сын, как говорили, за отца не отвечает. Хотя это и не всегда так…
Дед бы еще рассказал что-нибудь интересное, да легким на помине оказался Степин: ввалился в избу, заговорил о проверке капканов, о деревенских новостях, о ценах на продукты в районе, а утром мы с ним поехали в лес.
Низко стояли тучи, закрывая солнце. Лишь в рваные промежутки между ними струился желтый свет, отчего небо было пестрым, как степь ранней весной. Пахло конским потом, соломой и сухим снегом. Тихо скрипели вязки саней, да изредка покашливал Степин.
Старый наш след хотя и засыпало снегом, но все не целина. Лошадь шла легче прежнего, да и в санях не было поклажи, хотя и не особо весомой, но все же.
Чистейшие снега, спящий лес и ни звука – белое безмолвие, да и только.
Обогнув плотные кусты, заслонившие опушку крупного леса, мы остановились. Степин встал в санях.
– Отсюда идти придется, – тихо произнес он, – а то лошадь напугаться может, если что. Привада-то вон за тальниками, шагов двести отсюда. – Он кинул коню охапку сена, взял с саней топор и веревку. – Ты бери ружье и будь наготове – мало ли что.
Откуда-то взялась сорока, застрекотала, к ней подлетела еще одна.
– Вот они, уже услышали, на доклад прилетели. – Степин натянул на валенки штанины. – И тебе советую, – кивнул он мне. – Оно хотя и не глубоко по старому следу, но неизвестно, как все обернется.
Я кинул на плечо ружье и двинулся по прошлой борозде. Снег был рыхлым и легко рассыпался под валенками. Внимательно вглядываясь в пространство, я взял ружье наизготовку и заспешил, гонимый нетерпением.
– Куда попер, как паровоз, – буркнул Степин – он шел сзади. – Погляди на вырубки – там ничего не видно?
– Да никого. – Я еще раз окинул взглядом уже недалекую залысину в лесу и, сделав несколько шагов, оторопел от неожиданности: большой серый зверь взметнулся словно ниоткуда, поднимая снежные фонтаны. Еще мгновения назад там никого не было. Не мог же я не заметить волка? Скорее всего, зверь таился до какого-то момента, вжимаясь в снег, а потом вскочил. Он то вскидывался над снегом, то падал, скрываясь в нем. Я невольно остановился, задвигал ружьем.
– Что, попался зверь? – понял Степин. Ему, с одним глазом, трудно было разглядеть, что творится на таком расстоянии. – Не стреляй, не кровавь шкуру – из капкана не вырвется. Я его дрючком зашибу. – Он тут же, торопясь, срубил топором небольшую березку и, очистив от сучков её стволик, отрубил от него увесистую палку. – Пошли! Только ружье держи наготове, и, ежели чего, – стреляй!
Волк, в который уже раз, попытался вырваться из капканов. Он яростно бился в снегу, поднимая белые смерчи, и порой трудно было разглядеть положение его тела, так несуразно извивалось оно в этих диких прыжках.
– Рвись, рвись, разбойник? – Степин шел к зверю уверенно, твердо, держа палку наперевес. – Тяни свои жилы, ломай кости. Все одно конец…
Я двигался рядом с ним и вздрагивал от каждого всплеска снега, от железного звона капканов с цепью, от клацанья волчьих зубов – и тонкий страх, и жалость, и печаль давили душу. До волка оставалось шагов десять, когда он перестал биться, поняв тщетность своих усилий. Я полностью разглядел крупного, чуть припавшего в снегу зверя с взъерошенной шерстью, окровавленной пастью, злым блеском глаз. Передняя и задняя его лапы, зажатые капканами, красили снег кровью и лоскутами спущенной кожи. Выбитое до черной земли место, и алый снег, разбросанный по сторонам, и взлохмаченный злобный зверь – являли жуткую картину: сердце сжалось в дробном стуке, и скулы свело.
– Возьми на прицел и стой! – крикнул Степин, медленно продвигаясь к волку, и чем ближе подходил он к зверю, тем сильнее и злее загорались у того глаза, вставала на загривке шерсть и прижимались уши. Капканы, сцепившие лапы высокими дужками, не позволяли волку стоять, и он полулежал, но грозно, напряженно, и в любой миг мог рвануться, как разжатая пружина. Но Степин знал длину цепи, тяжесть березового сутунка, державшего капканы, и вкрадчиво делал последние шаги. Что было на душе у этого человека, зачем он рисковал, распаляя зверя, – неведомо. То ли чувство некой жестокости ослепило его, то ли месть, то ли возможность расправиться с сильным, почти беззащитным зверем, то ли все вместе?
А волк все жег взглядом Степина, все вжимался в истоптанный снег. Мушка моего ружья плясала на сером его боку, и я боялся, что не успею выстрелить вовремя, да и опасно – можно зацепить Степина. Такого жуткого напряжения нервы мои не выдержали:
– Дядя Семен, не подходи! – заорал я, и в этот момент зверь ринулся вперед, неизвестно каким образом оттолкнувшись сжатыми в капканах лапами. Он пролетел метра два и цепи отбросили его назад. Волк упал почти наотмашь и набок. Степин прыгнул к нему и взмахнул палкой. Куда пришелся тяжелый удар, я не разобрал. Только зверь вдруг снова взметнулся с воем, и человеческий крик скребанул по сердцу. Заготовитель кувыркнулся в снег, палка его отлетела в сторону, а волк стал рваться в жестокой ярости. Не поняв еще, что произошло, я выстрелил в это серое, свирепое существо. Зверь упал, продолжая биться. Я перезарядил ружье и побежал к Степину. Он быстро-быстро отползал в сторону, пятная кровью снег.
Волк уже затихал, лежа на боку. В последний раз он поднял голову, взглянул на меня, как показалось, благодарно и опрокинулся, показывая светлое брюхо.
– Лошадь давай, лошадь! – простонал Степин, пытаясь подняться. – Ползада отхватил, злодей.
Я увидел окровавленный подол его полушубка и кинулся к саням.
С трудом подогнав дрожащего от страха коня, я помог Степину влезть в сани, и мерин рванулся назад, будто за ним погнались живые волки.
В деревне выяснилось, что у заготовителя распластано бедро, и его увезли в райцентровскую больницу.
Лежа дома на печке, я вновь и вновь воссоздавал в памяти лесную картину, переживая всё заново, хотя и без жуткой остроты. И окончательно утвердился в мыслях, что в природе все сложнее, чем кажется на первый взгляд, что жить с ней надо без зла и жестокости, с пытливым умом и добрым сердцем.
А дня через три Алешка Красов, с кем-то из мужиков, привез Степину, по его просьбе, и волка, и ловушки.
Но самое нежданное встряхнуло меня после – ближе к весне. На премию, полученную за волка, Степин купил мне новое одноствольное ружье – переломку, чем окончательно расположил к себе и определил дальнейший размах моего увлечения охотой.
* * *
И поплыло время отрадного угара – в любой свободный момент, выпадавший мне в перерывах между той или иной работой, я хватал ружье и устремлялся в приозерье, на разливы, и скрадывал уток или на исходе ночи, в предзоревое время, отсиживал на тетеревинных токах, добывая краснобровых косачей. И новая мечта у меня появилась: смастерить себе лодку, чтоб в озеро плавать, – не хватало только досок. А время шло…
Часть вторая
Глава 1. Разлюли-малина
1
Отлетели, как листья дерева, долгие экзамены за семь классов. Кроме свидетельства о неполном среднем образовании, я получил и «Похвальную грамоту» за отличную успеваемость. И задумка было пошла: а не махнуть ли мне в какое-нибудь военное училище или в техникум? Но дед не одобрил моих намерений: «Уж если, Ленька, в разлюли-малину – Суворовское училище, не отдала тебя мать, – заявил он, – так лезть в военные люди через какие-то там другие подворотни – не стоит. Да и снова ты против матери не попрешь. А рабочая специальность не по твоей голове – тебе надо выше прыгать, в инженеры или еще там в какие ученые – грамота-то тебе дается легко…»
Отговорил меня от города и лучший друг Паша Марфин: «Это мне – троечнику надо будет руки прикладывать и горб гнуть по жизни, а ты учись. Я потом погоржусь твоей дружбой…»
Взвесил я всё по жизненной раскладке и согласился с ними, хотя и жадно хотелось войти во взрослую колею побыстрее: как-никак, а пятнадцатый год набирал силу – пора было и другой жизни понюхать. Но что решилось – то решилось…
2
Июль накатился с жаром, грозами, ночными зарницами – суматошный месяц, полный тревог и хлопот, коротких снов и трудового угара.
С рассветом, до восхода солнца, по прохладе, выкашивали мы с дедом луговину в редколесье, поближе к деревне – расчет дед держал двоякий: не удастся выпросить быков в колхозе вывозить сено, так самодельной тележкой, на собственном горбе, вытянем. И не на два-три дня полыхнул трудовым угаром наш покос, а перевалил за неделю.
Первый рядок, прикинув наклон травы, всегда начинал гнать дед, а я за ним, и в широком размахе, с тугим напряжением рук и спины, от края до края укоса.
Росная трава смахивалась литовкой мягко и чисто. А ближе к средине дня, когда ночная влага высыхала, наплывал такой зной, что голова начинала гудеть и тело нагревалось не хуже, чем в бане. Тогда дед отмахивал рукой шабаш. Повесив косы на сук раскидистой березы, мы устраивались в её тени на отдых: обедали, говорили и спали до упора – до того момента, когда начинали потрескивать кузнечики и в тон им подавали голос лесные птички. Тогда мы снова брались за косы и валили вязеля до той поры, пока солнце садилось на лес.
* * *
Издерганное за день тело просилось на отдых. Казалось, что руки мои и ноги растянуты до полного бессилия, а спина усохла. Ужин с простыми щами и двумя стаканами молока не взбодрил, а лишь натянул теплую истому, клоня ко сну. Тут и появился Паша.
– Пойдешь на улицу? – крикнул он, заметив меня у окошка.
И, как будто по договору с ним, где-то у недостроенного клуба, рыкнула гармонь Федюхи Суслякова, раз-другой, и пошла, пошла наигрывать что-то развесело-ухабистое, отчего тонко дрогнула душа и замерла в потаенной радости. Я еще и ответить не успел, как в перелив гармошке мягко запел в дальнем проулке аккордеон Петруни Кудрова, и опять о том, как «на позицию девушка провожала бойца». С этой песней, привезенной когда-то с фронта, Петруня начинал свой ход от дома, где жил с матерью-одиночкой, до места вечернего сбора молодежи. Устоять против такого, будоражившего душу, соблазна я был не в силах: по телу пошла особая бодрость, да такая, какой она бывает лишь в глубоко отдохнувшем и здоровом человеке.
– Во, слышишь, и Петруня аккордеон настроил, – засиял Паша озорными глазами. – Будет веселье!
– Завтра, малый, снова на покос, – услышав наш разговор, напомнил дед. – Долго не гуляй…
Какой там покос! Душа запросила своего блага, заглушив слабые телесные позывы об отдыхе и сне. Только там, на улице, можно было поймать радостную дрожь от музыки, пляски, шутливых игр; увидеть нарядных девчат и вальяжных парней; развесить уши на деревенские новости и измышления тех, кто недалеко ушел от нас в возрасте, но из-за двух-трех лет старшинства якобы познавших кое-что в недоступных для нас таинствах.
Сумерки поплыли из-за леса в широкий размах улиц. Огромная, красной позолоты, луна выкатилась над потемневшей рощей у околицы. Все чудно изменилось в цветовом наплыве: небо затянуло глубокой проседью; лес покрылся дегтярным наметом; дворы в перламутровой окантовке обуглились; травы свинцово засинели – и в этом необычном пространстве с трепетно-чуткой тишиной особо страстно лились звуки гармошки и томно натекала мелодия аккордеона…
Говор и смех мы услышали издали и сразу определились, кто где. Центр хороводился густо – там наплясывали «подгорную» больше девчата. Парней вперемежку с ними: двое-трое, и то молодяки. У плетня – свой круг. Там парни солиднее, кое-кто из бывших фронтовиков, а большей частью те, которым выпало счастье миновать окопов, отслужить уже в мирное время хотя и долго, но все не под пулями. Одному Антону Михалеву не повезло: попал он в особые части на «львовщину», и бандитская пуля расшибла ему бедро в «головке» и охромел парень. Но и такому в деревне, из которой вырубили больше половины мужиков, рады – девки гужом возле Антона. А он, несмотря на хромоту, еще так отплясывал «цыганочку» по-особому, по-своему, с припадом на хромую ногу, что любо-дорого было смотреть. Его мы и заметили в кругу, кудлато-кучерявистого, длиннорукого. Он хлобыстал ладонями себе по голяшкам хромовых сапог в такт музыке, поднимая хлопки выше, до груди, и снова склоняясь в них почти в присядке.
– Ишь Михалев как токует! – с заметной ноткой уважения обдал мне ухо горячинкой Паша.
Вокруг Антона двое – Настя и Нинка Столбцова. Те и вовсе гулко, в дробь, отбивали коленца, трепыхая широкими юбками…
На бревнах, у палисадника, сидели девчонки-недоростки и среди них я увидел Лизу Клочкову, одноклассницу, прозванную моей отрадой больше по подначке друзей, чем по душевному трепету, но сердечко дрогнуло. Мимо, скорее мимо! Мы остановились у кучки тех парней, что покуривали у плетня. Там уже прислушивались к их говору Толяня Разуваев – Рыжий, и Мишка Кособоков.
– Ну а че тянуть-то волынку, – уловил я тонкий голосок Иванчика Полунина (он совсем недавно вернулся со службы в армии), – голодная баба, ноги у них сами собой раздвигаются…
И пошло-поехало. И коробило душу от стыда, и кровь ощутимо толкалась в висках, но непонятная сила удерживала возле этих петушившихся парней.
– Не заметил, как три ходки сделал, – все нагнетал нездоровое любопытство Иванчик-Хлыст.
К нам мягко, не торопясь, бултыхая широченными матросскими клешами, будто подкрался Рыжий (был он рыжеволосый, в густых конопушках).
– Здорово, Плотник, – как-то подобострастно протянул он руку Паше (Паша зимой мастерил табуретки, и его прозвали Плотником).
– И тебя тем же концом. – Паша сгреб его пальцы в свою лапу и сдавил.
Рыжий, прогнувшись, сморщился.
– Пусти! – промямлил он, пытаясь выдернуть зажатую ладонь.
– Это тебе за плотника. – Паша оттолкнул руку Рыжего, будто отбросил.
– А че обидного? – Рыжий попытался улыбнуться, но лишь как-то ощерился. – Меня вон Рыжим кличут.
– Ты и есть рыжий, какой же еще. – Паша поглядывал на него с каким-то пренебрежением. – Ишь вырядился. Где только такие портки шьют. – Он потрепал клеши Рыжего. – Тут на обычные штаны не выкроишь, в заплатах ходим, а председательский сынок вместо брюк юбки носит. – Паша обернулся ко мне, как бы ища поддержки.
Рыжий дернул кадыком, будто сглотнул обиду, подал руку и мне. Она была влажной, мягковатой и какой-то неприятно липкой…
Тут и Мишка Кособоков подвалил, но уже совсем с другим интересом.
– Гляди, Стрелец, – он кивнул на кучкующихся девчонок нашего возраста и помладше, – сколько невесток подрастает, выбирай – не хочу. Еще и сиськи не выросли, а уже сюда же – на погляденье.
С тех пор, как я стал охотиться, меня, с чьей-то оговорки, прозвали Стрельцом.
– А ты щупал? – Паша усмехнулся.
– Нет. Но пора. Пошли, разомнемся, пощупаем.
– У меня от визга уши болят. – Паша посунулся поближе к взрослым парням, и я за ним.
– Отчебучивает Настя, – теперь они говорили про пляшущих. – Все Красова завлекает, – это опять оскалился в ехидной улыбке Хлыст, – а он ноль внимания – фунт презрения: испробовал где-то в копне и отвалил – не понравилась, широка в разводе…
Гнусные его слова скребанули за сердце. Вспомнилось, как Настя, когда-то давно, крадучись, поила меня парным молоком на колхозной дойке, как непривычно возбуждающе пахли ее одежды, когда она прикрывала меня полой тужурки, пока я тянул густую вкуснятину из алюминиевой кружки, как после она всегда сладко тревожила меня своими шутками, как кружилась голова от ее броской красоты и как мечтал я поскорее вырасти и жениться на ней, уведя ее от всех похотливых взглядов и притязаний – возрастная разница в пять лет меня не волновала… Подлые измышления Хлыста все туже и туже затягивали в моей душе то светлое, что многократно лелеялось в мечтах, жило в сердце и снилось. И чем сильнее сжимались те отрадные грезы, тем жестче накатывалась злоба на этого хвастуна, и будь я постарше – наверняка бы заехал Хлысту в ухо, но силенок еще было маловато, чтобы лезть на отслужившего в моряках парня, хотя и не ахти какого в крепости, но и не слабого. Мысли плыли о другом: почему стоящие подле Хлыста парни не одергивали его? Неужели и им были интересны эти грязные наветы, или они понимали все как-то по-иному? Может, Хлыст обиняком изливал свою обиду в этих россказнях – поговаривали, что когда-то Настя отринула его ухажерство и сотоварищи сочувствовали ему? Так или не так, но чем больше трепался Хлыст, тем удушливее давила меня злоба. Не в силах сдерживать ее, я отошел в тень палисадника, сглатывая тугие комки горечи и сжимая зубы, решив тихо уйти домой. Но Паша догнал меня.
– Ты куда, Ленька, только интерес начинается?
– Да ну их, слушать противно. Одни гадости. Дать бы ему под яйца…
Паша меня понял.
– Под яйца – не под яйца, а вот из рогатки можно врезать. – Он достал из кармана рогатку с широкой резиновой тетивой. – У меня и два-три катыша есть. – Паша, не в силах погасить озорную детскую привычку, нет-нет да и упражнялся стрельбой из рогатки по воробьям.
Я молчал, все еще не освободившись от тяжелых чувств. Не очень понравилась мне Пашина затея, но месть шевельнулось в душе.
– Я бы и так ему фингалов наставил, – шаря в глубоком кармане штанов, все утешал меня друг. – Да шуму будет по деревне. Еще и в сельсовет потянут.
Совсем близко мягко заиграл аккордеон – у палисадника появился Петруня со своим неразлучным другом – Васиком Вдовиным, и гармошка утихла, уступив вечернюю тишь голосам и смеху. Но тут же поплыла мелодия вальса, и совсем по-иному задвигались в кругу танцующие.
Зашевелились и парни, что покуривали в стороне. И чуть ли не первым откачнулся от них Хлыст, заспешил к девчатам, толпившимся на краю «точка». Тут Паша и натянул тетеву рогатки, заложив в кожанку сухой глиняный шарик.
Вскрик – Хлыст согнулся, хватаясь за бок, резко сиганул назад, зыря по сторонам. Но Паша успел спрятать свое «оружие», и мы, как ни в чем не бывало, заговорили, делая вид, что ничего не заметили.
Хлыст кинулся вначале к Рыжему, но не больно его потрясешь – сына председателя колхоза, можно схлопотать неприятностей. Тогда Мишаню ухватил Хлыст за ворот, но тот духом ничего не знал. Подвалил он и к нам с нахрапом, но Паша цыкнул сквозь зубы и так жестко отвел руку Хлыста, что тот заматерился.
– Хотел ему по башке, – усмехнулся Паша, когда Хлыст отбежал от нас, – да побоялся, в бочару влепил. Тоже синяк поносит.
– Он же не поймет за что, – как-то легче мне стало, посветлело на душе, хотя и знал я, что это хулиганство, но тогда по-иному наказать зло мы вряд ли могли.
– Поймет, если пораскинет мозгами…
Но неприятный холодок все же туманил душу, и мне совсем не хотелось снова уходить в черноту того состояния, которое сводило челюсти от жгучего бессилия, и я сказал об этом Паше.
– Да вали ты на это! Мало ли кто кого сгреб. Не твою же…
– Завтра сено таскать, – не шло мое настроение в одну тягу с уговорами друга. – Дед рано поднимет…
– А давай нырнем за огурцами к кому-нибудь, как в детстве, – не отставал Паша, – Мишку Кособока возьмем.
– Да ну их, Паша, огурцы. Ты иди, потискай с Мишаней девчонок, а я домой, спать… – Попрощавшись с другом, я пошел в лунную муть, неся в душе тонкую дрожь испорченного настроения и сбивчивые думы…
Ночь заметно посветлела, обозначив далекие дворы густой чернотой теней, особенно ломких в контрасте со светом царящей в небе луны. Лишь вперебой ей лохматился край неба слабым янтарным переливом, да слепо помигивали звезды.
В таком же неясном затеке плескались и мои думки о превратности судьбы: писаной красоты Настя, добрая, веселая, работящая, а не идет ей девичье счастье – все одна. Задушевная ее подруга, Валька Зуева, давно люльку качает, а Настя который уже год жилы в руках тянет на колхозной дойке да каблуки бьет в редкие вечера под гармошку, то ли разгоняя сердечную тоску, то ли завлекая суженого, коего вроде и нет близко – сошелся свет клином на Алешке Красове, а он засупонился в другом месте…
И снова надежда на свое недалекое теперь взросление натянула тепла в душу, но где-то там же, чуткой дымкой, настаивалось суровое сомнение в состоятельности моих желаний. Оно принесло в горячее воображение образ Лизы Клочковой – густобровой, какой-то жаркой, всегда с румянцем во все щеки толстушки-хохотушки, с которой три года отсидел я за одной партой и почти знал все ее сокровенности, отчего и прозвался женихом. Но не крутило мне душу ее присутствие, не кидало в голову жару – свое и свое, вроде сестры, и не более.
Проплыла Лиза улыбчивым лицом мимо и растаяла, а вместо нее вдруг вообразилась Настя, да так сильно, что дрогнуло сердце и вроде горячим ее дыханием обдало. И пошли снова думка за думкой…
Тише и тише делался бойкий перезвук гармошки, и уже птичьи крики с приозерья я стал улавливать, а несуразные мысли все путали сознание, задевая в душе такие глубины, в какие я еще никогда не проникал.
3
Сгребали мы сено снова с дедом вдвоем – матушку держала колхозная работа, на которую она уходила – едва через лес пробивалось солнышко и возвращалась, когда оно плавилось над землей. Как она успевала нас обихаживать: обстирывать, обваривать и дом вести – уму непостижимо…
В это же время, за тальниками, сгоняла в закатку свои подсохшие рядки сена с Катькой и Дарья Шестова. Она и косить в одно время с нами угадывала, и волей-неволей у меня вязались мысли о ее сговоре с дедом. И особенно я утвердился в этих догадках после того, как однажды у деда затянулся полдневный отдых.
В самый зной, когда силенки истаивали на солнцепеке до такой степени, что литовку не протянуть, мы долго отдыхали в тенечке. И обычно, поговорив о том о сем – почти одновременно засыпали: дед с прихрапом, а я тихонечко, как зверушка. Как-то я, проснувшись, не увидел деда рядом и вскочил с чувством стыда, полагая, что дед пожалел меня будить и уже косит в одиночку. Но его коса висела на березовом суку рядом с моей. Сразу успокоившись, я пошел редколесьем, решив, что дед где-то поблизости и собирает дикую клубнику, уже переспелую, сладко-пряную, алевшую по кромке луговин в низкорослой траве. Но и там его не было. Наклоняясь за ягодами, я незаметно пересек поляну, отделявшую редколесье от ивняков, и увидел среди кустов, на бугорке, примитивный шалашик, прикрытый свежей травой, а у черного его зева сидящих рядом Дарью и деда. Они о чем-то говорили, и Дарья, до неприличия высоко обнажив матово-белые ноги, озорно смеялась, откидывая назад голову. Боясь быть увиденным, я попятился за куст, цепенея от тайной, вгоняющей в стыд, мысли, и рванул к стану. В душе поднималась какая-то непонятная, почти озорная, веселость, гнавшая думки в перескок: как-никак, а деду за семьдесят, и вряд ли мои непристойные догадки могли быть истиной. Но интуитивно я чувствовал, что строгий на работу дед не будет просто так лясы точить в столь горячее время. Теряясь в этих противоречиях, я упал на примятую траву в тень заветной березы. Мысли, мысли и мысли… Знобкие и горячие, мимолетные и глубокие, травящие душу и озорные… И не уклониться от них, не защититься…
А ближе к вечеру, когда мы почти добивали луговину, Дарья подошла к нам с косой на плече – брови вразлет, высоко приподняты над блестящими глазами, губы полные, спелой малины…
– Пора уже и кончать, заработались, – весело проворковала она.
Дед, все больше и больше гнувшийся к концу дня от усталости, будто ждал этого возгласа, распрямился, игранул глазами в сторону Дарьи и, задрав подол рубахи, обтер им косу.
– И то верно. Будет, малый, спину нудить, не на барщине. – Это он уже меня, дожимающего рядок, останавливал. – Скотина вот-вот потянется, а мать, поди, еще с работы не вернулась. Управляться надо…
Они шли впереди: дед – высокий и еще прямой и Дарья – фигуристая, коренастая, обтягивающее ее простое платье казалось вот-вот затрещит, разрываясь. Икристые ноги в чеботах она ставила ровно, с небольшим вывертом, поигрывая ягодицами…
И сгребать вот она угодила вместе с нами…
* * *
Дед, ухватывая вилами увесистые пласты сена, замахивал их в кучи, и копны росли одна за другой: уемистые, округлые, с очесанными боками, покатой макушкой. Мое дело – сгребать.
Грабли мозолили руки, хотя и деревянные, а все в весе. К обеду они мне казались неподъемными, а сухая трава до того нацарапала и наколола распаренное жарой тело, что все оно горело тоненькой болью и саднило…
И опять дед исчез, едва я утонул в очередном послеобеденном сне. И меня подмывало сбегать к секретному шалашику, но что-то удерживало от этого: чувство ли порядочности, стыда или – то и другое. Да и знал я, что там Катька, и, возможно, дед пошел глядеть траву на дальнейший укос. Во всяком случае, я никуда не двинулся и долеживал отведенное для отдыха время в созерцании неба, то утопая в мыслимых и немыслимых мечтах, то погружаясь в сновидения.
В той полубредовой неге какая-то букашка упала мне на лицо и неприятно заскребла щеку, а потом – лоб. Я почти инстинктивно смахнул ее рукой, но через пару секунд снова почувствовал легкое шевеление теперь уже на носу. Перед взором встало улыбчивое лицо с хитрющими черно-смородиновыми глазами под дугами узеньких, будто наведенных сажей, бровей, с растянутыми в усмешке губами.
«Катька!» Я, еще не придя в себя от неожиданности, попытался поймать ее за шаловливую руку с травинкой, но она резво отскочила, хихикнув, и спряталась за березу. Прыткости и мне не занимать – не уйдет! Я ухватился за Катькину косынку, и та, слетев с ее головы, дала волю темным густым волосам, на миг закрывшим все лицо девчонки. Пока она откидывала назад длинные пряди, я успел схватиться за тонкую руку повыше локтя.
– Ой, больно! – заорала Катька, останавливаясь. Но в глазах ее по-прежнему бились смешинки. – Пусти!
– А ты чего балуешь?
– Так скучно стало.
– Чего скучно-то? А мамка где?
– Она с твоим дедом траву ищет…
И пошел у нас полушутливый, полусерьезный разговор, полудетский, полувзрослый, игриво-напряженный, сбивчивый.
Я давно не видел Катьку и был удивлен ее взрослению. Года на три она была меня младше, а вытянулась, что ровесница: тонкая и гибкая, казалось – возьми поперек и согнешь дугой или сломаешь.
За шаловливым нашим разговором, за которым мы непроизвольно стали есть клубнику, густо красневшую в траве, я не услышал и не заметил деда.
– Воркуете? – раздался его глуховатый, но густой, голос. – Пора работать…
Катька тут же прянула за куст тальника и побежала по кошенине, широко перебирая длинными ногами в грубоватых чулках.
– Я вижу ты время зря не теряешь. – Дед глядел улыбчиво, со смешинкой. Угадав мое состояние, он посерьезнел. – Ладно, это я так, играйте. Девчонка-то еще ребенок, хотя и высока. Правда, мой дед говаривал: шапкой девку не сшибешь – можно тискать. Но то время было другое. Тогда и в твоем возрасте, было дело, по нужде женились…
Впервые дед тронул обходную до этого тему, и я не знал, как вести себя, о чем спрашивать, поеживался, тая дыхание. И потом еще долго, утаптывая макушки копен, которые ловко раскладывал дед, все думал об этих скрытых для меня таинствах, пытаясь робко, со стеснительной осторожностью, то углубляться в их темную завесу, знакомую лишь понаслышке, то пугаясь этих мыслей, уходя от них…
Обиходив последнюю копну, дед упер в землю деревянные вилы и стал почесывать о березу натруженную спину.
Тут как тут и Дарья, как всегда, улыбчивая, с румянцем во все щеки. Остановилась, молча поглядывая на деда. Он сразу взбодрился.
– Скоро коров погонят с приозерья – придется сено караулить, а то разнесут наши копны, – наказал он мне. – Нам-то управляться надо по двору, а ты с девчонкой побудь. Возьмите вон по талине и сторожите – пока стадо не прогонят…
И сразу грудь обдало горячим удушьем – это один на один с Катькой! Мысли завихрились, представляя возможное и невозможное состояние, в которое могут опрокинуть меня новые ощущения, и дальнейшие слова деда слышались мимолетно, в накатной оторопи.
* * *
Они ушли быстро, или мне так показалось, а Катька тут как тут.
– Гляди, какая бабочка! – Она разжала кулак и по ее ладони поползла бабочка. Тут же, полыхнув яркими крыльями, она сорвалась в полет, устремляясь вверх, к березам.
По-детски веселое лицо Катьки осветилось улыбкой, в темных глазах блеснули искорки.
– Вот бы себе так! – почти прошептала она мечтательно.
– Ишь ты, чего удумала, – неловкая напряженность, давившая меня до этого, начала истаивать. – Все бы хотели летать.
– А что в этом плохого? Сколько можно всего увидеть!
– Можно, но нам такое не дано, – остудил я её настрой.
– И жалко. – Катька поежилась. – Давай дымокур разведем, а то комары закусали.
Тут и я ощутил уколы этих кровососов, залетавших к вечеру настырнее.
– А спички где? – с некоторой радостью принял я ее предложение. – Дед сумку унес, а курево у него всегда с собой.
Катька, прищурившись, посмотрела мне в глаза.
– А ты разве не куришь? – Взгляд ее выдержать было трудновато, и я отвернулся, хотя действительно не курил.
– Пробовал в пятом классе – не понравилось. Теперь не к чему.
– А мне мамка спички оставила! – Катька вынула коробок спичек из кармана легкой куртки, свисавшей с ее худеньких плеч складками, видимо доставшейся от тетки Дарьи. – Вот! Она и наказала дымокур развести…
Я обрадовался спичкам. Близость юной девчонки кидала меня в какое-то странное состояние неловкости. С глубоким облегчением бросился я собирать сушняк. И Катька засуетилась…
Натаскав изрядную кучу хвороста, я стал городить костерок, ломая сухие ветки, а Катька стояла, молча наблюдая.
Трепетный огонь заиграл жгучими лоскутками по сучьям и пошел в разворот, выше, игристее, прямо на закат, по которому упавшее к окоему солнышко зажгло полнеба.
Я кинул на буйный, кажущийся живым огневой перепляс сырых вершинок, оставшихся от срубленных дедом прутьев, и во все стороны фукнул плотный дым, притушив ярый трепет пламени и обдавая нас горчинкой.
Катька, стоявшая поодаль от меня, даже откачнулась, и я отступил чуть-чуть, но не в ее сторону, а наоборот, будто некая стенка пролегла между нами, пройти сквозь которую я не мог. Те несколько шагов между мной и Катькой, как-то само собой установившейся дистанции, преодолевать и не думалось. Да и Катька не проявляла желания подойти ко мне, видимо, и ее что-то удерживало на месте, и мы тихо переговаривались о пустяках, заворожённо поглядывая на огонь, то робко слизывающий скрученную жарой ивовую листву, то выныривающий злыми завитушками наверх, оттесняя дымовые вихры к краям кострища.
В редниках показались первые коровы деревенского стада, и я заторопился:
– Вон скотину гонят, пошли!
Схватив по длинному ивовому пруту, вырубленному до этого дедом, мы стали невдалеке от копен.
Шум поплыл от надвигающейся, мыкающей и взбрыкивающей скотины. Стадо хотя и было от нас не близко, через широкую луговину, но текло дружно и плотно. Крайние коровы, заметив копны, направились в нашу сторону. За ними потянулся бодающийся молодняк, и мы, с криками, размахивая гибкими талинами, кинулись навстречу этому нашествию. Наши угрозы подействовали: коровы сначала остановились, а потом, нехотя, одна за одной, потянулись за поводырями – деревня была на виду, в которой каждую скотину ждала хозяйка с пойлом и загонка с дымокуром.
– Ура, наша взяла! – Катька запрыгала, болтая длинными рукавами тужурки. – Ой-ля-ля, ой-ля-ля…
– Надо костер затушить, – с напускной суровостью одернул я ее, сдерживая дрожь в голосе.
– Ну, Леня, ну давай еще побудем. Давай подождем, когда костер сам догорит… – заворковала Катька. Мне даже показалось, что я ощущаю ее горячее дыхание. – Ну давай. Тут так интересно.
– Так дома хватятся.
– А мы на минуточку…
Странно, но эти девчоночьи уговоры лелеяли душу, и так хотелось, чтобы звонкий ее голосок не умолкал.
– Ладно, – согласился я, останавливаясь у костра и гася быстрое дыхание.
Катька тоже затихла напротив меня, через костер, широко распахнув глаза на трепетные огоньки. Светлые точечки бились в глубине ее зрачков.
– Ты в этом году пойдешь в седьмой? – вдруг спросила она, не отрывая взгляда от бегающих язычков пламени.
– Собираюсь, – почему-то с неохотой ответил я – слова ее спугнули ту тихую, приятно сладкую, душевную дрожь.
– А говорили, что ты в какое-то ремесленное училище поступать хотел.
– Ерунда это – неправда…
Затихал шелест березового леса, густела просинь потухающих полян, гасло остывающее небо. В поникших травах оживились цикады, а где-то в лугах настраивался на поздний ток перепел…
Что-то бесшумно серое метнулось из глубины леса на костер, и Катька с испуганным вскриком кинулась ко мне, задев башмаками кострище. Она бы и упала, если бы я машинально не протянул руки и не охватил ее. Широко открытые глаза Катьки так близко встали перед моим лицом, что заслонили на миг все. Никогда еще с такой силой не уходил мой взгляд в глубину другого взора. Будто заглянул я в колодец, доверху заполненный чистой водой, густая темнота которого бездонна. Но в отличии от той глубины, глубина живого ока лучилась пронзительным светом осмысленности. Страх уловил я в расширенных зрачках, и тут же, в острый миг, нечто искристое полыхнуло в их густой черноте.
– Ты что, дуреха? Это же сова, – сдавленно проговорил я, не услышав своего голоса. Нервная дрожь встряхнула меня всего, едва я ощутил горячее прикосновение девичьего тела и вдохнул его запах.
Катька откачнулась и побежала куда-то в гущину сумерек, звонко хохотнув. Какие могут быть осмысленные рассуждения в такой момент – я припустил за нею, почти оцепенев, с напряженной неловкостью перебирая непослушными ногами. Вон она мелькнула за толстой березой, за другой… Но смешок раздался откуда-то сбоку, и я остановился, улавливая удары разгоряченного сердца.
– Катька, лоб расшибешь по темну! – вырвалось трезвое предупреждение.
Но ни шагов, ни смеха или голоса ее не было слышно.
– Гляди, тут и волки бывают, – решил припугнуть я шаловливую девчонку, и снова послушал. Ни гугу… Взгляд, тот, остро проникающий, мелькнул в воображении и исчез. «Да ну ее, глупую», – подумалось в сердечной дрожи, и я побрел к костру, все еще играющему огоньками и переливами тающих углей. Мысли вязались, не задерживаясь ни на чем и не задевая душу.
От подброшенного мною сушняка с трескотней сыпанулись в разнобой искры, полыхнул шалый огонь, осветив ближние березы и отогнав наплывающую темноту. Я оглянулся и прислушался, но Катьки нигде не было. «Домой, что ли, сиганула со страха?» – предположил я и нагнулся за сучьями. Тут и хлестанула меня по спине гибкая ветка. «Катька! – сразу ожгла острая мысль, хотя зыбкий налет легкой жути прокатился по спине. – Ну держись!» Эхом моих мыслей стал удаляющийся смешок, больше похожий на приглушенное прысканье.
Отсветы костра слепили. Тени от них плавали причудливыми изломами и мешали взгляду – не больно разбежишься по такому лесу, даже редкому. Катьке виднее из темноты: на фоне освещенного костром пространства я, видно, метался, как ослепленный заяц. Недаром она где-то снова прыснула от неудержимого смеха. Тогда и я решил схитрить и побежал, не останавливаясь, в глубину леса, подальше от костра. И когда он заблестел расплывчатым пятном, резко повернулся. Тень мелькнула совсем недалеко от меня, и тут же я услышал приглушенный возглас:
– Ты куда, Леня?
Катька и попалась: она слишком поздно меня заметила и метнулась к дереву в два обхвата, когда погоня уже была рядом. Я поймал игривую девчонку и, не удержавшись с разгона, свалил ее в траву. Катька упала на бок и тут же перевернулась на спину. Я рухнул на нее, как подкошенный. Снова глаза в глаза и частое дыхание из полуоткрытых горячих губ, горячее гибкое тело, два упругих бугорка, упершихся мне в грудь, и всплеск упоительной дрожи по всему телу, погнавшей жар в голову. Мгновенье, и я, как ошпаренный, упершись руками в землю, вскочил.
– Ненормальная ты, Катюха, – губы мои дрожали, и голос осип до хрипотцы, – разве так играют. – И я пошел к костру, даже не подав ей руку и ничего не осмысливая.
Быстро, в горячем пылу, стал я захлестывать костерок ветвистой макушкой ивняка, вздымая вместе с чадом искры и золу.
– Ой! – взвизгнула близко Катька. – Прямо в ногу! – Она громко чихнула, и я оглянулся.
Растрепанная, с измазанным сажей лицом, Катька была смешной, и этот нелепый ее вид спугнул и душевную дрожь, и потайной жар, и неосознанную горечь. Я невольно улыбнулся, прощая ей все, хотя никак и ничем этого не выдал, и, отбросив обтрепанный вершинник, пошел из затемневшего леса.
Катька тут же догнала меня, молча, пристроилась рядом, чуть сзади.
Широкое поле бледнело мягкой бархатистостью сиреневых оттенков, вбирая отсветы прозрачного, будто залитого жидким хрусталем с брызгами золотинок неба. Над деревней, по окоему, зыбилась негасимая проседь утонувшей за далями зари. Шорохи, неясно укающие, фыркающие, чавкающие и взвизгивающие звуки, далекий переклик потревоженных кем-то приозерных птиц и несмолкаемый посвист луговых погонышей – и все это робкая, чуть-чуть жутковатая своей таинственностью живая вечность…
Катька молчала, шебурша башмаками по густой траве, и даже дыхания ее не слышалось. Я тоже таился в душевной нестойкости, стараясь не думать о нашем недавнем озорстве, приглядываясь и прислушиваясь к наступающей ночи. Да и озорство ли то было, коль оно так глубинно встряхнуло меня всего, аукнулось щемящей нежностью в душе и замерло, таясь непонятным ожиданием?..
Ши-ши – шушукались под ногами травы. Фъють-фьють – посвистывали с лугов. И созвучно моим мыслям что-то подрагивало во мне тоненько, сладко и тревожно…
В этом трепетном молчаливом томлении мы быстро проскочили околицу и очутились у первых дворов, выступивших нечеткой чернотой из серости летней ночи.
Катька остановилась. Я это уловил краем зрения и тоже остановился, поглядывая на блестки света из окон крайней избушки и не решаясь заглянуть девчонке в лицо, а она вдруг погладила меня по голове горячей ладонью, пахнущей ягодами, и снова звонким голосом протянула, как пропела:
– Хо-ро-ший ты, Леня!
Я и почувствовать ничего не успел, не то чтобы осознать, как Катька юркнула в темноту дворовых плетней и пропала.
Послушав немного улицу, я рванулся к дому. Необычная легкость несла мое тело воздушной пушинкой, а в душе настаивалась упоительная радость.
4
Сено косить – ни задачи решать. Держи силу в руках да тяни косу по траве, и никаких тебе умственных обязательств: гоняй мысли туда-сюда, лелей душу, лови то, что наплывает, грусти или радуйся – все одно мимолетно, как взмах косы или шуршание кошенины. Но вечерняя встреча с Катькой зацепилась в памяти, потянула на щекотливые раздумья. Никогда раньше меня не занимали так плотно интимные отношения и сокровенная дружба. Как не отгонял я мысли об этом, пытаясь переключиться на охоту, – не получалось. Память подсовывала мне то широко распахнутые Катькины глаза, в восторженном удивлении, то её гибкую фигуру, то густые волосы вразлет, то деда с Дарьей у шалаша… И как только мы, перекусив, завалились на травяной подстилке отдыхать, я, с некоторым стеснением и неловкостью, начал издалека:
– Дедушка, а почему такая большая разница в годах у мамки с Кольшей? Ей уже тридцать пять, а Кольше только двадцать.
– Так что тут непонятного? – живо отозвался дед. – Матери твоей был год, как началась Первая война с германцами. Вот и считай: четыре года я был на фронте, больше года в плену, почти два года добирался до дома. Через два года сын Федя родился. – Дед примолк, словно натолкнулся на что-то жесткое.
– А где он? – взыграло у меня нетерпение.
– Умер. Второй год ему был. Пили мы чай с самоваром, а Федя сидел у матери на коленях. Он и смахнул себе на ноги кружку с кипятком. Два дня промучился и всё. – Дед снова замолчал.
Я понимал, что, несмотря на давность лет, ему не просто вспоминать то несчастье, но любопытство оказалось сильнее моей пристойности и захотелось снова подтолкнуть деда к разговору, но он сам добавил:
– Потом Кольша родился, Шура.
– Так тебе сколько лет было, когда ты женатым стал? – подвинул я разговор поближе к интересующей меня теме.
Дед приподнялся на локте, поправляя под собой накошенную траву, глянул на меня с любопытством, но все же ответил:
– Тридцать шесть. Бабка твоя у меня была второй женой.
Это стало для меня новостью. Даже зазнобило.
– Где же первая? – выскочило у меня как бы само собой.
Дед повернулся на спину.
– А вразумишь ли всего? Не мал ли для большого разговора? – Он помедлил. – Хотя пятнадцать лет скоро будет – нужные понятия, поди, дозрели – учишься-то на пятерки.
Я не ответил, ожидая рассказа.
– Если тебя интересуют моё ухажерство, – как в воду глядел дед, – так началось все еще лет с девятнадцати. Год минул, как мы осели в Сибири. Отец с Алешкой и Митькой пашней занялись, а я решил в городе поработать – деньги в хозяйстве всегда нужны. Со мной пошел на подёнщину и Прокопка Семенишин. Ты его знаешь. За день мы отмахнули километров семьдесят и в последнем лесочке перед городом, прямо на траве, заночевали. Утром пришли на центральный базар – там всегда на подёнщиков спрос. Идем, посматриваем на торговцев, на товар, а торговали тогда на базаре всем: любой продукт можно было купить, любую вещь, любую живность. Почти полкруга прошли и столкнулись с двумя разодетыми дамами. Остановились они прямо перед нами – рассматривают, как будто купить хотят. А я уже тогда в свой рост вымахал – без четверти сажень. Да и Прокопку бог ростом не обидел. Та, что постарше, лет под тридцать, спрашивает: «Из деревни? – Киваем, как по команде. – Работу ищите? – Снова киваем. – Вы что, немые?» Брови у неё стрелкой вразлет шевельнулись. «Да нет, – отвечаю, – просто лишних слов не любим». – «Вот и хорошо, – говорит, – пошли за нами, работа есть». Ну а нам без разницы, что делать. Ты не спишь еще? – Дед повернулся ко мне, приглядываясь.
– Ну а дальше что? – задал я вопрос вместо ответа.
– А дальше пришли мы в большой дом. Внутри все чисто. Мебель богатая. Такую я видел у нашего помещика – там, в России. Усадили они нас с Прокопкой за стол – кормить начали. И все помалкивают. Только пялят глаза – прицениваются вроде. Мне даже неловко стало. Но тоже молчу. Уплетаем себе щи наваристые, а за ними – картошку с мясом.
Прокопка не выдержал, спрашивает: «А что мы будем делать?» Старшая – снова загадкой: «Что скажем – то и будете, а пока вон идите в казенную баню, что за углом. Вот вам деньги на помывку, полотенца, мыло…» Переглянулись мы, но без лишних слов из-за стола и за двери. Идем, гадаем, что к чему. А у меня какое-то предчувствие тревожное.
«Две бабы и ни одного мужика, – кидаю Прокопке сомнение. – Кабы они нас в какую-нибудь канитель не затянули». «А чего нам бояться? – лихо заявляет Прокопка. – По нашу силу и четверых мало будет – отмахнемся, ежели что. Пока кормят, поят – поглядим, чем все кончится». Намылись мы, напарились купленным веником, приходим, а на столе и вовсе наставлено всякой еды и бутылка вина. До того случая я никакого вина и не пробовал – не принято было без особой причины выпивать. Кто пьянствовал – тот быстро в нищету скатывался. Барышни вырядились – разлюли-малина, и с нами за стол. Старшая – Соня, к Прокопке придвинулась, а Мара, Мария значит по-простому, – ко мне. Распределились как бы по парам. Ум за разум зашел, но спрашивать о своей догадке не решаюсь. Кыш, привязалась! – Дед отмахнул надоедливую осу, кинул взгляд на меня и продолжил: – Вино взбодрило, разговор завязался. Все больше они спрашивали: откуда мы да зачем, женаты – не женаты, что за семьи… Патефон завели и танцевать. А мы с Прокопкой какие танцоры. Сплясать – дело другое. А меня в веселье кинуло, говорю: «Давайте я вам цыганочку отчебучу». Захлопали в ладошки. Я и выдал. Такой пляски они, видимо, вовек не видели. Мара, показавшаяся, на первый взгляд, скромницей, с поцелуями полезла. А нрав у меня в те годы крутой был, если не буйный. Схватил я её в охапку и в какую-то комнату. – Дед усмехнулся. – К утру понял, что за работа им была нужна: молодые и здоровые парни из деревенской глубинки, чтоб скрыто и надежно.
Помялся я, гася стеснение, и спросил:
– Что, эти дамы так одни и жили?
– Одни. – Дед отвернулся. – Софья тогда год назад мужа похоронила – от чахотки умер, а Мара – её младшая сестра, и вовсе не была замужем. Какой-то хлюст, в Питере, обманул еще в семнадцать лет. Вот она и рванула в Сибирь от кривотолков и три года у сестры кисла.
– Ну а дальше что? – совсем отмел я всякое стеснение – а что: дед-то родной, поймет моё любопытство.
– Дальше – в другой раз. – Дед умолк, явно засыпая.
А я еще долго воображал: и богатое застолье, и молодого деда, и красивых дам, и почему-то Мара была похожей на Настю.
* * *
На другой день, на отдыхе, я снова начал пытать деда с рассказом.
– Дальше, малый, и вовсе все развернулось нежданно-негаданно. Утром Прокопка, по наказу Софьи, сбегал на базар за продуктами и встретил там кого-то из наших деревенских, приехавших продавать мясо. Те и сказали, что его зазнобу кто-то сватает. А у Прокопки у самого была наметка на женитьбу. Кинул он покупки и снова на базар, чтобы уехать с кем-нибудь на порожняке. Я остался.
– Ну и что? – гнал я нетерпение.
– Хрен на что! – поддел дед. – Пожил я дня три у барышень и затосковал без работы: в крови, видно, у нас эта работа – не можем мы без неё, душа не позволяет. Потолкался туда-сюда: то золотарем предлагают – сортиры, значит, чистить, то в кочегары на пароход – ни то ни другое меня не устраивало. Может, по великой нужде, когда выхода нет, и подался бы я в кочегары, а так, за подработкой, в ад, зачем лезть. Еще день два барствовал я у сестер, и потянуло меня в деревню, на волю-вольную, в эти вот луга. – Дед кивнул я сторону косовища. – Ну места не нахожу в той «золотой клетке». Собрался уходить, а Мария в слезы, да в такие, что не вынести. Зацепило сердце, будто мне в грудь разрыв-траву вложили – шибко по нраву она мне пришлась. Еще день-два рвал душу, но рассудок взял своё: «Зачем, думаю, я – лапотник, такой барышне-красотке сдался – ей надо со своей ровней судьбу вязать, а меня она рано или поздно пнет за порог», и говорю Марии: «В деревне сейчас сенокос начнется – надо отцу помогать». Ну, как водится: обещания-прощания. Оторвался. – Не надоели тебе еще мои байки? – шевельнул дед мои мысли вопросом.
– Это всё, что ли? – разочарованно спросил я.
– Э, малый, это только цветики, а семечки еще впереди, слушай, коль охота. Дома отец меня едва ли не с вожжами ждал. Прокопка ему про наше гулянье ничего не поведал, но, оправдывая своё скорое возвращение, ляпнул, что я вроде бы кралю городскую облюбовал и хочу в городе остаться. Отец крут был характером, не поверил моему объяснению и заслал сватов к одной девушке. Тогда с нами не шибко считались – все решал глава семьи, попробуй – закуси удила. Так меня и поженили.
– А как же Мара? – с грустью произнес я.
Дед покашлял.
– Бывал я в городе с общим обозом, продавал сено, и тянуло меня сходить к сестрам. Да как пойдешь? Все на виду: быстро жене доложат про мою отлучку, а кому нужны скандалы, пересуды по деревне. Так и не видел я больше Марии. А жизнь, Ленька, такое с нами выкрутит, что ум за разум зайдет. Знать бы тогда про её долю – ничто бы меня не остановило. А узнать довелось лишь тогда, когда и знать бы не надо было.
– А что случилось? – Я насторожился.
Дед присел, погладил седеющие волосы.
– Где-то после того, как я вернулся домой из плена, Прокопка рассказал мне, что, будучи на базаре, решил полюбопытствовать и нашел тот заветный дом. Никто в нем уже не жил: окна заколочены, двор зарос бурьяном. Но соседи, у которых он спросил про сестер, поведали печальную историю. Будто бы Софья уехала в Россию, а Мария осталась, кого-то ждала. Был у неё ребенок, сын. В Гражданскую войну он якобы воевал на стороне белых, а как все закончилось, его пришли арестовывать. Но парень оказался шустрым – ушел через окно и дворы. С тех пор про него ничего и не слышали. А Марию арестовали, долго допрашивали и держали в холодном карцере. От холода или от побоев у неё отнялись ноги. – Дед запнулся. – Потом её расстреляли.
Я поежился, подал робкий голос:
– Выходит, это твой сын был?
Дед снова лег на спину.
– Может, и мой, а может, – и нет. Что теперь гадать. Утекло все вон туда. – Он ткнул пальцем в небо.
– А где та жена, на которой тебя насильно женили? – Мне не терпелось узнать все до конца.
– Куда-то они уехали. Я с ней прожил четыре года, а детей не было. В крестьянстве без детей нельзя – не по-людски. Оговоры, догадки. Я и решил с ней расстаться. Тоже были слезы. Но, как говорит пословица: «Слезы жены до утра, сестры до злата кольца, матери навек». Пережил я и те горести. Женился снова. Теперь уже на твоей бабке. Тут война. Ну а дальше ты все знаешь.
На березе, под которой мы лежали, весело шелестели листья, и я, глубоко переживая дедов рассказ, мимолетно думал, что придет осень и они все отлетят в перегной. Так и человек приходит в этот мир и уходит, а жизнь продолжается – она бесконечна, как это небо над березой, подернутое жаркой поволокой.
5
Дней десять палил землю зной: даже у лопухов вяли листья, сохли овощи, несмотря на двойной полив, а хлеба и вовсе начали выгорать. Каждый день, по утру, люди вглядывались в небо, ожидая хоть какой-нибудь прохлады, но солнце вставало раскаленным до бела и через пару часов начиналась жара, утихающая лишь на ночь.
Все знали, что если сгорят хлеба, то снова начнется та же полуголодная маята, что была в недалеком прошлом, а с нею и беды. Думали-гадали, но остановить зной человеку не под силу, и кто-то подговорил женщин на крестный ход – скорее всего, бабка Антохи Михеева – она была шибоко набожной.
Собралась толпа, едва ли не со всей деревни: с иконами, рушниками – и шествие потянулось к пруду. Впереди бабка Михеева с большим медным крестом в руках и какой-то толстой книжкой. Она начала что-то читать нараспев, и все подхватили: «Мать, Пресвятая Богородица, спаси нас…» Да так жалобно – до плача. Вдоль толпы – малая ребятня гурьбой, а кто постарше: или на буграх от бывших поместий, или на пряслах – в любопытстве.
Я тоже влез на забор и, вглядываясь в толпу, с волнением ловил долетающие от хода звуки. Непривычно, удивительно…
Вдруг с улицы вымахнул верховой – Разуваев на своем жеребце. Он обогнал толпу и стал поперек хода. Я даже дыхание притаил, ожидая, что же будет дальше? Задержится шествие или нет? Но бабка Михеева как шла – так и продолжала идти прямо на лошадь. Молитва еще громче поплыла над околицей, еще трепетнее. И то ли Разуваев не выдержал тонких причитаний и дернул поводья в сторону, то ли жеребец оказался умнее хозяина и сам попятился – только крестный ход так и продолжал течь к пруду.
А солнце зависло в зените, раскалив небо добела. И нигде ни пятнышка. Только по окоёму угадывалась едва заметная голубизна.
Остановилось шествие на самом высоком берегу пруда. Какие-то женщины вошли в воду до пояса – стали плескаться друг на друга, на тех, что стояли на траве, и всё с молитвами, духовным напевом.
Не меньше получаса продолжалось это моление, а потом затихло как-то в легкой толчее. Вразнобой потянулись женщины в деревню.
Я – за своё: поливать огурцы.
Пришла матушка с иконой. Веселая, возбужденная.
– Повесь-ка Богородицу назад, в святой угол, – попросила она.
Икона висела у нас в горнице, в левом углу. Я водрузил её на место и обложил рушником с вышитыми петухами.
– Когда мы собирались в переулке, – сообщила матушка, – кто-то доложил про нас сельскому председателю – он и прибежал с пеной у рта, с угрозами. Теперь ждем, что будет – потянут, поди, в сельсовет.
– Не потянут, – успокоил я её, – нет такого наказания.
Поделились мы с матушкой мнениями о крестном ходе (дед куда-то ушел еще до жары), а когда я снова выскочил в ограду, то заметил выплывавшую из-за горизонта какую-то округлую тучку, больше смахивающую на темноватое облако. Не придав ей особого значения, я стал черпать воду из бочки и лить на огуречную грядку. Затем – на вторую…
Замеченная мною тучка постепенно разрасталась, плыла к деревне. Ближе и ближе. Удивляясь столь необычному в яркий день явлению, я побежал в дом, чтобы сообщить матери о тучке.
Она сразу же выбежала на крыльцо, и почти в этот момент пошел дождь. Да не просто какой-нибудь там сеянец, а крупный и плотный. Причем ни ветра, ни грома не было. Лицо матери осветилось в радостном удивлении. Она протянула руки, собирая на ладони хрустально чистые капли воды.
– Услышала, значит, нас Матушка Пресвятая Богородица, смилостивилась, – как выдохнула она.
А я стоял рядом, наслаждаясь свежестью влажного воздуха, схожего с послегрозовым. Мысли, мысли… Крестный ход и этот дождь – совпадение или закономерность? На чем утвердиться?
Не больше четверти часа поливала благодать землю. Туча медленно таяла и вскоре совсем растворилась в подернутом тонкой позолотой небе. А позже мы узнали, что дождь охватил земли только нашего колхоза.
Глава 2. Сам по себе
1
К концу июля мы с дедом перевезли на тележке все заготовленное нами сено, и в один из вечеров Паша пригласил меня в ночное – пасти пригнанных откуда-то в колхоз полдесятка лошадей. Так уж получилось, что к тому времени, когда можно было начинать учиться верховой езде, в нашем колхозе оставался лишь один председательский жеребец, которого Разуваев никому не доверял.
Дед, услышав Пашино предложение, посоветовал:
– Сходи понюхай лошадиного пота. Да осторожно: лошадь – животина умная, не то что овца или корова, не понравишься – и укусить может или вовсе, не дай бог, лягнуть. А верхом ездить учись, иначе, что ты за мужик будешь, если в седле не удержишься. Седел-то, конечно, нету? – обратился он к Паше.
– Откуда? – Паша усмехнулся. – На спине гарцевать будем, с одной уздечкой. Я уже две ночи с Антохой Михеевым в догляде. Так он за гриву уцепится и летит в намет. Даже я так скакать побаиваюсь, а он ухарствует.
– Вот-вот, с ухарством, да друг перед другом, как раз и воздержитесь. И глаз да глаз нужен. Вон у Доманиных, еще до колхоза, поскакал парнишка на пруд лошадей поить, а конь под ним кого-то испугался: не то лисицы, выскочившей из норы, не то собаки какой – и резко прянул в сторону. Парнишка и слетел с седла, а нога в стреме застряла. Пока поймали лошадь – малый уже не дышал…
Подбодрил дед, называется, поставил мне в сознание вешку осторожности.
– А ты-то как в конюхах оказался? – кинул он взгляд на Пашу.
– Разуваев попросил гонять коней в ночное, до осени. Хотя я дальше учиться и не буду – восьмилетки хватит.
– В какое-то училище метишь? – полюбопытствовал дед.
– Хотел бы, да мать одну не брошу. Пойду в помощники к Демину, плотничать.
– И то не плохо… – Дед еще что-то говорил, но мы уже рванули за ограду и слов его не расслышали.
Разгульная заря затянула полнеба, кинув тонкую вязь позолоты на верхушки деревьев и маковки высоких трав. Затемнели леса в поволоке наплывающих из-за горизонта отсветов. Поплыли в охват сумрака деревенские дворы. Пахнуло прохладой…
Широкий загон для лошадей забелел свежими пряслами на краю скотного двора. К нему мы и подбежали, гася тугое дыхание.
У пригона нас ждал Антоха.
– Долго чаи гоняете, – высказал он недовольство и, поздоровавшись, перепрыгнул через прясло к лошадям.
– У него теперь свой конь, – пояснил его спешку Паша, – вон тот, с неостриженной гривой. Антоха на нем без уздечки гоняет, а тебя я посажу на кобылу и уздечку дам, пошли.
С душевным трепетом подходил я к лошади, и, взявшись за поводок уздечки, оглянулся на Пашу.
– Не бойся, – понял он моё замешательство, – она спокойная. Давай подсажу, если сам не сядешь.
Но я промолчал, прикидывая высоту лошади.
Кобыла косила на меня спокойный взгляд, и я, погладив её по шее, с прыжка вскочил на спину. Заходила она подо мной, перебирая ногами. И сердце зашлось от озноба.
– Я сейчас пригон открою – лошади рванут, держись! – крикнул Паша и, распахнув ворота, вскочил на своего коня.
Моя лошадь, увлекаемая общим беговым порывом, с ходу пошла в крупную рысь, и я едва не слетел с её широкой спины. Только поводья да сильные ноги в крепком охвате удержали меня на кобыле. В лицо тугой струёй хлестанул ветер, вздыбил рубаху, мягко затрепетал между ней и телом; стекая за поясницу, под штаны, когда меня подбрасывало над лошадиной спиной, и выплескивался из-под рубахи в момент осаживания назад.
Страх тиснул сердце, нагнетая одну и ту же мысль: не упасть бы! Не упасть! При таком разгоне, да под копытами – хана! Но я даже не старался сдерживать лошадь, понимая, что это еще опаснее: ослабишь в какой-то момент повод, и она, догоняя убежавших вперед коней, рванет еще быстрее, а тогда вероятность падения на землю будет еще вероятнее. И странно, именно этот сжимающий тело страх заставил меня приноровиться к лошадиной скачке, и мало-помалу я поймал её ритм, и новая волна чувств смела тяжкое оцепенение, и уже не страх, а восторг быстрого движения начал охватывать меня. Никогда еще я не несся над землей с такой скоростью и таким пронзительным вдохновением – казалось, что вовсе не лошадь несет меня в поток вечернего покоя, а я сам, легкой пушинкой, лечу в даль дальнюю. И это ощущение полета подняло в душе все отметающий азарт эйфории. Я не чувствовал ни мягкого удара о спину лошади, ни тугого напряжения рук. Душа играла в качели: то взлетая в мягком стремлении к осветленному окоему, то падая в жутком обрыве…
Две свободных лошади неслись впереди, почти вровень с ними скакал Антоха, за ним – Паша, я – последним. Лишь позже я понял, насколько умна моя кобыла. Она как бы понимала, что седок на ней неопытный, и не торопилась нестись вперед, но и старалась далеко не отставать, чтобы не потеряться, – после, в страду, я на ней, вперегонки, обставлял многих.
А лошади текли к лесу, в сумрачные луга. Топот копыт гасил все звуки, разрывая пугливую тишину. И казалось, что именно от этого испуга так по шальному бьется в лицо и в грудь тугой воздух, словно стараясь сбросить меня с лошади.
Остановились мы у широкого разворота некошеного поля, в пятнах клеверной россыпи, лоскутных наплывах пырея и ржанцов с дудками дягиля и пижмы, с ветвистой кровохлебкой в бордовых шишках…
Пока я, по наказу Паши, сняв с зубов кобылы удила и коротко завязав повод уздечки над гривой, отпустил её к остальным лошадям, Паша спутал своего коня и махнул мне рукой, подзывая. Антоха где-то замешкался – не видно его было и не слышно.
– Пошли вон под березку, костерок разведем и поговорим, – сказал Паша. – Там у нас старое кострище.
– А ты зачем своего коня спутал? – поинтересовался я.
– Он вожак, отпусти – обязательно куда-нибудь уведет лошадей, и скорее всего в овсы. Потравим – не рассчитаться. А так он далеко не ускачет, да и пытаться не будет – умный конь. А если вдруг другие лошади куда-нибудь наладятся, мне недолго скинуть с него путы и завернуть их.
– Антоха на что?
– Так, кто быстрее успеет. Ты пока не рвись гонять лошадей. Наладишь езду – тогда и пробуй…
Прохладой потянуло от ближних кустов, какая-то птичка подала голос, провожая ушедший день. В деревне взлаивали собаки.
Паша быстро разжег мелкие ветки, и мы начали с ним ломать сушняк. Подошел и Антоха. И скоро наш костер бросал трепетные отсветы на траву и деревья.
– Не нравиться мне, как мой мерин похрапывал и к кустам воротил морду, – присев на траву, проговорил Антоха. – Не волки ли там затаились?
– Да ну, – отмахнулся Паша, – про них уж года два ничего не слышно. Бригады охотников всех повыбили.
– Алапник вон какой, – гнул свое Антоха, – где их всех вычешешь.
– Если какой один и остался, так он лошадь не возьмет. Тем более в табуне…
И потек у нас разговор о том, о сем, о грядущем.
– Ван Ваныч говорил, что американцы грозят нам атомной бомбой, – решил и я сказать своё слово.
– Гитлер тоже грозил, да где он теперь? – отозвался Паша.
– Они вон на Японию две штуки скинули, – как бы поддержал меня Антоха, – народу положили не счесть.
– На нас не посмеют, – заверил Паша. – Эта бомба и у нас есть, не беспокойтесь…
Пофыркивали пасущиеся на лугу лошади, бил где-то поздний перепел и жалобно постанывал сычик.
– А знаете, – перевел вдруг разговор на другую тему Антоха, – у Лизки Клочковой уже титьки в руку не возьмешь.
– Ты щупал, что ли? – Паша глянул настороженно.
– Я у многих щупал, – похвастался Антоха.
– У других щупай, а Лизку не тронь! – как застолбил Паша. – Она мне нравится.
– Так она вон к Стрельцу льнет, – заявил Антоха в растерянности.
– С чего ты вял?! – вскинулся я. – Это Мих Мих ко мне за парту её усадил. Только и всего.
Паша усмехнулся.
– Уж с Ленькой-то мы как-нибудь без сопливых разберемся, а ты сам к ней не лезь и другим накажи, не то в бараний рог согну.
– Все еще на воде вилами писано, – не одобрил я раздора между друзьями, – а вы уже готовы за грудки друг друга хватать. Время покажет, кто и что.
– Голова! – Паша взлохматил мне волосы. – Так и запишем, а теперь вон дуйте вдвоём к копне сена и спите. Я здесь один покараулю, если что – разбужу.
Спать и в самом деле хотелось, и я промолчал, но Антоха возразил:
– Чего один-то? Я тоже могу подежурить.
– За коней отвечаю я, а не ты. И если меня потянет в дрему – подменимся. Все, я пойду лошадей глядеть.
– Где эта копна? – спросил я у Антохи.
– Вон там – за дальнем заворотом, у болотца…
Натекали тонкие запахи луговых трав, увядающих цветов, нагретых березовых листьев и сена. Легкая пелена тумана наплывала из чащобы. Густо толкались комарики-звонцы, лепясь на лицо и руки.
– Уснешь тут, – отмахиваясь от них, недовольствовал Антоха, – у костра хоть этих кровососов нет, а на копне заедят.
– Ничего, – я ободряюще похлопал ему по спине, – зароемся поглубже в сено – ни один комар не достанет…
Так мы и сделали. Антоха залег с одной стороны копны, я – с другой.
Поговорив немного, мы заснули…
* * *
В таком возрасте, да на свежем воздухе, спится без сновидений, но на рассвете меня пробрало сыростью. Плотный туман, который я разглядел сквозь просветы редкого сена, стелился над луговиной и проникал под моё «одеяло». Еще не до конца освободившись от сна, я вдруг почувствовал на лице чье-то дыхание и одеревенел от испуга – прямо перед собой я увидел длинную морду с бородой, а над ней – рога! «Лошадь?! Но откуда рога?.. Нечесть!» Я даже зажмурился на миг, чтобы проверить реальность увиденного. А рогатая морда подтянулась ко мне поближе – ну в метре! Видно стало, как широкие ноздри раздуваются и опадают. «Нюхает! – мелькнула жуткая мысль. – Сейчас прижмет и конец!» Ни шевельнуться, ни вскрикнуть я не мог – так свело тело от жути. А «морда» вдруг качнулась в сторону, издав глубокий вздох, и я, скосив глаза, разглядел сквозь сено темную тушу лося. Мурашки побежали по захолодевшей спине, но я шевельнулся, окончательно сбрасывая обморочную оторопь, и лось, разглядевший меня, отпрыгнул от копны к болотцу. Почти сразу же, широко расставив передние ноги, он стал шумно пить воду.
Я лежал, боясь приподняться: вдруг наскочит! Повернув голову к Антохе, глубоко зарывшемуся в сено, я заметил, что он еще спит. Тихонько толкнул его под бок – бесполезно.
А лось, напившись, оглянулся на копну и неторопливо исчез в ближних тальниках.
Растолкав Антоху, я рассказал ему про лося.
– Ври, да не завирайся, – не поверил он. – Не может лось так близко подойти к людям.
– Я что, слепой? Или ненормальный? – обиделся я. – Иди вон, погляди след.
И точно: возле копны четко были видны ямки от вдавленных в землю копыт.
– Не лось это, – почему-то прошептал Антоха, – не лось. Не зря вчера мой конь на кусты зырил. Идем скорее отсюда! – Он заторопился от копны, разгоняя туман. Я – за ним.
От костра остались одни угли. Паша спал, согнувшись. Недалеко, сгрудившись у опушки леса, стояли лошади.
Послушав Антоху, Паша рассмеялся:
– Лось здесь живет – я его в первый день, как пригнал лошадей, видел. Он, скорее всего, учуял запахи от копны – в сырость-то они слабые, и решил убедиться, от кого они. А тут вы…
«А ведь мог и рогами махнуть, чтоб тогда со мною было?» – От этих мыслей я даже поежился.
В деревню мы уже не скакали галопом – лошади шли легкой пробежкою, с неохотой. Кого-то из них работа ждала, а кого-то – пригон, и то и другое не то что воля в ночном.
2
Кто в детстве не брал грибов, не собирал ягод? А в наши не сытые годы и то и другое было обязательным.
В один из пасмурных дней я, взяв корзину, отправился в лес. Все грибные места в округе двух-трех километров от деревни мне были доподлинно известны. Каждый отъем леса, каждый колок, каждую поляну между ними, очертания опушек и луговин я помнил, и даже, как говорится, с закрытыми глазами мог найти дорогу домой из любого места.
Особенно я любил один обширный лес с многочисленными полянами, с березами и осинником, с зарослями ивняков и смородины, с чистыми прогалинами и травой-муравой по опушкам, в которой любили таиться настоящие грузди, всегда влажные, с росинками в чашечке шляпок, кисейной бахромой по их краям, с терпким грибным запахом. Брать эти чуть-чуть скользкие грибы с туго завернутой в зонт шляпкой, отдающей легкой желтизной, твердые в своей свежести, не больше деревянной ложки, одно удовольствие. А есть их зимой, посоленных в кадке с листьями хрена и укропом, – еще большее!
В тот день груздей не было, и я увлекся боровиками, хотя и не особо густо их наросло, но азарт горел – покрутился я по обширному лесу, а когда вышел на какую-то опушку и распрямился, то не узнал местности. Вокруг распахивалось сосем мне не знакомое, довольно обширное пространство, окруженное густыми, окудрявленными тальником лесами. Где, что? Небо серое, безветрие. Тишина. Все еще не веря самому себе, я развернулся и по прямой пересек лес. И на другой его стороне было то же самое: широкие поля и леса, леса… Я будто очутился в ином краю, где-то в более северной местности, поскольку в нашей округе таких плотных лесов не было. Меня охватила оторопь: не сон ли это? Тот лесной массив, в котором я собирал грибы, называемый у нас Казачьим отрубом, нигде по своему окоему не имел таких пространств, окруженных густыми лесами.
Ничего не понимая, я стал метаться по уже незнакомому лесу от одной опушки к другой, отчаявшись, испугавшись непонятного состояния, ввергшего меня в полное забытьё. Но ничего знакомого не увидел: меня будто перенесло в иную местность, иное измерение. С четверть часа крутил мою душу жгучий озноб. Как вдруг, на одной из полян, почти охваченный полубредом, я увидел пространство, разделенное незримой чертой надвое, а в нем, как в кривом зеркале, – знакомую березу, и ринулся к ней, едва ли не теряя сознание. Перед глазами будто все перевернулось, и я очутился на краю знакомой опушки.
Медленно, медленно скатывалось с меня глубокое оцепенение, захватившее не только душу, но и тело. Даже ноги ослабли, и пришлось присесть на обомшелый пень, на котором я не раз отдыхал, собирая грибы.
Анализируя после свои метания, я так и не пришел к чему-то единому. То ли долгие поиски грибов в наклоне и без особой оглядки привели меня к сиюминутной потери ориентиров и все привиделось в подсознательном страхе; то ли в действительности я каким-то образом очутился в иной местности и, поблуждав, нашел оттуда выход – неизвестно. Но с тех пор я в тот лес не ходил, хотя иной раз и тянуло отыскать знаковую березу: вдруг вблизи неё и скрывается какой-то вход в иное пространство? Любопытно, но слишком велико было то убивающее волю состояние и испытать его еще раз я не рискнул.
3
Лето шагнуло в свой последний месяц. Над озерными плесами стали мотаться одинокие стайки вылинявших диких уток и чем дальше, тем объемнее и гуще текли они из-за камышовых зарослей. Взяв у Степина полсотни патронов в долг, я засобирался на глухие плесы в средине озера.
– Чего удумал, – сердился дед, неторопливо подшивая свой сапог. – Мало тебе уток на крайних плесах, рядом, наладился в дальнюю сторону, да еще с ночевкой, что я матке скажу?
– Так и скажешь, как есть, – со взрослой настойчивостью держался я. Если бы он знал мои истинные намерения, было бы еще не то. Я собирался вовсе не на дальнюю сторону озера, а на остров, глухой и опасный, с хлипкими зыбунами, мелкими и глубокими плесами, непролазными крепями. Про тот остров я услышал от Степина еще неделю назад, когда, вернувшись с покоса, сидел на жердях огородного прясла, наблюдая, как потухает заря и кружатся над мелководьем утки.
– Спать-то где будешь? – не унимался дед. – Сейчас ночи росные, холодные.
– Мало там сена, что ли? Закопаюсь, и что мне роса…
Положив в сумку несколько холодных картофелин, сваренных в тонкой кожуре: мало-помалу мы стали подкапывать молодую картошку, – пару огурцов и кусок лепешки с отрубями, я выскочил из дома под недовольное ворчание деда…
Не было той минувшей жары, того ослепительного света. Солнце, скатившееся к самому лесу, грело мягко и нежно, а лучи его, четко высвечивая каждую травинку, не мешали взгляду. После сенокоса, после сухих колючих корней мягкая приозерная трава казалась ватой, и я, обозревая береговые плесы, шустро огибал озеро.
Когда за одним из камышовых выступов скрылась деревня, по берегам стали попадаться большие стаи куликов-кроншнепов. Они подпускали почти на выстрел без всякого скрадывания, но я торопился: впереди меня ждал таинственный, никем не посещаемый остров – царство водоплавающих птиц. По словам заготовителя, на него и раньше мало кто пролазил, а теперь и вовсе никто. Считай, несколько лет на нем не было людей.
Обойдя длинный ряд береговых тальников, я остановился: где-то здесь был проход на остров. Передо мной стеной стояли непролазные крепи. Оглянувшись на светлый, залитый солнцем луг и заметив вдали одинокую, приметную березу, на которую ориентировал заготовитель, я двинулся вперед. Заросли тут же закрыли от меня и луг, и пространство, и низкое солнце, оставив вверху клочок неба в овчинку. Под ногами захлюпала прохладная грязь. С трудом раздвигая спутанные камыши руками и животом, я все же угадывал, с какой стороны солнце, и по нему держал направление. В душных зарослях стало одиноко и тоскливо, пошли жуткие мысли, вспомнились предостерегающие слова заготовителя, но я шел и шел, вопреки тревоге, мыслям, задыхаясь от болотных испарений, – заросли эти не продувались, и дышать в них было тяжело…
Сколько бы времени я выдержал эту пытку, не знаю, только впереди вдруг засветилось свободное пространство, блеснула вода. Плес был широкий, уходил заводями вправо и влево. Далеко-далеко, в едком блеске низкого солнца, я различил два дерева, едва торчащие над стенкой камыша, и с облегчением вздохнул: это были нужные мне ориентиры. На них и надо было держать направление. Завязав крайние камыши крупным приметным узлом, я снял штаны, куртку и двинулся вперед. Вода была теплой, медленно поднималась по голым моим ногам. Ровное, невязкое дно приятно холодило подошвы. Примерно на средине плеса я оглянулся, завязанная камышовая куделька была хорошо видна – заметный ориентир на выход…
Вода дошла мне до пояса, стала подниматься под грудь. Я вытянул вверх руки, держа на весу и куртку со штанами, и сумку с патронами и едой, и ружье. Снова боязнь кольнула сердце, а вдруг дальше будет еще глубже? Но дно стало твердым, как пол, резко пошло вверх. Пройдя редкий камыш, я вышел на сухое место. Вокруг меня, насколько хватало взора, стелилось зеленое море густых высоких трав и тростников. Вдали на фоне неба густо чернели теперь уже четыре дерева. Там, возле них, и было глухое мелководье, где уток, по словам заготовителя, кишмя кишело. Надев штаны, я закатал их выше колен и двинулся на эти деревья. Твердый бугор вскоре кончился. Под ногами вновь захлюпала вода, холодная, как из колодца. Ноги заныли, и скоро я ощутил легкое покачивание почвы. Начались зыбуны, то страшное и опасное, о чем я не раз слышал, но никогда не видел и не испытывал. Тревожно и горячо застучало сердце. Боясь провалиться, я не отрывал глаз от подрагивающего впереди меня дерна и старался наступать туда, где трава была пожестче и погуще. Несколько раз надо мной прошумели плотные стайки уток, но я не поднял головы. Дальше – больше, тонкий слой дерна начал пузыриться, глубоко тонуть, и жгучая вода студила ноги до самых колен. Всем своим не тяжелым телом я чувствовал опасное напряжение переплетенных травяных стеблей подо мною и всякий раз обмирал, ухнув в очередном прыжке на новое место. Не вернуться ли? Но я упрямо двигался к приметным деревьям. Справа и слева от меня потянулись низкие стайки гусей, вероятно, на кормежку. Они без особого испуга с предостерегающим гоготом отворачивали, замечая мои резкие движения, и уносились к берегу, пропадая за густо-зеленой стеной камыша. Птицы шли в светлые дали, на твердую землю, на поспевающие хлеба, а я, наоборот, двигался к «черту на кулички».
Солнце коснулось камыша, накрыло его безбрежные просторы золотой вуалью, выткало позолоту кружев на кронах приближающихся деревьев. Жутко и страшно одиноко стало мне в этом ненадежном краю зыбунов, мягких и ласковых с виду. А что там, под ногами? Холодная бездна? Юркни, и никто и никогда тебя не найдет, и ямки не останется. Трава все закроет. У меня даже сердце защемило, и я заторопился, запаниковал и вдруг действительно почувствовал, как проваливаюсь куда-то. К счастью, дерн порвался только под одной ногой. Обжигающий, вечный холод ощутил я глубоко внизу и, дурея от страха, вырвав ногу, ринулся вперед без оглядки. И странно: почва вдруг перестала колебаться. Теплую сухую траву ощутили ноги. Передо мной лежал широкий луг с родными мне, известными травами и цветами. Совсем такими, какие я еще недавно укладывал литовкой в узкие ряды. А за ним уже не блестела, а молочно светилась вода. Дальше высоко поднимались в небо четыре могучих березы. «Вот он, остров? – охватила меня радость. – Дошел!» Сразу отлетели тревога и страх. Медленно двинулся я к воде, попробовал ее ногой. Вода была теплой, и, войдя в нее по колено, я согрел ноги.
Тихие плесы, причудливо связанные друг с другом протоками, были окружены чаканом и рогозом, покрыты кое-где тягучим мохом. Многочисленные птичьи перья белели здесь и там на воде, но уток не было. Они улетели на кормежку в хлебные поля.
Быстро накатывались сумерки. Я вернулся на сухой бугор, выбрал траву погуще и решил в ней ночевать. Вынув из кармана складной ножик, я пошел к камышам. Спокойно и размеренно срезал я ломкие стебли и укладывал в снопик.
Стало прохладно и сыро. Жуткая тишина простиралась вокруг: ни ветерка, ни звука.
Настелив в траву камыша, я присел на него и сразу же почувствовал острый голод. В долгом неизведанном пути, занятый веселыми и невеселыми думами, охваченный тревогой, я забыл о своем постоянном чувстве, а тут оно зацепило меня под ложечку. Развязав тряпку с едой, я с наслаждением стал грызть черствую лепешку с огурцом и сладкой молодой картошкой.
Гасло небо, задергивалось холодной мглой. Чернели камыши. Темнела вода на плесах. Представив, что вокруг на добрый десяток километров нет ни души, я вновь ощутил страх и тяжелое чувство одиночества. Завернув остатки еды в тряпицу, я лег на камышовую подстилку, накрылся тужуркой и придвинул к самому боку заряженное ружье.
От травы и цветов шел тонкий лесной аромат, а с плеса тянуло сыростью и болотом. До звона в ушах я слушал крадущуюся ночь, но – ни мало-мальского шороха, ни движения воздуха не уловил…
Уже в темноте сквозь чуткий сон стало слышно, как возвращаются с кормежки птицы. Сначала молча, с однообразным шумом полетели утки. Вода всплескивалась от их опускавшихся стай, качался застоялый воздух. Потом с гомоном, с дикой радостью пошли гуси. Я лежал и замирал от счастья, от радостных предчувствий. Недолго бились птицы в своих заботах, утихли и они, и я уснул крепко. Легкий предрассветный ветерок зазнобил босые, вынырнувшие из-под куртки ноги, и людские голоса почудились мне. Еще не проснувшись, но уже и не видя сна, я вдруг уловил что-то похожее на разговор и вмиг пробудился окончательно.
Небо светилось, гася звезды. Свет оттуда, из недосягаемой высоты, струился вниз, прижимая ночную темень к земле, она плыла между камышами, копилась в укромных местах. Слабый-слабый ветерок порывами пролетал то с востока, то с запада. Но сколько я ни прислушивался, никаких звуков не уловил. «Показалось. Кто сюда придет? Некому. Лишь от нашей деревни можно пролезть на остров только в том месте, где я прошел. Дальше все глубина и трясина…»
Не шевелясь и не поднимаясь, я сжал ружье и слушал, кося глазами по сторонам. Сколько времени я пролежал в этом оцепенении, трудно сказать, как вдруг тихий-тихий шорох уловил мой болезненно обостренный слух. Звук донесся от ближнего камыша. Потом едва внятные и робкие шаги различил я по слабому всплеску воды. И снова страх скрутил холодом сердце, глаза остановились на одной точке, и в этот момент, как по взмаху волшебной палочки, вроде бы не из чего, появилось крупное рыжее существо, похожее на олененка. Не думая, непонятно по какому сигналу, я быстро сел и машинально выкинул ружье – зверь исчез так же внезапно, как и появился. «Не почудилось ли? – сразу полезли думки про оборотней, колдунов… Боясь вставать, я снова лег на пригретое место, спрятавшись под куртку. – Потом посмотрю, следы должны быть. Вроде коза дикая…» После я еще несколько раз слышал какие-то подозрительные шорохи и все напрягался, тревожился, пока не уснул.
Первые утиные стаи я прозевал. Они меня разбудили. Над камышами поднималось огромное солнце. Несчетные капельки росы заиграли причудливыми красками, переливаясь и сверкая. Свет и тепло успокоили, и смешными показались мне недавние страхи. Надев повлажневшую от росы куртку, я взял ружье и, стараясь не шибко сбивать холодные капли с травы, двинулся к плесу. Утки, заметив меня, отлетели подальше, всплеснув воду за плотным рогозом. Я зашел в густой высокий чакан и остановился. Теплая вода приятно омывала ноги. Не успел я оглядеться, как стая кряковых уток вспенила плес, накрыв его тугим воздухом и густым шумом. Они были шагах в двадцати от меня, большие, коричнево-темные. Подняв ружье, я навел ствол в самую гущу птиц и нажал «собачку». Не менее густой шум заглушил отзвук выстрела. Несколько уток, разбрызгивая воду в смертельном трепыхании, осталось на плесе, а две-три потянули в камыши подранками. Догонять и ловить их было некогда – новая стая закрывала небо. Какой бес руководил мной, не объяснить, только ни умом ни сердцем я бы до этого не дошел. Утки сыпались на плес беспрерывно, стая за стаей, и я, коварно выбирая самые густые их скопления, не замечал искалеченных, уползающих и уплывающих в камыши. Две дюжины патронов, взятых с собой, я сжег быстро и лишь тогда одумался. Ближний плес чернел от поверженных уток. Усталый от страшной кровавой работы, я понуро побрел па мелкому плесу, без радости, без счастливого озноба, собирая уток. Семнадцать кряковых насчитал я в натасканной на бугор кучке и присел на камышовую подстилку. Что-то тревожило меня, бередило душу. Даже картошку с огурцом я сжевал без сладкого ощущения.
Укрутив уток веревочной петлей, я разделил их на две связки и с трудом перекинул через плечо: одну на спину, другую на грудь. Как я шел назад, качаясь от тяжелых уток, от усталости, от переживаний, от хлипких зыбунов, трудно представить.
Красный от натуги и усталости, ввалился я домой, едва перешагнув порог.
Дед резал табак на курево, оглянулся, глаза его осветились радостью.
– Пришел, бродяга. – Он встал и увидел связки уток. Лицо его посуровело. – Зачем столько-то бил? Не съедим ведь в один-два маха, сгниют.
Его неодобрение меня обидело: не для себя же старался.
– Не сгниют, – едва разжал я сухие губы, – соседям раздам. – Свалив уток на лавку, я стал раздеваться.
– Ленька, ты Ленька, – чуть помедлив, отозвался дед. – Разве всех обогреешь? И кто бы стоял против этого, если бы заряды были вольные. А то ведь у заготовителя ради Христа выпрашиваешь…
Говорить не было сил. Все во мне дрожало от усталости, слабло, и меня, как магнитом, потянуло на печь.
– И откуда в тебе это чужое зло взялось, – продолжал сокрушаться дед.
И лишь здесь, дома, осмысливая слова деда, я понял, что всю обратную дорогу меня терзали муки совести за неоправданную корысть и жестокость прошедшей охоты.
– Жадность, малый, – язва, – не унимался дед, – влепится в душу – долго жечь будет, а то и вовсе спалит ее…
Я знал, что дед добрый, что он простит мне эту оплошность, что все образуется и не повторится. С этими радужными мыслями, с надеждой на прощение я стал стремительно засыпать, чувствуя, как все подо мной качается и плывет. И каким прекрасным, ничем не заменимым показался мне в тот момент маленький родной дом в маленькой родной деревне!
4
А Петруня Кудров все тревожил вечера напевом аккордеона, все зазывал молодежь на веселье по воскресеньям. Не редко и Федюха подстраивался к нему, и тогда они дуэтом наигрывали народные пляски – «пыль столбом – дым коромыслом». Такого пыла, вгоняющего душу в глубокий охват восторга, я больше нигде не испытывал и не наблюдал.
Кое-что изменилось и в моей увлеченности музыкой: еще зимой я мало-помалу стал осваивать гитару, и понял – какой это удивительный инструмент! Балалайка и мандолина остались у меня на втором и третьем месте. Больше того, я научил Пашу играть на балалайке и отдал её ему на время – для тренировки.
Как-то Паша, в свободный от ночной пастьбы лошадей вечер, устроился возле своей избушки на табуретке, изготовленной собственными руками, и стал наигрывать на балалайке цыганочку. А я подстроил под его лад гитару, и ударили мы по струнам созвучно – в унисон, и мелодично так получилось, завлекательно. Мы и не думали не гадали, что кого-то приманит наша игра. Первой подошла Лиза Клочкова, за ней – Маня Огаркова, Анюта Сумченко, и постепенно у нас образовались свои, маленькие, вечерки. Даже плясать девчонки стали под нашу музыку и нас учить двигать ногами, как положено. Если танцевал Паша – он все с Лизой паровался, тогда играл я на гитаре. А если Маня Огаркова водила меня по кругу – то Паша тренькал на балалайке.
Редки были наши вечеринки – работа все съедала, но я научился плясать и польку, и подгорную, и даже чуть-чуть – цыганочку. И эти пробные танцы по-особому осветляли душу, распахивали в сознании какие-то иные пространства взаимоотношений между нами.
5
Еще в покос, когда июльская жара изматывала жаждой и зноем, приметил я болотинку среди густого леса, светящуюся округлым блюдцем чистого плеса. Долгая сушь оттянула из него столько воды, что между краем плеса и урезом травы, окружавшим его густой каймой, образовался чистый глинистый пояс, весь истыканный следами приходивших утолить жажду косуль. Их было так много, что вначале подумалось на домашних овец. Но какие могли быть овцы километрах в пяти от деревни? Да еще в середине глухого лесного массива? И тропки, набитые в осоке, вели не к опушке, не на покосы, по направлению к деревне, а в обратную сторону, к сухому камышовому займищу, примыкавшему к лесу. Туда, в дебри старых, в два человеческих роста, тростников с непроходимой ломкой подушкой, опревших кочкарников, даже зимой никто не ходил, а летом и подавно. И где-то на травяных проплешинах, в глухих местах этого займища, и прятались звери.
Ушла сенокосная горячка, попрохладнее стали дни, потянулись по утрам холодные туманы. Кое-как урвал я момент сбегать к приметному озерку на болоте, поглядеть «козьи» следы. Время подкатывалось к школе, к уборке картофеля и заготовке дров. Да и других работ в деревне невпроворот. И хотя я выматывался по хозяйству не меньше, чем на покосе, мысли покараулить «коз» на водопое, возникшие еще тогда, когда сгребал я ручными граблями ряды высохшего сена в кучки и клал из них копны, донимали. Молодо-зелено, но и резво, быстро, отходчиво даже от долгой работы.
Едва прошло деревенское стадо коров, как я, управившись со своими обязанностями, взял ружье, пяток патронов и, прихватив старую тужурку, вынесся огородом на задворки, чтобы избежать лишнего глаза. Миновав пробежкой околицу, я перешел на шаг, ощущая терпкий аромат лесной прохлады, настоянный на увядающих травах, грибах, берестяной неге, и некоторая усталость, копившаяся в теле за долгий день, утекла в нагретую землю. Эта свежесть подняла в душе сторожок предчувствия радостных минут, и в таком возвышенном довольстве я прошел весь не близкий путь до покосов. Быстро упали сумерки, затемнел и без того густой лес, и с опаской, затаенным дыханием, острой оглядкой вошел я в него. Небольшое, в полсотни шагов, зеркало воды светилось, отражая не потухшее еще небо, неподвижно-стылое, стеклянно-прозрачное. Оглядев его илистую оправу и густую оторочку из жесткой осоки, я тут же решил взобраться на высокую талину, распластавшую в кривизне свои корявые сучья, хотя и знал, что нелегко усидеть на этих жестких и ненадежных отростках. Но более подходящие деревья подпирали небо на изрядном расстоянии от болотного блюдца-глаза, и чтобы видеть все из-за плотно стоящих кустов, пришлось бы забираться под макушку любого из них.
На одном из толстых отводов густой талины с рогатулиной я и пристроился. Не вольготно, но терпимо. При неловких движениях вся эта бессистемная вязь веток и сучьев хлипко качалась, и можно было свалиться в сухую чащу, на острые штыри отживших свое корневищ. А тут еще комарики липли к лицу, хотя и не очень густо, как летом, не жадно, но все же кололись. Терпи не терпи, а смахивать кровососов надо.
Темнело небо, гасло озерко, расплывались в неясном свете кусты, деревья. Но еще не время было темным ночам, еще плыли сумерки от запавшего за купол земли солнца, и на близком расстоянии я различал все. Притаивая дыхание, прислушиваясь и вглядываясь в глубину леса, я тихими движениями руки отгонял комаров. Кричала какая-то птица вдалеке, непонятно, однообразно, нагоняя тоску и тревогу, но ощутимая тяжесть ружья, лежащего на коленях, питала чувство защищенности и уверенности, гасила робкий страх, наплывающий из чуткого пространства, из глубины душевного трепета, нелепых мыслей, невесть почему поднимающихся из тайников сознания.
Не менее двух часов прошло, как я затаился в ветках густого тальника, никаких «коз» не было. Сон начал размывать мысли, чувства, зрение и слух, но я все же уловил глухие звуки хриплого лая в займище и вздрогнул, душа осеклась, гася грезы, и таинственная ночь забрала и сознание и чувства. С острой чуткостью следил я за нею, боясь глубоко вздохнуть и шевельнуться, и до боли напряженным слухом различил осторожно-грузные шаги в камышах, и, холодея спиной, сжал ружье – вряд ли так тяжело подходят к воде косули. Кто-то иной, массивный крался не то к озерку, не то ко мне. Чехарда мыслей затрясла душу, подняла в теле легкую дрожь, не останавливаясь и не утверждаясь на чем-то определенном, ясном, знакомом… И пока я хватался в предположениях за самое нелепое, даже суеверное, кто-то огромный и темный выплыл из-за кустов совсем недалеко от меня и, отдуваясь, остановился. Массивная голова с рогами, горб… Да это же лось! Сердце встрепенулось в радостном освобождении, волна светлого облегчения смыла все страхи, тревоги, напряжение, мышечную дрожь. С изумлением и любопытством глядел я на лесного гиганта, шевелящего ушами с медленным поворотом головы. Стрелять в него и не думалось. Не только потому, что не было пулевых патронов, но и из-за некой робости перед этим великаном, непонятной симпатией к его мощи и дикой красоте.
Сиганув от травяной кромки и увязнув в грязи почти по брюхо, лось еще послушал немного и, опустив корону рогов, стал медленно пить, разводя круги по стоячей воде. Слышно было, как он втягивал воду с утробным бульканьем, пыхтением, вздохами… Второй раз в жизни я видел так близко этого таинственного зверя, необычного в своей непохожести на других копытных…
Лось вдруг поднял голову, застриг ушами, по его черной бороде потекли струйки воды, дробно забили каплями в стеклянную гладь плеса. Бесшумно, словно в воображении, неподалеку от сутулого зверя, в легком прыжке, появился рыжий, изящно стройный «козел» с острыми рожками. В близком сравнении с лосем он казался малым теленком. Волна дрожи прошила и тело и душу, мысли неуправляемо зыбились, и больше по некой ранней задумке, чем сознательно, я поднял ружье. Выстрел тряхнул меня так сильно, что я едва не слетел с талины. «Козел» вздыбился, сиганул назад, в густую траву, а лось ломанулся в тальники. Затряслись, забились в грубой ломке кусты, затрещала чаща. В миг ушла из-под меня зыбкая рогатулина. Падая на бок, головой вниз, не успев даже испугаться, я, роняя ружье, чудом поймался за какие-то ветки и повис на них, несуразно качаясь. Сознание пробила жуткая мысль о том, что вот-вот разъяренный лось сомнет хлипкую талину и продырявит меня копытами. Страх был до того сильным, что я даже не слышал, как угасал треск под удаляющимся зверем. Но быстро, моментом прошел сжимающий душу холод. Руки и ноги задвигались в поисках более надежной опоры, более удобного положения. Мысли пошли размереннее, связно. Я понял, что лось, не поняв в неожиданности, откуда ударил гром выстрела, шарахнулся в плотную спасительную чащу и случайно сломал всю ту шаткую связь бесчисленных побегов и сучьев, которые как-то цеплялись и за мой тальниковый куст.
Послушав, на всякий случай, притихший лес и не уловив никаких звуков, я стал спускаться вниз. Изрядно поцарапавшись, спрыгнул на землю. Внизу было много темнее и пришлось долго шарить по сухим острым сучьям – пока не нашлось ружье. Едва я взял его в руки, как полное спокойствие вернуло мне былую уверенность. Дозарядив ружье, я тихо, с осторожностью, с чутким прислушиванием к каждому шороху, двинулся вдоль уреза травяных зарослей. Мысль о том, что я не мог промахнуться в «козла» с двадцати шагов, потянула меня к темным разрезам тины, оставшимся от недавних прыжков стреляного зверя. Едва приметная тропка виднелась среди высоких кочек, и, пройдя по ней немного, я увидел в траве рыжее пятно – «козел» лежал без движения.
Глава 3. Память
1
Осень пришла без дождей, и мы засуха управились с огородом. Ни часа свободного времени не оставалось у меня почти весь месяц – школа да работа. Даже на охоту пришлось выбегать только на болотину, за огороды, и то не каждый день.
Едва удалось передохнуть, как натянулось ненастье: то морось, пробирающая до костей, то мокрый снег, а в такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку со двора не выгонит.
В один из дней, когда дед ушел к своему закадычному другу Прокопу Семенишину, а матушка уселась вязать мне шерстяные носки на зиму, я решил расспросить её о молодых годах. С недавних пор, как только дед рассказал мне о своем движении по жизни, меня потянуло узнать родословную не только по линии матери, но и по линии отца. Раньше я не интересовался предками из-за малости лет, а потом, после похоронки с фронта, долго боялся тревожить мать. Теперь, когда прошло пять лет со дня нашего горя, я решил, что говорить об этом уже можно.
– А как вы с папкой познакомились? – после ничего не значащего разговора, вклинил я свой душевный интерес.
Матушка не удивилась вопросу – вероятно, она его ждала и ответила:
– Я, сынок, расскажу тебе всё, что знаю и что запомнилось от твоего отца и свекрови. Сама я многое не застала.
Твой дед по отцу – Иван Крупин – был из казачьего сословия, высокий, стройный, русоволосый, кутила и забияка. Бабушка – Варвара Васильевна Крупина (Покровская) – из ссыльных дворян, красивая и статная. Ты её видел в младенчестве, но вряд ли запомнил. Жили Крупины в Крупянке, что на Иртыше, которая долгое время была волостным центром и местом ссылки.
Когда Иван Крупин посватался к Варваре, её отец не дал согласия на их брак. «Негоже, – сказал он, – дворянке идти в жены к простому казаку». И тогда Иван сманил Варвару убегом на Дальний Восток, к своей родне. Там и родился твой отец. В каком-то споре или драке случилось убийство, где, кроме других, был замешан и дед Иван. Его и осудили на восемь лет. А баба Варя была в положении и вернулась в Крупянку, к родным. Там и родила дочку Катю.
Через год или два баба Варя познакомилась с работником реки Дмитрием Венцовым – шкипером на пассажирском судне, родом откуда-то из Центральной России. Вероятно, большой души был человек: холостой, ни разу не женатый, а не остановился перед выбором, взяв в жены женщину с двумя малолетними детьми, а ведь в те времена недостатка в девушках не было. Так твой отец – Емельян Иванович Крупин стал Емельяном Дмитриевичем Венцовым. Вскоре по желанию или по распоряжению начальства Дмитрий Венцов перевелся в другую пароходную компанию, в верховья Иртыша – в город Зайсан, что в Казахстане (тогда вся теперешняя территория Казахстана была Россией). Там он до самой революции работал на реке, а потом уволился.
Где-то перед Гражданской войной баба Варя решила проведать родных и поехала в Крупянку. Как раз к этому времени вышел из тюрьмы и Иван Крупин, почему-то отсидев не полный срок, – может, когда началась смута, всех и выпустили из тюрем. Он и предложил бабе Варе начать снова совместную жизнь, ссылаясь на детей. Но она не согласилась. Тогда его родня выкрала твоего отца, а баба подкупила какую-то женщину и обманным путем вернула Емельяна.
В Гражданскую войну Иван Крупин ушел с белыми, и после о нем не было ни слуху ни духу.
Дмитрий Венцов был мужик добрый и мягкий характером. Соседи даже не знали, что твой отец и тетка были ему не родными. У них с бабой Варей родилось двое: Мария и Георгий. Георгий погиб в эту войну, а Мария жила в Казахстане, в деревне Карабулак, что в пятнадцати километрах от города Зайсана. Замужем она была за Кобышевым Титом Власовичем. Четверо детей у них родилось: Валерий, Сергей, Гоша и Владимир. Сергей погиб в двенадцать лет, схватив оборванный провод не отключенного электричества. Валера, Гоша и Владимир где-то в Казахстане – связей с ними нет.
Дмитрий Венцов умер в степи во время пахоты. Поехал он с Емельяном пахать. Отработали день, поужинали и, завернувшись в тулуп, уснули. Утром обнаружилось, что он мертвый.
Бабушка Варвара вышла замуж в третий раз за Сысоева Тимофея, у которого незадолго до этого умерла жена, оставив ему пятерых детей: Нюру, Петра, Николая, Федора и Ивана. Еще, будучи живым, Дмитрий Венцов говорил бабе: «Жалко Сысоева Тимофея – умерла у него жена, пятеро детей осталось, как он их поднимать будет».
Свели семьи: у Сысоева пятеро и у бабы Варвары четверо – девять человек да самих двое. Прошло время. Поехали как-то на мельницу Петр с Катей вдвоём, а по возвращении заявляют: «Мам, мы поженились…» Баба Варвара в слёзы, а Тимофей долго ругался, да что делать? Факт-то свершился. Емельян вернулся вечером, видит – Петр и Катя лежат на кровати вместе, спят. «Что это такое?» – спрашивает. Мать заплакала: «Поженились!» – «Ну, ну, давайте теперь я на Нюре женюсь, зачем далеко ходить – своих женихов и невест хоть отбавляй…» Но что сделано – то сделано, не поправить…
Все это было интересным, хотя и не совсем в русле моего желания, и я не перебивал, выстраивая из слов матери далекие образы, ход событий.
– Отец твой – Емельян, я его звала Мелей. – Впервые мать назвала отца так, как они общались друг с другом, и это было для меня путеводным лучиком в их душевные отношения, – окончил семь классов, хотя и не ахти какое образование, но заметное по тем временам. Он хотел учиться и дальше, но Тимофей Сысоев заявил бабе Варе: «Мой не будет учиться, а твой будет, как это?» Он имел в виду Петра. Но Петр учиться не хотел, у него другие мысли в голове ходили – недаром рано завлек тетю Катю. А Тимофей их уравнивал, прикидывая со своей колокольни. – Мать говорила не прерываясь, быстро работая спицами, видимо, и её затянули воспоминания. – Чтобы не раздувать в семье скандал, твой отец, под предлогом посещения родни, уехал в Сибирь, в Крупянку, к деду с бабкой. Какое-то время он помогал им по хозяйству. Как раз к этому времени в райцентре открылись курсы счетоводов, и Емельян стал там учиться. После окончания курсов его направили счетоводом в нашу деревню. Как-то в магазине к нему пристали деревенские верховоды. Дело дошло до драки, кровопускания из носа. А в это время в магазин вошел твой дед Данила. Он и заступился за счетовода. «Не годится, – сказал, – троим на одного», – и раскидал, как цыплят, нападавших, а Емельяна повел к себе домой умыться. Я и вышла полить гостю воды на руки. С той встречи и понравились мы друг другу. А было мне тогда семнадцать лет. – Матушка поглядела в окно, словно увидела там себя – юную, а может, и отца, или тот судьбоносный момент… – Стали мы дружить, – продолжила она, – а когда мне исполнилось восемнадцать – поженились. Меле – двадцать один, мне – восемнадцать. В тот же год мы поехали в Зайсан, решив там жить. Отец работал то учителем, то бухгалтером в разных учреждениях, а когда родился ты – ему предложили место бухгалтера на таможни. Она находилась в горах, на таком же расстоянии от Зайсана, как мы сейчас от города. Километрах в двух от таможни располагался погранотряд. Через границу шел товарообмен, который контролировали пограничники. Вьюки с товарами везли на верблюдах. Из иностранцев там проходили китайцы и татары, звали их господами. Они ночевали на таможни, но близкий контакт с ними не допускался. Отец как-то выпил вина с приезжими, и кто-то доложил, что бухгалтера приглашают заграницу работать. Его вызвали в погранотряд и строго предупредили: «Чаем их угощай, сам пей с ними чай, а вино – не смей!»
Горы я помнил, особенно тот момент, когда мы сидели в телеге посреди горной речки и мерзли, ожидая помощи. Нарисовались они мне в воображении, да хмурый день за окном вспугнул памятный образ.
– Постоянными жителями на таможне были казахи, – не останавливалась матушка. – Из русских лишь уборщица. Даже начальник таможни был казах. Но жили мы дружно. Продукты работникам таможни выделяли экспортные: рис, муку, рыбные и мясные консервы, фрукты. К тому же казахи продавали всякую рыбу, выловленную в озере Зайсан: нельму, осетров, стерлядь, тайменя, не говоря о щуках и окунях, даже осетровую икру можно было купить недорого. А баранов разрешали резать на мясо сколько угодно.
«Нам бы сейчас такую жизнь!» – мелькнул у меня налетный восторг и тут же погас: я боялся отвлечься и пропустить что-нибудь из слов матушки.
– Километрах в десяти от таможни, – все рисовала она мне то время, – жил в горах с женой и двумя детьми русский охотник. К нему мы ездили на лошади в баню, немного выпивали вина и угощались мясом горного барана – архара, индейкой… Когда-то в том месте, где он жил, была русская деревня, но в смутные годы деревни не стало: кто из её жителей погиб, кто уехал, кто просто сгинул в неизвестности.
«Вот себе бы там поохотиться», – снова подумалось мимолетно.
– Долго жить вдали от родни, да еще и в молодые годы, не очень-то по душе, – держала меня в напряженном внимании матушка, – и когда отцу предложили более высокую бухгалтерскую должность в самом городе Зайсане, мы решили оставить таможню. Везли нас до города на подводе, а это почти сто километров. На одном из перевалов подул шквальный ветер, леденящий, пронизывающий до костей. А тут еще колесо у телеги от удара о валун развалилось, да посредине речушки. Отец с казахом пошли куда-то за помощью, а я накрыла тебя периной и кое-как перемогалась. Снег начался – бела света не видно, и мы бы могли замерзнуть, если бы ни пограничники. Они ехали в город за продуктами и забрали нас с собой. Ну а в городе уже и квартира была натоплена. – Матушка осеклась и протянула мне полусвязанный носок. – Ты бы, сынок, примерил пятку – ладно ли я её вывела, чтоб потом ногу не натирать.
Я прикинул, натянув заготовку на ступню, – она села, как надо.
– Столько родни было, – не отпускал я из сознания рассказанное, – куда же все подевались?
– А кто куда. – Лицо матери погрустнело. – Нюра Сысоева нагуляла живот – по тем временам позор большой, и утаивала свой грех, затягиваясь. Баба Варя в огороде трудилась, когда Нюре приспело рожать. Крадучись, прошмыгнула она в баню – там и разродилась, но, боясь бесчестия и родительского гнева, задавила ребенка. Поздно заметила баба Варя что-то неладное, кинулась в баню, а ребеночек уже мертв. Нещадно бил Тимофей дочь за то, что невинную душу загубила. Да свершенного не вернуть. Схоронили ребенка тайком, но кто-то видел, как Нюра в баню да из бани шмыгала, заявили в милицию. Еле откупились от суда: дали следователю пуд масла, мяса и денег, что наскребли, – закрыли дело. А Нюра завербовалась на какие-то стройки – уехала и потерялась. Все это произошло в то время, когда мы жили на таможни.
Представилась мне и баня закопченная, и полок в ней с пятнами сухих березовых листьев, и мертвый младенец – и душу передернуло от неприятного озноба. Я даже глаза зажмурил.
– Ты же хотел всё знать про родню, – матушка, видимо, заметила, как меня перевернуло, – вот и знай, и прости, если я где-то и увлекусь, переборщу.
– Там же было девять человек, – уклонился я от матушкиного замечания. – Где же все остальные?
– А слушай дальше. Петра Сысоева забрали в армию еще до нашей с отцом свадьбы. Когда мы были в деревне. Служил он в кавалерии, у Буденного, и вернулся в Зайсан как раз после того, как мы приехали с таможни. Он и остался у нас на квартире, устроившись работать секретарем городской комсомольской организации. Дело молодое – Петр стал дружить с одной девушкой, за которой до этого ухаживал другой парень. Через какое-то время эта девушка и говорит Петру: «Ты будешь на мне жениться или нет? А то Николай сватается – пойду за него». Ну Петр и отрезал: «Если тебе все равно, за кого выходить, лишь бы сосватали, – то иди…» Она и рассерчала, потянулась к сопернику и что-то наговорила. Тот человек был ушлым, быстро сообразил, как с неугодным разделаться: написал донос, куда надо, а шел тридцать седьмой год, известный в народе, как «ежовые рукавицы», когда людей забирали в лагеря даже за простые слова против власти. В один из вечеров, после работы, Петр и Емельян съездили на речку за водой. Петр сел за комсомольские дела, а Емельян возился в ограде. Вошел милиционер: «Здесь Сысоев Петр проживает?» «Это я», – отозвался Петр. Милиционер сунул какую-то бумагу ему под нос. «Вот ордер – мне необходимо обыскать тебя и квартиру». «Обыскивай, – согласился Петр, – вот тут я весь». Милиционер заученными движениями скользнул руками вверх вниз. «А где твои вещи?» Петр выдвинул из-под кровати чемоданчик. «Вот в нем все моё добро». Тот вытряхнул содержимое чемодана на пол, осмотрел. «Собирайся, – говорит, – пойдешь со мной». «А в чём дело?! – не мог ничего понять Петр. – Я ведь комсомольский секретарь, у Буденного пять лет отслужил». «Не знаю, – милиционер замялся, – велено привести»…
Следователь в военной форме без знаков различия спрашивает Петра: «На какую разведку работал? Когда завербован?» И в таком духе. Петр, ясно, всё отрицал. Начали избивать до потери сознания, прислоняли к железной печурке голым телом, а потом бросали в сырой и холодный карцер. Никаких передач, никаких свиданий с родными. Враг народа и всё! Потом один из следователей сказал ему потихоньку: «Я, – говорит, – знаю, что ты не виновен, но сейчас такое время сложное, а на тебя поступил донос, и свою правоту ты не докажешь. Подпиши бумагу и на суд, а так не выживешь здесь – забьют до смерти и спишут на слабость здоровья…» А в той бумаге написано: «Я работал на заграницу и так далее…» Прикинул всё Петр и подписал… – Матушка задумалась, опустила руки на колени.
– Ну и что дальше было? – поторопил я её.
– А дальше, вскоре после ареста Петра, взяли и его брата Николая и Емельяна. Федор Сысоев тогда уже был женат и жил отдельно, в примаках, – его не тронули, а Ивану Сысоеву еще и восемнадцати не было. Поплакала я ночи две, да «плетью обуха не перешибешь» – кто? где? за что? Ни слуху ни духу. И ничего не добьёшься. «Не велено!» – весь ответ. Я с тобой на пароход и в Омск, а оттуда – сюда, в деревню.
Почти год держали мужиков на следствии, да повезло – отпустили. Емельян пришел в марте: наголо бритый, худой, пасмурный. До конца лета мы жили здесь, поправляли его здоровье, а потом снова разлука: военкомат направил отца на шестимесячные курсы красных командиров. Перед отъездом он решил навестить Крупиных – деда с бабкой и родню, какая осталась, и отправился пешком в Крупянку. До неё от нас километров пятьдесят. После рассказывал, что в Крупянке он перво-наперво спросил, где живут Крупины, и сразу к ним. Бабка что-то делала в палисаднике, увидела человека с портфелем и заторопилась в дом – раскулачивали их, вот она и напугалась. А Емельян зашел в ограду и стал расспрашивать про житьё-бытьё. Дед с бабкой к нему присматриваются – не могут понять, что к чему, не узнают. «А где сейчас Иван Крупин?» – поинтересовался он. Бабка и догадалась – кто перед ними, заплакала, обнимать кинулась. «Ушел твой батька, – говорит, – с белыми и с тех пор ни слуху ни духу…» – Матушка встала, глянула в окно. – Льет не переставая. Промочит погреб – снова без картошки останемся.
Я тоже кинул взгляд на влажные стекла, по которым сбегали извилистые струйки дождя.
– Не промочит – мы с дедушкой чуть ли ни метровый слой соломы поверху натрамбовали.
– Дай-то господь.
– Потом-то что было? – возвратил я матушку к прерванному рассказу.
– Потом Меля окончил курсы, получил звание младшего лейтенанта, подыскал хорошую работу в Омске, а тут война с финнами – его и забрали. Мы с тобой никуда и не успели выехать из деревни – ждали его возвращения. Только и пожили потом чуть больше года перед этой войной – отец главным бухгалтером устроился работать в какой-то «Рыбпром». Его даже на машине возили. Жить мы стали в «жактовском» доме на 9-й Северной, против школы десятилетки. И не плохо – до сих пор помню огромных во всю длину стола нельм, которых Емельян частенько привозил с работы. Я обжаривала их пласты на сливочном масле, и ты их ел с большим аппетитом. Была и икра…
То время я уже помнил во многих деталях. Утром, когда отец собирался на работу, я уже вставал, застилал кровать и бежал к окошку. Мне было видно, как он выходил из ограды и садился в зеленый «джипик» – рядом с шофером, и они уезжали. Я ел и принимался за игрушки…
– Не дали пожить долго той жизнью – началась новая война. – Глаза у матери потемнели. – Вот и отца ты потерял. Разве бы мы с тобой здесь сейчас были! И учился бы ты не в нашем захолустье… – Она готова была заплакать – а слезы матери я переносил с душевной болью и, чтобы отвлечь её от скорбных мыслей, решил прервать разговор:
– Дальше не говори – я сам всё помню…
В одночасье на меня свалилось столько, что голова кругом – не день и не два осмысливай, и осмыслишь ли? Всё ли примет душа или многое отвергнет? Какие вешки на будущее выставятся в памяти из услышанного? Неведомо…
Только через много лет, когда я был уже изрядно пожившим, рассказ матери получил продолжение: мне удалось разыскать Петра Сысоева. Было ему тогда уже за шестьдесят – высокий, «породистый», спокойный. Он и рассказал мне про свои дальнейшие скитания.
«Всех нас, арестованных в Зайсане, – поведал Петр Тимофеевич, – посадили на подводы и в сопровождении конвойных повезли в Усть-Каменогорск. Три дня ехали, мучаясь от холода и голода, а потом выстроили нас в ограде тюрьмы в шеренгу, и пошло-поехало: один зачитывает фамилии, а второй – статью и срок определяет: “Иванов – десять лет, Сидоров – десять”… И дальше то же самое. Дошла очередь и до меня: “Сысоев, – кричит, – отзываюсь. – Десять лет…” Попал я на Колыму, и несколько раз проходил через перегоны – это пеший этап из одного лагеря в другой километров за сто – в лютые морозы. Мы идем в зэковских фуфайках колонной, а конвоиры в тулупах на санях лежат, друг друга в охране сменяют. Зэки, которые от недоедания, тяжелого труда и холода дошли до точки, тихо падают и падают в снег. Другие перешагивают через них и двигаются дальше – оставшихся никто не подбирает. Знали, что из безбрежного того пространства, в котором на сотни верст нет живой души, никто и никуда не убежит. Так и оставались лежать обессиленные люди, умирая и застывая до весны в камень. К концу этапа от колонны оставалось меньше половины. Так раза четыре попадал – выжил, благодаря крепкой закваски. А гоняли нас туда-сюда для того, чтобы уплотнить лагеря – на всех арестантов не хватало бараков за колючей проволокой…»
Вместо десяти лет Петр Сысоев отбыл шестнадцать. Освободившись в пятьдесят четвертом, он не застал никого в живых: отец его – Тимофей – умер, Варвара Васильевна тоже умерла перед самой войной. Приехала она к нам, в Омск, погостить и умерла. Сестра Нюра сгинула в неизвестности. Братья Николай и Иван погибли на войне, а Федор умер.
Как и положено, Петр Тимофеевич обратился в соответствующие органы в Усть-Каменогорске за реабилитацией и восстановлением во всех правах, а ему говорят: «Вы у нас не числитесь как осужденный. Вас привлекали к следствию, но за неимением улик освободили. Вот документы, даты…» Посмотрел Петр в дело, а там написано: «Сысоев Петр Тимофеевич 1912 г.р. взят под стражу 17 октября 1937 г., освобожден за неимением улик 4 января 1938 г.» – и подписи. Будто холодной водой его окатили. «Выходит, – с трудом говорит он чиновнику, – я ни за что шестнадцать лет оттрубил?» Тот пожал плечами: «Время сложное было, всякое случалось. А на тебя донос поступил». Петр Тимофеевич, узнав в разговоре, что чиновник тоже когда-то служил в кавалерии и в тех же местах, что и он (сослуживцем оказался) попросил показать тот донос. Помялся, помялся чиновник и достал из той же папки пожелтевший листок. Так Петр Сысоев и удостоверился, что жизнь ему сломал соперник, но не стал его искать, чтобы отомстить, – Божье это дело, не людское.
2
Затянули во мне душевную петлю рассказы матери, защекотали мысли о родне. Досадно было, что в отличие от сверстников, у которых родственников в деревне имелось предостаточно, я был один. И как-то, выбрав момент, когда мы с дедом укладывали в поленницу наколотые на зиму дрова, я, исподволь, обходным путем, стал тянуть его на разговор о родне.
– А кто тебе Прохор Семинишен, что ты к нему часто ходишь? – кинул я вопрос. – Только друг и всё?
– Друг – другом. Зять он мне, – живо отозвался дед, – на моей сестре Матрене женат.
– Ты же говорил про братьев, а про сестер ничего? – удивился я.
– Так надобности не было.
– А кто был твой отец?
– Федор Алексеевич, – с какой-то теплинкой в голосе ответил дед. – Чуть ниже меня, черноволосый, кучерявый. Нравом был крут до суровости, но справедлив. Умер он, когда я в плену лямку от плуга тянул.
– А мамка?
– Просковья Ивановна, тоже меня не дождалась.
Тускло светило осеннее солнце. Холодало. На сырых проплешинах за оградой образовалась наледь. Природа ждала снега.
– Ну а братья твои, сестры, их дети где теперь? – дожимал я деда до полной ясности с родней.
– Жизнь всех разметала в разные стороны, а многих и вовсе отринула. Брат Алешка, я тебе уже говорил про него, погиб в ту германскую, так и не успев еще жениться. А Митька – умер в эту войну, простудившись. Три сына было у него: Иван, Семен, Василий. Иван работал начальником почты в Иконниково, имел бронь и на фронт не призывался. Два года назад, купаясь, утонул в каком-то озере на Урале, куда был переведен большим чином по почтовой части. Семен и Василий воевали, но уцелели. Семен, сразу после войны, в теплые края подался, а Василий сейчас в соседнем районе председателем колхоза работает. Он-то и стал причиной Митькиной простуды. Призвали его в армию в сорок третьем. Их воинская часть формировалась в Красноярске. – Дед укладывал поленья одно к одному, как можно плотнее, и говорил, говорил, видимо, чтоб поскорее отвязаться от моих докучливых вопросов: раз и навсегда раскрыть «книгу родства». – При отправке на фронт Василий дал телеграмму отцу, что будет проезжать Омск ночью, и указал число и примерное время. Митька к названному дню запряг лошадь и в город. Поезд шел вне графика, и поэтому пришлось ждать его прохода заранее. В здании вокзала было жарко, и Митька часто выходил на улицу. – Дед махнул рукой. – Но вся их затея оказалась напрасной – поезд в Омске не остановился. Вернувшись домой, Митька напарился в бане и напился квасу из подпола… То ли на вокзале его просквозило, когда выходил на улицу, то ли от кваса, но схватил брат воспаление легких – за неделю и свернулся.
– Я помню, как вы с мамкой ходили на похороны, – перебил я его рассказ. – Мы тогда с Шурой домовничали. А сестры твои куда делись? – не терял я нити разговора.
Дед утер лоб рукавом тужурки и потянулся за очередным поленом.
– Обоих схоронил. Матрена в конце войны ушла на тот свет, мучаясь желудком, – еда-то помнишь, какая была. А Евдокия в Омске скончалась годом раньше. Она была замужем за Петром Мамровым.
– Это кто такой? – Я впервые слышал эту фамилию. – Из нашей деревни или городской?
– Из нашей, из нашей, – недовольно произнес дед. – Да еще из первых водворенцев. Умный мужик. Жил крепко. Имел сенокосную и хлебоуборочную технику, за что его и раскулачили. Семнадцать дворов в нашей деревне увезли за болота. В школе-то про те годы вряд ли расскажут, а я тебе кое-что открою, – дед обернулся, остро глянул мне в глаза, – а ты слушай, мотай на ус, да помалкивай, знай дело. Думаю, что мусора у тебя в голове не осталось – вразумишь, что к чему.
– Я и так немало слышал и читал про кулаков, – с ноткой хвастовства буркнул я, – сельские буржуи, использовали наёмный труд.
– Вот-вот. – Дед усмехнулся. – Вам их кровопийцами преподнесут, а это мужики с головой: умели и работать, и хозяйство вести. Батраков если и нанимали, так и платили по совести, не то что теперешние палочки в тетрадке: двенадцать часов работы – один трудодень, а осенью на него двести грамм зерна.
Я понимал, что наше с дедом разногласие по этому поводу может далеко зайти, и решил помолчать, слушая, куда дальше он повернет.
– Вон тот же Захарка Орешкин отработал у Богачевых с весны и до снега, и Федот Богачев дал ему лошадь и корову, да еще и муки два мешка. На чем Захар и поднялся потом, работая вкрутую уже на себя.
Что-то во мне противилось его утверждениям, и я не мог это «что-то» удержать в себе.
– Дед, а ты, случаем, не кулаком был? – кинул я с хитринкой.
Лицо деда расплылось в широкой улыбке:
– Да нет, Ленька, не уподобился, не дотянул малость: всего-то шесть коров имел и десяток лошадей, работников не держал. А как начали в колхоз сгонять – всё туда отдал, оставил лишь одного жеребца выездного. Пять лет в единоличниках жил – да налогами задавили и коня памятного сердцу забрали. Осенью гляжу, а на нём сено огромными возами возят. Это на скакуне-то! Ну и посадили дорогого жеребца на ноги, а зимой он и отошел. – Дед нахмурился, помолчал с полминуты. – Раньше многие ездили на Пасху в Иконниково: там престольная церковь была – так на том жеребце твоя бабка Алена верхом всех обгоняла. Лихая была баба. Конь тот и был для меня памятным. – Дед и вовсе умолк, накидывая на поленницу дрова, а я забоялся, что он не захочет больше говорить и приглушенным голосом напомнил:
– Ты про Мамрова начал рассказывать, а перешел на кулаков. Что с Мамровом-то?
– Известное дело что. – Мудрый дед понимал и мою жизненную несостоятельность, и искаженность моих знаний, далеких от истины, и не обижался. – Целый санный обоз из раскулаченных потянулся из деревни той дорогой, по которой мы когда-то с Алешкой за хлебом ездили. Позже Пётра рассказывал, что всех их вывалили прямо на снег, где-то на гриве посреди болот. Живите! И уехали. А мороз лютый! А снега по пояс! К весне многие старики умерли. Умерла и маленькая дочка у Мамровых. Но Пётра знал грамоту и написал письмо Калинину, что, мол, служил в Красной Армии, воевал с Колчаком, хозяйство поднимал своим трудом и работников не держал. Как оно дошло в Москву, одному богу известно, но только Мамровых привезли назад и все конфискованное вернули. Пётра быстро распродался и в город. Там он и сейчас живет. Всё, – дед отмахнулся, – хватит душу травить. Если что-нибудь и возникнет еще, после разберемся…
Навалилась на меня гора сведений и событий – размышляй, шевели душу, и не в день-два, а непредсказуемое время. В том жизненном круговороте одно утешало – я теперь в широком развороте знал свое родственное поле. А, как известно, не зная прошлого – не построишь будущего.
3
Как-то по-иному стал я воспринимать и одноклассников, и взрослых, с которыми по разным причинам приходилось общаться, и даже матушку с дедом. Мир, поселившийся в моем воображении после рассказов матери и деда, потянул на иные чувства, иные взгляды на людей, на их отношения друг с другом. Я стал осознать, что жизнь гораздо сложнее и выше тех поверхностных представлений, что выстроились у меня на заре отрочества, что каждый шаг в ней надо делать с душевной осторожностью, взвешивая и свои, и чужие последствия. И делать это мне было не сложно, поскольку в деревне не так уж и много новых, не пережитых, моментов; людей, с которыми эти моменты обкатывались: ученики да учителя, да два – три друга, и матушка с дедом. Единственным «окошком» в «мир иной», в незнакомое, интересное, – было общение с природой. Там – всё являлось неповторимым, постоянно меняющимся, обновленным, кидающим и мысли, и чувства, да и тело в иные обстоятельства, иной настрой, иные испытания. Я и окунался в ту купель при малейшей возможности.
* * *
В один из зимних дней поправлял я заячьи петли, сбитые недавней метелью, и крупный «козел», видимо раньше кормившийся у срубленной мною осины, не заметил меня среди разлапистых сучьев и налетел шагов на двадцать. Я и поймал его на мушку. После выстрела зверь сиганул так, что перемахнул через куст тальника выше человека и скрылся. Поглядел я на свою одностволку, подул в патронник и двинулся по следу «козла». За кустом – яма в снегу, продавленная рухнувшим с высоты зверем, и алые бисеринки крови. Забила меня коварная дрожь, взволновала неудержимо. Едва нашел я в кармане патрон с картечью и, не чувствуя тяжелых лыж, дал ходу по горячему следу. Перед глазами только он – этот след, подсиненный тенями, с красными ягодками крови. Вымахал я на опушку, а след через поляну в соседний колок потянулся. Я знал, что тот лесок небольшой, хотя и плотно заросший ивой, круглый, лишь в одном месте заканчивается «горлышком». Ясно было, что зверь, скорее всего, этим «горлышком» и покатит дальше. Наперехват! Забил воздух грудь – не выдохнуть, а снег ослепил. Но пропахал я борозду по поляне, сунулся под первое дерево у начала «горлышка» и стал хватать ртом холод, чтобы выгнать из легких излишек кислорода и успокоиться. Тут и зверь мелькнул за кустом рыжеватым боком. Одностволка нацелилась на этот куст. Рыжее пятно колебалось за чащей шагах в десяти. Мушка легла точно на него, но что-то удержало палец на спусковом крючке, какой-то таинственный сторожок не дал ему согнуться. На миг, на некую долю секунды! И в этот момент из-за куста показался человек в рыжей лисьей шапке – дед с соседней улицы. Меня словно пружиной сжало: ну не шевельнуться, не вздохнуть. А дед увидел меня и спросил, чего я тут сижу. Едва разжал я зубы, чтобы объяснить, что к чему.
– А я ивнячка пришел подрубить, – сообщил он, – короб доплести надобно, а запасы кончились…
Еще мы перекинулись несколькими фразами, и дед, бывший на волоске от смерти, пошел в лесок, к тальникам, а я в обход колка, все еще слабея от жуткого, пронизывающего оцепенения…
Ну а «козел» завалился на опушке колка, за первыми же кустами.
4
Отойдя от жуткого потрясения, связанного с последней охотой, я дня через три снова наладился в зверовые угодья. Нацепил лыжи на валенки – и в лес, через долгий степной разъем. Минут пять хода, и серые дворы деревни размазались на фоне ближнего леса. И вот она – морозная тишина! Гляди и слушай!
На краю степного раздолья белел заснеженной макушкой стог сена, и под его вислыми очесами я заметил какое-то пестро-серое шевеление. Косули! Заваливаясь в приседе на сторону, я двинул свои тяжелые, глубоко давящие снег лыжи в ивняки, прячась за темные коряжины плотных кустов. Сразу стало теплее. Крепкий зимник хотя и жег щеки, но не осиливал их выбелить, а тут и вовсе волна горячки окатила с головы до ног. Да так, что дрожь встряхнула мышцы.
До стога было порядочно и с какой стороны не глянь – ни кустика, ни бурьянов, за которыми можно было прятаться, скрадывая чутких косуль. Гнись не гнись, а сторожкие звери не зоркостью, так чутьем тебя уловят или на слух, и облизнешься, сгоняя сухоту с губ, глотнешь комок слюны вместе с морозцем. А «козы» мелькнут белым надхвостьем и сгинут, будто их и не было.
Выход один: подбираться к зверям с обратной стороны, с приозерья, навстречу ветру, чтобы стог закрывал мне косуль, а им – меня. Но для этого надо проломать больше километра снежной целины. А ветер жгуч, а лыжи тяжелы… Да разве это меня могло удержать!
Мороз заклевал в самую слабину – кончик носа, кинул на брови куржачек, но я упрямо двигал струганные топором лыжи, сминая крупчатый снег. Медленно, очень медленно огибала кривая моя лыжня приметный стог по большой дуге, силенки таяли, дыхание рвалось, а тут еще под грудью засосало – уходя из дома, я наскоро съел пару холодных картошек и все.
Щетинился чернотой лес, размываясь в потускневшем горизонте, упруго прокатывался через меня посвежевший ветер, размягчив сухую студеность воздуха, и стог мало-помалу закрывал большую половину лесного отъема, из которого я начал прокрадываться в степь. И хотя совсем духу не стало хватать двигаться внаклонку, в полуприседе, сторожась, косуль я не видел. Они трясли сено там, на лесной стороне стога, и это горячило, подтягивало силы…
Наконец стог совсем погрузнел, заслонив разводами боков весь ближний лес, и я заметил лопоухую головку косули, высунувшуюся из-за вислых лохмотьев сена, и замер в приседе. Выбеленная временем моя фуфайка мало отличалась от устаревшего снега, но голова сторожевого зверя торчала из-за стога в неживой неподвижности. Не больше двухсот шагов отделяло меня от косуль – далеко для выстрела даже крупной картечью. Стыли пальцы рук, лицо, дрожали колени, но я сидел как истукан. Прошло не менее пяти минут, пока косуля, убедившись в чем-то своем, вновь принялась выбирать нужные ей стебельки сухих трав. И я наддал, держа ружье наготове, запахал снег на пределе возможностей, не ощущая уже ни стылого ветра, ни удушающего захлеба, ни тяжести лыж. И стог вроде двинулся мне навстречу, совсем закрывая пространство впереди, и тут же из-за него высыпали косули, не меньше десятка, считать их было некогда. Мушка отделила от всех наиболее крупного зверя – выстрел колыхнул перед глазами стог, взвившихся в прыжках косуль… На снегу, где они стояли, – никого. Неужели в горячке смазал? Огромными прыжками звери уходили к лесу. С тоской, с затихшим в ознобе сердцем, пожирал я глазами убегающих косуль, и вдруг заметил, что одна из них приотстала, тяжелее оседая в пружинистом подскоке, и показалось, что это как раз тот, крупный «козел», в которого хлестанула картечь.
Азартно зашуршал я лыжами по следу и скоро заметил темные брызги крови, и радость прошла жгучей волной по всему телу…
Пока тянул лыжи вдоль борозды следов со стежками крови – вовсе выдохся, и в лес, в тальники, в затишье зашел еле-еле двигаясь. Первая же валежина притянула меня, слегка скрипнув под легким моим телом.
Между тем захмурилось небо, зачастило снежными брызгами, замелькавшими в березовых ределях. Поняв, что нужно спешить – запахло пургой, я волевым усилием поднялся и снова стал толкать опостылевшие лыжи в снежное нутро…
«Козел» увяз в одном из сугробов в ивняках, неестественно откинув голову. Но радость удачи уже прошла, отгорела, уступив душу умиротворенному спокойствию.
Пока я свежевал добычу, снег забился в диком неистовстве, зашил не только березняк, но и ближние кусты. С трудом отделив коротеньким ножиком одну заднюю мякоть, я сунул ее в заплечный мешок, а остальную тушу закидал снегом с расчетом вернуться к ней с санками…
Когда я выбрался на край леса, все потонуло в снежном круговороте, даже оглянувшись назад, я с трудом разглядел ближние деревья. Страх остренько щекотнул что-то в груди, погнал в голову тугой накат крови – я понял, что случилось нечто страшное: начиналась метель. Та, редкая, какая бывает в сибирскую зиму раз-два и то не каждый год, и горе тому, кто окажется в ее объятиях среди голой степи. Да и в лесу не легче, хотя при опыте, с топором и спичками все же можно спастись. Но у меня не было ни топора, ни спичек. Да и силенок не особенно еще накопилось по не ахти каким годам и не сытному времени…
Стог! Память сразу нарисовала мне его – крутобокого, приземистого, емкого… Еще не совсем осмыслив свои действия, я ринулся к едва заметным ивнякам, пытаясь найти по их краю свою старую лыжню, пропаханную почти на всю глубину снежного навала, и разглядел её под жгутами бьющегося тугого вихря. Метельная лавина, упавшая с такой густотой, что плотность ее почти ощущалась, еще оставила выплески затвердевшего снега по краям лыжных борозд. По ним, низко клонясь и приседая, снова потянулся я в разбеге, опасаясь, что где-то там, на пути к стогу, этот едва заметный след исчезнет и тогда – конец: ни леса не найти, ни стога… Итак, колотясь в лихорадочном ознобе, то острым взглядом, то интуитивно находил я эти чуть приметные остатки лыжни, падая на колени и поднимаясь в отчаянных порывах. Вихрь пронизывающего, жгучего ветра втягивал меня в бешеный круговорот пурги, чуть ли не отрывая от лыж, и порой казалось, что только они, эти тяжелые лыжи, и удерживают мое тело от страшного полета в студеную темноту. Прохваченный до костей холодом, объятый шальным страхом, трепыхался я в надежде на спасение. Одна мысль билась подобно хлеставшему со всех сторон снегу – уйти от бегущей по пятам погибели, спрятаться в сухое нутро стога! С ней, с мышечной болью в ногах и спине, я и уперся в стог, и рухнул под его крутизну на колени. Одежонка, кое-как утянутая опояской, забитая снегом по всем прорехам, закоробила тело влажной стылостью, поплывшей по худой хребтине. Быстро, пока не совсем окоченели руки, я стал выдергивать душистое сено, подрываясь под стог и отгораживаясь от неистовых снеговых всплесков, вдыхая вместе с ароматом трав летнее тепло, таившееся в глубине этой огромной кучи сена. Быстрее! Быстрее! И скоро лишь мои залатанные над ягодицами штаны еще пузырились пробивным ветром, да в голенища валенок протискивались настырные снежинки. Так, работая руками без перерыва, врылся я в стог почти до самой его середины и затих там, сразу расслабнув и успев лишь подтянуть к правому боку незаряженное ружье.
Оказавшись в тесном беззвучии, сухости и тепле, измотанное и настуженное мое тело замерло в изнеможении. Почему-то промелькнули в памяти слова, слышанные от деда: закутило-замутило, где кого захватило – там и ночуй… Мысли поплыли медленно, растворяясь в воображаемом снежном вихре, и скоро я сам полетел над полями и лесами вместе со снежными потоками, охватывая взором мутную пелену пространства…
Никаких снов я не видел и, проснувшись, вмиг все вспомнил, ощутив особую бодрость и заметив слабую искорку света, бродившую далекой звездочкой в путанице трав. Осторожно я стал выползать из своей схоронки ногами вперед, выталкивая валенками рыхловатый сенной кляп.
Яркое солнце шибануло чернотой в глаза, на миг ослепив. Снег, искрящийся до каждой крупинки, лежал ровной россыпью, никем не потревоженный. Я быстро вскочил, поняв, что день катится к обеду и что теперь меня потеряли. Накинув лыжные петли на валенки, я двинулся к дальнему, густо чернеющему лесу, за которым плавала в снегах моя деревня.
Вспоминая пережитое, я внутренне вздрогнул, но даже малейшего разочарования в охотничьем промысле не проклюнулось. Острое ощущение близкой опасности, телесный и душевный ожог при сопротивлении буйству стихии как-то подняли меня к большему пониманию и самого себя, и жизни, и вряд ли где еще, кроме охоты, можно было оказаться в столь жутком соприкосновении с грозной силой природы, определяющей и выносливость, и твердость духа.
С этими думами прислушивался я к своему состоянию, к неосознанной радости, к слабому похрустыванию свежего снега под лыжами… И будто в тон моему настроению играла и искрилась степь в ослепительном солнечном свете, и я не сразу заметил у леса фигурки людей и понял, что это ищут меня, и еще большая радость осветила душу, хотя я и знал, что упреков от матери и деда будет немало. Но знал и то, что они добрые и простят мне свои тяжелые часы тревоги.
5
Я откидывал снег из ограды и услышал легкий стук в калитку. Обычно в деревне не принято было стучаться, и я понял, что пришел кто-то чужой, не деревенский, а чужие просто так не приходили – поневоле заволнуешься. Спешно распахнув калитку, я увидел двух странных женщин в цветастых полушалках и таких же цветастых юбках, смуглолицых, остро черноглазых, и застыл в немом вопросе.
– Ох, касатик, касатик, какой красивый! Дай ручку погадаем! – заулыбалась одна из них, тараторя.
Я опешил, ничего не понимая. А женщина уже тянулась к моей руке с лопатой.
– Счастливый ты будешь, богатый, – заговорила и другая.
Услышав голоса, из дровника вышел дед с топором в руках и, ещё не дойдя до калитки, крикнул:
– А ну кыш отсюда! И чтоб я вас больше не видел!
– Ах, какой злой дед! Какой злой! – Та, первая, покачала головой и, пихнув плечом напарницу, пошла от ворот.
Я стоял в растерянности, ничего не понимая.
– Кто это? – вырвалось у меня.
– Да цыганки. – Дед хмурился. – Вчера гуртом откуда-то прибыли и расквартировались кое у кого. Теперь вот ходят, головы бабам морочат ворожбой, еду и вещи клянчат.
– Побираются, что ли?
Дед усмехнулся.
– Ага, побираются, а копни глубже – у каждого своя лошадь и барахла не меньше, чем у любого из нас, а работа – сам видишь какая.
– И откуда они появились? Раньше про них ничего и не слышали? – Мне вспомнилось: «Цыгане шумною толпой по Бессарабии кочуют…» Так Бессарабия вон где…
– Война их в Сибирь загнала, – как угадал мои мысли дед, – сказывали, что немцы расстреливали цыган на месте – без всякой волокиты, вот и побежали они кто куда. И, видишь, даже до нас добрались. – Он повернулся уходить, но я остановил его новым вопросом:
– А как же они без паспортов ездят? Нам же вот не разрешается уезжать из деревни?
– Так и ездят – на своих лошадях. Закон кочевать запрещает, да они не шибко его чтят, а начальство помалкивает: жизнь у цыган с древности такая – кочевать. – И пока я прокручивал услышанное в мыслях, дед нырнул в дровник – он что-то там тюкал топором, налаживая, а я, пожалуй, впервые задумался о национальном вопросе. «Как же так? Нам запрещают держать лошадей, а вот цыганам и казахам – разрешено? И не работают они нигде?..» Думай, гадай, ищи истину, а кто подскажет?
А вечером прибежал Паша, возбужденный, горячий:
– Пойдем в клуб! Там сегодня цыгане выступают!
Еще к октябрьским праздникам бывший до войны детский садик переоборудовали под клуб, и там по воскресеньям и кино показывали, и сценические постановки устраивали, и танцы. И мы, с оглядкой да с надеждой не попасть на глаза учителям, нет-нет да и ныряли по вечерам на те представления. С танцев нас прогоняли взрослые парни, а вот кино или спектакль какой мы смотрели. Даже домашние как-то не особенно строго относились к этим нашим посещениям: радостей-то иных не было.
– А цыгане, говорят, знаешь, как здорово поют и пляшут! – всё горел азартом Паша. – У них и гитары особенные – не чета нашей «бандуре»…
«Особенные» гитары меня заинтересовали, и, спросив разрешения у матери и деда, я с Пашей заспешил в клуб.
Народу набилось до самых дверей: молодежь и любопытные взрослые. Когда мы протолкнулись поближе к сцене, на ней уже выкаблучивались две цыганки. Они что-то пели непонятное и приплясывали, размахивая подолами широких юбок. Им подыгрывал на гитаре молодой цыган.
– Наши девки посильнее трепака дают, – услышал я чей-то голос.
– Да и в теле не сравнишь с этим сухостоем…
И пошел разговор в осуждении и сравнении. А меня привлек играющий на гитаре цыган. Как он ловко перебирал струны и крутил пальцы над грифом. И ничего в той гитаре не было особенного. Разве что звучала она звонко. И я подумал, что всё дело в её величине, более ёмкой по сравнению с нашей гитарой…
Когда цыганки отплясались, запел цыган: голос высокий, тягучий. От него даже в ушах вибрировало. Хотя голоса у некоторых наших, деревенских, мужиков были погуще и посильнее.
Ему горячо хлопали, и кто-то стал кричать:
– Давай цыганочку!
– Цыганочку!
Цыган, молча, юркнул за дверь с боку сцены и тут же вышел. Вместо гитары у него в руке оказался какой-то хлыстик. И пошел танцор выделывать коленца и в такт топота хлопать по голяшкам сапог тем самым хлыстиком, потряхивать чубом. А он у него спадал крутым кольцом на лоб. Нос у цыгана горбинкой, глаза, что таящие угли… Азартно, здорово! Хотя Антон Михалев не хуже его плясал, хотя и хроменький.
Орали, свистели, и вдруг все притихли. От двери на сцену пробивался Алешка Красов. Что к чему – непонятно? Мне даже подумалось вначале: а не поддать ли он цыгану хочет? Но когда за ним следом стал толкаться с гармошкой Федюха Сусляков, понял: или петь, или плясать будет.
А Красов легонько оттолкнул цыгана к краю сцены и кивнул Федюхе, устроившемуся на передней скамейке.
– Выпивши, – прошептал кто-то, – сейчас даст дрозда.
Гармонь рыкнула какую-то неизвестную мне плясовую, зачастила, и Алешка зачастил подошвами о пол, дробно, в такт, и пошел с перескоком с ноги на ногу, с носок на пятки, с поворотами всего тела. А чуб у него не хуже цыганского, хотя и не чернявый, но с густой залихватской челкой, а лицо улыбчивое, загорелое. Плечи в развороте не объять.
– Во дает Алексаха! – выкрикнул кто-то из молодежи. – Куда цыгану до него!
Из тех же дверей за сценой высыпали цыгане: двое мужиков и три женщины – стали подергивать плечами, покачиваться.
– Чтой-то он чешет? – снова голоса. – Не цыганочка это. Ишь, как с пятки на пятку да с носка на носок отбивает. Я такого еще нигде не видел, хотя в трех странах повоевал.
– Деревня. Степ это называется, а в твоих Германиях только и знают, что кружиться или прыгать по-козлиному…
Алешка вмиг остановился и поднял руку, не ожидая хлопков в ладоши.
– А теперь сдвигаем скамейки по стенам – и танцы!
И Федюха заиграл вальс.
– Всё, сваливаем! – дернул меня за рукав Паша. – А то вон учителя в том углу зашевелились.
Мельком я увидел Настю, свою сердечную боль. Белое её лицо горело румянцем во все щеки, глаза блестели неподдельной радостью. «Так вот где собака зарыта! – понял я нежданный азарт Красова. – Завлекалочку сыграл! А как же Груня?..» Но раздумывать было некогда и мы юркнули в морозную ночь.
* * *
На другой или третий день я поехал в леса проверять ловушки, и едва завернул за первые колки, как увидел человека, идущего на лыжах почти в том же направлении, что и я. «Кто бы это мог быть? – метнулись не очень отрадные мысли. Раньше ни у кого лыж не было – я единственный ходил по лесам на своих самоделках. – Снова какой-то конкурент? Не прохлаждаться же он прет по такому рыхлому снегу…»
Лыжник двигался несколько под углом к моему направлению, и вскоре я узнал в нем Алешку Красова. На душе потеплело: «Этот-то не полезет на чужое и мешать не будет». И вот он – рядом.
– А я прошлый раз гляжу, чья-то старая лыжня снежком присыпана, – начал Алешка, поздоровавшись, – и сразу понял, что это твоя. Промышляешь?
– Есть маленько, – поскромничал я.
– Я вот тоже решил лисиц половить – их Степин неплохо отоваривает, а в доме то одно, то другое в нехватке и заработок сейчас в кузнице почти никакой.
Глядел я на него с глубоким уважением, если не вожделением, и вспоминал недавнюю пляску в клубе.
– Мне за всю зиму всего две лисы удалось поймать, – тянул я разговор совсем не о том, о чем думалось, – хитрющие. Их не так просто обмануть.
– Ты как их ловишь? – Алешка шел рядом, хотя проще было тянуть лыжи сзади. Из-за большего веса, чем у меня, он проваливался глубже.
– А вон сороку подстрелю – ощипываю, опаливаю и на приманку.
– Лисицу на приманку не больно притянешь. Я на их частых проходах, прямо на след, капканы ставлю – верное дело, если все аккуратно оформить. Я и тебя научу этому. Меня, в твои годы, еще заозерный охотник по капканам натаскивал. Был у него как-то в райцентре – старенький стал, еле двигается…
Слушал я его и радовался, что попал к такому доброму человеку в напарники, но иное любопытство горело в душе, и я вдруг ляпнул:
– А что это за пляска, которую ты в клубе выдал? И где ты ей научился?
Красов как-то смущенно улыбнулся и помедлил немного.
– Мы с Антохой Михалевым, по случаю его дня рождения, самогонкой побаловались – вот и понесло меня не в ту степь.
– Степь или степ? – не понял я его.
Алешка рассмеялся.
– Понесло в степь, так говорят, а танец – степ, или чечетка. Был у нас, в разведроте, один парень, москвич, из какого-то кордебалета – он и учил желающих степу на отдыхе, после походов в тыл, за языком. Вот я и натоптался в той учебе. – Красов примолк. Лицо его помрачнело. – Жалко Олега – осколками его прошило, когда нас минами на нейтралке накрыли…
Светился день. Дремали в безветрии леса, а мне представилась темная ночь, всполохи взрывов, лучи прожекторов, и несколько человек в маскхалатах, ползущих в густой траве, и вспомнилось, как я когда-то ползком подкрадывался к журавлям, изнемогая от потери сил, но то был день и мирная тишина, а каково ползти под пулями и ночью.
6
Минуло еще почти два года. Я окончил седьмой класс и настраивался на учебу в райцентре. Десять лет, прожитые в деревне, научили меня выполнять не только различную работу, благодаря чему я вполне мог вести самостоятельную жизнь без посторонней помощи, но и зарядили многими знаниями из глубинок народной мудрости, укрепили духовно и физически. В то же время, общаясь лицом к «лицу» с природой, я узнал такие её сокровенные тайны, какие не почерпнуть ни в каких учебниках и книгах, да и при иной жизни.
Книга третья. Живи и радуйся
От автора
В Библии писано: «…тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не многие находят их». Исток того пути – детство и отрочество, юность. Именно в те годы человек формируется как личность, как равноправный член общества, как гражданин. Тогда же и определяется его жизненная стезя. Пусть туманно, в сомнениях и разбегах по иным сторонам, но узнаваемо. В народе эту вероятную предсказуемость называют судьбой. Хотя о превратностях судьбы философы спорят веками и конца этому спору не видно. Не втягиваясь глубоко в этот спор, полагаю, что и судьба влияет на человека, и человек на судьбу. По крайней мере, у него всегда есть выбор подвижек по жизни. А выбор тот зависит от духовных и наследственных качеств индивидуума, его жизненного опыта, приобретенного в общении с людьми.
Правильно или неправильно впитал я в себя всё, что виделось и пережилось за нелегкие годы войны и в послевоенное время, судить не мне. Так или иначе, но глухая деревня научила меня движению по жизни, отношению к людям, благодаря чему я, через огромные сложности и перипетии, смог найти в себе силы подняться в духовности до высоты заметного интеллекта, признания общества, ненадуманного патриотизма, к Богу.
Путь этого становления и выписался в предлагаемом повествовании хотя и не полностью, но вполне объемно и узнаваемо. Что из этого получилось – судить читателям.
В то селенье, где шли молодые года,
Где я счастья и радости в юности ждал,
Я теперь не вернусь…
И. А. БунинГлава 1. На волоку
1
Никто из моих одноклассников не собирался продолжать сидение за партой. Тому было много причин: кто-то учился слишком слабо и не рассчитывал одолеть более сложные предметы, кто-то страдал из-за нехватки одежды и обуви, а кто-то решил зарабатывать себе на хлеб самостоятельным трудом. За войну и первую послевоенную пятилетку, когда из скудных сельских амбаров и сараев выгребалось почти всё, люди обнищали до крайности. К тому же у многих ребят отцов и братьев унес фронт: ни тебе опоры – ни тебе трудовой поддержки. Живи – как можешь. Вот и подались мои сверстники кто в город на заводское или фабричное обучение, а кому-то повезло и с училищем или даже с техникумом.
Мне повезло в другом: у меня был дед. Да какой! Трудолюбивый и удачливый в любом деле. Он и сшил мне к концу августа новые сапоги из самодельной телячьей кожи. Кроил их и выводил на колодках деревенский сапожник Прокоп Семенишин, а уж в остальной работе дед постарался сам. Не ахти какой красы получилась обувка, но удобная и, главное, – крепкая, без заплаток и скрытых прорех. И рубашку из сохранившейся отцовской сорочки сгоношила мне матушка на старой, еще бабкиной, «зингеровской» машинке, зачастую ходившей по рукам и обшивавшей полдеревни. Штаны подошли дедовы, бывшие выходные. Мешковато они сидели на моих ягодицах, свисая гармошкой к сапогам и собираясь складками на поясе, но других не было и не предвиделось – кое-какие деньги, перепадавшие в хозяйстве, уходили на уплату налога, и про новые покупки даже мечтать было совестно, не то чтобы клянчить их. Пиджачишко – еще сохранился давний, купленный на вырост за деньги, пришедшие за погибшего отца, хотя и тесноватый, но сносный. У других и этого не было, и потому я один, благодаря деду, судьбе, а может быть и Богу, замахнулся на среднюю школу.
В новом наряде я и собрался в райцентр. Свидетельство за семь классов круглилось одними пятерками. В придачу к нему отливала позолотой букв «Похвальная грамота» с портретами вождей по правую и левую сторону развернутого листа, потому и не было у меня никаких сомнений в возможности зачисления на дальнейшую учебу, хотя некоторое волнение и щекотало – впервые выпархивал я из родного гнезда. То, давнее, довоенное время, когда мы жили в городе, смутно-смутно рисовалось в памяти нагромождениями деревянных и каменных домов, витринами магазинов, людской толкотней, постукиванием трамвайных колес, тугим наплывом заводских гудков… Но все это маячило в сознании трепещущим маревом, растворяясь и ускользая в деталях.
– Надо бы матке с тобой сходить в Иконниково, да разве председатель отпустит – самая страда горит, – оглядывая меня, крутил усы дед. – Ты там поосторожней, хулиганья по улицам не мало шастает, не лезь на рожон…
С этими напутствиями деда, с его теплотой в голосе и двинулся я по проселку за Агапкину poщy, подковой охватившую полдеревни.
Леса, леса и леса – березово-осиновые, с ивняковыми кружевами по опушкам, с витиевато натекшими среди них травяными полянами, то раскиданными небольшими лоскутами, то далеко убегающими в открытое пространство. И все это мило, знакомо с глубины детского возраста, с того дня, когда я впервые окунулся в таинство зеленой купели.
Петляла и петляла дорога по лесам, и с легкостью в теле, с тихим восторгом шел я по ней, примечая новые очертания лесных опушек, гущину затемненных чащоб и зеленые переливы трав. Думалось про нашу сельскую школу, дом, охоту… Мысли перескакивали с одного на другое, уводя в даль детских лет и вновь возвращая к задумке о том, что могло ждать меня впереди. Но все это проплывало вскользь, не задевая душу. И как-то сразу, в распахе между лесами, открылись далекие еще мазки серых строений, над которыми черной спицей торчала высокая труба, a потом поднялись и белесые надстройки словно такелаж закопченного парохода, увозившего меня с матерью из областного города к пыльной станции, забитой повозками и людьми…
В широте пространства утонули последние лески, и грудой растянутых по горизонту домов ломко оконтурилось Иконниково. Два-три километра до него я проскочил быстро, в порыве затаенного любопытства, и тесноватой, разъезженной телегами улицей, торопясь, от палисадника к палисаднику, стал углубляться в жилую гущину деревянно-кирпичных построек. И чем дальше я уходил от края села, тем тревожнее становилось на душе в этом лабиринте улиц и переулков, ограниченном мире глухих заборов и дворов.
Изредка встречались мне прохожие, все больше женщины, проходившие мимо с равнодушным безразличьем. Да и я старался особо не пялить глаза. Странно лишь было, что живые люди совсем не чувствуют друг к другу ни интереса, ни тепла – вроде проходят мимо кучки навоза. Даже старушка, которую я спросил про школу, и та сразу не остановилась, а лишь после того, как я раза два ее окликнул.
– Видишь трубу высокую? – Старушка махнула дряблой рукой. – Держись на нее. То маслозавод. Выйдешь к нему, а за садом крыша железная в сурике – то и есть твоя школа.
Ближе к центру села улицы стали чище, зеленее, хотя все такие же, разбитие и пыльные. У одного из больших домов я заметил грузовую машину, и сразу чем-то давно забытым повеяло с запахом бензина, нагретого железа, резины… Город, давний город дохнул на меня воспоминанием….
Школа была огромной, двухэтажной, рубленой в крест из добротного сосняка, окруженная запущенным садом. Широкие окна здания будто всасывали взгляд, топя его в полутемной прохладе классов и коридоров. Стукнуло сердечко ропотно, притихло, ноги потяжелели, когда я ступил на высокое крыльцо.
Коридор остановил меня своим простором: в нем и разбежаться было не боязно. Не то что в нашем – деревенском: пять шагов кинешь и стопорись.
– Вам кого, мальчик? – услышал я из темного угла и увидел женщину за маленьким столиком, на табуретке, с лету, со свету ее было не разглядеть.
– Пришел документы сдавать в восьмой класс, – сдержал я голос и без того громковато прозвучавший в высоких потолках.
– Ступай по лестнице наверх. Там – третья дверь справа…
Полы и лестницы были обшарпаны местами до деревянной белизны, но свежие побеленные стены еще пахли известью.
Массивные ступени лестницы даже ничуть не вздохнули под моими легкими шагами. Крашенные белой краской двери блеснули на меня свежиной лака, солнечными бликами из распахнутых окон.
Столы, заваленные книжками, бумагами… За одним – седовласая женщина в массивных роговых очках. Глаза за стеклами жесткие в увеличенной холодности.
Долго перекладывала она с одной руки на другую мои документы. Что-то дрогнуло в ее зрачках, потеплело.
– У нас два восьмых класса: А и Б. Класс А мы комплектуем местными учениками. Но иногда делаем исключение отличникам. Хотя… – Она запнулась. – Ваш там уровень, мягко говоря, не всегда соответствует действительности…
Я молчал, поняв намек и чуточку обидевшись за своих учителей: уж они-то не старались? Особенно Ван Ваныч, пробивший в хиленькой деревне семилетку и сам в первый год управляющийся за троих. Приезжали как-то в деревню на экзамены инспектора с проверкой, так удивились – на совесть, накрепко учили нас…
– Ну, что молчишь? – все разглядывала мои документы женщина. – Пойдешь в восьмой А, потянешь наравне со всеми?
Это ее недоверие тронуло ледком сердце. Я пожал плечами.
– Вам виднее. А мне с деревенскими привычно.
– Если бы виднее… – Она потянула к себе какой-то журнал. – Привычнее так привычнее, не будем нарушать порядок…
Вышел я из школы с облегченным вздохом – главное дело сделано. Теперь надо было определиться с жильем: ни родных, ни знакомых в райцентре у нас не было. Куда идти? У кого спрашивать?.. Как-то само собой я повернул к центру – любопытство подогрело, да и надо было ознакомиться с селом, в котором мне предстояло долгое учение. Тем более что осветленное, в россыпи строений, пространство было видно от школьного двора – минут пять хода враскачку.
Кругозор распахивался больше и больше, и вот он – центр. Вокруг широкого пустыря, заросшего в середине буйной акацией и ржанцами, с пробитыми тропками вперехлест, кособочились старинные зданьица – деревянные и кирпичные, видимо, когда-то принадлежавшие состоятельным людям, а позже реквизированные и приспособленные или под разные конторки, или под магазины. Проходя пустырь, я в гущине зарослей наткнулся на несколько каменных крестов и плит, обколотых то ли временем, то ли кувалдами, а в траве едва не упал, запнувшись о щерившиеся из земли кирпичи какого-то фундамента. Вот тебе и площадь!.. Лишь позже я узнал, что на той райцентровской «пуповине» стояла роскошная церковь, взорванная незадолго до войны, а надгробья остались от могил священнослужителей, коих за особые заслуги перед православием хоронили прямо в дальнем углу церковной ограды…
Я стал обходить магазинчики, удивляясь и завидуя тому, по моим понятиям, обилию товаров, которое не шло ни в какое сравнение с нашим деревенским сельмагом. Денег у меня не было и в копейках – откуда они? Потому в продовольственный магазин я зашел только раз. Ничего особого там не было: рыбные консервы да конфетки-«подушечки» с пряниками, но для меня, много лет росшего на лебеде и крапиве, картошке и капусте, и это было изысканным кушаньем. И чтобы не дразнить свое полуголодное чрево, я пропускал продмаги и закусочные, возле которых нет-нет да и толкались мужики, судя по протезам – все бывшие фронтовые. В закусочных тех и водки наливали, и пирожки с картошкой или капустой можно было взять на закуску. Но все это не для меня лилось-пеклось. И возраст, и карман не позволяли топтаться у закусочной. Хотя в одну из них я и заглянул, и два подпитых мужика у столика-стояка как-то подозрительно на меня посмотрели вместе с продавщицей в накрашенных кудрях и подведенными бровями. Я и вышмыгнул за дверь быстренько. Но книжный магазин меня приякорил: такого я еще не видел – два-три десятка книжек стояло на полках, маня новенькими обложками, некоторые в красочных картинках. Новых, не трепаных и не пользованных книг, не считая учебников, которые выдавали нам в нашей деревенской школе по пятку на класс, я не видел. С замиранием сердца держал я какую-то книжку о приключениях, а продавщица не спускала с меня и особенно с моих рук настороженного взгляда. Руки у меня действительно были не очень чистыми – за неимением мыла лишь одной водицей они мылись и только утром, на заре, когда я выходил из дома. Так что пальцами я мог оставить кое-какие следы на белых листах книги.
– Мальчик, ты будешь брать или нет? Тут не изба-читальня, а магазин…
С затаенным вздохом вернул я книжку недоверчивому продавцу и вышел…
Солнце, тепло, светло, легкая пыль от прокатившей телеги…
День клонился к обеду, а я еще не решил, где квартировать. Две широкие улицы, упиравшиеся в площадь, были обстроены более-менее добротными домами и в них мне – деревенщине, вряд ли что светило. Пораскинув мыслями, я двинулся на окраину, на ту улицу, что длинно тянулась вдоль озерного берега и называлась Озерной. Решил я идти туда по двум причинам: озеро напоминало мне о родных просторах, о деревне, и упиралась та улица щербатым концом как раз в проселок, уводивший домой – в Луговую…
Избенка с высокой крышей показалась мне подходящей для моего приюта, и я постучал в калитку. Вышла молодуха лет тридцати, как-то рассеянно выслушала меня и покачала головой:
– Тут, по нашему порядку, вряд ли где устроишься. Вон там, за переулком, живет женщина с двумя ребятишками. Изба у нее большая – может, возьмет. Больше я тебе ничем не помогу…
Обходя, вероятно, никогда не высыхающие лужи в низинках, я остановился у деревянного, еще приличного на вид дома с высоким крыльцом. Заметно было, что дом этот построили не так давно – вероятно, перед самой войной. Часть ограды была порушена – видимо, в крутые зимы доски и штакетины использовались как дрова. В ограде – пусто и травка-муравка. Я похлопал висевшей на одной петле калиткой. На крыльцо выкатилась девчонка лет шести, а за ней скуластый и бритоголовый пацан, чуть постарше.
– Тебе чего? – хмуровато глядя, постарался пробасить пацан.
– Мамка дома? – не стал я заходить в ограду.
– Нету, на работе, – бойко стрекотнула девчуха, – вечером будет.
– А еще кто-нибудь есть постарше?
– Нету. Мы одни живем…
– Квартирантов пускаете? – Вялый наш разговор походил на маленький спектакль, разыгранный под открытым небом детским театром. Убогая ограда, убогий домишко, сиротские, в убогом одеянии, грязноватые ребята…
Кое-как узнав от них, когда приходит хозяйка, я двинулся по ряду домов дальше, ничуть не огорчаясь: крайние дома этого порядка едва виднелись в мутноватой дали и до них еще было топать да топать, и надежда на добрый исход моего поиска не таяла, светло плескалась в сознании. И остатка недолгого дня конца августа вполне хватало, чтобы обойти все эти дворы. Но, чем ближе я продвигался к концу улицы, тем больше терял уверенность в возможности найти подходящую квартиру: добротные дворы, невесть каким образом пережившие все съедающее военное время, первые годы разрухи после нее, не редко красующиеся новизной отделки, я обходил, понимая, что в них мне – голоштанной деревенщине, делать нечего – люди там наверняка с достатком и грошевая квартплата да лишние хлопоты им не нужны. Полуразвалившиеся хибарки пугали слепостью разбитых окон, зачастую заткнутых разной рухлядью, кособокостью стен и провальностью крыш. К ним и подходить было страшно, не то что жить. Такой убогости даже в нашей деревне не было. И больше из любопытства, чем с какой-либо надеждой, сунулся я в одну такую избушку. Со света глаза не сразу разглядели ребятню за столом и бабку. Они что-то ели, потягиваясь руками в общую чашку, и тут же замерли, разглядывая меня. Дощатый стол, лавки, печь и какая-то кровать – все, что охватил мой взгляд в короткое время, и голым-голо, лишь икона под потолком в темном углу, тоже темная, не разобрать рисунка.
– Тебе чего, милок? – тихо спросила старуха, заморгав подслеповатыми глазами.
– Учиться я тут буду в школе – квартиру ищу.
– Э, милок, наши-то хоромы вряд ли полюбятся. Да и ртов вон сколько, тесно. – Бабка сутулилась, обернувшись ко мне вполоборота, а ребятишки – их было четверо, все так же молчали, глядя на меня не то с любопытством, не то с испугом. В темноте избушки трудно было уловить выражение их глаз. Выше всех белела головой девчонка немного младше меня. Она стеснительно клонилась к столу, пряча едва прикрытую какой-то маечкой грудь. А дальше, как от ступеньки на ступеньку – ниже и ниже торчали головенки трех пацанов.
– А чего так живете-то? – заиграли у меня в голосе чужие нотки: в нищенской этой избушке я вдруг почувствовал какое-то свое превосходство над сидевшими у стола детьми и старухой.
И старуха поняла мой скрытый намек и махнула рукой, не то выпроваживая меня, не то серчая.
– Не с чего разживаться: шесть ртов, а работник один – сноха, и заработок у нее – слезы.
Мне стало неловко перед этой старой искрученной жизнью женщиной, вероятно, в душе стыдящейся и этой бедности, и этой убогости…
– Сынок где-то в немчуре лежит, – начала она объяснять, – а мы тут горе мыкаем. Халупу эту он лепил, как времянку, да так и задумку на большее не успел выполнить…
Я переминался с ноги на ногу, не зная, уходить или нет вот так, как вошел, молча, или найти какие-то слова для этих обделенных жизненной лаской людей. Но слова эти не находились, ускользали, не складывались в сознании.
– Тут, милок, таких хибарок, как наша, через двор-два. Ты выбирай дом повиднее, попросторнее. – Старуха покачала непокрытой, обрызганной сединою головенкой. – Хотя там в постояльцах не нуждаются. У них достаток, отсиделись в войну… – Бабка еще что-то говорила, но я уже открывал двери, тяжелея сердцем и слабея духом. Зачем только я зашел в эту избушку? Унылым и слепым показался мне так удачно начавшийся день.
С тоскливой безнадежностью переходил я от одного дома к другому. И все одно: кое-какие хозяева заламывали такую цену, что сердце сжималось от страха перед такими деньгами, а другие оглядывали меня с пристальным недоверием и даже брезгливостью, и получилось так, что я, сделав часа за два петлю, вновь оказался у дома с двумя ребятишками.
Хозяйка – Вера Кочергина, с усталым испитым лицом, работавшая кочегаром на маслозаводе, расспросив меня, согласилась за небольшую плату дать угол.
– Хоть за моими сорванцами присматривать будешь, – решила она, – а то ухожу на работу и сердце болит, что да как. Умишко еще куриный, то одно выкинут, то другое. Того и гляди покалечатся или пожар устроят. Как свекровь схоронила больше года назад, так и мучаюсь. Толику бы в школу надо, а эту одну не оставишь. Да и денег никак не сэкономлю, чтобы одеть-обуть его как положено. Уж на тот год скопом их отдавать буду. – Вера зашумела на глазеющих ребятишек, добавила: – И не зови меня тетей. Вера и все…
Определялась мне полупустая комнатенка, в которой, кроме старого, обшарпанного комода, тоже пустого, ничего не было. Лишь на тронутом гнилью деревянном подоконнике красовалась алым разноцветьем раскидистая герань в старом заплесневелом чугунке с дырками, проеденными ржавчиной.
День для меня, почти десять лет никуда не выглядывающего дальше деревенских окрестностей, прокатился по душе жестким валиком, запетляв ее столь сложной прошивью новизны, что осмыслить все увиденное, услышанное и перечувствованное не хватало сил. То, что было бережно хранимое, отложенное в памяти долгим отмыванием жизненного опыта, перетряхивалось заново, уводило в иные понятия, иную вескость, и, выйдя за околицу райцентра, темным нагромождением дворовых построек оставшемуся позади широкого поля с хилыми травами, я облегченно вздохнул, очутившись вновь среди осветляющих сердце березняков и сенокосных полян, рисовано выделяющихся на фоне широкого окоема в бирюзовом наплыве, по которому лепились легкие облачка в тончайших световых переливах. Это был мой мир, мир дивных познаний, жизненного побуждения и потаенной святости.
Быстрее и быстрее шел я к нему, развеивая в легком ветровом трепете то гнетущее состояние, которое вливалось в душу весь долгий день моего первого знакомства с другой, почти неизвестной мне жизнью. Хотя подсознательно я понимал, что того устоявшегося, осветленного душевными родниками, дорогого своей привычностью мира не отгородить никакими загородками от новых жизненных вихрей, несущих иные чувства и мысли…
2
И матушка, и дед остались довольны моей самостоятельностью: и школа, и квартира, по моим рассказам, им приглянулись. И через пару дней я, нагрузив в сумку продуктов на неделю: кочан свежей капусты, с полдюжины луковиц, картошки и хлебцов из отрубей – двинулся по той же дороге назад, в райцентр. Постель – сшитый матушкой из поношенного пальто матрасик, подушку и старое залатанное одеяло, дед отправил с почтальоншей – Дусей Новаковой. Она раз в неделю ездила в Иконниково за почтой на старом колхозном быке. В намеченный для этого день я и подгадал со своими пожитками. У изъезженного за страду быка шаг известен – три часа канители до райцентра. Тогда, как я, без особого напряга, в первую свою ходку одолел эту вертлявую, в десять километров, дорогу почти в два раза быстрее. Потому я и не потянулся вместе с Дусей на скрипучей, шаткой телеге, хотя и заманчиво было, налегке, не тащить ничего, но больно муторно – своим ходом веселее. На почте Дуся тоже не сразу получала положенное и наказы сельчан кое-какие выполняла: бросит быка у ограды, при почте, а сама в магазины. Так что запас времени у меня был, и двинулся я в первую свою учебную неделю с легкой печалью. Особенно дрогнуло сердце, когда я, оглянувшись, увидел у ограды деда и матушку. Они стояли молча, с опущенными руками, и смотрели мне вслед. Можно было лишь догадываться, что таилось в их душах в тот момент. И я вдруг почувствовал острую жалость к родным мне людям и еще не устоявшуюся тоску по ним, ту, которая будет глодать меня в чужом неприютном доме.
* * *
– Ключи от кладовки клади под стропилу, – советовала Вера, – а то мои голодаи подберут твои продукты…
Повечеряли мы вместе. Я разлил принесенное молоко по кружкам – как раз почти весь битончик и опорожнился.
– Мне-то зачем? – Вера подняла печальные загустевшие чернотой глаза. – Ребятишек угости и все. До конца недели еще вон сколько – самому что останется?
– Обойдусь, – успокоил я хозяйку. – На первый раз без молока посижу, а там видно будет.
– Я тебе-то ничем не смогу помочь, – прятала взгляд Вера, – что где добуду – эти мои галчата из рук выхватывают. Растут, а еды не хватает…
И саднило веки от ее слов, и душу щемило. Получалось, что и здесь, в райцентре, не слаще, чем в колхозе. Сколь этого уголька перекидала Вера в топку заводского котла? Почти с того времени, как сняли бронь с ее суженого и он отбыл на фронт, она и заступила на его место, чтобы побольше зарабатывать, оставшись в двадцать два года со свекровью и двумя детьми-писклятами. Билась и за их, и за свою жизнь, знала, что сковырнись сама – дети могут погибнуть. Все ждала, питала надежду на возвращение мужа, а напрасно. С год выплакивала горе. Подушки заскорузливались от слез, а опять же дети, любовь к ним, забота вытянули из провальной ямы безразличия. За это распятие души и тела едва держалась в свету Вера, отрывая от себя все, чтобы поднять детей. Заработанного едва-едва хватало на эту толику света. Там, у нас, в деревне, хотя лебедой бог не обделил, ешь – не хочу. Грибы, ягоды… – тоже в подмогу. А тут и того не сыскать.
– У вас там какие заработки? – вела дальше разговор хозяйка.
О чем она? О каких заработках?! Матушка за год труда еле-еле выполняла установленную норму выработки для женщин-колхозниц в триста трудодней, и это при пятнадцатичасовом рабочем дне в летнюю пору! Оценивался такой женский труд в лучшем случае одной «палочкой» – одним трудоднем, а чаще его десятыми долями. На эти самые трудодни в нашем колхозе денег не давали – натурплатой расчитывали, и все больше пшеницей или рожью, по трети или даже четверти килограмма на трудодень. Вот и заработай!
– Ты отца потерял, а я и отца, и брата, и мужа с деверем. Да и свекровь отошла с горя. А мать еще в войну извелась…
Так мы и сидели, горюя и сочувствуя друг другу.
– Ладно, будем жить, а там, что бог даст, – подытожила Вера наш невеселый ужин.
3
На полный восьмой «Б» не набралось сельских учеников даже со всего района, и к нам влили чуть ли ни третью часть райцентровских. Со мной за одну парту определили Хелика Розмана, крупноголового, с угловатыми плечами и огромными, почему-то всегда печальными глазами пасленовой спелости. Таких лиц я никогда до этого не видел, а имен и фамилий не слышал. Одет был Хелик в кителек, явно малой ему, вероятно купленный давным-давно, аккуратно заштопанный на локтях, чисто стиранный и выглаженный. Штаны доходили ему только до щиколоток. Из-под них виднелись грубоватые носки. Ботинки у него были местами облупленные, но целехоньки. Приглядывался я к однокласснику с особым любопытством, но исподтишка, незаметно. А он был тих и спокоен, держался особняком…
* * *
В приподнятом настроении вбежал я в избу и сразу насторожился: Толик и Светка, заметив меня, почему-то юркнули в свою комнатку и притихли. Оглядел я свой угол: все вроде на месте, и, почувствовав вязкий голод, полез в печку за своим чугунком. Вера протапливала печь ранним утром, еще до работы, до того, как я уходил в школу. Начистив картошки и налив воды, подсовывал и я свой чугунок – то с одной картошкой, то с добавкой туда капусты или просяной крупы.
Потянул я чугунок, а он легок-прелегок. На дне ложки три щец. Понял я, почему ребятишки в свою комнатенку спрятались, а что поделаешь. Едкая слеза горечи непроизвольно покатилась из моих глаз: еще сутки мне падало быть голодным.
* * *
На одном из уроков вдруг разнесся по классу аромат жареного мяса. Учительница, молоденькая, с кудряшками, серыми глазами «химичка» поводила головой, пытаясь понять – откуда исходит этот дурманящий, давно забытый, а кое-кому и вовсе незнакомый запах. Но окна были закрыты, двери – тоже, и класс вроде бы глядел на доску, запестренную химическими знаками, а дух витал, заставляя учеников оглядываться.
– Кто-то у нас кушает на уроке? – вкрадчиво, не выдержав сладкого наплыва, не то спросила, не то попыталась утвердиться в своих предположениях учительница.
Класс молчал, переглядываясь. Через две парты от нас восседала парочка упитанных, розовощеких, даже чем-то похожих друг на друга молодцов – один Серега Максимов, сын директора совхоза, второй – Валька Русанов.
Я заметил, как Максимов покраснел до свекольного цвета, и понял, что это он решил подкрепиться. Поняла его и учительница.
– Максимов, может ты перестанешь нас дразнить? – решилась она на замечание.
Максимов еще гуще зацвел лицом, но нагловато ответил:
– Дайте котлету доесть…
А меня обволокло чем-то зыбким, отяжелило голову, шатнуло плечи, полусном поплыло сознание. Слов я уже не разбирал, а лишь слабый шум трепыхался в моих ушах.
– Ты чего побледнел? – Хелик тронул мой локоть. Огромные его глаза выпукло зачернели перед моим лицом в тревоге.
Его неподдельная доброта, его участие натянули тепла в душу, подняли приветное чувство благодарности.
– Голова закружилась, – признался я Хелику. – Не ел со вчерашнего утра – хозяйкины дети всю мою еду уплели…
А Максимов и после частенько жевал что-нибудь запашистое на уроках. То ли действительно так неотвратно тянуло его на еду, то ли он хвастался достатком, то ли просто дразнил однокашников?
Шумливый и озорной до пакости Петька Агутченко пытался постращать Максимова, но на его сторону стал Русанов, а они, сытые и береженые, могли своротить таких, как Агутченко, не одного. На том и закончились взаимные угрозы, хотя у Петьки своя компашка клеилась.
Я не лез в эти разборки, держась пока стороной и наблюдая.
* * *
Их было четверо. Вначале они играли у похилившегося забора в «зоску» – били ногами кусочек овчинки, залитой свинцовой бляшкой, а потом преградили мне дорогу. Тот, что покоренастее, толстомордый и узкоглазый, в кепке и кожаной куртке, прогнусавил:
– Давай поборемся, деревня.
Сердечко екнуло – драться будут. Но страха не было, мелькнула мысль: не побегу, пусть хоть до полусмерти изобьют.
– Я не борец, – останавливаясь и перекидывая холщовую сумку с тетрадками в левую руку, как можно спокойнее ответил я, не отводя взгляда, от колючих глаз коренастого.
– Он у нас, оказывается, еще и трус, – захватывая меня за бока, обернулся к своим толстомордый.
Я понимал, если поддамся – уронят и запинают. Ударить первому в самодовольное мурло? С четырьмя не справиться. Я попытался освободиться от захвата, но не тут-то было: твердая силенка почувствовалась, и тогда я отбросил школьную сумку к забору и схватился с толстомордым накрепко.
Сытый, тотошканый в холе он был ощутимо сильнее меня. Но втяжная работа по хозяйству и покосы выдавили из моих мышц лишнюю сырость, усушили их до барабанной упругости, отточили сноровку, и теряя равновесие, в падении, я смог вывернуться наверх и грохнулся коленями на мягкий живот мордастого. Тот екнул, осадившись спиной на землю, и мотнувшись раз-другой в перекате, попытался свернуть мой захват. Но я знал, как удерживать лежачего: в деревне мы боролись с малых лет – и отдрыгивался подальше от противника, не разжимая сцепку рук. Кто-то из его дружков хватал мои ноги и тянул назад, но я брыкался, зажимал шею крепыша туже и туже. И тогда он вдруг резко сунул мне локтем в лицо – боль резанула в носу, кольнула под глаза, но я лишь отвернулся, прижав предплечьем мокрые губы толстомордого.
– Э, четверо на одного, не пойдет, – послышался чей-то голос, и ноги мои сразу освободились от перехвата. Кто-то похлопал меня по спине.
– Хватит, вставайте…
Веселые, в искорках, голубые глаза увидел я и разжал руки. По тому, как отпрянули в сторону мои недруги, можно было понять, что этого белобрысого парня они почитают.
– Ты, Хомяк, опять за свое? – Он с усмешкой оглядывал вставшего после меня толстяка. – Одет, обут, обеспечен, учиться бы, а ты пакостишь по улицам. И кодлу таких же собрал. Нос ему ты разбил?
Только тут я почувствовал теплую струйку, наплывающую на губы.
– Ты че, Боксер, ты че? – отступал толстомордый. – Мы боролись.
– Прижми ноздри и запрокинься, – это парень уже мне посоветовал. – Еще увижу на нашей улице, – он погрозил кулаком четверке, – уши пообрываю, юшку пущу…
С покатыми плечами, выпуклой грудью, парень все же был еще довольно молод.
– Пошли, нам по пути, – кивнул он мне, – я за вторым проулком живу.
Подобрав свою сумку, я, все еще сжимая одной рукой ноздри, потянулся за парнем.
– Сынок начальника потребсоюза, – кивнул он назад. – Бросил школу, слоняется по селу, хулиганит, и дружков подобрал себе таких же.
– А ты вправду боксер? – проявил я интерес к своему заступнику.
– Самоучка. Перчатки и груша от отца остались. Он физкультуру преподавал. Кое-что нашел в школьном сарае и тренируюсь. Гири тягаю. Приходи в свободное время – будем вместе мышцы качать…
Про бокс я мало что слышал и столько же видел. Изредка привозили к нам в деревню кино. Вот в одном из них и показывали боксера. Помню, тогда мы, ребятишки, кучами колготились на полу школьного коридора, служившего кинозалом.
– Про боксу будет кино! – с горячим шепотом передавали друг другу хватающую за душу новость, и замирали в трепетном ожидании стрекота кинопроектора, ручку которого механик крутил сам.
– Вообще-то я Виктор Грохотов, а Боксер – это прозвище, – парень говорил с доброй усмешкой. – Оно хотя и самостоятельно я тренировался, а руку набивает. Было дело – кое-кого утихомирил, посадил на землю. Вот и прилепили кличку…
Новый знакомый расспросил и меня о многом. Оказалось, что наши отцы воевали на одном фронте и погибли в один год.
– Зимой мне восемнадцать накатит, – говорил о себе Виктор. – В военное училище буду поступать…
Расстались мы с ним тепло, при взаимных симпатиях.
4
В субботу, едва прозвенел колокольчик, извещающий конец последнего урока, я, опережая всех, скатился по лестнице и выбежал на улицу. Душа зажглась такой острой тоской по дому, так запросилась в дорогу, что проскочил я те несколько улиц от школы до дома почти незаметно, весь утопая в светлом воображении, и мыслями, и сердцем живя уже там – за лесами-полями, в родной избе, с родными людьми. И как-то не думалось глубоко, не воспринималось, не западало в душу все, что протягивалось мимо, стороной, за обочиной дороги: тихие угрюмоватые леса, потерявшие сочность и яркость травы, подернутое бледностью небо…
Откочевали к югу певчие птички, унялись порхающие бабочки, отблестели крыльями стрекозы – светлая печаль натекла в чуткую распахнутость лесостепных просторов.
Где-то под деревней догнала меня трепетная песня, прилетевшая откуда-то сбоку, из-за лесного отъема, густо звучная от сплетения звонких росплесков голосов, медленно наплывающая в робкое таинство предвечерних лесов, гасящая в них шорохи и легкий шелест листьев. По ним, по этим голосам, мы узнавали в детстве своих матерей, возвращавшихся с полевых работ, и частенько выбегали к околице встречать бричку, на которой они ехали тесной гурьбой и которую тащили шаткие, захлестанные в работе быки. Песни тогда, в военное лихолетье, все больше тянулись надрывные, бередящие душу, и не редко лица некоторых женщин влажнели от слез – в любой день на каждую из них могло накатиться горе, а кое-кто уже и носил его за плечами. Но светлели глаза матерей, мелькали улыбки, едва мы окружали скрипучую телегу…
Тенью проплыли в памяти цепкие воспоминания, и я попытался в созвучии высокого напева уловить голос матери, зная, что она там, среди этих женщин, отломавших спину в запале горячей страды, и поймал его – тонкий, сильный, вплетенный в самый зенит песенного порыва, и остановился. Из-за леса показалась повозка. Та же пара быков под ярмом – давних или других, но знакомо пестрых, с худыми хребтами.
Возгласы, говор, протянутые руки… Меня почти оторвали от земли и втащили в телегу.
– Вытянулся…
– Красивый будет и молодец, учится…
Глаза, почему-то они заслонили мне все: синие, серые, карие… – и все глубокие, лучистые. А лицо матушки и вовсе неузнаваемо радостное, будто слетел с него пепельный налет усталости, тревог и не проходящего горя.
– Как ты там, сынок? – едва уловил я ее вопрос среди оживленного говора, и по моим губам, по выражению глаз она поняла успокаивающий ответ. И все это: внимание женщин, их похвала, ласковые взгляды, поглаживание по спине – подняло меня в проникновенном восторге чуть ли не до самозабвения.
* * *
Такая это благодать – родной дом! Все в нем мило: и до мелочей знакомое убранство кухни и горницы, и пляска света и теней по стенам и углам, и запахи…
Как всегда, по субботам вынянчивался банный день. С радостной живинкой принялся я носить воду, поглядывая за околицу на приозерные плесы, над которыми мельтешили россыпи утиных стай, намериваясь сбегать на охоту пока будет поспевать баня…
В старых, изношенных до безобразности сапогах обегал я закутки береговых мелководий, стараясь не особо лезть в грязь – ночами уже выхолождалась земля и даже озерная няша стала жгуче-холодной. Это и мешало мне скрадывать сторожких осенних уток. Они срывались в трепетном испуге вне выстрела. И мною все больше и больше овладевала упрямая настойчивость. Я почему-то представлял ни деда с матерью, а семейку Кочергиных: испитую Веру, тонкошеего Толика, кудлатую и кривоногую Светку – сидящих за столом и смачно гложущих утиные косточки. А я, вроде откуда-то сверху, с вожделенной радостью созерцаю это действо… В конце концов неудачи так меня распалили, что, заметив стайку кряковых в загогулине одной заводи, я смахнул с ног бахилы и, морщась от холодного проникновения в лодыжки, полез тиной, хоронясь за камышовый заслон. Азарт согревал, удерживал от возврата, и выстрел принес мне двух крупных селезней. Назад я прыгал, как подстреленный козел. Даже бег не согрел ноги до ощутимой теплоты, и искорка успокоения тянула мысли к близкой бане.
Сумерки надвинулись из лесных далей, когда я вбежал в избу…
Скоро пришел Паша. Втроем мы и юркнули в накаленное сухотой, прокопченное нутро бани, сбросив в предбаннике, на соломе, чеботы и кинув на гвозди, вбитые вместо вешалки, одежонку.
Жар хватанул за уши, обдал горечью и крутым жжением, и мы посунулись к подслеповатому оконцу, на лавочку.
Дед нахлобучил старую шапку, натянул голицы и попросил меня поколдовать над каменкой – поплескать на нее кипятку ему в угоду.
– Выдюжишь? – влезая на полок, поддел он мое самолюбие. – А то пар полыхнет такой, что уши свернутся, как тот березовый листок от жара. Ошпариться можно…
Обычно дед парился вместе с Прокопкой Семенишиным. Тот хотя и одноногий, но веником махать – первый на деревне. Пробовали его с полка высадить мужички-здоровячки да сами вышибали дверь в удушливом одурении, выкатываясь с потерей чувств в предбанник. Один дед терпел ту обжигающую жару и то лишь в качестве подсобника, мотаясь возле полка с веником и поддавая пару по просьбе Прокопки. Тот, в специально сшитой ушанке на вате и таких же рукавицах, чуть ли не кувыркался на полке в мельтешащей пляске веника и только орал:
– Ой, сгорю! Ой, матушка родная… – А потом почти валился на пол и ползком выбирался в предбанник, на сено.
Но приболел что-то сапожник, и теперь мне падала роль ублажать деда. Первый же ковш взорвался такой тугой волной пара, что стекла в оконце дрогнули, а Паша скукожился. Меня будто мешком с соломой по голове ухнули и кипятком облили. Вмиг я очутился на корточках. Дед даже не пошевелился в полумраке полка, и мелькнула мысль: не ошпарил ли я его?
– Еще полковшичка, – подал он голос. – На самую макушку…
И еще такая же волна колыхнула сухие, как летнее сено, волосы. Паша шарахнулся к двери и исчез за ней. Я сунулся под полок, упав животом на скамейку перед ним. И тут заиграл веником дед, закряхтел, заохал, совсем как Прокопка, которого я не раз слушал, спасаясь от адского жара в предбаннике.
– Ой, спекся, кожу рвет!.. – Дед заплескался в тазу с холодной водой, стоявшем на полке. – Дай еще ковшичек…
Когда он слетел с полка, чуть не наступив на меня, я опередил его, вываливаясь в предбанник.
Прохлада обдала тело иступляющим блаженством. Лишь тонкий запах свежего сена поднимал какие-то мысли, воссоздавая неохочим воображением несвязные, размытые образы.
– Сомлел, – отлежавшись, оживился дед. – Думал шкуру спущу…
Мало-помалу разговорились. Не лето на дворе, а все одно тепло в предбаннике нежит. Да еще и на мягком сене, и что-то потянуло меня на откровение, и рассказал я деду и Паше про то, как боролся, как спас меня от драки незнакомый, парень…
– Драка – дело не доброе, – все отходил от жестокой пропарки дед, – но вряд ли минуешь ее в жизни. Кто-нибудь да и налетит со своей меркой или просто из баловства. Так что парень предлагает тебе кое-какую натаску, не сторонись, попробуй. Пару раз носопырку расквасят – так перетерпи, не ломайся. Оно – боль-больная, но и к ней привычка нужна. Сопли-то распускать по каждому щелчку не следует. Мы в свое время хоть по праздникам на кулаках сходились – стенка на стенку или край на край. Да и на вечерках, бывало, трясли друг друга за грудки – частенько боролись. Все навык. А теперь и кулачная запрещена. А мужик должен уметь себя защитить. Как без этого? Зло добром не осадишь…
– А по мне – так силу надо иметь и все, – встрял в разговор Паша. – Поймал и завернул в салазки.
– Не-е, малый, – дед приподнялся, – одной силой, нахрапом не всегда возьмешь. Вот в Первую германскую, когда я был в плену, попал в одну упряжку со мной Роман Орлов, поглядишь – маломерка: сухой, плоский, а в драке валил пырком любого из нас. Даже меня. А во мне без малого сажень росту и силенкой бог не обидел – в молодости сырые подковы гнул. Начнем бороться – я Романа в охапку и в свекольник заброшу. Мы тогда свеклу у хозяина-германца убирали. Но замахай кулаками – натычет, голова чугуном. Вот те и сила. – Он помолчал. В бане еще что-то шипело, булькало, но со двора не слышно было ни звука. В небольшое оконце предбанника натекали густые тени. – Ты сам-то в драку никогда не лезь, – вновь обернулся ко мне дед, будто разговор наш и не прерывался, но если прижмет – бей прямо в нос. Нос – самое болевое место на лице. Пыла у того, кто рыпается, сразу поубавится. Ты и гляди зорко: стоит ли его еще осаживать. Но зло в себе против человека никогда не разжигай. Чаще всего юшки из носа бывает довольно, чтобы от тебя отступили. – Он приподнялся. – Ладно, пошли в баню, я вас малость веником пощекочу, а то прокисать начали…
И поддавал пару, и хлестал нас вениками дед единолично, пo-очереди, азартно, со знанием дела. И порой терпежу не было – так и хотелось выскользнуть из-под жгучего веника, свалиться с полка в прохладу. Но у деда не вырвешься – любое дерганье телом он останавливал встречным потягом веника. Жар и частое хлобыстание расслабили тело до бессильной дрожи – я едва сполз с полка и кое-как проковылял в предбанник. Паша приподнял голову, давая мне место у стенки.
– Засек, – слабо пожаловался он, – горю весь…
Я не ответил, рухнув на полусухое разнотравье.
Дед еще ублажался пареньем, еще ахал и кряхтел, но уже не вскрикивал, не бранил сам себя за сумасбродство…
* * *
– Неделю тебя, сынок, не видела и тут не посидишь дома. – Матушка глядела, как я, торопясь, дохлебывал из чашки пустые щи на капустных листах, подбеленные молоком. – Рано тебе еще по вечеркам ходить, побыл бы с нами.
– Причем тут вечерки, маманя, я к ребятам…
Дед шуршал в горнице одеждой, отозвался как-то виновато:
– Я, пожалуй, себе схожу Прокопку попроведать…
Шалая догадка потянула озорные мысли: уж я-то знал, к какому Прокопке начесывался дед. Да и матушка скорее всего догадывалась.
– Меня одну оставляете? – В голосе ее, однако, не было печали или жалости. Скорее, скрытая гордость за нас угадывалась в нем. – Я тогда тоже пойду к бабам ворожить…
* * *
В избе было жарковато. Пришлось и пиджак сбросить, определить на вешалку среди девчоночьих платков. Один я был такой счастливчик: остальные ребята верхнюю одежку, кто какую имел, прямо на рубаху надевали. Чуть наряднее были девчата – почти все в цветастых платьях, хотя и простеньких, но не изношенных до блеклости.
Затевалась игра в гулючки. Заводилой всегда назывался шустрый Мишаня Кособоков. Он завязал глаза Лизе Клочковой, вертанул ее пару раз у печки и пустил вдоль лавки, на которой мы затаились в тесноте, угнувшись, придерживая дыхание. И надо же, мягкая Лизина рука проплыла мимо Паши и цоп – легла мне на голову. Угадывать, ощупывая, запрещалось, и Лиза медлила. Даже через волосы я чувствовал горячую ее ладонь, тепло, идущее от ядреного тела, тонкий приятный запах, натекающий то ли от руки, то ли от одежды, то ли от волос, то ли от всего вместе. Горячая волна плеснулась у меня к шее, ушам, лицу, дыхание замерло в перехвате.
– Леня Венцов! – Рука Лизы скользнула по затылку, на шею, завернулась в жаркой загогулине вокруг нее. Мишаня сдернул с глаз Лизы повязку. – Голи, голи! – торжествовала она, как бы ненароком прижимая меня к своей упругой груди и обнимая.
Полыхал я не горючим пламенем, не чувствуя в живом трепете угара ни своего тела, ни дыхания…
– Вот это приголубила! – дошел до меня чей-то голос. – Стрелец аж зарделся…
Спас Мишаня, ловко накинув мне на глаза непробивную для света повязку и как-то оттиснув Лизу.
Игра пошла дальше, перекинувшись за полночь и в другие забавы. Но не раз еще после этого я силой воображения ощущал тот внутренний жар, что ожег меня в объятиях девчонки.
* * *
Проснулся я от стука в раму.
– Даниловна! – кричал кто-то за окном. – Седни снова на солому!
Еще несколько щелчков и удаляющийся топот лошадиных копыт. Я понял, что это председатель распределяет людей на работу, гарцуя вдоль деревни на жеребце и постукивая кнутовищем в окна. Тут же вспомнилось, как года три-четыре назад, этот самый председатель положил глаз на мою красивую мать и, получив отказ, стал посылать ее на самые тяжелые работы. За месяц-два мать похудела и почернела лицом. В глазах у нее появилась не проходящая тоска. И дед, каким-то образом узнав про это, ходил к Разуваеву на беседу. Что он ему говорил в столь жуткое время, когда человека при малейшем недовольстве начальства могли раздавить и морально, и физически, – неведомо. Но преследовать матушку Разуваев перестал. Скорее, струхнул под угрозой деда сообщить его дебелой, скорой на рукоприкладство, жинке. Ее, рыжеволосую, крупную и языкастую, по слухам, только и побаивался председатель, да еще, может быть, районного начальства, с которым – не утаишь очевидное в деревне – у него все было в ладу. Баб одиноких было не сосчитать, зачем нарываться на скандал. Отмахнула одна – лови другую. Да и хитростью его природа не обделила, не гляди что малограмотный. Войну прокантовался в председателях, матом на мате погоняя изработанных, иссохших в горестях баб…
Мысли эти отбили сон, и хотя рано еще было, чуть брезжило, лежать не хотелось. Из кухни тянуло теплом – топилась печь, и тихо шебуршала чем-то матушка, и сладко засосало вдруг грудь от этих давным-давно, с горшочечного детства, ловимых звуков и ощущений, и так потянуло меня к матери, что я не выдержал и соскользнул с кровати.
– Не дал понежиться этот горластый, – обласкала она меня улыбчивым взглядом. – Поспал бы еще, рано.
– Да не хочу. – Я, как в детстве, воссел на лавку, почти напротив печи, в жерле которой бились огненные пряди. – А где дедушка?
– Скотину погнал в табун…
Мне хотелось прижаться к матушке, как бывало в младенчестве, почувствовать ласковое прикосновение ее рук, теплоту родного дыхания. Но что-то иное появилось в душе встречь этому чувству: простая сентиментальность ли, неловкость или более сложное состояние, поднимающееся по мере взросления человека, за той гранью, которую уловить или определить невозможно и которую чаще всего упускаем мы незаметно и невозвратно, без права оглядки и повторения. Ибо время уходит водой в решете, зоревым росплеском – проглядел момент и нет ни того ни другого…
Возможно, что-то подобное испытывала и матушка. Она приглядывалась ко мне как-то по-иному, повнимательнее, что ли.
– Вырастаешь ты у меня, сынок. Отец – отцом. – И она отвернулась, и сила любви к матери сломала все преграды. Я обнял родные плечи и посунулся к маленькому уху.
– Ну что ты, мамуля? Это же хорошо.
– Опять уходишь на неделю, – голос ее дрожал, – а я думки думай: как ты там, у чужих людей, в чужом селе?..
– Да все нормально. – А у самого сердце сдавило. Так жалко мне стало и матушку, и себя, и деда… И еще дальше потянуло меня в этом страдании: к родным людям, друзьям, деревне…
* * *
– Картохи я тебе с почтой передам, – наряжая меня в дорогу, пояснял дед, – мешка три, и за постой отдашь своей хозяйке столько же. С ее огородишком малышей не прокормить. Рада будет. Я с Дусей переговорю – подвезет к дому. Уток твоих мать приготовила, в погребе лежат. Молока возьми.
– Утку я одну возьму, вторую вам. Вы тоже без мяса…
Тут и Паша помогал мне прилаживать половчее сумку за спиной, тоже свое наказывал:
– Если там что будет серьезное, сразу вертайся, и только скажи. Мы с ватагой живо кого угодно утихомирим…
Этот разговорный рокоток мягко перекатывался в душе, разгонял горечь расставания, гасил легкую грусть, тени тревожных переживаний. С этим настроем, с осветленным сердцем, благодарной памятью заторопился я длинной улицей к теням Агапкиной рощи, оглянувшись раза два на деда с Пашей, стоявших у палисадника, на родной дом, на знакомые дворы соседей…
Еще темнели слева и справа понурые избы, а мысли мои уже унеслись туда, в Иконниково, в школу, в приютивший меня дом. И тут, в проулке, у плетня я вдруг заметил девичью фигурку и сразу распознал ее: Катюха! Она стояла и смотрела на меня, и пройти мимо, не сказав ни слова, я не мог.
– Здорово, Катюха! Ты чего на ветру коченеешь? Из дома выгнали?
Она шагнула навстречу.
– Посмотреть на тебя вышла. Целый час жду…
От этого ее признания защемило в груди, подкатилось что-то к горлу.
– Чего на меня смотреть? Какой был – такой есть.
– А я соскучилась. – И вот она – рядом. Огромные глаза, в которых вопреки словам, светились искорки, густые распущенные волосы, обвивающие длинную шею, полураскрытые вишневой сочности губы… Теплом нанесло от нее, но это было иное тепло, отличное от того угара, что полыхнул во мне на вечерках, мягкое, ласковое, как от прикосновения чего-то милого, родного. Так и захотелось погладить Катюху по голове, обнять по-братски.
– Я ж тебе кто, Катюха, чтобы по мне скучать? – потянул и я предложенную игру, чему-то радуясь, неосмысленному, неуловимому сознанием, а лишь тешащему душу.
– Жених! – Катюхины глаза лучились. – Помнишь, как в покос обнимались?
Глядеть на нее было приятно, желанно-трогательно, светло.
– Сначала вырасти, а потом женихов выбирай, – ничуть не растерялся я от ее откровенности.
– А ты сам еще безусый. – Катюха ущипнула меня за щеку. – И жениха надо заранее выцеливать.
– Ишь ты, досужая, – хватанул и я ее за бугорок на груди. – Целься, да смотри не промахнись.
– Поцелуемся? – Катюха вытянула соблазнительные губы, прищурила глаза.
– Ты чего? – Я чуток откачнулся. – День-деньской, люди.
– А мне они что? – Катюха все игралась.
– Ладно, – я поправил котомку за плечами, – мне пора идти. Солнце вон на лес скоро наколется, а дорога не близкая.
– Тяжело? – Катюха, посерьезнев, тронула мою поноску.
– Да нет, – сыграл я в безмятежность. – Привыкаю.
– В субботу придешь, попроведай, – пригласила Катюха. Глаза у нее потемнели, потянули взгляд в такую глубину, в которой не было ни дна ни края.
– Видно будет. – Я поймал ее горячую, твердую ладонь и слегка пожал. – До встречи. – Шаг, второй, тело напружинилось, чего-то ожидая, но ничего не произошло, и я невольно оглянулся. Катюха так же стояла у плетня и махала мне рукой. От встречи с ней вроде силы прибавилось и радости, и пошагал я к повороту, за которым деревню закрывала подкова Агапкиной рощи, полный бодрости и волнующих надежд.
Глава 2. Крапива жгучая
1
…Говоришь перед ноябрем шестнадцать исполниться? – Виктор поправлял боксерскую грушу, подвешенную за слегу сарайчика, и оценивающе поглядывал на меня. – Вполне можно боксом заниматься…
Все же решился я побывать у него, памятуя приглашение и дедов совет, но больше из любопытства.
– Сразу нагрузки я тебе не дам, можешь надорваться при таком питании, а кое-какие навыки освоим. Ну-ка ударь в мою ладонь. – Виктор вытянул в сторону руку, растопырив пальцы.
Я поежился, приглядываясь, какое-то стеснение и неуверенность удерживали меня от кулачного выпада.
– Бей смелее! Тычком, изо всей силы!
Но силы не получилось: мягкий мой кулак лишь скользнул по ладони тренера с той же неуверенностью, с какой выстаивался мой внутренний настрой.
– Жидковато. – Виктор нахмурился. – Ты и в ладонь почти не попал – ткнул по пальцам. А бить надо точно и резко. Вот смотри. – И он мгновенно, едва схваченным глазами движением, саданул по груше, которая птицей метнулась к крыше сарая. – Вот так! Кулак сжимай крепко и в тот момент, когда он уже летит для удара. – И Виктор вновь показал, как нужно бить. – Не только руку выкидывай, а и плечо, и всем телом толкнись вперед. Я у отца кое-какие книжки нашел по технике бокса. Он перворазрядником был. Почитаем потом. Но главное – тренировка…
Ветер тоненько зудел в старых щелеватых стенках сарайчика, натягивал осенний озноб, когда мы, запаленные тренировкой, садились на чурбаки, невесть откуда принесенные Виктором, и смахивали с волос испарину.
– Будешь ходить ко мне два раза в неделю. Идет? – Он тиснул мое плечо. – Такие, как Хомяк, должны нас сторониться. Ну а теперь пойдем перекусим. Я приглашаю…
Промозглый ветер нагонял холодные сумерки из-за озерных далей, и мы быстро проскочили в уютный домик Виктора.
Тетя Римма – мать Виктора, налила нам по тарелке супа, который показался мне удивительно вкусным, и в обычной обстановке я проглотил бы его за пару минут, но в гостях приходилось сдерживать голод, тянуться ложкой умеренно, в раскачку. Нет-нет да и улавливал я на себе добрый сочувствующий взгляд тети Риммы. Она уже знала обо мне многое. Что-то рассказал Виктор, что-то я при первом знакомстве. Почти так же светились живо и глаза моей матери, когда она наблюдала, как я ем. И это участие и понимание грели душу.
2
– Накурились, – завуч, Елена Федоровна, войдя в наш класс, сморщила нос, – даже здесь табачищем несет. – Она простучала каблуками к учительскому столу. За ней, чуть склонив большую седеющую голову, без особой уверенности, прошагал высокий, слетка сутуловатый мужчина с журналом под мышкой.
Мы ждали Анну Егоровну, немку, а тут – на тебе, комиссия не комиссия, но что-то небывалое.
– Анна Егорвна заболела и, видимо, надолго, – завуч остановилась у стола, оглядывая класс, – ее положили в больницу. Немецкому языку, пока она болеет, будет учить вас Генрих Иванович…
Вот те и комиссия! К старенькой, многое позволяющей, мягкой характером Анне Егоровне мы привыкли. Тянули задания кое-как, лишь бы на терпимую оценку. А язык, ну зачем он, коль война с немцами закончилась?
Большеголовый, с мясистым носом и вислым подбородком Генрих Иванович ничуть не располагал к себе, а тут еще немецкое имя. Да и отчество вряд ли у него было такое, если оно вообще принято у немцев, скорее – Иванович, что-нибудь от Иоганна вызвучивалось. В школьной библиотеке, в которой я просто увяз за последние полтора месяца, как-то попалась мне тоненькая книжка, еще довоенного издания со стихами немецких поэтов, и пару ночей не давал мне покоя «лесной царь» из баллады Иоганна Гёте, потрясший воображение зримой глубиной образов, силой поднимаемых чувств, почти ощутимостью происходившего. Были в той книжице и короткие биографические сведения об этих поэтах, и я, вначале отложивший книжку, как немецкую, а значит фашисткую, все же заглянул в нее из любопытства краем глаза и уже не мог оторваться. Так я и узнал кое-что о немецких фамилиях и именах, и крепкое мое мнение о том, что все немцы враги, подтаяло, поплыло на волнах сомнения, хотя держал я эти сомнения в глубине души, боясь поделиться ими с кем-либо. Еще тлели в людях боль потерь, горести ушедших страданий, жуткая ненависть к тем, кто принес это на нашу землю, и грести против того потока или даже поперек его вряд ли было благоразумным. Он – этот поток, мог захлестнуть любого, даже взрослого, крепко сидящего в своей «лодке» человека, опрокинуть в бездну туда, откуда не бывало возврата, а уж меня – школяра, сельского лапотника, сломать в два счета: раз и на всю жизнь. Потому и грел я свои сомнения тайно, и читал запоем, без передыха, до мельтешения в глазах, до одури жаждая новизны душевного трепета, таинства познаний, открытия того мира, что был недосягаем ни взору, ни воображению, и лишь книги высвечивали его глубины, неся ту духовность, какую в те времена нельзя было почерпнуть из любого другого источника, поскольку источники эти или были слишком слабы в сравнении с литературой, или недосягаемы. И может быть, даже в ущерб учебе, зачастил я в библиотеку. Те книги, что чудом уцелели в деревне, были читаны-перечитаны, а тут и в старых запасах кое-что имелось, и новые книжки поступали – успевай, лови момент, держи очередь, ибо не мало было и других таких же, как я…
Пока новый учитель знакомился с нами по журналу, внимательно высматривая каждого, в классе не трепыхался даже обычный для этих минут шумок. Слишком неожиданным оказалось появление этого крупного большелицего человека. Здоровый мужик среднего возраста был в то время хотя и не редкостью, но и не слишком обычным – почикала их война, как моль старую шубу, и привычнее было видеть инвалида, нежели здоровяка.
Едва новичок отвернулся к доске, выводя на ней немецкие слова, как кто-то, кажется Петька Агутченко, начал негромко притопывать сапогами, видимо, и его потянули на шкодливый протест те же или подобные моим мысли. И уже через полминуты полкласса топали в один такт ногами. Учитель обернулся: ни зла, ни растерянности, ни удивления не промелькнуло в его больших серых глазах.
Класс затих. То ли опять многих смутила эта спокойная холодность, то ли заводила избрал хитрую тактику. Снова широкая спина новичка заслонила почти полдоски, и снова, начавшись тихо, исподволь, стал нарастать топоток.
Резко повернувшись, Генрих Иванович засек кое-кого в движении, но вроде бы задумался, и класс затаился в ожидании. Мелькнуло: если сейчас объявится классу «война», то пиши пропало – не подняться тогда ему до нашего уважения, подспудно заупрямится душа каждого ученика насилию – натерпелись, набоялись, уплыло то время, когда в угол ставили за малейшую провинность, из класса за ухо выводили, линейкой потягивали – не удержать учебу на страхе. И учитель бросил писанину, стал просто говорить слова, которые следовало выучить. Пришлось взяться за ручки.
На перемене заговорили.
– Я его, фашиста, все равно допеку и выживу! – брызгал слюной Петька Агутченко. – Ишь гладкий какой! Небось не одного нашего положил.
– Откуда ты взял, что он фашист? – зашлепал полными губами Максимов.
– Немец, не видишь!
– Ну и что? – не выдержал перепалки и я. – Он, может, и не воевал.
– В войну все воевали…
Вечером я был у тренера и не выдержал, рассказал ему про немца-учителя.
– Да знаю я его. – Виктор глядел улыбчиво. – Он на скрипке в оркестре дома культуры играет. И никакой он не фашист, из наших, поволжских ссыльных немцев. Да еще где-то на лесоповале в трудармии лет семь отгорбатился. Он на соседней улице живет. Тоже, как ты, на квартире один, частенько вечерами на скрипке упражняется. Как-нибудь послушай – щекочет. Ну, давай начнем удар ставить…
За месяц тренировок я ощутил, как плотнее и крепче стал мой кулак, потвердели мышцы рук, резче взлетали боксерские выпады, точнее. Теперь «лапу», что надевал Виктор на левую руку, сдерживая мой горячий напор правой, в тяжелой перчатке, я заметно отбрасывал ударом, попадая прямо в середину. Виктор подставлял ее то на уровне лица, то сбоку, то к животу, быстро меняя ее положение, и одобрительно кивал, если я ловил снаряд на хук или на прямой удар. За неимением второй пары боксерских перчаток, мы одну руку обматывали тряпками и прыгали петухами в спарринге. Нередко я получал увесистые оплеухи от Виктора, но чем больше мы «петушились», тем реже и реже доставал меня Виктор своей правой в перчатке. А я нет-нет да и подцеливал его кулаком в полотенце, защищаясь перчаткой на левой руке.
– Эх, тебе бы сейчас в настоящую секцию, – одобрял он мои успехи, – подкачаться, подкормиться и вперед, на разряды, до мастера, а может, и выше…
Да, не на чем было поддерживать силенку: не то что о каком-то усиленном питании, о сытой еде не мечталось. И мы это знали оба, увлекаясь, выматывались в нагрузках до изнеможения. Но уже втянулись в тот тихий восторг, что накатывается на человека, удачливого в своем стремлении, целиком и полностью, как говорится, с потрохами. И преодолеть эту тягу, эту привычку, бросить тренировки вряд ли бы хватило сил, хотя нет-нет да и кружилась голова и до хилости слабело тело. Но когда я глядел, как Виктор ходил на руках, держал ногами прямой угол, резво подтягиваясь на примитивном турнике, перекладиной в котором был обычный лом, как подолгу зависал в том же положении на одной сжатой в локте руке, перекидывался в сальто, светлая зависть потряхивала меня всего, тонко, как барабанную перепонку. Как я хотел во всем походить на него!
3
Измотанный боксерской гимнастикой, с налитой тяжестью спиной и легкой болью в мышцах уклонился я от своего привычного пути, заложив переулком загогулистый крюк к соседней улице. После слов Виктора, рассказавшего много интересного про учителя немецкого языка, повела меня незримая веревочка к далекому дому: то ли по желанию услышать скрипку, которую я видел и слышал давным-давно, еще во втором или третьем классе, когда наш учитель и директор школы Иван Иванович Сусальников каждый день пиликал на ней гимн перед началом уроков, а мы, стоя за партами, нескладно тянули про нерушимый союз; то ли захотелось убедиться в правоте слов тренера, хотя ему я верил больше, чем себе; то ли какие-то иные побуждения потянули меня на ту, незнакомую еще улицу.
Синички попискивали на пряслах убранных огородов, на коричневых кучках картофельной ботвы; бойкие стайки воробьев обмолачивали головки конопляных метелок, жавшихся к заплотам; тяжелые вороны чинно восседали на старых тополях по обочинам улицы. Уплывали последние дни той благодатной осенней милости, когда жизнь как бы замирает в неге солнечных ласк, сладком оцепенении упоительного тепла, выстраданной чистоте воздуха, легкой мягкости звуков, когда и листочек не дрогнет, и паутинка зависнет в недвижимости, не поднимаясь в прозрачность высоты и не падая на притихшую, уставшую от хлопот землю. И вот в эту настоявшуюся дрему, в этот немой, в едва внятных пустозвонах простор вдруг стала натекать тонкая дрожь благозвучного перелива какой-то мелодии. Сначала шепотком, едва внятно, а когда я вынырнул из проулка, весь напружинившись, ускользая от обнимавшей меня усталости, остро, прошивая душу иступленной жалобой. Замерев на полминуты, успокаивая отзвуки высокой трели, почти ощутимо щекотнувшие что-то в груди, я стал медленно двигаться навстречу этому наплыву страдающего, вроде бы исходящего из глубины чьей-то души напева.
Домик под тополем, обнявшим его крышу широким размахом корявых сучьев, с палисадником, затененным кустарниками, блестел на солнце тремя окнами. Четвертое – темнело провалом меж распахнутых створок узорчатой рамы. Оттуда, из темноты этого окна, лились чудные переливы. Ничего подобного, даже в природе, я никогда не слышал. То, что нам наигрывал Иван Иванович, было жалким подобием этой нежной, гладящей душу и лелеющей слух мелодии. Тогда там, у чужого палисадника, на тихой извилистой улочке, упиваясь звуками чарующей музыки, я впервые понял, что такое скрипка, ощутил всю трогательную силу ее «голоса».
Стоя за кустами, густо заметавшими палисадник, я четко видел крупную голову Генриха Ивановича, тихо, даже осторожно, покачивающуюся в такт движению смычка, его крупные пальцы, будто ощупывающие струны скрипки. Не знаю, видел ли он меня, но глаза у музыканта были полузакрыты, и мне показалось, что в уголку того, что был мне виднее, копилась горошина чистой слезы.
Заскребло сердце от этого открытия, и согнувшись, побежал я легкой рысцой прочь, будто подхлестываемый все той же мелодией с перепадом высоких и низких, тягучих и отрывистых звуков, снова глухими переулками, пока не потерял слухом тот рыдающий напев.
4
Почему-то обо всем этом я рассказал Хелику: то ли полагая, что он может понять меня лучше, нежели кто-то другой, то ли доверяя ему больше, чем кому-либо из класса, то ли более сложные чувства подначили меня на ту задушевность, но в глазах соседа по парте, почему-то всегда грустных, засветился неподдельный интерес.
– Не помнишь мелодию? – Он наклонился к самому моему уху. – Мама у меня бывшая пианистка, и я немного в музыке разбираюсь.
– Да ну, разве ее повторишь! Песню бы я еще запомнил, а там – столько звуков.
Глаза Хелика с таким выкатом, что сбоку заметно было, как в них преломляется свет, чудно высвечивая глубину зрачков, потемнели.
– Я сразу был против того топота, хотя нас немцы изводили под корень.
Кого он имел ввиду, я не понял, полагая, что речь идет о родне, и спросил:
– А ты с кем живешь?
– С мамой. Она в детском садике музыкальным работником устроилась…
Про отца я не стал спрашивать – и так все было ясно. Звонок прервал наш разговор.
Немецкий язык был у нас два раза в неделю, и все уроки с появлением Генриха Ивановича шли в одном розыгрыше: стоило ему отвернуться к доске, как начинался ритмичный топот. Шум от него глушил объяснения учителя и не всем это нравилось: раздавались словесные перепалки, мелькали кулачные тычки под бок или в спину – класс расслаивался на тех, кто топал, и на тех, кто слушал. И снова заводил всю эту канитель Петька Агутченко, вроде и сельский парень, из ближней деревни, а нахрапистый. С ним даже местные, райцентровские, ребята старались не связываться. Не раз и не два беспутничал Петька со своими сторонниками, и странно было, что Генрих Иванович не жаловался Редьке – завучу Елене Федоровне, прозванной так за фамилию, скорой на решения, старой закалки педагогу. Поговаривали, что она – Редькина, могла запросто покрутить за ухо, хлобыснуть линейкой по голове или вышвырнуть за воротник из класса. И никто не жаловался, боялись или уважали силу. Да и муж у нее вроде был прокурором – не больно разжалобишь…
Генрих Иванович, окрещенный простым прозвищем – Немец, появлялся обычно лишь с журналом под мышкой, а тут я заметил какой-то фигуристый длинный и узкий ящик, который он нес в опушенной руке. Вряд ли кто понял, что это такое. Даже Хелик промолчал, лишь как-то странно взглянул на меня.
Ну и этот непонятный ящик никак не подействовал на Агутченко: затопали на втором и третьем ряду, зашушукались, зашумел класс.
И как всегда, молча повернулся от доски Генрих Иванович, поднял на стол принесенный ящик, обтянутый темной кожей, и маленьким ключиком открыл его.
Притихли все, зорко наблюдая за учителем, а Хелик шепнул мне:
– Футляр это от скрипки…
И екнуло сердце, затихло в придыхе.
Скрипка, ажурная, отдающая темно вишневой краснотой, та самая, что тянула мой взор из-за палисадника, а душу в прозрачность осветленного низким солнцем неба, оказалась в руках учителя.
Метнув взгляд на класс, он легко и ловко вскинул изящный инструмент к плечу, под подбородок, и коснулся смычком выпирающих над декой струн. Звук иголочкой кольнул сердце и потянулся высокой нотой, глуша все в замеревшем от напряженного трепета классе. Мелодия, непередаваемая голосом, мягко поплыла откуда-то изнутри этого чудного инструмента. Казалось, будто некто, спрятавшись в темное нутро, жалуется на что-то таинственным языком, понять и осознать который не дано, а можно лишь остро чувствовать, замирая в потаенном восторге. Мягкие звуки этого напева, откатываясь от окон и стен, словно ощупывали душу, затрагивая в ней особые струны, звучащие неуловимыми на слух пронзительными отголосками, заставляющими трепетать каждую клеточку тела.
Оборвалось это проникновенное звучание так же, как и началось, – враз. Генрих Иванович деловито, не торопясь, спрятал скрипку и смычок в футляр, тоненько дзинькнул ключом и повернулся к доске. Тишина еще с минуту устаивалась в классе, а потом зашелестели шепотки, но топота не последовало.
– Полонез, – тихо выдохнул Хелик, блестя глазами, и отвернулся.
А я подумал, все еще цепенея душой, что учитель все же заметил меня за палисадником, и возможно, тогда пришло ему светлое решение о том, как покорить класс. Так это или иначе, но с тех пор никто не топал на уроках у Немца, а мне иногда нет-нет да вспоминалась та хватающая за сердце мелодия, которую открыл для нас Генрих Иванович.
5
Посыпались холодные и нудные дожди, расквасили проселок. И хотя домой тянуло с сердечной болью, я решил переждать непогоду в Иконникове, жалея новые сапоги и заведомо зная во что они могут превратиться за те пару часов, пока придется месить грязь до родной деревни. Запас картошки и пшена позволял мне жить хотя и постно, но не голодно, а книжки отвлекали, уводя меня далеко-далеко от простуженных сквозняками улиц, от почерневших в мокроте кособоких изб, унылой пестроты далей. Но нет-нет да и мелькали в расплывчатом видении родные лица, милые сердцу места. Представлялось, сколь там, на озерных закраинах, теперь пролетной утки, взматеревшей, откормившейся, суп из которой подпитал бы меня, намученного тренировками и учебой! Сколько куропаток и косачей в оголенных лесах, коих добыть проще – по суху, без лодки и особо крепкой обуви! И знал я, что удача была бы в тех охотах. Но взгляд поднимался от книги на окно, в которое колотился дождь, растекаясь рваными струями по стеклам, и мысли уплывали в совсем иной мир, созданный воображением из ниточек слов, кружевами завязанных на книжных страницах. В этом мире я смеялся и плакал, умирал и воскресал, наслаждался дивной природой, чудесами ошеломляющих открытий, пылал тайнами жаркой любви… И не было ничего дороже книг в те гнетущие, задавленные темнотой вечера.
Так же незаметно, обыденно, в книжной купели, прошел и мой день рождения – семнадцатый год потянулся по жизненной дорожке, хотя прихода его я не почувствовал ни физически, ни духовно…
В это глухое ненастье к хозяйке стала приходить ее подруга Нина, работающая не то счетоводом, не то бухгалтером на маслозаводе, лет двадцати блондинка. Она жила на соседней, через огороды, улице с пожилой матерью, сторожившей какие-то склады, и коротать дома тягучие вечера Нине было невмоготу.
Кое-как угомонив ребятишек, Вера садилась с Ниной за стол, и начиналась ворожба на картах. Я, пока горел свет, устраивался поближе к столу с книжкой и утопал в чтении, лишь изредка улавливая приглушенный говор женщин. Иногда они затягивали меня на игру в дурака. Лишь из уважения к хозяйке я составлял им компанию. Но долго эти наши вечерние бдения не тянулись – свет вырубали за час до полуночи, а наша компания распадалась еще раньше – плата за электричество была весомой. Да и вставать всем надо было рано: мне в школу, им на работу.
Но в тот субботний вечер хозяйка принесла из кладовки керосиновую лампу, обиходила ее, заправила фитилем и керосином.
– Будем до упора резаться, – весело пояснила она, – завтра выходной.
Нина, хохотунья и острословка, пришла нарядная, с брезентовой сумкой-кошелкой. Они долго шушукались на кухне, что-то там готовили. Я, раздувая ноздри, улавливал это по резкому запаху поджаренного лука и глотал слюну. Мой ужин из картофельного супчика с пшенной крупой да ломтем зачерствевшего домашнего хлеба, еще оставшегося от той буханочки, что испекла мне на неделю матушка, я смолотил, и эти запахи отвлекали от емкого тома «Войны и мира».
– Леня-я, – позвала хозяйка, – у Нины сегодня день рождения, иди отметим.
Приглашения этого я ждал тайно, как бы вскользь, глубиной души, стараясь не трогать, не обкатывать его в сознании, надеясь на добропорядочность женщин. То, что они готовят какой-то особый ужин, я догадался сразу, как только потекли из кухни аппетитные запахи, которые ощутить можно было лишь в райцентровской «чайной», куда изредка заходил я полюбопытствовать. Даже Толик со Светкой раза два выныривали из своей комнатенки, откуда побаивались появляться, после того как мать, накормив их, укладывала спать – скора на руку была Вера, подзатыльник или «подзадник» схлопотать от нее было делом обычным. Что-то унесла она им в темноту спальни, и больше кудлатые их головы не высовывались из-за двери.
Ломаться я не стал, считая это не достойным, и прошел на кухню. Сковородка зажаренной картошки, как после выяснилось на сливочном масле, выписанном Ниной по случаю со склада маслозавода; несколько ломтиков хлеба, тоже из трудового пайка; и ровно распределенные по чашке какие-то рыбные консервы. Посредине стола красовалась необычно яркой этикеткой бутылка вина – непозволительная роскошь по тем временам.
– Ну, ухаживай за дамами, кавалер. – Нина подвинула ко мне бутылку, и я, не зная, что с ней делать, моргал растерянно, чувствуя, как горячеет лицо.
– Что ты, Нина, конфузишь парня, – поняла мое состояние хозяйка. – Он эту бутылку впервые видит…
Как-то раза два дед плескал мне пяток глотков жгучей водки на какие-то праздники, и я помнил отвратный ее запах и вкус, но вина пробовать не приходилось. Да и не продавали его в нашем сельмаге, и фигуристая бутылка меня озадачила.
– Пусть учится, – настаивала Нина, – потом будет чем похвалиться перед девчонками.
Я поднял бутылку. Вес у нее был ощутимый. Толстое почти непрозрачное стекло прятало цвет темнеющей в ней жидкости. Горлышко было укупорено плотной пробкой. Я надавил на нее большим пальцем – никакого сдвига.
– Помню до войны такие бутылки штопором открывали, – подсказала Вера, – да где его теперь взять. Задала ты, Нина, задачу. – В ее светлых, с трудноопределимым цветом глазах я не уловил хитринки и, поняв, что штопор – это какое-то приспособление, спросил:
– Что он из себя представляет?
– Маленький буравчик…
У деда в столярном ящике был бурав, которым он высверливал отверстия в деревянных брусках, мастеря санки или собирая воротца для калитки, и прикинуть его уменьшенную во много раз форму было просто.
– Если высверливать, то крошек полно будет, – все же не понял я действие штопора, вертя бутылку.
Вера пожала сухими плечами.
– Вроде не было.
Нина все это время тянула губы в улыбке, лучась глазами и помалкивая.
– Сейчас. – Я выскользнул из-за стола и метнулся в темноту комнаты, к своему углу. Взяв школьную ручку из жестяной трубки, я вернулся и, поставив бутылку на табурет, продавил пробку внутрь.
Темно розовым родничком полилась игристая жидкость в кружки, пахнув тонким ароматом. И я, в предчувствии благотворности неведомого вкуса, с горделивым показом своей взрослости, плеснул и себе приличную порцию вина.
– Поздравляю тебя, Нина, с днем рождения, – потянулась Вера к кружке соседки, – желаю найти хорошего жениха и завести семью…
И потек наш маленький пир в полутемной кухонке полутемного дома, окруженного мраком, сырым дыханием нахолодевшей земли, простуженными ветрами постройками, иззябшими, отмытыми до каждой трещинки в коре тополями; движимый светлыми мыслями, переплетом бойких речей, неясными чувствами, уносящими душу в небытие, в неосознанные и неощутимые дали грез, бездонность воображения. Волшебство вина вымыло горечь бытия, сняло с сердца тяжесть хлопот, растворила убогость реальности и осветлило надежду, робкой нищенкой таившуюся в уголках души.
Совсем иными я увидел и Веру, и Нину, до дрожи поняв, что они еще очень молоды и красивы. Почти всегда печальное и хмуроватое лицо Веры посветлело до румянца во все щеки, в темных с прищуром глазах открылись зеленоватые глубины, излучающие трепетные отсветы керосиновой лампы, тонкие, почти плоские губы, порозовели, вздрагивая в легкой улыбке, голос помягчел. А Нина и вовсе завеселела: головка ее в навитых кудряшках будто плавала в забавных движениях, хрусталики глаз затянули в свои тайники искорки света, зрачки налились чуть ли не янтарным сиянием, излучая какое-то особое тепло, небольшой, почти округлый рот, в валиках широко вывернутых губ полуоткрывался, сверкая удивительно белыми, один к одному, ровными зубами, и говор ее, лишь изредка прерывающийся, тонко оплетал нас чистым звоном радостных слов. Да и меня потянуло в упоительное состояние. Еще недавние мысли, нет-нет да и метущие льдинки тревог в душу, бесследно растаяли под наплывом теплых, услаждающих чувств. Все мне казалось милым: и Вера, с ее умной рассудительностью, быстрыми движениями рук и тела, большеватой головой в короткой стрижке; и Нина, нарядно-игривая, кокетливая, изящная; и полутемная, простая до убогости, кухня…
Легкая наша беседа вскоре поднялась до горячего разговорного перехлеста, а дальше больше, вылилась в шутки-прибаутки и частушки.
Вера схватила меня за руки и потянула из-за стола, глухо притопывая пятками о доски пола, и я, поддаваясь веселому порыву, едва не свалив табуретку, не раздумывая, не осмысливая этого своего поступка, вышмыгнул на свободный пятачок между столом и стенкой и себе задрыгал ногами, хотя и неумело, но стараясь подражать плясунье, что-то вспоминая из того, что виделось и пробовалось в деревне, на вечерках.
Пошла плясать, Дома нечего кусать, Сухари да корки, На ногах опорки…Запела Вера, высоко выкидываясь телом и дробно перебирая ногами.
Сорвалась со стула и Нина и, гибко качаясь, себе четко засверкала шелковыми чулками в такт частушки и тоже запела:
Где мои семнадцать лет, Где моя тужурочка, Где мои три ухажера: Петя, Ваня, Шурочка?Вера охватила меня за плечи, закружила с притопом:
Пошла плясать, Весело запела, А суперница моя Косо поглядела. Нина как бы в ответ: Старая курица С петухом балуется. Молодая квохчет, Никто не потопчет. И пошло, и понеслось…И откуда она пришла – эта безудержная радость в столь хмурый вечер поздней осени, в далеко не благостное время, в скудное бытие? То ли выскользнуло из-под всей этой неспокойно-тревожной, бедно-нищенской жизни, то ли молодость наша полыхнула зоревой зарницей, то ли надежды на лучшее засветились в неуправляемых тайниках подсонания?
Доплясавшись до одышки, до ошаления, почти враз свалились мы на свои места, затихли, пытливо поглядывая друг на друга. И как-то померкла эта неистовая радость. Что-то иное, ей в противовес, потянули за собой воспоминания. Вера низковато пригнулась к столу и запела:
Позарастали стежки-дорожки, Где проходили милого ножки…И уже иные, знобящие чувства обволакивали разгоряченное тело, гасили сполохи сознания. Я изводился в бессильной жалости к этим молодым женщинам, так жестоко обделенных судьбой, сжигал себя воображаемой нереальностью, представляя их совсем в ином мире, в ином бытие, с мужьями, детьми, в великолепии…
Мало-помалу улеглись песни и разговоры, женщины взялись за карты, за ворожбу. И почему-то вскоре затеялись россказни про колдовство, духов, особые случаи, и запротивилось во мне что-то этим выдумкам, захрабрился я, заплясал словами в хвастовстве.
Неодобрительно глядела на меня Вера, а Нина вдруг предложила:
– Если ты ни во что не веришь и такой храбрый, сходи сейчас в баню, что на огороде, между вашим и нашим двором. Я, когда мимо ее пробегаю по тропинке, аж морозит, и шумит там что-то…
Баня эта была Кочергиных, вместе с домом до войны поставлена, и по субботам Вера ее топила, парилась, отмывала угольную пыль и ребятишек обихаживала. И Нина с матерью на долевых началах пользовались этой баней. Я как-то помогал Вере носить туда воду и сушняк на растопку. Но сейчас, ночью, в самую что ни на есть глухоту идти туда знобко. А марку надо было держать: похвастался – отступать некуда.
– А чтобы ты не соврал, зажги спичку и в окно нам посвети. Окно как раз в эту сторону. Мы с Верой на улице постоим.
– Да зря ты затеяла это, – Вера махнула рукой, – ну переборщил немного парень, что из этого? Он еще не дозрел до мужика, простить можно.
– Нет, я пойду! – заиграло во мне самолюбие. – Плевал я на духов!..
Темень шибанула в глаза плотной завесой, опахнула лицо холодным напористым ветром. Под сапогами скользнул ледок. Некоторое время я приглядывался, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в этой густой черноте, но, кроме мелкого звездного бисера над головой, да едва обозначенного рваной линией карниза крыши, впечатанного в эту искристую россыпь, ничего не увидел и пошел наугад, ориентируясь по памяти, и наткнулся на дощатый забор задника двора, поймал взглядом едва заметную черту его гребня, и по нему определился с калиткой.
На задворках ветер хлестанул с такой силой, что я едва удержался на ногах, елозя подошвами сапог по стылой, схваченной морозцем земле, и показалось, что то тепло, та светлая радость, те упоительные ощущения, мысли и чувства выветрились из моей груди вместе с душой. Пусто там стало, тревожно-тоскливо, неуютно, как в пустой, нежилой комнате, прошитой сквозняками. Зато четко, с предельной ясностью мыслей, строгим анализом действий, заработало сознание, противясь этой моей хвастливой выходке, и не малое усилие мне пришлось сделать над собой, чтобы не повернуть назад, представив, какими глазами посмотрят на меня женщины, вероятно, уже собравшиеся и вышедшие на крыльцо. Уступить благоразумию, извиниться за свою горячность для меня равнялось большим падением, чем страх перед таинственной пустотой, стоявшей на отшибе бани, и я шел, скользя по лункам, оставшимся на голом огороде от выкопанной картошки, то и дело теряя невидимую тропинку, проложенную к бане по меже, разделяющей хозяйский и соседский огороды.
Глаза, мало-помалу обвыкшие в этой сажевой черноте, уловили едва проступающий силуэт бани, и сердце зачастило, напряглось дыхание. А что, если все то, о чем поговаривают люди, действительно существует? Что тогда? Представилось, как нечто неуловимое станет хватать меня со всех сторон, а возможно, сразу вопьется в шею, горло, и по спине судорогой скользнул холодок. Но и другое нечто, неощутимо – упрямое, неосознанное толкало меня вперед, и уже на подходе к темной сутулой бане мне показалось, что совсем близко, сзади меня, кто-то тяжеловато дышит или сопит. Но шею будто скобой скрепили – не оглянуться. Спина жестко застыла, и у самых дверей баньки, к которым наклонно спускалась тропинка, я едва нашел силы остановиться. Вроде бы с неким шумом в голове порхнули из напряженного сознания жуткие мысли, неотвратная обреченность прояснила мозг, обострила восприятие. Я не только различил дощатые двери и ручку на них, но и почувствовал запах гари, сухого березового листа, влаги и даже мыла, и до каждой клеточки ощутил свое напряженное тело. Сапоги заскользили вниз, к самым дверям, и снова почудилось, что кто-то легонько подтолкнул меня к ним с тяжеловатым печальным вздохом, и почти лбом ткнувшись в шершавые доски, я рванул на себя ручку, словно бросаясь в омут. Так сжалось сердце и перехватило дух.
Еще бо́льшая темень всосала меня в сухое нутро бани, и закачался перед глазами маленький, едва приметный квадратик окошечка. Шушукающие звуки вплелись в тонкий звон в моих ушах, осязаемо заколыхался застоялый воздух, ощупывая лицо, шею… Под шапкой стыло колыхнулись волосы. Вот сейчас! Вот они – приведения! Тонко звякнул жестяной таз: то ли от моего нечаянного прикосновения, то ли отчего-то еще, непонятного. Зашелестел листьями старый, не совсем обтрепанный веник на полке, жутковато кто-то снова вздохнул возле каменки. Рука моя, словно ожидая чьего-то прикосновения, потянулась к окошку, на котором должны были быть спички. Мои действия и мысли были совершенно безотчетны, задавленные потайной жутью. Но шли мгновения, а меня никто не терзал, не тянул в черноту сливной ямы под полком или за каменку, не жег горло мертвой хваткой. Лишь сердце мое корючилось в паническом трепете, испытывая тяжкие муки. Шебаркнули в коробке спички, и оторопь, сковавшая все мое тело, поплыла вниз, в пропахший сыростью пол, и едва я ощутил запахи, как будто разомкнулось что-то в груди. Душа моя стряхнула вцепившейся в нее страх, и тепло стало вливаться в меня от шеи до пят, и, достав спичку, я чиркнул ею о коробок. Но пламя, вспыхнув маленьким взрывом, неудержалось, будто задуваемое кем-то в стоячем воздухе, и какие-то тени поползли по закопченным стенам, и снова спина похолодела от ощущения того, что кто-то стоит сзади, у закрытых дверей, и сто́ит повернуться, как вся эта прятавшаяся по углам и стенам жуть навалится на меня, высасывая плоть. Но живительные силы в душе набирали мощь, гасили пронзительность навязчивых видений, и вторая спичка загорелась устойчивее. Слабый ее огонек осветил пустое, спящее нутро бани: веник на полке, жестяной таз в углу, на скамейке, угловатые кирпичи на каменке… К самому окошку потянул я этот трепет тепла и света, и когда он потух, резко развернулся к двери. Ощущение того, что меня хватают за полы тужурки, рукава было до того сильным, что я готов был поверить в ту реальность, так же как в шумы и вздохи за спиной.
С силой я захлопнул за собой двери, в каком-то беспамятстве вымахнул по скользскому уклону наверх, на бугорок межи, по которой тянулась тропинка, и хватанув широко открытым ртом пробивного осеннего ветра, отрезвел до глубокой ясности, устало передвигая ноги по голой и скользкой тропинке. Легко, светло и умиротворенно устоялась душа, с мягким спокойствием билось сердце, и тело неслось с привычной легкостью. Но не копилась во мне ни жажда хвастовства, ни чувство гордости, ни нечто иное, подобное им. Наоборот, я понял, что пережил что-то особенное, перешагнул тот психологический рубеж, который иному человеку не удается перейти в течение всей жизни.
– Видели, видели, – встретила меня Нина восхищенным взглядом. – Молодец! Я бы, наверно, умерла…
Они уже сидели за столом и потягивали из кружек горячий чай.
– На, погрейся, да проводи меня до дома. У вас приткнуться не на что, а одна я боюсь, поздно…
Вера глянула на нее с неодобрением и покачала головой. А я, потягивая сладкий чай, вкус которого давным-давно не ощущал, не обратил особого внимания ни на просьбу Нины, ни на укоризну хозяйки. Подумалось, велико ли дело снова пройтись тем же путем через огород до задворок дома молодой женщины, так щедро угостившей нас, да еще в день ее рождения – интригующе и нужно. Лишь когда я стал одеваться, хозяйка с холодностью в голосе спросила:
– Ночевать-то вернешься, а то на задвижку закроюсь?
Неловко мне стало, тягость стыда накатилась, и едва сдерживая голос, я ответил:
– Куда я денусь. – Но намек был понят и за ним потянулись несуразные мысли, едкая горечь неловкости. Будто меня уличили во лжи или того хуже. Но хода назад не было: слова сказаны, дело затеяно.
– Это как получится, – зубоскалила Нина, обуваясь, то и дело хватая меня за руку, чтобы удержать равновесие. – Надо же когда-то и парню обкатываться с нашим полом, а то закиснет.
– Зелен еще, – гнала недовольство Вера, – не дозрел.
– А это мы проверим, – дурачилась Нина. – На семнадцать перевалило – считай полмужика…
Эта их полусерьезная, полушутливая переговорка травила душу, жгла постыдные мысли. Молча вышмыгнул я за дверь в ту, уже знакомую ветряную темень и остановился на крыльце, дожидаясь Нину.
Веселый ее голос прозвенел в полуоткрытой двери, и вот она, пахнущая чудными духами, игривая и хваткая. Она сразу сунулась мне под руку.
– Ой, как темно! Глаз коли. Как же мы пойдем?
Придерживая Нину под бок, я нащупал сапогом ступеньки и сошел на землю. Нина, цепляясь за меня, потянулась следом. Снова доски забора, калитка, скользкая тропа, и все это время Нина почти без остановки балагурила о том о сем, то расспрашивая меня, то рассказывая о себе, прячась от ветра за моим плечом и почти касаясь его головой. И от мягкого веселого голоса молодой женщины, от ее доверчивой близости сам себе я казался большим, повзрослевшим, серьезным и готов был защитить Нину от кого угодно. Чувство превосходства, благодарности за признание этого превосходства, вливало в меня такую силу, такую уверенность, что сломать ее могло лишь нечто невообразимое. Впервые так близко, грея мою руку своей рукой, шла подле меня красивая женщина, увидевшая во мне надежную защиту, впервые признавшая не мальчика-подростка, а повзрослевшего парня, способного хоть как-то угодить женщине. И от этих мыслей я будто расширялся во все стороны, чувствуя тугую упругость мышц. Я ощущал это всем своим молодым и здоровым телом, и теперь не страшны мне были доморощенные хулиганы, что когда-то пытались покуражиться над деревенским пацаном или подобные им. По уверению своего добровольного тренера, теперь я мог одним ударом в челюсть свалить любого человека. Да и кое-какую тактику кулачного боя я неплохо освоил. Иногда даже Виктор проигрывал мне в нашем самодеятельном ринге и пророчил мне заметное боксерское будущее.
Из всего вала Нининых слов я понял, что она работает на маслозаводе бухгалтером, закончила сельхозтехникум, была замужем за однокурсником в городе, но семьи не получилось, что живет с матерью, изредка ходит в кино и на танцы в районный клуб, но подходящего ухажера подцепить не удается…
За тем разговором, в густой темноте, смазывающей все воедино и еле-еле отдающей нам свои владения, в зябком поеживании, проплыла мимо сутулая баня, и мы жались друг к другу, прячась от ветра, пока я ловил запахи духов и одежды, теплого тела в опьяняющем волнении, близко затемнел гребнем задник Нининой ограды, и я остановился, загораживаясь от сквозняка.
– Пошли, пошли! – потянула меня Нина. – У нас замок капризный – поможешь открыть. – Она уверенно нашла калитку на задворки и так же уверенно протянула меня за руку через ограду непробивной темности, в которой я ничего не разглядел, ощущая в своей ладони горячую ладонь Нины.
– Вот сюда, сюда, – командовала она. – Тут крыльцо, не оступись.
И почему-то подчиняясь ей, чувствуя какую-то ее превосходящую волю, я делал все так, как она говорила.
Замок открылся сразу же, но удивление мое по этому поводу промелькнуло мимолетно, без задержки в сознании – не тот момент был.
– Иди погрейся, – вела меня Нина дальше, через темные, едва бледнеющие белеными стенками, сенцы, – ветер-то пробивной, а ты в своей куртенке. Небось продрог. Я сейчас чайку согрею, с сахаром.
Сахаром меня жизнь не баловала. Тот ароматный чай у Веры тоже принесла Нина, и этот ее спокойный расслабляющий голос, и теплота уютного дома, протопленного добротно, и предвкушение сладкого чаепития тянули меня в темный простор открывшейся комнаты.
Нина раздевалась, шуршала одеждой, обдавала пространство прихожей духами, приятным полутихим говорком.
– Куда тычешься, смешной, – ловила она мою руку. – Вот здесь вешалка…
И наши пальцы, натыкаясь друг на друга, обжигались во взаимной близости и что-то новое, неосязаемое установилось между мной и Ниной, какая-то особая, одухотворенная связь, которую ни осмыслить, ни ощутить не дано, а лишь уловить необъяснимым шестым или иным чувством.
Пока я стягивал сапоги, Нина нырнула в темноту комнаты и зажгла там керосиновую лампу. Было часа два-три ночи, и свет в это время не горел нигде в райцентре. По крайней мере, жилые улицы тонули в глухоте мрака.
– Иди сюда, на диван, – пригласила Нина, – я сейчас.
В слабом свете керосиновой лампы я разглядел уютную комнатку, которая показалась мне богатой, хотя там, кроме стола и комода, красовался расписной спинкой лишь диван, за которым на стене висел не то ковер, не то гобелен, изображающий тигра в джунглях. Ничего иного или большего я не видел, но решил, что живет Нина безбедно. Несколько фотографий на стене в рамке, плотные шторины и все. Но по тому времени это было все же что-то. Верина изба не шла ни в какое сравнение с этой опрятной квартирой, казалось, сидел бы и сидел вот так, расслабившись, на мягком диване, пока душа утихомиривалась, отдыхала.
И пока я блаженствовал в полумраке комнаты, Нина выпорхнула откуда-то уже переодетая, голоногая, в затянутом узким пояском на тонкой талии халатике. Невольно, без всяких сознательных оценок, как бы само собой, я отметил плавность изгиба ее полноватых ног, но это не вызвало ни каких-то новых мыслей, ни чувств: разглядеть – разглядел, как форму, как модель, что ли. Не помнилось, чтобы когда-то я вот так просто разглядывал живой рисунок оголенных ног молодой женщины. Скорее всего, это было впервые. Наши девчонки бегали летом без чулок, но то дети, с еще прямыми ногами-палками. Взрослые же в деревне даже летом носили разные чулки: в крестьянстве с голыми ногами не шибко поработаешь.
В прорезе полураспахнутого воротника халата темнел таинственный желобок. Он был знаком: приходилось хулиганить, запускали мы свои клешни девчонкам за пазуху и нередко тискали мячики поднимавшихся грудей и шалели от непонятного восторга и тонкого девчоночьего визга, хотя и зачастую успевали схлопотать оплеуху.
– Керогаз зажгла, – Нина нырнула ко мне на диван, – сейчас чай будет.
Я посторонился, чуть отодвинувшись, уловив вместе с запахами духов тонкий аромат ее тела и волос.
– Не укушу, – она рассмеялась, белея красивыми зубами, – не бойся.
– Я и не боюсь, – глуховато прозвучал мой голос, а тело начало заплывать мелкой дрожью.
– Да ты совсем дикий. – Кошачьи глаза Нины показались мне необычайно огромными, будто втягивающими в себя эту мою телесную дрожь, мою волю, мой дух. И в этот момент что-то где-то зашкварчело, закипело.
– Ой, чай побежал! – Нина вскочила, вильнув округлым задом, и исчезла в проеме темных кухонных дверей.
Идти бы домой – вязались слабые мысли, но что-то неподвластное ни сознанию, ни телу как будто притягивало меня к этому дивану, к этому теплу уютной комнатенки, ко всему, что приятно обласкивало душу.
– Иди сюда, Леня, – услышал я голос Нины и поднялся и пошел на зов, в кухню.
Чай горячий, сладкий вовсе расслабил, потянул в разнеженную вялость. Пили мы его почти молча, поглядывая друг на друга поблескивающими в полумраке глазами. Лишь Нина нет-нет да и что-нибудь спрашивала, а я односложно отвечал, представляя, как там, на улице, теперь ветряно и холодно, дико и пустынно, и как мне идти в промороженную стынь после столь благостного расслабления.
– Может, останешься? – словно угадала мои мысли Нина. – Места на диване хватит. Какая надобность назад по темну и холоду тащиться. Завтра все равно воскресенье. Мать у меня до вечера дежурит – сутки…
Слова ее легкими камешками падали в душу, разгоняя в ней волны беспокойных чувств, поднимающих путаницу мыслей и желаний. Остро представился мне мой зябкий угол на полу полупустой комнаты, жестковатый матрас, тонкое одеяло, вялая подушка, нудное дребезжание одного из стекол рамы… Но что подумает хозяйка? Стыда не оберешься…
– Верка поймет, не думай, – опять будто уловила мои мысли Нина, – да и скажу я ей пару ласковых. Надо же себя жалеть…
Под ее увещевание все больше и больше таяла боязнь стыдливой неблаговидности предстоящего поступка, дальше и дальше отлетала тревога его возможных последствий, уступая духу телесного довольства: никогда еще не было мне так благостно и так приютно. Никаких упоительных мыслей, предположений, бредового охмеления, связанных с тем, что я останусь один на один с молодой женщиной, не было, не бередились сокровенные тайны плоти, не бродила она в ключах недоспелого вина, лишь изредка что-то высверкивалось в сознании, не возгораясь и не оставляя следов.
В той же разнеженной теплом темноте я разделся до исподнего белья: кальсон и нижней рубашки, и скользнул на диван под какое-то одеяло, принесенное Ниной из спальни. Сердечко еще выстукивало тревожную ритмику, возбуждаемую необычностью свершившегося, но уже угасали реальные образы, расплывались в иных, налетных из небытия видениях, утекали привычные ощущения – тело будто растворялось в других, неземных измерениях. Но что-то вернуло меня из этого беспредельного провала. Чье-то горячее прикосновение ожгло мое лицо, губы… Ослепительным всплеском полыхнуло сознание. Запах!..Тонкий запах духов и женского тела сразу остро встряхнул память. Нина!!!
– Ты чего? Ты чего?.. – не то зашептал, не то закричал я, взбрыкиваясь под гибким ее телом и пытаясь отпихнуться от обжигающих ласк. Но ответа не последовало. Сильные руки женщины оплетали меня крепче хулиганских, дурманом исходящие груди щекотали твердыми сосками шею и плечи… Все еще не веря в явь происходящего, я задыхался под ее горячим трепетом, в пьянящем перехвате дыхания, в пронзительном напряжении всего тела, которое билось в лихорадочном ознобе, загораясь жарким внутренним огнем, выжигающим не только все мое существо, но и сознание.
Силы все же были на моей стороне, и я каким-то образом выскользнул наверх, и, пытаясь освободиться от крепкого объятия, запахал носом по налитым упругостью грудям, округло-объемным, с плотными головками сосков, и увяз в ложбинке между ними, почувствовав, как жаркая рука нырнула в прореху кальсон, оплетая пальцами то, до чего я сам сторожился лишний раз браться. Будто углей сыпанули мне между ног. Судорога жулькнула по животу, наливая свинцовой тяжестью мою плоть. И она, эта воспарившая плоть, вроде потянула меня всего в единый фокус исступляющего сладострастия, сжимая все тело в плотном потяге. Будто жгучей крапивой обожгло меня изнутри и снаружи, полыхнуло гибельным светом в глазах, до затылка. Стон разжал мои накрепко стиснутые зубы, и размяк я в оплете ног и рук, чувствуя, как что-то плоско-упругое подрагивает подо мной в судорожных пробоях.
Стыд, не менее жгучий, чем только что испытанный ожег, залил мою душу безысходной горечью, какой-то особой тоской и жалостью. Опозоренная моя совесть до того взыграла, что я быстро скатился с дивана и с дрожью не только в руках, но и во всем теле начал напяливать штаны, рубашку, утопая в раскаяньи, остром упреке самому себе…
В темноте я не видел Нины, а лишь бесформенные складки одеяла серели на диване, неподвижные и немые, будто там, под ними, никого и не было, не горело только что исступляющим дурманом живое тело, не исходило сжигающим жаром, не билось в муках восторга. А может, это все приснилось мне от хмельной усталости и несусветной канители? Но откуда тогда эта сладкая дрожь, все еще сотрясающая все мое нутро, эти душевные терзания? Но тишина, темень, ни вздоха, ни слова?..
Почти бессознательно нашел я и сапоги, и куртку, и шапку и, словно получив доброго пинка под зад, вынырнул за двери, на крыльцо. Будто мягкой дубинкой саданул по хребту рванувший из-за угла ветер и погнал меня огородом внаклонку, враскаряку, обратно, к той же пугающей своей сутулостью баньке, к хозяйской ограде. Темнота вроде посерела, лучше стало видно разводы изгородей, дворов, крыш… Но ветер пронизывал легкую одежонку, и уже не зябко было, а холодно. Редкие снежинки запорхали перед глазами.
Как не сторожился я, открывая незапертые двери хозяйской избы, как не старался бесшумно раздеться, Вера явственно затопала где-то босыми ногами. Щелкнул выключатель, и свет залил прихожую. Значит, было уже утро – свет давали с шести часов.
– Натыркался? – недовольным голосом встретила мой покорный раскаявшийся взгляд Вера. – Надо предупреждать. Я всю ночь не спала – ушел и с концом, ни слуху ни духу. А вдруг что случилось?..
Слова ее корежили душу. Я стоял, понурясь, признавая ее правоту, но не мог словить нужных слов, чтобы ответить хозяйке. Тут еще Светка вынырнула кудлатой головкой из-за занавески, выпяливаясь на меня пуговками глаз.
– А ну-ка иди спать! – прикрикнула на нее Вера…
И пока она отвлекалась, я бочком-бочком проскользнул в свою комнату и скукожился на матрасике под холодным одеяльцем с таким пакостным состоянием души, что любые светлые мысли не в состоянии были пробить черноту этого переживания и гасли, как гаснут яркие искры костра в ночном небе.
– И та тоже связалась, – все изливала свое недовольство Вера, – дай придет – я ее отчитаю…
И откуда у нее такая веская уверенность в своих подозрениях? Может, я сам же своим видом и поведением все выдал?..
Сон быстро стер все мои покаянные мысли и чувства и унес душу в иной, осветленный мир.
* * *
Нина пришла поздним утром, когда я еще спал, а проснувшись, долго лежал, прислушиваясь к воркованию женщин на кухне. Голоса их были ровные, добрые, без ноток каких-либо недовольств друг другом. И я лежал, стыдясь, не представляя, как показываться им на глаза. Но все разрядилось само собой: Вера пришла будить меня, пригласила к столу. За ее спиной я увидел Нину, как ни в чем не бывало спокойную, все с теми же веселыми, с кошачьей желтизной, золотистыми глазами, в кудряшках и новом платье.
Но за стол я с ними не сел, сославшись на то, что опаздываю на тренировку, и ушел к Виктору без завтрака…
Опять колошматили мы друг друга в меру доступного, тягались на перекладине, на руках, толкали гирю, и было нам жарко до мокроты в холодном сарайчике, и к концу тренировки я отяжелел, замяк ногами, скис до головокружения. Виктор, заметив мoe состояние, спросил:
– Чтой-то ты сегодня квелый? И резкость не та, и сила. Не выспался?
Я не сказал ему про свои ночные хождения, а лишь пожал плечами. И постылое чувство голода отвратно сжало желудок, выдавливая из него последние соки, и я бы с трудом добрался до дома, если бы тетя Римма в честь воскресенья не угостила меня супом и кашей…
Ни Веры, ни Нины в доме не было – ушли они в какое-то новое, особо ажиотажное, кино, как сообщил Толик, куда школьникам ход был заказан, и я сунулся в свой угол и заснул непробивным сном.
* * *
Еще и в школе я чувствовал себя вяловато, в непонятной печали, но через пару дней прошли мои покаяния перед самим собой, вновь потянуло меня в тот уют, в тот сердечный и телесный трепет, и очутился я поздним вечером у крыльца Нининого дома. И завязала меня та веревочка ни на одну и ни на две ночи, а ранний снег, так круто осевший на волглую землю, отрезал путь в родную деревню до установления санной дороги. И потекло суматошное, полубредовое время, в пыле и стыде, в блаженном угаре и крученой виноватости. Время, когда днями я казнил себя в угрызениях совести, клялся в том, что это последний раз, а вечерами не находил места ни в доме, ни на улице и несся как шальной к заветному крыльцу, в умопомрачительные объятья.
Недовольна была моими хождениями Вера, недоволен Виктор, хотя и не знавший про них, но заметивший мое ослабление в тренировках. Недовольны стали и некоторые учителя, когда отметки пошатнулись на понижение. И в один из вечеров Вера сказала мне глуховатым голосом:
– Рано тебе, Леня, бабам подолы задирать. Испортишь себя – потом жалеть будешь. Ей, кобыле, двадцать один год – только подавай, а ты еще не дозрел…
Простые ее слова запали в душу – нет-нет да и натягивались думки о добром предостережении. Кто знает, а вдруг действительно моему растущему организму это мужевание вредно? На что-то повлияет, что-то изменит? Недаром колотун все жилки треплет и сполохи сжигают разум. Не съест ли все это мои плотские силы еще не окрепшие, как следует, схожие с молодой травой, которая не редко сгорает под палящим солнцем. Вдруг еще и в школе узнают, дома?.. Мысли эти давили и гнули, и неизвестно, в какую бы сторону я свалился в своих поступках, если бы не помешали каникулы, короткие, но все в иных охватах: дома, с родными, с друзьями, с милыми сердцу привычками.
6
В праздники сошлись вечерки в доме Лизы Клочковой. Родители ее ушли гостить в соседнюю деревню, а двое братьев-подростков залегли на печке.
Набилось нашей ровни на все лавки. Даже стол вынесли в горницу. Лиза верховодила на правах хозяйки и все мостилась мне на колени по праву игры и при случае. Горячие ее ляжки высластивали дрожь, хотя и не сравнимую с той, что свивала меня в объятиях Нины, но того же ключа, тех же истоков. И никогда до этого не возникали у меня шалые мысли, а тут вдруг поманила взгляд темная горница распахом широких дверей, а в ней представилась перинная кровать с горкой подушек, в которых можно утонуть вдвоем с Лизой после того, как все разойдутся. Но одно дело побаловать с женщиной, а другое – с девушкой. Тут судьбу на кон ставишь, а она не меньше жизни ценится. Об этом и дед говорил. Время, хотя и не старинное, не домостроевское, а все можно заварить такую кашу, что и не расхлебать. Да и как быть с совестью?.. Так что гори не гори, пускай слюну, зыркай глазами, а держи себя в уздечке, засупонься. И отогнал я от себя похотливый морок, но совладать с плотской тягой не мог и весь вечер горел щеками, как маков цвет. И все горели. Но была ли в том причина сродни моей или жаркая духота выкрасила молодые лица, особенно у девчат, угадать было не дано. Во всяком случае, едких шуток по этому поводу не слышалось, а в запале игры многое и не замечалось…
* * *
– Я к ней, а она к тебе, – добродушно улыбался Паша мясистыми губами, когда мы с ним на другой день сидели в его избе-мазанке у верстака.
Паша что-то строгал деловито и делился впечатлениями о вечеринке. Его широкое, грубоватое лицо ничуть не туманилось. Наоборот, оно было светлым и веселым.
– И что она в тебе нашла? На дальний прицел, что ли, метит: выучишься – в начальство выйдешь.
Речь шла о Лизе Клочковой – нравилась она Паше. Какие только узелки не повяжет судьбинушка – лучший друг в соперники метил.
– А ты-то что в ней нашел? – Я понимал, что разговор наш хотя и полушутливый, приятельский, но тем не менее не пустой. За ним многое кроется. Оно если уж и рассудить по-честному, то Лиза в моей душе ничего не имела. Так, по привычке, по гордости, что ли, по самолюбию вязались у нас с нею какие-то полузадушевные отношения, и я ничуть не пожалел бы, если у Паши с ней пошло что-то серьезное.
– Здоровая она, под мой рост, под мою силу. Не то что остальные – свиристелки.
– Ты еще скажи, что под твою шишку, – не удержался я от где-то слышанной подковырки.
Паша осклабился:
– Да уж тебе в том деле не уступлю, видел в бане…
И повело наш разговор по ухабам, по тем щекотливым понятиям, которых мы касались редко, с боязливой осторожностью, с потаенностью в голосе и оглядкой. Но даже в то, казалось бы, доверительное время, подходящую направленность нашего разговора, я не открылся Паше в своей интимной тайне.
* * *
Хотя и закрепчал мороз и пимы новые дед не разрешил надеть, я все же вырвался в ближний лес на зайцев с ружьем, стянув кое-как дратвой старые валенки. И удачно: косого выследил сразу же, начерпав в прорехи снегу. Но на ходу в горячке ноги парили – так что простуды я не боялся.
Дед, обелив зайца, подвесил его тушку в дровнике, под застреху на заморозку.
– Порублю кусками и возьмешь себе в Иконниково, – пекся он обо мне. – Все не пустая картошка на столе. Свою-то живность еще рановато трогать – оттепель может вернутся. А тут добыча…
Дрогнула душа от его слов. Дорогой мой дед! Как мне хотелось обнять его, ощутить эти худоватые плечи, колючие усы, запах табака, увидеть, как в детстве, искристый прищур добрых, все понимающих глаз. Но разве позволительна эта слабость в мои-то года? Разве не крепит мужской дух сердечная сдержанность? Где это видано в крестьянстве, чтобы такие выростки, как я, обнимали своих дедов в ласке? Да и дед к этому не привычен, не поймет моего порыва. Скорее по иным меткам он чувствует мое к нему отношение. А может, я не прав? Может, моего искреннего тепла ему и не хватает?.. Непростые эти мысли колебали мою душу, как ветер былинку, но однозначности ответа я не нашел…
7
Снова пешая дорога, по рыхлому неулежавшемуся снегу первозимья с котомками в руках и за спиной, с грустью в сердце и неотвратимыми думами. И хотя за последнюю пару месяцев жизнь в большом селе, книги и учеба заметно раздвинули мой кругозор, душа к школе не тянулась. Нередко я из прочитанного самостоятельно узнавал больше, чем на уроках. И более-менее сносно учился я скорее из понимания необходимости этого, чем по желанию. Потому и уходить из родной деревни приходилось с немалым душевным усилием, с неизменной печалью и сожалением. Про те свои ночные залеты через огород я старался не думать, изгоняя просверкивающиеся о том мысли созерцанием яркого дня в фиолетовых далях, выбеленных снегом лесных чащоб, редких зверовых набродов по их опушкам, густо-голубого неба в кудреватых облаках… В противлении том, в утехе воспоминаний о проведенных в каникулы днях, отмерил я загогулины десятиверстового проселка. И едва отогрелся, отмяк и отдохнул в своей полупустой, не очень теплой комнате, кувыркаясь на полу в игре с Толиком и Светкой, как пришедшая с работы хозяйка ошарашила меня встряхнувшей сердце новостью:
– Краля-то твоя жениха зацепила, замуж засобиралась, – в голосе ее я почувствовал скрытую радость. – Нашла какого-то недавно переведенного к нам мужика, однорукого. Начальник… – Последнее Вера произнесла не то с ноткой зависти, не то уважения.
А меня стиснула судорожная сила, будто обняла и притянула к полу. Хорошо Светка, забравшись на загорбок, начала гарцевать на моих плечах и голыми пятками тыкать под ребра, a то бы Вера заметила эту мою безвольную скованность. И уже совсем не легко удалось мне шевельнуть потяжелевшим языком:
– Ну и ладно, счастливо, – но как я не старался, не напрягал себя, голос мой все же не прозвучал привычно-равнодушно, и хозяйка, это уловила.
– Да ты не переживай. У тебя еще все впереди. Это нам куковать не перекуковать свои годы, и их вон двое. – Вера отвернулась и пошла в кухню.
Известие это мучило меня дня три. Распаленное воображение выписывало такие картины, что меня от них корежило чуть ли не до ощущения физической боли, а ночами я нередко просыпался и не мигая глядел в пасмурный угол отсутствующим, почти немигающим взглядом. Потом я еще пару дней крепился, перетягивая волю на свою сторону. А к концу недели не устоял, подался в обход, через переулок, на соседнюю улицу, как только накатилось на крыши домов солнышко, с оглядкой, с затаиванием у чьих-то палисадников, будто на воровство или злодейство какое нацелился. В тени, между высокими створками ворот и стенкой дощатого сарая, напротив Нининого дома я и затаился, до конца еще не осознавая своих намерений. Просто стоял и смотрел на затененные какими-то кустами, в распахнутых ставнях, окна и не улавливал сколько-нибудь твердых мыслей. Все они исчезали легкими пушинками на ветру, не оседая и не цепляясь друг за друга. Что-то изредка выскальзывало из-под этого мельтешения, понуждало к смелому движению вперед, в ограду, в дом, но тут же таяло вмиг, не устоявшись…
Захолодило вначале спину, а потом и ноги в сапогах. Хотя и самовязанные шерстяные носки я надел, а к вечеру закрепчало, потянуло стынью из степных далей, вдоль широкой улицы, и неизвестно, до чего бы я достоял в своей схоронке, если бы вдруг не распахнулась калитка. Из нее вышла вначале Нина в цветастом полушалке, длинном пальто с красной лисой, а за ней, притворяя воротца, приземистый, широкий в плечах мужик. Я сразу, еще не замерев в накатном волнении, заметил, что левая рука у него висит как-то твердо, без живинки, и понял, что это протез.
Нина, привычно балагуря и улыбаясь, заглядывая в лицо спутнику, зацепила его под руку, и они пошли в сторону площади, держа шаги в одном ритме.
Взыграло сердечко, ощутимо зачастило упругими толчками, погнало жар в озябшую голову. Задрожали посиневшие на холоде губы, сжались челюсти – и все моментом, неуправляемо, под действием каких-то особых сил. И мне так захотелось увидеть растерянное лицо Нины, ее покаянные глаза, что я, горячея всем телом, махнул в переулок, наперехват. И в лихорадке то ли злорадства, то ли возможной, пусть маленькой, мести понесся смежной улицей до ее перехлеста с очередным проулком. «Посмотрю, что она делать будет, как заюлит…» Мысли, мысли. Обидные, злые, и откуда они только брались… Выскочив за угол кособокого дома, я остановился в запале, дыша какими-то рывками. Так не надрывалась моя грудь даже на тренировках. И гася толчки ненормального дыхания, деревенея всем телом, двинулся я назад, навстречу воркующей парочке. Как на ходулях пер я тротуаром, копя черноту в сердце, неиствуя злыми мыслями, стекленея глазами. Вот они близко. Уже и лица разглядеть можно. У мужика оно широкое с ноздреватым, высоко вздернутым носом, равнодушное, у Нины – милое, ничуть не растерянное. Момент – и они прошли мимо, как пролетели. А меня будто в грудь чем-то саданули. Так она сжалась. Я остановился, хватая ртом стылый воздух, и стоял, пока они не скрылись за одним из домов. Ясно, что я ей не ровня, не устрою ей жизнь, но зачем же вот так, обвально, словно обухом по голове? Могла бы и предупредить…
Медленно, наплывно стал я ощущать особую легкость, будто нечто тяжелое, мучившее меня несколько дней, вдруг скинулось в этот истоптанный людьми снег, в эту стынущую сумеречность глухой улицы, а напористый ветер развеял и пепел этого нечто, и золу моих сгоревших грез.
* * *
– В понедельник в город поеду, военкомат посылает. – Мы, отпрыгавшись в холодном сарайчике, уже промороженном, неуютном, присели на чурках всего на пару минут – большего вряд ли можно было позволить под жесткими сквозняками, распарившись в тренировочных упражнениях.
Комиссию, что ли, буду проходить там. На какое-то особое училище намекают…
Да, кому, как не Виктору, не по годам ловкому и сильному, с крепкой смекалкой, в «особые» прямая дорога? Легкая грусть паутинкой оплела сердце: еще с одним, дорогим мне человеком скоро предстояло расстаться и вряд ли быстро или даже вообще найдется ему замена. Не видно ее ни с какой стороны в ближайшей прикидке.
– А как ты до города будешь добираться? – спросил я совсем не о том, о чем хотелось.
– До станции на каких-нибудь попутных машинах доеду, а там – поездом. – Виктор глядел куда-то в темный угол сарайки. – Ты пока возьмешь перчатки и грушу. Пропускать тренировки нельзя.
Предложение его обрадовало, но не настолько, чтобы снять грусть намечавшейся разлуки.
– Так ты уже насовсем, что ли? – забеспокоился я.
Виктор светло улыбнулся.
– Да нет. Пока предварительно. Но сколько там пробуду – неизвестно…
Смутные воспоминания о городе тронула память, и я притих.
– Ну, – Виктор поднялся, – пойдем в дом, а то простудиться можно…
Глава 3. Честь с молоду
1
Зима пошла в разгул. Заплясала в промороженных проулках поземка, наслаивая сугробы, закружились в снежной кисее налетные метели, подкатили морозы с потрескиванием сдавленных стылостью деревянных построек. За треть часа ходьбы до школы по темным улицам с тонким звоном высушенного стужей воздуха, с резким хрустом сыпучего снега под ногами, холод не только жег лицо, но и прошибал ветхую одежонку. Еще долго, в тепле, острая ломота вгрызалась в мякиши рук и ног, заливая их жаром. И не до беготни было в широком школьном дворе. Ожидая звонка на уроки, ученики все больше толпились вблизи огромной печки, подпирающей потолок своей округлой громадой обтянутой жестью в черной лоснящейся краске. Там, на доске объявлений, на которую я раньше не обращал внимания, в виньетке листка бумаги, раскрашенной цветными карандашами, сообщалось о начале работы кружка рисования и приглашались все желающие. Даже сами по себе цветные карандаши были еще недавно редкостью и радуга их цветов ласкала взор, а уж вежливый зазыв учиться рисованию и вовсе удивил.
Еще с глубокого детства, как только пальцы мои стали удерживать карандаш, тянуло меня к рисованию, и что-то вполне понятное изображал я на бумаге гораздо раньше, чем научился читать. А читал я бегло еще до школы. Потому и повлекло меня в этот кружок, и после уроков, с затаенным дыханием, я пошел в указанный кабинет.
* * *
Худощавый и длиннолицый учитель рисования Павел Евгеньевич Еланский вначале мне не приглянулся. Два или три занятия подряд он ставил на стол деревянный конус с цилиндром и заставлял рисовать. Не грел душу этот пустой неживой рисунок, тянуло попробовать себя в чем-то более сложном и интересном. И все хотелось сказать об этом учителю, но меня опередил один из кружковцев.
Павел Евгеньевич поглядел его рисунок, достал из большой папки кусок картона и сказал:
– Подойдите все к столу со своими рисунками.
Мы потянулись, не понимая, к чему клонит учитель.
– Теперь разложите рядком то, что вы изобразили. – Тут же он перевернул картон и пристроил его сверху. На белой его стороне четко, будто наяву, стояли конус и цилиндр. Мягкие оттенки до того обыгрывали эти предметы, что хотелось их потрогать. – Видите разницу? – Павел Евгеньевич щурился, пытливо поглядывая на нас.
Наши рисунки, вроде бы и точные, и соразмерные, выглядели жалкими поделками в сравнении с истинным мастерством.
– Вот когда у вас так же оживут эти фигуры, тогда и пойдем дальше. А скакать на что-то более сложное, не освоив простое, только во вред делу…
Потом он показал нам некоторые свои этюды, журнальные иллюстрации картин великих художников в цветном исполнении. С затаенным восторгом, в оторопелом изумлении толпились мы вокруг стола, впервые соприкоснувшись с великим дивом искусства. И, вероятнее всего, тогда я понял, насколько высока духовная сила таланта, дарованная человеку Богом, которую несет он людям в превратных муках. И только они – эти муки, перепеленывая человека в житейских немилостях, в отраде сжигающей работы, способны поднять творчество на высоту чародейства – близкого к святости. Тогда задохнулся я от глубины тех преодолений, через которые нужно пройти, чтобы немая живопись заиграла перед людьми изумляющей подлинностью жизни. Но молодо-зелено, не испугался я маячивших трудностей, прирос к кружку, и прежде всего к Павлу Евгеньевичу. И еще больше, когда заметил его некоторые симпатии ко мне. А потянулось это с того, что я начал дольше всех задерживаться на занятиях кружка, стараясь добиваться в заданной работе того предела, на какой был способен, и Павел Евгеньевич, видя мое упорство, стал доверять мне ключи от учебного класса по рисованию. И нередко я возвращался домой уже глубокими вечерами, когда не оставалось прохожих, и лишь освещенные окна сгрудившихся друг к другу домов обозначали размах улиц, их ориентированную даль. Стылый воздух натягивал дымок от топившихся печей, запахи жилья, оград, тлена…
Дольше всех выстаивал Павел Евгеньевич и у моих рисунков, хотя хвалил редко, сдержанно.
– Есть у тебя задатки художника, – как-то с прищуром то одного, то другого глаза разглядывал он мой карандашный набросок, – учиться тебе надо, дальше тянуть эти способности. Глядишь, этак лет через двадцать, – Павел Евгеньевич улыбнулся, – и услышим новое имя в живописи…
Эко он хватил – через двадцать! Конца и края тем годам не видно: где-то они за горизонтом сознания. Есть ли резон тянуть бурлакскую лямку к тем вешкам, которые еще не обозначились даже в мечтах? Хорошо бы сразу, по выросту, заявить о себе. Но подсознательно я понимал, что такого не будет, хотя мой пыл к рисованию от этого ничуть не гас. Даже боксерскую грушу, закрепленную на косяке дверей, я стал колотить с меньшим энтузиазмом, чем раньше, отводя больше времени карандашу и бумаге. Марал я много, а денег на покупку блокнотов для рисования, появившихся в продаже в книжном магазине, не было. И тут помог Павел Евгеньевич, без просьбы поняв мое положение, – из своих запасов подкинул бумаги. Да какой – ватманской, о которой я и не слышал! А в один из вечеров учитель пригласил меня домой. Жил он с сестрой – тоже учительницей – неподалеку от школы в казенном деревянном доме, занимая одну его часть из двух комнат. Встретила нас Ольга Евгеньевна с ласковым приветом. Худенькая, с пытливыми большими глазами серого оттенка – она преподавала в младших классах нашей школы, и нередко я видел ее юркую, с журналом в руках, спешащую на уроки.
Опрятные комнаты, с простой старинной, особой, не видимой мною до этого, мебелью, и картины, картины – все больше писанные маслом. Они-то и зачаровали меня, затянули необычностью красок и тонкостью художественного исполнения. Я хотя и не понимал ничего в мерках живописи, но интуитивно чувствовал притягательную силу, осветление, как бы идущее по-разному от разных картин. Уже раздеваясь, по приглашению Ольги Евгеньевны, я воротил голову через плечо, разглядывая удивительные пейзажи и портреты в резных рамках.
– Нравится? – спросил учитель.
Слов у меня не нашлось, чтобы выразить восхищение, и я только кивнул.
– В основном мои. – Лицо у Павла Евгеньевича ожило в каком-то особом отсвете. – Тут и академические, и более поздние, зрелые…
Пока Ольга Евгеньевна готовила чай, он показал мне и множество этюдов, и большие листы ватмана с карандашными портретами наших учителей, и сюжетные наброски.
Сколько было сделано! За голову хвататься да и только. И тогда, в тот вечер, за чаем, я кое-что узнал о Павле Евгеньевиче. Скупо, с грустинкой в голосе, он как-то сам по себе, в потоке разговора о живописи проговорился, что когда-то жил в Ленинграде, закончил там академию живописи, поднимался в мастерстве, а потом все рухнуло… Если можно представить воочию человека, слушающего другого с «развешенными ушами», то это был я. Но почему все рухнуло у даровитого художника, он не сказал, уйдя мыслями во что-то свое, в какие-то дорогие или, наоборот, печальные воспоминания. Я видел это по выражению его глаз, лица и не осмеливался спросить, поняв, что за этим молчанием кроется нечто большее, чем нежелание говорить. И лишь через несколько лет, когда Еланские уехали из Иконниково, а я сам уже учился в городе, удалось мне узнать правду об этих удивительных людях, участь которых типична для того времени. Все их гнездо: Павла Евгеньевича с женой и дочкой, Ольгу Евгеньевну с мужем – в трагично известные тридцатые годы выслали в Сибирь. Вначале в Приполярье, где умерли от туберкулеза жена и дочка Павла Евгеньевича, а сам он едва выкарабкался, позже – чуть южнее, в наше Иконниково. Муж Ольги Евгеньевны погиб на лесоповале. Так они и остались вдвоем из целого семейства, а с реабилитацией вернулись в Ленинград. Но после того 51-го года, крученого в моей судьбе, я их больше не видел и ничего о них не слышал, так же как и о Генрихе Ивановиче – тоже из ссыльных поселенцев. В душе остались лишь светлые воспоминания и восхищение их благородством, типичным для русских интеллигентов: даже в тяжелые для них годы, не перестававших служить Родине. Вряд ли кто тогда из местных учителей мог бы дать нам те знания, какие давали они, пусть и в немалый обход истины в силу известных теперь причин, но все же приближенные к ней в традициях национального достоинства и культуры…
Я весь уходил вниманием в неторопливый разговор Еланских за чаем, ловя каждое слово, каждую мелочь, которые нигде не мог услышать и узнать. Совсем иной, неведомый мир, иная жизнь открывалась мне в воображении. Она была там, где-то далеко, за долами, за горами, за мрачной завесой военных лет, и еще дальше, глубже… После нет-нет да и уговаривал меня Павел Евгеньевич на чай или чашку супа, который удивительно вкусно готовила Ольга Евгеньевна, и я чувствовал, как они, одинокие, привязываются ко мне, да и я полюбил их…
* * *
И как раз в это время то ли по сердечности кого-то из местных руководителей, то ли в размахе всей страны нам, детям погибших фронтовиков, стали выдавать в школьном буфете по одной сайке каждый день. Не велик привес к скудноватому пропитанию, но все же что-то: где еще его – белого хлебца, попробуешь, если даже в магазинах и черного в непробивную очередь, и в чайной такого же по два ломтика на едока выдавали.
Первые свои сайки я съедал по пути домой, пряча их в рукаве, до обидного быстро: вроде бы начинал нюхать нежную мякоть тонко пахнущего хлеба, а затем, в тягучей усладе, не то отсасывал, не то отслаивал губами его крохи, и так всю не близкую дорогу. Но даже при таком скопидомстве этой удлиненной, горбатенькой булочки не хватало до самого дома. Зря я зыркал в рукав тужурки – там еще какое-то время держался дразнящий запах, но и он истаивал. Всего раз я осилил себя и самый кончик сайки, самую краюшечку прижал в варежке, засунув руку в карман. Дома я разрезал горбылек на две половинки, а пока резал, Светка стояла у края стола и горела на него глазками, не моргая, а Толик посасывал палец сбоку. Кусочки те они проглотили не жуя. И так затянуло мне сердце в жалости – ведь и их отец погиб, что после этого я всякий раз зажимал краюшку сайки перед своими расшеперенными губами и нес ребятишкам.
Ходили мы в буфет за сайками вместе с Хеликом и прятали их в рукава пиджаков, чтобы не искушать остальных, хотя такие пайки и получало полкласса. Больше всех возмущался Агутченко:
– Мой отец, хотя и живой остался, а может, лучше ваших воевал. Почему мне не дают паек?..
Особо тогда рот разевать было не принято, да и опасно, потому он и ограничивался трепатней вслух только в классе, при учениках. Дальше идти со своими претензиями он боялся. За недовольство властью и спросить могли, и прежде всего с его уцелевшего в войну родителя.
Но не думал я и не гадал, что из-за этих саек так круто развернется моя жизнь, и не в лучшую сторону.
Мы поднимались с Хеликом на второй этаж и на площадке нам, точнее – ему, преградили дорогу трое парней из параллельного класса.
– Дай сюда булку! – дернул его за рукав тот, что покрупнее. – Сегодня мы евреев не кормим!
От резкого толчка сайка вынырнула из узкого рукавчика Хелика, и ее тут же подхватил этот нахрапистый здоровяк.
Я заметил, как огромные глаза соклассника набухли слезами и такой безысходной тоской, что жалость клещами стиснула мне горло. Почти бессознательно, как будто кто-то меня подтолкнул, цепко ухватил я за руку крепыша и глухо кинул, едва справившись с дыханием:
– А ну отдай сайку!
Левая рука вымогателя с растопыренными пальцами тут же потянулась к моему лицу, и я успел уклониться от опасной пятерни, и вовремя – лишь какой-то один из ее ногтей скользнул мне по скуле, разрезав кожу. Тут же, в непроизвольной реакции, как на тренировке, резким правым хуком я влепил ему по скуле, и крепыш рухнул на задницу, выронив сайку. Глаза его, широко раскрытые, глядели на меня не то в испуге, не то в бессмыслице – ибо, без сомнения, он был в нокдауне. И его сообщники стояли без движения, ошеломленные таким жестким отпором. Я окинул их взглядом и подняв булку, отдал ее Хелику, стараясь не глядеть в его глаза.
В классе, когда мы сели за парту, до звонка, Хелик с оглядкой успел рассказать мне и про евреев, о которых я до этого и не слыхивал, и про ссыльные лагеря, и про многое другое, о чем я не знал и не должен был знать – жутко и погано стало от его рассказа, тягостное уныние прижало разум. И я долго не мог разобраться в отяжеленных противоречиями мыслях. Все мои жизненные ориентиры, выстроенные в просеке знаний и выстраданные в той, пусть недолгой, житейской суетне, сгорали в огне иных понятий и представлений, сложность которых меня ошеломила. Я еще долго потом, на занятиях кружка рисования, вязал кружева мыслей в глубинке раздумий. Даже Павел Евгеньевич заметил мою рассеянность и спросил, не случилось ли чего, но рассказывать учителю я ни о чем не стал.
Павел Евгеньевич еще оставался в классе, что-то доделывая свое, а я, когда уже все кружковцы ушли, привычно сбежал с крутой лестницы к раздевалке. Тут я и увидел снова тех троих парней, с которыми столкнулись мы с Хеликом днем. Они кинулись на меня сразу, без слов, и все трое, чего я не ожидал, хотя вмиг догадался о их намерении по злому выражению глаз и угрюмости лиц. Ловкими рывками за одежду нападавшие втянули меня под лестницу и стали бить руками и ногами, хотя и жестко, но неумело. Усердствовал больше тот крепыш, которого я посадил на задницу, а двое его дружков пытались удерживать мои руки. Кое-как, уворачиваясь головой от попыток здоровяка попасть мне кулаком в лицо, изгибаясь телом, я все же на миг вырвал левую руку и тут же врезал в подбородок тому, что был поближе, справа. Тычок получился хотя и не совсем удачным, но все же достаточно сильным – парень сполз с правого плеча и упал на спину. Второго, повисшего мне на загорбок, я достал локтем. Но сильный рывок за ноги опрокинул меня на пол. И посыпались пинки. Я увертывался от них, как мог, с тоскливой тревогой понимания, что лежачего могут и искалечить. Рывком я попытался вскочить, но получил тяжелый удар по голове чем-то очень твердым и успел заметить в руках одного из драчунов короткую палку. В кармане пиджака я всегда носил меленький перочинный ножик, подаренный мне давним зимним утром раненым фронтовиком, переночевавшим у нас в деревне, и рука непроизвольно сунулась за ним. Лезвие ножичка ткнулось в чью-то занесенную для удара ногу, и дикий вскрик будто отбросил от меня всех троих потасовщиков. Я вскочил, зажимая в руке ножичек, и налетчики кинулись к выходной двери. Тот, что бил мне в лицо и под дых, ковылял сзади, прихрамывая. Меня трясло так, что я не чувствовал боли, и стоял, до хруста в пальцах, сжимая кулаки.
На лестнице послышались шаги, и я вышел в полоску света, падающую от тускловатой лампочки под потолком.
Павел Евгеньевич резко остановился. Глаза его распахнулись.
– Что это с тобой?! – Он быстро шагнул ко мне, заглядывая в лицо.
– Хулиганы напали, – с неохотой ответил я, все еще напрягаясь.
– А ну идем в класс! – Павел Евгеньевич схватил мою руку, в которой я еще держал перочинный ножичек, и едва не порезался. – Быстро! – И мы почти бегом поднялись по лестнице, молча, с тревожными мыслями.
– Садись и рассказывай! – Учитель засуетился, задвигал ящики большого стола.
Я понял, что он что-то ищет, и молчал, чувствуя, как начинает болеть голова, как что-то острое покалывает затылок, скребется по плечам и в боку.
– Даже марганцовки нет! – возмущался Павел Евгеньевич. – А у тебя все волосы в крови. Придется в больницу идти. Там должен быть дежурный врач.
– Да не надо, перетерплю. – Я попытался улыбнуться, но та скребущая боль в затылке еще сильнее резанула до самого уха.
– Идем-идем! Тут близко!..
Темно, морозно, уныло.
Пока мы чуть ли не бегом петляли безлюдными проулками, выходя по ближнему пути к больнице, я урывками, как мог, рассказал обо всем Павлу Евгеньевичу, начиная с дневной стычки. Он молчал, лишь изредка остро оглядываясь на меня.
Дежурный врач, пожилая женщина, заставила меня раздеться до пояса и чем-то обработала все мои ссадины и синяки, коих оказалось с добрый десяток в разных местах. Наиболее опасной была рана на затылке. Там рассеченную кожу пришлось зашивать. Боль была едва терпимой. Не раз и не два меня морщило от нее, дергало до потрохов, и лишь спокойный голос врача сдерживал не то стоны, не то крики, готовые вырваться из плотно зажатых губ.
– Напишите нам справку, – попросил врача Павел Евгеньевич, когда я стал одеваться. – Вдруг понадобится.
– В милицию в таких случаях сообщают. – Женщина хотя и пыталась казаться суровой, но чувствовалось, что душа у нее светлая. – Хулиганы не хулиганы, а сообщать мы обязаны.
– Это ваше право. – Павел Евгеньевич стоял на своем корректно, убедительно, а я не понимал, для чего нужна еще какая-то справка.
– Добро, что в мое дежурство попали, – вела разговор докторша с учителем. – Я на фронте не такое видела. А молодые что – помажут йодом и иди, а у парня просечка чуть ли не до кости. А это голова…
Когда мы вышли из приемного пункта больницы, вовсе затемнело. Замерли улицы, погрузились в мрачные тени некоторые дворы, потухли в них окна домов.
– Один дойдешь или проводить? – спросил Павел Евгеньевич, едва мы остановились на развилке наших путей.
– Дойду, – отмахнулся я.
– Твой ножичек пусть пока у меня останется. Боюсь, что влип ты в неприятную историю. Но надо подождать и помолчать. Хотя это не дело, когда трое одного избивают, да нашей правде сейчас не подняться над их кривдой. Если огласки не будет, как-нибудь переживем. Ну а если зашумят – будем думать, как выкручиваться. – Учитель крепко пожал мне руку. От его слов, дружеского пожатия потеплело вроде и полегчало.
2
Едва прозвенел звонок, как в класс, вместо Генриха Ивановича, вошла Редькина и сразу с особой остротой уставилась на меня.
– Венцов, к директору!
Екнуло сердечко – началось! Я сразу понял, что о драке будут пытать, и затрепетал, заволновался.
– А в чем дело? – пробасил вдруг Агутченко, не то пытаясь защитить меня, не то любопытствуя.
Редька не удостоила его ответом, дожидаясь, пока я не покину класс.
Директора – Петра Петровича Чернова на протезной ноге, я видел всего раза два. Высокий, блондинистый, с каким-то свирепым взглядом, он держал порядок в школе не только среди учеников, но и среди преподавателей. По слухам – все его побаивались, даже Редька, хотя, как однажды сказал Павел Евгеньевич, справедливее он человека не встречал. И потому шел я по коридору с теплинкой в сердце, надеясь на свою правоту. Но за директорским столом, в тесноватом кабинете, я увидел совсем другого человека и сразу его узнал – это был тот, который увел Нину, – однорукий, с протезом, волосы подстрижены коротко – ежиком на крупной голове, уши большие, вислые… Узнал ли он меня или нет – угадать было трудно. Я тем вечером накоротке прошел мимо них, и если Нина ничего не сказала, а это вряд ли, то не обратил он на меня тогда никакого внимания.
– Ну расскажи, как и за что ты режешь людей и где твой ножик?
Ошеломление мое еще не прошло, и я стоял, не в силах разжать челюсти.
– Или ты только на улицах герой?
Сбивчиво, понимая, что нужно обрисовать все как было, мешая в воображении то моменты, проведенные с Ниной, то драку, изложил я новому директору истину от всего сердца.
Он глядел на меня с прищуром, пытливо, но не перебивал, не уточнял услышанное, не издавал звуков одобрения или недовольства.
– Говоришь, ножичек перочинный с лезвием в спичечный коробок, закругленным, как у столового ножа концом? А это что? – Директор выложил на стол самодельную финку. Видел я подобную в деревне, у Хлыста.
Я опешил…
– Ну?
– Не моя это.
– А вот потерпевшие уверяют обратное, и их трое. Причем один из них сын прокурора.
Слово это – прокурор, обладало какой-то суровой магической силой: стоило его услышать и на душе всплескивалась тревога. Откуда, от каких начал тянулась эта боязнь, не угадать ни умом ни сердцем. В плоти, что ли, нашей поселилась она изначально, на клеточном уровне. Ударило оно – это слово, меня в голову посильнее, чем палка драчунов, и руки опустились, и ноги будто размякли.
– Понимаешь, куда ты втюрился? – Но зла в голосе нового директора я не уловил. – Раскрутят они это дело, раскудахчут. Тебе несдобровать и пятно на школу, а я ее принял недавно.
– Не я зачинал, – вдруг начала восставать во мне справедливость.
– Доказать надо. Если все было так, как ты нарисовал, то иное дело. Хотя ножик, пусть маленький и перочинный, пускать в ход преступно, как не крути.
– Они бы меня покалечили.
Директор помолчал, потрогал вывернутые ноздри широкого носа.
– Ну а зачем за отпрыска бывших политических, да еще евреев, на своих кинулся?
Снова в упор стрельнули в меня этими словами, вышибли искрометные мысли, в которых я еще не разобрался, не пропустил их через душу.
– Не честно это, – первое, что пришло на ум, выдал я.
– Честно – не честно, – хмурился однорукий, – Робин Гуд нашелся. Ладно, иди, педсовет решит, как быть дальше, если органы не вмешаются.
Какие органы? Мне было непонятно, но звучало это зловеще, надсадно для сердца, тягостно для ума. Сразу расхотелось идти на урок и я направился в кабинет рисования, к Павлу Евгеньевичу, надеясь застать его там.
– Ножичек я покажу на педсовете, при всех, – заслушав о моих перипетиях, ободрил меня Павел Евгеньевич. – Видишь, куда они гнут: на уголовщину и грязно. Этот новый директор пока не раскрылся. Повременим показывать ему козыри. А ты поговори с Розманом – пусть он подтвердит случай про сайку…
* * *
Таи не таи – не утаишь. Каким образом все узнали о драке, можно было только гадать: или противная мне сторона специально распустила слухи о ней, или же кто-то случайно проговорился, и эхо этой случайности разнеслось без границ. Но после уроков ко мне подошли Агутченко и Максимов. Первый похлопал по плечу:
– Молодец, дал отпор! Только зря за еврея заступился. Мало ли что за одной партой с ним сидишь и в одном классе учишься… – И пошло-поехало, закрутило мозги…
– Не боись, в обиду не дадим, – лез с поддержкой и Максимов, – за деревенских всегда вступимся. Весь класс поднимем…
Но дело оказалось серьезнее, чем мы предполагали. На другой день, с утра, меня снова вызвали к директору. Лысого, в очках, худого, с аскетическим лицом и впалыми глазами, человека увидел я в кабинете и застыл у дверей, холодея спиной.
– Этот? – спросил лысый у директора.
– Он. – Однорукий поднялся и, хмурясь, протопал к выходу. Дверь за ним захлопнулась.
Я смотрел мимо сидящего за столом человека на задернутое морозными вензелями окно с тоской, понимая, что пришел этот ухайдаканный не то болезнью, не то злом человек по мою душу, и пришел не с добрым намерениями.
– Рассказывай, – начал он дружелюбно, – как дошел до такой жизни?
И вдруг зазудело что-то у меня в груди, поднялось злым противлением напраслине, встало на дыбы и выплеснулось наружу в едком ответе:
– Какой это такой? И кто вы? – Глаза мои широко открылись, и я попытался поймать под очками взгляд спрашиваемого.
– Следователь, молодой человек, следователь прокуратуры, а о чем я спрашиваю – ты прекрасно знаешь.
– Документы есть? – пошел я напролом.
Очкарик полез в карман, вынул какие-то «корочки», в которые я заглядывать не стал, зная, что это лишнее и что этот, с голым черепом, мужичок на самом деле следователь. В системе дознания я тогда не разбирался. Да и кто знал всю ту силовую сеть, накинутую на людей, в ячею которой мог попасть любой человек, в любое время и по любому поводу, если власть усматривала теневой на нее накат…
Теперь уже без волнения, с четкой истиной я пересказал повторенное уже не единожды.
– Ну а где этот, по твоим словам, маленький, не острый, перочинный ножичек, которым ты якобы хотел просто отмахнуться, попугать негодяев и задел ногу одного из них случайно?
Впутывать Павла Евгеньевича в мою тяжбу без согласования с ним не хотелось, и я схитрил:
– Дома.
– Пошлю – принесешь? – пытался обыграть меня этот высохший на допросах человек, катанный жизнью.
Но я догадался по едва уловимой тональности, а может, интуитивно открыл его ход, почувствовав, что юлить в этом случае опасно.
– Принесу, – утвердился я.
Следователь зыркнул из-под очков.
– Ладно, пока оставим нож. Драку ты первым начал?
– С чего бы? Их трое – я один.
– Резонно. Но в жизни всякое бывает…
Что-то тоненько, слабее комариного писка, подсказывало мне, что человек этот, вероятно не мало переживший, склонен мне верить, но ему не обойти ту цель, с которой его сюда направили.
– В принципе тяжек сам факт махания ножом, не важно, какой он величины и при каких обстоятельствах применен. Сегодня ты складником помахал, а завтра финку за голенище. Корячится тебе исправительная колония для несовершеннолетних…
Хлестанули эти слова по хребтине больнее пастушьего кнута, сдавили тяжестью плечи, аж ноги задрожали, и хотя я понимал, что припугивает следователь, а совладать с тугой волной тревоги не мог. С ней, с занозой опасности в сердце, я сразу пошел к Павлу Евгеньевичу.
– Ну это мы еще посмотрим, – выслушав меня, скептически заявил он. – Педсоветом после Петра Петровича, у которого раны открылись, верховодит Редькина и решение его будет не в твою пользу. Но есть еще начальство повыше. Понадобится – и в область обратимся. А пока учись – будем здесь разбираться. Думаю, до города дело не дойдет – мусор свой выказывать наверх вряд ли посмеют…
Какое учение, если над головой повисла опасная вязка – того и гляди упадет на шею и захлестнется. Руки не держали ни карандаша, ни книжки. Одно дело – колотил я грушу на косяке боксерскими перчатками, впечатывая в нее все свое возмущение и душевную черноту.
Вера попыталась вытянуть из меня истину, но я устоял: зачем ей лишняя тяжесть на сердце – от своей бы не согнулась. И так повлекло меня домой, в то светлое, где меня и поймут, и пожалеют, и защитят, так защемило в груди, захватило дух, что едва-едва удержался я от этого поступка, последствия которого могли бы лишь усугубить мое положение. Нет – от напраслины не спрячешься ни в кругу друзей, ни в родне, ни под лаской матери. Она везде достанет, собьет с ног и затопчет, если не подняться ей навстречу, не стать грудью в защитной стойке. Понимал я это, а может, свыше направлялся мой разум в нужное русло. Так или иначе, но поборол я свое вихревое желание и остался ждать развязки того узла, что так нежданно-негаданно завязался там, откуда и не мыслилось…
А тут еще Хелик Розман потянул меня в уголок на большой перемене и, не отводя грустных бездонных глаз, ошарашил:
– Я не смогу пойти на педсовет – мама не велит, а у нее больное сердце. Боимся мы…
Хорошо хоть честно признался. И вначале обида подступила к горлу, а после, поразмыслив, я понял, что страх у этих людей не от душевной трусости или черноты – обнялись они с ним где-то в иных купелях и надолго, может, на всю жизнь. А где страх – там не до истины.
3
Стоял я посреди учительской в окружении столов, за которыми собрались все наши педагоги, и холодный пот вышибал из меня внутреннюю дрожь, саднил шею и спину, кучерявил волосы. Пытливые взгляды: безразличные, любопытные, сочувствующие – проникали в душу, тянули на пытку. Более того, рядом с директором я увидел очкарика-следователя и вовсе пригнулся. Один Павел Евгеньевич подмигнул мне улыбкой да Генрих Иванович поглядывал одобрительно.
Напряжение последних дней все же сказалось: без запала, с безразличием в голосе, пересказал я по просьбе директора происшедшее.
Потом стали вызывать по одному моих противников. По их словам, они пошутили с сайкой, а я вроде бы беспричинно набросился на Редькина с кулаками.
– Пригласите Розмана! – крикнул директор.
– А его нет. Он и на уроках сегодня не был. Заболел вроде…
Я-то готов был к этому, знал причину болезни и ничуть не расстроился.
Директор переглянулся со следователем без видимых эмоций на лице, а Редька явно повеселела.
– На нет и спроса нет, – как вбил гвоздь директор, – из-за него педсовет переносить не будем. Тем более что он второстепенная сторона…
Встал следователь. Мне показалось, что он мельком взглянул на завуча.
– Вот нож, которым махал этот герой, – и он вытянул из портфеля ту самую финку, которую я видел у него на столе при первой с ним беседе. – Как видите, это внушительное холодное оружие. Ношение его запрещено по закону. И это случайно не произошло нечто более трагичное, чем простой прокол мышцы ноги…
Этаким отъявленным хулиганом, чуть ли не злодеем выводил меня этот следователь в угоду своему начальству. Бери, хватай и без суда в колонию, чего уж тут рядить. Но сразу, как только следователь сел и начал протирать очки, поднялся Павел Евгеньевич. Он сказал, что чуть-чуть не стал свидетелем той драки, о которой идет речь, так как увидел меня у лестницы с ножичком в руке, который и забрал.
– Вот этот ножичек. – Павел Евгеньевич положил на стол мой перочинник с тупым коротеньким лезвием и перламутровыми накладками на ручке.
– Шутите? – поднял на него очки следователь. – Им и штанов не пробьешь, не то что мышцу.
– Пробьешь, если удар ногой будет встречь удару ножиком, – отпарировал Павел Евгеньевич. – Причем я сам водил этого ученика в больницу, к дежурному врачу. У него была глубокая просечка ткани головы, о чем имеется соответствующая справка…
Хмурился директор, ерзала за столом завуч, краснея лицом, то и дело поправлял очки следователь.
– Что же вы до сих пор молчали? – глуховато спросил директор, когда Павел Евгеньевич закончил говорить и воцарилась тишина.
– А меня никто об этом не спрашивал…
И прорвалось: шум, гам, крики…
– Выйди в коридор! – зыркнул на меня директор.
И я шмыганул за двери, горячея душой, поняв, что теперь за злодея меня не посчитают. Разве что завуч – мамаша того пакостника, которому рассек кожу на ноге, озлится, замутит, закрутит педсовет, потянет разговор в свою сторону. Но и на моей стороне кое-что весомое появилось.
В класс я не пошел, а нырнул в кабинет рисования. Там двое пятиклашек выштриховывали эскиз графина с водой. Я сел за свободный столик, нашел чистый листок бумаги и стал огрызком карандаша, который теперь постоянно носил в кармане, набрасывать этот же графин. Руки и глаза работали на эскиз, а мысли тянулись к педсовету. Впервые в жизни открылась мне та форма лиходейства, то коварство, о существовании которых я и не подозревал, наивно расставляя вехи добра и зла, истины и лжи в тех понятиях, позорить которые никоим образом не мыслилось даже во сне. Подлая напраслина представилась мне деревом, опрокинутым кривым зеркалом вершиной в землю – корнями вверх. Вроде бы и явь да иная, в ином отсвете, в косой наметке. И страшно мне стало перед темной пропастью подлости и зла. Сердце сжалось от безысходности и тревоги. Даже кувшин на рисунке утонул в густой черноте карандашной ретуши.
По хмурому лицу Павла Евгеньевича, едва он вошел в кабинет, я сразу понял, что тягостное мое смятение не было напрасным – неотвратное лихо подкатилось под мою судьбу стрежневым течением, закрутило крутень, зажулькало долю, бейся не бейся, а все одно клин – ни взад ни вперед.
– Наши классные дамы при одном слове – нож закатывают глаза под лоб, ахают и всплескивают руками, – отведя взгляд, с ходу заговорил учитель, – хотя твою фигалку и ножом-то можно назвать с натяжкой. Но эта тараторка, Елена Федоровна, всех под себя подмяла. Волевая бабенка и нахальная, потому что за прокурорской спиной сидит. Боятся ее. Только я да Генрих Иванович свое отбоялись. Об меня они зубки сломают – один я художник в райцентре. Райкомовские заказы по лозунгам и портретам выполняю. Немец – первая скрипка в оркестре. Еще физрук к нам присоединился – он тоже честь района в спортивных состязаниях отстаивает. А новый директор, Семен Петрович, ссылаясь на недостаточное знание обстановки в школе, голосовать воздержался… – Слова Павла Евгеньевича словно толкались в уши, и сразу, едва он, положив мне руку на плечо, приглушенно сказал: – Исключили тебя из школы… – Я обмяк, как сваренный, сник головенкой, и руки упали с колен безвольными плетьми. – Но эта беда переносимая. Потеряешь один год – не смертельно. А вот этот язва-следователь грозит потянуть к наказанию по своей линии – это уже серьезно. И может быть губительным, если не защищаться. – Он сгонял морщинки в переносице, суровел взглядом, а я, как-то расплывшись в бессилии на табуретке, плохо воспринимал его слова, холодея от сдавивших горло спазмов и мучительных, захлестнувших разум, мыслей, рисующих тьму моего срама с эхом насмешек и распахом язвительных улыбок. Мое будущее, мои непредвиденные горести не так давили и сокрушали душу, как неотвратный накат позора, от которого уберечься нельзя ни в родне, ни возле матери и который иной раз страшнее смерти – ибо человек при нем испытывает муки ада не где-то там, в небытии, а здесь, живым… Матушка, дед, друзья – оттенились в наплыве воображения, и мое сердце, не налившееся зрелой крепостью, ожгли сполохи жуткого отчаянья. Глаза засаднило.
– Я поговорю с Генрихом Ивановичем – может, он согласится вместе со мной в районо письмо написать, но полагаю, что у Редькиной и там все схвачено. Райцентровская структура друг друга вяжет – в одних кружевах скручены, а в область обращаться – сюда же бумагу спустят… – все как бы размышлял Павел Евгеньевич, поглаживая свои седоватые волосы и хмурясь. – Кто поедет в нашу глухомань разбираться? Дела, дела. – Он примолк, понимая мое состояние и боясь на меня глядеть. – Ты говорил, что года три-четыре назад на тебя была разнорядка в Суворовское училище?
Я кивнул, не понимая, к чему клонит учитель.
– Возможно, по линии военкомата стоит попросить поддержки? Армия сейчас в силе, и военком не последний человек в селе. Да и отец твой орденоносным комбатом был. Должны же на местах защищать детей своих офицеров. Я туда не ходок – кто я тебе? А ты давай в деревню и тяни сюда мать и чем скорее – тем лучше. Прямо к военкому. В школу тебя вряд ли вернут, а от судейской беды могут отвести…
* * *
Вышел я от Павла Евгеньевича очумелым от враз навалившегося паскудства и скрытой опасности, в глухой тревоге, с едва теплившейся искоркой надежды, зароненной в душу добрым учителем. И совсем уже нелепая радость пригасила сердечную дрожь – соученики разбежались по домам и не нужно было объясняться, прятать глаза, играть в возможное заступничество с их стороны, зная о потаенном, всосанным с молоком матери, страхе перед властью, глубоко сидящем в каждом из нас.
С лихой отреченностью забрал я свой истрепанный портфель и вышел на высокое промороженное крыльцо, хватанув в исстрадавшуюся грудь стылого воздуха.
Холодные сумерки гасли над серыми крышами притулившихся друг к другу домов, тускловатых и тихих в своей задумчивости. Неотвратно захотелось есть, точнее – жрать, и я, помедлив, зачастил бодрыми шагами к райцентровской чайной. Лишь там, в дни вынужденного недоедания – тогда, когда в запаснике продуктов оставалась одна картошка, разживался я у проезжих шоферов, гоняющих тяжелые лесовозы из северных урманов, пол-ломтиком или даже ломтиком хлеба. Им, по чьему-то указанию, этих ломтиков отпускалось к обеду больше общей нормы, и кое-кто из шоферов, заметив мою тоску над пустым чаем, подкидывал к стакану ржаной кусочек, а иногда и похлеще перепадало. Вроде бы недоеденное, но я-то понимал, что это не так: велик ли наклад – чашка супа, для здорового, проведшего много часов за рулем по бездорожью мужика? Вероятно, этим бывшим фронтовикам становилось совестно при виде моей застольной скудности, а может, простое сострадание являлось тому причиной. Так или иначе, а пользоваться этим приходилось – стоило голодухе хватануть за горло, но без хитрости и нахальства – совесть меня теснила, хоть под стол ныряй, от косых взглядов официанток и сытых посетителей. Случалось и садиться спиной к кухне, и прикрываться ладошкой, и глаза потуплять. Что поделаешь? Денег на еду не было, а не сладкого чая наливала мне всегда пожилая полноватая женщина с добрым лицом – шеф-повар тетя Таня…
Прикрывая лицо варежкой, я, как в полусне, проскочил школьный сад и вышел на пустынную улицу. В широкий развод перекрестка вкатилась огромная, как медный таз, закрасневшая луна, опестренная темными пятнами. И сразу заблестели вдали огни широких окон районной чайной, притулившейся к дворовым постройкам на углу, у небольшой площади. Подле нее, на бугре, урчали моторами два грузовика, высоко груженные лесом. Легкий их выхлоп не гасил острый запах сосновой смолы, идущий от свежих, недавно распиленных бревен. И темные силуэты машин, и терпкий запах хвои обрадовали – значит были в чайной шофера, и не зря я спешил: время ужина не велико и опоздать можно было к подходящему моменту.
Дверь неприветливо скрипнула промороженными досками, шлепнула под зад, возвращенная пружиной, и захлопнулась. И как всегда, теплом обдало меня с такими сладко раздражающими запахами, что в желудке что-то шевельнулось. Сдернув шапку, я оглядел зал и шмыганул к раздаточному окну. Глаза нашли знакомую фигуру в белом халате. Худенькая молодайка кивнула на меня тете Тане, и она обернулась, неторопливо пошла к посудному столику.
Пока эта сердобольная женщина наливала мне чаю, я успел зырнуть по рядкам столиков и заметил у окна двух сосредоточенных за едой мужчин. Наметанным глазом я сразу определил, что это шофера с тех – двух грузовиков, стоявших на площадке. Рядом с ними был пустой – не занятый стол, и я, торопясь, грея о стакан озябшие руки, сунулся за него на табуретку. Упершись локтями в жесткое ребро столешницы, я стал глядеть, как легкий парок поднимается зыбкой змейкой от стакана, мельком заметив, что напротив меня оказался мужик средних лет с худым и очень крупным лицом. Почти всю его фигуру загораживала широкая и покатая спина соседа, низко клонящегося над чашкой. Одну взлохмаченную голову с четким рельефом надбровных дуг, носа и скул видел я исподлобья. Удалось мне перехватить и два-три острых взгляда глубоко посаженных глаз. Оставалось ждать, смиренно отхлебывая невкусный, настоянный на фруктовом суррогате чай, сутулясь и с безразличием изучая трещинки в досках стола. Казалось, все мои напасти остались там – за узорами обметанных морозом окон, за темными, заваленными снегом, проулками и высокими школьными дверями… В иное эфирное состояние уплывала моя душа. Мысли бились вокруг этих двух, связанных моей трепетной надеждой, столов. И то ли это мое особо сильное желание, то ли жалкий вид подняли того, хмуроватого человека с грубым лицом и в два шага притулили к моему столу.
– Учишься? – На его глухой голос эхом отозвалась память о горькой суете последних дней, но я осилил ее отголосок.
– Учусь.
– Отец где?
– Погиб. – Тут я поднял глаза и поймал его пытливый пронзительный взгляд.
– Голодаешь?
– Бывает, когда из дома не поднесу продуктов.
– А дом где?
– В деревне. Десять километров отсюда.
– С нами по пути?
– Не-е. В сторону.
Он протянул длиннопалую руку и водрузил на мой стакан целый ломоть хлеба.
– А где отец воевал, знаешь?
– На Ленинградском фронте, офицером.
В глазах шофера появилась живинка.
– Так и я там был!..
И начался наш немногословный разговор: вопрос – ответ. А чай остывал, и подогретый им кусок хлеба так вкусно пах, что у меня во рту стала копиться слюнка и голова тяжелела.
– Помог бы тебе, да у самого негусто, – с дружеской теплотой гудел однофронтовик моего отца, ходивший в армейских водителях где-то очень близко с ним. – Может, щенка возьмешь? Мне его в таежной деревушке подарили. На постое я у них определяюсь, пока лес с делян подвозят. Кое-чем помогаю. Вот они и сунули в кабину малого, месяца в два собачонка. А куда его мне, зачем? Охотой я не занимаюсь. Двора отдельного не имею… – Он еще что-то говорил оживленно, а у меня уже дух зашелся от радости – в деревне собак осталось наперечет и то ублюдки подпорченные. Здоровых – волки порвали, и везде в округе так. Развода нет. А тут такое предложение.
Я кусок хлеба в карман, заглотнул остаток чая и на улицу, следом за длинноногим шофером.
Теплый, заурчавший комок ухватил я у спинки холодного сиденья и сразу, чтобы не морозить его, сунул за пазуху. Щенок заскребся там, у грудины, жестковато, озорно, но быстро затих.
– Но, давай живи, – шофер кинул мне неохватную в рукопожатии ладонь, – выдюживай. Скоро все наладится. А время будет – подбегай к чайной. Я раз в неделю здесь проезжаю…
* * *
С подскоком петлял я едва заметными тропками в глухих проулках, торопясь к дому. Подаренный лайченок усладил мое настроение, угнав к горизонту сознания темные тучи нелегких тревог. Угроза страха перестала разъедать душу. С почти утвердившейся верой в то, что обойдет меня суровая участь, посуленная лысым следователем, вбивал я снег в наторенные прохожими дорожки, взахлеб хватая студенного воздуха. Явность исключения из школы уже выкачивалась в душе без горячки и сердечного надрыва, как неотвратно свершившаяся гнусность, отмахнуть которую невозможно. Одни думки прокалывались через общую ткань мышления, словно хвоя через решето: какой кнут заставляет людей катиться в повозке лицемерия и лжи, давя колесами других? Скреблись они в мучительном поиске ответа и не находили его. Не ведал я еще о подлых побуждениях, крывшихся за тем злом, что выплеснулось на меня, не хватало ни житейского опыта, ни духовной силы.
Не раздеваясь, с ходу проскочил я в свою комнату, закрыл портфель в комод, чтобы ребятишки не пошалили, и, придерживая уснувшего за пазухой щенка, теплого и мягкого, возбуждающего некое упоение, наладился на выход.
– Далеко ты? – Вера высунулась из кухни.
– Домой, в деревню!
– Ты чего на ночь глядя? – Глаза ее распахнулись. – А в школу?
– Завтра вернусь.
– Если с едой туго, так до субботы бы как-нибудь продержались. Я вон супу с пшеном наварила.
Сбоку тут же вынырнула Светка, тоже подняла на меня округленные глазенки.
– Не в этом дело. Тут другое. Потом скажу.
– Поешь хоть на дорогу.
Я заколебался: все же в чайной чувство голода лишь слегка приглушилось, но зная, что лишний рот для хозяйки накладен, отказался. Да и щенка показывать не хотелось – не вырвать тогда его у ребятишек.
– Страшно ночью-то в лесу…
Эти слова уже донеслись до меня вместе со стуком захлопнувшейся двери.
Пока я торопливо шагал в конец длинной улицы, луна поднялась над крышами домов, высветила их покатые бока в блеске инея, нагнала теней в изломах дворовых построек и снежных наметов, серыми мазками обозначила леса за околицей. И такая жуткая тишина выстоялась, что каждой мой шаг слышался отчетливо, как в гулком коридоре. Напористый ход грел, не пуская под одежду пробивной холод, намахивал на спину испарину, а грудь с животом нежил шерстистым тельцем ласковый щенок, лишь изредка шевелящийся в перекате с одного положения в другое. Затянутые ремнем штаны и заправленная в них рубашка удерживали его от соскальзывания вниз. И даже сквозь плотную ткань нижней безрукавки я почти осязал близость этого живого существа, биение его горячей плоти, и приятно, и как-то сладко было от того присутствия, хотя нет-нет да и чуялись и его твердые коготки, и влажноватый носик.
Несмотря на неподвижность воздуха, схваченного холодом, за околицей стужа покрепчала, поразгульнее повел себя мороз. Лицо быстро задубело на скулах и пришлось греть его ладошками. Но и руки мерзли в тонких рукавицах. И первую половину пути – широкой пустошью пробежал я быстро, без устали. А когда защетинились леса, малонаезженный проселок стал рыхлее, заваленным мешанным снегом по щиколотку, и ход мой потяжелел, поутих. Взор невольно потянулся к освещенным луной чащобам с причудливыми переливами светотеней, в широкий размах болотины, выплывшей с левой стороны. Но нигде ничто не дрогнуло в застывшем, будто омертвевшем пространстве.
И всего-то оставалось мне пройти до деревни глухими лесами километра четыре, когда на краю болота, возле плотных тальниковых чащоб, посеребренных луной, что-то сдвинулось в неразличимой игре отраженного света. Но взгляд мой уловил это шевеление и остро впечатался в изломы снежных наносов, залитых клочковатыми полосами теней. Там, в эти тени, вкрадывалось какое-то перемещение, плохо различимое, неопределенное. А сердце сразу трепыхнулось в ошпаре испуга. Кто мог жить в этом задавленном снегами и убитом морозами безмолвии? Птица? Зверь? Волки!.. Только им нужна и эта задавленность, и эта ночь с жутковатым лунным светом. И точно – несколько серых силуэтов различил я на фоне тальников. Ноги подвяли в очередном шаге, но тут же высверкнулась мысль: не останавливайся! Знал я, по рассказам охотников, да и собственному, пусть небольшому, опыту, что любое резкое изменение в поведении человека настораживает зверя, а все убегающее для него добыча. Взор скользнул по опушке ближнего леса. Добежать до нее я бы успел и даже влезть на дерево. А дальше что? Другой хищник – мороз, быстро прикончит, потому как ждать помощи неоткуда – по этой дороге два-три раза в неделю лишь почтальонша проезжает и то в дневное время. На случай надеяться – впустую. Значит – гибель?! Тоненько-тоненько задрожало все мое тело от сердечного перепляса. Шум пошел в уши, в волосах будто что-то шевельнулось, и враз исчезло ощущение холода. Даже весомого и теплого щенка перестал я чувствовать. Ноги как бы сами собой несли меня по дороге.
А волки выкатились от кустов на освещенное поле, и лишь невероятным усилием воли, будто влившейся в меня извне, я не остановился и не побежал, ошарашенный их числом – девять зверей, идущих цепочкой друг за другом, сосчиталось подсознательно. И все на меня одного! Тут же в круговорот мыслей влились памятные россказни о загрызанных зверями путниках, и быстро, быстро замелькали в горячем сознании эпизоды моей жизни в обратном откате – от сегодняшних до далеких – летних и дальше, в детство, младенчество…
А волки, не дотрусив до дороги метров триста, остановились.
Я заметил, как блеснули глаза у переднего зверя в лунном свете, когда он, повернув голову, поглядел в мою сторону. И все, как по очереди, зыркнули адским отсветом. Залихорадило, затрясло меня дико, захватило дух. Будто с горки крутой полетел я на санках или в колодец юркнул – пропал да и только! И так просто!..
Не больше полминуты обозревали меня звери, будто советовались. А я шел, как заводной, не чуя ни ног, ни тела. Вроде бы вылетела из меня душа и зависла над головой, наблюдая. Наступил тот фатальный момент, после которого это нереальное ощущение или уносится в небытие, оставив тело, или вновь встряхивает сердце и гонит в виски токи горячей крови. И, о чудо! Страх стал сползать с меня откатной волной. Тупая ли обреченность сняла его с души или, наоборот, – посланная свыше налетная отвага, не объяснить. Но вновь заныли скулы от хваткого холода, прояснилась округа, будто ярче метнула луна отраженный свет на землю, и ноги потверже замяли снег на рыхловатой дороге.
Волки, словно уловив по каким-то признакам мое преображение, вдруг повернули круто и так же гуськом, след в след, пошли вдоль дороги в том же отдалении и в том же порядке. А я двигался в одном ритме: не торопясь и не сбавляя хода. И надежда на спасение затеплилась, да светло, настойчиво. Еще раза два останавливал вожак волчью стаю и сверкал глазами в мою сторону, и все звери с ним. И тогда дыхание у меня падало, сердце сжималось, но сознание не билось в панической безысходности.
Сопровождал меня этот страшный конвой до тех пор, пока не затемнел впереди густой лес и не скрыл зверей от моего взора. Еще некоторое время я держал свою душу на взводе: вот-вот выскочат хищники наперерез из-за какого-нибудь лесного отьема. Вот-вот! Но шло время, сокращался мой путь, приближалась деревня, а волков не было. И только когда блеснули вдали слабенькие огоньки на базах колхозного двора, я понял, что спасся…
Не вглядываясь ни в окна домов, ни в ограды, проскочил я большой улицей к своему дому. И еще на подходе к нему различил движущуюся тень на занавеске кухонного окна и угадал, что это тень матушки. И заложило грудь горячей волной сердечного трепета – сколько горести, стыда и позора нес я ей за своими плечами! Моя боль, мои муки несравнимы с материнским страданием, теми слезами – явными и тайными, что неминуемо надорвут душу. А чем искупить эти слезы? И есть ли мера искуплению? Есть ли слова, которыми можно утешить мать? И какова цена тому утешению?.. С этими мыслями, засупонившими душу, влетел я на крыльцо и через сенцы к дверям.
И радость, и недоумение, и легкий испуг промелькнули в глазах матери, в едва уловимом выражении лица.
– Сынок! – Она заохала, захлопотала, помогая мне раздеваться. – Да как же ты в ночь-то надумал?! Аль что случилось?..
В дверях горницы показался дед в исподней рубахе и кальсонах.
– А я уже дрыхнуть наладился…
Милые, добрые, сладкие мои! Да в какой же кулак надо собрать волю, чтобы ошарашить их своей жестокой правдой?! Я потянул из-за пазухи лайченка, посунул к самому лицу деда.
– Во, гляди!
– Из-за него, что ли, шел? – ухватилась за это предположение матушка. Сердце ее уже вещало о беде, не обхитрить его, не переиграть – ни словами, ни мимикой. И тут я решил рубануть свою правду с маху, с лихостью, с бесшабашным безразличием:
– Да нет. Из школы исключили!
Матушка медленно опустилась на лавку. Глаза ее широко раскрылись.
А дед вскинул голову от щенка, которого рассматривал, задергал концы усов.
– Как же так, сыночек?! – Губы у матушки задрожали. Лицо некрасиво исказилось. – За что?
И пришлось мне снова рассказывать о всех своих злоключениях, умолчав лишь о встрече с волками.
– Как ты мог? – Большего матушка сказать не осилила. Слезы залили ее такое родное, доброе и желанное лицо. – Позору-то, позору! – Рыдания сотрясли ее худенькие, изнужденные плечи. И такая жалость резанула по сердцу, что и я не выдержал этой жестокой пытки, угнул голову, пряча глаза.
А дед опустил лайченка на пол, крякнул и сел на скамейку.
– Мокроту разводить теперь не к чему. Нервы рвать, – глуховато произнес он. – Надо думать, как от суда открутиться. Это не хрен с квасом. Если следствие зацепит на крючок – сам с него не сойдешь. А сделал ты все правильно. Да наша правда кое-кому не по нутру. В другом разе надо что-нибудь сподручное искать, прежде чем до ножика добираться.
– Когда там? – промямлил я с дрожью в голосе. – Покалечат, пока ищешь.
– И то верно…
С печалью и взаимной жалостью закончился наш вечер встречи.
4
Раным-рано, еще по темну, как луна закатилась за Агапкину рощу, вышли мы с матушкой из дома и до самого райцентра месили снег, загораживаясь от крепкого мороза. И не до разговоров было. Лишь я, помня о волках, нет-нет да и озирался по сторонам, пытаясь разглядеть черные глубины подлеска с чащобой. Но тихо было и пустынно.
Прямо с дороги, со стыни и с устатку подошли мы еще полуспящими улицами к военкомату и почти вовремя: только-только открыл его какой-то военный, еще совсем молодой, в добротной шинели и шапке со звездочкой.
– Комиссар будет через часок, – выслушав матушку, сказал он и любезно предложил подождать его в теплом коридоре, на стульях.
Нa них мы и примостились.
Тепло нежило тело, уносило усталость. Сидел бы и сидел в этой полудреме, да есть хотелось. Молодой организм, напоенный в быстрой ходьбе свежим морозным воздухом, просил затравки. Но где ее взять? И прятал я лицо в воротник, прикрывал глаза, пытаясь представить встречу с военным начальником, и слышал, как часто вздыхала матушка, как поскрипывал под нею стул. И понимал, что и ей невмоготу это ожидание, что она ерзает на стуле, вспугивая свои тревожные раздумья…
Сколько мы просидели в скорбной настороженности, можно только гадать, когда резко распахнулась дверь и в коридор быстро вошел человек в папахе, преклонного возраста, коренастый, со шрамом у виска, и остановился рядом с нами, у плотно закрытого кабинета.
– Вы ко мне?
Из дверей напротив показался тот, молодой военный, козырнул и что-то сказал.
– Заходите! – пригласил вошедший.
Сердечко зашлось и от робости перед высоким для нас начальством, и от предчувствия того рокового момента, после которого или что-то для меня посветлеет, или, наоборот, – еще больше затянет чернотой душу.
Вначале, с дрожью в голосе, стала говорить матушка, напоминая и о погибшем отце, и о моей разнорядке в Суворовское училище.
– Как же, помню я и вашего мужа – в одно время формировались, и ваш отказ послать сына в Москву. А что случилось?
Тут я принялся рассказывать военкому обо всем подробно, почти не сбиваясь. Этот повоевавший и повидавший ад командир слушал меня, безусого юнца, терпеливо и внимательно, лишь изредка вскидывая брови не то в удивлении, не то одобряя что-то, и тогда косой, рваный шрам на его виске вытягивался и белел, а глаза суровели и теряли блеск.
Матушка все это время нет-нет да и всхлипывала тихонько, не в силах сдержать сердечную боль.
Пригладив русые, с пятном седины у темени, волосы, комиссар тут же снял трубку телефона и быстро в два-три слова договорился с кем-то о встрече. Потом шустро поднялся, поглядел на матушку.
– Вы успокойтесь. Сына вашего от дальнейших неприятностей выгородим. Можете не сомневаться. А вот в школу его вряд ли удастся вернуть. Решение принято, и его опротестовать могут лишь их вышестоящие инстанции. – Он плеснул из графина воды в стакан, стоящий на тумбочке, у стола, и протянул матери. – Выпейте – полегчает. Сами виноваты: был бы ваш сын сейчас не коршуненком, а молодым соколом, одет, обут и сыт…
А у меня сердце отстукивало радостные ритмы. Слова такого начальника что-то значили. Чернота опасной ямы от меня уходила.
– Идите домой и не тревожтесь, – все успокаивал матушку военком. – Думайте, как дальше учиться. Ведь ему скоро в армию…
Вышли мы из военкомата не чувствуя под собой ног. Я заторопился в школу забирать документы: как раз по времени должен быть в разгаре второй урок, а мне не хотелось встречаться ни с учителями в учительской, ни с одноклассниками в коридоре. Матушка тоже повеселела, двинулась на площадь походить по магазинам, поглядеть, поласкать глаза. Встретиться мы условились на квартире у Кочергиных.
Шел я безлюдной улицей, затянутой морозной дымкой, погрузившись в раздумье, и никак не мог поймать свои главенствующие чувства. То наверх выплескивало горечь за содеянное и тогда жалко становилось и себя, за так нелепо прерванную учебу, за неотвратность расставания с этими тихими, плотно обжитыми улицами, к которым привык; с этим хороводом магазинчиков на площади, библиотекой, школой, хозяйкой с ребятишками… То прорывалось трепетное веселье, подогретое сознанием полного отрешения от чуждого мне мира с его таившейся во многих домах нищетой и несправедливостью, бедами и ложью, с хитросплетением сословного порядка, сомнительностью права. Ведь меня ждал мой, обсосанный с пятилетнего возраста жизненный уклад – более понятный, более совестливый и более правдивый, где и просторы роднее, и друзья надежнее, и жилье кровное. С этими противоречиями я и в школу вошел, и на второй этаж поднялся. В учительской никого не было, кроме секретаря.
– Пока я найду и подготовлю документы, зайди к директору, – начала она с таким видом, будто перед ней стоял до крайности никчемный человек. – Без его разрешения я выдать ничего не могу, а он к тому же велел тебя прислать, как придешь…
– Нечего мне у него делать, – меня покоробило ее пренебрежение. – Документы верните и все. Права не имеете задерживать.
– Права не имеем, но есть порядок…
Спорить с заканцеляренной теткой не хотелось, и я пошел в отвратный мне кабинет. Директор был на месте. Поднял голову от какой-то книжки.
– Явился, герой. За документами?
Я промолчал.
– Тут у тебя заступники объявились и в школе, и у меня дома. Мысли сразу метнулись в недавнее, к Павлу Евгеньевичу, соученикам и остро, жгуче, к Нине. – Вчера к нам приходила твоя хозяйка квартиры. Она, оказывается, добрая Нинина подруга. Так они вдвоем на меня насели: за тебя просят…
Я молчал, уйдя в свое потаенное. Выходило, что этот Семен Петрович был не таким уж стойким мужиком, как старался казаться: выложил Нине про меня, а она Вере шепнула. Иначе, как все узнали?
– Сказал бы сразу – так, может, по-иному бы дело повернулось…
У меня будто лопнул в груди детский надувной шарик – так плеснулось наружу обидное несогласие.
– Не повернулось бы! У вас смелости не хватит!
Моя резкость на миг обескуражила директора. Но только на миг.
– А ты в моей смелости не сомневайся – я в разведке полвойны отпахал.
– Все вы разведчики, когда здесь, среди баб, – резанул я зло, даже не подумав и не поняв, откуда оно – это зло, вырвалось. Может, оно сидело под сердцем с того дня, как я увидел этого человека с Ниной? А может, успело созреть в последнюю минуту?..
Директор как-то осел в кресле, дернул здоровой рукой, вскинул голову, видимо соображая, откуда у меня эта острая жестокость. И вряд ли в горячке понял.
– А ты, оказывается, хам, – тихо, с нескрываемым презрением, прошептал он. – Зря я сомневался в решении педсовета. Будь ты взрослым, я бы тебе врезал, а так – руки марать не хочется о твои сопли. Вон из кабинета!
А у меня мелькнула злорадная мысль – кто кого, но вслух я ее не произнес, медленно, чего-то опасаясь или демонстрируя свою независимость, вышел в коридор.
Пристально, с некой растерянностью, подала мои бумаги секретарша, вероятно, получив от директора по телефону неприятное известие. Разбежавшись по лестнице, я впервые за все время посещения этой школы легко скатился вниз по перилам, но тут же опомнился и, махая через ступеньку, кинулся в кабинет рисования, к Павлу Евгеньевичу. С ним то я должен был попрощаться и сообщить обнадеживающую весть.
– Потолкались мы тут с Генрихом Ивановичем, – душевно встретил меня учитель, – и к директору ходили, и в районо – все пусто. Как в стенку торкались. – Отрадно было видеть, что он искренне болеет за меня и по-настоящему огорчен случившимся. – Была бы еще какая школа в районе, перевелся бы. А тут тупик: одна она – десятилетка. И годы тебя подпирают – через пару лет в армию…
Мне и не думалось, что совсем-совсем недолго осталось греться в родном гнезде: сам не вылетишь – так силой выдернут.
– Может, тебе лучше в техникум какой определятся к сентябрю? Есть отделения и с трехлетним обучением. Что в школе еще три года парты обтирать, что в техникуме. Там хотя специальность получишь, – прикидывал мое будущее Павел Евгеньевич, не то советуясь со мной, не то предлагая свои варианты. – Я бы написал тебе рекомендацию в художественное училище, кое-где и друзья есть, да все они далеко, за Уралом, а тебе и до города не на что доехать…
И правда, денег, чтобы снарядить меня в дальнюю поездку, да еще на какое-то время, не наскреблось бы даже при всей нашей потуге, с продажей живности, без которой в деревне не выдюжить.
– …В крайнем случае, можно и в военные податься. Туда и с семилеткой принимают…
Не знал Павел Евгеньевич, что против материнской воли я не пойду, а мать слышать не хочет об офицерстве – в Суворовское не отдала, не хочет, чтобы я повторил отцовскую судьбу.
– Но ты пока рисуй, везде и всегда. Я тебе бумаги и карандашей подарю. Думаю, скоро и краски будут в свободной продаже и не дорого…
Плохо представлял добрый мой учитель деревенскую жизнь. Когда там рисовать? С утра и до поздних сумерек дела и дела, и конца-края им не бывает. Ни одно – так другое, ни другое – так третье, и пошло-поехало, и эти дела раскручиваются из месяца в месяц, из года в год. И жизнь в них проходит, и не одного человека, а целых поколений. Об одном я после жалел много раз: не знал ни я, ни Павел Евгеньевич, что это была наша последняя встреча – так уж сложились обстоятельства. А если бы знали, и разговор был бы иным, и прощанье…
Прежде чем направиться в последний свой обычный путь от школы, я решил забежать к Виктору Грохотову, предполагая, что он уже вернулся из города. Любопытно было узнать о его делах и рассказать про свои.
Знакомый дом показался мне нежилым: ставни закрыты, на дверях – замок. Такого никогда не бывало, и я, перепрыгнув через невысокий штакетник, отделявший двор Виктора от смежного двора, постучался к соседям.
– Заходите, кто там? – послышался за утепленной дверью женский голос.
Я вошел. Пожилая женщина сидела у затянутого льдистой коркой окна и что-то вязала.
– Римма уехала на станцию, к сыну, – выслушав мой вопрос, сообщила она. – Он под поезд, что ли, попал. Ногу отрезало. Лежит там в больнице. А я за домом приглядываю, протапливаю его по утрам…
И тут горе! Как? Что? Не мог Виктор ни с того ни с сего попасть под колеса поезда? Но большего мне соседка ничего не сказала. Подробностей и она не знала. Заныло сердце, забилась в висках кровушка, и в который уже раз за последние предновогодние дни. А что впереди? Лютые холода, зимняя хмарь и неразбивная тоска? Мысли, мысли – безрадостные, неотвратимые гнули меня до самого дома, пока я шел задавленной снегами улицей к Кочергиным. А впереди была обратная дорога в деревню. И так мне расхотелось идти туда, аж слезы подкатились, хоть волком вой…
Глава 4. Знай край и не падай
1
Холод, холод и холод – и за льдистыми стеклами окон, и на душе, и в мыслях, и конца его не угадать, и духом не осилить…
Жизнь моя замкнулась в обмете придавленной сугробами ограды с закутками и навесами да в двух половинках избы. Там, во дворе, в хлопотах со скотиной, дома – в общениях с матушкой и дедом. Лишь один Паша Марфин знал о том, что случилось в райцентре, и помалкивал, то пытаясь затянуть меня на вечерки, особенно загульные в январские праздники, то сманивал охотой на зайцев, предлагая себя в загонщики. Но ни на вечерки, ни на охоту меня было не раскачать – тот глубокий стыд, ожег позора, пусть несправедливого, крепко заякорил меня в родном гнездышке. И до конца Святок – времени тайных посиделок, горячечных игр, запретных гаданий, самого что ни на есть жаркого зимнего веселья, поднимающего душу к каким-то иным, отличных от других праздников, высотам мнимого счастья, проторчал я дома, стараясь не вспоминать ни захватывающую дух толчею ряженых девчат с парнями, ни катанья с горок, ни темных комнат с ворожбой. И особенно отрадно валялось на теплой печке, когда в окна хлестала непроглядная метель, а в избе было сухо, тепло и тихо до озноба.
Но шила в мешке не утаить – уж как прилетело известие о моем исключении из школы через леса и снега, можно было лишь предполагать: или почтальонша Дуся Новакова что пронюхала, мотаясь по магазинам в Иконникове, и растрезвонила, или наш сельский председатель, он же партийный большак – Погонец Илья Лаврентьевич, прозванный Хрипатым за скрипучий голос, постоянно державший телефонную связь с райцентровскими властями, услышал те отголоски. Так или иначе, а все хмарь мне в душу, в гнет мыслей, в опалу совести. Засупонился я в унынии, подвял духом, потерял радость бытия, и мудрый мой дед, поняв мое состояние, затеял разговор о сущности жизни, подытоживая который, сказал:
– Запомни, внук, навсегда: как бы и что бы не было – живи и радуйся, что живешь, радуйся жизни, и все выправится.
Понял я его, да не так просто выправить то, что «согнулось».
* * *
А в самый разгар Масленки – тоже оттуда, из далей времен принесенную в зажульканную лозунгами и призывными речами беспросветную глушь, выжигаемую этой самой агиткой, но несгораемую, заявился к нам Игнат Разуваев – сам колхозный глава, и сразу ко мне:
– Помоги завтра силос отбивать. Мужики не успевают. Скотина в недоеде…
Дед выкраивал из толстого лозняка вязки для саней, вскинул голову:
– Так он еще не дорос до мужика – ломом-то работать.
– Ничего, втянется. Раз в школу не ходит – значит наш, колхозный работник. На печи лежать не позволим…
Матушки дома не было – она веяла зерно на колхозном току, и дед один попытался отделаться от председателя. Я молчал, стараясь не ввязываться в разговор взрослых, – уж так меня воспитали.
– Не пущу я его! – Дед даже вязок хряснул в сердцах.
– А ты что, против советской власти?! – Разуваев нахмурился. Был он высок, грузен, цыганист лицом, не изранен, не изработан.
Дед как-то сразу согнулся над разопревшими в печке ивняками.
– Причем тут власть? – уже без крепости и напора в голосе произнес он.
– А притом, что я от сельского получил указку привлечь к работе всех подростков, которые бездельничают. – Разуваев похлопывал по новеньким буркам коротким кнутовищем. – Давай завтра с утра на базы. – Он мотнул тяжелой головой, обращаясь уже ко мне. – Там Полунина найдешь – он за старшего фуражира…
Это к Хлысту-то в подчиненные! Ни за что! И словно услышав мой внутренний протест, дед вскинулся, выпрямляясь:
– Не пойдет он никуда и баста!
– А, хрен с вами! – Председатель махнул кнутовищем. – Уговаривать мне тут вас! В совете пусть разбираются! – Он, гулко хлопнув дверью, проскрипел в сенях промороженными половицами, брякнул щеколдой, и конский храп раздался за окнами.
– Зацепил Хрипатый, – дед опустил натруженные руки, – не отстанет. А все злоба на меня не дает покоя…
Дед недоговаривал. Но я слышал как-то шепоток, что пути Хрипатого и деда пересеклись в проулке, у дома Дарьи Шестовой. Погонец года два назад схоронил жену, тихую испитую болезнями Феню, с самого конца войны, как объявился раненый в шею, не работавшую, замкнутую, редко появляющуюся на людях, и остался с двумя недоростками: десятилетним Яшкой и малым лет четырех – Проней. И хотя зашиблен он был войной, но еще держался в крепости, еще не дотянулся до тех лет, когда жизнь начинает катиться с горки. Да и не изработался Хрипатый – до войны учительствовал, руководил школой, в войну, говорили, в политруках ходил, и теперь в парторгах да при сельсовете не надрывался. Присмотрелся он к ядреной Дарье, чуть ли не сватался, а тут дед – вот кружева и завязались. Да и какие: ни подумать, ни предположить – фигли-мигли…
– Не мытьем, так катаньем старается меня защучить. Ну да ладно – бог ему судья. А ты пока сиди, ни гугу. Стоит один раз сходить – и зацепят, засупонят с этих-то лет. Одно дело в страду помогать, другое – теперь…
Но вечером, когда пришла матушка и потухшим голосом поостереглась по поводу нашего отказа, мне стало неловко, коряво в душе. Почему они-то, дед и матушка, должны за меня сердце рвать, угрозы выслушивать, приспособляться?.. Еще держались те привычки и порядки, когда, ссылаясь на военное время или тяготы послевоенной разрухи, гоняли людей в молчаливой покорности, как скотину, куда глаз поведет или куда вздумается, выжимая из полуголодных, полураздетых и полуобутых работников последние соки – здоровье и дух, которых оставалось с пушинку. А на тех, которые роптали, быстро находили управу – зацепок для этого у начальства было не счесть: от вгоняющей в гроб работы до тюрьмы. Страх этот, поднятый до небывалых высот еще в то время, когда рушили крестьянские хозяйства, сметая их в общую кучу, гробил семьи, невинных людей, вошел в кровь и плоть многих поколений, а у тех, кто видел кошмары того ада наяву, и вовсе сжигал волю и дух при малейшем недовольстве начальства. И если дед, в силу возраста, давней, еще с царских времен, закваски, прошедший и Мировую войну и Гражданку, как-то держался, то матушку при одних мыслях о неповиновении властям начинало трясти, а ради нее я готов был на все.
* * *
Утрами изморозь обсыпала протаявшие на солнцепеках козырьки дворовых навесов, темную вязь полуутонувших в снегах плетняков, с торчащими, словно выщербленные зубы, концами кольев, заплоты и дорожный накат в ошметьях стылого навоза. Непривычно белые, будто укутанные пухом леса в куржаке окаймляли околицу седыми кудряшками по блекло-голубому в теплых прожилинах небосводу. В день, как солнце нагоняло тепла и света, все обнажалось, плавало в золотом тумане, в размытом, ослепленном яркостью пространстве. А ночами гулял мороз, и не малый.
Почти метровый слой земли, засыпавший силосную яму, не поддавался ломам, и лишь толстые, в разбитой бахроме шляпок, штыри, которые приходилось вбивать кувалдой, кое-как отслаивали пласты смерзшейся глины. Там, под ней, исходил сладким запахом прели спрессованный тяжестью земли силос – озерная осочка да ржанцы, подмога к сухому корму скотине…
Кувалдой махал больше Петруня Кудров, а Хлыст суетился в начальственных советах, то хватаясь за лом, тот, что полегче, то впихивал в пробитые дырки стальные штыри, и все балагурил, не переставая, зудил уши разными байками и сплетнями. Петруня, в задыхе от тяжелой кувалды, не раз его осаживал. Да что толку – не надолго.
Мое дело – бить дырки и оттаскивать увесистые комки стылой земли на боковые отвалы ямы. Самый тяжелый лом, не лом – ломище, граненый, почти в мой рост, едва подъемный с такой натугой, что глазам становилось тесно в орбитах, вздымал я после того, как разделывал углубление более легким и коротким ломом-кругляком. А уж отваливали мы глыбины мерзлоты сообща, как придется, разными приемами, с надсадой. Я – молча, взрослые – нередко с матерками.
Терпкий пар поднимался от обнаженного силоса, и едва открывалась его пощипанная вилами макушка, как появлялся Федюха Сусляков на розвальнях, заляпанных коровьими лепехами, размазанными и пристывшими к треснутым доскам корыта. Со скрипом, с унылой обреченностью, враскачку тащил сани однорогий, с затекшим глазом, исхлестанными, в полосах, боками, пестрый бык. Привычно он затягивал розвальни на отвал, и Федюха, ломаясь в пояснице и коленях, ковырял вилами, как отгрызал, спрессованный, спутанный в травяной завязи, силос и кидал его в емкое корыто. И так до середины дня и после – до вечера…
Первые дни я в ознобе тайной тревоги ждал от своих подельников, особенно от Хлыста, едких вопросов или даже насмешек по случаю моей не учебы, но их не было. То ли простое безразличие стояло за этим, то ли в запале работы забывалось столь маловажное событие – не один я в деревне не учился, то ли понимали мое состояние напарники и не бередили душевную болячку. Во всяком случае, пока разговор о том не заводился…
Едва солнце запуталось в щетине заалевшего леса, как мы, прикрыв соломой изгрызанную отбором травяную слоенку и определив свой трудовой инвентарь в схоронке, двинулись к поскотине засеревшей в быстрых сумерках деревне. Шаги наши, тяжелые, вялые, в раздумье, с прикидкой, озвучивались легким похрустыванием снега. Намучившись и наговорившись за день, мы шли молча, каждый со своими думками, своими чувствами. Осторожно, словно боясь завалиться в синеву снежных теней, нес я свое гудящее от перенапряжения тело, вдоль которого, будто чужие, привязанные в плечах, висели неподъемные, издерганные ломами руки.
– Махнем прямиком, через ограду Хромого, – глуховатым, надорванным долгим пустословием голосом предложил Хлыст, – ноги не держат, а тут на полверсты ближе.
Хромым успели окрестить Антона Михалева за его припадание на раненую ногу.
– Так огородом не пройдем, – засомневался Петруня, – и что Антон скажет, как нас в ограде увидит?
– Пройдем. Хромой проторил дорогу – он в обед каждый день на санях с огорода подъезжает. И сейчас на конюшне – корм лошадям раздает на ночь…
И до войны, и сразу по возвращении с фронта Михалев ходил в конюхах. Оно и лошадей-то осталось с полдесятка, но держали их в особом догляде, вели к расплоду. И понятно – без лошади в селе морока…
Пока прошли поскотину и отмерили Михалев огород, и вовсе затемнело. Таясь и озираясь, крались мы гуськом среди хлевушек и сарайчиков чужого двора и уже пролезли через калитку, как Хлыст вдруг затих, прислушался и стал приглядываться к баньке, темнеющей в дальнем углу ограды. Что-то там едва-едва заметно поблескивало. Это и я разглядел и тоже остановился, и Петруня притаил шаги, оглянувшись на нас.
– Тихо, ребцы! – Хлыст приложил голицу к носу. – Вроде в бане кто-то моется.
– Ну и что? – не понял его Петруня.
– Так сегодня четверг – какая баня? – Хлыст вдруг вприклонку, кошачьей украдкой потянулся к баньке, заползал тенью вдоль ее стены и тут же словно порхнул к нам. И откуда силы взялись?
– Сейчас упадете, бежим! – Он схватил нас под руки и потянул за угол дома, в проулок. – Что я увидел! – поднял на высокую ноту вдруг прорезавшийся голос Хлыст. – Окно плотно чем-то занавешено изнутри, – начал он в захлебе, – но там, в той занавеске, махонькая дырочка оказалась – я и приложился глазом…
Петруня все так же вяло поглядывал на Хлыста, вероятно ожидая услышать какую-нибудь очередную ерунду, и я не мог понять столь быстрой запальчивости Иванчика.
– А там Разуваев и Грунька Худаева в почесоне. Голые, напаренные…
Вот это действительно оглоушил! Про Разуваева давно слушки ходили, а Груня вроде с Алешкой Красовым в сожительстве состояла, и такое?!
– Чеши язык-то! – не поверил Петруня, резко вскинув голову.
– Айда сам смотри! – тряхнул рукой в сторону Антонова двора Хлыст. – Я сейчас Паруньке Разуваевой в окошко стукну и к Алешке добегу! – загорячился он, и я понял, что все сказанное правда, и оторопел, в расхлест забуровили мысли, вытесняя из туманного прошлого голые женские тела, видимые в младенчестве, в бане, и совсем некстати тогдашний конфуз, так пронзивший меня мучительным стыдом.
За неимением собственной бани мылись мы у соседей, по очереди. А поскольку мне еще и шести не стукнуло и самостоятельно я не мог себя должным образом обиходить да и жарко было на помывке с дедом – мужчины парились, мылся я с матерью, в компании нескольких соседских женщин. И как-то раз мой «титешик» вспырился штырьком ни с того ни с сего, и одна из женщин заметила матери:
– Мальчик-то уже подрос, надо бы ему с мужиками мыться…
Я это конечно услышал и набычился в стыде, и едва не заплакал, и мытье мне стало не мытьем. И почему-то именно та сумеречная баня в тесноте женских тел выплыла из памяти, и я даже плечами передернул, хотя они и непослушно деревенели.
– Тебе это надо? – сбил вихрь моих мыслей Петруня, не одобряя Полунина.
– Надо! Этого колхозного производителя давно пора осаживать – всех баб по деревне перещупал.
– Да ты знаешь, что тут будет?! – Петруня чуть ли не подпрыгнул, резко распрямившись. – Смертоубийство!
Но Хлыст будто уплыл в тень забора и мигом исчез.
– Вот зараза! – Петруня сплюнул. – Наделает делов!
Мы все стояли в тени чьего-то сарая, напротив Михалевского двора, в растерянности, недоумении, замешательстве.
– Надо же было такому совпасть! – Петруня топтался, сутулясь, посматривая в темноту заснеженного проулка. – Не даром говорят: чему быть – того не миновать. И почему они у Антона в бане?..
Я дрожал непонятной душевной дрожью не то в предчувствии беды и страха за нее, не то от возможности увидеть невообразимое зрелище, когда и любопытно, и боязно, и опасно, и едва улавливал в наплыве мыслей, рисующих невероятные картины, тихий запал Петруниных слов.
– Хотя понятно, – все рассуждал обычно немногословный Петруня, даже не оборачиваясь ко мне. – Край деревни, отшиб, кто тут заметит. Да и обустроился Алешка крепко: баня у него по-белому – любо-дорого, мойся-милуйся. Только почто он пошел на это? И тоже понятно: конюшить – не ломом махать. А Разуваев вмиг прижмет, если что не по ему…
Жизнь, жизнь… И как ты непонятна, непредсказуема и порой нелепа. Ну что надо этой самой Груне Худаевой? Алешка – мужик видный, поднял ее с ребенком, а все туда же?..
– И эту Груньку, – словно угадал мои мысли Петруня, – наверняка Разуваев подмял. Недаром она на семенной глубинке сидит…
И дальше – больше шалел я от непонятности, от предчувствия того, что могло произойти. Говорили мы с надрывом, с дрожью, слегка подпихивая друг друга в бока. И уйти бы нам, но разве осилить те сложные, глубоко тревожащие чувства, то необъяснимое желание увидеть нечто небывалое в житейском раскладе, потянуть свою душу в щекотливом напряге, холодном трепете ощущения того края, за которым начинается пустота, нечто не осмыслимое, где разум тает, как снег на солнцепеке, и нет ходу сознанию, есть лишь одни чувства…
Первой мы увидели грузную Паруньку Разуваеву, будто плывущую посреди улицы в распахнутом полушубке, с растрепанными волосами, и притулились к стенке сарая, в тень.
Дом Разуваевых поближе, чем примаковский двор Алешки Красова, потому и вымахнула Парунька раньше.
Все во мне затаилось в тонкой дрожи, затекло, застыло: ни мыслей, ни ощущений – одни глаза схватывали каждое движение Паруньки да слух ловил каждый шорох.
Чем ближе подходила Парунька ко двору Михалева, тем быстрее смещалась ее темная фигура над снегом, и вот она исчезла в ограде, в темноте построек, и тишину вечера ворохнули вначале непонятный шум, а потом крик с визгом. Во дворе блеснул какой-то отсвет и чья-то неясная фигура тенью метнулась в глубину сараек, и тут же через ворота большой птицей трепыхнулся полураздетый, в пару, человек и, пригнувшись, озираясь, сиганул в проулок. Это был Разуваев в накинутом полушубке и черных пимах. За ним, расхухринная, похожая на огородное пугало, захлебываясь в ругани и размахивая голиком, вынырнула Парунька. Снег взметывался от ее валенок – и откуда духа хватило, напора. Разуваев, в огляде, едва уносил полуголые ноги от разъяренной жены. И эта нарушенная сумеречная тишь, вязкий бег с крепкой бранью никак не походили на реальность. Я, цепенея от увиденного, даже встряхнулся: не снится ли все это?
– Грунька-то где-то в сарайках притаилась, – донесся трепетный шепоток Петруни. – Вот дела!..
И тут, почти рядом с нами, появился высокий человек, а чуть от него поотстав – другой. По широким плечам я сразу узнал Алешку Красова и Хлыста позади него. И как-то пакостно стало на душе, хотя сам я вроде ничего гадкого и не сделал, но ощущение непристойности нашего любопытства, как бы совместного доноса, жулькнуло совесть, отяжелило плечи. Недаром Алешка прошел мимо нас, даже не поздоровавшись.
Еще слышались где-то за дворами визгливые крики Паруньки, и едва Хлыст поднырнул в тень сарая, как Алешка остановился.
– А где та? – Он обернулся к нам.
Петруня тряхнул головой, помедлил с ответом, а я, поняв о ком он спрашивает и боясь того, что может произойти, не сдержался и, едва ворочая языком, глуховато произнес:
– Мы никого не видели.
– Не видели?! – Алешка был явно в тяжелом напряжении, хотя лицо его в сумерках лишь слабо белело, но голос почти звенел басовой струной. – А кто там визжит в проулке?!
– К бабке не ходи, Парунька Разуваева. – Хлыст ухмылялся. – Твоя где-нибудь в ограде спряталась, а может, и в дом к Стешке забегла. Та пустит. Небось знала, что сынок председателя улещает…
Все его шакалье поведение отвращало, тянуло черноту в душу, и от сознания того, что и я оказался в одной компании с этим человеком, что и меня Алешка, которого я уважал, несмотря на его, судя по разговорам, непристойное отношение к Насте, увидел здесь, коробило, мучило стыдом.
Больше слушать Хлыста и нас вместе с ним Алешка не стал и таким же размеренным шагом пошел к дому Михалева.
– Найдет! – как отрубил Хлыст с каким-то злорадством. – Будет концерт! Жалко, что не успел поглядеть на Разуваева… – И пошел он язвить в расспросе: что да как?
Петруня, весь день терпевший его судачество, вдруг резко пихнул Хлыста локтем в плечо и хрипловато предупредил сквозь зубы:
– Хватит гнать вони на душу! Захлебнешься дермом-то!
И Хлыст осекся, не ожидая от спокойного, мягковатого характером Петруни такого резкого обрыва, опасливо откачнулся.
Тут истошный женский крик шибанул в уши, встряхнул до жилок. В створе распахнутых ворот появился Алешка, а за ним, вертыхаясь, куролесила на полусогнутых Грунька – голова запрокинута, волосы в кулаке у Алешки.
Ни почувствовать, ни предположить я ничего не успел. Размашистым движением Алешка кинул взвывающую бабу на снег и стал пинать широко, основательно. И уже не крик, а пронзительный визг хлестанул в промороженный воздух. Аж мурашки защипали спину и жуть тиснула сердце.
Первым кинулся к Алешке Петруня, схватил за плечи. Но Красов отмахнул его, как клок сена, и тогда Хлыст нырнул на выручку вприклонку. Вдвоем они навалились на разъяренного Алешку. Но он покидал их в снег и начал махать кулачищем.
– Не подходи! Убью!..
Заденет – пришибет, мчались мысли, но ввязываться в кутерьму со взрослыми я не решался, стоял в горячечном волнении, наблюдая, как сшибаются в свалке мужики.
В проулке зафыркала лошадь. Стоя на санях, спешно гнал ее Михалев. И началось! Раза два доставал Алешка кулаком Антона, но все вскользь. Тот, прихрамывая, вертелся волчком, и Петруня с Хлыстом мешали.
– Сводник е…! Порешу! – орал в захлебе Красов, забыв про Груньку, которая ползком, ползком, утопая в снегу, старалась убраться подальше от дерущихся мужиков.
И я, несмотря на неприязнь к ней, не вытерпел, рванулся на помощь, ухватил ее за рукав тужурки, поднимая, и поволок в заулок, в темноту чьего-то сеновала.
Грунька всхлипывала и стонала, тяжело повисая на моей руке. От нее пахло баней и березовым листом, и оглядываясь, боясь погони, я заметил, что она голая. Лишь плюшевая тужурка да юбка, задиравшаяся постыдно, прикрывали плотное, налитое тело Груньки. И этот невольный подгляд в распах тужурки, из которого несло охмеляющим теплом белых, округло крупных грудей; в заворот юбки, на облепленные снегом крутые ноги, кидал меня в кипень ненормальности, не осмысляемой отрешенности. Безвольная, избитая, в мокроте банной помывки и растаявшего снега, женщина, почти бессознательная, стонущая от страха и боли, и дикие крики все еще не унявшихся в разборке правоты мужиков, так рвали душу и обжигали разум, что ноги у меня подсеклись и ткнулся я вместе с Грунькой под чей-то початый омет сена и затих, замирая в неподвижности, в охватившем все тело и сознание ознобе, в котором не ощущалось ни мороза, ни членов, не улавливалось каких-либо здравых мыслей. Нескончаемые секунды лежали мы на подстилке из натерянного сена, близко друг к другу, в непроизвольном охвате, и мне казалось, что я не живу, а лишь откуда-то извне, из темноты заснеженного сенника, зрю нависший козырек общипанного зарода, блеклое небо с мелкими искорками звезд и как-то призрачно, вселенски пусто, чувствую теплый дух, исходящий от привалившей ко мне женщины, волну ее дыхания, запахи тела, сена, стылого заснежья… Остановилось время, остановилась здравость. Миг – и Грунька, с перевалкой, стоном откатилась от меня и поднялась, откидывая от лица покрывшиеся инеем волосы. Покачиваясь, медленно, не проронив ни слова, она двинулась в сторону темнеющей за сенником ограды. И сразу я ощутил и холод, и морозное дыхание плотно осевшей ночи, и далекий лай собак, и тонкий аромат сена, и тяжесть во всем теле, звон в голове, и тоже поднялся.
Ни криков, ни шума со стороны улицы не было слышно, и я пошел туда, где минуты назад хлестались в разборке молодые мужики, вновь и вновь воссоздавая воображением происшедшее и пытаясь разобраться в нем, понять и принять умом и сердцем, уложить в памяти, угадать ту цепочку событий, какую вытянут за собой так неожиданно завязавшиеся роковые узы… И опять, несмотря на жестокость, проявленную Красовым, мои симпатии были на его стороне, хотя какие-то побуждения, так неожиданно связавшие меня с избитой, беспомощной женщиной, замешанные на жалости и еще на неких необъяснимых, неясных чувствах, тянули в другую сторону и разобраться в них я не мог.
2
Не думалось и не гадалось, что росплески той тайной помывки, отголоски того бабьего визга разнесутся так далеко и потянут за собой крученую пряжу судьбоносных нитей, вплетенных в жизнь целой деревни, а с нею и в мою. Как не изворачивалось местное начальство в поводу Поганца и Разуваева, истина дошла и до райцентра. А на общем собрании в присутствии представителя власти районной ступени Разуваева спихнули с председателей и на его место прислали нового, фронтовика из соседней деревни Изгоевки, с коей мы объединились в один колхоз имени «Первого мая». Разуваев спрыгнул с шестка председателя на шесток бригадира нашего же отделения и в общем остался тем же самым первым колхозным лицом в деревне, поскольку новый начальник жил в Изгоевке и к нам наезжал от случая к случаю.
Разуваев не очень-то опечалился своему, казалось бы, понижению, и что странно, вместо того чтобы как-то мстить Хлысту, вознес его, поручив заведовать скотофермой. Зато я и Петруня почему-то стали ему поперек горла: при любом мало-мальском поводе он старался нас унизить, двинуть на самую что ни на есть отвратную работу, и долгое время, почти неделю, мы чистили навозную яму у одной из скотных баз, провоняв дерьмом до корней волос. Лишь много позже я узнал, что именно Хлыст свалил все свои грехи на нас, а тогда шли дни, грело солнце, оседал снег…
Все такой же осанистый, грузный и важный подкатил к нам вершнем Разуваев, осадил жеребца у самого края выгребной ямы, насупил густые чернющие, как охлестыш горностаева хвоста, брови и зло зыркнул из-под них на Петруню:
– А то дерьмо, в яме, я выхлебывать буду?
Петруня не очень-то перед ним робел – как-никак фронтовик, да еще и награжденный. Он распрямился, вывернув лопату из навоза, вскинул светлые с голубой поволокой глаза на бригадира.
– А ты мне обувку подходящую дай туда лезть – мои фронтовые подтекают.
– Ишь чего захотел – хромовых сапог! А кафтан расшитой тебе не надо?..
Я стоял, разглядывая свои заляпанные коровьим пометом валенки в галошах, и что-то дрожало во мне тревожно, гасило волю, гнуло голову.
– Кафтан мне ни к чему, – не изменил голоса Петруня, – а хромочи бы не помешали.
Разуваев качнул головой в мою сторону:
– Сам не можешь – так молодого пошли, пусть гребет…
Прав был дед: запрягли меня в колхозную ломовщину – изо дня в день в подсобниках, а заработки – палочка в тетрадке Разуваева, и может, и того он не ставил, забывал, и даже намеренно, попробуй проверь его. Да и кто это позволит? Гни спину и помалкивай.
– Я, что ли, крайний? – Голос мой слегка дрогнул, и это уловил бригадир. Он скривил большой рот не то в ехидной усмешке, не то в злобе и отсек:
– Надо будет – и крайним пущу, а пока дуй вон на склад за старым ведром и веревкой – отчерпывать эту жижу будете…
Его приказной тон, издевательская ухмылка ожгли, как кнутом.
– Я не парашник – плескаться в говне! – На этот раз мне удалось сказать это твердо.
Лицо Разуваева налилось краснотой. Показалось, что и рука его, сжимавшая короткое кнутовище, дрогнула.
– Саботировать решил! Да я тебя в этом самом говне утоплю и весь сказ!
Откачнувшись, чтобы не поймать взлетевшую плеть кнута, я съехал на калошах с навозной кучи и пошел, не оглядываясь, весь сжавшись, остро улавливая звуки и ожидая или окрика, или лошадиного храпа в наезде. Что-то говорил Петруня, но я не разобрал.
– Сопляк еще тут выделываться!
Это уже Разуваев повышенным тоном отвечал Петруне. А я шел, едва волоча и без того тяжелые, а ставшие будто чугунными ноги, и не меньшая тяжесть оседала в душу, и сильнее всего она сжимала сердце за то, как будут страдать из-за моего поступка дед и матушка. Попробуй теперь сунься к Разуваеву с какой-нибудь просьбой – отошьет, не посчитается, что матушка лето и зиму без выходных трудодни отрабатывает. А в его власти и тягло, и разрешение на покос, и на лесную деляну для заготовки дров, и мало ли что может выплыть в крестьянской жизни. И что же я такой неудачливый родился?! Никакой от меня радости близким!.. И так заели меня эти мысли, что свет стал не мил, и тянул я валенки в отрешенном оцепенении, не ощущая ни напористого ветра, катившегося из озерных далей, ни холода. Представилось, как сморщится в горести лицо матери, потемнеют ее глаза во влажном наливе, как метнет печальный взгляд понурившийся дед…
И все так и было: и немой укор матери, и растерянность в словах деда, и моя непроходимая боль за них. Но чувство правоты, должной справедливости осветляли совсем было утянувшие в мрак безразличия мои мысли. И от них тонкой вязью наплескивалась успокоительная дрожь…
* * *
К бане пришел Паша, забалагурил, засмеялся залихватски, и как-то отлегла от сердца тревожная хмарь. Повеселел закатный день, посветлела изба, посветлел лицом дед, и матушка попритихла. А дальше – больше, очищались мы в парном захлебе от духовной и телесной скверны: топили в остроте жара и хлестком переплясе веников тревожные ощущения; истомлялись в легком отходе от житейской суеты на соломенной подстилке предбанника…
А потом была карусель и горка, большой костер в заигрыше с Масленицей – надвигалось время «на горах покататься, в блинах поваляться». И хотя про блины оставалось лишь мечтать, горку подняли вровень с избами возле подворья Прохора Демина, на пустыре. Утолкла ее ярая до игр холостежь, а уж карусель – тележное колесо на оси вертикального, вкопанного еще с осени, сутунка с двумя жердями – водилами соорудил сам плотник – большой любитель азартных развлечений. Если упадет Прохор на широкие санки, привязанные к концу жерди, то крути колесо – не крути – не свалить его с них: лежит, как привязанный.
Мне санки для катания с горок сделал дед еще в тот год, когда закончилась война. Да такие, что любо-дорого: в меру широкие и длинные, устойчивые, с гнутыми в полукруг головками полозьев с копыльями в лозовых вязках – сколь лет прошло, а они сохранились крепкими, как раньше, разве что поусохли малость да потемнели.
Мы с Пашей и потянули салазки в плотную муть дальней улицы, на которой уже бился отсвет кострища и слышались крики молодежи.
Сперва я продержался круга три-четыре в карусельном вихре, а потом Паша повеселил карусельщиков, раза два перевернувшись в заверте санок, и тут же, заметив Шуру Клочкову, отмахнул в серость ночи.
Я, подняв санки на плечо, полез на горку. Там, наверху, уже орали взахлеб гуляющие, бились снежные всплески от стремительных санок. И я, пронырнув со своими растяпистыми салазками через толпу, затих духом на взлобке горы. Тут кто-то увалился на них сзади, захватил меня за шею. Я и очухаться не успел, понять, кто да зачем, как санки, качнувшись вперед, стали падать в темноту наезженного желоба. Сердце захолонулось, дух зашелся от встречного воздуха, едва успел я зацепиться руками за головки полозьев и ощутил по неким непонятным признакам, что сзади пристроилась какая-то деваха. Мягкость ли рук, тела или тонкое дыхание утвердили меня в этом, но так оно и было. Когда санки сверзлись с горы и сбавили ход, кто-то, катившийся следом, зацепил их за грядку, и я вместе с непрошенным седоком вылетел в снег на обочину желоба. И тот, кто сидел сзади, навалился на меня сверху. Тихий всплеск смеха лицом в лицо, и я увидел огромные глаза Насти Шуевой, ощутил тяжесть ее крепкого тела, и еще не успев ни вздрогнуть, ни замереть и ни обрадоваться, как она ткнулась горячими губами куда-то мне под ухо и прошептала:
– Если не выйду замуж за пару лет, засылай сватов, – и вскочила резво, растаяв в темноте за мелькавшими фигурами людей. А я не сразу пришел в себя, полежал в оцепенении с полминуты, покосил глазами туда-сюда, пытаясь найти Настю и определить – не видел ли кто нашего кувырка, моего благоденствия? Но вокруг все мельтешили в играх, и вряд ли кто обратил внимание на нас – не одни мои санки отлетали в сторону от ударов и зацепов катающихся, и хотя я понимал, что это нечто мимолетно-накатное, игра, и возможно, игра на кого-то, не жестокая, но и не праведная, а все не хотел тому верить, отгонял ту трезвость, тонул в мороке… И тут я услышал быстрый горячий говор:
– Алешенька, родной, ну прости, прости! – И еще что-то не совсем понятное.
Я скосил глаза: невдалеке стояли двое. Из-за темноты не разглядеть было ни лиц, ни ясного очертания фигур.
– Иди, иди отсюда, курва! Иди, и чтобы я тебя больше не видел! – Голос был Алешки Красова – уж его-то я отличал от других: низкий, грудной. А та, стоявшая рядом, видимо, была Грунька Худаева. Поговаривали, ушел от нее Алешка к матери после того случая в бане. Да и как иначе? Иначе все уважение к нему, и не только у меня, выцветет. И кто знает, может, из-за этого, из-за возможности потери того самого уважения, мужского достоинства, чести, и отрек Алешка свою роковую любовь?..
И зашлось дыхание, погорячело в горле – сразу столько навалилось: и это ласковое прикосновение лицом к лицу, и поцелуй, и умопомрачительный шепот с намеком, и умоляющий голос раскаянья, хватающий за сердце, – все это закрутилось в таком вихре мыслей, что ни горка, ни карусель, ни бьющий в темное звездное небо костер, ни азартные крики не задевали душу, и каким-то сторонним наблюдателем всего этого был я.
Исчезли в темноте и сутолоке Алешка и блудная его женщина. Я притаился в сторонке, все еще храня те ощущения, то ускользающее в небытие состояние, которые озарили меня на мгновения, подняли над кутерьмой обыденщины, отодвинув в даль-дальнюю горечь недавних тревог. И тут снова лицо мне закрыли теплые ладони – кто-то притулился сзади. Даже через одежду в морозном окате показалось, что я чувствую горячую упругость чужого тела, и зашлось сердце, чуть ли не вырвалось имя, которое жаждалось-ждалось, но мой тонкий слух уловил легкий смешок, и резко развернувшись, я чуть ли не носом к носу столкнулся с Катюхой. Как некстати объявилась эта озорная девчонка! Спугнула мои грезы, мою блажь… А она без лишних слов плюхнулась на санки и как проворковала:
– Прокати!
И то ли в неком неистовом азарте, то ли из озорства резко рванул я санки за тягловый ремешок, и они выскользнули из-под Катюхи. Распласталась она на снегу, трепыхнув юбкой, и смех всколыхнул меня, и ее, егозу, пружинистую, живчиковую ухватил я за плечи и потянул на санки. И откуда силы взялись – чуть ли не бегом были заволочены они на горку, а оттуда – снег в лицо, ветер в уши, и теплая доверчивость Катюхиного тела, ласковое объятие ее рук. И ни раз, и ни два садилась она на салазки сзади, охватывала мою шею и льнула всем гибким телом к моей спине, радостная, игриво-лихая, и не оторваться было от ее наивной чистоты, преданности, искреннего веселья, и таяли во мне прежние чувства и мысли, и какой-то щемяще родной блазн исходил от Катюхи, охватывал душу.
Катались мы, катилась ночь…
3
Утро было хмурым и волглым. Я выгребал навоз из коровьего хлева и на стареньких санках с плетеным коробом утягивал его в огород.
Хлопнула калитка, и в ограде появилась Дуся Новакова, почтальонша и посыльная от сельсовета, увидев меня, крикнула:
– Леня, тебя в совет вызывают, уполномоченный приехал!
Затаилось дыхание, затаилось сердечко – зачем? А мысли потянулись к той размолвке с Разуваевым, и язык, как приклеился к нёбу – слова не вымолвить. Дуся, видимо, поняла мое состояние и, уже уходя, обернулась:
– Не бойся, ни одного тебя дергают, почти всех, кто не учится.
– А в чем дело?
– Не знаю. Мне не доложили. А ты иди сейчас – пока никого нет. Первому все лучше. – Опять хлопнула калитка, и посыльная промелькнула за палисадником.
«Что за дело придумал Хрипатый? Да еще и уполномоченный прикатил из Иконникова? Поди на жеребце в кошевке?..»
Холодный обмет, обнесший меня в тот момент, когда Дуся стрекотнула про вызов, стаял, хотя не до конца: тревога, въевшаяся в душу занозой, не отступала.
Дед, узнав о вызове, долго в раздумье щурился на окно, а потом посоветовал:
– Не горячись там и обещаний никаких не давай, бумаг не подписывай. Отнекивайся, мол подумаю, посоветуюсь с матерью. Мне туда не следует появляться – Хрипатый еще пуще распалится.
– А может, не ходить? – с робкой надеждой спросил я.
– Не-ее, сходи, а то еще приедут, как в тридцатые, и загребут, – говорил это дед на полном серьезе, так въелись ему в память тревожные времена.
В лихорадочной спешке стал я собираться в сельсовет, скинув домашнюю, для работы по двору, одежду и надевая выходную. Не заявляться же к районному представителю чумазкой…
Шел я и все прикидывал: за что да зачем? Хотя предчувствовалось, что мой уход с работы, неподчинение начальству не обойдутся, не истают сами собой. Да и в последние дни я находился дома: никто меня не тревожил с колхозным нарядом, а самому не очень-то хотелось туда лезть.
Приближение весны ощущалось во всем: в мягкости и влажности воздуха, в осевшем снеге, в туманности далей и конечно же особом настрое, когда ждешь чего-то и не знаешь чего – мысли бродят, кровь бродит и нет спокойствия даже в снах.
Притаилось сердечко птичкой в клетке, потяжелели ноги, поплыло в голову тепло. Почти безвольно отворил я двери казенного дома, к коим всегда, с детства, имел смешанное чувство уважения и страха, и остановился удивленный: в углу, у окна, за большим столом сидела Лиза Клочкова, зачесанная гладко в большую косу, с выпирающими над столом грудями, туго обтянутыми платьем. В темных глазах ее мелькнуло что-то похожее на радость и исчезло.
– Ты что здесь делаешь? – От меня как откатилась затаенная оторопь: Лиза-то свойская, ее присутствие – уже поддержка.
– Работаю. Секретарем. Илья Лаврентьевич пригласил.
Мазануло это сообщение по душе половой тряпкой, потянуло нехорошие мысли, но я отогнал их.
– И давно?
– Неделю.
Тут приоткрылась дверь и в проеме показалась голова Хрипатого: волосы зализаны назад; лицо в редких оспинках; глаза, как отмороженные, почти безбровые; рот – щелью, безгубый; подбородок скошен, кожа под ним изжульканная шрамами. Вначале он, не заметив меня, одарил масляным взглядом Лизу.
– Ты с кем тут разговариваешь? – И обернулся – лицо его сразу затемнело. – А, скандальный герой! Заходи, заходи, как раз кстати.
Шагнул я в распахнутую дверь, как с головой в омут бросился. За столом чужой, в темно синем кителе без погон. Перед ним – какие-то бумаги, на краю стола, на тоненькой папке – пистолет. Он, этот пистолет, сразу зацепил мой взгляд. Таких я еще не видел даже в кино: плоский, курка не видно, без барабана… И хотя понятно было, что положен он на виду для острастки, а все не по себе стало.
– Вот один из кандидатов, – обернулся к нему Хрипатый. – Тот, про которого говорили, – Венцов Леонид.
– Садись, молодой человек, – любезно кивнул на стул перед столом представитель райцентровских властей – мужик, как мужик, не особо приметный, но и не ущербный. – Что же это ты не дружишь с законом?
Я понял, о чем речь, но попытался отвернуть лицо, осторожно опускаясь на стул.
– Из школы исключили и здесь не хочешь работать. Жалобы на тебя от руководства…
Хотелось понять, в какой «угол» он меня загоняет, но мысли не складывались.
– Ну так как, будем понимать власть?
– Про школу вам известно – несправедливо там все было, – подал я голос, стараясь говорить негромко. – И тут не лучше: если он бригадир, так может кнутом махаться.
– Ишь праведник, – ощерился Хрипатый, – а саботаж устраивать можно?
Уполномоченный поднял руку над столом, как бы приглашая сельского помалкивать, и он умолк.
– Ладно. Разговор касается другого: городу нужны рабочие руки, и руки молодые. Заводы пускаем один за другим, а кадров не хватает. При многих предприятиях имеются ФЗУ – фабрично-заводские училища – кормежка, одежда, жилье – бесплатные и после – приличный заработок. Понятно, что набирать в эти училища мы можем в основном сельскую молодежь…
При этих трех произнесенных буквах я сразу понял, куда он клонит, и сразу отмел мысленно те посулы, решив отказаться.
– Так вот, – все продолжал агитировать меня приезжий, – тут мы посоветовались с Ильёй Лаврентьевичем и кое-кого решили порекомендовать в эти престижные училища, в том числе и тебя…
«Меня матушка в Суворовское не отдала, а тут какое-то ФЗУ, да еще и под пистолетом…»
– Что скажешь?
Я потянул чуть-чуть с ответом, глянул на чужака смело.
– Подумать надо, – пришлось схитрить, памятуя советы деда. – Без согласия матушки как?
Начальство переглянулось.
– С матушкой мы потом поговорим, отдельно…
Представив ее у стола, на котором чернел дулом пистолет, я внутренне вздрогнул.
– Ее-то зачем?
– А чтоб не препятствовала.
– Она не будет, если я решу твердо.
– Вот и решай, – снова влез в разговор Хрипатый, и снова райцентровский покосился на него.
– Все равно это обговорить надо – мать есть мать. А вообще-то я хочу дальше учиться, в школе.
– Учись, – уполномоченный растянул в улыбке вислые губы, – там и получишь нужное образование и одновременно – специальность.
– Сразу так я не могу ответить, – как бы подытожил я разговор.
– Думай, решай, но не долго. По всем вопросам к Илье Лаврентьевичу. А он мне сообщит. Не забывай, за тобой проступки…
Выходя, я обернулся на Лизу. Она сидела, потупясь, какая-то совсем другая – не такая, какой я ее знал. И вдруг я понял, что юность наша кончилась, началась другая жизнь, другие отношения.
На крыльце я столкнулся с Мишаней Кособоковым. Лицо у него – беловатое, глаза испуганные.
– Ну что там? – тихо зашептал он с оглядкой.
– В фзушники сватают, хлеб с маслом сулят.
– Согласился?! – Мишаня округлил глаза.
– С чего бы? Я дальше буду учиться, как положено: в школе.
– И меня вызвали. Не знаю, что делать? – В голосе приятеля было столько печальной растерянности, что я подбодрил его:
– Да ты не бойся, не в тюрьму вербуют – учиться. Ты же здесь дальше не двинешься, а что будешь делать? Быкам хвосты крутить?..
Мишка, ничего не сказав, вдруг шагнул за двери, а я медленно сошел с крыльца, думая: правильно ли поступил, дав ему совет с намеком, и решил, что правильно. Мишка еле-еле семилетку осилил, куда ему дальше тянуть учебу – срежется. Да и четверо их – сыновей у Кособоковых, неразбежишься с подмогой…
Наискось, за широким размахом на соседнюю улицу, темнела большими окнами наша бревенчатая школа, и меня вдруг опахнуло таким теплом воспоминаний, такой светлой тоскою, что я почти непроизвольно стал пересекать это широкое пространство, оставленное незастроенным для сходок и гуляний еще в те далекие времена, когда деревня зарождалась. Чуть ли не до каждого бревнышка, до любого резного наличника, потайного уголка внутри и во дворе освоена была школа за семь лет учебы, и рисовались в памяти наши игры, шалости, светлые и обидные эпизоды, учителя, соклассники… И рой их попритих лишь тогда, когда я с робкой оглядкой прошел мимо высоких окон, чуть-чуть прикрытых голыми ветками акаций за штакетником палисадника, забитого снегом.
Широкий коридор, в котором изредка, за неимением клуба, ставили кино и через окна которого мы, толкаясь, пытались рассмотреть, что там, на экране, происходит, показался мне небольшим. За дверями классов, как всегда, шелестел шумок. Я, тихо ступая валенками, прошел к дверям директорского кабинета и легонько постучал в них козанком пальца.
– Да, да, войдите, – это был голос Ивана Ивановича Сусальникова, мягкий, глуховатый. Я тут же распахнул двери.
– А-а! Наконец-то. – Он улыбнулся. – Слышал, слышал о твоих неприятностях в Иконникове. Давно жду…
Уважал я директора за справедливость, честность, доброту и относился к нему, как к близкому человеку. Да и он был благосклонен ко мне – учился-то я на одни пятерки, и один во всей школе.
– Думаю, разговор у нас долгий, – пригласив меня сесть, свел рыжеватые брови Ван Ваныч, как мы его звали заглазно. Лицо у него крупное, веснушчатое, с правильными чертами, прямым, в меру большим носом, узким ртом. Волосы слегка кучерявистые, с рыжинкой. – Но отложу все дела. Когда еще вот так придется встретиться…
И потекла у нас беседа, добрая, душевная, большая. Все, как отцу, выложил я Ван Ванычу и про недавний разговор в сельсовете – тоже.
– Они мягко стелят, да жестко спать, – оглянувшись на дверь, негромко сказал директор по поводу разговора о ФЗУ. – Да, там и кормят, и одевают, но как на принудиловке, и дисциплина такая же – полувоенная. Потом будешь горб гнуть у станка, и не до учебы станет, а у тебя заметные способности к науке.
– Грозились силой отправить, если не соглашусь, – все изливал я душу.
– Небось Погонец старался?
– Он.
– Стращает. Хотя… – Наставник осекся, снова метнул взгляд на дверь. В коридоре поднялся шум – началась перемена. – Тебе лучше в какой-нибудь техникум пробиваться. Там действительно и образование среднее завершишь, и специальность получишь. В райцентровской школе, при том же руководстве, сладко не будет, а то еще хуже – какую-нибудь пакость выкинут или спровоцируют. Те то, сынки верхушечных, продолжают учиться…
Слушал я его и блек душой – прав был Ван Ваныч, в точку бил. Да и учитель рисования говорил о том же.
– Тут я проталкиваю документы, чтобы у нас восьмилетку открыли, – все осветлял он меня добрым взглядом. – Вроде есть надежда, но тебе опять несподручно: кончишь восемь и снова в Иконниково на тот же стул, к тем же условиям…
Хмарь заслоняла окна, затемняла большое лицо Ван Ваныча, углы маленького кабинета. И в душу мне наплывала горечь: уезжать из родной деревни не хотелось. Как бросить пусть крепкого, но старого деда, изработанную, слабую духом матушку? На кого, на какие надежды оставить их? Да и отпустят ли из колхоза? Время жесткое… И хотя все, о чем я думал раньше, что держал в тайниках сознания до поры до времени, Иван Иванович вытянул наружу, подтвердил, обрисовал точно, не осветлило – все же полегче стало на сердце, определилось многое в мыслях, упорядочилось. Да и какой-то моральной поддержкой я зарядился. А с нею всегда легче жить и осиливать иной раз, казалось бы, непреодолимое.
– В художественное бы училище – рисовать тянет, и хвалил меня учитель. – Сразу вспомнился Павел Евгеньевич, его сестра, уютная квартира, картины, разговоры…
Иван Иванович потеребил ухо.
– Они все далеко. Тебе туда не добраться: где возьмешь денег на дорогу, на житье? Да и от своих не близко, не наездишься. Ни им, ни тебе не будет никакой поддержки…
Эх, мечты, мечты! Сбывались бы они. Да чаще не от нас это зависит – от обстоятельств. А они не шли ко мне в попутчики.
– Ладно, – закончил наш душевный разговор Иван Иванович, – по поводу ФЗУ я переговорю с Погонцом. Как-никак я у него в партийном бюро, а это что-нибудь да значит…
И день разгулялся: когда я вышел на улицу – во всю светило яркое солнышко…
Глава 5. Руби дерево по себе
1
Неприятности, как и беды, в одиночку не ходят. В самый последний, Прощеный день Масленицы – целовальник, ударила меня нежданная новость под дых: от Паши Марфина узнал я, что Петруня Кудров пошел свататься к Насте Шуевой с бойкой на язык Маней Вдовиной – старшей сестрой Васика Вдовина – друга Петруни.
– Айда поглядим, – позвал Паша, не ведая, что у меня в ушах зашумело и грудь сжало, как обручем. – Там уже народ толчется…
Каждодневная серость деревенской жизни, с рассвета до заката знавшей одно – работу и работу, повторяющуюся в своем сезонном однообразии, редко осветлялась каким-либо особым случаем, и тогда люди, истомившиеся по новизне, по пище для пересудов, стекались в неотвратном любопытстве, как мотыльки на свет, к тому двору, где что-то происходило.
Понуро, стараясь не выдать своей горечи другу, шагал я за Пашей, чуть поотстав, волоча валенки в галошах по сырому, оседавшему в таянии снегу. Бились думки не накатной волной. Та слабенькая паутинка надежды на то, что рано или поздно мои отношения с Настей могут подняться до чего-то серьезного, и вовсе оборвалась. Да и надежда ли то была? Скорее – желание, и желание не плотское – поскольку я даже не пытался представить себя и Настю в той близости, что была у меня с Ниной в Иконниково. Влекла меня к ней ее броская красота, влекла с той же необъяснимой силой, что появляется при виде вообще любой красоты. В силе той и изумление, и почтение, и желание не проходящего соприкосновения с совершенством, духовным идеалом… Да и доброта Настина всегда осветляла душу…
Солнце поднялось к зениту: глянешь – шапка слетит, и до того ярое, что на все окрест будто тонкую сеть в золотинках набросили. А снег и вовсе расплавленным серебром зыбился. Воробьи под навесами делили что-то свое, исчирикались. Петухи на оттаявших навозных кучах гоношились с бравым квохтаньем и кукареканьем. Полусонная скотина отогревалась на солнцепеках… А по мне день был ни в день…
Изба-мазанка Шуевых в шесть окон – два в палисадник, четыре – во двор – отгородилась от улицы пряслами, подпертыми крутым сугробом и дворовыми постройками в навесах. В ограде и топтались любопытные, припадая к двум окнам, что поближе к палисаднику. Оттесняя друг друга: оттягивая или просто толкаясь, липли они к стеклам, загораживаясь ладошками от световых бликов, чтобы разглядеть, что делается в избе. Нагловатое то любопытство никак не осуждалось в деревне, наоборот, – считалось даже обидным, если в таких случаях никто не проявлял интереса к происходившему. Именно с этих погляделок, с разговоров, судов-пересудов и начиналась своеобразная игра на народ, включающая и хвастливую показуху, и гордыню, и почитание традиций…
Паша бесцеремонно отодвинул какую-то молодку и дернул меня за рукав. Вначале, после ослепляющего света, я почти ничего не разглядел в полумраке избы. Но кто-то из подглядывающих дал щелку, и в нее прорвались солнечные лучи, упали на Настю. И вон она – красавица: волосы – отбеленный лен, собраны в толстую косу, перекинутую через плечо на грудь; глаза – чернее черного, в широком распахе, чуточку суженные; брови над ними высоко, такие же черные – узкой полудугой; лицо – белого мрамора с едва заметным румянцем, иконописное, с прямым аккуратным носом, сочными, слегка полноватыми губами макового цвета… После я никогда не встречал женщин, подобных ей: не крашенных блондинок с черными глазами и бровями, чистым и удивительно нежным лицом… И это в глухой деревне, в крестьянстве, где тяжелой и грязной работы, да еще в разное время года и в разных условиях, хоть отбавляй. Красота Насти была редкой, а возможно, и того выше – исключительной. Глядел бы да глядел не отрываясь, тешил сердце. Да и мягкий ласковый голос Насти всегда успокаивал…
Скорая на говор Маня Вдовина, прозванная за свою способность Сорокой, что-то балаболила, жестикулируя руками, из-за двойных рам ее не было слышно, но тонкие губы Мани трепетали, то вытягиваясь, то сужаясь, как в немом кино, и смешно было на это глядеть. Настя сидела за столом, чуточку улыбалась и изредка косилась на дверь, будто кого-то ждала. А Петруня, в новом, слегка помятом пиджаке, видимо, вынутым по случаю из сундука – в нем я Кудрова никогда не видел, – слегка сутулился на лавке в полуобороте к окнам, какой-то растерянный, молчаливый, не похожий на того гармониста, которого знали все.
– Не будет ему талана, – шушукались бабоньки-старушки, – ведь что удумал – завтрева пост начинается, а он со сватовством.
– Бывало, девка, такое бывало – сватались в Масляну, но чаще к ней уже свадьбы отыгрывали.
– Свадьбу-то они и осенью могут сладить.
– Раньше-то, прежде чем свататься, и засылки были, и смотрины, и глядины…
– Щас не те времена…
– Да, торопится чтой-то Петруха. Года два-три ходил вокруг да около, а тут на тебе.
– Забоялся, видно, что Алешка Красов перехватит. Пока тот был в примаках – Петруня не решался сунутся к Насте, она и сейчас вряд ли ему слово дала.
– Как Грунька потешилась с Разуваевым в баньке, так Алешка и стал женимый.
– И то дело: жили не по путю, сбегом…
– Оно и раньше говаривали: худой жених сватается, доброму путь кажет…
И как в воду глядела какая-то из сударок: краем глаза я заметил входящего в открытую калитку Алешку Красова. Он был без шапки. Темные, будто вымазанные дегтем, его волосы, слегка вьющиеся, падали на высокий лоб густой прядью чуба. Лицо у Алешки – точеное, словно из дерева резано, смуглое, слегка скуластое, с прямым, в небольшой горбинке, носом…
Не до разговоров сделалось. Все обернулись, примолкли. А он остановился, окинул толпившихся зевак чуть прищуренными, в глубокой посадке, глазами, усмехнулся и шагнул в сени.
– На перебой идет, – сказал кто-то вслух.
Что тут началось! Ринулась толпа к окнам. Да разве вместить все любопытные головы в две рамы? Паша прикрыл меня сверху, корячась – все же догадывался он о чем-то – и мне досталась полоска стекла у прирамника, в самом низу. Я увидел, как вошел Алешка в избу, как осеклась в говоре Маня-Сорока, как побледнел Петруня, как еще больше выпрямилась Настя, перестав улыбаться. А Красов, видимо поздоровавшись, прошел к столу и, вынув из кармана брюк бутылку с золоченым горлышком, поставил на стол и еще что-то положил рядом. Таких бутылок я не видел. Лишь после разнеслись слухи, что Алешка, придя свататься, принес шампанского и шоколаду, за которыми по утрянке смахал пешком в Иконниково. Как уж там он раздобыл это – осталось неизвестным…
– Накаркала, – вновь заговорили женщины. – Что теперь будет?!
– Во везет девке: то ни одного, а тут сразу двое.
– Девка-то краса. И становитая. Я полвека живу, а нигде таких не видала.
– И Алешка писаный…
А мне вдруг стало спокойнее: сердце приняло случившееся, как должное. Добрый Петруня жених, но не пара он Насте по внешности, а по душе, как рассудить – одному богу то известно.
Сел Алешка рядом с Настей, и хоть картину пиши. И у нее глаза залучились, и будто не было там ни Сороки, ни Петруни. Поднялись они и вот уже в ограде. Кудров голову повесил, никого не замечая, а Сорока, позыркав глазами и не проронив ни слова, что для нее было необычным, метнулась за калитку.
– Вот так посватались! – кто-то изрек им вдогонку.
– Руби дерево по себе…
А мне было как-то жаль Петруню: позор ведь. Что теперь делать?..
2
Волгли снега под неистовством солнечных лучей, влажнел воздух, играло по окоему марево, а едва светило пряталось за горизонт, как начинал наплывать морозец, да такой, что к утру сугробы схватывались льдистой коркой – чарымом, по которому не то что на лыжах, пешком можно было топать. Как раз в это время стали пробовать голос ободренные теплом тетерева, пока по одиночке – кто на дереве, кто на проплешине какого-нибудь бугра, рано отогретого солнцем. И я решил проехать на лыжах утречком, пока снег не отошел, по знакомым местам, поглядеть на этих ранних объявителей весны – там, где косачи начинают играть, чаще всего со сходом снега образуются настоящие токовища. А еще не было такой весны за последние годы, чтобы я не поглядел на ту благодать…
Чуть забрезжило, когда я, взяв лыжи и позвав Урмана – так назвал я подаренного мне щенка-лайчонка, впервые услышав это слово, от которого веяло чем-то загадочным, от того шофера, что так участливо отнесся ко мне, – направился в леса.
Сколько неясных звуков, световых сполохов и запахов таит весенний лес! Только слушай, смотри, вдыхай – и очистит это чудо и мысли, и сердце, и плоть… Как в иной мир перенесся я за какие-нибудь полчаса. Отодвинулись в глубину сознания тревоги, взыграло тело, и пошел я мерить версты в легком скольжении по насту, лишь глубоко хватая настывшей за ночь, напоенный ранневесенним лесным духом воздух.
Солнце выплыло над лесом, когда я, изрядно вспотев, повернул назад, к деревне и поумерил резвость – пошел почти шагом. Урман, а ему, предположительно, всего четыре месяца недавно исполнилось от роду и впервые я взял его в лес, стойко трусил сбоку. Его попытку – брести по лыжному следу, я сразу пресек. А уж порезвился щенок по кустам, вынюхивая заячьи наброды, полазил по чащобам! Наст крепкий – бегай себе. И я не препятствовал его самостоятельности – пусть, только на пользу.
Недалеко от деревни, у Волчьего алапа, я выехал на дорогу, ведущую в Иконниково. Заснеженный проселок в несколько пробитых санями ходок и дорогой-то нельзя было назвать, но он был единственным ездовым путем, связывающим нашу деревню с райцентром. По готовому следу двигаться было легче, и я потянул по нему лыжи. У последнего перед дворами колка я заметил под кустом какую-то лунку в снегу, в двух-трех шагах от дороги, и заинтересовался: ровный-прировный снежный наст и на тебе – яминка. Вначале подумалось, что какой-то тетерев еще прятался от ночника-морозца и словить его можно, хотя в такое время они каким-то образом знают о коварстве чарыма и ночуют где-нибудь на болоте, среди кочек и травы, но свернув за куст, я увидел цепочку таких лунок и понял, что это человеческие следы. Но почему кто-то маскировал их за кустами? И для чего сворачивать на целинный, чуть ли не по колено, снег с дороги? Тут уж взыграло любопытство. Двинул я лыжи вдоль следа и, когда пересек колок, на свету разглядел, что человек по этим лункам прошел дважды – туда и обратно. Такое открытие еще больше заинтриговало меня. Проломанные в снегу ямки голубели тенями и хорошо их было видно, и тянулись они прямиком к огороду Алешки Красова. Зачем же он ломился туда-сюда? Невелик обход по дороге, чтобы угол срезать, больше напотеешь целиком-то?.. Загадка?.. Оживился я, поглядывая на только что просыпавшиеся дворы – почти над всеми ближними трубами домов курились светлые дымки, а это значило, что в них топились печки и топились дровами.
Урман, как-то поняв мой интерес к этим следам, стал обнюхивать чуть ли ни каждую лунку и, опередив меня, нырнул под прясла, огораживающие сенник. И пока я шуршал лыжами по насту, начал копаться под ометом сена.
Следы упирались в задник омета и исчезали. Вот фокус-покус! И тут я увидел, как Урман ухватил что-то зубами и стал выволакивать на снег. Портфель! Да, знакомый – Ван Ваныча! Его, этот емкий темно-коричневой кожи портфель знала вся школа. Без него директор шагу из школы не делал. Но откуда он здесь? Почему?.. А Урман уже тянул портфель, раздутый, тяжелый в продув снега под нижней жердиной прясла. Оглядевшись и никого нигде не заметив, я заторопился к щенку. Урман не сразу отдал находку, заурчал, попытался убежать. Да где ему – не по силам ноша. Я поднял портфель, а когда расстегнул, то обомлел – напревшую в беге спину обнесло холодком: он был до отказа набит пачками денег. Такого их количества мне бы и во сне не приснилось. Еще раз оглядевшись, я посунулся поближе к пряслам, в тень от сеновала. Вот тебе и дорога в художественное училище, и житье-бытье – как подсказал кто-то, но сердце-вещун сразу почувствовало, что здесь что-то не то. Не могут такие деньги, да еще в известном портфеле, лежать в схоронке под сеном. И след от дороги явно потаенный. Неужели Алешка Красов что-то сфинтил? Ему ведь деньги нужны на близкую свадьбу – слухи прошли, что на майские праздники о ней уговорились? Но причем тут портфель Ван Ваныча с деньгами?.. «Грелась» голова от жарких мыслей, но ответа на них не находилось. С оглядкой, осторожно запрятал я портфель на прежнее место, и сразу полегчало – подальше от таких подозрительных находок…
Я не стал возвращаться к дороге, а двинулся к дому околицей. Мысли только и были о странных следах и не менее странной схоронке…
– И молодец – скумекал, не взял, – похвалил меня дед, когда я обо всем ему рассказал. – На всю жизнь запомни: не нами положено – не нами возьмется. Хотя ты прав: заковыка тут какая-то. Слетай к Сусальникову, разузнай про портфель. Да не напрямую, а с намеком…
Но намекать не пришлось: едва я проскочил в кабинет Ван Ваныча, сторожась постороннего глаза – до этого пришлось всю длинную перемену простоять в школьном дровнике, прячась от дотошных учеников, – как понял, что у него что-то случилось. Глаза у директора были какие-то воспаленно-красные, лицо помятое. Его грех все знали: лишку иногда позволял себе выпить всеми уважаемый Иван Иванович, но чтоб в таком виде в школу заявиться – упаси бог. Он сидел, охватив голову руками, и, едва взглянув на меня, поздоровался кивком головы. Знаменитый его портфель обычно лежал на этажерке с журналами, а тут его не было. Да и не могло быть – он там, в сеннике у Красова, под сеном и снегом холодился. Ошибки не могло быть… Ван Ваныч уловил мой взгляд на этажерку и тихо сказал:
– Беда у меня. Портфель потерял, а там зарплата на всех учителей.
Я немо глядел на него, теряясь мыслями в услышанном – вон, оказывается, откуда морока пошла. Сказать о находке сразу я не решился, а вдруг за этим что-то таится? Вдруг розыгрыш какой или лиходейство?
– Вчера в Иконниково ездил, – по своему поняв мое молчание, продолжил Ван Ваныч, – Погонец своего коня давал – в военкомат нас четверых вызывали на уточнение документов, а мне с отчетом надо было и зарплату учителям получить. – Он вдруг умолк, поднял голову, вяло, тяжело: – Ты что пришел? Говори, а то мне скоро в сельсовет уходить – участковый оперативник должен приехать. Дозвонился я до дежурного в милиции, заявил о потере.
И тут я понял, что к припрятыванию портфеля с деньгами директор не имеет никакого отношения, и стыдно стало: как я мог сомневаться в этом человеке?! В растерянности той я снова не успел собраться с мыслями, а Ван Ваныч уже не мог остановиться в своем откровении:
– Туда со мной ехали Красов и Полунин. Кудров ушел спозаранку пешком – ему с Алексеем Красовым в одних санях быть не захотелось. Там мы и расстались. Я все сделал, встретил однополчанина, выпили, и уже ближе к вечеру тронулся домой, да уснул, как до болота доехал. Портфель под бок, в тулуп, и задремал – очнулся у дома. Портфеля нет. Выронил скорее всего, ворочаясь сонным. Поехал тут же назад до болота – и тихо, и пусто…
Здесь я и прервал его и стал рассказывать про случайную находку. И радость, и сомнение, и еще что-то неуловимое отразились в глазах Ван Ваныча. Он даже привстал со стула.
– Я так и знал, что кто-то из наших его нашел! Но что за игра в прятки? Зачем? Такие следы при обыске сразу заметят, это же тюрьма?
– Значит, кто-то решил подлог навести на Алешку, – кинул я свою догадку, – и разыграл похищение наверняка Хлыст. Он все подличает.
– Нет. Полунин сразу домой подался, как в военкомате дела закончились. Я это точно знаю, видел. Он же не выпивает…
«Неужели Петруня таким гнилым оказался?! – Меня даже в жар бросило. – Так злонамеренно решил отомстить Алешке за позор при сватовстве?.. А ведь какие песни красивые пел, как говорил задушевно, когда мы вместе работали. За Груню Худаеву заступился… Воистину – любовь зла…»
– Ты сейчас беги к Красову и пусть он принесет портфель в сельсовет, скажет, что нашел на дороге да занят был с утра, не сразу пришел. Я вечером ходил и к Кудрову, и к нему, и они, как в один голос, заявили, что не видели никакого портфеля. Но я про то никому не скажу, и ты молчи. Пусть моя бессонная ночь на совести у кого-то из них останется.
– Это Петруня сделал! – с горячностью заявил я. – Алешка если бы взял, то не стал бы следы торить по снегу: сунул бы портфель под полу и спрятал бы где-нибудь понадежнее.
– И то верно. Может, Кудров это сделал с выпивки? Он там общался с кем-то из фронтовиков. Но беги, а я в сельсовет – звонить, отбой дам участковому, извинюсь…
Пока я, широко шагая переулком, торопился к Красову, все перекатывал в мыслях поступок Петруни, и никак, ни с какой стороны не мог к нему подступиться, понять, а тем более – оправдать. Шибко-то Петруня не пил, но даже, хватив лишку со встречи знакомых фронтовиков и держа в душе обиду, подставлять под суд соперника гнусно. А я так его уважал!..
Алешка убирался в коровьем хлеву и немного удивился, увидев меня: раньше мы с ним, кроме как на охоте, никогда один на один не встречались и не говорили. Односельчане и все… И там, в хлеву, я и выложил ему про случившееся.
– Вот паскуда! – Красов даже чуточку побледнел. – Под статью гнул. А при чем я? У меня был уговор с Настей, а он без всякого сунулся. Отметелить бы за такие дела, да пересудов не оберешься…
Дальше все было сделано, как велел Ван Ваныч, но уже в мое отсутствие: и портфель принесен, и деньги пересчитаны – ни рубля не пропало, и шито-крыто вроде бы с той суетой получилось. Но спустя некоторое время слушок о подкинутом портфеле с деньгами расползся по деревне. Кто-то из тех людей проговорился, и скорее всего Погонец. Да и Алешка мог поделиться с Настей этим секретом, и Ван Ваныч как-то успокаивал домашних… Поди, гадай. Только Петруня совсем измельчал в почести у однодеревцев, и если раньше любая девка могла пойти за него замуж – только моргни, то после всех тех событий добрую жену ему вряд ли светило выбрать в родной деревне. Так и случилось, и, забегая вперед, отмечу, что женился Кудров через год на девушке из соседней Изгоевки – так себе, ничего особенного. А я с ним больше никаких сокровенных разговоров не вел и здоровался с прохладцей. И аккордеона Кудрова больше не слышно было на улице. Зло – оно к тому и клеится, кто его затевает. Это я усвоил твердо.
Глава 6. Чужая душа – потемки
1
Весна накатилась дружная: в неделю сошел снег с полей, растекся по низинам и сограм, приозерным разводьям, и сразу стала сохнуть земля под наплывом ядреного тепла и ослепительных дней.
В этом весеннем угаре скатывались дни к большим майским праздникам, к поздней Пасхе, к началу весенней страды…
Первомайское утро было ясным-преясным. Густо голубое небо утягивало взгляд в такую глубину, что дух захватывало, и казалось, что вместе со взглядом улетает в бездонье и еще что-то твое.
На площади, перед сельсоветом, толпились сельчане, а на дощатой трибуне, серой от времени, хрипло ораторствовал Погонец, восхваляя власть трудового народа, партию и ее вождей, и странно звучал его надрывный голос в этом осветленном весной пространстве, над худо одетыми людьми с угрюмоватыми лицами. Редко у кого мелькала на губах улыбка, но не радости, а скорее наоборот, – жизнь-то и близко не походила на ту, что возносилась в речах, и еще реже можно было заметить у кого-либо огонек интереса в глазах, услышать путный вопрос. И хотя, начиная с раннего детства, я не часто слышал недовольные высказывания о власти, руководстве, жизни, дух этого недовольства чувствовался постоянно. Да и как иначе? Грабительские налоги с не весть какого ограниченного законами крестьянского хозяйства обрекали на скудное пропитание, захудалую одежду; нелегкий от зари до зари труд почти не оплачивался; не было паспортов… Зато на словах жило иное. И как было не думать, не терзаться, не держать в душе тревогу, пусть тайно, с боязнью, об этом облыжном подлоге? Но мысли – мыслями, слова – словами, а дела – делами. И за слова жестоко наказывали, а дел и вовсе не было. По крайней мере, в поле нашей скудной осведомленности.
Смотрел я на окружавших меня людей и некий стыд, непонятно каких отголосков, трогал сердце: то ли он был причиной невольного, вызванного страхом, всеобщего лицемерия, то ли от осознания полного бессилия перед этим самым страхом, то ли зудил душу за тех, кто был там – на верхах. Ведь с самого раннего детства, первых шагов обучения, всякими правдами и неправдами (точнее – последнее) внушали нам сверхглубокое уважение к вождям, их идеологии. А что мы познавали воочию? Чем жили?..
Еще не закончились пылкие речи, а кое-кто уже стал отходить потихоньку от общей толпы, и мало-помалу люди потянулись в край улицы, к дому Красовых – там завязывался истинный интерес: зачиналось свадебное гулянье. Хотя оно, ввиду скудности жизни, вряд ли могло быть в широком размахе, но все веселье, все свет в окне…
– Пойдем глянем! – потянул и меня Паша. – Я на воротах постою, пошлину дерну…
Неспокойно было на сердце: и некая веселость теплилась в нем, и печаль натекала…
– Тебе зачем? Там есть кому стоять. Им бутылка нужна, а нам она ни к чему.
– А так, поиграть в артисты охота…
Синь копилась над лесом, и по его верху играло сиреневое марево, а понизу текла густая лиловость, штрихованная белыми мазками берез, и слабая, едва заметная зелень пятнала еще серо-желтые поля с блестками невысохших луж. Тихо, тепло, солнечно… Но вот рыкнула гармошка, и мы побежали, боясь опоздать к самому главному – приезду невесты. Едва мы притулились к штакетнику палисадника, возле которого уже острили глаза зеваки, как из проулка вымахнул жеребец, запряженный в кошеву, под украшенной лентами дугой. Все притихли, а Паша кинулся к мужикам у ворот. Минута – и вот они, молодые. Оба в обновах, улыбающиеся, красивые, ни киношники расфуфыренные, гримированные, подтянутые, подштопанные, а наши, простые русские люди – будто из сказки о царевне и царевиче. На козлах – Федюха Сусляков. Да такой важный, словно настоящий кучер. Осадил он жеребца у самых ворот, и тут же Хлыст вывернулся к кошеве.
– Гони выкуп! – Это он Алешке Красову. – А то от ворот-поворот!
И еще двое подступили к жениху, а Паша ухватил коня за уздечку.
Я глядел на Настю, веселую, нарядную, румяную, и ее радость отзвучивалась и в моей душе тонким наплывом такой сладкой теплоты, какой я не испытывал давным-давно…
Сторговались мужики с женихом, распахнули ворота, а там девицы-красавицы, подружки Настины с рушниками и песнями, матушка жениха с родней, с хлебом-солью, свахи, сваты… И от всего этого – знакомого: читаного ли, слышанного ли когда-то, далекого – грудь переполнилась особым щемящим волнением. То было нечто родное, кровное, мое, русское…
– Идем испробуем, – отвлек меня от созерцания Паша, – я четушку выторговал.
– Зачем? Я не пью и тебе не советую.
– А я раза два пробовал, дядь Прохор давал – дуреешь. – Паша тянул в улыбке полные губы. Крупное, почти круглое его лицо светилось таким благодушием, такой непосредственностью, что отказать ему не хватало сил. – И за Настю глотнем. Ты ведь горел за нее, а за свадебный стол нас не пустят…
От его слов потянуло меня в лихачество, и я махнул рукой, соглашаясь.
– Давай! Только где? И как?
– А вон Шестовы по ту сторону. Пойдем попросим у Катюхи стакан.
Будто искорка какая чиркнула меня и погасла.
– Неудобно как-то.
– Чего? Катюха своя…
И мы потопали через улицу, наискось, оглядываясь на все еще толпившихся зевак у ворот и у окон дома Красовых.
– Завтра разговоров не оберешься, – улыбался Паша. – Все выложат: и что ели, и что пили, и как, и кто чего стоил…
А я без особого горения шел за Пашей. Все же стыдновато было мне заявляться к Шестовым с таким намерением – что Катюха подумает?
– Непонятно, чего Хлыст там вертелся? – потянул я свое. – Он же вроде не пьет?
– Ну и что? Может, деньгу какую сорвал с Алехи, – предположил Паша, – я не вникал в их уговор. Бегал же Иванчик за Настей, не секрет – вот и вынюхивает, где будет жареным пахнуть. Потом шельмовать станет. Но, может, с расстройства решил напиться…
Калитка у Шестовых была не заперта, но в дом заходить я постеснялся – что-то удержало меня. А через минуту выскочил оттуда и Паша.
– Там твой дед с теткой Дарьей праздник отмечает. И не заперто…
Я еще с утра знал, что дед куда-то навостряется в гости: приоделся, причесался, а идти со мной на торжество у сельсовета не захотел.
– А кто у нас запирается? – не удивился я. – И кого им бояться?
– Да, некого, – Паша сощурился, что-то соображая. – А пошли к Мишане Кособокову. Он же в ФЗУ собрался, заодно и попрощаемся…
Но только мы за калитку, и Катюха навстречу, запыхавшаяся, раскрасневшаяся.
– Не успела! От самого совета бегу, как увидела, что вы к нам наладились!.
– Что бежать-то? – Паша уперся ей в плечо. – Тащи втихаря стакан и лепеху какую на закуску.
– Так дед там Лёнин, неудобно…
Ну и глазищи у нее! Расширились, как от испуга. Брови взлетели крылышками, изогнулись. Носик вздернулся…
– А ты подкрадись, схитри. – Паша все держал Катюху за плечо. А я глядел и глядел на нее с непонятным удовольствием, почти жадностью и молчал.
– Пить, что ли, будете? – Катюха отстранилась, в глазах погасли искорки.
– Малехонько. Праздник все же. – Паша показал горлышко четушки, торчащее из кармана штанов.
– А мне дадите испробовать? – Катюха снова раззадорилась. – Я еще ни разу ни глоточка не делала!
– Глоточек – можно, – все вел разговор Паша. – Мы вон там, в проулке, за плетнем будем…
Катюха быстро проскочила в сени, а мы, обогнув изгородь, остановились у свисавших через плетень веток клена с набухшими почками. Тянула песню огородница-варакушка где-то в смородиновых кустах, чирикали воробьи под застрехой, заливался на все лады скворец на метелке подскворечника, и густо пахло молодым смородиновым листом, подсыхающей землей, нагретым плетнем, сухим малинником… Бабочка-крапивница выпорхнула через изгородь и прилепилась на солнцепеке одного из кольев, расправив ярко-пестрые крылышки…
Мы еще не успели перекинуться несколькими словами, как появилась Катюха. Под полой тужурки у нее что-то топырилось.
– Вот стакан, – она протянула его Паше, – а вот пирожки с картошкой и капустой. – В алюминиевой чашке румянились аккуратные горбики пирогов. Катюха придерживала чашку левой рукой.
– Ну, ты, Катюха, свойская! – снова опередил меня в похвале Паша.
– Давайте вон на ту коряжину сядем и позагораем…
Неподалеку лежал обрубок старого кленового ствола, выброшенный из огородчика, и мы все трое кое-как примостились на нем, уперев один конец сухостоины между кольями прясла. Паша втискивал Катюху между нами, но она вывернулась и присела с краешку, рядом со мной, придвинулась горячим боком. Приятно было и от ее поступка, и от близкой теплоты.
Паша сковырнул сургуч с головки четвертинки и плеснул водки в стакан, на самое донышко.
– На, Катюха, помочи губы – малолеткам больше не положено.
– А вы еще сами не взрослые. – Катюха взяла стакан. Пальцы у нее длинные и тонкие.
– По сравнению с тобой – мы дяди, – держал густоту в голосе Паша. – Мне еще в конце января семнадцать сравнялось, а Стрельцу осенью столько же исполнится.
– Подумаешь! – Катюха покривила бантик губ. – Мне тоже в июне пятнадцать будет. А раньше, баба говорила, и в четырнадцать замуж выходили.
– Ишь куда загнула – замуж! Успеешь под шлеёй походить. Тяни вон давай, а то отберу…
Я все слушал, наблюдал и млел в молчаливой приятности. Катюха сделала пару глотков и, сморщившись, вернула стакан Паше.
– Жгет и горькая!
– А ты думала туда меда наложат, – Паша ухмыльнулся. – Тяни пирог, а то еще охмуреешь…
День горел, и мы горели в полушутливых разговорах, веселье, легком опьянении, и до того близкой, чуть ли не родной, казалась мне Катюха, что за нее я готов был на все.
Заиграла гармошка у дома Красовых, заливисто, зазывно, и мы переглянулись.
– На улицу свадьба вывалила! – Паша вскочил с коряги. – Идем глядеть – потеха будет!..
И мы, не сговариваясь, не пошли, а побежали.
У ограды Красовых уже бился круг. Плясали свадебные гости, а в гармошку наяривал Федюха. От влажноватой еще земли, на которой уже появился спорыш, не поднималось пыли, каблуки лишь утрамбовывали дерн.
Любо-дорого смотреть на удалую русскую пляску! Уж и уменье в ней вольное – друг от друга, от старших к младшим, от глубины народной, а если начнет кто выделывать коленца в горячем азарте и засмотришься, никаких артистов не надо. Артист – он хотя и пляшет грамотно, по отработанной системе, а все не с тем запалом, что по зову сердца…
Затянули в круг и жениха с невестой, а потом и одних оставили, и примолк говорок, притихли смешки – только мягкий стукоток каблуков да захлеб гармоники. И не передать словами ту пляску, ее надо видеть. Красивые люди – красивая пляска. Это не забывается! И сколько бы не венчались вокруг друг друга жених и невеста – смотрели бы на них люди да смотрели… Но Федюха не выдержал, уронил головенку на меха и руки к земле опустил…
В недолгой той тишине вдруг задребезжало что-то с жестяным звоном: из-за сараев выскочил Хлыст с колом в руке, на котором бренчала от ударов палкой дырявое ведро. Запрыгал Иванчик с этим ведром-барабаном по кругу, заковылял пьяно. Притих народ – что-то будет?
– Вот паскудник, – услышал я чей-то говорок. – Ведерко дырявое на другой день кажут после ночи жениха с невестой, если что, а тут еще свадьба не кончилась…
– Грех-то какой…
Общее замешательство было лишь минутным. Шагнул Красов к Иванчику и со всего размаха хлестанул его в ухо. Слетело с кола ведерко, кувыркнулось куда-то в толпу, вывернулся из руки Хлыста и кол, а сам он хрястнулся во всю спину под прясла, в рано погнавшую зелень крапиву. Глаза у Хлыста расширились, испуг или даже ужас метнулся в них, враз протрезвленных.
Алешка хотел пинка добавить, но Настя охватила его сзади, потянула к себе.
Медленно, медленно поднимался Иванчик, не отрывая взгляда от жениха.
– Запомни! – четко произнес он так, что сомнение взяло: действительно ли он был до этого пьян или притворялся. – Я тебе этого никогда не забуду! – сказал и махнул через прясла в огород, за сарайку.
Еще с минуту было тихо. Ждали – не появится ли Хлыст. Но его не было. А Федюха, отойдя от временного оцепенения, рванул гармошку…
2
Отошли праздники в ярком горении теплых дней, в неге весенних звуков, в азарте игровых потех, хороводных вечерок, душевном трепете. По ночам тело ныло от запальной лапты, беготни в горелки, неопытных плясовых движений, и неспокойно билось сердце. Во всех этих забавах вязались и парни, и девчата от пятнадцати до семнадцати, а то и восемнадцати лет, и часто на разницу в возрасте не обращали внимания. Главным была внешность: мелковатых, не внушающих доверия, хотя и в достойных годах, не брали, а тех, кто покрепче, кто гляделся старше своих лет и мог быть надежным в игре, еще и зазывали. А уж вечерами – улица! И учила меня танцевать Катюха. Все эти «польки», «сербиянки», «подгорные» – водила меня она. И откуда знала? Когда училась? Страстные эти танцы вытягивали из меня жилы, весь дух, и вроде немощным я становился к концу вечерок и телом, и душой, и провожал девчонку до дома в светлой усталости, в тихом упоении, при чистых мыслях. А Катюха, вся как жилка-живинка, бабочка-порхальница, коза-егоза, будто и не уставала: думалось – дай волю и ночи, и дня не хватит ей нарезвиться.
Там, в общей толчее, все бывало: и случайные прикосновения, и жгучие взгляды, и волнующий шепот, и горячее дыхание, и переплетение рук, а в тишине ночной прохлады меня охватывала такая потаенная робость, а возможно, нежность, что даже дотронуться до Катюхи я не решался. Такого со мной еще не бывало: ни огня, ни думок, ни стремлений – пустота какая-то выветривала душу, будто в ней ничего не оставалось, кроме дрожи, схожей с дрожью натянутой струны. И не только еще юные годы Катюхи были тому причиной – кувыркались же мы с нею на прошлогоднем покосе, играли, а тут другое, уже не детское просветлялось: неосознанная благость и трепетная привязанность устаивались между нами, и спугнуть их, отемнить я боялся…
Время, хотя и катилось в своем обычном отсчете, в праздники оно повлекло за собой столько нового, что в других состояниях и за два-три месяца подобного не переживешь, и оборвалось оно сразу, как обрезалось…
Тот же Разуваев потянул меня за ограду на разговор. Развалившись в кошеве так, что край ее раздался, как борта старой лодки, он довольно миролюбиво заговорил:
– Ты вот что, давай настраивайся на посевную. Пока начальство о ней в заботе глядишь и закончится канитель с ФЗУ…
Я был удивлен его тоном и вначале насторожился: не подвох ли какой? Но бригадир продолжал доверительно:
– В полеводах определились: Красов, Кудров и Куликов – можешь к любому идти…
Что же так развернуло Разуваева? Может, узнал истину? Или подобрел после всего?.. Это было так неожиданно, что нужных слов, даже мыслей, не находилось.
– На сеялке управишься? – Он глядел дружелюбно.
– Я учиться собираюсь? – как выдохнулось у меня.
– Учись. Посевную отведем, а там двигай…
Как хотелось мне в самый разгар весны, в самом ее зените, побывать на слете тетеревиных токовищ, послушать торжествующие звуки природы, покараулить на разливах северных пролетных уток и гусей! А вечера с Катюхой! Когда в сердце устаивается ласковое тепло, сладкий покой, когда гаснет в прищуре глаз яркая зорька, наливается синевой округа, затихает деревенская жизнь и слышно, как исходится в брачной песне соловей-варакушка в палисаднике, как льется тихий Катюхин смешок, ее мягкий говор… Но была в словах Разуваева и доля истины: пока я на посевной – вряд ли Хрипатый потянет меня на разговор о ФЗУ, а там, считай через месяц, возможно и схлынет эта волна, отойдет разнорядка.
– Ну что? – торопил Разуваев.
– Поговорить надо с матушкой.
Он усмехнулся.
– Говори, но сам-то ты как?
– Да можно. Только к Кудрову я не пойду…
* * *
Старенький трактор-колесник едва тащил не менее старую, еще довоенную сеялку. На ее подножке стоял я, а за рулем колесника мельтешил локтями Федюха Сусляков. На другом поле, через долгий лес, ходил в сеяльщиках и Паша.
Рокот трактора, пыль столбом, солнце с полуденным напеком, нелегкие мешки с семенной пшеницей, которые мы с Федюхой подтаскивали с опушки леса к сеялке и поднимали, засыпая зерно в ящики, – до того изматывали, что, добравшись до бригадного стана, мы валились на нары в рубленой избенке и тут же засыпали. Даже пшенная каша на молоке, которую чаще всего готовила на ужин повариха, не соблазняла. Сила усталости, жажда отдыха перетягивала все желания.
Спали мы на нарах вчетвером: я, Федюха и Паша с Васиком Вдовиным. Вдовин – по какой-то причине забракованный военной комиссией и не служивший в армии, а по тому случаю не очень привечаемый сверстниками, особенно девчатами, давно ходил в трактористах. Казалось бы, ему самое верное определиться в звено Кудрова, своего друга, а он к нам подался.
– Ты чего это к Петруне не пошел? – как-то спросил его Паша. – Не разлей вода были?
– Были да сплыли, – не стал открываться Васик. – Теперь он в лес – я в поле, – замудрил он.
«Неужели и он откачнулся от Кудрова за тот выверт с портфелем?» – подумалось мне, и я стал присматриваться к небольшому мешковатому Вдовину.
Бригадный стан был расположен на широкой поляне, в лесу. Узкий проход между колками выходил к старому проселку на деревню. Два колесных трактора да три сеялки составляли парк техники. В огороженном простыми пряслами пространстве чернела рубленная избенка в одно окно и в одни двери – скорее сарай чем жилье. За ней, под самым лесом, поднимался колодезный журавль. Вода в том колодце, что родниковая: пей – не напьешься! Вблизи избы – навес над дощатым столом и скамейками, столовая. Тут же наспех сложенная летняя печь. До деревни всего-то километра три-четыре от стана, но сил ходить туда-сюда не хватало. Подъем – чуть забрезжит и завершение работы, как засмеркается. Ездили домой лишь повариха Нина Столбцова, да полевод Алешка Красов. Та – за продуктами, а у Алешки – жена молодая…
В один из дней, ближе к вечеру, заладил дождик, сеялка стала забиваться влажной землей, и мы с Федюхой, чумазые, мокрые покатили на стан. Там уже Паша с Васиком сушились под навесом, разложив небольшой костерок. Пусто, сыро, неуютно. Сквозь завесы дождя ничего не видно. И оставленная на ужин каша, остывшая, елась без желания.
Кое-как обсушившись, улеглись мы на нары, застеленные соломой поверх березовых веток. Под голову – фуфайки.
– Вот житуха, – начал почему-то Васик, обычно малоразговорчивый. – Пыль да грязь, да постная каша. А железка эта так натрясет, так накрутит руки и навоняет выхлопом, что сам не свой становишься. Делали бы трактора с кабиной, как у машин, да еще бы на гусеницах…
– Да кормили бы пусть кашей, но с мясцом или маслом, – перебил его Федюха, – и спать бы по-человечески определяли.
– Деваху бы ему под бок, – подхватил их полушутливый разговор Паша. – Баньку бы…
Мне сразу вспомнился тот роковой зимний вечер, и я встрял:
– Кое-кто помылся и до сих пор не очухается.
– А что? – понял намек Васик. – Рискнул – зато память на всю жизнь.
– Баньку бы не мешало, – не угадал нашего двусмыслия Федюха, – у меня ошметки грязи отчесываются от кожи.
– Ты и скажи полеводу – пусть выберет день на помывку, – посоветовал Паша. – Сейчас тепло. Воды нагреем и обмоемся…
– Вряд ли, хлопцы, нам такую благодать позволят, – пришепелявливал Васик в своем углу, у стенки. – Сейчас день – год кормит. А тракторов всего шесть на наше отделение. Попробуй успей отсеяться вовремя.
– Красов говорил, что ночная смена будет, – это снова Федюха отозвался.
– Опять человека с фонарем впереди трактора пустят, как в войну…
Было уже такое. Я сам когда-то подменял матушку на той убийственной работе: попробуй побегай ночь по рыхлой пахоте, когда тебя сзади железный «пастух» подгоняет, и руки деревенеют от керосинового фонаря. Фар-то у колесников не было…
– Вот отсеемся, – потянул свое Федюха, – отосплюсь, поднакоплю здоровья и в армию.
– А покос еще? – напомнил я.
– Не-е, покос будете тянуть без меня. Мне комиссию заново проходить, сухари сушить. Как раз к августу все и обойдется.
– Так тебе сколько? – спросил Васик.
– Под Новый год восемнадцать стукнуло…
Вот время неугомонное! Давно ли в городки с ним колотились, бока друг другу мяли и уже армия у Федюхи на подпоре!..
– Чего ж тебя по весне не призвали? – снова ловил надежду на то, что Федюху браканули, Вдовин.
– А посевная? Я же тракторист, хотя и доморощенный.
– И мне туда же через год корячиться, – с некоторой грустинкой отозвался Паша. – А на кого маманю с сеструхой оставлять?
– А ты женись, – кинул совет Васик. – Пока служишь – и дома все будет, как надо, и невесту сохранишь.
– Кто же его женит в таком-то возрасте? – принял всерьез слова Вдовина Федюха.
Паша молчал, а Васик снова зашепелявил:
– Ну, не сейчас, а как восемнадцать сравняется.
– Так его зазноба только на вид ядреная, а по годам до замужа не тянет.
– А что года? – стоял на своем Васик. – Привел в дом и все…
Мне непонятно было, почему Паша молчал: или раздумывал над словами Вдовина, прикидывая их на свою жизнь, или не хотел ввязываться в трепотню односельцев, или дремал?..
– Никого. – Федюха зашебуршал ветками подстилки, ворочаясь. – Без печати нельзя – осудят…
Слышно было, как дождь колотился в бревенчатые стены, в небольшое оконце, и с приятностью осознавалось, что там, снаружи, – холодная сырая погибель. В рубленке хотя и было прохлодновато, но сухо и не ветрено.
– Скажу тебе, Паш, по секрету, – все не унимался Васик, – если не обдумаешь мой совет, можешь свою кралю проморгать: слушки идут, что на нее Хрипатый глаз положил.
– Кати телегу! – глуховато пробасил Паша, как бы очнувшись от дремы. – Она ему в дочки годится…
Мне вспомнилось, как Погонец маслялся глазами на Лизу Клочкову. Выходит, неспроста Васик трепанулся. Что-то было в этом…
– И на дочках женятся. Хрипатый – мужик в достатке, начальник, при чистой работе, и дом у него ни чета твоей землянке, а пока ты служишь твоя краля в самых первых невестах будет по годам…
Мне вдруг беспокойно стало: армии-то не миновать, а Катюха тоже взрослеет?!
– Не пойдет она за хорька этого! – как отрубил Паша, но я все же уловил в его голосе некоторую тревогу.
– За него не пойдет – так он подложит под какое-нибудь начальство.
– Ну ты! – осерчал Паша. – Мели языком да не заговаривайся! Она ему не подданная!
Но Васика как завели: гнул он и гнул свое. Лишь много позже, вспоминая этот вечерний, под шум проливного дождя, разговор, я узнал, что Вдовин сам горел тайной любовью к Лизе Клочковой, да выжидал: ему-то двадцатилетнему к недоростке соваться негоже – схлопотать наказание можно. А Паша сам недалеко от нее ушел по возрасту.
– Охмурят. К Хрипатому такие хмурики из района ездят, кого угодно в баньку затащат…
Опять банька. Будто других мест для срамных утех не имелось… Пустой вроде разговор, несерьезный, полушутка, полувозможная явь, а все гнул мысли в недобрую сторону.
– И ты не обижайся, – все увешивал Пашу Васик, – я по-хорошему, по-дружески.
– Я его убью, если что! – уже спокойно изрек Паша.
– Ну, затеяли антиномию, – козырнул непонятным словом Федюха, – что попало.
– А ты Вальку Забегаеву помнишь? – переключился на Федюху Васик. – Она сразу после войны в секретаршах ходила и забрюхатила невесть от кого.
– Ну и что?
– Так ее кто-то в район перетащил. Теперь она там живет, дочку растит, при квартире…
Долго еще шел этот не очень приятный разговор, остановить который было не так просто.
– Ты мешки брезентухой закрыл? – постарался я сбить азарт перепалки.
Федюха помедлил с ответом.
– А как же? И валежником края придавил, чтобы ветром не завернуло. Там, на краю поля, у самой опушки леса, осталось несколько мешков с семенной пшеницей, которую досеять по норме дождь помешал.
– Ну гляди, а то промокнут.
* * *
Утро было хмурое и ветреное. По небу тянулись разрозненные клочья плотных тучек. Сквозило сыростью и холодом.
– До обеда точно на пахоту не сунешься, – оглядывая затянутый поволокой туч горизонт, высказал предположение Вдовин.
– Может, домой сбегаем? – Паша из-за косяка дверей смотрел на сырую листву ближних берез в каплях прозрачной водицы.
– Иди. – Федюха усмехнулся. – Пока туда-сюда промесишь грязь – сапоги спустишь…
Промозглая погода загнала нас снова в избу.
– Вы же клуб с Прохором Деминым должны сработать, – козырнул осведомленностью Васик, – а чего тебя на сеялку?
– Пока лес не подвезли. Как доставят – так и начнем, – пояснил Паша.
И опять потек неторопливый разговор вокруг да около деревенской жизни – и в шутку, и всерьез…
Прошли все сроки завтрака, приближалось обеденное время, а ни подводы, ни поварихи не было. Голод тревожил острее и острее, и уже ни говорить, ни что-либо делать не хотелось. Сыро, пустынно, неуютно…
Федюха вдруг поднялся с нар и, накинув фуфайку, вышел, притворив двери.
– Далеко это он? – спросил наговорившийся за долгое время Васик.
– Мало ли. Может, по нужде, – это уже Паша отозвался.
– Щас главная нужда – пожрать…
Мне было видно в окошко, как Федюха прошел к трактору, взял помятое ведро, которым обычно доливал воду в радиатор, и двинулся в прогал между лесками. Что задумал – непонятно? Если домой навострился, то для чего ведро? В лесу сейчас кроме солодки ни грибов, ни ягод, ни даже щавеля нету…
Порассуждали мы, поприкидывали, да снова в дрему. Разрешилось все довольно скоро: Федюха притащил суслика. Я еще посмеялся: Суслик поймал суслика – но Федюха не обиделся.
– Я его нору на краю полосы засек еще в первый день, да времени не было вылить вредителя. Теперь вот добыл. – Он растянул в улыбке обветренные губы. – Водички в околке зачерпнул пару раз – зверушка и вылетел из норы.
– Зачем он тебе? – не понял я его радости.
– Есть буду. Не корежиться же здесь от голода. Повариха может вообще не приехать по такой грязюке. Телега у нее от громкого крика ломается – наверняка что-нибудь случилось.
– Или случилось, или нехорошим местом мух ловит на печке, – съязвил Васик. – Но как ты эту крысу жрать будешь?
– Это не крыса, а суслик. Он кроме зерна и травки никакой гадости не ест, и я в прошлом году такое мясо пробовал, когда на сеялке стоял: Яшка Манков их в радиаторе колесника варил. Вкусно!..
«Вчера только мечтали о каше с мясом и маслом, да добром хлебе, – покатились у меня горькие мысли, – а теперь и суслику рады…»
– Давай-ка, Васек, костерок сообрази, а то печку эту пока раскочегаришь – умрешь.
– Хочешь его есть – ешь, а меня под ружьем не заставишь тянуть в рот эту гадость.
– Потянешь. – Федюха шустро снимал шкурку со зверька своим старым складником и смотреть на его окровавленные руки, тушку было неприятно. Голодный желудок даже сжался болезненной спазмой.
– Лежите, лежите, – корил нас Федюха, устраиваясь под навесом. – Еще попросите лыточку, да не дам…
Под скамейкой, с краю, валялось несколько сухих березовых поленьев про запас, и Федюха принялся разжигать костерок.
Спички он нашел в избе, на полке, где еще и солонка с солью стояла: но зажарить «дичину» не успел – на дороге появился Алешка Красов. В руке он нес большую плетеную корзину.
Мы вышли из домика.
– Намучились? – Полевод приглядывался к нам, стараясь угадать настроение. – Вижу все живы.
– Живы, но не здоровы, – отозвался Васик. – Жрать хотца, хоть вой.
– А я вам кашу принес. – Красов поставил на стол корзину – в ней грудились алюминиевые чашки с кашей.
– Чего на руках-то нес? – Васик шустро полез за стол.
– Нинуха к вам по утрянке поехала, и колесо у телеги отвалилось. Пришла ко мне вся в грязи, зареванная. То, се, быков нашли – телегу в кузницу притащили, делают. Ну я и взял дома корзину…
Пока управлялись с кашей, просветлело небо. Погода стала поворачиваться к ведру. Первыми уехали на свою полосу Васик с Пашей, а наш трактор никак не заводился. Напрасно мы по очереди крутили рукоятку, которая нет-нет да и отдавала назад, в руку, в плечо – мотор молчал.
– Перетяжку надо делать, – послушав, как лязгает двигатель, решил полевод. – Тащите из сторожки соломы, чтоб в мокроте не валяться, сам полезу. Давай масло сливай, – кивнул он Федюхе…
Возился Алешка с двигателем долго, тянул болты на шатунах, а мы вокруг крутились, на подхвате. Солнце выбилось из-за реденьких туч, потеплело, потянуло из далей сухостью, запарило.
В тихое это довольство вплыл какой-то неясный посторонний, не связанный с природой звук, и скоро мы различили рокот тракторного мотора. Из-за леса вывернулся колесник.
– Васик что-то назад прет, – приглядевшись, озаботился Федюха.
Красов тоже отвлекся от своего дела – на лице длинные мазки отработанного масла. Мы притихли, ожидая.
– Еще не потух гул мотора, а Васик уже рядом.
– Мешки с семенами сперли! Все до единого – шесть штук!
Я заметил, как у Алешки расслабились в локтях и опустились сильные руки.
– Вот это обрадовал! – осекшимся голосом проговорил он. – Кто мог? Дождь, слякоть и на тебе…
Во рту у меня стало сухо и горько, колени дрогнули, ослабнув.
– Под брезентухой были, в кустах, – срывающимся голосом оправдывался Васик, понимая, что и с него, как со старшего, может спросится, да еще как.
Паша молчал, поеживаясь.
– Вам что, – будто угадал мысли Васика полевод, – отделаетесь легким испугом, а меня возьмут в оборот, устроят небо в овчинку…
Каждый по-своему переживал этот ожег, но на скамейку под навес мы уселись все вместе. Начались прикидки: кто да как?
– Где лежали мешки, знали только вы да Мишка Кособоков, – рассуждал Красов. – Надо спросить, может, он про них кому ляпнул…
От зернохранилища, что в деревне на хоздворе, к нам, на пашни, подвозил мешки с зерном Мишка Кособоков, давший согласие идти в ФЗУ, но пока оставленный на неизвестное время, и о нем шла речь.
– Откуда в лесу да еще в дождь постороннему взяться? – высказал и я свое мнение. – Ясно, что кто-то из своих спакостил…
– И Грунька Худаева семена отпускает – тоже могла интересоваться, – гадал Васик. – Главно, никаких следов, как испарились. Мы с Пашей весь околок обшарили – пусто. Их же так просто не унесешь – считай больше трех центнеров в общей кучке. Подвода нужна…
Гадай – не гадай, а шесть мешков семенной пшеницы потянут и на несколько лет судимости…
Прервал наши предположения лошадиный храп. В промежутке между колками показалась повозка.
– Вон и Разуваев явился, – как выдохнул Паша.
– Учуял, что ли, недоброе – первый раз за все время…
Ходко нес тележку с кошевой сытый жеребец, грыз удила.
– Прохлаждаетесь, – осадив коня, без зла в голосе крикнул бригадир. – Земля подсыхает – можно и начинать сеять.
– Можно, да осторожно, – отозвался Алешка, – этот колесник, – он кивнул на наш трактор, – на подтяжке – шатуны лязгают, а у того звена пшеницу сперли.
– Как? – Разуваев даже вожжи уронил на колени. – Кто?
Красов развел руками.
– Видно, ночью, в дождь – никаких следов.
– Ах, едрит твою в корень! Вот это новость! Думал баба, а то коза! Это же срок!..
Слушал я словесные выкрутасы Разуваева и что-то неискреннее улавливал в злых фигуральных выражениях с матюгами, и легкое подозрение потянуло мысли к прошлому. Но для чего Разуваеву топить Красова? Скорее бы наоборот: Разуваев влез в его отношения с Грунькой…
– Гляди, Алексей, – горячился начальник, – я тебя покрывать не стану: такие концы не спрячешь. Почти четыре центнера отменных семян в самый разгар посевной! Не посчитаются, что ты фронтовик!..
Не сразу утих этот острый, трясущий душу разговор. Кроме растерянности, переживаний, перерастающих в страх, он никому и ничего не принес. Начнут таскать, допрашивать, грозить… Эх, изловить бы того гада, который так подрыл под нами землю! Да как?!
3
Дня через два приехал из райцентра следователь. Тот самый, лысый, что зимой тянул из меня жилы. И началось: дело ни в дело, жизнь ни в жизнь – хуже некуда…
Погода устоялась как по заказу: солнечная, тихая, теплая. Сей себе и сей, но не тут-то было. Едва мы позавтракали с рассветом, как у стана застучали колесами сразу две повозки: впереди Погонец со следователем в новенькой кошевке, сзади – Разуваев.
Лысый очкарик, осмотрев весь наш стан вместе с Хрипатым, съездил с Васиком к тому месту, где лежали мешки с семенами, и, отогнав всех к коновязи, у которой стояли повозки, стал засупонивать нас по одиночке прямо за обеденным столом, под навесом.
Те же холодные, ничего ни выражающие глаза, тот же ровный негромкий голос, та же манера вести разговор с хитринкой… Меня он узнал сразу:
– И здесь ты, Венцов, не в ладу с законом. Зря, выходит, за тебя военком заступился…
Но теперь он был в моей деревне, и я почти не пасовал перед ним.
– Я тут при чем? Не у нас зерно украли.
– Не у тебя, но артель ваша общая… И пошло, и поехало…
Два дня, пока следователь квартировал у Хрипатого, деревню лихорадило – в сельсовет таскали всех, кто хоть каким-то образом был причастен к семенам, к посевной, к тяглу. А у Алешки Красова весь двор прощупали с понятыми, и мытарили его больше всего.
Мы после того дня и не видели нашего полевода. Уехал следователь и Красова увез, и пошли слухи, что тюрьма нависла над ним. Что удалось выяснить лысому очкарику, никак не просочилось к деревенским знатокам. Каждый, кто был у следователя, помалкивали про то, о чем их пытали, получив наказ держать язык за зубами. Не разговоришься в таком разе – не то время: петля закона у каждого за спиной… Но все же одна думка, похожая на зацепку, появилась у меня с Пашей.
Мишка Кособоков рассказал, что тогда он подъехал на бричке к зернохранилищу за семенами, и едва притулил быков к загородке, как дунул проливной дождь. Бросив быков обмываться, Мишка сунулся в сумрачную прохладу зернохранилища, а там Иванчик Полунин с Грунькой Худаевой обнимаются на ворохе пшеницы, и если бы не хлопнула дверь, они бы и не обратили внимания на возчика. Вскочил Иванчик и к Мишке:
– Иди, сказал, домой, в дождь сеять не будут, а я быков сам на ферму отведу. – И подталкивать Мишку к дверям, хотя на улице дождик полосовал во всю. Но он заведующий фермой, как перечить… Согнулся Мишка в дугу и бежать к дому…
Сразу вспомнилось, как Хлыст упал в крапиву после удара в ухо, как кричал угрозу…
– Обиженные спаровались, – согласился с моими предположениями Паша. – Что Грунька, что Хлыст – одного поля ягода, с гнильцой. Они и придумали позычить зерно: и дождь, и ночь, и бричка под руками, – продекламировал он, сам того не понимая.
Но не пойман – не вор. Где доказательства? Одни догадки. Проявил к ним некоторый интерес лишь Ван Ваныч, когда мы к нему нагрянули, хотя сказал то же самое.
4
Дни пролетали солнечные, жаркие, безветренные, в угаре лихорадочной спешки, с потом, пылью, надоедливым гнусом… Тяжелые, долгие они накладывались друг на друга с одной и той же усталостью, одними и теми же чувствами. На стане лишь хватало сил смыть с лица слой пыли, делающего нас похожими на обезъян, да на то, чтобы донести до рта ложку с кашей. А если проявлялись дни с пестротой облаков на выцветшем небе, с менее выматывающим жаром, то мы с дрожью во всем теле доставали из колодца ведро с водой и, поливая из него друг на друга, обмывались по пояс, цепенея от холодного ошпара и захвата духа. И тогда спокойнее спалось в ночной духоте: без тревожного метания, невнятных вскриков и зубовного скрежета.
В отлете этих нанизанных на наши мучения дней истаял май, засветился передых от посевной: выметали главное – пшеницу, а всякие там овсы – дело второе. На Троицу – непризнанном властями, но всегда почитаемом в народе святом празднике, дали нам на обмыв тела и душевного успокоения два дня.
Исхлестали мы с Пашей в бане по венику, пропарились до каждой жилки и косточки. Даже дед покрякивал одобрительно, моя себе голову на лавке, когда мы лили из ковша на каменку. И словно выгналось из меня нечто тяжелое, ошершавленное, злое – то, что жило во всех клеточках тела, захлестывало дух. Легче легкого, вылетной бабочкой почувствовал я себя, осветлел мыслями, отмяк сердцем, а тут Паша заласкал слух интригующими словами:
– Девуни-то наши будут яйца варить, венки заплетать. Вот бы угадать где…
В ночь перед Троицей у кого-нибудь в избе собирались на ворожбу девчата – «на девичьи ссыпчины» и за неимением иных лакомств варили в чугунке куриные яйца, в складчину: кто сколько выпросит дома или возьмет тайком, чтоб было незаметно. Сваренные яйца катали среди венков на травяной поляне, загадывали судьбу – «крестили кукушку, венчали березку». А днем в избах ставили по углам срубленные в лесу молодые деревца. Вряд ли кто тогда доподлинно мог толковать значение и правильность исполнения тех обрядов, но держалась еще святая вера во многих семьях, в людях, хотя власть и не одобряла, охаивала, отрицала те традиции. И больший интерес к этим «зеленым святкам» имела молодежь – улыбалось заделье еще раз перед летней страдой поиграть, похороводиться, опохнуться духом таинства прошлых веков, ощутить себя как бы во временном сдвиге…
– Давай Катюху допросим, – по-своему понял мое молчание Паша. – Она должна знать…
Медленно, как из далекого прошлого, возвращалось сознание из охвата недавних дней, сушивших его в плену сиюминутных хлопот, однообразия горячичных ощущений, тянуло свежие мысли, рождало светлые образы.
– Не-е, Паша, – шевельнул я сухим, будто разбухшим языком. – У Катюхи ничего не вытянешь, бесполезно.
– А ты схитри, польстися.
– Ишь чего захотел – обмана. – Вряд ли она что знает: рановато ей еще в эти игры влазить.
– Рано, но знает…
* * *
Гулянье собралось у дома Федюхи Суслякова. Вынес он гармошку, сел на старые, обросшие ржанцом бревна, запасенные в довоенное время на новую избу, и заиграл, заявив, что никуда не пойдет.
После месячной разлуки мы удивлялись друг другу, находя изменения в облике, в голосе, в манерах… Вскрики, оживленный говор, смех – даже гармошка не заглушала, и хотя не густо собралось молодежи, в основном близкой к совершеннолетию или чуть поднявшейся над этим пределом, а все веселее. Важничали мы, осознавая себя в силе, в почете, во внимании, давшихся нам как бы в награду за те изнурения, что пришлось вынести вровень с другими, взрослыми людьми, в столь важном деле, как посевная. Эти чувства поднимали нас над остальными, над юной мелкотой, хорохорившейся тут же.
Пашу сразу утянула в круг танцующих зазноба, а я с Мишаней повел разговор о том, как бы повеселее открутить подаренный нам вечер. Те тревожные дни, связанные с воровством семенной пшеницы, мы, как по уговору, старались не вспоминать.
– Пашка вон гнет коленки, – кивнул на друга Мишаня, – и наверняка у Лизки ворожба затевается. Я видел, как ее отец с матерью в Изгоевку направились под вечер. У них там родня…
Слушал я, а сам невольно искал взглядом Катюху. Тоненько-тоненько дрожал в груди сторожок ожидания, будто кто-то сердца касался, тотошкал его ласково, нежил…
– Сейчас попляшут, попляшут для отвода глаз, – строил догадки Мишаня, – а потом втихаря, по одиночке, начнут смываться.
– Если Лиза верховодит, – поддерживал я разговор, – то от Паши не так просто открутиться, выследим…
Горячая дрожь осекла мой голос – тонкую, прямую, как молодая березка, увидел я Катюху на подходе к танцам и притих. Мишка уловил и мой сбой в разговоре, и устремления моего взгляда и сразу как отсек:
– Рановато она заневестилась. К добру это не приведет.
– Ничего, Кособок, – я будто налился светом, небывалой легкостью, притаил голос, – пусть невестится под моим надзором.
– А не уследишь…
Дальнейших слов Мишани я уже не слышал, вернее – не принимал сознанием, отходя от него навстречу той, что высвечивалась для меня особым светом среди других…
* * *
Я припал у окна, устремляя взгляд под белесую занавеску. Паша забрался на крышу, к трубе, с пластом дерна, а Мишаня затаился у входной двери – ждали мы того момента, когда девчонки, закончив ворожейную канитель, потянут из печи чугунок с вареными яйцами.
Выследили мы все же их затайку и решили подурачиться немного – завладеть заветным чугунком. А чтобы все было тихо, надежно, на его захват из всех приятелей нарядили нас троих…
В промежуток между краем занавески и подоконником мне видно было, как суетились девчонки возле стола, о чем-то шептались, даже спорили, но через окошко слов было не разобрать. Раза два Лиза выскакивала из общего круга и, отодвинув заслонку, заглядывала в печь, в которой ярился огонь…
Текла ночь, затаенно билось сердце. Долетали с приозерья голоса токующих птиц. Реденько и ненадолго выигрывала что-то гармошка в дальнем краю старой улицы – Федюха с кем-то из девчат коротал ночь и все. Запах напревшей смородины, каких-то цветов… Забавно, таинственно-тревожно…
Наконец Лиза взяла ухват и, потянув из печки чугунок, поставила его на загнетку. Сиганул я из палисадника через рядок смородины, засвистел. Паша тут же закрыл трубу пластом дерна. Видно было поверх занавески, как дым шибанул в избу, заволок всю кухню. С визгом стали выскакивать на свежий воздух девчонки, а Мишаня, наоборот, – мимо них в избу, схватил чугунок в полу пиджака и деру. Паша, смахнув пласт с трубы, как скатился с крыши, и мы кинулись в Агапкину рощу. Мишаня пыхтел сзади – с горячим чугунком, полным яиц, не разбежишься. Одна из девчонок, наиболее шустрая, настигала Мишаню. Вот-вот могла схватить за пиджак. И тогда Мишаня каким-то образом вскочил на ствол искривленной березы на краю рощи и стал неуклюже карабкаться по ее толстым сучьям вверх. Остановились мы, остановились девчонки, уже гурьбой настигшие нас. И тут Мишаня вскрикнул и сорвался, роняя ношу. Чугунок кувыркнулся. Яйца из него сыпанулись белым градом в траву… Здесь и орава наших ребят подоспела, завязалась кутерьма: визги, крики, хохот…
– Бок припалил, – жалился Мишаня, когда, мы его, похрамывающего, подняли из травы. – Лезть-то неловко, я и прижал чугунок поплотнее.
– Теперь ты точно Кособоков, – подтрунивал над ним Паша. – Хорошо что низко было, а то бы еще горб нажил…
В играх, в восторге общения проходила ночь. Но как ни горела душа в задоре пылких забав, а все кончается, отлетает, и в какое-то время накатывается жажда новизны.
Уснувший лес натянул прохладу, волнующие запахи, тронул память иным восторгом. Еще во время сева, пока мы заводили трактора и тишина весеннего леса нарушалась лишь голосами птиц, слушали мы токование косачей. Воркующий перелив их пения натекал отовсюду, а один ток обозначился где-то за ближними ивняками, и по горячему, взахлеб, азарту ясно было, что токовище густое, крепкое, и горели у меня мысли о том, что отойдет посевная, порадуюсь я тому токовищу, насижусь на нем досыта. И вот он – этот момент! Момент перевертыш. Вытянул я Катюху из круга девчат и сказал о своем намерении.
– Возьми меня с собой! – загорелась она. – Посмотреть охота!
– Ты что?! Там комары, как лошади, и волки шастают, – пытался я припугнуть Катюху. Да разве отговоришь ее, огневую, образумишь! Куда там! Пойду и все. Что ты будешь делать?! Мне бы тайком сбежать, да не по-доброму это – бросать девчонку. Махнул я рукой, а самого обволокло сладким угаром, мысли спутались в противоречии, голова погорячела. Не осознать ту глубину непонятной радости и тревоги захлестнувших меня одномоментно. Как их измерить? Где? Какой истиной?.. И не было мне спокойствия до тех пор – пока мы не пришли на токовище.
Шли мы торопясь, почти бежали, минуя затемненные лесные отъемы через закудрявленные поднявшейся травой поляны, старыми лесными дорогами в молчаливом согласии, тонком понимании друг друга…
Обогнув теряющуюся в густоте далей пашню, мы вышли к плотной гряде ивняков, тянувшейся от ближнего болотца в редких полусухих березках куда-то в лесное безбрежье. Вдоль нее ершилась старой травой широкая грива. На ней, на этой гриве, на самом ее гребне и топталось токовище из года в год, и отсюда слышали мы по утрянке наплыв воркующей косачиной песни.
Выбрав куст погуще, я отдал притихшей Катюхе ружье и стал быстро сооружать скрадок, таская от чернеющей в глубине кучки сушняка хворост. Быстро, азартно, с таким вдохновением – будто от этого шалашика зависела моя судьба. Ни мыслей, ни чувств. Словно я не я, а кто-то другой все это проделывал с особой ловкостью и быстротой. В том же охмелении забрался я в скрадок, обмял коленкой травяную подстилку, сломал лишние ветки и потянул Катюху к себе. Лицо обожгло ее горячим дыханием. Близко-близко светанулись зоревым отблеском глаза, и крутой изгиб бедра ощутил я локтем, и притих, усаживая Катюху рядом – бок о бок. Ни слова, ни движений, хотя тут же потянулись к нашим лицам полусонные комары, тоненько зудя крыльями. Но о том, что на току и шептаться нельзя, я предупредил Катюху еще в дороге, когда шли, и она или блюла ту договоренность и молчала, или тонула в обвале тех же чувств, что и я…
Чиркнула в прогале лесного просвета, обозначенного реденькой белизной, какая-то птица в быстром полете. Закуролесил горловым перекатом проснувшийся на краю ивняков куропач, и тут же зашумело над нами и в низенькие полынки, на бугре, черной головешкой упал тетерев. Я нащупал горячую Катюхину руку и легонько сжал.
Зашипел прилетевший токовик, буркнул несколько раз, и с разных сторон замелькали крыльями косачи, слетаясь на поляну. И заиграли, и затрепыхались в прыжках друг перед другом натопорщившиеся лесные петухи, заворковали, зачуфыкали. Их копилось больше и больше, и все звуки просыпавшегося леса, ближнего болота, луговин – гасились этим непрерывным в своем напоре токованием.
Глядели мы с Катюхой в промежутки между ветками и сучками, каждый в свои, и дышать боялись. Но боязнь та была не причиной опасения спугнуть косачей, а иной – от близости друг к другу. Косил я глаза на Катюхин профиль и видел, как медленно-медленно белели ее лоб и остренький прямой носик, слегка округлая щека под наплывом зоревого света, перехлестнувшего лесной рубеж, как четче и четче вырисовывалось токовище, сильнее и сильнее дичали на нем в брачном азарте тетерева. Звуки, запахи, игра света, ощущения – погружали в состояние особого восприятия внешнего мира, себя в нем… И таил я то состояние, берег, остерегаясь спугнуть, уйти в иную, менее тонкую, привычную реальность…
Ближе и ближе жалась ко мне Катюха, и то ли в восторге от увиденного, то ли в порыве благодарности вдруг цепко охватила мою шею обеими руками и ожгла коротким поцелуем в губы.
Будто по голове меня тюкнули. Затяжелела она, садовая, залилась жарким всплеском конфуза, откачнулась, как от огня. И не только голова – сам я весь затяжелел, загорелся, потеряв и тот особый настрой, и то восприятие, и те радужные мысли.
– Ты что, ненормальная! Разве можно так делать! – глухо, одолев перехват голоса, вроде рассерчал я, а душа обомлела.
Катюха молчала, глядя на меня в упор. Широко распахнутые глаза заслонили все, и не только заслонили, но и лишили слуха. Какое-то мгновение я, как глухарь, потерял понятие того, где нахожусь: ни косачей, ни других звуков не слышал, не оценивал и не осознавал подлинного.
– Больше ты меня так никогда не целуй, – едва выдавил я казенные слова, отвернувшись. И сразу гвалт токовища обрушился накатной волной. Руки стали нащупывать ружье, глаза – ловить ближних драчунов.
– Вот этих, Леня, этих! – зашептала Катюха будто ничего и не было, заметив мои движения.
Время не баловало нас мясом, и потому добыча была желаемой. Осторожно просунул я ствол ружья между ветками, выцелил двух бьющихся в прыжках петухов и грохнул. Дым, шум, всплески косачиных взлетов. Но оба петуха остались в траве…
Катюха снова посунулась ко мне с поцелуем, но я успел остановить ее рукой.
– Не надо, Катя! – впервые я назвал ее коротко, ласково, и самому от этого стало сладко, а в глазах Катюхи мелькнула такая нежность, такая преданность, что сердце дрогнуло.
– Буду, буду, всегда буду! – вдруг, как очумела девчонка, вновь порываясь ко мне.
Неосмысленно, само собой, будто защищаясь, руки вскинули ружье, преградив Катюхе выпад.
Не все косачи разлетелись после первого выстрела, и я еще одного взял на прицел…
Небо заливалось краснотой, лес накрылся позолотой, когда мы засобирались домой.
– Леня, мне надо сходить за кустик, – заявила Катюха.
Я, поняв ее, кивнул на кучу хвороста, из которой таскал сухостой на скрадок, как на самое значимое укрытие.
– Вон иди за валежник, я отвернусь…
Доверительной близостью опахнуло меня от этой наивной признательности, как-то роднее стала Катюха от такого, казалось бы, пустяка, детской прямоты.
– Леня, иди сюда! – вдруг позвала она, и я уловил некую тревогу в ее голосе и обернулся. Катюха стояла возле кучи валежника и глядела на нее. – Тут что-то лежит!
Взяв ружье наизготовку, я быстро пошел к ней. Сквозь остаток хвороста серела ткань мешка, проклюнутая зелеными росточками. «Семена!» – сразу догадался я и, отбросав часть валежин, увидел все шесть мешков, разложенных в ряд. Зерно уже проросло и пробило во многих местах мешковину.
– Никому ни слова! – предупредил я Катюху…
Назад мы шагали так же быстро, как на токовище, и близ деревни разошлись в разных направлениях, чтобы не давать повода для лишних разговоров.
Следовало бы доложить о найденных мешках Погонцу или Разуваеву, но не было у меня к ним доверия, и пошел я снова к Ван Ванычу.
– Значит, догадки наши прибавили в весе – подставка это, но опять же бездоказательно, – оживился он, выслушав мой рассказ.
– А если покараулить?
– Бесполезно. Тем, кто это сделал, зерно не нужно было – иначе они давно бы его забрали. Цель здесь другая – очернить Красова.
– Как же теперь он? Зазря пойдет под суд?
– Я сообщу, куда нужно, о находке, но полностью оправдать Алексея вряд ли возможно. В воровстве его не обвинят, а вот в халатности – да…
– Так он тут при чем? – все пытался я разобраться в тонкостях напраслины.
– При чем: нельзя бросать зерно в лесу без догляда.
– Так дождь полил, что было делать?
– Доводов много, но никого они интересовать не будут, главное – есть факт воровства, и это все решает…
Глава 7. Знал бы, где упасть…
1
К середине июня сев закончился. До начала сенокоса выпадало время не особенно горячих работ, и я, по совету Ван Ваныча, решил добраться до города и разузнать о техникумах и условиях поступления в них, поскольку как не поворачивай, а путь на дальнейшую учебу в родном райцентре мне был заказан.
Более десяти лет прошло с тех пор, как мы с матушкой, проводив отца на фронт, уехали из города в деревню, а многое помнилось: теснота домов на узких улицах, дзиньканье трамваев, магазины по низу двух-трехэтажных зданий, скопления людей, высокие заводские трубы, гудки и конечно же – наш двор в жактовском доме, отец, образ которого постепенно, с годами, таял, становился бледнее, туманнее, неживее… Промелькнуло все в воображении и исчезло. Передо мной остался лес, шумящий листвой, колышащиеся травы и узкая проселочная дорога. Вновь закрутились мысли вокруг недавних событий, и я все силился найти в них хоть какую-то нить разумного, но они не вязались в кружево обычных понятий, не укладывались в уме. И всю не близкую дорогу мялась моя совесть в поиске истины. И когда солнце поднялось над лесом, я уже подходил к райцентру.
Четыре месяца я прожил в нем, и что-то зацепилось за душу, отпечаталось в памяти, а что-то хотелось забыть. Но увы! Забыть ненужное не дано – точит оно нас, точит тайно, исподволь, неотвратимо…
По улице Озерной пошел я тише, приглядываясь к домам. Мне не хотелось встретить кого-нибудь из знакомых, вновь и вновь объяснять свое исключение из школы: эти объяснения опостылели больше, чем сам случай. Иное дело – Виктор Грохотов, мимо его дома я не мог пройти ни по совести, ни по уму. Он тоже с какой-то бедой встретился, а в череде колхозных работ у меня не нашлось времени навестить приятеля…
Домик Виктора все так же темнел старыми бревенчатыми стенами, посунувшись немного вбок. С некоторой дрожью открыл я калитку, постучал в двери.
– Заходите, не заперто! – донесся знакомый голос.
И дальше мы уже разглядывали друг друга. Виктор похудел, осунулся, но был весел. Никакого увечья я у него не заметил. И пошло: как да что? Я ему про свое – он про свое:
– Приехал я тогда на станцию Алачинск попуткой, купил билет до города на проходящий поезд и решил походить по привокзалью, поглядеть – время в запасе было. Сумерничать начало, не найдя туалета, я пошел за склады. Слышу – женский крик о помощи. Проскочил мимо строений – а там трое девчонку лапают. То ли они изнасиловать ее хотели, то ли просто ограбить. Я туда – первого сразу срезал в нокдаун, второго через себя кинул и пинка хорошего добавил, а третий бежать. Девчонка, совсем еще молодая, лет семнадцати, одежду поправила и тоже ходу. Я за ней, кричу: постой, постой… Куда там – за угол и скрылась…
Мы сидели в комнате, за столом, пили чай, поданный тетей Риммой, заметно постаревшей, но по-прежнему тихой и доброй.
– Сел я в вагон и вижу те трое заявляются: один лет сорока, другие – чуть помоложе. Морды жуликоватые. Сразу ко мне: выйдем, мол в тамбур, поговорим. Понять не сложно – реванш брать собрались. Как тут трусить? После уважать себя перестанешь. Вышел с ними. Колеса постукивают, шум – ничего не слышно, что говорят. Двое сразу на меня, а третий стал открывать вагонные двери. Я одного двумя хуками кинул на пол, а второй уцепился за мою одежду и тянет к открытой двери. Третий помогать. Подскользнулся я на железной рифленке и полетел наружу, но этого, второго, не выпустил. Очнулся в палате: мне два пальца на левой ноге отхватило, а тому, что вместе со мной выпал, по голове чем-то досталось – череп разлетелся… – Виктор задумался, глянул в окно. – Потаскали, подопрашивали, как из больницы выписали, но разобрались. Вот и вся моя военная карьера. Много раз думал: правильно ли сделал, что полез в заступку? И утвердился – правильно! Иначе я не мог, не тот у меня стержень, чтобы в сторонке стоять, когда человека насилуют…
Мне живо все представлялось, и я примерял этот случай к себе: смог бы так или нет? И терялся, не находил твердого ответа. Видимо, тот стержень, о котором говорил Виктор, еще во мне не устоялся. Во всяком случае, в душе я одобрил поступок Виктора и тайно возгордился, что знаком с таким человеком.
– Хожу без хромоты. К осени буду в педагогический поступать и скорее всего на заочное отделение – мамулю одну не брошу…
После чая мы пошли в сарайку.
– Тренируешься? – Виктор глядел пытливо. – Вроде выше стал, позагорел лицом.
– Перчатки не забываю, да работы много было, уставал.
– Не бросай их. После вернешь – память мне об отце, и качайся – руки для боксера все.
– Особенно качаться негде и некогда. А рукам работы хватает.
– Работа – работой. Но найди каких-нибудь железяк на два-три пуда, нацепляй к тому же лому и жми до упора каждой день…
Мы еще поговорили, поделились планами, и Виктор посоветовал:
– Иди на дорогу, на выезд. Если попутки будут, то с утра.
– Я хотел к Павлу Евгеньевичу зайти.
– А их, по-моему, нету. Они куда-то в деревню уехали отдыхать…
* * *
Долгих три часа болтался я в кузове грузовика, трясущегося на разбитом за весну грунтовом шоссе, пока вдали не показался город. Вначале дымящимися спичками зачернели на горизонте заводские трубы, потом стали подниматься над придорожными посадками этажи кирпичных зданий, и тут же зачернели плотные дворы частной застройки. Непривычно, робковато – другой мир, другая жизнь…
Ремесленные улицы я нашел без помех, прошагав с полчаса от базара, на который и ехали шофер с экспедитором, почти в одном направлении. И нужный дом отыскал по адресу на давнем, еще довоенном письме. По словам матушки и деда, жил в нем Петр Мамрин, за которым была замужем родная сестра моей бабушки Елены – Ульяна. Умерла она еще в войну, не пережив потери двух сыновей.
Петр Мамрин вернулся с фронта к дому, заколоченному досками: ни жены, ни сыновей…
Высокий глухой забор, высокие ворота, тяжелая калитка на запоре. Потоптавшись возле нее в нерешительности, я принялся постукивать щеколдой. Сначала потихоньку, потом решительнее. Где-то в глубине двора густо залаяла собака. Послышался недовольный женский голос:
– Там же звонок, чего стучите?!
Я поднял взгляд и заметил на стояке кнопку. Пришлось укорять себя за оплошность, улавливая шарканье торопливых шагов.
– Кто там? – раздался с той стороны калитки тот же высокий женский голос с хрипотцой.
Я сбивчиво стал объяснять, кто да зачем…
– А Петр еще на работе.
Мы оба замолчали: я в непонятной растерянности, а хозяйка – вероятно, это была она, о ней говорил дед – колеблясь.
– А когда он придет? – Все же не хотелось мне с дороги, в которой растрясло до потрохов, бродить по незнакомым улицам города.
Брякнул запор, калитка откачнулась, и я увидел маленькую, суховатую пожилую женщину с худым сморщеным лицом. Она окинула меня глубоким взглядом из-под прищуренных век.
– Ну заходи, коль родня…
Высокое крыльцо, застекленная веранда, просторная прихожая с большими окнами во двор, затемненные тяжелыми портьерами комнаты. Даже мне, не опытному, ясно было, что в этом доме есть достаток.
Тетка, показавшаяся вначале неприветливой, высокомерной, смягчилась, разузнав обо всем подробнее, и мы наладились пить чай, приглядываясь и прислушиваясь друг к другу.
Пока то да се, пришел на обед хозяин – Петр Нилыч: еще осанисто статный, с полным ртом золотых зубов, в приличном костюме.
– Как же, помню: и Анютку – племянницу, и отца твоего Емельяна, золотой мужик был, – начал Петр Нилыч, узнав кто я. – А как там мой свояк Данилка здравствует?.. – И потянулся у нас неторопливый разговор за едой: за горячими щами, мясной кашей, сладостями – на красивых тарелках, тяжелыми, в серебре, ложками-вилками… Такого я даже у Павла Евгеньевича не видел, и вообще нигде. К каждому блюду Петр Нилыч наливал себе небольшую хрустальную рюмку водки из резного графинчика и в один мах выплескивал в широкий рот. Он и мне предложил выпить за встречу, но я отказался – не манили меня ни вкус алкоголя, ни состояние опьянения, пусть даже легкого…
– А дом мой цел? – все щурил небольшие весело-ласковые глаза Петр Нилыч и сразу опередил меня в вопросе: – Его под магазин забрали в тридцать первом…
Магазин в нашей деревне был самым красивым из всех построек: высокий, рубленный из добротной сосны, под железной крышей с маковкам, фигурными водостоками, парадным крыльцом, резными наличниками на окнах и по карнизу…
Поняв мое удивление, хозяин потянулся еще к графину, но его опередила тетя Тася, как я позже узнал, бездетная сожительница Петра Нилыча, успев ухватить графин прямо из-под руки.
– Хватит! – отсекла она попытку Петра Нилыча. – Тебе еще на работу…
Он глянул неодобрительно, с досадой чмокнув губами, глаза его в миг блеснули холодным отсветом и тут же вновь заласкали меня в приветливой улыбке, поняв, что я спокойно воспринял выходку хозяйки.
– Вот видишь, эти женщины – вечно командуют, – как-то решил он сгладить резкость тети Таси.
А я потягивал чай и думал: откуда у этого вроде бы деревенского мужика такой выхоленый вид, барские жесты, гладкая речь?..
– Жил я, Леонид, в единоличное время крепко, – как бы отвечал он на мои немые вопросы о доме-магазине, городе, работе… – Технику имел: сеялки, сенокоски, лобогрейку… Сумел удачно крутануться и дом крестовый поднял, а тут коллективизация… – Большая, почти круглая голова Петра Нилыча с редким пушком волос по темени наливалась краснотой не то от выпитой водки, не то от горячего чая, не то от воспоминаний – уж больно живо играли его глаза и светилось лицо. – Тряхнули меня подчистую. Собрал я какие было деньги, документы и в Москву, на прием к Калинину. К самому Михал Ивановичу не удалось попасть – помощник какой-то принимал, но бумагу за его подписью получил. Вернули все, но я понимал, что это только начало, цветики, а ягодки впереди – распродался и сюда, в город, дом этот купил. Только обустроился, поднял сыновей – война…
Как непредсказуема судьба человека! Как порой несправедливо жестока, даже коварна! И почему так? Почему чаще всего попадают под ее колеса умные и добрые люди? От кого это зависит? Кто этим управляет?..
– Заговорил я тебя. – Петр Нилыч достал из кармана плисового пиджака круглые часы на золотой цепочке, щелкнул крышкой. – И мне пора на склад отпускать лекарства – заведую я одним аптекарским складом: надо работать, пока ноги носят. Иначе, как жить? А вечером обсудим твои проблемы…
2
Город удивил меня и ошеломил. Удивил своей стариной, чудными постройками по центру, магазинами с продуктами, одеждой, обувью, о которых и не мечталось. В одном из них я даже увидел две новенькие легковые машины: «Победа» – сверкали на их капотах никелированные буквы. В сравнении с нашей деревенской убогостью все это казалось небывалой роскошью. И эти сравнения опечалили меня глубокой несправедливостью: труд в деревне и труд в городе разнился, как небо и земля. Там – от зари до зари, до изнеможения, почти задарма, в городе – от звонка до звонка и в меру и с ежемесячной зарплатой: прошлый век и современность…
Не без помощи разъяснений Петра Нилыча, его совета, управился я за день с тем, что намечал, и по утру собирался домой, а ночью налетела гроза. Лежа на диване в маленькой комнатке в одно окно, отведенной мне на время, я слышал, как хлестали в закрытые ставни потоки дождя, как грохотало над крышей, как журчала вода в водостоке, как жалобно скрипела жесть отошедшего от гвоздей кровельного листа, как стучали по рельсам колеса проходящих мимо трамваев, и мир деревни казался сном, дальней-далью…
Утром Петр Нилыч заметил:
– Дорогу на Иконниково наверняка расквасило. Попутка тебе вряд ли найдется. Так что побудь у нас денек-два, пока не просохнет…
Довод был резонным, и я согласился, хотя дед и матушка просили не задерживаться.
Проводив Петра Нилыча на работу, тетя Тася вдруг спросила:
– Ты когда-нибудь что-нибудь продавал?
Вопрос был настолько необычным, что я растерялся.
– Вижу, что нет, – тонкие губы у нее дрогнули в полуулыбке, под ними блеснули золотом зубы, как у Петра Нилыча, и мельком подумалось: «Чтобы ставить такие коронки, надо иметь немалые деньги, а откуда? Аптекарь-кладовщик не такая уж шишка, чтобы получать высокую зарплату…» Но мысли эти скользнули мимолетно, без зацепки.
– Сегодня среда, барахолка работает, – пояснила свой вопрос тетя Тася. – Нам надо плащ продать, а у меня давление разыгралось, да и милиция шерстит частных продавцов. А ты под студента сойдешь, скажешь, что продаешь свой, купил – не подошел…
Я не знал, что такое барахолка, как торговать, и вообще ничего из того мира, но отказать людям, по доброму приютившим меня, не хватило духу.
Тетя Тася, подавая добротный, совсем новый плащ, все напутствовала: сколько просить, за сколько отдать, что говорить, если вдруг привяжется милиция, объяснила, как ехать на барахолку, дала денег на дорогу и на пару пирожков, которые, по ее словам, можно было купить там же…
И вот я в толчее людей. Стал чуть в сторонке от ряда, на котором разновозрастные тетки и дядьки продавали нижнее и верхнее белье, одежду, обувь… Хаотично двигалась, как плыла в непонятном направлении, вся общая масса людей, края которой не было видно из-за плотности натекающих друг на друга толп. Говор несмолкаемо сотрясал воздух, давил на уши, тревожил. И эта бессистемная суета, этот разноголосый, разной тональности, шум затемнили мне и без того пасмурный день, натянули на сердце унылость. И стоял я как-то обреченно, с горькими мыслями, торопя время, чтобы побыстрее отделаться от неприятного поручения… Подходили любопытные, щупали, глядели, но, узнав цену, молча удалялись. Двое подозрительных, с лисьими мордами, раза два прокрутились возле меня, но не трогали, не задирались, как один лысоватый, чуть не вырвавший плащ из рук. Почувствовав ответную силу, он изрек:
– Плащ из военной накидки переделан, самошитка, спекулируешь…
Я ничего не ответил, но сторожился: в любой момент такие вот праведники могли разыграть балаган, поднатравить снующих мимо озлобленных на торгашей людишек – отнимут плащ, тогда ищи-свищи их, зови заступников. А их, заступников, не больно найдешь. Раза два я видел в толпе милицейскую форму и все. Неспокойный настрой начал гасить мою уверенность в себе, в успех… Тут-то и заинтересовался плащом молодцеватый на вид мужик.
– Откуда плащ? – Он потрогал ткань, поглядел зачем-то швы.
Я сразу почувствовал, что дядька этот не простой, с тайностью.
– Купил здесь же по весне, – как можно спокойнее ответил я, помня наказ тети Таси, – деньги понадобились срочно – продаю.
– Сам откуда?
– А вам зачем? – держал я голос.
– Интересно. Плащ хотя и сшит добротно, но кустарно, на дому.
– Ну и что? Какая мне разница, кто его сшил? Я, когда покупал, не спрашивал.
– Разница есть. Тут спекулянты этим занимаются. А то дело незаконное, подсудное. Небось знаешь? Документы есть?..
Чем больше наседал на меня этот уверенный в себе мужик, тем сильнее охватывала меня тревога.
– Я из деревни, несовершеннолетний, какие документы?
– Что, в деревне покупателя не нашлось на такой плащ или в районе, сюда ехал. Не далековато ли?
Откуда-то из потока людей вынырнул милиционер и к нам.
– Забирай и этого, Углов, будем разбираться. – Настырный дядька вынул из кармана документ, мелькнул им перед глазами. – Лейтенант Ивлев, ОБХСС…
Слабина давно гнула мне колени, а тут вовсе дрожь плеснула по телу, как маком обсыпала.
– За что? – все же не уронил я голоса.
– Там разберемся. – Он махнул рукой, а угодливый милиционер крепко взял меня за локоть.
– Пошли!
Вырваться от этого безусика было не сложно, и вряд ли бы в такой толпе они меня поймали, да плащ чужой не бросишь, что потом говорить? Ведь не поверят. И я покорно шел рядом с милиционером, и оглядывались на нас люди, и вместо боязливого озноба стал гнуть мне голову стыд – будто вора заграбастали…
В какой-то будке на два окна сидел за столом еще один служитель закона в офицерской форме. Через перегородку, за решетчатыми дверями, в тесной коморке, маячили два мужика и женщина.
Выслушав доклад младшего, офицер приказал:
– Этого тоже в отделение до выяснения личности…
После его слов я отчетливо понял, насколько все серьезно, и дух перехватило от тревожных мыслей вразлет. Воображение запрыгало по мрачным картинкам. Но еще была слабая, как отсвет зари, надежда, что все образуется и не нужно преждевременно давить самого себя.
– Так еще улов будет, – потянул разговор тот молоденький милиционер, который привел меня. – Ивлев там с Сироткиным по рядам чешут.
– Куда мне их набивать? – вскинул хмурый взгляд старший. – Друг на друга? В КПЗ места побольше…
Брякнул засов, скребанул по нервам звук открываемой железной двери.
– Выходите! – скомандовал милиционер тем, в каморке. Первой вынесла за порог откормленное тело густо раскрашенная женщина и, даже не взглянув на меня, что-то стала говорить офицерику.
– Идите, идите! – властно махнул он рукой. – Не то еще кое-что припишу к протоколу.
Двое мужиков средних лет, угрюмые, нечесаные, лишь мельком окинули меня взглядом исподлобья, шагнув мимо. Один из них, что покрупнее, был с перевязанной головой, другой – худенький, робкий, в порванной рубахе и таких же изношенных до крайности штанах.
То же хмурое небо, ветер, прохлада, и наше шествие по тротуару широкой улицы: по двое – впереди низкорослые мужики, за ними я рядом с дамой с накинутым на руку плащом, сзади – милиционер. Снова гнул голову стыд, и снова появилась мысль о побеге. Но, привыкший к честности, я назвал свои подлинные данные при опросе – найдут, если что. Мне, может, ничего и не будет за этот поступок, а сколько кривотолков начнется в деревне, если милиция наедет с розыском?! Опять матушке в кручину, деду – в стыд, а самому в злую отмазку перед друзьями, перед Катюхой – попробуй отмыться от наветов… И шел я, горбясь, теряясь в налете противоречивых мыслей, не глядя по сторонам, мало что замечая. А мысли сходились к одному: рассказать все как было на самом деле. Иначе и простой запрос обо мне в деревню не останется тайной. Он наверняка придет к Хрипатому – тот не утерпит, поделится новостью с Лизой Клочковой, а если и не поделится, она сама, на правах секретаря, может прочесть то послание из любопытства. Носить за душой такую щекотливую тайну Лиза вряд ли сможет. Дойдет шальная весть и до матушки, что тогда? Я даже вздрогнул от того возможного горя, которое свалится на мать. А если сознаться?.. Тогда я, выгораживая себя, подставляю под удар Мамриных. Это же внезапный обыск! А что там у них в доме – неизвестно. Я мельком видел в комнате тети Таси большую швейную машинку с ножным приводом. Если сопоставить слова «обхссесника» о плаще самошитке, о спекуляции, с наличием этой машинки в доме, достатком хозяев, просьбой ко мне, то вывод ясен: тетя Тася в самом деле занималась надомным шитьем. Вдруг у нее не один этот плащ, что у меня на руке в готовности, а есть еще? И не только плащ? Тогда тюрьма… Жгучей крапивой ошпаривали душу эти мысли, шли в разрыв с рассудком. Но как после жить с занозой предательства? Как осветлить сердце? Как честно смотреть добрым людям в глаза, зная за собой подлость? Нет, не бывать тому…
В жесткой казни самосознания прошли те пятнадцать-двадцать минут, пока двигались мы до отделения милиции. А там и вовсе тьма-тьмущая – будто мы и не люди…
Злополучный плащ у меня тут же забрали как вещественное доказательство и, ссылаясь на то, что нужный для собеседования человек пока отсутствует, заперли нас троих в небольшую, в одно окно с решеткой, камеру. Вдоль нее возвышались над полом низкие нары, в углу небольшая деревянная шайка, как позже выяснилось – параша.
Хлопнула обитая жестью дверь, и мы остались втроем – крашеную даму увели в другую камеру. Тут и тиснула под ложечку голодная судорога – с самого утра на тарелке супа и стакане чая, даже предполагаемых пирожков не успел я купить.
Два нелюдимых мужика тут же улеглись в угол, рядом друг с другом, а я остался пялиться в окно, захмуренное низкими тучами, и такая пронзительная тоска стиснула сердце, что глаза защипало. Деревня нарисовалась в солнечном отсвете, роща, озеро… И роднее родного отзвучилось это видение в душе, даже ноги сделались непослушными, ослабли, и опустился я на голый пол в безисходности мыслей и чувств. С час сидел я так, изводясь в отчаяньи, держа в светлости дух лишь воспоминаниями, потом вскочил и стал стучать сапогом в окованные двери.
– Зря обувку рвешь, парень, – вдруг отозвался тот, с перевязанной головой. – Ложись лучше и спи. До утра про нас никто не вспомнит.
– А как же есть-пить? – Я обомлел – окошко еще светилось дневным светом и по прикидке было пока не больше четырех часов дня.
– Никак. Тут КПЗ, а не закусочная.
– Но мы же не преступники?!
– Ты, может, и нет, а мы меченые…
Как холодной водой меня облили: как же так? Где же справедливость? Где закон?.. Почти та же изнанка, что и была в Иконникове?..
– Тут научат свободу любить, – добавил тот же мужик, и я лег на бок, сжался калачом, чувствуя лишь упругие толчки надорванного жуткими мыслями сердца. Вот тебе и свет ученья через зарешеченное окно – будто кто-то съязвил, бросив соли на рану.
* * *
Под тихую дрожь намученной души уснулось, и сколько прошло времени, было не ясно. Лишь пятно окна задернулось серостью настолько, что прутья решетки на нем едва проступали. Голод стянул живот с новой силой, и я затаился, боясь лишний раз шевельнуться, подумать, гнал мысли отрывочно, зыбко и из этой зыби выплыл большой дом Мамриных, лица хозяев. Вероятно, и они, потеряв меня, маялись в трепетной бессонице, в запале тревожных предчувствий, прислушиваясь к малейшим шорохам, которых так много в их просторном жилье…
Двое сокамерников, видимо, спали или просто лежали, замкнувшись в себя, не двигались и не говорили.
Лязгнул замок. Говор, ругань, и кто-то упал рядом со мной от сильного толчка в спину. Я кинул взгляд через плечо и увидел мордастого, чем-то похожего на Пашу, парня едва ли старше меня, может, на год-два, синеглазого, белобрысого. Он вдруг улыбнулся, стоя на четвереньках, и сказал без зла:
– Вот, бляха, заломали! Ты кто? – тут же задал он мне вопрос. И его веселая мягкость сразу понравилась, и вроде посветлело даже в каморке. Мы познакомились.
– Приехал к брату погостить, – стал рассказывать Гоша, так его звали, – выпили чуток, пошли за ограду бороться, а тут патруль. Ну и навалились. Я брата отстоял, борьбой занимаюсь, а самого скрутили.
Он оказался из дальнего райцентра области, студент машиностроительного института, и пошло: Гоша мне свое, я ему свое. Проговорили долго, пока мужики в углу не заворочались и не заворчали…
Как-то легче стало от поддержки этого неунывающего парня, его оптимизма, веселости, и мы попритихли. Сон брал свое.
Снился мне свет, мягкий, широкий, льющийся неизвестно откуда, но до того приятный, ласковый, что сердце притихло в сладостной неге. Это свет ученья, решил я, наслаждаясь необычным сиянием. Резкий стук двери загасил ту приятность, залил ее чернотой.
– Мой твой матка имел! – услышал я непонятные крики. – Рэзать будем!..
Дверь полыхнула электрическим отсветом и отрубила его, лязгнув. Возле нее я увидел двух мужиков в каких-то серых безрукавках. Они грязно ругались, коверкая русские слова с другими, непонятными.
– Голова рэзать будем!..
В тусклом свете раннего утра, пробивавшегося через окно, я разглядел чернявых, коротковолосых, с темными лицами, коренастиков.
– Подвынься! – Один из них грубо толкнул Гошу, и тот гибко вскочил.
– Ты чего, грач, толкаешься?!
Я не ожидал такого резкого отпора от Гоши. Видимо, и те, которых втолкнули к нам, – тоже.
– Чего?! – Растопыренными пальцами Гоша отпихивал чернявого к дверям, и они схватились. Чернявый поймал Гошу за плечи и резко сыграл головой вперед, целясь в лицо или подбородок. Но Гоша увернулся, ловко, через бедро, грохнул мужика на край нар. Тот аж взвизгнул. Второй – в один миг сорвал с ноги сапог и замахнулся сзади на Гошу. Скорее непроизвольно, чем сознательно, защищая симпатичного мне человека от коварного удара, я крюком правой саданул нападавшему в челюсть, почувствовав насколько она крепка – даже козонки пальцев отозвались болью. Выронив сапог, мужик упал на задницу, но тут же вскочил, почти мгновенно. В руке у него что-то блеснуло. Это был не нож, а нечто тонкое, вроде бы остро заточенная пластинка. Я едва успел откачнуться от резкого взмаха перед лицом, и уже жестче звезданул нахрапистому левой снизу, и тут же, вкладывая в удар всю силу руки и корпуса, накрыл его прямым правой. Белый оскал зубов, безвольный всплеск обвисших плетьями рук и обвал в парашу. Брызги метнулись из нее и все стихло. Только хрипел тот, первый, под Гошей, прижатый локтем в кадык. А в дверь уже колотился дробненький мужичок из темного угла. И топот услышал я, и два милиционера вломились в камеру.
– Ну что, дали этим горным орлам?! А ну встать! – Один из прибежавших, вероятно старший, резко пнул того, что еще лежал, после отскочившего от него Гоши. – Побег из высылки, сопротивление властям, драка в КПЗ – сгноим! Тяни его, Семен, к блатным. А этого, из параши, сортир чистить, все равно отмываться под шлангом…
Я стоял и таился, не зная, что будет, как поступят с нами.
– Молодцы! – смягчился вдруг старшой. – Показали этим резунам, кто кого резать будет. Ждите. Скоро начальство объявится – разберется… – Дверь хлопнула и снова стало тихо. Гоша пожал мне руку, и мы сели к окошку поближе к свету, льющемуся с зоревого небосвода, с надеждой на добрый исход так неожиданно свалившегося невезения, с глубокой симпатией друг к другу.
* * *
– Значит, несовершеннолетний? – Офицер за столом, коротко, под ежик, стриженный, с крутым затылком, крепкий, широкоплечий, внимательно меня рассматривал. – И из деревни?..
Я притих перед ним на скрипящем стуле. На краю стола лежал целехонький мой плащ.
– Ни в то, ни в другое не верится. Выглядишь ты вполне на восемнадцать и боксом вроде занимаешься. Рассказывали мне про ваше геройство. А какой же бокс в деревне? – Спокойный голос следователя располагал к откровению.
– Самостоятельно занимаюсь, – решил я не запираться.
– Бокс самоучкой не освоишь.
– Начинал в районе, с тренером… – Об исключении из школы говорить не хотелось: мало ли как это могло повлиять на следователя.
– Ну ладно, вели вы себя с Седых достойно, хотя за это кое-что полагается. Те, беглые с поселений, отъявленные головы, могли и впрямь порезать. У одного обломок бритвы как-то не нашли при обыске, а это серьезное оружье в опытных руках. Скорее всего, не ожидали они от вас такого отпора, подрастерялись чуток…
Разговор велся благожелательный, и я не мог понять причину. Неужли из-за того, что мы осадили чужаков? Вспомнились их злые угрозы, непристойные крики, и выходило – что из-за драки.
– Ладно, – офицер положил руку на плащ, – купил-купил, но зачем продавал? Какая нужда?
И тут высверкнулись у меня неординарные мысли. Можно было многое придумать, а я вдруг ляпнул:
– Да хотел пороху и пистонов взять. Скоро август – открытие охоты, а у нас припасов нигде не продают. И заначка нужна перед учебой.
– Ты охотник? – Следователь проявил заметный интерес.
– Давно…
И пошел у нас разговор совсем не о спекуляции. Офицер тоже оказался охотником, стал расспрашивать о наших угодьях, о дичи, и сошлись мы на договоренности о совместной охоте по осени.
– Бери свой плащ и до дома. На толкучку не суйся – второй раз не открутишься. – Видно, уловил он мою неискренность, понял, коль такой намек кинул. – Вот тебе на банку пороха и пачку пистонов. – Следователь достал из кармана деньги и шлепнул на плащ. – А что касается заначки – обойдешься. Из-за такой мелочи не стоило плащ продавать.
Меня как жаром обнесло.
– Да не надо.
– Бери, бери! Деньги не велики, а покажешь охотничьи места и не будешь в накладе…
Отказываться было не резон, и я, не глядя, сгреб предложенные деньги в кулак и сунул в карман, взял плащ.
– А как же с запросом в деревню? – решил я развеять последнюю тревогу.
– Его никто еще не делал и делать не будем. Но не вздумай подзалететь еще с чем-нибудь на толкучке! – Следователь привстал из-за стола. – Михалев! – позвал он милиционера. – Этого выпускаем, проводи.
Поняв, что все так просто и светло разрешилось, я осмелел и спросил про Гошу.
Следователь свел брови.
– Там дело посерьезнее. Он же оказал сопротивление милиционерам и весомое…
Неужели веселый, удалой, в общем-то добрый парень Гоша может так просто сломать свою судьбу? Ни за что? Ни за понюх табаку…
Переживал я, топая по длинному коридору к выходу, и заморозило спину от этих мыслей, и представил я его одного в камере, лежащего калачиком на полу в том жутком ожидании, пронзительной тоске, в которых пребывал я, и почему-то метнулась память к Алешке Красову, и уже не Гоша лежал на низких, во всю камеру, дощатых нарах, а он, и Настино лицо его заслонило…
Свет ослепил на миг, а когда я разнял веки, то увидел у крыльца Петра Нилыча. Сузились в улыбке его глубокие глаза, сверкнули золотые зубы.
– Ну наконец! – Он широко распахнул руки. – С самой рани тут стою. А Таська пластом лежит от давления. Я еще вчера вечером догадался, что ты в милиции, звонил сюда. Но все равно ночь не спали. – Петр Нилыч держал меня за плечо, и мы шустро шагали к трамвайной остановке. – Дура баба, что надумала. Погорячился я, пошумел – Таська и слегла. Но больше боялась, что по своей наивности ты расскажешь в милиции правду.
– Я говорил так, как было условлено, и ничего лишнего. – Голова у меня вдруг закружилась от буйства света, тепла, свежего воздуха и голода, и Петр Нилыч понял мое состояние.
– А ну зайдем в закусочную!
Себе Петр Нилыч заказал водки почти под поясок граненого стакана, а мне две котлеты и пару пирогов с капустой. Сверх вкусными показались мне и котлеты, и пироги, и на душе полегчало…
3
Утром я попрощался с Мамриными, заручившись приглашением поквартировать у них через месяц во время экзаменов, и выбрался на окраину города: вначале трамваем, потом – автобусом, а к нужному мне шоссе – пешком.
Где-то погромыхивал гром, но до самого горизонта небо светилось прозрачной голубизной, а солнце зеркально слепило. Присел я в траву, на краю кювета, и, поглядывая вдаль, на колеблящиеся в мареве зубцы городских окраин, в которых таяло острие шоссе, думал о сложностях жизни. Не гладко начиналась моя дорога в городе, даже желание учиться как-то притускло. Но как еще заглянуть в те тайны, о которых мечтается? Как высветить то, чем живем? Как выразить себя?.. Только учась. И, судя по тому, сколько нежданного свалилось на меня, едва высунувшегося из своей деревни, путь этот завязливо долгий. Придется упираться, изводиться в маяте, а возможно, и умываться слезами…
Пыль закурилась вдалеке, и я вышел на дорогу. Грузовичок «газик» тормознул у обочины. В кабине один шофер. Я к нему.
– Возьмешь до Иконникова?
– Полдороги проедем – мне на развилке в сторону.
Я уселся на сиденье рядом с шофером.
В кабине пахло бензином, чем-то горелым и нагретым железом. В пути редко клеится душевный разговор. Так – вокруг да около, и мы с шофером не были исключением: ехали да ехали в легкой перекидке словами, поглядывая по сторонам на закудрявленные листвой леса, на зашитые травой поляны, на зелень взошедших хлебов, и мысли тянулись вяло, с отсечкой на короткие слова, тянулись к вчерашне-позавчерашнему, до мелочей осевшему в памяти, знобкому, как чуткий сон.
Город оказался не таким, каким я его представлял и не раз видел во сне. Он выткался в ином виде и не только внешне: одни воспоминания остались от того довоенного, ушедшего в небытие, времени, того духа, тех людей… Особым чутьем уловил я это, как улавливается иной раз на охоте неприметный ход зверя или скрытый полет подраненной птицы. Те же Мамрины – живут вдвоем в большом, добротном, по деревенским меркам, роскошном доме, богатенько, сытно. Петр Нилыч в приработке на дефиците лекарств, поклевывает по связям от благодатных потребителей, а все мало: затянулись в спекуляцию. И хотя в игре на дефиците тоже нет чести: недостаток, недохват волей-неволей толкают на сделку с совестью, и не всяк устоит против черной силы – но еще страшнее, когда человек под действием той самой силы не может остановиться и катится дальше, к еще большим подлостям. А сколько волнений, запальных переживаний, пагубного страха, людских проклятий тянет за собой это стремление? Стоит ли оно того здоровья, что стелется по ее дороге? Мне, молодому, ночь в каталажке хотя и вывернула душу, но лишь встряхнула до каждой ниточки нервов, а тетя Тася с давлением промаялась. Тяжко, рискованно…
Оборвал мои тайные рассуждения шофер, тормознув у поворота.
– Жди, можа повезет, – кинул он на прощанье и газанул, торопясь.
С полчаса я поглядывал на дорогу, уходящую дугой за ближний лесок, и все размышлял, размышлял, размышлял, снова и снова вспоминая «блошатник», Гошу, злых мужиков, и выходило, что не будь у нас кое-какой спортивной подготовки, затоптали бы они в сраме унижения и меня, и Гошу, да и тех двоих, что в углу таились, не то домушники, не то карманники. Понял я, что и добро должно иметь крепкие кулаки при чистой душе, иначе ему не высветиться, и решил еще больше тренироваться, качать силу. И так потянуло меня домой, так заложило грудь тоской по дорогим мне людям, что я поднялся из травы и чуть ли не побежал обочиной дороги. До Иконникова оставалось километров сорок, но это меня не устрашало – была надежда на попутку, а любое движение приближало к дому. И, как ни странно, но тихие леса, затянутые зеленью поляны, птичий трепет – оттянули мысли от города, от его яви и тайн и унесли в родную деревню: маленькую, почти пылинка в сравнении с размерами города, но насквозь осветленную, теплую от близких мне людей, от всего знакомого, где и мыслям вольготнее, и душе шире разворот. С пронзительной тоской зашлось сердце о матери, явно встревоженной моим долгим отсутствием и наверняка с тяжелыми думками в бессонных ночах; о добром деде, хотя и бодрящемся, но втихаря тоже надрывающем нервы в беспокойстве обо мне; о Катюхе в юной красоте – сладко притихло дыхание, как только нарисовалось ее лицо…
Прошагал я часа два. До ближней деревни Ухановки, что стояла вдоль тракта, оставалось верст десять, когда наперерез мне стала наплывать из-за леса низкая туча. Ветер сразу переменился, покрепчал. Гром стал поигрывать за окоемом мягким рокотом, хотя молнии и не было видно. Поняв, что от грозы не уйти, я стал присматриваться к ближним лескам, определяя место, где можно будет спрятаться от дождя.
Расплылись дали, заливаемые белесым обвалом отяжелевшей тучи. Проколебались волны степных запахов – коротко, разрозненно, еще горячие, сухие, оттесняемые накатом колодезного холода. Потянуло сырой стынью таявшего льда, распирающей грудь свежестью, тонкой наволокой распаренной зелени, и блеснули загулявшие по тучевому росплеску сполохи скрытой в завесе дождя молнии, и трескучий взрыв сотряс воздух. Кинулся я под березы, осевшие низкой листвой вдоль опушки густого леса, и прижался к шероховатой, еще теплой коре одной из них.
Дерево вздрагивало, и мое разгоряченное тело чувствовало эту легкую дрожь, будто прислонился я не к березе, а к живому существу и вроде слышалось, как под корой, по трубочкам-жилкам, течет некая земная сила.
Мягкий шум накрыл лес. Поверху покатился вихрь тугого ветра, и дерево закачалось, ощутимо прогибаясь, иные, неуловимые, звуки стали чудиться в ее тверди. Мигом ударил водяной вал в трепетную листву, прошил, заливая, все пространство лесной чащобы, закручивая свои холодные струи вокруг кряжистых стволов берез, неистово клоня и раздвигая молодую древесную поросль, ивняковые кусты, и уже не шум, а низкий густой гул поплыл вместе с ярившимся ливнем. Лишь грохот грома глушил все, да прожигала слепое пространство тонувшая в плотном обвале дождя шальная молния. Уберечься в сухости от такого нахлеста воды и ветра, даже плотно прилипнув к шершавому комлю вековой березы, невозможно, и почти сразу, как только туча осела на лес, потекла по моей голове на спину и грудь холодная мокрота, и дальше вниз, к пояснице, и я задрожал в ознобе, как приютившее меня дерево, заежился, пытаясь утопить эти струйки в ткани пиджака и штанов, и какое-то время это удавалось. Но лило до того плотно, что казалось не ливень затопил пространство, а сплошной водопад – оторвись от земли, и понесет злой поток неведомо куда. Даже ближнего дерева не было видно. В короткое то время вроде и не думалось. Все сознание, все ощущения были подчинены этому шуму, грохоту, вспышкам света, холоду, мокроте… Время остановилось, душа замерла. Это состояние заколебалось лишь тогда, когда грозовой гул стал удаляться, проклюнулись в общем сливе тугие строчки дождя, проступили в пленке откатывающейся воды ближние деревья, за которыми затерялись отсветы молний. Посветлело. Заискрились блестками дождинки, убегая за тальниковые кусты, обнажился лес, тихий, сырой. Остро запахло лесной подстилочной прелью, березовым корьем, зелеными листьями. Откуда-то потянуло теплой сухостью. Сверху дробно посыпались скатывающиеся с листвы капли, разбиваясь на мелкие брызги, и все в лесу потонуло в блеске игры выбившихся из-за окудрявленных тучевых отрепышей размашистых лучей солнца и хрустально чистого водяного севца. Ежась от окропляющей лицо мжицы, я выскочил из-под кроны приютившего меня дерева и, прислушиваясь к отдаленному гулу грома, угнавшего чернильно густеющую тучу за дальний лес, побежал к большаку по захлебывающейся от избытка влаги траве. В сапогах захлюпало, и одежда прилипла к телу в обтяжку, зазнобило. Но после такого ливня надежды на попутку не осталось, и я пошел краем шоссе, меся липкую глину.
Далекой и давней казалась мне родная деревня, отгороженная от привычных представлений валом городских событий, хотя и прошло-то всего пять дней, как я ушел из нее. По-иному, с иной стороны, иными чувствами, иным сознанием окинул я деревню, живую, в кружевах быта, в дивных сложностях людских отношений, и потянулся мыслями в ту глубину, в те тайны, и шел отреченно долгое время, пока сапоги мои, совсем раскисшие, облепленные вязкой глиной до пудовой тяжести, не заиграли на ногах, сползая со ступней вбок. Очнулся я и окинул замутненную сумерками даль, и за ближним лесом разглядел сереющие крыши домов Ухановки. Одежда моя хотя и подсохла немного, отлипла от тела, но все еще была влажной, а штаны выше колен пропитались грязью и брезентово шелестели. Оставаться на ночь в сырой степи – губительно, и я заторопился, сутулясь и корячась, чтобы удержать на ногах разбухшие сапоги, слабея больше и больше в тугой неподъемности измученного тела.
Огоньки заблестели в окнах затянутых серостью домов, когда распахнулась передо мной широкая улица чужой деревни. Два первых дома, хилых, с расхристанными оградами, я пропустил, а в третий – постучался.
Был тот час, когда притихала и живность, определенная в загонках, и люди завершали дневные хлопоты: самое время ужина. И как только я подумал об этом, сразу засосало под грудью – зло ворохнулось чувство голода, знакомое с давних пор, постылое в своей неуемности.
Калитку открыла дородная баба, белесая, с белесыми бровями и ресницами, окинула меня прищуренным взглядом и, ни слова не сказав, захлопнула дверку. Слышно было, как брякнул железный засов. И пошел я вдоль палисадников, уже не в силах удерживать расползавшиеся по грязи ноги. Лишь в четвертом или пятом доме меня пустили, но в сенцы.
– Куда я тебя, парень, в дом пущу? – без сочувствия в голосе махнул толстой рукой большеголовый и коренастый мужик. – Ты весь в грязи. Вот ночуй в прихожке, если устроит, или в баню иди…
Сладко пахло парным молоком, вареной картошкой и свежими грибами, и я опустился на пол, рядом со скамейкой, заставленной ведрами.
– Не вздумай баловать, – услышалось в напутствие. Упала щеколда на запоре, хлопнула дверь в избу. Впрочем, когда она распахнулась, я успел увидеть стол, освещенный яркой керосиновой лампой, а на нем исходящую паром картошку, какую-то зелень, и снова заныло под ложечкой. Усталость скосила меня на нет. Лежа на полу в сыроватой одежде, сырых, разбитых сапогах, я стал засыпать, в неловкости, холодной сырости, тупой жадности голода… Потекли, потекли надо мной тучи, и снова ежился я от водяных струй, от зябкой свежести дождя, от хлипкой грязи в сапогах…
* * *
Проснулся я как-то сразу, и сразу понял, где нахожусь, четко и ясно. Тишина, темень. Ноги едва разогнул, как ссохлись, с трудом пошевелил задубевшими пальцами – сухо. Штанины шоркнулись друг о дружку, как жестянки от засохшей в них глины. Опять пахнуло грибами и молоком, и как штырем ткнули под грудь: острое чувство голода смяло все мысли, волю, ворохнувшуюся было совесть – я поднялся и стал потихоньку, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте, в слабой серости летней ночи, просачивающейся через едва заметные неплотности дверей, ощупывать скамейку, на которой по приходу видел стояли рядком крынки, тазы, ведра… – медленно, осторожно, чтобы не звякнуть, не разбудить хозяев. Пальцы, как у врача, перекатывались с одного узнаваемого предмета на другой: ведро – пустое, за ним – что-то плоское, накрытое тряпкой. Из-под тряпки потянуло грибной сладостью. Пальцы наткнулись на ломтики мякоти, понятно: резаные на просушку свежие грибы. Значит, пока я отсутствовал, пошли грибы в лесах – белые, судя по запаху и твердости долек. Дальше – крынка. Шатнул ее чуток – пустая. Еще дальше – еще крынка, обвязанная марлей. С дрожью в руках стянул твердоватую от засохшего молока повязку с горловины крынки: вот она – живая вода! Поднял посудину к трясущимся в ненасытности губам и без продыха стал пить густое, устоявшееся за ночь молоко, чувствуя, как мягкими толчками вливается в меня сладкая влага. Полкрынки укатилось в желудок. Забулькало там, мягко, приятно. Осторожно поставил полегчавшую крынку, затянул марлей и снова шоркнул пальцами вдоль скамейки – корзина – плетенка! В ней что-то округло холодное. Куриные яйца! Взял два – по одному в каждый боковой карман, и к дверям, долго, притаивая дыхание ощупывал задвижку, осмысливая ее устройство. Тихонько толкнул – подалась с легким, едва уловимым звяканьем, и вот она – ночь! Звезды в росплеск по всему верху, а по-над деревней светлая бахрома зарева. Тихо спустился с крыльца, отыскивая отвердевшими за ночь сапогами каждую ступеньку, – и за калитку. Вперед, на дорогу, домой! Из-за полкрынки молока и двух яиц вряд ли будет погоня. Но все же к всеобщей побудке надо как можно дальше уйти от деревни. Почти бегом в переулок, к большаку. И странно, даже собаки нигде не тявкнули, пока я, задыхаясь в охвате свежего воздуха, тянул обесформившиеся сапоги за околицу. Там я и сглотнул те, прихваченные, два яйца, и вроде силы прибавилось, легче стало…
Лился из-за лесов негасимый свет, манил, и я полушел к нему, полубежал, не оглядываясь, чутко ловя редкие звуки в беспокойстве мыслей, легких, мимолетных, неглубоких…
В такой запарке быстро отбил сухую грязь и со штанов, и с голенищ сапогов, и стал наливаться сырым теплом. Вперед и вперед!..
Полнеба охватило разливной желтизной, когда, я поубавил пыл, отмахав от Ухановки не менее пяти километровых заворотов между лесов. Успокоилась душа, плавнее, четче потекли мысли. И легкая горечь, легкая усмешка высветились от них, когда вновь нарисовалось мое тайное пробуждение в чужих сенях. Впервые в жизни я посягнул на чужое, пусть малое, но чужое, и заскребло сердце от острого раскаянья, жутковато стало и за себя, не совладавшего с накатом голода и решившегося на постыдный шаг, и за людей, пожалевших пары вареных картох, стакана молока и сухого приюта для прохожего. Про такое и не слышалось и не читалось. Не раз дед приводил в дом то заозерцев, не успевших засветло добраться до райцентра, то казахов с дальнего аула по той же причине, и всегда мне приходилось забираться на полати – изба-то тесноватая. И только ли моя непросохшая одежда и грязные сапоги были причиной столь явной неприязненности да еще и не в одном доме? Вряд ли, нечто иное угадывалось за этим, оставляя мне горькое удивление да зарубку на сердце.
Грязь на дороге хотя и подвяла, но все еще держалась в густом замесе. Ошметки ее липли к сапогам, вязали шаг. А вдруг тот приземистый, с крутой шеей, мужик ходит в начальниках, лошадь имеет? Что стоит верховому меня догнать – пустяки. А догонит – не устоять. Тут и бокс не поможет, если начнет кнутом охаживать… И я нет-нет да и оборачивался на всякий сличай – нет ли погони: лес рядом – туда и сигануть придется, если что. Но, чем выше поднималась заря, тем дальше уходил я от неприветливой деревни, от позора перед самим собой, тем реже и реже оглядывался, понимая, что за десять верст, отмерянных в запале, в тревожных думках, никто не поскачет из-за полкрынки молока и двух яиц. И мало-помалу тревожные те мысли растаяли, и как в полусне шел я обочиной большака, откидывая шматы глины с сапог, чувствуя, как деревенеют ноги, тяжелеет изжульканный пиджачишко, немеет спина…
Лишь на перекрестке дорог от станции Алачинск и той, по которой я шел, показался вдалеке грузовичок с желтым, как у осы, «брюшком», и я побежал, чтобы перехватить его, поняв, что это молоковоз и идет он, борясь с грязью, в Иконниково на маслозавод. И успел… Но в кабине сидела женщина с ребенком. Куда мне? Но так опостылела, измотала и душу, и тело эта нескончаемая дорога, что я стал упрашивать шофера взять меня хоть на бочку. Пожилой усатый мужик с худым лицом, запавшими глазами слушал меня, не перебивая, оглядывал, скреб себе затылок.
– Там же немцы ссыльные, в Ухановке, а ты хотел, чтобы тебя приветили. Война-то еще звенит в голове и гудит в груди у многих. Если удержишься на площадке, влезай. Но учти – машину кидает из стороны в сторону по грязи, придется лежа ехать и все время держаться за ограждение, иначе слетишь…
Рисковал шофер, рисковал я, но идти дальше – каторга. Поднялся я к округлому боку цистерны с молоком, притулился на холодной площадке, сцепив руки на тонких прутьях поручней, и притих. Замотало меня по рифленому листу, даже локти и коленки заелозили, хотя я упирался ими изо всех сил. А грязь выше цистерны полетела: шмяк, шмяк – кругом, да и в меня, да и в лицо… Но как быстро пролетали лески, повороты. Полчаса предельного напряжения, тупого терпения и вот оно – Иконниково!
Спрыгнул я, едва не ткнувшись носом в землю – так затекли ноги, на въезде в село, как договорились, поблагодарил шофера и околицей – на свою деревню. Заходить в таком виде я никуда не решился. И странно, знакомая дорога будто сама меня повела, и откуда силы взялись. Скорее, скорее – вот за тем поворотом болотина, за ней перемычка, а там и деревня!.. И все же высунулась она из-за леса крайними дворами как-то особо, непривычно. То ли давненько не выходил я к ней с той стороны, то ли зелень разрослась погуще, то ли мое восприятие стало иным, но сперва даже крыша одного из знакомых домов не узналась. Радость, осветившая меня на миг от осознания конца мучений, скорой встречи с матушкой, дедом, всем тем, чем дорожилось-жилось, от надежды на успокоение и понимание, на отдых – вдруг начала таять, едва я представил себя идущего по улице на глазах у всех в грязном и мятом костюме, наверняка уже оговоренного в разных кривотолках из-за непонятного отсутствия целую неделю, и необъяснимый стыд тронул сердце, и, повинуясь ему, я решил обогнуть задворки и зайти домой с огорода.
Трудяга дед копошился в ограде, у плетня, увидел меня, распрямился, опустил руки с прутьями ивняка, коими вязал покривившиеся колья. И мудрый же он был – мой родной дед: ни вопроса, ни укора, ни тяжелого взгляда, лишь легкая тень на лице да отяжеленные годами вислые плечи. И такая жалость к нему тиснула мне грудь, что глаза защипало и какое-то мгновенье я не мог вымолвить ни слова. Разве ж так можно – будто говорили его глаза, и в то же время радость засветилась в них. И будто сами собой зазвучали мои слова объяснений…
Матушки не было. В колхозе, в той прорве работ, всегда находилось занятие, а тут время прополки картошки подошло. Свою-то обихаживай, как можешь, найди время, а колхозную не посмей запускать.
Дед вовсе завеселел, взбодрился, узнав, что все обошлось, а дело лишь в хлопотах по учебе да в погоде. Даже ему я не стал говорить про кутузку и все прочее, связанное с ней. Зачем рвать ему сердце? Хватит на нас и моих мучений.
– Коляня Разуваев объявился, – открывал новости дед, выметывая на стол еду, от которой у меня стала слегка кружиться голова и чуток затошнило. – В клешах, матроске. Вроде на ремонте его корабль, на котором надо практику проходить. Вот он дней на десять и вырвался. Гоголем ходит. Девки гужом…
Мелькнуло лицо Катюхи, почему-то печальное, и исчезло. Тонкая тревога тюкнулась под сердце. Хотел я спросить про зазнобушку, да постеснялся, слушал и молотил картофельную запеканку с лепешкой, запивая молоком, и как-то мимолетно воспринимал слова деда. Усталость, копившаяся два последних дня, все же придушила меня.
– В прошлое воскресенье концерт был на улице, у сельсовета, в честь завершения посевной. Какие-то самодеятельные артисты приезжали из Иконникова на легковушке…
Дальше я ничего не слышал, едва дойдя до кровати…
4
Проспал я с полудня до рассвета без пробудки. Только вечером, когда прогнали стадо, пастух прошиб мой сон хлобыстанием кнута, да тихий говор матушки и деда тронул слух уже поздним часом. И после я ощутил чье-то теплое прикосновение к волосам, а потом горячую каплю на руке, и в полусне понял, что это матушка наклонилась надо мной. И так зашлось сердце от разливной нежности к ней, так перехватило дух, что невыносимо потянуло под родное крылышко и я едва удержался от этого порыва, не пересилив чувство ли неосознанного стыда, взрослости ли, и притворился глубоко спящим.
Матушка, матушка! Сколько тревог за меня вместило твое сердце, сколько бессонных ночей прошло от давнего моего рождения до сего дня?! И какое емкое сердце нужно иметь, чтобы все это принять и выносить?! Никогда, ни за что я не предам тебя, не забуду. Ни за какие деньги, ни при каких обстоятельствах!..
В тяжких тех мыслях и утонул я в новом накате сна…
* * *
Едва засветились окна, как я проснулся – бодрым, радостным, спокойным, и сразу в сенцы, на крыльцо. Прохладной свежестью окатило горячее еще тело, едва распахнул я глаза на зоревый оклад в полнеба. И вдруг кто-то мягко пушистый сиганул мне на грудь из полутьмы двора, чуть не свалив с ног, горячо лизнул в лицо. Урман! Бродяга пес! Где-то бегал и прозевал возвращение хозяина, а теперь изводился в преданности. Раньше я не обращал внимания на его рост, а тут заметил, как он окреп – взрослый пес, хотя ему всего лишь месяцев восемь минуло: голова отяжелела, хвост опушился, лихо загнувшись в бублик…
Отделался я от ласк Урмана и в огород, к кадушке с водой, и туда, как в омут…
Вода в кадке закрыла с головой, оледенила и взбудоражила. Выскочил я из той купели ошалело и половину содержимого вынес с собой, расплескав на землю, запрыгал дико, замолотил руками воздух в боксерских выпадах, завилял корпусом. Поглядеть со стороны – дикий человек бьется в истерике…
А как великолепен в предутренней тишине затененный высокой изгородью овощной огородчик, вышитый среди остального картофельного поля плотным переплетом ивняковых прутьев! Грядки моркови, лука, огурцов, капусты – все в зеленых, набиравших силу листиках, еще слабеньких, словно застывших в ожидании света и тепла. Воздух нежен в своей неподвижности, с тонкими запахами, идущими с разных сторон. Они затекают в потаенное пространство огородчика, почти не смешиваясь, и легко угадываются. Тишина пуглива. Даже огородного соловья – варакушу, не слышно: придремала птичка где-то в укромном месте…
Крадучись, чтобы не разбудить матушку и деда, прошел я на кухню, взял крынку молока, стал пить из нее вприхлебку к сухой лепешке, и за работу.
Пока зоревала деревня в сладком сне, полил овощи, натаскал в кадки воды из колодца, подмел ограду. У старого покосившегося плетня нашел два железных колеса от какой-то сельской техники, возможно от плуга, и стал прилаживать их на концы давнего лома, тяжелого, больше полпуда, загоняя в ступицы колес деревянные клинья.
Легкий мой стукоток все же разбудил деда, а возможно, он и сам поднялся: сухопарый, в кальсонах и ночной рубахе, прищурился, оглядывая мое изделие.
– Тележку, что ли, мастеришь?
– Хуже. Штангу, – выдал я незнакомое деду слово.
– Что такое?
– Силу качать буду…
И пошел у нас разговор про дело да про силу…
– Вон Прохор Доманин штангов не жал, а мешки с зерном пудов на десять поднимал. Я тебе про то рассказывал. Мешки эти он специально под себя шил. Лошадь, бывало, за уздечку возьмет, коль та зауросит, и на колени осадит…
Разговорился дед, разнежился в первых лучах солнца, а тут и матушка с подойником вышла. Радостно на душе, спокойно, а мысли повернулись к другому: к Катюхе. Так загорелось ее увидеть, так потянуло к заветному дому, что и не устоять! Едва сдержал я себя от этого преждевременного стремления, а пока то да се, заявился Паша – откуда и узнал, что я вернулся.
– Так, сорока на хвосте принесла, – улыбнулся он своей широкой улыбкой. – Видели тебя, как ты огородами крался, доложили. Пока до работы время есть, думаю, попроведовать надо. Не зря же ты таился. Да и тут новости есть…
Мы вышли за ограду. Где-то на краю улицы пастух собирал стадо, хлопал кнутом.
– Пойдем в проулок, чтоб пошептаться – дело склизкое.
Я насторожился.
– Что за дело?
Паша отвернул взгляд.
– Не знаю, как начать. Но лучше от меня услышь, чем от кого другого…
Екнуло сердце: что, откуда? Пошел холодок по зашейку.
– Толки идут, что Катюху твою того, – Паша замялся, повел плечами. – Не то по согласию, не то ссильничали…
Он еще что-то говорил, а мне уши заложило звоном, разливная тяжесть потекла в ноги, а грудь словно опустела. Ничего там не ощущалось, и какое-то мельтешение в мыслях, образах…
– Кто? – едва разжались губы с затаенным придыхом.
– А иконниковские. Тут были, на празднике, в воскресенье. Песни пели, частушки под гитару, кривлялись.
– Говори толком! – съежился я в охвате новой беды, в захлебе не то от особой жути, не то от безысходности.
– Особо толковать нечего: мне сейчас не до праздников – полы настилаем в новой базе, не был там и ничего не видел. Федюха рассказывал, что больше этой самодеятельности из Изгоевки было, а те втроем на новенькой легковушке «Победе» приезжали из Иконникова. После концерта – танцы, тот гитарист сразу к Катюхе, а возле нее увивался Рыжий – он на второй день, как ты ушел, заявился. Совал я ему кулак под нос – морду кривит, а все свое. Решил не трогать до твоего возврата, поглядеть, что из этого вывернется. Да и Катюху проверить. Егоза – егозой…
Молчал я, глотая горечь, и зря говорят, что чувства не материальны – они превратили так радостно начавшийся день, мою крылатую осветленность в осеннюю пустоту, тоскливую дрожь, неотвратное сокрушение…
– Ну они и пригласили Рыжего и Катюху покататься. Федюха вроде отговаривал ее, да разве та послушается… Уехали куда-то за Агапкину рощу, подпили. Рыжий сковырнулся под кусты, а Катюху использовали. Затемно привезли к дому, чтобы никто не видел, и выпихнули из машины, а Рыжий оклемался только ночью…
Сжималось сердце, сжимались кулаки, горячие тугие порывы мести ли неизвестно кому, ухода ли куда глаза глядят от петли позора, захлестнувшей меня в некой причастности, взрывали душу, тянули в неизвестность. Но куда пойдешь, кому что скажешь?!
Паша понял мое состояние, взял под локоть.
– Ты это, не горячись. Узнай лучше у тетки Дарьи все. Она на другой день в сельсовет ходила, к Хрипатому, а Лиза подслушала, и пошли разговоры, не поймешь от кого: Хрипатый ли поделился с кем, Лиза ли, хотя божится, что никому не сказала ни слова, но разве можно им, вертихвостым сорокам, верить. Рыжий ли приврал что…
– Сам у Кати спрошу! – прошевелил я ошершавленным языком, холодея от одной мысли об этом разговоре: как в глаза-то глядеть? Как решиться на такой стыд? Где сил взять?..
– Не спросишь, – охладил меня Паша. – В те же дни тетка Дарья увезла ее куда-то к сестре в другой район, далеко…
Снова затуманилось яркое утро, поволокло дымку перед глазами, ослабли колени, а на сердце полегчало: не будет скорой встречи, не ослепит взгляда жгучий стыд, не перехватит голос от тяжкого разговора.
– Ты поразузнай, если горишь желанием, про то получше, – советовал Паша. – У деда спроси – он в доверенных у тетки Дарьи. А я пойду – поесть надо и на работу. Вечером приходи на улицу – будем разбираться. Сейчас Федюха марку держит за гармониста. В армию его берут. – Хлопнул друг меня по ладони и пошел, покачивая широкими плечами.
Как в полусне вернулся я в ограду, под навес, схватил самодельную штангу и стал поднимать в жиме: раз, другой, третий – мысли жестоко корежили душу, рисуя непристойную картину Катюхиного позора, и не погасить их, не отогнать, не увести на что-то другое. Слабли руки от этих пыток, кинул я самоделку на землю и за боксерские перчатки. Они там же, в сараюшке, на штыре висели. Надел их и зашнуровал с каким-то злорадством, кинулся к мощному стояку ворот и замолотил его: сбоку, снизу, прямыми… Какие-то лица замелькали перед мысленным взором, чужие, Рыжего, Хрипатого…
* * *
Но как подступиться к деду с таким щекотливым вопросом? Ну дружили, ну цвели в одном цвете, горели в одном огне, блуждали в колдовском мороке, ну и что? Не была она мне названной невестой – дитя еще, какое я имею право лезть в тот омут, в ту хмарь? И по раскладу рассудка получалось, что никакое. Но душа взрывалась молниевой вспышкой, едва прорисовывалось лицо Катюхи, памятью оживлялось прикосновение ее горячего тела. Волей-неволей кидал я на деда вопрошающие взгляды исподтишка, и он уловил их, долго теребил усы, вздыхал, потом решился:
– Ты, малый Леньк, шибко-то не убивайся. По совести судить – позор, а копни поглубже – огрех по доверчивости, неразуменье, первая ошибка в жизни, а кто их не делает? Тут бы не корить человека надо, а поддержать…
Золотое сердце у деда, и как с ним не согласиться. Но разве можно простить мерзость подлецам? Позволять им осквернять святое, гадить людям в душу, ломать судьбы?..
– Я и не собираюсь корить, – голос мой чуть дрогнул, – хочу дознаться, как это случилось и кто там был.
Дед махнул рукой:
– Дарья ходила в Иконниково по начальству – бестолку. Свидетели, мол, нужны, доказательства, и еще многое другое, чего и не исполнить. А у той погани отцы в больших шишках, и они тоже несовершеннолетние. По согласию, мол, свершили глупость, если они еще свершили, что тут, мол, поделаешь.
«Не та ли шантрапа пакостит, из-за которой меня исключили из школы? – высверкнулась мысль. – Не так уж мого в райцентре начальства и тех людей, кому легковую машину могут выделить…»
– А к Дашке не ходи, – как утвердил дед, – не бередь душу. Она только чуть-чуть успокоилась. Кто ты ей, чтобы лезть со своими расспросами?..
И опять прав дед: никто…
5
Из-за Агапкиной рощи вылупилась огромная перламутровая луна. Казалось, добеги до леса, влезь на самое высокое дерево и сиганешь на округло шершавую макушку ночного светила. Зачернел на ее фоне окоем сажевым налетом, закудеснились деревенские улицы в причудливых изломах светотеней, поплыли неясные дали. Иной мир, иное восприятие, иные чувства. Притихли дворы, притихли птахи, не зашелестит травка, лишь там, в залитых латунным сиянием приозерных лугах и камышовых крепях, загуливала дикая ночная жизнь: со свистом, трескотней, теньканьем, звоном и тихим гамом непередаваемых шумов. И как бы в одном разливе с теми всплесками звуков затевалась и молодежная улица-гулянье, с чистым переливом гармоники – званцом к веселому сбору…
Уронились в пустоту груди эти призывы жгучими искрами, всколыхнули память, и вновь завял я в ожоге стыда: как показаться на людях, ровесникам? О моих отношениях с Катюхой знали все, точнее и наверняка – вся деревня. Сколько будет косых, ехидных, злорадствующих взглядов? Даже немое сочувствие, а тем более открытое, покоробит, заплетет нервы в жгут. Сделать вид, что ничего не случилось, что позор тот меня не касается? Подленько. Или подойти тайком, незаметно, отозвать Рыжего, расспросить? Пожалуй, так будет лучше, а дальше время покажет…
Затаился я у соседнего палисадника, чтобы матушка не видела – засушила она меня своими вздохами и понимающими взглядами. Без разговора, без лишнего надрыва понимали мы друг друга, и больше я за нее пекся, чем за себя: увидит – будет переживать.
Паша закачался у наших ворот широкой тенью, и я тихо свистнул.
– Прячешься? – Он тряхнул меня за плечо. – Ты это брось. Не украл, не сподличал, не нагадил, чего казниться?
Понимал я это не хуже его, но таился в душе странный стыд – будто не Катюху, а меня опозорили нагло, зло, безнаказанно. Как тут держать настрой?
– Не прячусь – тебя жду. Но и объявляться на улице ухарем не хочу, ничего не знающим – тоже. Давай поговорим с Рыжим, вымани его в заулок…
Гармонь во всю ярилась в плясовой игре, когда мы подошли к гульбищу со стороны затененного тополями переулка. Я остался у прясел, припав к кольям, а Паша скрылся за угловым стояком изгороди. Ладные переборы гармошки, смех, топот, веселый гомон доносились из открывавшегося уличного просвета в зоревых бликах, а в переулке лежали тени, дремала тишина. В распыле ожидания почти не думалось. Звуки и световой наплыв гасили все мысли. Лишь дальше – больше росло нетерпение, тревога. Захотелось выйти из тени и убрести куда-нибудь в поле или к озеру, окунуться в ту кипучесть звуков, запахов, световой шалости, выветрить голову, унять не унимаемое, погасить негасимое. Да возможно ли это?..
Увидел я их сразу на фоне просвета. Паша – широкий и на полголовы выше того, что рядом, а тот трепыхал клешами, и узнать в нем Рыжего было не трудно.
Фуражка с «крабом», фланелька с отложным воротником, из-под которой полосовалась тельняшка, клеши с широким ремнем на бляхе – эффектно выглядел Рыжий. Увидев меня, он остановился, но Паша подпер его сзади.
Поздоровались. Рука у Рыжего все такая же – вяло-мягкая, с мокрецой.
– Расскажи, – глухо, почти сквозь зубы, попросил я.
Рыжий понял, о чем речь.
– Так знаете же все, что добавлять. Споили меня, похоже вином со спиртом, я и уснул – ничего не видел и ничего не слышал, и Катька пила вино.
Паша взял его за шиворот.
– Зачем Катюху сманил кататься?!
Рыжий съежился.
– Не я это. Тот – гитарист. Я только за компанию.
– Одна бы она не поехала. – Во мне закипало неуправляемое зло. Я это чувствовал, понимал, но справиться с ним не мог. – Кто они? – Глаза в глаза. Кулаки сжались непроизвольно.
– Иконниковские, фамилий не называли, а зовут… – Рыжий, как оглоушил меня, назвав знакомые имена. Не ошибся я в своих догадках: это те самые…
– Номер машины запомнил?
– Зачем? Я и не глядел.
– Гад ты ползучий! – От удара под дых Рыжий согнулся крючком. Фуражка слетела, и стриженная его голова болтнулась безвольно. Но Паша удержал полуупавшего за шиворот.
– Это тебе за Катюху!
Закашлялся Рыжий, загнусавил, чуть не плача, даже не порываясь сопротивляться, и стаяло напряжение, ушло, теснимое легкой жалостью.
Поднял я его фуражку, нахлобучил на голову.
– А теперь чеши и не вздумай кому болтать про наш разговор! – отвернулся я, остывая, обмякло тело, но горечь не проходила.
– Те грозили, вы грозите, – полуплакался Рыжий, – а я послезавтра уеду. Мне на практику, на реку.
– Когда грозили? – Я обернулся, настораживаясь.
– На другой день по темну приезжали вчетвером, наказывали, чтоб молчал в тряпочку. – Рыжий поправил фланельку, фуражку. – А я в самом деле ничего не видел. Так и сказал…
Хоть убей этого слюнтяя, а спокойствия не будет. Да и вина его та же, что и у Катюхи: доверчивость – не поосторожничал, разинул рот на новенькую легковушку… Муть эта крутила мысли осенним листом, навевала уныние…
– Иди, иди. – Паша не сильно толкнул Рыжего в спину, и тот заторопился из переулка, не оглядываясь.
– Иди и ты, Паша, – вяло попросил я друга. – Тебя Лиза ждет, а мне не след там маячить.
Паша не старался играть под мой настрой, весел был, и меня склонял к тому же:
– А ты спляши. Пусть посудачат…
Нет, друг мой любезный, пляски не получится, а на смех выставляться – себе же хуже…
И тут, как из-под земли, вырос рядом Урман, ткнулся влажным носом в ладонь.
– Ты откуда? – удивился я, отвлекаясь от невысказанных мыслей.
– Тебя пасет, – с одобрением в голосе предложил Паша. – Охраняет…
И так обрадовала меня, даже осветлила, эта собачья привязанность, что полегчало на душе и потеплело.
– Пошли домой, пошли. – И мы с Урманом двинулись в противоположную от гуляний сторону.
Глава 8. Свет учения
1
Ближе к Петровкам устоялись знойные дни. Даже ночами от духоты накаленного за день воздуха не было покоя – тревожно спалось и плохо отдыхалось.
Больше недели мы с дедом возили на колесянке хворост – сухой березовый вершняк, запасая его на зиму для растопки печей. Собирали мы его на старых вырубках, страдая от жары, едкого пота и полчищ кровососов, липнувших к исцарапанным рукам. Вытаскивать из молодого подлеска прогонистые валежины и накидывать их на возок было не так угарно, как тянуть тележку в паре с дедом по долгой, в два-три километра, проселочной дороге.
Утром, раным-рано, как только матушка, таясь, чтобы не стронуть наш чуткий, похожий на короткое забытье, сон, в самое что ни на есть время притухания духоты, выходила доить корову, вскакивал и я, больше по выработанной усилием воли привычке, и бежал в огородчик, к кадке с водой. С наторенной ловкостью, удалой отрешенностью, одним махом, сигал я в этот деревянный, в двадцать ведер емкостью, рукотворный омуток, погружаясь с головой до замирания сердца, а потом чесал, что есть духу, по заросшей спорышем тропинке вдоль длинной стороны большого огорода туда-сюда, до тех пор, пока не напаривалась мокрота под лихой прядью чуба. Матушка к этому времени успевала подоить корову, а дед проснуться. И еще больше нагоняя на себя пылу, жал я самодельную штангу пуда на три, до ломоты в руках, а после молотил боксерскими перчатками все тот же угловой стояк навеса.
Еще до конца не стаивал прошлый нагрев иссушенных солнцем дворовых построек, земли, трав, а уже натекал новый жар, быстро, неистово, едва накатывался из-за лесов ослепляющий пространство свет.
Наскоро поев, мы с дедом катили нашу колымажку к лесу, чтобы успеть до подъема обжигающего зноя сделать пару ходок. После, в тени навеса, мы в два топора секли валежник на короткие обрубки и складывали в особую поленницу.
Как-то, накидав на тележку валежника, мы присели передохнуть в тени вековой березы, прямо на траве, и деда вдруг потянуло на воспоминания. То ли в самом деле что-то колыхнуло его душу, то ли обходным манером он решил как-то поддержать меня, и повел разговор в русле моих переживаний.
– Были, Ленька, и в наше время полюбовные завороты, да еще какие! – Дед прищурился, вглядываясь в чистое небо, словно увидел там что-то. – Состоялась на какой-то праздник гулянка у Тимохи Тяпина, – начал он рассказ. – Был там и я. Мария – жена Тимохи, в разгаре пляски взяла и поцеловала зятя, Андрея Овчинникова – мужа родной сестры, вроде как из уважения, а тот во хмелю взял и поцеловал её. Тимоха и вскипел ревностью, ударил Андрея кулаком в голову, но мужики не дали им драться. Ульяна – жена Андрея, видя такое дело, стала звать мужа домой, но он уперся: не пойду и всё тут. Тогда она взяла его шапку: «Идем, а то унесу шапку, без неё на улице – уши обморозишь…» Но Андрей – ни в какую! Она и ушла домой одна, а через некоторое время и остальные гости стали расходиться. Овчинников затаил обиду, и когда вышел во двор, взял полено и кинул в окно избы. Рама и вылетела. Тимоха схватил рубель – валек для разглаживания белья после стирки, и выбежал на улицу. Андрей, увидев в руках Тимохи валек, бросился бежать, а тут плетень. Махнул он через него, и в этот момент по его непокрытой голове трахнул валиком Тимоха. Овчинников и рухнул через плетень. Тимоха вернулся в дом как ни в чём не бывало, но был день, и многие всё это видели. Подбежали к лежащему Андрею, а он мертв – череп проломлен. – Дед помедлил, видимо, ожидая, как я отреагирую, но я молчал, прислушиваясь к душевному трепету. – Ульяна была в положении вторым ребенком, – продолжил он, – и лежала на печке, когда ей сообщили о случившимся. Она потеряла сознание и упала с печки, а после этого и захирела. Денно и ночно твердила: «Умру я, все равно умру. Не могу без него жить…» Разродилась она нормально, и недели через две легла умирать. «Наденьте, – попросила, – на меня венчальное платье и бусы, что Андрюша подарил на свадьбу. Андрюша зовет меня…» И умерла тихо. Родившегося ребенка отдали Марии. Тимоха получил восемь лет, и Мария одна воспитывала девять детей. Отсидев четыре года, Тимоха попал под амнистию и вышел. Подняли детей. Разлетелись те – кто куда. А Тимоха с Марией жил какое-то время в Иконниково – у младшего сына – прокурора. Его жена не пускала стариков в комнату и выносила им поесть на кухню. Мария и расстроилась от такого обращения – её парализовало, и вскорости она умерла. Но Тимоха не больно расстроился – женился в третий раз и ушел от сына. А его сын бросил ту жену и тоже вновь женился. Вторая его жена работала на маслозаводе, делала тайные дела: продавала на сторону масло, сыр, сметану, и нажила большое состояние. Но конец у таких людей всегда один – попалась шустрая тетка на махинациях. Прокурор сказал: «Я ничего не знал…», и вывернулся. А его жене дали пятнадцать лет. Она была в положении и родила в тюрьме. Ребенка взяла на воспитание её мать, а прокурор отказался от отцовства, уехал в город и женился в третий раз. – Дед искоса взглянул на меня. Но я сидел неподвижно, утонув мыслями в воображаемых событиях, и молчал.
– А вот Никита Михалев был женат на Гороховой Матрене, – продолжил дед раскручивать свои воспоминания. – Матрена сильно болела. А к этому времени умер её брат, женатый на Акулине Федюниной, и Никита запал на Акулину – была она высокая и стройная, красивая женщина. И однажды, когда никого из ребятишек не было дома, Никита вытащил жену на снег и ушел, а когда вернулся – под ней уже и снег до земли протаял. Внес он её в избу и сказал в народе, что в беспамятстве она была и выбежала на улицу да и упала в снег. Болезнь и обострилась, и вскорости баба умерла. Её мать допытывалась еще у живой: «Скажи, дочь, ты помнишь, как всё было», – будто бы кто-то видел, как Никита её на снег вытаскивал. «Я всё помню, – ответила она, – но нас Господь Бог рассудит»…
После смерти жены Никита сошелся с Акулиной – у неё было две дочери, и у него четверо сыновей. Но недолго они миловались: поехал Никита в город на базар и умер там неизвестно отчего. «Бог его наказал за жену», – говорили. – Дед умолк и снова покосился на меня. – Такие вот дела бывают по жизни – разумей, а теперь давай катить до дома нашу колымагу…
В раздумьях, в высушивающей работе подвяла и моя душевная боль, ровнее, хотя и беспокойнее из-за духоты, стали сны, реже воспоминания, а лето катилось к увяданию.
* * *
Подпирал август, и я решил снова съездить в город, разузнать о экзаменах. В приемный день я пошел в сельсовет к Хрипатому за справкой о местожительстве, необходимой при поступлении в любое учебное заведение, и заметил тетку Дарью, Катюхину мать, идущую мне навстречу уже из сельсовета. Дрогнуло сердце, зыркнул я глазами: куда бы нырнуть, чтобы не встретиться, и как специально – ни переулка, ни пустыря, ни распахнутой ограды. Поздоровался, приостановился, не узнав прежней, шутливо-озорной тетки, и она приостановилась, подняв глаза, опущенные в раздумье, слабо повела откинутой рукой:
– Ты в совет?
Я кивнул.
– Чего?
– За справкой. В город собираюсь, учиться.
– Злой Хрипатый. Я тоже за справкой ходила. Хочу перебраться к сестре, в Иртышский район…
Я молчал, отводя взгляд от ее прищуренных глаз.
– Туда я Катеньку отвезла. Не жить же нам в раздельности.
– Насовсем, что ли? – осиливая тугой комок горечи, поднявшийся к горлу, вымолвил я.
– А как? Тут теперь житья не дадут. – Тетка Дарья вдруг съежилась. Крутые ее плечи дрогнули, лицо сморщилось, быстрые капельки слез побежали по щекам. И такая жалость тиснула сердце, что в носу засвербело, и я едва не посунулся к разрыдавшейся женщине, чтобы как-то ее утешить. Слов для этого у меня не находилось, да и вряд ли бы нашлось – слишком велика была разница в возрасте и в жизненном опыте.
– Не плачьте, – только и вымолвил я с сердечным проникновением и тихо пошел дальше, и возможно иных слов и не ждала от меня тетка Дарья, как-то быстро вскинула голову и тоже заторопилась не оглядываясь.
Лиза не Лиза сидела за столом в приемной: коса завитая в баранку на затылке, высоко, чопорно; лицо хотя и юное, но с каким-то едва уловимым налетом взрослости; грудастая, большая и крепкая, она выглядела явно старше своих семнадцати лет. Почти ровесница мне, всего-то на три месяца постарше, а возьми же – интеллигентная дама и все тут.
Не надолго потеплели ее глаза, как я объявился у порога, и тут же задернулись немотой официальности.
– Там? – поздоровавшись, кивнул я на кабинет председателя.
Лиза молча поднялась, высокая, на крепких ногах, и шагнула к широким дверям.
Я остановился, окидывая взглядом большой, заваленный бумагами стол, ничуть не тревожась.
– Заходи, – выскользнув из-за двери, махнула рукой Лиза.
Хрипатый сидел за огромным, по нашим понятиям, столом, спиной в угол, вскинул голову в зализанных волосах с тупым и коротким подбородком и, не ответив на мое приветствие, буркнул:
– Чего тебе?
По его интонации, вопросу, я понял, что не даст он мне никакой справки, и сердце как упало. Стараясь держать крепость в голосе, я стал объяснять причину прихода. Маленькие, почти бесцветные глаза сельского главы и партийного секретаря будто ощупывали меня, так едко давил его взгляд.
– Ясно, – Хрипатый махнул рукой, – дальше можешь не объяснять. Не дам я тебе справку. Если всех начнем отпускать, кто будет в колхозе работать? Хлеб выращивать, коров доить, скот пасти, старики?..
Слушал я его, и слабая надежда на добрый исход, где-то еще таившаяся до этого в глубине сознания, уходила.
Глаза Хрипатого, вроде выцветшие, вдруг потемнели, расширились слегка раскосые еще больше закосили. Глаза не человека – волка, и даже холодок тронул мою хребтину.
– Не имеете права не пускать учиться, – все же не падал я духом.
– Тебе предлагали учиться – ты кочевряжился, а право у нас у всех одно – строить коммунизм, и мы не остановимся ни перед чем, чтобы достичь этой цели…
И тут, как оборвалось у меня что-то в душе, зауросило, попер и я нахрапом:
– Своих в ФЗУ отправляйте, как подрастут, а строить коммунизм скорее цель, чем право. И право учиться законом дано.
– Ишь ты, законник! – вовсе выпучил глаза Хрипатый. – Ты у меня будешь законы искать на скотоферме, в навозной яме!..
Что было жечь душу. Повернулся я и хлопнул дверью, не забыв кинуть Лизе:
– Неплохо устроилась: чисто, сытно и, поди, еще щупают.
Покраснела моя школьная завлетка, а теперь милашка друга, но смолчала, а я, не останавливаясь, махнул на выход.
Куда идти? Кому что сказать? Где искать справедливость? Закусил удила Хрипатый – никакими судьбами его не стронуть. Да и что ему чужие судьбы? Поди, ни одну сломал в армейском политотделе? Из-за деда, что ли, так он меня ненавидит, или все люди для него ничто, солома, навоз? Вон и тетке Дарье не посочувствовал. Небось припомнил, как она его отринула, выбрав моего деда… Думалось горько, а ноги несли к Ван Ванычу, в школу. Кто-кто, а он-то посоветует, как быть в таком случае. Понимал он подоплеку прав бесправного человека, видел многое глубже других, да и партийную систему знал. К тому же Хрипатый с ним считался: не так просто подмять заслуженного учителя и тоже партийного. Даже тот случай с потерей портфеля не стал использовать козырно…
– Раз Илья Лаврентьевич уперся, – хмурил брови Ван Ваныч, – сдвинуть его невозможно. Только начальство он слушает, а начальство его в райцентре. Сходи на прием в райком партии. К первому не лезь – не примет или отправит в общий отдел. Погонец не шибко посчитается с заведующим отдела – он сам в партактиве, а вот второй секретарь – Свитков, мужик внимательный. К нему и попробуй попасть…
Долго еще разъяснял Ван Ваныч азы поведения: куда идти, что и как говорить, как держаться, что взять с собой…
Ушел я от него несколько успокоенный, почти уверенный в успехе.
2
Ранним утром я направился в Иконниково, а за Агапкиной рощей заметил Урмана, бегающего вдоль дороги по мелколесью. Пришлось прогонять пса домой. С неохотой, с повторными возвратами уходил он в деревню, а мне была приятна собачья преданность: вот бы так люди относились друг к другу…
Трехэтажное здание с красным флагом на высоком фасаде, новое с широким крыльцом в двух колоннах, стояло в центре села, чуть поодаль от того места, где когда-то возвышалась искристыми куполами главная волостная церковь. Подходить-то к нему было робостно, не то что оказаться внутри, перед парадной лестницей. Тихо. Безлюдно. Поднялся я на второй этаж, прислушался: за какой-то дверью что-то мягко постукивало. Остановился, погадал: что это могло быть? И чуть не получил дверью в лоб – распахнулась она резко, а за ней женщина с бумагами в руках.
– Вам кого? – спросила она настороженно.
– К Свиткову мне.
– Это третий этаж, приемная…
Медленно, ощущая сапогами мягкость широкой тканевой дорожки, поднялся я выше, и, наконец, понял, что за стукоток слышался там, внизу: в распахнутую дверь приемной видно было большой стол с телефонами, за которым сидела миловидная женщина и что-то печатала на пишущей машинке.
Тот же вопрос, такой же внимательный взгляд. Объяснился.
– Вообще у нас приемный день завтра, но, возможно, Сергей Иванович тебя примет. Он будет после обеда, ближе к вечеру…
С некоторым облегчением вышел я из здания райкома партии: роковой момент отодвигался, а каким он может быть – неизвестно. Примет ли мою сторону партийный начальник, или наоборот: гадай не гадай – не угадаешь. По праву – мое светит, но не так просто отстоять это право…
Становилось жарко, и я направился к Виктору. С кем, как ни с ним, надо было поделиться всем тем, что произошло за недолгое время от того дня, как мы встречались последний раз. Кому, как не ему, я был обязан и той силе, что имел, и той ловкости, и той возможности постоять за себя и за других? Да и духовно крепчал я в том же створе.
– Витенька в городе, документы сдает в институт, – ласково сообщила тетя Римма. – А ты заходи, заходи, небось голоден, как всегда…
Голоден ни голоден, а от вкусного супа, который мастерски готовила тетя Римма, отказываться не стоило.
За чаем и рассказал я ей про свои заботы, умолчав и о приключениях в городе, чтобы не наводить на лишние думы о Викторе и о сердечной своей горести.
– Правильно, Леня, – поддержала тетя Римма мои устремления, – добивайся своего. Ты способный, учись. Нет таких законов, чтобы не пускали учиться, про отца скажи. – Лицо ее помрачнело, глаза потемнели. Понял я, что задела она нечаянно свою давнюю боль-скорбь по погибшему мужу…
Вышел я сытым, спокойным и бодрым, несмотря на подкатившую жару, и неторопливо потянулся к Павлу Евгеньевичу – вдруг дома!
Несколько улиц и переулков миновал я тихим шагом, с затаенным сердцем и остановился у знакомого дома, пригляделся, прислушался: тихо, слепо. Постучал в калитку. В соседней ограде затявкала собака. На ослепленное палящим солнцем крыльцо вышел худой, в майке, мужик с папиросой в углу рта.
– Тебе кого? – грубовато спросил он.
Я объяснил.
– Нету их. Уехали на все лето в Покровку, что на Иртыше, к каким-то друзьям. Упросили меня глядеть…
Ясно. Печально. Развернулся я и пошел в центр, в райком, так же неспеша, не тревожась, стараясь настроить себя на удачу.
Опять пустота, тишина, стук печатающей машинки. Секретарша, взглянув на, меня, велела подождать, а сама шмыгнула за дверь.
Заробел я чуток. Одно дело сельсовет, Хрипатый, хотя и занудный, но свой. Другое – высокое партийное начальство.
– Заходи, – вынырнув из кабинета, кивнула на дверь секретарша. Кинул я взгляд на свои растоптанные сапоги, притаил дыхание и как в ту кадку с водой. Огромный кабинет, огромный стол, большой человек с тяжелой седеющей головой. Вмиг окинул меня цепким взглядом, ответил на приветствие и жестом руки пригласил к столу, на стул.
– Слушаю внимательно. – Он отодвинул от себя какие-то бумаги и откинулся в кресле.
Я назвал себя, как учил Ван Ваныч, и начал говорить про погибшего отца, про работу в колхозе, про желание учиться…
– Какая успеваемость? – спросил секретарь.
– Имею Похвальную грамоту за семь классов. – И тут угадал с советом Ван Ваныч: прихватил я с собой и свидетельство об окончании неполной средней школы, и «Похвальную грамоту» положил на край стола.
Секретарь даже не взял их в руки, лишь мельком глянул и кивнул.
– Почему же год пропустил?
Вот оно: сейчас все и решится! Утаить? Хрипатый все равно доложит, очернит – хуже будет.
– Исключали из школы, – обреченно, как выронил я.
– Даже так? – удивился секретарь. – За что же?
И пришлось поднимать давнее, пересказывать не желаемое. Все время, пока я говорил упавшим голосом, партийный начальник внимательно следил за мной, даже не отвлекаясь на звонки.
– Что же тогда не пришел к нам или в райком комсомола? – По ровному голосу, все такому же спокойному взгляду, я понял, что человек этот не чета Хрипатому, и ответил честно:
– Не знал, что так надо, и не верил.
Легкая тень промелькнула в глазах секретаря.
– Не знал – одно, а не верил – другое. Партии нужно верить без всяких сомнений, самозабвенно. В рядах ее, как и вообще в народе, не мало еще недоброжелателей, случайных людей, и мы освобождаемся и будем освобождаться от них. А ты молод, не лишен способностей, и без партии дорога на большие дела будет тебе закрыта…
Говорил он, а я вял душой. Опять эта агитация, опять казенное словоизлияние.
– Я переговорю с Ильёй Лаврентьевичем. Будет тебе справка…
Даже кабинет посветлел, как я обрадовался обещанию, такой начальник и такой человек, хотя и подсохший на партийных установках, не должен обмануть.
Не вышел, выскочил я на высокое крыльцо, и едва не слетел с него, разогнавшись.
Ослепляющий свет. Жар. Пыль… В такое время идти до деревни, хотя и лесами, не очень приятно. Прикинул я это и двинулся к дому Веры Кочергиной, хотя и знал, что она еще на работе.
Вынырнул из зелени палисадника дом Нины, и память высветила те вечера, что я проводил с ней, ясно, тепло… И подумалось: не повернись судьба в иную сторону – зашел бы. Представил, как бы она встретила, и даже стыдом меня обнесло. И сразу Катюха вспомнилась, та, что была со мной на охоте: близкая, сердечная, милая… Тот момент, когда она, дрожа всем телом, льнула ко мне и с захлебом шептала в ухо: «Хочу быть твоей…» И я, горячея от близости юной девушки, боясь потерять голову, тихонько ее оттискивал и тоже шептал, чтоб косачи не заслышали: «Ты что, Катерина, ты что – мы же не взрослые, вырастем, поженимся тогда…» И тень от высокого забора упала на меня, и показалось, что она прикрыла не только лицо, но и душу… Катюха, Катюха, как же так? Как ты не могла понять подонков? Как соблазнилась на посулы? Как доверилась?.. Вопросы, вопросы, и все с мукой, и все безответные: нет на это ответов ни у разума, ни у совести, хотя то и другое удерживало меня от мерзкого поступка. Давно, еще на первом покосе, и позже, много раз, в отношениях с Катюхой я мог перейти ту черту, ту вольность, после которых человек опускается в похоти до скотства. Да мало ли было моментов. И пусть я даже не думал об этом, боялся этих мыслей, боялся лишний раз поцеловаться, особо чувствуя и силу плотского угара, и его охват, и старался вовремя гасить обжигающий пыл, осознавая и то, что Катюха еще подросток и пользоваться ее доверчивостью, легкомыслием – подло, и то, что не по тем понятиям надо мерить свою жизнь, не тому учили меня близкие люди… Сек я сам себя, но не казнил, не жалел, что не сделал пакости, наоборот: теплело на сердце от мыслей, что не поселил в своей душе черноту с занозой раскаянья, которые, возможно, пришлось бы носить всю жизнь…
С трудом отогнал я тяжкие мысли, вбегая в знакомую ограду, на крыльцо. Насели на меня Толик со Светкой, охватили шею в обруч: Толик – спереди, Светка – со спины, заметно подросшие. Года не прошло, а подтянулись, и пошла у нас потеха, ребячество, и за этими радостными играми и застала нас Вера. И она похорошела, немного поправилась, притушила худобу, так портившую ее фигуру.
– Возмужал, возмужал! – трясла Вера мою руку. – Силищи-то!
Обнять ее я не решился, а хотелось – будто родного человека встретил после долгой разлуки.
– Почаевничаем? – Она глядела весело. – Или спешишь? – Я не спешил, но помнил, какие трудности с питанием были у Кочергиных и мялся. – Не стесняйся. – Вера засуетилась, двигая кастрюльки. – Мы немного оклемались. Мне зарплату прибавили, паек стали давать на работе. Так что поднимаемся…
А у меня в памяти потекли воспоминания о тех днях, неделях и месяцах, что провел среди этих простых людей, теплел сердцем, учился добру, жизни…
– Твоя бывшая подруга, Нинка, совсем расфуфырилась – королевой ходит, в нарядах вся. Где-то новый дом приглядели со своим безруким, покупать хотят…
Прошлая обида, так яро сжигавшая меня, давно прошла – потухла и золы не осталось. Пусть Нина будет счастлива. Пусть. Каждый человек имеет на это милость, если живет по совести, честно… Я бы ей не смог дать тех радостей, что она получает замужем. Пусть, возможно, мнимых, пусть, но все же…
– А у нас танцплощадку открыли в сквере у клуба. Духовой оркестр играет. Вся молодежь там, даже подростки…
Слушал я Веру и вдруг коварная мысль сверкнула зло, как глаза хищного зверя. Подумалось: «Раз танцы, значит обидчики Катюхи там будут коленки гнуть и особенно в выходной день. Раньше, в старину, мерзавцев на дуэль вызывали и стреляли их без пощады, а я свою дуэль устрою: подкараулю после танцев того, главного, – он наверняка надругался над Катюхой – и посмотрим кто кого…» Запала зацепная мысль, окатила ознобом отрадной мести, даже не все я улавливал, что говорила Вера.
«Но сыграть ту дуэль один на один надо, без свидетелей – времена другие: много стало заступников у подлецов – и после того, как справку получу в сельсовете, чтобы никаких помех не было. Оправдание я себе, если понадобится, обеспечу: подговорю друзей, покажут, что был с ними…»
* * *
Выждал я дня три и пошел в сельсовет, и хотя не боялся Хрипатого ни с какой стороны, все равно тревожился: вдруг высокий начальник обманул или забыл позвонить, или Хрипатый доказал ему свою правоту и они договорились не отпускать меня – ведь одного поля ягодки, или даже не подчинится Погонец партийной указке?.. И все же надежда на то, что мое взяло, гасила поволоку сомнений, высвечивала желаемое, как зажженная лампа высвечивает темные углы. И еще бились мысли о том, как повести себя в сельсовете: напустить обиду, не здороваться, не разговаривать, или же по-хорошему, по доброму, как положено? Ведь и Лизу я осудил тот раз резковато и, может, зря? Как с ней быть?.. Вроде и мелочи это, но мелочи веские, значимые для себя и для других… Поколебавшись, я все же решил войти в контору с легким сердцем, светлым лицом.
Лиза, едва взглянув на меня, опустила голову, стала быстро-быстро перебирать бумаги и даже не ответила на мое бодрое: здравствуйте!
– Здесь? – стараясь не спешить с выяснением отношений с зазнобой друга, как можно мягче, спросил я.
Но Лиза вдруг протянула мне какую-то бумагу, молча, с холодком во взоре. Непроизвольно я взял ее. В глазах мелькнули буквы: справка дана… Вот она, заветная! Камень свалился с плеч, и радость где-то таившаяся, встряхнула меня.
– Не обижайся, Лиз, на меня, дурачка. Погорячился я прошлый раз. Разжег меня твой начальник.
И тут приоткрылась дверь, выглянул из-за нее Хрипатый, видимо, услышавший мой говор. Глаза его сделались еще злее, чем тогда, при нашей перепалке, – истино зверские. Когда-то в лесной чаще подстрелил я волка. С такой же злой яростью смотрел на меня раненый хищник… Я даже обомлел и осекся, не договорив. А Погонец скользнул взглядом дальше и глухо прохрипел:
– Ты мне сводку подготовила? – Это он Лизе. И она засуетилась с заметным испугом, захватала бумаги.
Понял я – уходить надо. Замириться с Лизой можно и в другом месте, а с Хрипатым говорить не о чем.
3
Задуманное не давало покоя. Так и этак обкатывал я в мыслях свою тайную затею: тревожился, сомневался, горел нетерпением, вновь отступал, и всякий раз острота обиды пробивала сторожок совести, как шило пробивает ткань мешка, и мало-помалу, исподволь, вязался план мести. Но никому, даже лучшему другу Паше, не открылся я в опасной задумке. И в субботний вечер, впервые после возвращения из города, пошел на танцы.
Подваливала сенокосная пора, жаркая и по погоде, и по труду, и молодежь урывала момент: гуляла с потемок до петухов, а кто миловался – и до рассвета. Не многие могли усидеть дома в столь окрутные весельем вечорки.
Сначала я хотел зайти к Паше и с ним заявиться на пляски, но раздумал, переломил то ложное чувство постыдной вины, что томило меня в провале Катюхиного позора, и пошел один.
Сумрачно, душно, хмельно, неспокойно. Мысли уносятся в бесконечность, тают, не находя зацепки. Гармошка зовет, ласкает слух, нежит сердце…
Утонули в ломовом веселье все звуки: голоса, смех, переливы плясовой. Подошел я к гульбищу незаметно, таясь за плетнем, осмотрелся. Федюха Сусляков сидел на табуретке, рвал в широкой растяжке меха гармоники. В кругу неразбериха – отплясывали «полечку». У прясел и на бревнах кучки молодежи. По возрасту, по дружбе, по соседским близостям сошлись они в разноголосье веселья. Слева ребята с нашего, приозерного края. Среди них, крупнее всех, Паша – мой друг. Раненько прилетел, а я колебался: идти к нему или нет. Спокойно, даже враскачку, пошел к ним.
– Стрелец появился! – заметил меня первым Андрюха Куликов. Ребята обернулись, а Паша зацепил рукой за плечи.
– Управился со своими делами?..
Думалось: стоит мне появиться на танцах, как смолкнет гармошка, остановится круг и все будут смотреть на меня. Кто с ехидцей, кто со злом, кто в любопытстве, кто равнодушно… Но ничего такого не произошло. Федюха, видимо, не заметил меня или специально, понимая важность момента, все так же лихо выкручивал меха гармошки, а бившиеся в пляске парни и девчата и вовсе держали взгляд друг на дружке и не до меня им было.
– Учиться собрался, в город?
– А куда еще? У Стрельца голова ни чета твоей: на одни пятерки в школе шпарил, а ты на троечках ехал…
Разговор, улыбки. Я не отвечал, пожимал руки друзей, и легчало на сердце, и светлело. А вскоре и гармошка, рыкнув, затихла. Поднялся Федюха с табуретки, поставил на нее свою трехрядку и к нам.
– Все, Стрелец, последнюю недельку гуляю – в морфлот иду…
И пошло-поехало, понеслась душа в рай. Разве можно передать словесно тот охват чувств, которые возникают в шумливом настое молодежного гулянья? Они почти гасят мысли, и движешься, и говоришь, подчиняясь в большей степени чувствам нежели разуму. Вот и я через некоторое время выскочил в круг, на пляску. А затянула меня в него Маня Огаркова. И на руку мне – подвижка на мою задумку: пусть все видят, что я на гулянье, а уйти с улицы можно и втихаря, незаметно. Стукнул я каблуками в набитый до кирпичной твердости земляной круг и пошел, пошел туда-сюда, ловя звуки гармошки, хлопая по бедрам руками и видя лишь трепыхавшуюся юбку Мани да белое пятно ее улыбчивого лица. Ближе оно в лихом вызове, в искрометности глаз, дальше. А тело играло всеми жилками, налитыми мышцами, и вроде земли не было подо мной, а парил я в мареве охмеляющего буйства.
– Во дает Стрелец! – уловил я все же чей-то возглас. Это кто-то из прирощинских парней, с дальнего края старой улицы, пробасил – толпились они по правую сторону круга. – Рвет подметки, а шмару проротозеял.
– Говори. Небось сам ее шпокнул, а на иконниковских сваливат…
Как током шибануло меня от этих слов. Спружинили ноги в резком останове, и вот они – ухмыляющиеся лица, часто враждующих с нашим краем парней. Со школьных скамеек, от самого первого класса, частенько схватывались мы с ними, разбивали друг другу носы, мирились и снова ссорились. Они – тульские, мы – орловские. Наши прадеды и деды переселялись из приграничных деревень тех губерний, не редко конфликтовали. Так и повелось.
– Кто это сказал?! – резко вскинулся я, оглядывая ехидные лица. С полминуты длилось молчание, переглядывание, а я ждал, стиснув зубы.
– Ну я, а что? – вылез из круга Серега Усков. Знал я его, ерепенистого, зубоскала и подковыру. И вот он передо мной – плотненький, вровень ростом, нагловато усмехающийся.
При виде искривленных в осклабе тонких губ паскудника, из-под которых торчали крупные зубы, еще больше токнула мне кровь в виски, и я, почти не осознавая, резко, коротким тычком, ткнул ему под грудь. Резиново спружинило под моим твердым кулаком, и Серега сломался в перехвате, закашлялся, но тут же кинулся на меня головой вперед. И если бы не моя увертливость, то прошиб бы он мой живот под печенку. Но я ловко отклонился и подсек Серегины ноги сапогом. Шмякнулся он лицом в спорыш, паханул носом землю, и я придавил ему шею ступней.
Кое-что, кроме приемов бокса, осваивали мы с Виктором по книжке на чужом языке. Ее, с рисунками по боевым приемам, привез еще отец Виктора с «финской» войны. Наторели мы на простых комбинациях, подсекая и перехватывая друг друга, и пригодилось.
Скосил я глаза – вижу с двух сторон заходят, и тут Паша вклинился медведем, растолкал кучу, а против него и ни каждый взрослый решился бы подняться, не то что эти молодяки: мою самодельную штангу, поболее трех пудов, он без всякой тренировки выжимал раза в два больше меня. Будь другое время, другие обстоятельства, и мог бы Паша взлететь высоко в большом спорте.
Охватил он меня, как в хомут засупонил, и повел к нашим ребятам. Опять разговоры, одобрение, дружеское участие. Потолкался я среди них еще с полчаса и незаметно, выбрав момент особо лихой пляски, сиганул через прясла в огород и на зады: на другие танцы был я нацелен, с другими мыслями…
Ночь. Плотная темень по лесам. Шорохи, неясные звуки, легкие порывы прохладного воздуха и думки, думки… Где быстрым шагом, где пробежкой, отмахал я до Иконникова знакомую дорогу часа за полтора и, крадучись, по теням палисадников, стал продвигаться к далеким звукам непривычной музыки. И чем ближе и яснее становились слаженные звуки духового оркестра, тем тревожнее стукало сердце. Хоронясь за густотой разросшихся акаций, вглядываясь в пространство и прислушиваясь к близким голосам и смеху, я подобрался к самому ограждению танцплощадки с глухой, у оркестра, стороны. Приник к нагретым за день доскам и стал высматривать того, ради которого хитрил весь вечер, и скоро заметил подонка в вальсе с какой-то девушкой, обрадовался: как и предполагалось, паскудник был на танцах, а дальнейшее зависело только от меня.
Бились в уши мягкие звуковые хлопки оркестровых труб, кружились в спокойных танцах пары, а я ждал, когда закончится отведенное для веселья время, и невольно сравнивал наше гулянье с райцентровским. Было в тех ритмах много отличного от жаркой пляски деревенской молодежи. Не чувствовалось в них накала, буйства духа, лихости…
Около часа прозыркал я глазами по танцплощадке, не теряя из вида щеголеватого парня, а когда ударила маршевая музыка, напялил пониже кепку и, придерживаясь теневых мест, двинулся вместе со всеми к выходу. За одним из крайних кустов акации я притаился и, заметив, в каком направлении пошел мой недруг, сделал темными проулками и огородами заметный крюк, полагая, что жить этот выкормыш непростых людей должен недалеко от центра, и не ошибся. Среди поредевшей толпы маячила уже знакомая фигура рядом с какой-то девушкой. Понял я, что молодой сластолюб наладился кого-то провожать и, возможно, любимую девушку. Но разве у такого подлеца может быть любимая девушка? Слишком чисты и высоки эти чувства, чтобы до них могли подняться негодяи. Было бы иначе, он не сделал бы мерзости в деревне, не пошел бы на гнусность по отношению к другому человеку. Нет, не достойны такие сочувствия. И я погнал промелькнувшие было светлые мысли…
Снова крадучись вдоль изгородей и задворками, шел я за видной издалека парочкой. Постепенно рассеивалась с улицы молодежь: кто уходил домой, в родные дворы, кто терялся на неосвещенных улицах окраин села, кто затаивался парочками в укромных местах, на скамейках…
Возле одного большого дома, затененного густой зеленью палисадника, притулилась в темном уголке и приметная пара. Мне было видно ее издалека, но разве хватит сил погасить любопытство: по-кошачьи стал я красться к тому палисаднику, где пользуясь густотой теней, где ныряя в прорехи изгородей. Даже какой-то охотничий азарт проявился. Совсем близко подобрался я к воркующим голубкам – многие слова прослушивались, и присел за кустами сирени. Промелькнула мысль, что подслушивать и подглядывать чужое милование гаденько, но не стронула она меня с места. И чего только не пришлось услышать за недолгое время! Чего только не плел девушке этот хлюст! В ушах свербело, сердце колотилось, мысли схлестывались – словно медленно-медленно поливали мне за шиворот горячей воды. А после и вовсе началось то, чего я и предвидеть не мог: прямо на скамейке, в открытию, в чуткой настороженности летней ночи!..
Не выдержал я тех ахов и охов и метнулся вдоль забора к тополям, чернеющим двора через три. Вот тебе и любовь, таинство, святость! По-скотски вершилось то, о чем рассуждали с оглядкой и думали со стыдом. Притушившееся было зло на того подонка вновь свело скулы. До боли стиснулись зубы, когда я представил на месте неизвестной девицы Катюху, там, в кустах, на опушке Агапкиной рощи, и едва сдержался, чтобы не кинуться назад: свидетели для меня – гибель…
Еще немало времени прошло в выжидании завершения плотских утех беспринципной парочки, когда наконец вынырнул из теней двора натешившийся парень. Ходко пошел он к освещенной улице по центру, и я за ним, осмотревшись. Вероятно, девица, что была с ним, жила в том же доме, у которого и ублажалась на лавочке. Во всяком случае, везде было безлюдно.
Легкими пробежками опередил я парня и выскочил ему навстречу почти в конце улицы. Резко отпрянул он, остановившись. Свет от фонарей, что висели на столбах у магазинов и райкома, хотя и был далеким, но все же редил и без того не густую темноту ночи. Узнал меня негодник сразу: заметно вздрогнул, поднял руки, загораживаясь. Я и слова не успел вымолвить, как он резко выкинул ногу, стараясь достать меня ботинком. Как успел я отклониться от тяжелого удара в пах, угадать трудно – скорее инстинктивно, чем сознательно. Ботинок лишь вскользь задел бедро. Кулаки вмиг сжались до каменной твердости. Удар в подбородок, между поднятыми в неумелой защите руками, посадил парня на задницу, а второй – прямой в лицо, опрокинул. Заверещал пакостник, завопил, а я, озверев, что никогда со мной не было, стал пинать его жестко, изо всех сил, стараясь не попадать в лицо или голову. С бока на бок катал я негодяя по земле, цедя сквозь зубы: «За Катюху, за Катюху…» Но как ни горяч я был, а услышал милицейские свисток и топот и кинулся к зарослям акаций, которые когда-то окружали соборную церковь.
– Стой! Стой! – кричали где-то сбоку. Но я метался, как заяц в освещенном пространстве, задыхаясь от напористого бега.
– Стой! Стрелять буду!..
И вдруг: выстрел, второй, третий – свистнула близко пуля. Ошалело рассек я кусты и запетлял в них, ища место погуще, чтобы спрятаться. Искрой мелькнула трезвая мысль: здесь и будут искать, в густоте да темени. Вспомнил я про заросший травой фундамент, оставшийся от церкви, надколотые надгробные плиты и туда, в самое освещенное место. Упал в канавку вдоль сереющих камней и затих, чувствуя, как сердце колотится в землю. Найдут – пропал!.. И вот голоса близко:
– Тут он где-то, в кустах!
– Окружай с той стороны, чтобы во дворы не убег…
– Эх, Тихон, если бы я стрелял – не ушел бы.
– Так я по ногам целился.
– По ногам! А ты знаешь, чьего сынка отделали?
– Чьего же?
– Прокурорского! Завтрава нам с тобой шкуру спустят…
Легкий треск мелкого сушняка, хлестание по сапогам гибких веток… Казалось, что ищут меня эти переговаривающиеся стражи порядка совсем рядом, в трех-пяти шагах. Стоит им кинуть взгляд на обломки фундамента и вот я – затаившимся зверенышем вжался в землю, и так хотелось стать маленьким-маленьким, незаметным…
– И поделом ему. Слышал, что хулиган он отменный. Сколько жалоб было и все как с гуся вода. Вот и достукался: кто-нибудь и решил поквитаться…
– Хулиган, да отец у него в чине. Малого не жди, всыплет.
– Он же не наш начальник?
– Не наш, но законник…
Медленно удалялись голоса, а я лежал одеревенелый, охваченный зыбким страхом, без мыслей, без рассудка, притаивая сердце и дыхание.
Минут десять прочесывали кусты милиционеры: их было трое, судя по голосам, и наконец удалились, полагая, что я ушел куда-то через дворы. Приподнял я голову, осмотрелся, насколько позволял свет от близкого фонаря, и, пригибаясь, кинулся к тем кустам, которые были проверены – мало ли что, еще засаду где-нибудь устроят. С полчаса я просидел в них, чутко улавливая каждый звук, но было тихо, лишь в каком-то близком дворе горланил петух, и, видимо, в сарайке – крик его был глуховатым. Снова таясь, осматриваясь каждую минуту, выбрался я знакомыми переулками на улицу Озерную, и ею, держась у заборов, добрался до окраины райцентра. А там – вот он лес, знакомый, доступный своей таинственностью мне – охотнику.
Засветлело небо, когда я, так же таясь, огородами добрался до дома и тихо, чтобы не разбудить своих, пролез на полати. Дед услышал мои легкие шаги и спросил сонным голосом:
– Это ты, малый?
– Я.
– Чего так долго полкал? Скоро на покос…
Да и матушка наверняка слышала и меня, и наш короткий разговор. Спать мне оставалось пару часов, и, несмотря на пережитое, уснул я быстро, как куда-то провалился.
4
Сколько лет учились вместе, играли, а не знал я, что у Лизы Клочковой такой сильный и красивый голос. Завели они с Маней Огарковой да Анюткой Сумченко песню:
По Муромской дорожке стояли три сосны… И притихли все, притаились. Потухли далекие и близкие звуки.Екнуло сердце, заныло, загорячело… Не раз слышалась эта песня, а все не так тревожила душу, поднимала дрожь в теле. У Мани голосок тонкий до надрыва, хрустальный, Анюткин – что трепет ключевой водицы, а у Лизы – чистый, густой, с грудным наплывом. Понесли эти голоса в небывалые дали трепетные мысли, прошибли до сострадания, до затаенных слез. По особому, с иных понятий воспринималось происходившее, плелись образы, делались выводы, и все как бы само собой, непроизвольно, отрешенно. Еще не твердо, туманно понимал я, что с этих вот проводов Федюхи Суслякова в армию, на серьезную службу, для многих из нас открывается иная дорога в жизнь: навсегда, безвозвратно уйдет юность, а с нею и те радости, и те шалости, которые уже никогда не кинут в безрассудство, в беспечность и с которыми вряд ли могут сравняться ощущения взрослого человека. Вот и Федюху Суслика – прозвищем больше от фамилии, чем по характеру, в моряки забреют. Ушел в ФЗУ Мишаня Кособоков, на подходе в армию и лучший друг Паша Марфин и другие полетят в разные стороны, и не многие вернутся в родную деревню, и отчасти прав был Хрипатый, когда пекся о том, что со временем некому будет работать в хозяйстве. Но такова жизнь: не мы, а она разводит судьбы…
Застолье было шумное: чуть ли не полдеревни молодежи пришло на вечеринку к гармонисту. Было и хмельное, но никто не набирался до сумасбродства: пели, плясали, а потом вывалили на улицу, в хмельную ночь, на траву-мураву. Ярились в пляске вольготно, до упаду.
Все ярче светились синие, как вечернее небо ранней весной, глаза Мани Огарковой, когда она порхала вокруг меня в танце, но не дрожало сердце от этого сияния, не бил озноб при взгляде на ее красивое лицо, крепкую фигуру. Мысли сразу же отметали любой наплыв потаенных чувств, туманно рисуя другие глаза, распахнутые до небывалых размеров.
После, устав и от плясок, и от разговоров, оставшиеся самые близкие друзья Федюхи расселись на скамейках, вынесенных из избы. Тут-то и запели три подружки, и скорее по немой подсказке Анютки Сумченко – с ней в последнее время коротал ночи Федюха и с ним предстояло расставаться девушке не «до будущей весны», а на долгих четыре года, за которыми будет столько жизненных событий, что не пережить их, ни закусив губу, ни держа себя в шорах, и расставание это может развести их навсегда…
Грустно стало от песни, тревожных мыслей, и я поднялся, хотя Маня и удерживала мой рукав. Но ни слова не сказал я ей, лишь решительно отстранился.
Крепко стиснул меня Федюха на прощанье, почувствовалось, как он сглотнул что-то: слюну ли, слезы ли, и мне сдавило горло спазмой – увидимся ли и когда?
Помахав рукой оставшимся парам, что, знамо дело, разбредутся к своим домам, к заветным скамейкам, я ходко пошел к Агапкиной роще, спрямляя путь до своей улицы, расслабленным, грустным. Что-то тяготило меня: то ли воспоминания, то ли какое-то предчувствие. Мысли не строились, чувства не определялись. В такой несобранности и нырнул я в тень редких вековых берез окраины рощи. Скорее интуитивно, чем беглым взглядом, засек я темную фигуру человека впереди себя и как бы очнулся от полубредового состояния. А когда снова взглянул вперед трезво, внимательно, их уже было четверо, и сразу екнулось: по мою душу. Но рвануть в бега было выше сил, выше сознания, чувства самосохранения, и я, как по инерции шел навстречу тем, что ждали. Ни палки, ни какого-либо увесистого предмета под руками не было, да и не могло быть – привык я надеяться лишь на свои возможности. Сразу понял, что это те, из Иконникова, но почему их уже четверо?..
На второй день, после того, как я поквитался с подонком в райцентре, приезжал следователь, вызывал меня в сельсовет, других расспрашивал, но я отрицал свою причастность к драке.
Следователь:
– На тебя показывают.
Я:
– Это по злобе, из-за зимней драки. Кого угодно спросите с наших вечерок любой подтвердит, что я там был весь вечер…
И спрашивал, и подтверждали, и уехал следователь ни с чем, и вот развязка.
Первым кинулся на меня все тот же негодяй, за ним, почти сразу – остальные, окружая. Но я не поймался на их уловку, не стал валить ударом подонка, теряя время, хотя мог это сделать запросто, а резко отпрянул к березе, мощной, в два охвата, прижался к ней спиной.
Тут-то и подвернулся новенький, незнакомый крепыш. Он легко ушел от моего хука и достал кулаком мне в челюсть. Удар едва не оторвал меня от березы, гулко ухнул в голову, заволок глаза легкой пеленой, сквозь которую я увидел замах подонка и успел отклониться. Сильный тычок пришелся в плотный ствол дерева: вскрик, согнутая черная фигура, и вновь быстрый выпад того, коренастого, и в печень. Боль стрельнула шилом под сердце, и понял я, что какой-то истиный боксер садит мне точные удары, и уловил момент – заехал и ему в подбородок. Не ожидал, видимо, мой противник этого, отскочил подальше, а тут повисли на руках те, двое, стали заламывать их. Удар, еще удар. Боль, вспышка искр, и вдруг дикий рык и не менее дикий вопль. Обвисли освобожденные руки, и все еще удерживаясь на ногах, я заметил Урмана, рвущего ягодицы подонка. И хотя слабость растеклась по телу от полученных тумаков, все же съездил я в лицо ближнему нападавшему. Да крепенько: под кулаком какие-то брызги разлетелись, а пес на крепенького кинулся, и когда тот махнул ногой, пиная его, вцепился обидчику в икру. И побежали в глубь рощи мои противники, а я стал отзывать Урмана – спасителя: до полусмерти бы забили меня негодяи, а то бы и вовсе покалечили.
Рокот машины послышался. Свет фар метнулся где-то за лесом, и все стихло…
5
Вечер начал настаиваться, когда пришел ко мне Паша. Присели мы в дровнике, где я колол дрова с самого обеда, и рассказал я про ночную потасовку.
– Гляди-ко, говноеды, не побоялись в деревню пожаловать. Знать бы – печенки бы отбил за Катюху. Задницей бы его о землю, чтоб не пакостил больше…
Не утаил я от друга и про свою ходку в Иконниково.
– Быстро оклимался гад, – посетовал Паша, – видно, маловато ты ему дал. Надо бы поплотнее пощупать сапогами.
– Милиция услышала вопли и помешала…
Разговоры, разговоры… А потом потрогал Паша мои руки и поднял брови:
– Накачался. Давай поборемся.
И сцепились мы. Да разве устоишь против Пашиной хватки: уловил он момент и поднял меня на руках, а сам с натугой:
– Ну, куда тебя бросить?
Задело меня это бессилие:
– А давай подеремся понарошку?
– Как это? – Паша даже откачнулся.
– Постукаем друг друга вполсилы…
Отскочили мы на пару шагов в разные стороны и, как петухи, запрыгали.
Занес Паша руку в замахе, а я юркнул под нее и бац другу в раздвоенный подбородок, аж голова его откачнулась. Осерчал Паша и ринулся на меня, что раненый медведь на охотника, а я увертками, увертками от его маханий и легонько в самую «пипку» носа тычком.
Слезы накатились Паше на глаза, опустил он руки.
– Ну тебя. Драться ты и в самом деле мастак, а силенку еще копить надо…
Ушел Паша, а я присел на чурбак, оглядывая ворох березовых полешек, и услышал жалобное поскуливание за спиной. Обернулся, а из-под ворот Урман выползает, непривычно вяло, без радости. Не понял я необычности его поведения, вскочил и к нему. Вижу в глазах у пса такая глубокая, почти человеческая тоска, такая жаль, и слезы, крупные, чуть ли ни в горошину, текут на мелкую шерстку морды.
– Ты чего, Урманка, чего?! – Схватил я кобеля, пытаясь поднять на ноги, и почувствовал вялость в его теле: тряпка тряпкой, будто и мышц упругих никогда не было, а под руками горячая мокрота. Кинул взгляд на ладони – кровь, густая, темная! Тиснула сердце боль. Затрясло меня, как в лихорадке, подтянул я Урмана на колени, а он руки мне лижет горячим еще языком, вяло так, виновато, и скулит, скулит…
Затемнело перед глазами, раздвинул я шерсть, ставшую вроде тоже черной, а на лопатке две пробоины в птичий глаз.
– Кто тебя стрелил, Урманка, кто?! – Спазмы сдавили горло до боли. Смешались мои слезы с собачьей кровью. А пес в последний раз лизнул мои пальцы да так и затих с вываленным языком.
– Гады, гады! Ну причем тут пес!..
Плакал я почти навзрыд, чувствуя, как остывает тело моей собаки, и жег мысли в предположениях: кто? Зачем?..
Расспрашивал я после долго и ребятишек, и ровесников, и взрослых – видели ли что, слышали, но безрезультатно: может, и видели, может, и слышали – только молчок. Лишь через годы я узнал, что подстрелил моего пса, бегающего, как и все деревенские собаки, свободно, Серега Усков – тот, что получил от меня под дых на танцах, при всех, и сделал это не только по злу, но и по науськиванию иконниковских подонков, в сговоре с которыми находился. Он и про вечеринку у Федюхи доложил моим недругам…
С особой остротой заиграли мысли. Почему-то припомнилось все: от самого начала учебы в райцентре до драки в роще – весь долгий, полный событий год. И подумалось: как далеко может зайти зло в своем раздоре! Из-за маленькой булочки, из-за моего заступничества за униженного одноклассника повязалась столь долгая вражда, так жестоко зацепившая близких мне людей: на всю жизнь получила черноту в душу Катюха, оборвалась и, видимо, навсегда наша с ней светлая дружба, сердечная привязанность, потухли радужные мечты. Не мало горестей накатилось и на меня. И дед в последнее время как-то осунулся, помрачнел, стал молчаливее, в глазах потерялись искорки: Дарья Шестова, тоже опаленная бедой, добилась своего – уехала из родной деревни, уехала тихо, незаметно. Потерял дед близкого человека, отраду. Да и матушка не мало рвала душу из-за меня. Пес застрелен… А имел ли я право втягивать других в пропасть зла? Пусть непреднамеренно, косвенно? Ведь из-за моих принципов и поступков они пострадали? Не лучше ли было бы воздержаться от поиска правоты, плюнуть на справедливость, поступиться совестью? Но можно ли прожить всю жизнь с опоганенной душой? Да и удержишься ли с краю – никуда и ни во что не вмешиваясь? Зло, если его не остановить в малой волне, поднимется таким мутным валом, такой силой, что захлестнет и размоет любые берега, как размывают их шторма не только на морях, но и в больших, и в малых озерах. Нет, не удержаться с краю, не спастись, и не закрыть мне глаза на паскудство, не отстраниться от истины, не одолеть совесть. И гасить надо зло в любом ключе. Надо…
Отмяк я чуток душой, выровнял землю на бугорке, закрывшем моего пса, и мысленно потянул себя в иные дали, в иную жизнь – ту, что ждала меня в недалеком времени.


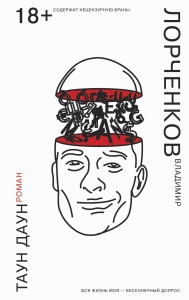



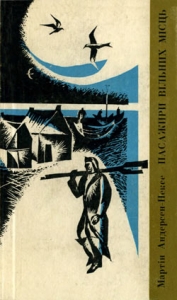






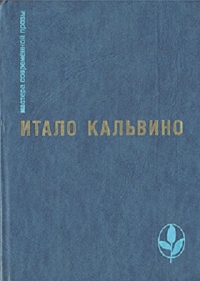
Комментарии к книге «Живи и радуйся», Лев Емельянович Трутнев
Всего 0 комментариев