Сын директора
1
Уже с полчаса, как я проснулся, а вставать не хочется. Можно бы снова задремать, но мешает Пух, который лежит у меня на груди и гудит, как струна контрабаса. Время от времени он смотрит на меня бездонными зелеными глазами и жмурится. Тогда я чувствую его вибрации всем телом. Я тоже зажмуриваюсь, но нет сил столкнуть его на пол. Пух — самый обыкновенный, молодой кот, серый, с темными полосами на спине и белым животом. Страшно любит ласкаться, чертенок: стоит мне пошевелиться, он прыгает на кровать и старается уткнуться мордой мне в шею. А закрою глаза — он вытягивает лапу и трогает меня, по лицу. И только его поза, когда он подкарауливает муху, да легкое нервное подрагивание хвоста напоминают о его далекой кровожадной родне в джунглях.
Никак не привыкну спать днем. С трудом засыпаю, с трудом просыпаюсь, разбитый и обмякший, как сдобная булка. Голову будто набили железной стружкой, руки и спина болят, глаза режет свет. Занавески я задернул, но окно смотрит на запад, а занавески желтые, и все в комнате полыхает желтым пламенем. Даже серая шуба Пуха. Рисунок башенного крана, со стрелой, уходящей в облака, который я сделал, когда работал на заводе у отца, золотится на противоположной стене. Когда я рисовал кран, мне казалось, что это — чудовищный жираф, который жадно вытянул шею и хочет выпить небо над заводскими крышами; только труба соперничала с ним, но ее я не нарисовал — пропал бы весь эффект. Этот рисунок мне нравится. Я всегда, когда просыпаюсь, смотрю на него и раздумываю о всякой всячине.
Вообще люблю лежать и думать. Иногда до того увлекаюсь, что начинаю говорить сам с собой. Однажды отец услышал и, увидев, что в комнате никого другого нет, пристально на меня посмотрел и посоветовал сходить к врачу. Это было еще до армии. Тогда я чаще всего разговаривал с бывшим учителем по физике Ставревым, потому что все не мог забыть эту историю с сигаретой. Пока я был в армии, почти ее не вспоминал, но когда вернулся несколько месяцев назад она опять начала меня тревожить. Теперь, правда, реже и не так сильно, и я стараюсь говорить со Ставревым гораздо вежливее. И не вслух, а то отец и без того не бог весть какого мнения обо мне, и слушать его иронические замечания неохота.
Наконец, сталкиваю Пуха на пол и встаю. Он, лентяй, потягивается, сначала передними лапами, потом задними, и направляется к двери: знает, что я пойду на кухню. Я делаю несколько приседаний, как встал, в трусах и майке, — чтобы разогнать боль в мускулах, — и стараюсь вспомнить, что надо сделать до вечера, прежде, чем отправиться на вокзал. Натягиваю брюки и, когда ищу под кроватью носки, в коридоре раздаются тихие шаги, которые останавливаются возле двери, и тихий голос зовет:
— Петьо! Петьо, ты не перекусишь?
Конечно, мама. У нее есть такой радар, — все видит, все слышит, все улавливает. От нее ничего невозможно скрыть, и это иногда меня угнетает.
— Сейчас, — говорю, — только оденусь.
— Подогреть тебе?
— Ладно.
Половина шестого. Значит, я спал семь часов без перерыва. За все время, как я начал работать по ночам, такое со мной случается впервые, и я чувствую себя бодрым уже до того, как отправляюсь в ванную. Холодная вода обжигает голову и шею, и когда я вытираюсь мохнатым полотенцем, из зеркала над умывальником на меня смотрит покрасневшее худое лицо с серыми глазами и небольшим шрамом на подбородке. Эта памятка от падения с лестницы между этажами придает лицу решительный вид, которому явно противоречит выражение глаз. Из-за этого выражения я не люблю на себя смотреть. В нем есть что-то неопределенное и неуверенное, будто я каждую минуту боюсь, что упаду или что меня толкнут в спину, — и я спешу повернуться к зеркалу спиной. Волосы у меня густые и жесткие, как проволока, расчески об них ломаются, так что мне приходится довольствоваться приведением в порядок только верхнего слоя, чтобы не торчали. До того, как я пошел в армию, сестра Дима часто дергала меня за волосы и говорила, что этой щеткой можно чистить одежду и мыть полы.
Одеваю зеленую «водолазку», осматриваю брюки — складка еще видна — и отправляюсь в кухню. На столе — курица с рисом (тарелка, конечно, полна до краев), салат из ранних огурцов, апельсин. Все это надо съесть, иначе мама решит, что я болен. Сама она в потертом байковом платье стоит среди белых стен кухни и оглядывает стол — не упустила ли чего. Мама, большая и кроткая, стоит, опустив натруженные руки, я ем, а Пух нетерпеливо трется о мои ноги.
Мама присаживается к столу напротив меня. Я нагибаюсь над тарелкой, чтобы не видеть ее озабоченной улыбки. Тяжелые, натруженные от домашней работы руки и озабоченная улыбка — такой я помню ее с детства, такой она и осталась. Только волосы поседели. Не знаю, почему я всегда чувствую себя виноватым перед ней — может быть, из-за ее терпеливой любви, а может быть, потому, что мы с сестрой лишили ее надежд добиться в жизни чего-то большего. Когда-то она окончила химфак, а отец был простым слесарем. Теперь мой отец — директор большого завода, а она — домохозяйка.
— Пойдешь куда-нибудь? — спрашивает она.
— Надо взять ботинки из мастерской. Потом договорились встретиться с Кириллом.
— Ботинки я возьму, все равно пойду за хлебом. А как Кирчо?
— Учится.
— Где?
— На филологическом.
— А-а-а…
Мама больше ничего не говорит, но я знаю, о чем она сейчас думает. И знаю, что ей это тяжело. Кирилл — студент, как и другие мои приятели по школе, которую я не кончил. Не потому, что плохо учился, просто так получилось. Теперь мне предстоят экзамены на аттестат зрелости, сдавать разрешили, но учиться что-то неохота. И то, что я пошел работать, совсем расстроило и ее, и отца.
Смотрю на часы. Отдаю Пуху остатки еды и спешу исчезнуть. В коридоре надеваю ватник — может быть, до работы не успею вернуться домой. Мама провожает меня до дверей:
— Отец скоро вернется, мог бы подождать.
Я говорю, что опоздаю, и глажу ее по плечу, чтобы смягчить отказ. Потом бегу по лестнице — страшно не люблю, когда из-за меня вздыхают.
С отцом — с тех пор, как он три года назад обругал меня, назвав лодырем, мы встречаемся, как два айсберга, А мама — посередине.
Мы живем на бульваре Скобелева, в нескольких шагах от площади Бабы Недели, где он пересекается с бульваром Витоши. Здесь встречаются две трамвайные линии и даже не знаю сколько автобусных маршрутов. Отсюда легко добраться в центр, на вокзал, в кварталы Лозенец и Ивана Вазова. Мне так дорога эта родная площадь, с желтым зданием железнодорожного училища и зелеными рядами рынка с одной стороны и цепочкой магазинов в высоких домах — с другой, что без нее я просто не могу себе представить Софию. Или свой дом — в другом месте. Когда я был в армии, то, вспоминая о доме, в первую очередь видел маленький книжный магазин на углу Скобелева и Витоши, витринку с карандашами, тетрадками, черными плоскими коробками акварельных красок и детскими книжками с картинками. И каждый раз начинало сильно биться сердце. Не сказал бы, чтобы я отличался сентиментальностью, но в этот магазин я входил сотни раз, и сколько бы ни менялись продавщицы, они все равно меня запоминали. Сначала меня называли «мальчиком» и просили показать деньги, чтобы проверить, хватит ли их на мои покупки. Потом начали обращаться ко мне со словами: «Вы что хотели бы купить?» Когда я услышал это обращение впервые, то был страшно горд — понял, что уже не маленький. И продолжал ходить в магазин за блокнотами для рисования в синих обложках с красными буквами…
На минуту задерживаюсь у витрины. Теперь здесь продают и книги для взрослых, да и сам магазин как будто стал больше. Но за стеклом висят серебряные гирлянды с елочными игрушками, большой гном с белой бородой в красном кафтане сидит среди книг — забыли сменить новогоднюю витрину — и я на миг превращаюсь в мальчишку, который когда-то жил в этом мире. Но теперь я знаю, что борода у гнома ватная, а блестящие звезды сделаны из стекла. Есть на свете вещи, которые не повторяются.
Перехожу Витошу. Улица, как лента конвейера, несет в оба конца поток пешеходов, машин и трамваев. Мартовский ветер высушил тротуары, только возле деревьев и электрических столбов лежат серые кучи снега, изъеденного солнцем. Воздух над крышами синий и прозрачный, пахнет влагой и бензином, и я чувствую себя легким, как воздушный шарик.
Это, наверное, из-за ботинок. После солдатских, в которых я топал два года, эти обыкновенные, совсем не чувствуются на ногах, все равно, что босиком ходишь. Я их купил, вернувшись из армии. Из двух пар старых ботинок одна мне оказалась мала. И кепка стала мала, и оба костюма стали тесны в плечах. В казарме человек продолжает расти; может быть, поэтому я иногда возражаю отцу. В моем возрасте — месяц назад мне исполнилось двадцать один — человек, кажется, уже может иметь собственное представление о том, что нужно и что не нужно, по крайней мере, ему самому; и, наверное, поэтому, когда мы говорим с отцом, он стоит за стеной своих принципов, а я — по другую ее сторону. Я ничего не имею против принципов, но совершеннолетний человек все же имеет право решать некоторые вопросы, связанные с его будущим. И так далее и тому подобное.
Прохожу через садик на углу Патриарха Евтимия, чтобы выйти на улицу Кынчева и по ней — к кафе у театра. И чтобы увидеть деда. Если он не сидит в клубе борцов против фашизма, где подают кофе и играют в шахматы и нарды, то, наверное, здесь… Здесь, конечно, на одной из скамеек. Его голова белеет между двумя другими — седой и плешивой, темное сухонькое лицо, как всегда, оживленное и сосредоточенное. Наверное, обсуждает мировую политику. Дед — активный член партийной организации квартала, деятель Отечественного фронта и время от времени поправляет дома телефон, потому что когда-то был телефонным техником. Это избавляет его от пенсионерского чувства собственной бесполезности. Когда сделает что-нибудь по дому, требует за это гонорар — рюмку сливовой водки и величает маму «снохой». Он у нас всегда выбрит, всегда в белой рубашке и при галстуке. Низенький, подтянутый усатый старичок с бородкой клинышком, никогда не теряет хорошего настроения и фанатически защищает свои нравственные устои, которым уже больше половины столетия. Помню, когда отцу предложили директорское место, дед его тогда погладил против шерсти: не слишком ли торопится, от таких скоропалительных инженеров производство плачет. А отец, хотя и работал всю жизнь по разным заводам, институт кончил только в сорок лет, и тогда они с дедом здорово поспорили. Впрочем, дед и сейчас обращается с ним, как с мальчишкой. Страшный старикан.
— Привет золотой молодежи, — говорит он, когда я подхожу к скамейке, и в знак приветствия поднимает руку, как древний римлянин.
— Привет серебряной, — говорю я. — Как там Кеннеди и председатель Мао?
— Хочешь сказать, Никсон и Мао?
Дед поднимает голову и смеется. Он кажется невероятно чистым — как белый котенок, которого недавно выкупали.
— Ну да, Никсон, — говорю я. — Продолжайте в том же духе.
— Девушке от меня привет. — Он с улыбкой подмигивает мне, уверенный, что угадал, куда я иду. Отойдя немного, слышу как он говорит: — Хороший парень, только в политике не силен. Но вообще-то мы понимаем друг друга.
Перехожу улицу, нарушая правила, лавирую между троллейбусом и потоком машин. Один из шоферов кричит мне что-то вслед, а я ему свищу, он оборачивается и смеется. Я заметил, что, когда мне весело, это передается людям, и они хорошо ко мне относятся. Не знаю, почему мне так весело. Когда вхожу в переулок рука сама лезет в карман телогрейки. Закурить удается только от пятой спички. Затягиваюсь с удовольствием. Я сжимаю ее в зубах, и, сознавая, что это неприлично, засовываю руки в карманы брюк — так и шагаю против ветра. Дым от сигареты лезет в глаза, я перекладываю ее из одного угла рта в другой, жую и плююсь. Навстречу одна гражданка ведет за руку хнычущий клубок белой шерсти; она с возмущением смотрит на меня, а я утешаю себя тем, что, наверное, с таким же возмущением смотрит на нее несчастный клубок. Я по опыту знаю, что в материнской любви есть кое-какие инквизиторские черты, и самая страшная из них — опасение, как бы дитятко не простудилось.
Перед кафе я выбрасываю сигарету и застегиваюсь. Вхожу, немного смущаясь: стараюсь, чтобы на меня не обратили внимания, — задача не из легких. Когда на меня смотрит много народа, я всегда начинаю спотыкаться. Кроме того, я здесь единственный в ватнике среди многочисленных пальто, плащей, манто и элегантных дубленок.
В кафе полно моих ровесников. Только кое-где виден какой-нибудь пожилой дядька или дама с сигаретой между увядших пальцев. Головы плавают в волнах дыма, как мячи в бассейне для водного поло. Официантки разносят кофе и коньяки и прежде чем вернуть сдачу подолгу роются в кармашках белых передников. Ребята и девушки за столиками болтают или со скучающим видом смотрят в окна, на красное здание театра с застывшими фигурами на треугольном фронтоне.
Смотрю, какие столики обслуживает молоденькая официантка, тоненькая, как ветка вербочки, и занимаю место в глубине зала. Эта официантка единственная из всех относится ко мне благосклонно и работает, так, как ее учили: наверное, новенькая и еще не имеет знакомых или излюбленных клиентов. Она почти девочка. Тонкие ножки, которые энергично носят ее между столами, и худенькое лицо, над которым белая наколка стоит, как венчик, неизвестно почему вызывают у меня жалость. Однажды я слышал, как за соседним столиком какой-то тип почтенного вида с благородными обвисшими щеками предложил ей встретиться после работы. Она покраснела, опустила голову и, убрав со стола, побежала к женщине за стойкой. Та похлопала ее по плечу и засмеялась, а я повернулся к типу почтенного вида и смотрел на него в упор, пока он не заметил и не ушел. Сердце у меня билось, в ушах звенело и вообще меня распирало от злости. У меня такое бывает.
Кирилла что-то не видно, хотя уже семь часов. Моя официантка подходит ко мне с блокнотиком в руке, и я заказываю кофе и кока-колу. Ничего крепче пить не хочется. Я закуриваю и смотрю, как эта девочка мелкими шажками идет к стойке. Сзади она страшно похожа на Таню, — такую какой та была в школе, три года назад, и даже какой та была, когда я уходил в армию. Не знаю, как она выглядит сейчас; вернувшись я ей не звонил. Да и незачем. Мы с ней порвали, все кончено и так далее.
Внезапно освещение в кафе начинает меня раздражать. Терпеть не могу неоновые лампы. В их свете лица становятся какими-то плоскими и приобретают мертвенный оттенок.
Кирилл не один. Рядом с ним идет девчонка с черными волосами до плеч, в черном пальто из жатого лака, и кивает знакомым за столиками. Кирилл тоже кивает — ясно, что он здесь свой человек. Следом неуверенно ступает, оглядываясь по сторонам сквозь толстые стекла очков, парнишка невысокого роста, болезненно бледный, с мягким, женственным лицом. Если бы можно было удрать, я бы удрал, — не думал, что Кирилл явится с компанией. Но он меня уже увидел издалека и, улыбаясь, машет.
Я встаю, расплескав кока-колу. Его спутница оглядывает меня с головы до ног, — видимо, ей не ясно, что я за птица. Кирилл представляет меня:
— Венче, это Петр Клисуров, мой школьный приятель.
— А! Кики говорил мне о вас.
Мне становится немножко жарко, потому что неизвестно, что там такое Кирилл про меня говорил. Рука у девушки узкая и холодная, но пожатие у нее мужское, и теперь я вижу, что она, пожалуй, не девчонка. Кирилл — высокий и красивый парень, отпустил бакенбарды. В желтом пуловере с высоким белым воротником он похож на разрезанное пополам яйцо. Он выглядит по крайней мере лет на пять моложе своей спутницы. И бледный парнишка тоже оказывается не парнишкой, а мужчиной старше тридцати. На подбородке у него поблескивают редкие русые волоски, светлые глаза за стеклами очков беспомощны и скучают. Он вяло пожимает мою руку и садится раньше всех, не снимая короткого пальто.
— Товарищ Петр Здравков, — говорит Кирилл, усаживая свою спутницу между собой и мной. — Ты, наверное, о нем слышал.
Я не слышал, но утвердительно киваю, поскольку догадываюсь, что он — человек известный, а известные люди обижаются, если ты о них не слышал. Судя по кепке и скучающему лицу, должно быть, художник или композитор, вообще, человек искусства. Кирилл еще в школе любил тереться в компании таких людей — отец у него доцент по эстетике и дружит все с такими.
Невяна достает из сумки зеркальце, бегло касается волос, словно проверяя, на месте ли они, потом подкручивает их к подбородку, так что лицо ее обрамляет черная рамка. Осматривает свои зубы, ровные и белые, что-то смахивает с уголка глаза. Глаза у нее темные, красивые, но слишком умные и немного старят ее. Губы тонкие, но не злые. Только какие-то слишком подвижные, и из-за этого выражение ее лица все время меняется.
— Ты не возьмешь чего-нибудь покрепче? — спрашивает меня Кирилл, делая заказ. — На кока-коле будешь сидеть?
Я говорю, что на кока-коле. Невяна насмешливо смотрит на меня и заказывает коньяк «Плиска». Кирилл — тоже. Здравков делает знак, что ничего не хочет. Он вытаскивает из кармана литературную газету и небрежно пробегает глазами по строчкам.
Кирилл подносит спичку к сигарете Невяны и обращается ко мне:
— Ну, рассказывай. Как прошла служба?
— Нормально.
Что ему рассказывать? Кто был в армии, знает; кто не был, никогда не поймет. Кирилл затягивается сигаретой и выпускает дым себе под нос. Он возмужал. В плечах не особенно широк, но чувствуется, что мускулистый, а белое лицо округлилось и стало самоуверенным. В школе мы с ним дружили, нас не делило ни соперничество, ни девчонки. Но вернувшись из казармы, я к нему не зашел. Может быть, потому, что он знает всю мою одиссею с Таней. И все-таки я ему обрадовался, когда встретил его позавчера на улице.
— А у меня казарма еще впереди, — говорит Кирилл и глотает коньяк, как касторку. — Правда, только в лагеря поедем, но как подумаю…
— Смотря как воспринимать, — говорю я. — Не так уж страшно. Даже полезно.
— Полезно? А, да, для отечества.
— Выдержке научишься, — ухмыляюсь я. — Наш ротный старшина говорил, что кто не был в солдатах, тот только наполовину человек.
— Похоже, что так, — смеется Невяна. — Кики — подтверждение этой истины.
Кирилл тоже смеется, и смех у него глубокий, как звук саксофона. Здравков поглядывает из-за газеты все так же бесстрастно и со скукой. Не могу себе представить, что этот человек был в армии.
— Сейчас на что ориентируешься? — спрашивает Кирилл.
Я отвечаю, что ни на что, и это — чистая правда. Некоторые ориентируются еще в детстве, другие — в школе, а я и до сих пор не знаю, что буду делать дальше. Нет у меня никаких амбиций.
— Ты же здорово рисовал, даже в выставке участвовал… Почему не попробуешь поступить в Художественную?
— Ну да! — говорю я. — Там только меня и ждут.
— Значит, партизан, кормишься за счет предков-укрывателей? — смеется Кирилл.
Я смотрю на него слегка неприязненно. Страшно не люблю, когда меня расспрашивают. И жаргона этого не выношу. Даже в школе не мог к нему привыкнуть, к тому же был у нас старый учитель по литературе, который любил повторять, что жаргон — язык нищих духом; как услышит, что кто-нибудь говорит такие словечки, обязательно заставит переписать Житие Софрония Врачанского или выучить наизусть рассказ Елина Пелина… Но я отвечаю в тон Кириллу:
— С партизанским житьем кончено. Вкалываю.
— Где?
— На вокзале. Грузчиком.
Можно подумать, что я разбил стакан. Кирилл только теперь замечает мой ватник, и брови у него подпрыгивают. Товарищ Здравков быстро взглядывает на меня из-за газеты, после чего теряет всякий интерес к моей личности. Рюмка с коньяком в руке Невяны застывает в воздухе.
— Чудак, — смеется Кирилл, хлопая меня по плечу, — раньше ведь токарем работал?
Я пожимаю плечами. Долго объяснять, почему я пошел в бригаду грузчиков. Я и сам не знаю, почему. Просто надоело зубрить к экзаменам и одному шататься по улицам. Со старыми приятелями по школе я порвал, новых у меня не было, и после казармы мне стало казаться, что я повис между небом и землей.
Невяна облокачивается на столик и смотрит мне в глаза:
— И в чем состоит ваша работа?
— Грузим на поезда народное просвещение.
— А именно?
— Газеты, журналы и тому подобное.
— Наверное, среди грузчиков есть интересные люди?
— Есть.
Был бы тут Кореш, думаю я, обязательно брякнул бы что-нибудь подходящее, чтобы у нее даже уши покраснели. Интересные-то люди есть, например, батя Апостол, и Кореш, и Шеф, да и Студент, но эта спрашивает так, как будто они экспонаты в зоопарке. Кирилл спешит вмешаться:
— Не удивляйся, Невяна — журналистка. Пишет очерки. Бездарные, конечно, но на хлеб зарабатывает.
— Точно, бездарные, — говорит Невяна. — Но не хуже твоих стихов.
Кирилл смеется, а я сижу, будто меня громом ударило. Не могу себе представить, что именно он пишет стихи. В школе играл в волейбол, здорово забивал. Он подмигивает:
— Что, не ждал? Сейчас любой студент-филолог пишет стихи. Это нетрудно и в какой-то степени доходно.
— Самое ужасное, что находятся неграмотные редакторы, которые его печатают, — говорит Невяна, и в ее голосе слышен далекий отзвук фанфар, а в смехе — ласковые нотки.
Здравков поднимает голову. Сворачивает газету и осторожно кладет ее перед собой на столик. В его глазах, обесцвеченных очками, загорается искорка жизни.
— А как с циклом в журнале? — спрашивает он.
— Никак. — Кирилл говорит, будто речь идет не о нем, но улыбка его тускнеет. Редакторша сказала, что стихи хорошие, даже обрадовалась, что открыла меня. Но у главного — осечка.
— Весьма возможно, — кивает Здравков с иронической усмешкой. — Если он узнал, что это я направил тебя к Китевой…
— Почему?
— В прошлом месяце мне предложили написать рецензию на его новый роман. Я отказался.
— А-а-а, — говорит Невяна, — ясно. А почему отказался?
— Нафталином пахнет. Старье. А скажи — будет скандал.
— А мне роман нравится, — говорит Невяна. В ее глазах невинное удивление. — Умная книга. В классических традициях, без вывертов.
— Хочешь сказать, традиционно до тошноты? — На лице Здравкова играют презрительные складки. — Времен Очакова и покоренья Крыма? Ищут высокие символы, там, где обыкновенная динамика жизни. Его нравственный аршин — еще с Балканской войны. — Он смотрит куда-то в сторону и говорит, словно для сидящих за соседними столиками: — Современный человек текуч, расплывчат, прагматичен, ничто не укладывается в застывшую форму, ничего постоянного и неизменного. А такие писатели, как он, строят воображаемые опорные точки и потом берутся судить. Ходжи от литературы. Коран знают назубок, а жизни не видят.
Оказывается, Здравков — критик. Я даже вспоминаю, что где-то встречал его имя, хотя критических статей никогда не читаю. Он говорит, а его слова, как пена от газировки — брызги летят во все стороны, покалывают, а тебе и не больно, и не щекотно. Может быть, в них есть что-то верное, но на кого и почему он так зол? Чего боится? Правый глаз у него воспален и часто моргает: то ли не выспался человек, то ли соринка попала. Соринка в глазу — очень неприятная штука.
Однажды, еще до армии, когда я работал у отца на заводе, мне в правый глаз попала стружка. В заводской поликлинике хотели вытащить магнитом и не смогли. Я пошел к хирургу Еневу, приятелю отца, и он вытащил стружку, расковыряв глаз, потом я целую неделю ходил с завязанным глазом. Было очень противно. Болеть не болело, но чувствовал я себя страшно неуверенно. Мне казалось, что мир необычайно велик, причем как раз с той стороны, где я не вижу, и когда я переходил улицу, все боялся, что с этой стороны вылетит грузовик и собьет меня. Или что я сам на что-нибудь налечу… Всю эту неделю я был пуглив, как котенок, которого выпустили на середину улицы в час пик и он не знает, куда бежать. Даже дома, в своей комнате я все по сторонам озирался.
Здравков тоже озирается, когда говорит, — у него это что-то вроде тика. Кирилл возражает почтительно и смотрит ему в рот. Спор быстро приобретает характер взаимных восхвалений. Здравков говорит, что такой поэт, как Кирилл, должен иметь вкус и к хорошей прозе. Кирилл отвечает, что как ни ценит мнение Здравкова, не может согласиться с ним относительно романа главного редактора. Все же в нем что-то есть.
— Ну, да, — Здравков улыбается, впервые за весь разговор. — Ты и не заметил, что сам подписал ему приговор. Сказать о романе в триста страниц, что в нем что-то есть…
— Может быть, ты и прав, — пожимает плечами Кирилл, — словно весь спор выеденного яйца не стоил, — по правде говоря, я не мог его дочитать.
— Слушай, Кики, — неожиданно вмешивается Невяна, — а почему бы тебе не написать на этот роман рецензию?
Кирилл и Здравков умолкают и смотрят на нее, как потерянные.
— Речь идет не о достоинствах, — поясняет Невяна. — Хорош роман или плох, отрицательной рецензии на него все равно не напечатают, по крайней мере это вам должно быть ясно. Почему бы тогда тебе не написать? Если хочешь, чтобы тебе открыли, постучи в дверь.
Кирилл громко смеется, его глаза блестят от коньяка. Он подмигивает Здравкову.
— Что скажешь, а? Париж стоит обедни?
— Так то Париж, а ты получишь две странички в журнале. Стоит ли?
— Э, да я пошутил, — машет Кирилл рукой. — Не будем позориться по мелочам.
— По мелочам или по-крупному, какая разница? — говорит Невяна серьезно. — Пока соберешься, кто-нибудь другой напишет, а ты останешься на мели.
Кирилл резко мотает головой — он не согласен с Невяной, — и я одобрительно киваю, про себя, конечно. Не могу себе представить, как можно хвалить то, что тебе не нравится. И потом, Кирилл должен быть Кириллом, а не Кики, когда-то на волейбольной площадке он был категоричен и проявлял характер.
— Петьо, тебе, наверное, с нами скучно?
— Нет, — говорю я, — мне очень приятно, но надо идти.
— Подожди, мы еще и не повидались как следует.
Я плачу за кофе и кока-колу и встаю. Кирилл дает мне свой адрес — новый адрес, его отцу дали новую квартиру, — и настаивает, чтобы я обязательно зашел на днях. Невяна говорит, что как-нибудь придет на вокзал, о грузчиках ей еще не приходило на ум что-нибудь написать. Рука критика словно без костей, а глаза смотрят куда-то сквозь меня.
Ветер на улице утих, но похолодало. Площадь перед театром мокрая, желтая брусчатка блестит, будто намазана яйцом. Деревья в сквере побелели от неоновых ламп. Несколько секунд я стою перед кафе, закуриваю, застегиваю ватник. А теперь куда? Домой неохота, тут не хочется оставаться. Кореш живет далеко — у кирпичной фабрики, да я и не ужинал. Пойти к Зорке? До работы еще три часа. Зорка, наверное, давно уже выспалась и теперь ужинает и слушает радио, если передают эстрадные песни. Или поправляет свои рыжие волосы перед маленьким круглым зеркалом возле кровати. Она любит возиться со своими волосами и болтать. И целоваться любит…
Нет, лучше домой. Сегодня мне не до любви. Тоненькая официантка снова напомнила мне Таню.
2
Последний трамвай к вокзалу идет без десяти час, но уже без двадцати я на остановке — на всякий случай. Один раз я уже опоздал. Это было в самом начале моей грузчицкой жизни, месяц назад. Я упустил последний трамвай и пришлось бежать от площади Бабы Недели до самого вокзала, причем всю дорогу я представлял себе, как Кореш сплюнет себе под ноги и скажет: «Это ты, кореш, не по-мужски». Это он привел меня в бригаду и представил Шефу, и мне было жутко стыдно, что я его подвел. Но Кореш не сказал ничего. Вообще никто не обратил внимания, что я опоздал. Я извинился перед Шефом, но тот усмехнулся и махнул рукой: «Ничего, ты еще не привык к ночной работе».
Не люблю опаздывать — ни на работу, ни на свидание. Лучше я подожду, чем меня будут ждать. В казарме я был солдатом из средних — ни самый хороший, ни самый плохой, — но был точен и исполнителен, и старшина Караиванов меня за это хвалил, хотя и считал слабохарактерным за то, что я не умел ругаться. Мне самому было неловко перед ребятами, и я раза два попробовал выругаться. Но старшина презрительно усмехнулся и сказал: «Клисуров, ругаешься, как девчонка, не идет тебе». И я больше не пробовал. Я был уступчив, многие считали меня дурачком. Только Кореш дорожил моим обществом, а я выбирал ему в полковой библиотеке книги, так мы и стали друзьями. А может, потому что однажды мы начали бороться и я его уложил, хотя он был тяжелее меня.
Обо всем этом я думаю, пока трамвай летит от остановки к остановке. Пассажиров почти нет и вожатый, похоже, спешит кончить смену. С моего места видна его клетка и правое плечо, обтянутое черным форменным сукном. Фуражку он нахлобучил до ушей, из-под нее видны седеющие волосы, его правая щека полная и небритая. Время от времени он крутит головой влево и вправо и зевает, словно вот-вот проглотит пустую улицу, летящую навстречу.
Кроме меня, в вагоне сидят еще двое. Впереди, через два места, — молодая женщина в темно-синем пальто и шапочке. Она сидит прямо и неподвижно, словно прикованная, рядом на полу — большой дешевый чемодан с ободранными углами и блестящими замками. Изредка она поворачивает голову к окну, только голову, и тогда я вижу сердитый глаз, нахмуренные темные брови, — или ей не хочется ехать туда, куда она едет, или думает о чем-то неприятном. В другом ряду, сразу за клеткой вожатого, покачивается на металлическом сиденье старик с испитым лицом. Он одет в запачканный белесый плащ и резиновые тапки, глаза у него красные и слезятся. С тех пор, как я сел в трамвай, он все считает в горсти стотинки. Все считает, трет глаза костлявым кулачком и что-то бормочет себе под нос. Я стараюсь не смотреть на него, но все равно вижу, даже когда поворачиваюсь к окну, и у меня першит в горле. Не могу смотреть на таких стариков.
Проезжаем крытый рынок. Трамвай с грохотом несется по ночной улице. Освещенные витрины кажутся мертвыми, словно и предметы умирают, когда остаются одни. Рабочие из управления городской гигиены в брезентовых робах чистят слякоть; один толкает катушку с черным шлангом, другой направляет сильную струю воды. Напрасный труд, потому что в воздухе опять летят мелкие снежинки, и на мосту на бульваре Сливницы гривы львов уже побелели. Пока доехали до вокзала, снег стал гуще, вокруг белых прутьев неоновых фонарей кружатся маленькие голубые вихри.
Я схожу вслед за женщиной и поднимаю воротник телогрейки. Она еле тащит чемодан, через каждые пять — шесть шагов меняет руку. Я догоняю ее.
— Вам тяжело, — говорю я, — дайте донесу чемодан до перрона.
Она мельком взглядывает на меня, темные брови сходятся на переносье:
— Нет, спасибо.
— Мне не надо денег…
— Иди своей дорогой!
Я прохожу мимо. Может, она испугалась, что я стащу чемодан? Если она из провинции, наверное, наслушалась про софийских хулиганов. Или просто гордая и злая — есть такие, они вечно сердятся, и первым делом готовы заподозрить тебя в самом плохом. Однажды я уступил место в автобусе одной такой, хромой и с палкой; ух и ругалась же она, и орала, — иди, дескать, к своей бабке, можешь ей места уступать, — я не знал, куда деваться. Решил, что она ненормальная, с каким-нибудь комплексом. Но тетка скоро совершенно спокойно заговорила с какой-то знакомой, а один пассажир шепнул мне на ухо:«Упаси бог от сварливой бабы!»Так что люди разные бывают, на кого нарвешься — дело случая.
Справа от южных ворот вокзала замечаю старенький зеленый «москвич», — значит, Шеф уже здесь, и через зал ожидания выхожу на перрон. Под длинным навесом немногочисленные пассажиры постукивают ногами возле чемоданов — их поезд еще не подавали. Милиционер разговаривает с железнодорожником. Открытые пути серебрятся от снега, метет. По первому пути идет маневровый паровоз. Машинист, прищурив глаза от метели, что-то говорит помощнику и сердито скалится.
Я спешу нырнуть в туннель под вокзалом, в конце которого находится экспедиция. Здесь тихо, ветра нет, но сквозняк пробирает до костей. Туннель тесный — двум электрокарам не разминуться, — но перед экспедицией расширяется, и там уже лежат кучи подготовленных пакетов с газетами и журналами. Толкаю дверь справа, она визжит. Женщины и девушки у конвейера на минуту поднимают головы. Я машу Зорке, но она считает газеты и не видит меня. Она в старом розовом свитере с высоким воротом, брюки от спецовки облегают бедра. Длинные сильные бедра, широкие бока — женщина, а ведь всего на два года старше меня. Красноватые волосы, разбросанные по плечам, блестят в свете лампочки.
Здесь тепло. Печка, сделанная из огромной железной бочки, раскалилась докрасна — наверное, в уголь добавили кокса. Я отправляюсь к печке, но меня останавливает мужской голос:
— Пешо, мы здесь!
Это Шеф. Он сидит на шатком столике за дверью, курит и покачивает короткой ногой. Правая штанина задралась до колена, воротник рубашки под коротким спортивным пиджаком расстегнут, галстук, наверное, в кармане, как всегда. Круглая стриженая голова со спокойным, здоровым лицом и пухлыми губами похожа на хорошо надутый футбольный мяч. Самое хорошее в Шефе то, что он никогда не злится и почти всегда улыбается. Может быть, поэтому все зовут его Шефом — полушутя, но с уважением.
Здороваюсь и оглядываюсь по сторонам — ищу ребят из бригады. Шеф почесывает крепкую шею и протягивает сигареты:
— Затянись. А ребят не ищи, не пришли. Сегодня придется семь потов пролить.
— Как это не пришли?
— Вчера получили зарплату. Пока не профукают не придут. Только батя Апостол здесь, пошел за электрокаром.
Для меня это — новость. Что Шатун не придет — неудивительно, он прогуливает часто, и ничто его не берет, ни выговоры, ни вычеты из зарплаты. Но Кореш и Студент?
— Студент известил, что болен, — говорит Шеф, вздыхая.
— Ничего не болен, зубрит к экзаменам. А Кореш… кто его знает. Серьезный мужик, но и его схватывает иной раз. Ничего, как-нибудь справимся.
Он заходит за кучу деревянных ящиков и начинает переодеваться. Семейный человек, трое детей, а стесняется, как девчонка. Но когда не хватает людей, грузит за двоих.
За дверью свистит и умолкает электрокар. Входит батя Апостол, на бровях и усах — снежинки. Он сдувает их, и его угловатое лицо покрывается капельками. Из-под бровей поблескивают голубые глаза.
— А, Пешо, хоть ты пришел, туда-растуда…
Последние слова относятся к отсутствующим, но его любимое ругательство звучит добродушно, будто он имеет в виду непослушную ребятню. Шеф говорит, что ему можно смело доверить весь Народный банк плюс грудного ребенка, и батя сохранит и банк, и ребенка. Он — единственный, кто задержался в бригаде дольше двух лет. Прирабатывает к пенсии.
Он отправляется к печке, но протягивает руки не дойдя до нее — так она нагрелась. Руки у него с хорошую тарелку, с вечными мозолями и шрамами. На левой руке нет мизинца, вместо него — короткий синеватый обрубок. До выхода на пенсию батя Апостол был слесарем.
— Глаза уже не те, — говорит он, когда его спрашивают, как он потерял мизинец. — А то вернулся бы на завод. Ну, где там!
Шеф вылезает из-за ящиков в синих брюках и ватнике, наброшенном на плечи. Батя Апостол подмигивает ему:
— Начинаем?
— Начинаем.
— А Ненов где?
— В типографии, позвонил оттуда.
— Придет, значит?
— Угу.
— Тогда порядок, — вздыхает батя Апостол. — Справимся.
Это его любимая шутка. Ненов — администратор, помощник Шефа. В погрузке никогда не участвует и страшно недоволен, если Шеф берется нам помогать.
— Не приставай, батя, — смеется Шеф. — Ненов свое дело делает.
Когда бригада в полном составе, Шеф не сидит в экспедиции, а носится на попутном грузовике или на своем «москвиче» с вокзала в типографию и обратно, или утрясает разные вопросы в управлении по распространению печати. Главное, чтобы не было опозданий в погрузке и разгрузке, чтобы газеты были отправлены вовремя. Иначе нам каюк, говорит Шеф, у меня жена и дети, что вы себе думаете? А если лишимся премии, грузчики разбегутся, и без того народ не задерживается на такой работе.
— Это все? — спрашивает он заведующую экспедицией, показывая две кучи пакетов в коридоре.
— Еще есть… Ты что, с неба упал? Это на поезда в Русе и Видин.
Заведующая грузно ступает к стене, из отверстия в которой конвейер выбрасывает пакет за пакетом. Она нагибается к отверстию и разговаривает с кем-то по ту сторону. Работницы спешат, быстрые пальцы развязывают, считают, пакуют газеты. Зорка издали замечает меня и машет рукой, женщины переглядываются и посмеиваются.
В туннеле нас ждет электрокар с прицепом — корзиной из крепкой проволоки на четырех колесах. Бросаем пакеты на электрокар и в прицеп. До отправления русенского поезда двадцать минут, надо успеть любой ценой. Потом мы выскакиваем из туннеля и мчимся по перрону — Шеф за рулем, батя Апостол рядом с ним, я сзади, на пакетах. Электрокар, мягко завывая, мчится под навесом, потом под открытым небом, к третьему пути. Ветер швыряет в лицо снег. Батя Апостол тихо ругается, а Шеф смеется:
— Разнежился ты, батя.
— Ничего, — говорит тот, похлопывая по карману телогрейки, — отопление — вот оно!
И поглаживает седые усы. Его «отопление» — бутылка из-под лимонада с виноградной водкой. До работы он никогда не пьет, но в холодные ночи, особенно к рассвету, когда устанет, прихлебывает из бутылки и до конца смены выпивает ее всю. Но, что пил, по нему не видно, только угловатое лицо его смягчается, усы обвисают, и он начинает смотреть на все с невероятной нежностью — даже на незнакомых людей и на предметы. И смеется тихим горловым смехом.
Вокзал живет своей ночной жизнью. Пассажиров почти не видно — они спешат скорее забраться в вагоны вместе с чемоданами и сумками. Техники постукивают длинными молоточками по осям колес, поднимают крышки масленок. Машинисты разводят пары или разогревают дизели. Дежурные по вокзалу перебегают из двери в дверь. По ту сторону путей сверкает и гремит вагоностроительный завод. И мы, грузчики, здесь, без нас тоже нельзя. Все-таки это здорово — работать, когда знаешь, что город спит. Здорово и по-мужски, как сказал бы Кореш, если бы мог говорить на такие темы.
Шеф тормозит так, что я чуть не слетаю на перрон. Совсем рядом перед нами дизель дрожит, напрягаясь перед стартом. Мы с батей Апостолом прыгаем в почтовый вагон, Шеф сбрасывает ватник, и пакеты начинают мелькать в воздухе. Шеф кидает тридцатикилограммовые связки, как сумасшедший. В юности он занимался вольной борьбой, и наверное, из него что-нибудь получилось бы, если бы ему не порвали сухожилие под коленом.
Мы с батей Апостолом похожи на вратарей — ловим сверху, снизу, справа, слева. Шеф не смотрит, куда бросает. Один пакет попадает мне в грудь и чуть не сбивает с ног.
— Слушай, — советует батя Апостол, — ты встань подальше и лови, когда пакеты уже падают вниз. Не бери на себя удар.
— Ладно.
Совет немного запоздал: я уже подвернул безымянный палец на левой руке. Мне не больно — мы разгорячились, нам весело, бросаем пакеты, как бешеные. Шеф свистит и что-то кричит с перрона, но из-за шума мотора мы не слышим.
Мы прыгаем из вагона в последний момент, после свистка кондуктора. Батя Апостол чуть не падает, и мы хватаемся друг за друга. Потом он смотрит вслед уходящему поезду:
— Чуть не уехали, туда-растуда.
— Этого не хватало, — говорит Шеф. — Один раз тебя уже ждали, пока вернешься из Своге.
И гонит электрокар, как на соревнованиях. Стрелочник на переезде едва успевает отскочить, и в спину Шефа летит снежок. Тот смеется:
— Не знает, что буду участвовать в ралли. Чтоб мне лопнуть, если не займу второе место.
Насчет второго места не знаю, но что он может лопнуть, сомневаюсь. Ватник едва держится у него на плечах, а шея — как глиняный горшок. Не пьет, курит по пять сигарет в день. На женщин поглядывает, но и только. У него другие страсти — семья, трое детей, машина. Ребятню свою он кормит сам и любит ходить с ними в баню. Все трое парни: одному два года с чем-то, другому — три и третьему пять. Говорит, что между появлением старшего и среднего был финансовый кризис — какой-то тип выгнал его с высокой должности завхоза стадиона, и пока он нашел себе работу, прошло время. Поэтому детей трое, а не четверо или пятеро. Как и у меня, у него нет профессии, но я думаю, что поставь его командовать космическим кораблем — за два часа научится… Такой у нас Шеф.
В туннеле мы с батей Апостолом нагружаем электрокар газетами для следующего поезда, а Шеф сидит за рулем и улыбается, как Будда. Его лицо в снежинках и каплях воды, но он и не думает вытираться.
— Бычок, — с умилением говорит батя Апостол и кидает последний пакет прямо ему в голову.
Шеф ловит пакет, бросает его через плечо и принимает позу воспитанного шофера:
— Куда прикажете?
— В Орландовцы[1], — смеется батя Апостол, — самое место для нас. А Пешо оставим по дороге.
И снова электрокар с тихим воем несется по перрону. Теперь мы с батей Апостолом бросаем, а Шеф принимает пакеты и смеется над нашими попытками сбить его с ритма. У меня начинает болеть подвернутый палец. Я помалкиваю, но когда мы возвращаемся в экспедицию, меня прошибает пот, даже снимаю ватник. Я засовываю палец в рот и сосу его — как-будто так легче. Шеф вырывает мою руку изо рта и рассматривает ее.
— Ага, получил?
Палец покраснел и вздулся, как вареная сосиска. Прибегает Зорка и спрашивает, что случилось, я говорю ей, чтобы не лезла не в свое дело, — неудобно же перед ее товарками и перед Шефом. Она не обижается, в зеленых глазах — смех, а брови заломлены — от сочувствия. Послушно возвращается на место.
— Дайте я посмотрю, — говорит батя Апостол.
Он берет меня за руку и ощупывает ладонь от кисти до больного пальца.
— Здесь болит?
— Нет.
Он продолжает ощупывать мою ладонь со всех сторон и внезапно изо всей силы дергает больной палец. Я вскрикиваю от неожиданности.
— Порядок, — говорит батя Апостол, — теперь как на собаке заживет. Завтра приложи печеный лук и все… А теперь шагай домой, а то хуже станет.
— Шагай, шагай, — говорит и Шеф.
Я кручу головой. Понимаю, что валяю дурака, но иначе нельзя. Вдвоем Шефу и бате Апостолу не справиться, особенно к утру, когда поезда идут чаще. Батя Апостол стягивает мне палец носовым платком, Шеф улыбается и мы втроем отправляемся в туннель.
В дверях сталкиваемся с Неновым, помощником Шефа. Он запыхался, будто участвовал в кроссе по улицам города. А ведь на самом-то деле приехал на грузовике из какой-нибудь типографии.
— Был в военной и в «Труде», — сообщает он.
Ненов вечно озабочен, пыхтит от усердия, глаза блестят. Шею закутал шерстяным шарфом, на руках — кожаные перчатки, обут в желтые туфли. Его лицо с бесцветными бровями и глазами неопределенного цвета. Лицо вечно серьезно, как будто от него зависит, быть ли третьей мировой войне.
— Ну и как? — спрашивает Шеф через плечо.
— Пришпорил их там как следует. — Ненов оглядывается. — А остальные не пришли?
— Нет.
— Пропадет премия из-за этих негодников.
— Справимся, — говорит Шеф. — Ты иди наверх, к телефону, а то еще позвонит какое начальство.
Эта ночь кажется мне страшно длинной. Перед рассветом метель утихает, снег перестает идти, на небе даже выступают звезды. Но холодно. И палец мучит. Я ловлю пакеты правой рукой и кистью левой, и обдираю кисть. Завязываю ее платком и вообще становлюсь похож на инвалида. Батя Апостол время от времени извлекает из кармана бутылку из-под лимонада, и мы все трое отпиваем по глотку.
Когда рассветает, на перроне возле варненского пассажирского появляется Зорка. Ее маленькое бледное лицо жаждет сна, а губы усмехаются:
— Ну как, солдатик?
«Солдатик» — это знак особой нежности. Еще в самом начале, когда она узнала, что я недавно демобилизовался, стала называть меня так. Зорка берет мое лицо в руки и смотрит, будто хочет загипнотизировать. Ее теплое дыхание волнует меня, даже здесь, на перроне. Потом она меня целует и слегка шлепает по щеке, — ей наплевать, что Шеф и батя Апостол стоят рядом и смотрят.
— Иди погрейся, я тебя подменю. Смотри осунулся как.
Пожалуй, я и вправду осунулся — от боли и от старания не морщиться. Болят все мускулы. Я жду, пока они разгрузят, и закуриваю, пуская дым к бледному утреннему небу. Неподалеку пыхтит локомотив и тоже пускает дым. Я задумываюсь: куда уходит весь дым, который собирается на земле? Она дымит столько веков: локомотивы, фабрики и заводы, пароходы, автомобили, трубы, сигареты; пожары и войны, костры, на которых когда-то сжигали людей, самолеты, ракеты. Как люди не задохнулись до сих пор, как ухитряются спастись от этого дыма? И воздух остается воздухом, и небо — небом, как будто ничего и не было. Отец говорит, что если теперь будет война, человечество уже не спасется, все превратится в дым. И пепел… Все — может превратится, но только не я, — думается мне.
Этого я не могу себе представить. Даже смешно становится. А мне всегда, если я устал или не выспался, приходят в голову такие сумасшедшие мысли. Хорошо, что я ими ни с кем не делюсь.
На этот раз мы возвращаемся на электрокаре вчетвером. Мы с Зоркой сидим сзади на платформе, свесив ноги. Зорке холодно в розовом пуловере, она прижимается ко мне. Я чувствую плечом ее грудь и сижу, как пень. Она заглядывает мне в глаза:
— Придешь?
— Нет. Палец болит.
— Приходи, вылечу. Приходи, солдатик.
И касается щекой моей щеки, — что-то разнежилась. Когда она такая, она мне нравится. Но такой она бывает редко: часто говорит вещи, которые меня отталкивают, особенно если это случается в минуты, когда мы любим друг друга или лежим рядом.
Я поглаживаю ее по колену, и мы соскакиваем с электрокара перед экспедицией. В конторе Шеф, батя Апостол и я садимся на ящики и курим. Батя Апостол угощает нас последними каплями из бутылки, у всех троих закрываются глаза. Остается еще один рейс. Время от времени Зорка, которая сидит на своем рабочем месте, оборачивается и улыбается мне. Так было в первую ночь, когда я пришел сюда работать. А во вторую она привела меня к себе домой. И все получилось совсем естественно.
Шеф следит за моим взглядом и вздыхает:
— Потаскуха, — говорит он тихо и снисходительно. — Только что с батей Апостолом не спала. Ты, Пешо, смотри…
Батя Апостол хмурится и бормочет в усы:
— Девка неплохая. Ты, Шеф, не надо так. Не знаешь ты ее.
— А ты знаешь?
— Я людей понимаю.
Я молчу. Надо бы вступиться за Зорку, но я так устал, что неохота разговаривать. Да и Шеф говорит без злобы, просто так, чтоб только что-то сказать — мало ли что говорят мужчины между собой. А Зорка мне нравится, какая есть. Она — первая женщина в моей жизни; то, что было с Таней, — детская история.
Шеф, зайдя за ящики, переодевается. На улице уже светло. Лица женщин становятся зеленоватыми. Возле них вертится Ненов, он уже тоже оделся, отпускает шуточки. Говорит что-то и Зорке, та огрызается, но слов не слышно. Ненов делает кислую физиономию и приподнимает светлые брови, а Зорка смеется — только полные губы краснеют. Она отбрасывает пучок бечевок, отодвигает ногой пакет и идет к вешалке, на ходу поправляя рыжие волосы. Я смотрю, как сквозь туман, — очертания фигур кажутся расплывчатыми и далекими.
Мы с батей Апостолом встаем грузить последний электрокар.
Домой я возвращаюсь около полудня. Дверь квартиры открывается прежде, чем я успеваю всунуть ключ в замок.
Мама и Пух. Мама, конечно, услышала, что лифт остановился на нашем этаже, и спешит встретить меня. Сколько раз она, наверное, вот так открывала дверь за это утро. Пух трется о мои ноги, не дает переступить порог. Я беру его на руки и он сразу лезет мордой в шею, подрагивая от удовольствия.
В кухне мама смотрит на меня с еще не остывшей тревогой, потом ее лицо постепенно смягчается:
— Хоть бы по телефону позвонил? Сколько раз я тебя об этом просила…
Я извиняюсь. Говорю, что случилась сверхурочная работа, и чувствую, как краснею. Не потому, что я ее обманываю, — если сказать маме правду, она вообще ударится в панику, — а потому, что пока я был у Зорки, ни разу о ней не подумал. Вспомнил только, когда уже отправился домой, и бросился бежать… А что толку?
Мы обедаем вместе, как обычно. На столе — куча еды, не знаешь, с чего начать. С тех пор, как я вернулся из армии, мама все время боится, что я похудею и могу заболеть. И все время думает, что со мной «что-то происходит». В свое время, когда я ушел из школы, она чуть не заболела. Смотрела на меня больными глазами, обращалась со мной осторожно и нежно, как с каким-нибудь ненормальным, и однажды я слышал, как она говорила отцу: «С Петьо надо быть повнимательнее, он сейчас в таком возрасте…» Для нее я так и остался в «таком возрасте» — ребенок, мальчик, от которого неизвестно, чего ждать… Эх, мама, мама!
Я улыбаюсь ей — знаю, что это ее успокаивает. Она кладет вилку.
— Чуть не забыла. Пришло письмо от Димы.
Мама уходит в гостиную и скоро возвращается с пестрым «авиа» конвертом.
— Представляешь, сегодня утром звонила Таня, спрашивала, есть ли новости от Димы, и только я сказала, что нет, и повесила трубку, пришла почтальонша. Заказное.
Я так устал, что даже нет сил удивиться. Звонила Таня!.. Дима и Таня никогда особенно не дружили. Просто наши семьи давно знакомы, и когда мы учились в школе, Таня иногда приходила к моей сестре, чтобы та написала ей заключение к сочинениям по литературе. Мы с Таней учились в одном классе, но она ходила к Диме, потому что Дима хорошо успевала по литературе и была старше нас обоих на год. Кроме того, она всегда знала, что именно хотят учителя. Когда Димы не было дома, я пытался помочь Тане, и так началась наша история. В первый раз мы поцеловались, когда стояли у окна-фонаря в их гостиной, — я тоже начал бывать у Тани, просто так, хотя раньше никогда к ним не ходил. Мы были знакомы с детства, но я к ним не ходил и вообще до десятого класса почти ее не замечал. Потом, когда я ушел из школы, мы стали встречаться еще чаще — на нее возлагались надежды, как на моего спасителя… Сейчас все это мне кажется очень смешным.
Письмо Димы написано на тонком хрустящем листке бумаги. И чем-то пахнет. Написано явно наспех, наверное, в промежутке между важными делами, потому что у нашей Димы всегда есть важные дела. А три года назад она уехала в Польшу изучать искусствоведение. Никто из нас и не подозревал, что она интересуется искусством, но она выбрала именно эту профессию. Победила в конкурсе и уехала. Она была секретарем комсомольской организации в школе, да и отец у нас — человек с заслугами.
Почерк мне хорошо знаком. В свое время Дима поправляла и мои сочинения, только не заключения, а стиль. Иногда именно те места, которые мне самому нравились. Даже помню одну такую поправку. Я написал: «Димчо Дебелянов принадлежал к богеме и был одинок. Большой город давил его своим каменным бездушием». Она это зачеркнула и написала: «Димчо Дебелянов ненавидел большой капиталистический город и чувствовал себя одиноким». Я тогда зачеркнул эту поправку, и она страшно разозлилась. Вообще мы с ней часто сцеплялись по пустякам.
Нахожу в письме грамматическую ошибку и улыбаюсь. В остальном — ничего особенного. Живет хорошо, сдала коллоквиум по искусству Египта и по теории, передает привет своим подругам (о Тане — ни слова), и, наконец, «как там наш художник, стал ли на рельсы»… Мне становится неприятно, потому что художник — это я. Что значит «стать на рельсы»? Может, я-то не собираюсь в кандидаты наук?
— Подумаешь, задирает нос, — говорю я, возвращая маме письмо. — Ну, я ей напишу!
— Не сердись, ты же знаешь Диму. — Мама смущена; она, наверное, забыла, что в письме есть строки и про меня, а то не дала бы его мне. — Она не со зла…
— Пускай занимается там своими египтянами.
Я кипячусь, но знаю, что ничего Диме не напишу. Или будет лень, или, если и напишу, то получится совсем другое. К сожалению, я быстро остываю… А почему, собственно, к сожалению?
Мама что-то говорит, но я не слышу — умираю, так хочется спать. Говорю, чтобы она оставила посуду, я помою, когда встану. Она подталкивает меня к двери:
— Иди, иди… Не забудь раздеться, прежде чем ляжешь.
В комнате чисто и тепло. Окна закрыты, занавески задернуты, тишина сразу подхватывает меня и качает, как на качелях, и я тороплюсь раздеться. Одежда остается на полу, помятая и неприглядная. Ложусь на спину и не закрываясь одеялом, вытягиваюсь во весь рост. Меня все качает, даже башенный кран на стене напротив движется то влево, то вправо, и чем дольше я в него всматриваюсь, тем заметнее он движется. Прикрываю глаза. Тело кажется каким-то чужим и легким, дрожит, как порванная струна; я жду, когда стихнет дрожь, и даже причмокиваю от блаженства.
Однако не засыпаю. В голове проносится мысль — о Тане и о Зорке одновременно — и сдувает дрему. Внезапно обе они встают передо мной. Только Зорку я вижу хорошо, а от Тани остался только силуэт и мерцающие звездочки в глазах. Я столько времени ее не видел. В последний раз она пришла на свидание в казарму в феврале позапрошлого года, и я не могу себе представить, какая она сейчас. И даже — какая она была тогда. Помню только коричневое зимнее пальто на меху и коричневые сапожки с пряжками по бокам. Мы гуляли по заснеженному шоссе от казармы к городку и обратно, потом зашли в кондитерскую, потом пошли в кино и сели на последний ряд — больше негде было целоваться. Потом я проводил ее на вокзал и там мы опять поцеловались, и она заплакала, потому что мне оставался еще целый год. Губы у нее были прохладные, а глаза — совсем близко. Я даже увидел в них свою солдатскую фуражку и мне стало смешно, хотя самому хотелось плакать. Больше я ничего не запомнил. Да мне и не надо помнить. Тогда я был мальчишкой, и все это было так давно…
А Зорку я вижу всю. И маленькое белое лицо, и крупный рот, и волосы, — их я еще чувствую под пальцами. Тело у нее гладкое, теплое, сильное и пахнет по-женски. Когда мы лежим рядом, ее зеленые глаза становятся желтоватыми, словно через них проходит свет, — как через занавески в моей комнате. Сдержанной ее не назовешь: иногда она кусает меня за плечо и урчит, как урчит Пух, если схватит какую-нибудь живность.
Люблю ли я ее? Не знаю. Но мне с ней хорошо. В первый раз я страшно смутился, даже хотел убежать. Я думал, что мы будем только целоваться, как когда-то с Таней, а она начала раздеваться. Да еще удивилась: «Ты что, девственник?» Тут я совсем расстроился и выпалил какую-то грубость, но она поняла, что я вру, и начала тихо меня ласкать и называть «мальчик» и «солдатик». И я остался. Потом я был страшно горд, что остался, а она смеялась: «Теперь ты мужчина… Красивая я? Только смотри, не влюбись. Один тут влюбился год назад, так и ходил за мной по пятам. Прогнала я его…»
Вот и все. У нас с ней не было вздохов. И ссор не было, и разговоров на высокие темы. Таня научила меня не верить таким разговорам. Зорка тоже, но по-своему, она не любит врать, не любит, когда ей врут, и говорит то, что думает. Может быть, поэтому с ней я чувствую себя свободным. К ней я могу ходить и просто так: прийти и посидеть, выкурить полпачки сигарет, пока она отдыхает. Комнатка у нее маленькая — гардероб, вешалка, простой деревянный стол с двумя стульями, электрическая плитка на полу, которая с успехом согревает всю комнату. Раскаленная плитка поет, я курю, а Зорка смотрит на меня своими зелеными глазами и рассказывает разные истории. Как, например, хозяйка квартиры попыталась подсунуть ей одного своего знакомого, старого хрыча, — дескать: очень ты ему нравишься, а у него денег отложено много, — и как Зорка ей на это сказала такое, что повторить неудобно, а хозяйка совсем не обиделась и назвала ее дурочкой. «Я только с такими хожу, какие мне самой нравятся, — гордо добавляет Зорка и спрашивает: — Хочешь любиться?»
А то рассказывает о своем отце. Он умер два года назад. Служил стрелочником на вокзале, он ее и устроил на работу. Очень ее любил и с каждой зарплаты что-нибудь ей покупал. Но любил выпить и допился до цирроза… А матери у нее нет — сбежала с шахтером из Перника, когда Зорке было четыре года, и так и не дала о себе знать. Вроде тогда же отец начал пить. И вдруг мать явилась на его похороны — надо же было додуматься. И даже плакала и потом хотела посмотреть, где Зорка живет, но Зорка сказала, что незачем… «Я на нее похожа, — вздыхает Зорка. — И в лице, и по другому всему… Она тоже такая, по мужикам… Этот шахтер ее прогнал на второй год, так она вышла замуж за бухгалтера с металлургического и опять шлялась с другими… Я замуж не пойду. Каждый день ругаться да стирать рубахи — очень надо!»
Вот такая она, Зорка, вся ее биография — как на ладони. Впрочем, как и Танина… Но о Тане я не хочу думать, — было да быльем поросло.
3
Просыпаюсь часам к семи. Сначала слышу звон рюмок в кухне, за стеной, потом — голос отца в гостиной:
— Елена, только сахару много не клади. И нарежь, пожалуйста, бастурмы, той самой.
В гостиной слышен сдержанный смех Цонкова — главного инженера завода. Наверное, пришел с женой, они всегда неразлучны. У отца голос командирский — когда он в хорошем настроении, гремит по всему дому и повелевает. Это у него от привычки перекрикивать станки. И людей. Директору завода часто приходится перекрикивать и начальство, и подчиненных, чтобы его услышали.
Беру книгу с тумбочки. Цонковы уйдут не скоро; мама только варит кофе, это единственная слабость инженера, он пьет по пять-шесть чашек в день, а бастурма — закуска к вину; значит, начинается небольшой коктейль, по меньшей мере часа на два. Вино, конечно, для отца и для Цонковой, мама почти не пьет, только изредка пригубит. Почитаю, пока не освободится кухня, суну в карман бутерброд и улизну. Можно зайти к Корешу, потом вместе пойдем на работу.
Но все мои планы летят к чертям. Когда я через полчаса на цыпочках пробираюсь в кухню, чтобы выпить воды и сделать себе бутерброд, застаю там отца, который роется в холодильнике. Он достает большой кусок рокфора и бутылку белого вина, потом поворачивает ко мне крупное, бровастое лицо. В больших глазах — веселье и ирония. Отец без пиджака, в вишневом галстуке и идеально отглаженной рубашке.
— Как, товарищ грузчик, выспался?
Я киваю и долго пью из-под крана, надеясь, что он уйдет. Но не тут-то было.
— Мы с Цонковым как раз говорили о тебе… Оденься-ка и давай приходи к нам.
Представляю себе, что они там про меня говорили. Я — человек, которого надо наставить на путь истинный, вот они все и стараются, от моей сестры до инженера Цонкова. Только дед относится к моей работе на вокзале безо всяких ужимок, и мы с ним друг друга понимаем. А что касается Цонкова, этот, наверное, уже дал свой рецепт, они у него всегда такие точные и ясные. Умный мужик, не случайно стал главным инженером завода, хотя и молод, но я никак не могу определить свое отношение к нему. Когда он говорит, хочется шляпу снять почтительно, кофе его расплескать.
Ничего не поделаешь, отправляюсь в гостиную — выбритый, в приличном шерстяном жакете, даже волосы причесаны. Отец и Цонков сидят без пиджаков в креслах возле окна, у низкого столика, заставленного закусками и сластями. Цонкова сидит на круглом табурете у пианино Димы с бокалом вина в руке и рассматривает какую-то партитуру. Мама наливает деду водку — дед вина не пьет и аппетита перед ужином себе не портит. Он сидит на высоком стуле у камина — это его любимое место, хотя камин никогда не топится, потому что у нас паровое отопление, — задрал бородку-клинышек и надел очки: верный признак, что разговор его интересует и он хочет видеть лица собеседников как следует. Камин и новый, пестро-золотистый ковер «персидского типа» — вещи, в нашей гостиной новые. Они появились, пока я был в армии. Помню, особенно меня удивил камин, зачем он вообще нужен, но отец сказал, что он создает атмосферу уюта и что мы будем топить его в переходные сезоны, когда отопление или еще не пустили, или уже выключили.
Здороваюсь с гостями. Цонкова на минуту поднимает большие синие глаза, потом снова опускает их на партитуру. Цонков коротко говорит «Здравствуй» и быстро оглядывает меня с головы до ног. Интересно, лицо у него строго симметричное, будто какой-то математик долго и старательно вычислял все его пропорции; но впечатление такое, что когда все части собрали воедино, получилось что-то не то. Наверное, поэтому Цонков отпустил усы, пышные и аккуратно подстриженные. А может усы ему нужны для авторитета, чтобы не казался слишком молодым.
Я сажусь на диване рядом с дедом. Он кладет мне на колено небольшую сухую руку и вопросительно смотрит на меня.
— Все ол-райт, — говорю я тихо.
— Браво, — отвечает он, пока отец и Цонков продолжают разговор. — Ни шагу назад!
Не знаю, что дед имеет в виду, но это его лозунг. Странный старикан. Я никогда не видел, чтобы он задумался или по-настоящему рассердился. Мысли у него ясные, прямые и без всяких компромиссов. Сейчас такие старики — дефицит, думаю я, и хочу сказать ему что-нибудь смешное, например, что здесь и захочешь — не можешь ступить ни шагу назад, потому что толкнешь что-нибудь из мебели; но он мне подмигивает и кивает в сторону кресел: слушай, мол.
Однако интересный разговор, видимо, уже кончился, потому что в эту минуту отец говорит:
— Нина (это он Цонковой), возьми бастурмы, с вином очень хорошо. — Он ставит тарелочку с бастурмой на крышку пианино и обращается к Цонкову: — А ты, трезвенник, возьми печенья, подсластить горечь. В этом квартале рекламации выросли на десять процентов.
— На семь, — поправляет Цонков.
— Не в лоб, а по лбу, — громогласно смеется отец и тут же хмурится. — Самое неприятное, что возвращают все тяжелые конструкции.
— Естественно. В монтажном цеху больше всего ручных операций. — Цонков с презрением поджимает губы, словно от ручных операций ничего другого и ждать нельзя. — Да и в других цехах… Получили новые машины, а люди — со старым техническим багажом.
— Может быть, организовать курсы повышения квалификации? А если еще повысить качественные показатели соревнования…
— Курсы — обязательно. Но мы слишком много надеемся на агитацию, не используем поощрения и наказания. Если хочешь, чтобы болгарина пробрало, бей его по карману… — Цонков улыбается, и его лицо теряет неприятную пропорциональность. — Недавно мы с Ниной ходили в цирк, и между прочим, видели медведя, который ходит по канату. Как ты думаешь, каким образом его выучили?
Отец смеется и качает головой, — не поймешь, согласен он или нет, — но дед ставит рюмку на камин и прикладывает к усам платок.
— Цонков, — говорит он своим тонким голосом, — ты, случаем, не сменил профессию?
— А что?
— Да вот смотрю, понравилась тебе дрессировка. А между людьми и медведями, если я не ошибаюсь, есть разница.
— Ну, конечно. Я только говорю, товарищ Клисуров, что принцип один и тот же.
— Один и тот же? — Дед смотрит на него, сощурив маленькие глазки, и тоненько хихикает. — Капиталисты одно время тоже так думали. За то и получили, что полагается.
— Управление предприятием — целая наука, товарищ Клисуров.
— Папа, — смеется отец, — взвалить на тебя завод и план, — по-другому запоешь.
— План, завод, — дед не успокаивается, — великое дело! Наука, видали! Науку тоже делают люди и для людей, а не для медведей… А я говорю, очень вы, молодежь, стали ученые, думаете, что все дело в голове. А здесь-то тоже что-то есть! — он постукивает себя по груди. — Об этом вы не думаете… Если бы рабочий не принял коммунизм сердцем, коммунизм так бы и остался теорией, соображаете?
— Сдаюсь — поднимает руки Цонков. — Сдаюсь, но оставляю за собой право на возражения.
— И не думай, — говорит отец. — Не берись спорить со старым тесняком[2].
— Не буду, не буду… А, забыл тебе сказать. Сегодня опять звонил Миленков. Насчет железа.
Отец молчит. Его брови движутся, как вороновые крылья. Потом, не глядя на Цонкова, заявляет, что у него на заводе железа для оград нет и что он уже сказал об этом Миленкову. Цонков вертит в руке пустую кофейную чашку.
— От Миленкова многое зависит. Например, капиталовложения для реконструкции… смотря как он будет докладывать… А на складе есть обрезки труб, в отходах.
Отец не отвечает, но в это время раздается звонок. Он явно обрадован.
Я иду открывать. На пороге появляется доктор Енев, «наш доктор», как зовут его дома. Он сует мне длинную руку:
— Ваши дома?
— Дома, дядя Максим, проходи.
— Ты что-то похудел, парень, спать надо больше. Или любовь покоя не дает?
Он снимает плащ и проходит вперед — высокий, слегка сутулый, сухопарый и элегантный в своем старом коричневом костюме. Войдя в гостиную, делает общий поклон и садится в третье кресло. Устало вздыхает, не открывая рта.
— Я вас перебил, прошу прощения. Если хотите, чтобы я сидел смирно, дайте рюмку сливовой, домашней…
— Нашего полку прибыло, — ухмыляется дед и прихлебывает из своей рюмки.
Мама наливает водку. Доктор выпивает рюмки в один присест, мотает головой и вытирает рот тыльной стороной ладони, — совсем как батя Апостол, когда тот выцедит последнюю каплю из своей лимонадной бутылки. От улыбки на темном, словно обожженном, лице появляются новые морщинки.
— Мадам Цонкова, ноты пишут не для того, чтобы их читали, а чтобы по ним играли.
— Настроение не то, — отвечает та. Цонкова — пианистка, до замужества выступала с концертами. — Да и я не в форме.
— А-а-а… Жаль.
— Еще налить? — спрашивает мама.
— Нет, спасибо.
Доктор потирает руки, на минуту прикрывает глаза. Он всегда утомлен, — во всяком случае, всегда, когда приходит к нам. Руки у него, как у музыканта — крупные ладони, длинные сильные пальцы. Они чем-то похожи на руки Цонковой.
— Максим, сколько метров кишок сегодня вырезал? — с сочувствием спрашивает отец.
— А, всего одну опухоль в горле. Четыре часа работы, и все безрезультатно… Зато сам желчью плевался…
— Неприятности?
— Да с этим, с главным. Перитонита от колик не отличит, зато по административной линии силен. Утром на пятиминутке только намекнул, а после обеда на совещании пошел в атаку: «Некоторые наши коллеги принимают в больнице частных пациентов. Например, доктор Енев». — Доктор беззвучно смеется. — Месяц назад я ему сказал пару ласковых слов наедине, так он теперь отыгрывается при всех.
Мама все же наливает ему еще. Он не возражает.
— И ты смолчал? — с возмущением спрашивает она.
— А ты его не знаешь? — отзывается отец. — Еще не родился тот человек, который может заткнуть Максиму рот. Значит, частная клиентура, а? И с каких это пор она у тебя появилась?
Доктор пожимает плечами и пьет. У него лимит — две рюмки и ни капли больше, за что дед очень его уважает. Мне смешно: главный врач не мог придумать ничего глупее; «частная клиентура» у дяди Максима, конечно, есть, перед его кабинетом вечно сидит очередь, потому что он принимает всех родных, друзей и знакомых своих знакомых. Я и сам к нему ходил вытаскивать стружку из глаза. Но никто и никогда не слышал, чтобы доктор Енев взял со своих «частных пациентов» хотя бы копейку. И вот тебе, пожалуйста!
— Закономерно, — ухмыляется отец, — так и вечно попадает донкихотам. Если бы у тебя действительно был частный кабинет и зарабатывал бы по тысяче в месяц, твой главный врач тебя бы уважал.
— Э! — Енев машет рукой, — врач должен лечить, а все прочее — от лукавого.
Отец, пожалуй, прав: дядя Максим, худой и высокий, даже внешне напоминает рыцаря печального образа. Ему под пятьдесят, а он еще холост, живет со старшей сестрой на верхнем этаже старого дома возле ипподрома. Муж сестры, бывший электромонтер, парализован, пенсия у него небольшая, так что доктор на свою зарплату содержит их обоих. Вообще редкий экземпляр. Помню, мама хотела женить его на сестре Таниной мамы, очень милой женщине, которая развелась с мужем много лет назад. Но доктор устоял. Одно время он даже перестал к нам ходить, чтобы не встретить возможную невесту.
Доктор закуривает, предлагает и остальным. Цонкова и дед закуривают тоже, отец и Цонков отказываются, и дядя Максим бросает пачку мне, — я сижу далеко. Пачка поймана, но я колеблюсь, он подмигивает отцу, и тот вздыхает:
— Ладно, кури.
Он никогда не запрещал мне курить, а все-таки перед ним мне неудобно. Дед подносит мне зажженную спичку и хихикает. Потом обращается к Цонкову:
— Бери свои слова назад. Насчет дрессировки. Хорошо бы попробовать на максимовом начальстве. Давай, назначим тебя в больницу, а?
Заедается старик. Доктор спрашивает, о чем идет речь, дед с Цонковым в один голос отвечают, и спор вспыхивает снова. Мама делает деду знаки, но он абсолютно ничего не замечает. К его удивлению, доктор берет сторону Цонкова:
— Ну, да, конечно, принципиальной разницы между воспитанием и дрессировкой нет. У меня была морская свинка, приятель подарил. За две недели я выучил ее кланяться. Хлопал прутиком по передним лапкам, а как согнет — давал кусок сахару… Кнут и пряник, милый мой, — классическое средство! Оно известно человечеству не менее десяти тысяч лет.
— Без этого нельзя, — говорит обрадованный Цонков. — Если хочешь привести в движение не только станок, но и людей, надо знать, на какую кнопку нажать. Конечно, кнут и пряник звучит грубо, но по существу…
— Совершенно верно, — перебивает Енев, посмеиваясь беззвучным смехом, — управлять людьми нелегко. Вы знаете, в последнее время ведутся опыты, которые, может быть, разрешат все проблемы программирования души человека и его поведения. Из клетки лягушки получена лягушка, точная копия той, от которой эту клетку взяли. Представляете, какие откроются горизонты, если этот опыт удастся повторить на человеке?
— Да-а-а, интересно, — недоверчиво улыбается Цонков.
— Ужасно, — говорит Цонкова. — Что тогда будем делать мы, женщины?
— Это дело ваше. — Енев кладет ногу на ногу и закуривает вторую сигарету. Его темное лицо загадочно и неподвижно. — А по-моему, это чудесно. Прежде всего, брак как официальный институт отпадает, человечество экономит массу энергии, столь потребной для производства. Кроме того, даже благословенный кнут и пряник становятся ненужными. Для воспроизведения будут отбирать только те экземпляры, которые обладают нужными качествами: талантом, дисциплинированностью, кротким характером… Каждый будет гением в своей области. Гениальная уборщица, гениальный инженер, слесарь, врач, математик! В музыке — одни Бетховены, в поэзии — одни Шекспиры… А?!
— Тоска зеленая, — подает голос дед. — Каждый будет похож на своего родителя, как две капли воды.
— Ты, Максим, шутишь, но любая рациональная идея в конечном счете торжествует, — говорит Цонков.
— А что плохого? — обращается Енев к деду. — Каждый будет знать свое назначение и свой путь со дня рождения. Каждый будет реагировать так, как предусмотрено. Никаких случайностей, перемен, сюрпризов, никаких ошибок. Ни драм, ни трагедий. Мир, населенный честными, кроткими и трудолюбивыми гениями.
— Пока что нам с товарищем Клисуровым нужны хорошие монтажники, — улыбается Цонков. — Только не гении. Гений — отклонение от нормы, никогда не знаешь, куда его занесет.
— Это я и хотел услышать, — смеется Енев. — Значит, гениев — умеренное количество, а святая посредственность — на первом плане. Логично!
— Дурацкие выдумки! — не на шутку волнуется дед.
— А если вы воспроизводите хорошего токаря, а он мог бы быть отличным врачом или художником, да так получилось, что стал токарем. А если у человека есть скрытые пороки?
— Кто же будет производить отбор? — неожиданно вмешивается Цонкова. — Это самое страшное. Живые люди пристрастны, могут ошибиться.
— Э, на то есть мыслящие машины, — говорит отец, — беспристрастные, как господь-бог.
— Ну, не дай бог, — возражает дед, — лучше будем размножаться, как люди, кнопок нажимать поменьше.
Все дружно смеются и доктор — больше всех. Его фантастический проект рухнул, но он не огорчается. Я смотрю на его руки — они уверенно протягивают к столу и отламывают кусок хлеба, не режут, а отламывают, и это мне нравится, не знаю, почему. Сегодня эти большие темные руки вырезали опухоль. Четыре часа. Вот это — мужская профессия. Если бы я мог учиться, то хотел бы стать хирургом. Только с моим аттестатом, даже если я его получу, не сунешься. А идея у него действительно смешная.
— Но есть в ней и что-то хорошее, — мечтательно говорит Цонкова. Это бордовое платье с высоким воротом очень ей идет, и мне нравится на нее смотреть. — Берут у тебя клетку и ты снова появляешься на свет. Снова молодость, снова жизнь впереди… Разве это не бессмертие?
Правая бровь доктора выгибается:
— Биологическое бессмертие… что-то в этом роде. И духовная смерть. Кошмар повторения, бесконечного и серого, как туманный день. Блаженство предопределенной судьбы. Человеческая мысль, достигшая предела. Ну хорошо, а дальше? Впрочем, человечество заслуживает и худшего.
— Мизантроп! — толкает его в плечо отец. — Раз ты такого мнения о человечестве, зачем возишься с кишками?
— Зарабатываю на хлеб. Человек хочет жить — любой ценой, хоть на час больше. Большинство готовы на любые муки и унижения, только бы спастись от смерти, от которой спасения нет.
— Ну, а ты сам? — усмехается отец.
— И я. Пружина закручена, машинка работает и будет работать, пока не наступит энтропия. Так, Петьо? — внезапно поворачивается он ко мне, а глаза его смеются.
— Еще не знаю.
— Вот мудрый ответ. В начале жизни никто этого не знает. Точнее, не хочет знать.
— Не согласен, — дед выпячивает грудь, — что люди готовы на все, лишь бы жить, все равно как… А революция? А борьба за свободу? История?
— Э, да революции… Когда нож стоит у горла, когда есть угроза самой жизни. Тут начинает говорить родовой инстинкт самосохранения.
Доктор посмеивается. Я уверен, что он думает не совсем так, но он любит провоцировать собеседников.
— В сущности, это реалистическая философия, — говорит Цонков, — мне она нравится.
Доктор Енев минуту смотрит на него, потом переводит взгляд на отца. Он как будто чем-то доволен. Потом поправляет узел галстука.
— Лена, спасибо за водку, мне пора.
— Куда это ты торопишься?
— На свидание.
— Знаю я твои свидания, — говорит мама. — Столько времени не приходил, и опять убегаешь.
— Единственное верное средство не надоесть хозяевам, — смеется Енев.
Он прощается и уходит — высокий, худой, элегантный, с проседью в волосах и устало-ироническим выражением рта. Такая у него манера: никогда не сидит в гостях больше получаса. Придет, расскажет пару анекдотов или смешной случай из практики и исчезает. А с отцом они приятели еще с молодых лет, в тюрьме сидели в одной камере.
Чуть позже уходят и Цонковы. Из коридора Цонков возвращается в гостиную, — забыл свой блокнот, с которым он никогда не расстается, вечно записывает в него технические идеи, цифры и уравнения. Мне кажется, что в голове у него монтирована счетная машина, днем и ночью связанная с заводом. Блокнота в гостиной нет, потому что в конце концов он оказывается у Цонкова в кармане, но пока мы ищем, инженер как бы между прочим роняет:
— Петьо, у меня к тебе предложение. Иди работать к нам. Дам тебе новый станок, автоматический, если захочешь, сможешь и учиться заочно.
Его предложение меня не удивляет. Ясно, что здесь не обошлось без отца; с тех пор, как я пошел работать на вокзал, он много раз об этом заговаривал.
— Я подумаю, — говорю я.
— Могу я рассчитывать на скорый ответ?
— Если я решу, позвоню вам.
— Хорошо, буду ждать.
Я хочу отделаться от него как можно скорее, а он делает вид, что не замечает этого, и выходя в коридор, заговорщически кивает мне, будто у нас с ним все договорено и вообще все в порядке.
Помогаю маме отнести в кухню рюмки и тарелки. Отец включил телевизор, сидит и курит, но на экран не обращает внимания. Догадываюсь, что разговор о железе и Миленкове его разозлил, и спрашиваю, кто такой этот Миленков. Он шевелит густыми бровями:
— Экономист, шишка в объединении.
— А зачем ему железо?
— А тебе это зачем?
— Просто интересно…
Отец откашливается, сминает сигарету в пепельнице.
— Народ разный… Дачу строит человек, ищет материалы подешевле.
— Дашь железо?
Он сердито смотрит на меня, нижняя губа презрительно выпячивается:
— А ты как думаешь?
Я так и знал, но почему-то хотелось услышать это от него самого. Я всегда уважал его за твердость характера. И даже завидовал. Может быть, потому, что сам я размазня, вечно пытаюсь влезть в чужую шкуру, и потому становлюсь уступчивым и нерешительным.
Я возвращаюсь в свою комнату. Сегодня никуда не пойду. У меня есть книга, польский роман. Про войну и Сопротивление, но интересно. Герой — подпольщик, измотанный вечным напряжением, ежедневной игрой в прятки со смертью. Война идет к концу, а он думает, что когда она кончится, у него уже не будет сил жить. Придут новые люди, он свое дело сделал, научился убивать и ничего другого не умеет, и ему придется исчезнуть. А ему всего двадцать два… Не знаю, почему, но мне кажется, что он похож на доктора Енева. Только почему обязательно исчезнуть, когда победа — вопрос нескольких дней?
На улице раздаются два длинных и два коротких свистка. Я бросаю книгу и хватаю телогрейку. Внизу ждет Кореш.
— Почему не хочешь подняться к нам?
— Глянь, какой я, еще половички запачкаю.
Кореш показывает на свои ботинки. Они и правда грязные, но я знаю, что дело не в этом. Половичками он называет наши ковры. Когда месяц назад он в первый раз пришел к нам, я пригласил его в гостиную, и он смутился: «Ой-ой, какие половички, ступить страшно…» Я еле заставил его сесть. Достал коньяк, чокнулись. Пытался завязать разговор, но он отвечал односложно и все осматривался. Так нас застал отец, я их познакомил. Потом Кореш сказал: «Отец у тебя серьезный, но себе на уме. Будет тебя ругать, что привел меня». Отец, конечно, и не думал меня ругать, даже сказал, что Кореш ему понравился: когда-то, когда он жил в квартале Ючбунар, у него был приятель, очень похожий на Кореша. Я передал это Корешу, чтобы успокоить его, но он все равно предпочитает свистеть с улицы.
На улице тепло и мокро, от вчерашнего снега не осталось и следа. Водосточные трубы звенят напевно, где-то прямо с крыш на тротуар журчит вода, ветер влажный и мягкий, как лапы моего Пуха. Не сговариваясь, отправляемся по бульвару Скобелева к Русскому памятнику. Там есть шкембеджийница, можно наесться за пятьдесят стотинок. К тому же мы с Корешем до смерти любим шкембе-чорбу[3].
Шагаем в ногу, по солдатской привычке. Кореш молчит, и я к нему не пристаю. Он что-то не в духе. Брови над длинным носом сдвинуты, губы как склеенные, руки глубоко засунуты в карманы брюк. Шагает, расстегнув короткое демисезонное пальто, — ватников он не любит, надоели, еще когда работал каменщиком, — шагает, нагнув голову, будто собирается разбежаться и боднуть неизвестно кого, и время от времени поглядывает на меня с высоты своего роста. Он на пол-головы выше меня, а я не из низеньких. Наконец, не выдерживает:
— Ну, ладно, не по-мужски получилось. Знаю, что вчера вкалывали, как ненормальные, но так уж пришлось.
— А что случилось?
— Пронюхали там одни шмаровозы по соседству, что у меня деньга зашевелилась, ну, и как сели… Утром матери всего тридцатку дал. Рассердилась, разговаривать не хочет, — мрачно добавляет он.
— Ничего, пройдет, — говорю я. — Но и ты тоже должен думать.
— Чего там думать? Не по-мужски, и все тут.
Все на свете Кореш делит на две категории: это — по-мужски, а это — нет, и любит говорить о людях, которые ему нравятся: «мужик-парень». Даже открыл «мужиков-девчонок». Это выражение сейчас модно. Так говорят многие из тех, кому хотелось бы и самим попасть в «мужики». Ведь для того, чтобы сказать, что по-мужски, а что — нет, надо самому быть мужчиной, и меня часто разбирает смех, когда я их слушаю в кафе. Но Корешу эти слова идут. У него они звучат так, словно это он их придумал.
В сущности, из-за него я и попал в бригаду. Я мог бы вернуться к отцу на завод, где работал, прежде чем уйти в армию — я токарь шестого разряда. Но не вернулся. Не было у меня там приятелей, как-то не сумел обзавестись. Может быть, потому, что все знали, что я — сын директора; хотя это значения и не имело, я чувствовал во взглядах и словах какое-то насмешливое любопытство и сам держался неестественно. Среди бывших одноклассников приятелей тоже не было. Большинство разлетелось, кто на периферию, кто за границу, — учиться, да и от тех, кто остался в Софии, меня что-то отгораживало… Даже от Кирилла… И когда прошлой осенью я демобилизовался, три — четыре месяца мотался по улицам — шлялся, как говорил отец, а мама меня защищала, потому что я должен был отдохнуть после казармы. Отец договорился, чтобы мне разрешили держать экзамены за одиннадцатый класс и на аттестат зрелости, и сначала я зубрил, как бешеный, но потом скис. Как подумаю, бывало, что надо являться на экзамены вместе с ребятней, так дурно становится. Так что и учебники я забросил и не знал, что делать… Тогда, в конце февраля, я и встретил Кореша. После армии мы не виделись: я думал, что он гастролирует по стройкам в провинции, как собирался, потому и не зашел к нему. А он пошел работать на вокзал.
— Мать все болеет, — объяснил он мне. — Днем надо ей помогать, потому и пошел работать в ночную.
Узнав, что я никуда не приткнулся, он в шутку предложил мне поступить к ним в бригаду — в шутку, потому что, кто его знает, почему, думал, что эта работа не для меня и что я могу обидеться. Я согласился сразу. Шляться надоело, а там у меня будет приятель. Я был готов делать что угодно, лишь бы быть с приятелем.
В шкембеджийнице светло и людно. Пахнет уксусом и чесноком, так что слюнки текут. Все места за столиками заняты, но возле стоек место найдется. Кореш занимает место, а я становлюсь в очередь, беру две порции шкембе и с подносом подвигаюсь к кассе. За нашей стойкой уже едят парень и девчонка, и я вижу, что Кореш что-то им говорит, они смеются, а он смотрит на них и почесывает свою черную шевелюру. Он легко завязывает знакомства, не то, что я.
Когда я появляюсь с подносом, он берет свою порцию и подносит к лицу:
— Чесноку мало, Кореш. — Мешает ложкой и добавляет: — И жидковато, сполоснули рубец, и все… А какую похлебку делал бай Митю, а?!
Мы прихлебываем, переглядываемся и смеемся. Бай Митю был шеф закусочной в городке, где мы служили, и готовил фантастические блюда из рубца и кишок. И похлебки, и рагу, и разные печеные в духовке штуки. Мы с Корешем и со старшиной Караивановым ходили к нему в закусочную в увольнение и лопали так, что за ушами трещало. Это было уже в конце, когда мы подружились со старшиной. А до этого у него был на меня зуб за то, что я не мог стрелять по подвижным мишеням и портил показатели взвода. Если бы не Кореш, тяжеленька была бы мне служба. Кто знает, как, он и у старшины завоевал авторитет, а это было совсем не легко.
Парень и девчонка, которые едят напротив, очень похожи. Должно быть, брат и сестра. Оба худенькие, черноглазые, он в ветхом шерстяном пуловере, — она — в старомодном пальто, не длинном и не коротком. Кроме похлебки, перед ними тарелки, на которых лежит по паре котлеток, и все это они съедают с быстротой, вызывающей уважение. Потом вежливо кивают и, обнявшись, уходят, — значит, не брат и сестра.
— Симпатяги, — говорит Кореш, глядя, как они проходят мимо окна по улице. — Студенты, живут на хозрасчете. Не ждут от мамочки и папочки. А вчера еще и поженились.
— Ты когда это успел все разузнать?
— Они у соседей живут, комнату снимают… Страшно люблю таких, которые едят шкембе и сами справляются.
Он поднимает тарелку и выпивает остаток похлебки. Мы выходим. Не знаю, от еды или от встречи со студентами, настроение у него повысилось на градус. Времени много, куда пойдем? Предлагаю: в кафе у театра. Там тепло, посидим, посмотрим на божий свет. Но Кореш мотает головой:
— Чего там смотреть? Щеглы несчастные! Только воображают да трепятся… К тому же меня со вчерашнего пить потянет, а денег ни шиша.
— У меня есть.
— Нет. Давай лучше в кино.
Берем билеты в кино «Солун». Зал полупустой, фильм — скука зеленая. Двое, муж и жена, очень друг друга любят, но она ходит с другим и вроде бы ему изменяет, и он ходит с другой и вроде бы тоже ей изменяет. Потом оказывается, что никто никому не изменял, но что просто они не сходились характерами, а потом сошлись, потому что поняли, что друг без друга не могут, и все такое прочее. Терпеть не могу таких фильмов. Все будто как в жизни, страшно умно, а выйдешь из зала — и понимаешь, что все сплошная липа, с начала и до конца. Кореш еле удержался, чтобы не уснуть. Все время пыхтел и кряхтел, будто тяжести поднимал.
На вокзал отправляемся пешком — до работы еще два часа. Идем по бульвару Ботева. Отшагаем по нему из конца в конец — делать все равно нечего. Становится холодно, лужицы на тротуаре покрываются ледяной корочкой, капель утихает. Небо, ясное и высокое, подмигивает далекими светофорами, словно манит в свою глубину неизвестных будущих космонавтов. Не знаю, почему, мне становится грустно. Вдруг хочется уехать куда-нибудь, на поезде, который неизвестно куда идет и неизвестно где остановится…
— Осторожно! — дергает меня Кореш за рукав, потому что мимо нас проносится машина. — А ну, смотри, что там?
Мы переходим бульвар Георгия Киркова у площади Возрождения. Впереди, шагах в двадцати, следом за женщиной в белых сапожках идут двое и перебрасываются замечаниями. На одном теплая красная куртка и джинсы, другой — наряжен как манекен с витрины: элегантное короткое пальто, начищенные до блеска ботинки, мягкая шляпа. Женщина ступает на тротуар, оборачивается и что-то сердито говорит, потом ускоряет шаг, но и те двое тоже ускоряют шаги. Женщина оглядывается. Кореш смотрит на меня и прибавляет ходу.
Развязка наступает неожиданно. Милиционера вблизи не видно, и женщина пытается убежать, но тот, что в шляпе, подставляет ей ножку. Она спотыкается, он подхватывает ее, чтобы не упала, — знакомый хулиганский номер, — и получает по морде. Парень на минуту обалдевает, потом приходит в ярость. Скверно выругавшись, ударяет женщину коленом в поясницу. Она падает на колени. В ту же минуту шляпа летит в сторону, а рядом с ней падает он сам. Вмешался Кореш.
Все происходит так быстро, что второй, в джинсах, не успевает опомниться. А когда приходит в себя, я стою между ним и Корешем, на которого он хочет броситься. Он отпрыгивает, сует руку под куртку и вытаскивает что-то блестящее, — наверное, нож, — заносит руку назад. Но не двигается, только смотрит на меня, будто проглотить хочет. Я подавляю страх и делаю шаг к нему. Он отступает.
Кореш уже помог женщине подняться. Она хнычет, вокруг останавливаются трое-четверо прохожих. Но не подходят, наблюдают со стороны. Один из них все видел и советует нам отвести хулиганов в милицию. Но сам он тоже не подходит. Тот, что упал, поднимается и, слегка покачиваясь, ищет шляпу. Все происходит в молчании, как в немом кино, пока Кореш не переносит свое внимание на типа в джинсах.
— Что прячешь за спиной, приятель? — спрашивает он тихо и делает шаг вперед. — Не надейся, не поможет. Если я тебе врежу, то уж как следует. Потому давай, мне из-за тебя в тюрьму идти неохота. А ну, исчезайте!
Кореш говорит тихо, — значит, взбесился не на шутку. Оба героя переглядываются и, будто сговорившись, отправляются на противоположный тротуар. Тот, что в пальто, отряхивает полы, потом шляпу и еще раз оборачивается, не замедляя шага. Оба исчезают по направлению к улице Жданова. Теперь у прохожих развязываются языки. Спрашивают, что случилось, но ни Кореш, ни женщина не отвечают. Женщина оплакивает чулки, — порвались на коленях, — объясняет, что работает в магазине на улице Алабина, что задержалась, потому что было много работы, и что когда она во вторую смену, муж приходит за ней, а вот сегодня… Молодая женщина, хорошенькая. Пальто с блестящим меховым воротником и модная шапочка — совсем не похожа на продавщицу. Мужчины вокруг исполнены сочувствия. Один даже сердится на нас за то, что мы упустили хулиганов. Кореш смотрит на него исподлобья и обращается к женщине:
— Вам куда?
— Мне на Подуяне, я на третьем езжу.
— А зачем же пошли сюда, третий останавливается на Кировке… Ну, дело ваше. Хотите, проводим до остановки?
Женщина кивает и благодарит.
Провожаем ее до остановки. Ждем, пока придет трамвай. Она возмущена, говорит, не умолкая, за пять минут мы узнаем чуть ли не всю ее биографию, но что-то она мне несимпатична. Мне все кажется, что она сама дала повод для приставаний. Спрашиваю, не видела ли она их раньше, может быть, знает их?
— Мы как раз закрывали магазин, они вошли купить сигареты. А потом, смотрю, идут следом. Страшно испугалась…
Она кокетливо поправляет шапочку. Ее улыбка — смущенная и слишком беспомощная; что-то не видно, чтобы она так уж испугалась. Беспокоят ее главным образом порванные чулки.
Мы ждем, пока она сядет в трамвай, и отправляемся своей дорогой. В ушах еще звучат слова преувеличенной благодарности, и я непонятно почему чувствую себя обманутым. Правда, этому типу в шляпе она влепила всерьез, но, кажется, потому, что не ожидала такой грубости. А мы с Корешем могли ввязаться в такую историю, что…
Говорю об этом Корешу, он пожимает плечами:
— Да хоть бы и так, ладно… Не могу видеть таких гадов.
— Ты понял, кто они?
— Во всяком случае, не из тех, кто вкалывает. У него, которого я стукнул, два кольца на пальце… Ночные пташки.
Выходим на бульвар Сливницы и оттуда через канал, снова на Ботева. По железному мосту с тяжелыми дугообразными фермами грохочет трамвай. Светофоры одиноко мигают редким запоздалым грузовикам. Напротив — темные окна больницы, светится только вход в кабинеты дежурных… Думаю, что за люди эти ночные пташки и как бы я поступил, если бы Кореша со мной не было? Наверное, начал бы их вразумлять, и они спокойно избили бы меня. Не то, что я человек смирный. — когда меня ударят, я тоже могу врезать, — но первый ударить не могу. Никогда не случалось.
4
На вокзале шумно, отправляются последние вечерние поезда. Шефа в экспедиции нет. Заглядываем в его комнатушку на верхнем этаже. Он сидит за старым письменным столом, ест яблоко и читает газету «Спорт». Круглая стриженая голова блестит под светом лампочки. Увидев нас, он ухмыляется, даже кожа на голове ползет назад:
— Что-то вы рано… Прошло похмелье, Николай?
Он — единственный у нас, кто иногда называет Кореша по имени. Кореш бормочет:
— Мать заболела, потому и не пришел.
— Это ты мне рассказываешь? — подмигнул Шеф. — Ничего, сейчас разомнешься. А я посижу, почитаю газетку.
— Можно, — великодушно говорит Кореш. — Задницу отсидишь от чтения… Шатун пришел?
— Здесь. Пошел в буфет.
Мы решаем тоже отправиться в буфет, газеты начнут подходить только через час.
— Но по-умному, — говорит Шеф. — Чтобы мне потом вас не искать.
В буфете мы находим Шатуна. Его худое лицо зелено в тон ватнику. Здесь же и Ненов, заместитель Шефа, за тем же столом. Расстегнул пальто, с вечным красным шерстяным шарфом на шее. Он ест — жует котлеты и глотает пиво. Перед Шатуном — рюмка виноградной, для отрезвления, как сообщает он не без гордости. И ему вчера вечером пришлось тяжко. Глаза покраснели и припухли, потеряли свою мышиную прыткость, телогрейка молодечески распахнута, видна хилая грудь. Но вообще-то он жилистый, как стальная проволока. Едва дождавшись, пока мы сядем, он начинает рассказывать свои приключения.
— Ух, и здорово было! Ходили в «Горублянско ханче» с одними чувихами… нечего говорить! Пили, дрались, блевали… Экстра! Потом пошли к одному приятелю, и до утра.
Шатун победоносно ухмыляется. На голове у него, там, где начинаются лохматые цыганские волосы, и вправду торчит здоровая синяя шишка. Руки ободраны, будто дрался с десятком котов. Но насчет «чувих» наверняка врет. Самое вероятное, как замечает Кореш, играл в кости и его обчистили.
— Честное слово, с девчонками были! — клянется Шатун. — Ты, Кореш, как время провел?
Кореш не удостаивает его ответом. Его больше занимает помшефа Ненов, который молчаливо доедает свои котлеты.
— Ненов, что-то ты сегодня разошелся. У тебя, случайно, не наследник родился?
— А что? — подозрительно смотрит тот на него.
— Да вот, смотрю, деньги на ветер бросаешь. Котлеты, пиво… Не угостишь?
Уязвимое место Ненова — скаредничество, и мы с Шатуном не можем удержаться от улыбок. Ненов не принимает шутки:
— Ты будешь зарплату пропивать, а я тебя угощать. Нашел дураков.
Его лицо вытягивается и принимает недоступное выражение. Знает, что все его считают скрягой, и это его не беспокоит, но если скажут — злится. Зря он связался работать с грузчиками, дали бы ему канцелярию какую-нибудь — цены бы ему не было, так он любит порядок и тихих людей. А впрочем, мужик ничего. На работе старается, собирает деньги на «запорожец» и поэтому страшно боится каждый месяц, как бы не уплыла премия. У Шефа — «москвич», у него будет «запорожец», это тоже в порядке вещей. И купит, потому что жена его тоже работает, а детей у них нет. Шеф, который вообще-то не любит сплетничать, однажды обмолвился, что из-за машины они едят кастрюлю фасоли по три дня.
— Курочка по зернышку клюет, а, Ненов? — посмеивается Кореш. — Не получится из тебя большой начальник.
— Ты на себя лучше посмотри, что из тебя получится.
— Как что… На что гожусь, таким и остался. Работяга, вкалываю. Плохо, что ли? Что выбиваю — проживаю, не хватит — у Пешо займу. — Кореш подмигивает мне. — А у тебя от экономии и переживаний душа стала со стотинку.
Бесцветное лицо Ненова становится кирпичным. Он закутывает шею шарфом, застегивает пальто, встает. Глаза его презрительно суживаются:
— С таким умом, батенька, далеко не уйдешь… Я, может, и не стану большим начальником, а вот ты всю жизнь будешь болтаться по вокзалам. Такие, как ты…
— Какие такие, как я, Ненов?
Голос у Кореша сразу становится тихим, улыбка — кроткой. Я посматриваю на него с тревогой. Кладу руку ему на плечо, но он снимает ее и так же кротко повторяет:
— Какие такие, Ненов?
— Сам знаешь, какие, — бросает Ненов через плечо и уходит.
Я удерживаю Кореша на стуле. Он весь как-то обмякает, но не спускает глаз со спины Ненова, который исчезает в зале ожидания.
— Эй, вы чего? — Шатун с недоумением смотрит то вслед Ненову, то на Кореша. — Обидел он тебя чем, Кореш?
Кореш молчит и только скулы на его лице подрагивают. Подзывает официанта и заказывает большую рюмку виноградной.
— Слушай, — говорю я, — не пей сейчас.
— Не лезь, Пешо.
Шатун открывает рот, чтобы что-то сказать, но Кореш так на него взглядывает, что он тоже испаряется.
Я не обижаюсь на Кореша, мне просто горько за него. Интересно, откуда Ненов узнал об этой старой истории? Кореш ее не скрывает, но и не любит, чтобы ему кололи глаза.
Он закуривает и щелчком среднего пальца отшвыривает спичку.
— Намну я ему шляпу как-нибудь, этому…
— Без глупостей, Кореш, не обращай внимания. Может, он и не об этом говорил.
— Знаю я, — говорит Кореш, глядя прямо перед собой. В глазах у него — собачья тоска. — Всегда найдется какой-нибудь, чтобы колоть глаза… Но шляпу я ему намну.
Не знаю, что ему ответить. Но рассказал мне эту историю еще в казарме. Я его ни о чем не спрашивал, — просто мы сидели однажды на плацу, лейтенант разрешил отдохнуть, а Кореш был что-то кислый и сам мне все рассказал. Ему было пятнадцать лет, попал в приятели к двум «корешам» постарше, людям опытным, и однажды они его поддразнили: слабо стащить помидор из-под носа у продавщицы! Все было в шутку, и помидор он стащил. Потом, когда понял, что шутка кончилась и испугался, те стали смеяться над его страхом, и риск показался ему заманчивым. Пошли «работать» по прилавкам больших магазинов. Попробовали обворовать киоск с сигаретами и галантереей, их поймали. На суде кореши все валили на него — он был младше всех и попался в первый раз, — и он взял вину на себя. Суд, конечно, не поверил. Тех двоих осудили, а Николай просидел несколько месяцев в колонии для малолетних. Вышел, начал работать по стройкам, — от старых шуток осталось только прозвище «Кореш». «Потом, когда пришло время в армию идти, из-за этого дела хотели меня записать в трудовые войска. Если бы не мать, застрелился бы. Она ходила просить в военкомат, носила удостоверение, что отец был инвалидом Отечественной войны…»
В армии он был отличным солдатом, страшно дисциплинированным. Приняли его в комсомол. Старшина Караиванов очень его любил, и когда нас произвели в младшие сержанты, разрешал ему самостоятельно обучать новичков строю и стрельбе.
Официант приносит рюмку виноградной, Кореш тянется к ней, я накрываю ее рукой.
— Кореш, если ты мне друг, не пей.
Он минуту смотрит на меня, потом почесывает свой длинный нос и встает. Оставляет на столе мелочь, и мы вдвоем идем к экспедиции.
Кореш за доброе слово душу отдаст.
Я не заметил, как пришел май. Дней никогда не считаю, дат не помню, если, конечно, не случается что-нибудь выдающееся. Но ничего выдающегося не происходит и время у меня просто летит в никуда, часы бесследно тонут, как камешки в глубокой воде. Помню только дни рождения родителей и Димы, потому что они обижаются, если я забываю их поздравить. Это случилось раза два, когда я был маленький, и с тех пор, стоит начаться соответствующему месяцу, я начинаю испытывать неясное беспокойство, и это беспокойство каждый день растет, пока я не соображу, к чему бы это; тогда записываю дату на обложке блокнота для рисования и уверен, что не пропущу. Блокнот я открываю каждый день.
На этот раз я послал Диме открытку на целую неделю раньше. Если придет на день-два быстрее, чем нужно, не беда. Мама была очень довольна и от себя написала в моей открытке несколько строк, отец тоже подписался, и вообще я почувствовал себя образцовым братиком из назидательного рассказа для детей. Даже рубашку сменил до того, как воротник почернеет.
В остальном ничего особенного. Идут дожди, как всегда в это время года в Софии. Теплые, проливные дожди каждый день после обеда, как по расписанию. Прогремит, заплещет крупный светлый дождь, зашумит по водосточными трубам, побежит по улицам быстрыми мутными ручьями и через час-полтора уходит куда-то, и раскаты затихают. Потом облака медленно расходятся, небо начинает сверкать, как чисто вымытое окно, и в комнату врывается запах влаги, лип и бензина. Я его чувствую даже во сне.
Но по утрам погода ясная, и не подозреваешь, что будет дождь. Когда возвращаюсь с работы, чувствую себя будто в прохладной ванне. Солнце бьет в глаза, клонит в сон, но домой идти неохота. Часто хожу в кафе у театра. Здесь вынесли столики на тротуар, желтые бруски маленькой площади смеются, напротив зеленеют старые деревья сквера. Сажусь за столик, выпиваю кофе, с удовольствием выкуриваю сигарету. По площади проходят женщины в цветных платьях и мужчины в белых рубашках. Девушки пестрые и легкие, как стрекозы. И страшно красивые. Все вдруг стали страшно красивыми. Сижу, смотрю, думаю про всякую всячину и ничего не хочется делать — как будто и небо, и земля несутся куда-то и я несусь вместе с ними и не могу остановиться. Даже голова кружится… Потом иду домой, обедаю и ложусь спать — как раз вовремя, потому что за окном облака уже опускают серые шторы и первые крупные капли стучат по карнизу. Потом встречаюсь с Зоркой, мы идем гулять и целуемся. Или не встречаемся, и я гуляю один. Или карябаю в блокноте. Потом иду на работу.
Так проходят дни, все нормально. Но не совсем. Меня что-то гложет, чего-то мне не хватает. Может быть, потому, что все нормально. Ночью, когда я бросаю пакеты на вокзале, ни о чем не думаю, — там Кореш, батя Апостол, Шеф, Шатун и Студент (он ходит на работу, хотя имеет право на отпуск, потому что в июне у него экзамены). Работы в последние дни больше, и Ненов сагитировал его помочь бригаде. Все, как можем, нажимаем на педали. Но не вешаем носа, смеемся, иногда боремся. Шатун со своим хвастовством про «чувих» — постоянная и терпеливая мишень для шуток, батя Апостол смеется и называет нас «бычками». Случается, и ссоримся из-за глупостей, но это быстро проходит. Недавно Шатун стащил у Студента зажигалку, а тот припер его к стене и отнял ее. Батя Апостол, как увидел, что Шатун сильно расстроился, дал ему свою зажигалку, которую собственноручно сделал из патрона, и Шатун расцвел от счастья: такие зажигалки «никогда не отказывают»… Вообще ночью весело, и я не замечаю, как летят часы.
Но по утрам, когда возвращаюсь домой, случается, что вот иду по улице и вдруг останавливаюсь, не зная почему. Просто останавливаюсь и оглядываюсь, будто кто-то крикнул: «Эй, парень, ты куда?» И я сам вдруг спрашиваю себя: «Куда?» — и покрываюсь потом. И представляю себе ровное серое поле, раскаленное от солнца, конца ему не видно. Поле без травы и дорог, и я не знаю, куда идти. И сердце начинает биться все от того же желания уехать куда-нибудь подальше. Куда-нибудь, где небо не синее, а, скажем, красное или лимонно-желтое, и деревья растут вверх ногами, а люди ходят на руках и вообще каждый день происходит что-нибудь интересное.
Глупости, конечно. Но думаю, что и правда мог бы куда-нибудь уехать. В Танганьику или Перу. Или во Вьетнам. Лучше всего во Вьетнам, но добровольцев не берут. Я неплохой солдат, только не могу стрелять по подвижным мишеням. Но в конце концов можно научиться. Там дерутся за свободу уже двадцать лет, и я ненавижу высоких солдат с засученными рукавами в ботинках на толстой подошве, которые топчут рисовые поля и стреляют в хозяев этой земли. Что им там надо? Кто дал им право лезть в чужую жизнь? Разве не имеет права каждый народ сам решать свою судьбу? Если поехать во Вьетнам, там можно сделать что-то стоящее.
Такие вещи приходят мне на ум, когда я по утрам иду с работы и спрашиваю себя, что же будет дальше. Я хочу сказать, что будет со мной. Не так уж важно, буду ли бросать пакеты или пойду на завод, или поступлю в машиностроительный, как хочет отец. У нас каждый может заработать на жизнь, если не лень. Но мне нужно что-то еще, а я не знаю, что, — это и есть самое плохое. Когда на меня находит такое настроение, небо вдруг опускается, темнеет, и я чувствую себя робко и неуверенно. И вспоминаю одни неприятности, например, ту историю с сигаретой в школе и руку учителя физики Ставрева, которая держит меня выше локтя, и то, что было потом.
Без глупостей, младший сержант Клисуров. Без номеров, как говаривал старшина Караиванов, когда мы шли стрелять по подвижным мишеням. Левое плечо вперед, и шагай спать.
А может быть, этим настроением я обязан встрече с Таней.
Ничего особенного не произошло. Человек всегда может встретить на улице знакомого и вспомнить разные вещи, которые он забыл или не хочет вспоминать. Но дело в том, что я в последнее время и так запутался, а как приключится еще и такое, совсем схожу с рельс.
Я встретил Таню два дня назад перед магазином «Тексим» на бульваре Стамболийского, где продают разные импортные чудеса. Было около девяти утра. Я сошел на площади Ленина и направлялся к «щегловому» кафе, а у магазина стояла кучка женщин и девушек, ждали открытия. Я узнал ее, когда был всего в двух-трех шагах, и остановился — вернуться или перейти на другую сторону? — но она обернулась и увидела меня.
— О, Петьо!
Выглядела слегка удивленной, не больше, чем нужно. Подала руку, как ни в чем не бывало… А у меня сердце словно поднялось в голову и билось там, как сумасшедшее, но я не подал вида. В сущности, волноваться не было причин. Просто я очень давно ее не видел, и в голове билось прошлое двухлетней давности.
— Почему не заходишь? — сказала она, пока я стоял, как пень, и не мог выдавить ни слова. — Смотри, какой ты стал…
— Какой?
— Вырос. И такой… небритый. Наверное, после пьянки. Угадала?
Она сказала это с улыбкой и снисходительной укоризной. А я подумал, что с тех пор, как мы не виделись, речь ее стала богаче, и сама она тоже выросла.
— После пьянки, — говорю.
Я был в рубашке с короткими рукавами, небритый, невыспавшийся, — откуда еще, как не с пьянки?
— А я жду, когда откроют. Получили итальянские плащи… Хочешь, пойдем выпьем кофе?
— А плащи?
— Продавщица — моя знакомая, оставит.
Только этого не хватало — пить с ней кофе. Я пересчитал в уме свои деньги, потому что уже поистратился, а у отца стараюсь не просить, и повел ее в кафе на углу, где пьют стоя. Так встреча будет короче. Я заказал ей кофе, себе коньяк, она выразительно посмотрела на меня и понимающе кивнула. А я по утрам никогда не пью.
Мы стояли у высокого столика с никелированными ножками под углом друг к другу, и каждый пил свое. Когда Таня двумя пальцами поднимала чашку, я пользовался возможностью рассмотреть ее — просто так, из интереса. Я уже более или менее успокоился, да и коньяк ударил мне в голову, и мне было все равно, что она подумает… Таня ли это? Голубые брюки клеш, белая «водолазка» широковата, но все под ней можно угадать, начерненные ресницы, от которых ореховые глаза кажутся светлее. Прямые черные волосы — до плеч. А в последний раз, когда она приехала в казарму на свидание, они были подстрижены коротко и, стоило ей повернуть голову, летали веером. И ресницы не были накрашены. И лицо было другое, еще детское… А сейчас, кажется, только ямочка на подбородке осталась такая же.
Я спросил, ходит ли она в кафе у театра, она сказала, что нет.
— А ты ходишь?
— Ну да!
— Тогда с чего ты взял, что я должна ходить?
— Просто так…
Конечно, спросил я не просто так, потому что в это кафе ходили артисты и студенты ВИТИСа, а она училась в этом институте. Но именно поэтому я не мог ей сказать, что хожу туда, — кто знает, что она могла бы подумать. И вообще глупо было спрашивать, но она ничего не заметила и в свою очередь начала меня расспрашивать, и я отвечал:
— Угу… Да, осенью демобилизовался… Мама в порядке… От Димы есть письмо, посылает тебе привет… Нет, нигде не учусь.. Еще не знаю… Какой, правый? Наверное, от пьянки…
Последнее было сказано о моем правом глазе, очень покраснел, сказала Таня. Кто знает, почему, но мне доставляло удовольствие врать ей, — и про приветы от Димы, и про глаз, — и я чувствовал, что способен так ей врать до бесконечности. Впервые я узнал, какой я страшный врун. Коньяк ударил мне в голову, а она ничего не подозревала и смотрела на меня совсем серьезно. Потом сказала:
— Ты знаешь, я покончила с театроведением, перешла на актерское отделение. Сыграла в одной пьесе, и мне посоветовали перейти. И все три года зачитываются.
— Браво! Кто это тебе посоветовал, ассистент?
— Какой ассистент?
Должно быть, я здорово напился, раз брякнул насчет ассистента… Нет, опять вру. Я не был пьян, только в голове у меня было тепло и я был в таком состоянии, когда могу говорить все, что думаю. Но вовремя остановился. А с ее стороны было глупо спрашивать, какой ассистент, это она, должно быть, от неожиданности, потому что она не знала, что я знаю. В сущности, это не имело значения, я его не знал и он меня не интересовал, но ее лицемерие разозлило меня:
— Как какой… Ты же замуж выходишь за ассистента!
— Кто тебе наговорил такие глупости? — она смерила меня с головы до пят ледяным взглядом. — Выйду я замуж или нет — это мое личное дело.
— Извини, — сказал я спокойно, — я не предполагал, что тебе это неприятно.
Я улыбался и был страшно спокоен. Словно речь шла не о Тане, а о какой-то случайной знакомой. Просто невероятно спокоен. И сразу начал говорить о вчерашней пьянке — как я был в гостях у одной своей приятельницы, и как нас там собралось полно ребят и девчонок, и у моей приятельницы есть такие пластинки — весь Хампердинк и все итальянцы, и было так весело, что мы весь дом перевернули вверх дном, и сидели до утра, и потом пели на улице, так один милиционер чуть нас не арестовал. Я врал за трех цыган, а она вздернула носик, подрагивала темными бровями и вообще стала похожа на ту Таню, которую я знал в школьные годы. Но потом достала из сумки пачку «Стюардессы» и закурила, а я настолько обалдел, что забыл дать ей спичку. Не мог представить себе, что та Таня курит. Но эта здесь курила, и так, конечно, было лучше. Я, конечно, курил одну сигарету за другой и во рту у меня стало страшно горько.
— Мне надо идти, — сказала Таня, разглядывая свое лицо со всех сторон в зеркале на стене напротив. — Потом еще на лекции… А ты?
— Допью коньяк, — сказал я. — Передай привет вашим.
Не подала руки. Только кивнула и пошла, но у дверей обернулась:
— Звони… — И, поколебавшись: — На той неделе в четверг у меня день рождения. Буду рада, если придешь.
— Спасибо.
— Приводи и свою приятельницу.
Выжидательно посмотрела на меня — что я скажу? — но я ничего не сказал, и она ушла, развевая свой голубой клеш. Я увидел ее мельком через витрину. В этой белой водолазке она была похожа на оперетного курсанта морского училища. Была очень красива, и вообще во всей ее фигуре было что-то театрально-законченное и чужое.
Что ж, тем лучше. А про ее день рождения я знал, что в следующий четверг. Эту дату я помню, ее мне не надо записывать на блокноте для рисования. Но, конечно, не пойду. С какой стати?
Вообще майские дни идут, как запрограммированные, каждый день в один и тот же час одно и то же, даже дождь, и тот ни на минуту не запаздывает и не приходит раньше. И я точно знаю, что скажет мама, если я приду вовремя и если задержусь у Зорки, и как будет подлизываться Пух, чуть уловит запах мерлузы, которою я ему беру в рыбном магазине за несколько стотинок, и как взглянет на меня отец, если случайно застанет дома. Я чувствую себя, как волчок — нажмешь несколько раз на ручку, и он застывает на месте, крутясь со страшной скоростью, вертится, поет и, кажется, никогда не остановится.
Только я — волчок, плохо центрованный. Не знаю, известно ли вам, что означает, когда центровано плохо. В таких случаях ритм начинает хромать, появляются вибрации, — если у вас есть слух, вы сразу сумеете это уловить и остановите его, потому что такие системы быстро снашиваются… Как бы там ни было, чувствовать себя расцентрованным неприятно.
Утешает, что и другие расцентрованы, как и я. На пример, Кирилл и его приятели. Сегодня к вечеру Кирилл неожиданно появился у нас и вытащил меня на улицу, прежде чем я успел как следует проснуться. Сказал, что зубрежка что-то не идет и хочет отложить два экзамена на осень. И вообще, если бы от него что-нибудь зависело, забросил бы он все эти глупости и пошел бы в какое-нибудь спортивное общество, в волейбольную команду. Я спросил, что случилось. Он сказал, что ничего не случилось, но что ему надоело так жить и слушать советы разных умников, как надо поступать.
— Не обижайся, — сказал я. — И мое положение не лучше. Даже сестра заботится о моем будущем и дает советы. Из самой Польши.
Он усмехнулся, пригладил бакенбарды и предложил пойти в кафе у театра.
— Опять туда?
— А куда еще? Все наши только туда и ходят, ничего не поделаешь.
И мы потащились в кафе. Бакенбарды совсем не идут Кириллу, только портят его красивое лицо. Я ничего ему не сказал, чтобы не обидеть, но никак не люблю типов с бакенбардами. Наверное, они хотят выглядеть красивее, а получается что-то грубое, обезьянье в выражении лица и все кажется, что им хочется испугать кого-то, кого они сами боятся. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Каждый имеет право распоряжаться собой, как хочет…
Кирилл развивал передо мной идею о волейбольной команде:
— Неужели хуже, чем быть поэтом или учителишкой по литературе? Если попадешь в первоклассную команду, в национальную, скажем, так что? Зарплата — зарплатой, два три раза в год поездки за границу, и голову ломать не надо… А перестарком станешь — спортивный деятель. Или тренер, или судья, что-нибудь такое. По крайней мере, мир увидишь.
— Подожди, ты же в поэты собирался?
— Собирался… А если ничего не выйдет? Весь вопрос в том, как котироваться, дорогой мой. Я в этих делах не специалист.
— В каких делах?
Он только пожал плечами и умолк, а я опять подумал, что дело не в профессии, а в чем-то другом. Но в чем?
В кафе Кирилл совсем расстроился. Мы застали там Здравкова и Невяну. С ними сидел молодой человек с маленькой арабской бородкой, в которую мягко вливались тонкие усики. Его черные глаза смотрели прямо в глаза собеседника. В этом было что-то неприятное, приходилось неизвестно зачем выдерживать его взгляд. Под глазами у него были темные мешки, словно он явился из пивной, где провел целые сутки. И его одежда — короткий пиджак из плащевого материала — давно потеряла свежесть и создавала то же впечатление.
Из-за этого человека, не понял, кто он, только фамилию узнал — Даракчиев, потому что он произнес ее резко и ясно, — из-за него я проторчал в кафе два часа. Он подал мне руку, даже не привстав с места, по-свойски протянул два пальца Кириллу и вначале молчал и вообще вел себя так, будто сидел за столиком один. Выпил кофе, заказал вторую чашку, и в то же время ковырял ногти, чистил янтарный мундштук спичкой, крутил мизинцем в правом ухе, зевал, не прикрывая рта. Записал что-то на обратной стороне коробки с сигаретами и время от времени задумчиво вытягивал губы.
Я уже собирался уходить, потому что Кирилл, Невяна и Здравков начали бесконечный разговор о книгах и стихах, — можно ли согласиться, что Блок более велик, чем Есенин, и что сказал о поэзии Элиот, — когда этот самый Даракчиев пыхнул дымом через ноздри и произнес:
— Ну и что из этого?
Спор прервался на самой высокой ноте. Все трое посмотрели на Даракчиева — Невяна с любопытством и известной досадой, Кирилл — выжидательно, Здравков — со своей бледной снисходительной усмешкой.
— Ну и что из этого, спрашиваю я? — дребезжащим голосом повторил Даракчиев, поглаживая свою арабскую бородку. — Элиот, подумаешь! А сами не замечаете, что ваш ближний из-за нехватки денежных знаков пьет только кофе. Уже вторую чашку!
Он сморщился от отвращения, остальные рассмеялись. Кирилл подозвал официантку и заказал большую рюмку мастики[4]. Даракчиев уставился на него немигающими глазами:
— Вот хороший мальчик… Только зачем ты пишешь стихи? А? Мужик ростом в гору, вроде неглупый, а занимаешься пустяками.
— Дарак, будь учтив хотя бы, — засмеялась Невяна. — Тебя угощают, а ты?
— Ну, да, экономическая зависимость. Умолкаю.
— Да нет, ты лучше развей свою высокую мысль, — насмешливо произнес Здравков. — Тебе не нравятся стихи Кирилла?
— Почему не нравятся? Сейчас каждый средне интеллигентный человек может писать вполне сносные стихи. Почти оригинальные.
— А что ты думаешь о его стихах?
— Ничего не думаю. Не читал.
— Тогда зачем открываешь рот?
— Ничего ты не понимаешь, — Даракчиев махнул на известного критика рукой, словно отгоняя муху. — Кики, ты извини, я говорю в принципе. Чтобы написать интересные стихи, надо много пережить, надо много страдать, а что пережил ты? Или — хотеть чего-нибудь, да так хотеть, чтобы у тебя даже кости трещали от страсти. Чтобы хотелось зверем выть от желания.
— И по какому поводу я должен выть?
— Откуда я знаю… Скажем, любовь, революция… Или какая-нибудь новая религия с пятью-шестью райскими небесами на том свете в качестве компенсации за земные муки. Но чтобы в твоих стихах были кровь и огонь, дикая тоска, бешеная радость. Чтобы у человека, который прочтет твои стихи, дух захватило, и тоже завыл.
— Трепотня, — засмеялся Кирилл, — не верю. А каково твое собственное огненное желание?
— Мастика, — ответил Даракчиев, с интересом рассматривая кристаллики в рюмке. — И зажигает, как огонь, и гасит огненные желания… Кроме того, я не пишу стихов.
— А я пишу.
— Ну-ну… А зачем? Все уже написано, милый мой, а мы все повторяемся, все кудахтаем. Поэт должен быть чудом, героем, мучеником, олимпийцем, каждым стихом он должен стрелять или с каждым стихом умирать во имя чего-то, а мы — просто прилежные мальчики примерного поведения.
— Амииинь! — пропел Здравков. — И что же, по-твоему, остается делать хорошим мальчикам?
— Сидеть и не рыпаться. Идите в юристы, в физики, можно и в продавцы овощами торговать, это честнее. А лучше — вообще никуда.
— Дарак, хватит тебе каркать, — сердито говорит Невяна. — Тебя послушать — утопиться можно. Что ты вообще-то признаешь?
— Себя. И еще кое-что, о чем ты и представления не имеешь.
— Подумаешь, какой важный.
Тот насмешливо глянул на нее и отпил половину рюмки. Кирилл нервничал, но молчал и курил сигарету за сигаретой. Я чувствовал себя телком, перед которым положили ноты. Только Здравков казался неуязвимым. Посасывал, не торопясь, лимонад через соломинку и время от времени принимался рассматривать ее как какое-нибудь чудо техники. Потом небрежно сказал:
— Советы твои, Дарак, не так уж глупы. Одно плохо: они ничего не дают. Ты сам им не следуешь.
— Ты это о чем?
— Сам ты пишешь.
— А, это другое дело, — Даракчиев махнул рукой. — Я по крайней мере не корчу из себя писателя, милый мой. Пишу рекламные рассказики о наших курортах, привлекаю зарубежных туристов. Значит, приношу пользу отечеству по валютному вопросу… А вы? Воображаете, что делаете литературу тем, что в ямбах и хореях сообщаете публике, как любите маму, папу и старый дом, и как храбро умирали партизаны, у которых вы и портянок не нюхали. Или открываете тайны бытия в глазах любимой. Ужасно занимательно!
— Упрощаешь, Дарак.
— И пускай. Большой литературе нужны прежде всего личности, биографии. Или сверхталант, который с одного взгляда проникает в сущность вещей, поскольку у него для этого имеется особый инструмент… А мы сидим тут, чешем языки и черпаем вдохновение в своей, между нами говоря, неоправданной самоуверенности. — Даракчиев внезапно замолчал и, уставившись Кириллу в глаза, медленно улыбнулся. — Кирилл, я ведь говорю так потому, что я тебе друг.
— Благодарю, — поклонился Кирилл с кислой улыбкой.
— Не за что. В отличие от Здравкова, я тебе добра желаю.
— Ну, хватит, — со скукой сказал Здравков. — Понятно. У тебя самого неоправданная самоуверенность, и язык ты чешешь больше всех.
Даракчиев, нагнувшись над рюмкой, помолчал и вздохнул:
— Пожалуй, ты прав. Это все мастика… Но ведь надо же как-то время проводить? Но ты прав: если бы я знал чего хочу, не говорил бы столько.
Он занялся своей сигаретой и больше не сказал ни слова. Кирилл молчал. Всего час назад он сомневался в смысле того, чем занимается, был недоволен жизнью, а теперь, когда Даракчиев сказал ему приблизительно то же самое, выглядел несчастным. О чем, в сущности, велись разговоры и чего хотели эти люди? Они и сами не знали, что, это как будто сближало меня с ними. Этот самый Даракчиев как бритвой бреет и глазом не моргнет. Только для чего? Какой от этого толк? Если все так, как он говорит, пожалуй, и правда лучше идти в спортсмены. Или кидать пакеты на вокзале.
Невяна мне улыбалась. Она перегнулась через стол и начала расспрашивать о работе: что у нас за люди, да кто начальник, да как отправляют газеты. О чем еще со мной разговаривать? Я вдруг почувствовал под столом ее ногу. Глаза ее, слегка тронутые синим гримом, казались огромными и чуть сумасшедшими. От коньяка, конечно. Я отодвинулся, но ее нога снова нашла мою. Я встал и пошел к буфету за сигаретами, а вернувшись, отодвинул стул и попытался завязать разговор с Даракчиевым, который сидел с другой стороны. Я просто не знал, куда деваться, потому что Невяна продолжала смотреть на меня в упор. Кирилл заметил это и ухмыльнулся:
— Петьо, не смущайся. Невяна считает, что все мужчины должны быть у ее ног. Но без иллюзий, любит она только меня.
— Дурачок! — Невяна хлопнула его по губам и поцеловала в щеку. — Откуда ты взял, что только тебя? А что, если твой приятель мне нравится?
Здравков сморщил белесое личико, словно собирался рассмеяться. Даракчиев смотрел прямо перед собой с полным безразличием и как-то странно вздохнул. Мимо нас прошла тоненькая официантка, та, которая раньше напоминала мне Таню — с соседнего столика кто-то окликнул ее по имени, что-то сказал. Она засмеялась. Видно, уже не бегает жаловаться женщине за стойкой.
Я оставил на столе стотинки за кофе и ушел. Я не привык к таким шуткам, пускай шутят с другими. И эта Невяна — что она за человек? И почему Кирилл с ней связался?
Я шел по улице Левского. Город был вымыт дождем, в окнах верхних этажей догорал закат. На душе у меня было смутно, я на всех злился. Даже на тоненькую официантку. Черт бы ее взял, всего несколько недель назад она плакала, когда к ней приставали, а сейчас улыбается. Будь она моя сестра, я бы ее непременно отколотил и запер дома на три дня на хлебе и воде… И вообще ноги моей в этом кафе больше не будет.
Вот такая чепуха вертелась у меня в голове. Я остановился на площади Славейкова, ждал, пока пройдет трамвай. Трамвай прошел, а я все стоял на краю тротуара Я уже ни о чем не думал, но дышать было трудно. Даже бросил сигарету. Вокруг меня было то самое ровное серое поле, без единой травки, накаленное солнцем, без конца и без дорог: куда ни глянь, все то же. Может быть, поэтому я и стоял на краю тротуара и тупо смотрел, как проходят люди, как исчезают в булочной и снова появляются в ее дверях. Напротив перед кинотеатром толпились девушки и ребята глазели на кадры какого-то фильма.
Кто-то подтолкнул меня. Я вздрогнул.
— Испугались?
Невяна. Она стояла рядом, засунув руки в карманы, и смотрела на меня снизу вверх все такими же расширенными сумасшедшими глазами. В черной рамке волос ее лицо казалось неоконченным наброском: лицо без лба, без щек, только нос, глаза и губы, тонкие подвижные губы, блестящие, — наверное, она их часто облизывает. И черное пальто жатого лака тоже блестело, как мокрое.
— Испугался? Чего?
— Меня. Когда мне кто-нибудь нравится, я становлюсь нахальной. Ну?
Я не понял, что ей хотелось услышать в ответ, и пробормотал:
— Не очень смешно вы шутите.
— Спасибо. — Она рассмеялась, показав мелкие белые зубы. — Но мне действительно нравятся такие лица.
— Какие?
— Неправильные. Как ваше. Нестандартные…. А этот шрам на подбородке, откуда он у вас, случайно, не от дуэли?
— Да, от дуэли — дрался с каменной лестницей.
— Жалко. А я-то думала, что вы дрались на рапирах, или как они там называются. А, может, получили удар ножом из-за девушки? Вам куда?
Я ответил. Она сказала, что и ей в ту же сторону и что я мог бы проводить ее до дома. Она подхватила меня под руку, мы перешли площадь и отправились по улице Васила Коларова. Я чувствовал себя страшно глупо, но не мог отнять руку, чтобы ее не обидеть. Она сама меня отпустила.
— Курите, — сказала она, — я вижу, что вам хочется курить.
Мне и правда хотелось курить. Она от сигареты отказалась, — на улице на курит, — но если ничего не имею против, мы могли бы зайти к ней и выкурить по сигарете, живет она совсем рядом.
— И выпьем, есть виски. Шотландское… Хотите? Ведь правда, хотите? Сегодня я хочу пить.
Она настаивала, глядя мне в глаза, и я кивнул. Чтоб мне провалиться, если я знаю, почему не могу отказать, когда меня о чем-нибудь просят. Пальто или часы попросят, дам. И не потому, что я такой уж добрый, просто дурак.
Она жила на одной из улочек между бульварами Витоши и Ботева, названий которых я никак не могу запомнить. Парадное их дома открывалось ключом, лестница была широкая и сверкающая. Мы поднялись на третий этаж. В квартире пахло, как в музее или в старинном копривштенском доме, столько там было дерева по стенам и вдоль них. По крайней мере, в гостиной, куда мы вошли.
Невяна предложила мне сесть на диван, а сама исчезла. Я осмотрелся и подумал: что-то сказал бы Кореш, если бы попал сюда! Эта гостиная была в два раза больше нашей, мебель — темно-красная, в тон деревянной облицовке стен. Огромный бар с бесчисленными дверцами занимал почти всю стену напротив. Над баром — две картины: пейзаж с красными деревьями и лиловым небом и обнаженная фигура на охряном фоне, плоская и бесплотная, как тень. В углу, рядом с раздвигающейся дверью, большой проигрыватель с пластинками. Прямо на полу, в противоположных углах — две огромные керамические вазы без цветов, кресла, на которых можно вытянуться во весь рост, большой стол, маленький столик, пуфы, статуэтки черного дерева на камине, — вообще место, где дают приемы и ведут роскошную жизнь. Я никогда не бывал в таком доме.
Невяна вернулась в широком халате, с короткими, расширяющимися книзу рукавами. Когда она поднимала руки, рукава соскальзывали до самых плеч. Она мягко ступала по пушистому ковру, в ее движениях было что-то новое, успокоенное, сумасшедший блеск в глазах исчез. Наверное, приняла холодный душ.
— Кофе сейчас будет готов… э-э-э… Петр. Вас ведь Петром звать?
— Да.
Она извлекла из бара красивую бутылку с белой лошадью на этикетке, две голубых рюмки и поставила их на столик.
— Придется пить чистым, сода у меня кончилась. Если хотите с водой?
— Нет, спасибо. — Я продолжал осматриваться. — А где работает ваш отец?
— Вы про обстановку? — она, улыбнувшись, придвинула к столику пуф. Задумчиво оправила полы халата. — Отец… не работает. Он умер два года назад. Был на ответственной работе в Министерстве внешней торговли, а до этого — торговым советником в разных странах… Чокнемся?
Виски было хорошим, я сразу согрелся и опять отхлебнул.
Отец изредка покупал виски, главным образом для доктора. И мне оно нравилось, может быть, потому, что доктор его любил… Невяна принесла кофе в красивых темно-зеленых керамических чашках и тарелочку с печеньем.
— Этим и закусим. Вы ведь не очень голодны. — На этот раз она села в кресло рядом и подобрала под себя ноги. С чашкой кофе в руке она походила на цыганочку, которая собирается гадать. Потом засмеялась. — А если и голодны, накормить мне вас все равно нечем — в холодильнике пусто. Вообще мы живем на мамину зарплату и мои очерки. Конечно, можно было бы сдать три комнаты квартирантам, стоят свободными, только мама боится, разнесут квартиру в пух и прах.
Я не понимал, зачем она мне все это рассказывает, но сейчас она мне нравилась больше, — гораздо больше, чем в кафе. Наверное, не очень-то весело жить только с матерью в такой огромной пустой квартире.
— Чьи это картины?
— Нравятся?
— Пейзаж.
— Это подарок отцу от одного художника. Отец был человеком с широкими интересами, жил с размахом. До его смерти у нас было много друзей… А обнаженную женщину он купил в Финляндии, очень давно. Не знаю, что он нашел в этой картине, но мама не дает ее снять, потому что он очень ее любил.
Она взяла в рот сигарету и посмотрела на меня. Я поднес ей зажигалку и закурил сам. Она пила кофе по-мужски, большими глотками, потом отпила виски. Оперлась локтем о колено, положила подбородок на кулачок и смотрит на меня.
— А вы?
— Что — я?
— Я наговорила вам целую кучу вещей, а вы молчите. Вы всегда такой?
— Не знаю.
— Почему вы пошли в грузчики?
— А вам зачем это, для очерка?
— Ясно, защищаться вы умеете. — Она улыбнулась и глазами указала на рюмку с виски. Мы оба отпили. — Просто мне хочется узнать что-нибудь о вас… О тебе. Можно так? Мы ведь уже старые знакомые, не будем обращать внимание на этикет. Хочешь? Ведь хочешь? Я уже кое-что знаю. Кирилл мне говорил, что ты бросил школу в десятом классе из-за какой-то истории с сигаретой. Это правда?
— Меня поймали, когда я курил в уборной.
— Боже, какой лаконизм. Мне это известно, но ведь ты сам ушел, тебя даже не собирались наказывать… Почему?
Виски было хорошим, и я допил свою рюмку. Она налила еще, улыбаясь и поглядывая на меня, потом налила и себе… Ей очень хотелось знать, почему я сбежал из школы, а я не любил об этом говорить. Да и говорить-то нечего — мне самому не особенно ясно, почему я тогда сбежал. Не мог я больше там оставаться, и все.
— Ладно, не говори, — сказала Невяна. — Извини, что спросила.
— Мне надо идти, — сказал я.
Она схватила меня за руку и досмотрела в лицо. Я сел на место, как ученик, получивший выговор. Мне здесь уже не было хорошо. Она упомянула Кирилла, и я подумал, что с моей стороны было свинством являться сюда. С Кириллом мы все же приятели.
Я уже почувствовал действие виски — в горле, и в голове, — и брякнул:
— А что бы сказал Кирилл, если бы увидел нас так?
— Как?
— Ну, вот так…
— Что ж, наверное, сел бы выпить с нами кофе. Он человек культурный… Она внезапно рассмеялась, громко и звонко. Словно в гостиной рассыпались стеклянные осколки. Уж не совесть ли тебя грызет? Ха-ха-ха!.. Успокойся, я не собираюсь выходить за Кирилла замуж. И он на мне жениться не собирается… Он уже культурный человек. К тому же я на пять лет старше его. Ты меня просто интересуешь, грузчик.
В глазах у нее появилась грусть, и я поспешно отпил большой глоток. Я что-то пробормотал, не помню толком что, в том смысле, что ничего интересного во мне нет и что лучше мне теперь идти.
— Вот видишь, какой ты интересный. — Она пересела ко мне на диван и положила руку на плечо. Пальцы у нее были сильные, так и впивались. — О-о-о, какие мускулы!
Она сунула руку мне под рубашку и начала гладить меня по груди. Я обнял ее и поцеловал. Она ослабла в моих руках. Какое-то время лежала с закрытыми глазами, волосы откинулись с лица, открылись ухо и высокий белый лоб. Я смотрел в это лицо девчонки и женщины, ощущал ее тело под широкой пестрой одеждой, но не испытывал никакого влечения. Мне казалось, что я люблю ее в эту минуту.
— Петьо, — тихо сказала она, не открывая глаз. — Петьо, ведь плохо быть одному… Про это там, в кафе, забудь, я никогда этого не делала. — Она взглянула на меня испуганно. — Почему люди словно глухонемые? Почему Кирилл глухонемой?.. Слушай, возьми меня в свою бригаду, а? Возьмешь?
Я засмеялся. Представил себе ее кидающей пакеты весом по тридцать килограммов каждый. И откуда она это придумала про глухонемых?
Она смотрела на меня снизу вверх расширенными зрачками — видимо, была совсем опьянела, она ведь и в кафе тоже пила.
— Невяна, ты не боишься, что твоя мать может войти?
— Не придет, она в гостях. Позвали бывшие завсегдатаи дома. Вспомнили… И меня, конечно, приглашали, но я не захотела. Зачем мне к ним ходить? Они выполняют свой долг по отношению к покойному, а я, значит, должна умирать от счастья по этому случаю? — Она помолчала, схватила меня за волосы и поцеловала. Потом вздохнула. — Мама считает меня дурочкой, и она права… Можешь мне сказать, почему в наше время не дерутся на дуэли? А, товарищ грузчик? Например, из-за девушки или из-за чего-нибудь еще… Знаешь, я бы каждый день вызывала кого-нибудь на дуэль. Я ведь смелая, верно? И совсем не боялась бы, если бы знала только, за что… Кирилл — еще мальчик. Но эти Здравков и Даракчиев… И все эти хорошие, умные люди, которые за неимением другого превозносят самих себя… Что-то делают, о чем-то говорят и сами же своим словам не верят. В душе у них ничегошеньки нет.
Она смотрела на меня, но, казалось, меня не видела и потому не ждала ответа. Говорила сама с собой. Трудно было следить за ее мыслью, — если в ее словах вообще была какая-то мысль. Мне стало как-то жаль ее… Да, и в самом деле, почему мы не деремся на дуэли? Тогда я в первую очередь вызвал бы на поединок моего бывшего учителя по физике. А может, инженера Цонкова? Выбрать противника было трудно, но мне казалось, что я ее понимаю.
Глаза ее были влажны, словно она собиралась заплакать. Но вместо этого она начала расстегиваться сверху донизу. Я остановил ее руку, но она оттолкнула меня и расстегнулась.
Сейчас я смотрю на нашу улицу, на дом напротив и спрашиваю себя: почему я хотел остановить ее руку? Не такой уж я целомудренный. В городке между Балканами и Мизией, где я служил, я однажды пошел с совсем незнакомой девчонкой. Я был один и шел по улочке вдоль реки. Пора было возвращаться в казарму, а она шла навстречу — в какой-то короткой блестящей юбке, открывавшей ноги аж до верха, и наши взгляды встретились. Я ничего не видел, кроме ее ног и глаз, но когда прошел мимо, остановился и обернулся. Она тоже остановилась. Мы вместе пошли к озеру — в городке было озеро, десять на пять метров, облицованное мрамором и с голым мальчиком посередине, — но мы, не сговариваясь, повернули к реке, где еще не расчистили от кустов участок под будущий парк. Мы не проговорили ни слова. Я даже ее лица не запомнил. Но мне было необыкновенно хорошо. Потом мне страшно повезло, что на посту стоял парень из нашего взвода. Это произошло несколько дней спустя после того, как я получил письмо Кирилла про Таню и ассистента.
Невяна уже не говорила. Я ласкал ее. Под широким халатом она была совсем девочкой, и грудь, у нее была девичья, и я целовал ее все сильнее. Но когда она начала кусаться, я встал. Может быть, потому, что мне стало больно. Но я почувствовал себя совсем скверно — будто кто-то заставлял меня насильно сделать то, чего я делать не хотел, и это унижало нас обоих.
Она вскочила, оправила халат, волосы.
— Я не нравлюсь тебе?
— Не в этом дело…
— А-а-а, ты у нас моральный. — Она смотрела на меня почти с сожалением. — У тебя есть девушка, да? Ведь есть да? Это хорошо, давай выпьем за нее.
Мы стоя допили рюмки. Она проводила меня до двери и на минуту задержала мою руку в своей.
— Если когда-нибудь станет скучно и некуда будет деться, приходи. Не бойся, целовать не буду… Вечером к девяти я всегда дома.
Я отправился домой, думая, что мне чего-то не хватает для того, чтобы быть мужчиной. Я часто жалею о том, что сделал, и о том, чего не сделал. В груди было холодно и пусто, и я спешил, будто кто гнался за мной по пятам.
Отец в этот вечер был в хорошем настроении. У завода появилась возможность наверстать отставание за первый квартал и перевыполнить план. Он шутил со мной и сам налил мне вина. Я смотрел, как он с аппетитом ест, крупный, сильный, в рубахе с засученными рукавами, как режет хлеб толстыми ломтями и со смехом просит маму положить еще, похваливая ее поварские таланты. И завидовал ему.
Я сижу в своей комнате у окна, чиркаю в блокноте. Рисую дом напротив, через улицу, и перебираю в уме эти две встречи, с Таней и с Невяной, и прихожу к выводу, что если бы не встретил накануне Таню, наверное, не пошел бы к Невяне домой и не держался бы так глупо. Черт знает почему, но это так. В сущности, Тане я благодарен, — она научила меня не творить себе кумиров и не принимать девушек всерьез. А что все-таки человек должен принимать всерьез?
Это мои лучшие часы — когда у меня свободны целые сутки, и я знаю, что на работу надо идти только на следующий вечер и можно чиркать в блокноте, здесь или в садике, где дед обсуждает с приятелями вопросы мировой политики, и думать о всякой всячине. Последнее воскресенье мая, а утро туманное. Туман легкий и белый, скоро он поднимется. Он частично закрывает нижние этажи дома напротив, и дом похож на гигантскую подводную лодку, которая всплывает в белых волнах. Антенны на его крыше — перископы. Левее просвечивают низкие желтые постройки на площади Бабы Недели и рядом с ними — зеленые бараки рынка.
Рисунок не получается, и кладу блокнот на стол. Дело не в том, чтобы добиться известного сходства с предметом, который видишь. Я всегда думал, что предметы — не только сочетание поверхностей, как и человек — не только тело. Во всем есть своя жизнь, свой характер, по крайней мере, они должны быть для тебя, и если не можешь их уловить, все остальное — без толку. Пух, который до сих пор внимательно следил за мной лежа на мягком одеяле, моментально понимает, что у меня неудача. Он покидает кровать, устраивается у меня на коленях и мурлычет от любви. Пытается вскарабкаться мне на грудь. Вот существо, с которым у меня нет недоразумений, кроме случаев, когда он пытается стащить что-нибудь со стола в кухне. Но стащить еду, когда ты голоден, не такое уж большое преступление.
— Пух, что будем делать?
Пух отвечает едва слышным «мяу». Это не ответ, и я собираюсь встать и поразмяться, когда за дверью раздается отцовский баритон:
— Петьо, ты здесь?
Пух сразу прыгает с моих колен, готовый скрыться под кроватью. Отец входит со сложенной газетой в руке, свежевыбритый, в старых брюках и пижамной куртке. В воскресенье он любит поспать подольше.
— Можно посидеть у тебя?
Садится у стола, который служит мне скорее библиотекой, заглядывает в открытую книгу, отодвигает блокнот. Потом вынимает сигареты, одну сует в рот, и протягивает пачку мне, — все это так медленное то мне заранее становится тошно. Я немного выпрямляюсь на стуле и шея у меня деревенеет от ожидания.
Ясно, предстоит серьезный разговор. Я это предчувствовал. В последние дни он держался со мной страшно внимательно, но я видел, как он на меня смотрел. Но и положение таково, что без разговора не обойдется. Вчера вечером я был уже совсем в этом уверен. Когда я вернулся домой, был слегка пьян от виски и от путаницы с этой Невяной, и он понял, что я пил. Ничего не сказал, только посматривал из-под тяжелых бровей и шутил, и шутил, и отправился спать в самом веселом настроении. Он умеет выжидать, это всегда производит на меня впечатление. Будь я на его месте, бухнул бы сразу, что у меня на уме, но он — нет. Никогда не нервничает, не позволяет себе взрываться. Только один раз он потерял самообладание, когда нашел меня после бегства из школы и назвал «лодырем». Очень он тогда испугался за меня, хотя казался спокойным.
Сейчас он тоже спокоен, и голос его звучит ровно и твердо:
— Ну, как идут дела, сынок?
— Хорошо.
— Хорошо? — Он глубоко затягивается, брови его приподнимаются, потом возвращаются на место. — Это ты называешь «хорошо»? Ну-ка, подумай немножко и тогда отвечай.
— Я думал.
То, как он со мной говорит, — мягко и великодушно, как с маленьким, — исключает возможность нормального разговора. Он сразу это чувствует:
— Не спеши обижаться. Ладно, может быть, ты и думал. Ты уже большой, имеешь право решать сам за себя. Но нам с твоей матерью не безразлично, как ты устроишь свою жизнь. Можно считать это базой для мужского разговора?
Я киваю, — что мне еще остается? К тому же это и вправду база. Мама каждый день тает возле меня, да и ему, наверное, уже невтерпеж мое молчание.
— В таком случае, скажи, по крайней мере, какие у тебя планы на будущее. Надо полагать, у тебя есть какие-то намерения…
Тон его все так же спокоен, но Пух потихоньку пятится и скрывается под кроватью. Если бы я мог, сделал бы то же самое, потому-что у меня нет никаких планов, даже самого крошечного планчика нет. Однако я сохраняю присутствие духа.
— Буду работать.
— Да? А именно? Грузчиком на вокзале? Или будешь таскать песок на стройках, как твой приятель?
Он смотрит на меня своими сильными большими глазами, а я молчу и думаю, но не высказываюсь, потому что это вызовет его раздражение. Думаю, что и песок таскать не так уж плохо. Кореш после истории с кражами два года ходил на заработки с одним мастером из Трына, и все равно настоящий мужик. Сначала он пытался филонить, но трынчанин не сердился и не ругался, только шлепал раствор на кирпичи и говорил: «Парень, ты хоть бы подушку себе подложил, задницу отсидишь». И Кореш научился работать, потому что мастер и не глядя видел все, что он делает…
Отец не ждет ответа:
— Я не говорю, что это плохо. Человек может зарабатывать себе на жизнь любым трудом, лишь бы труд был честный. — Он покашливает. Наверное, вспоминает свои взгляды на жизнь тех времен, когда он жил в квартале Ючбунар до войны. — Дело в другом. Ты парень не глупый и не бестолковый. Хорошо учился… когда хотел учиться. Математика тебе удавалась, машиноведение, по рисованию всегда был отличником. Почему ты отказываешься окончить школу, получить специальность? Что с тобой происходит?
— Ничего особенного, — говорю я. — Я подумал, время есть.
Я снова уклоняюсь от ответа, но так продолжаться не может. Пытаюсь придумать что-нибудь, что успокоило бы отца… И откуда мне знать, что со мной происходит? Просто нет у меня желания учиться, и вообще никаких особых желаний нет. В казарме я как-то успокоился и был уверен, что как только отслужу, тут же наброшусь на учебники, пройду, последний класс и потом буду поступать в машиностроительный. Но потом пришло письмо Кирилла, страшное дружеское письмо про Таню и ассистента из ВИТИСа, и я понял, почему Таня столько времени не писала. Ночью я плакал потихоньку, чтобы не услышали Кореш или дневальный, и тыкая носом в солдатскую подушку вспомнил лицо учителя Ставрева и лицо отца, когда он нашел меня после бегства из школы. А утром, на зарядке, решил, что не буду учиться и вообще ничто меня не интересует.
— Времени нет, — говорит отец, и его тяжелые брови сходятся на переносице. — Для тебя именно эти два-три года решают все. Или найдешь свое место в жизни, или пропадешь. Среднего пути нет, и ты должен это понять, пока не поздно.
Хорошо, я должен понять, решить. Откладывая выбор, я поступаю неправильно. Только почему он думает, что без высшего образования я обязательно пропаду?
Он объясняет, почему. Потому что я останусь человеком без корней, без собственной среды. С одной я порву, в другую, рабочую, вряд ли смогу войти с моей интеллигентностью и привычками, и повисну в воздухе, — ни рыба, ни рак, — а ничего хуже этого нет. Стану деклассированным человеком. Вот, я уже пить начал, это тоже не случайно, это первый тревожный признак. Пьянствуя, человек бежит от себя, от ответственности перед другими. Тонет, сам того не чувствуя. А сейчас решается мое будущее…
Я слушаю и молчу. Сам-то он оторвался от своей среды, из рабочего стал инженером, директором завода и не деклассировался… И что оно такое, будущее? Как человек приходит к нему, а когда придет — что дальше? Будущее становится настоящим и надо опять думать о будущем… Смешно! Вот, например, Шеф, добился своего будущего: жена, трое детей, приличная работа. Выше он едва ли пойдет, да и не собирается. И Шатун. Студент придет к своему будущему через несколько лет. Только помшефа Ненов никогда своего будущего не получит — все будет думать, что где-то что-то упустил и мог бы иметь больше. А чем он лучше других?
Неожиданно для себя брякаю насчет Вьетнама — если бы брали добровольцев. Глупо и бессмысленно, но я говорю, а отец смотрит испытующе и недоверчиво. Крупное лицо каменеет от усилия остаться спокойным, но его выдают глаза.
— Не говори глупостей. Лучше скажи, как думаешь жить. Почему не возьмешь себе в пример хотя бы сестру?
— Моя сестра — идеальная, а я нет.
Его лицо покрывается красными пятнами. Чувствую, что мое — тоже. Не выношу, когда мне тычут в нос пример своей сестры, потому что для меня она никакой не пример… Но уже жалею, что резко ответил.
— Извини, — говорю я, — но у меня нет таких способностей, как у Димы. И что я такого сделал, что ты считаешь меня пропащим? Я никому не принес вреда, никому не мешаю. Ничего мне не нужно, кроме рубашки и двух кормежек в день. Разве я не могу жить, как хочу?
Я произношу целую речь. Это случается так редко, что отец вначале ошеломлен и как будто не находит, что сказать. Закуривает третью сигарету, пускает дым в окно. Туман на улице поднялся. Здание, которое я не дорисовал, выплыло рельефно, окна искрятся на солнце, тень под высокой стрехой — совсем черная. Воздух легок, небо чисто, — наверное, дождя сегодня не будет.
Отец демонстративно вздыхает и какое-то время сверлит меня глазами.
— Видишь ли, Петьо, — говорит он. — Конечно, ты имеешь право жить, как находишь нужным… Но что это за разговор — рубашка и две кормежки? Это рассуждения хиппи, а мне в доме хиппи…
Он умолкает, но уже поздно.
— Ты хочешь, чтобы я ушел? — говорю я и смотрю ему в глаза.
— Не петушись, — поднимает руку отец, — я разозлился, не то сказал. Но и ты должен понять…
— Почему я хиппи? Ты когда-то жил в Ючбунаре и имел одну рубашку. Сам же рассказывал, как приходилось ждать, пока бабушка ее выстирает и высушит, чтобы можно было одеться. Так почему я хиппи?
— Ладно, не придирайся к словам. Дело не в рубашке, а в способе мышления. Когда-то!.. — Он улыбается, в первый раз за весь разговор. — Сейчас другие времена, сынок. Твое время, время твоей сестры, ваших ровесников. От вас зависит все, мы уже сходим с дорожки.
— Что от нас зависит?
— Зависит, как построите свою жизнь, что будет дальше. А с такими рассуждениями, как у тебя, далеко не уйдешь… Глупо тратить силы зря, когда они есть… Чего тебе не хватает? Немного воли. Что тебе мешает сесть за учебники вместо того, чтобы грузить вагоны? Ты можешь, если захочешь.
Он смотрит на меня с ожиданием и надеждой, и мне становится совестно. Мне даже немного жалко его — этого большого, сильного мужчину, который мне отец… Могу, если захочу… Что мне мешает, в самом деле? Что помешало Тане дождаться меня из армии? Что мешает Невяне выйти замуж и завести детей? Не хватает воли? Глупости! А может быть, и так, но только дело действительно не в рубашке, которую можешь иметь или не иметь. И даже не в квартире с баром во всю стену, не в виски, которое можно пить или не пить, и не в так называемом будущем, ради которого надо засесть за учебники. Я могу стать инженером или хирургом, или всерьез заняться рисованием, и все-таки ничего не добиться. А вот этого отец не может понять. Что ему ответить?
Меня спасает мама, которая возвращается домой, — наверное, из магазина напротив, — и начинает ходить по кухне. Потом является дед, покинувший свою скамейку в садике; он громогласно заявляет, что голоден и что не отказался бы от рюмки водки в аванс — завтра же починит выключатель в ванной. Мама смеется. Диалог в кухне не имеет ничего общего с нашим «мужским разговором», который сам собой прекращается.
5
У дверей звонят весело и нахально, три-четыре раза подряд. Это непременно дядя Атанас, я пользуюсь возможностью удрать и иду открывать.
Дядя Атанас появляется у нас очень редко, но всегда в полной боевой форме: вечный темно-серый костюм из английской материи, о чем он неоднократно говорил, красные щеки, выбрит до блеска, седые волосы приглажены назад, страшно молодые глаза. Копия отца, только на десять сантиметров ниже, на пять лет старше и невероятно подвижный. Все принимают его за младшего из братьев, он и держится, как младший: благоговеет перед отцом и слушает его во всем, кроме вопросов религии. Не потому, что так уж набожен, но он поет в хоре церкви «Свети Седмочисленици», — у него хороший баритон, — и тем самым подрабатывает к своей зарплате коменданта студенческого общежития. Отец часто делает ему внушения, чтобы не позорил честь семьи этим своим пением, и он соглашается, но тут же с виноватой улыбкой напоминает, что конституция гарантирует свободу совести и вероисповедания.
В руках у дяди Атанаса букет гвоздики и бутылка вина. Цветы — для мамы, бутылка — для отца, и поскольку с цветами все ясно, он объясняет происхождение бутылки:
— Один старый приятель из «Винпрома» дал. Раньше держал пивную на углу Сливницы и Раковского, душа-человек. В «Винпроме» очень его ценят… Выдержанное, пятилетнее…
Он еще в коридоре вручает подарки и спешит объяснить свой визит:
— Стефан, я к тебе посоветоваться по одному вопросу.
— Так я и знал, — говорит отец с притворной обидой. — Если бы не дело, где тебе вспомнить про нас!
— Ну, не надо. Знаешь, как я занят, нет времени ни в будни, ни в праздники.
— Как раз пообедаешь с нами, — говорит мама. — Стефан, идите прямо в кухню. Пока поговорите, и обед будет готов.
— Раз так, не отказываюсь.
Дядя Атанас взглядывает на отца со своей виноватой улыбкой и покорно идет впереди него, поправляя узел своего винно-красного галстука. Его черные туфли блестят, в них можно смотреться, как в зеркало, и весь он старомодно-элегантен. Полнота его не портит. Если бы не красный нос и наивное выражение глаз, его можно было бы принять за старого дипломата. Но он любит вино и вино его любит.
В кухне — дед. Он кончает свой «аванс», сидя у стола, одетый в свой любимый зеленый жакет, который ему связала мама. Своего старшего сына он встречает скептической усмешкой, оглядывает его с головы до ног, почесывая бородку двумя пальцами. Сын здоровается, а он жестом велит ему нагнуться и дергает его за ухо, — признак недовольства и нежности, — сын целует его в щеку.
— Где пропадаешь, блудный сын, — строго говорит дед, и смешно смотреть, как блудный сын, которому скоро шестьдесят, стоит перед ним и моргает.
— Пришел тебя навестить, папа.
— Врешь. Тебе Стефан нужен, думаешь, я глухой? Ну, садись… Как там Кина?
— Держится.
Кина — приятельница дяди Атанаса. Вдова, на пятнадцать лет моложе него, служит гардеробщицей в театре. У нее есть сын и дочь, и дядя Атанас уже много лет заботится о них, как о родных детях, но не женится на ней. После смерти своей второй жены он дал зарок больше не жениться и остается ему верен. У него есть комната в студенческом общежитии, там он и живет.
— Петьо, — говорит дядя Атанас, взяв со стола бутылку и подавая ее мне. — Ополосни холодной водой, но в холодильник не ставь. Потом откроем, за обедом, если твой отец разрешит.
— Еще бы, — смеется отец, — а чего-нибудь покрепче перед обедом не выпьешь?
— Нет. Ты ведь знаешь, «покрепче» я избегаю.
— Ну, тогда выкладывай, что у тебя. Может, тебя со службы решили выгнать?
— Кого, меня? — дядя изумлен и возмущен. — Почему? Наше общежитие, дорогой мой, — образцовое. Как тебе известно, впрочем. Меня люди в пример ставят, а ты!..
Но немного погодя оказывается, что его общежитие не такое уж образцовое. Пока мама при моем содействии накрывает на стол, он выкладывает свои дела. У него украли карманные часы. Из комнаты. Те самые массивные золотые часы, «Омега», которые подарила ему до войны вторая жена и которые после каждого завода исполняют несколько тактов арии тореадора. Когда я был маленький, дядя прикладывал их к моему уху, и я замирал — внутри словно хрустальные звоночки звенели. Чудесные часы.
— Когда это произошло? — спрашивает отец.
— Позавчера утром. Пошел в ванную умываться, оставил на тумбочке. Прихожу — часов нет.
— В милицию сообщил?
— Нет. Потому и пришел, посоветоваться. Сообщать или нет?
— Всегда ты был глуп, — вздыхает дед. — Чего ждешь? В общежитии завелся вор, а ты рассусоливаешь.
— Дело в том… — на лице дяди Атанаса появляется страдальческое выражение. — Не знаю, что делать, да и вообще надо ли. Часы, конечно, жалко, память от Юли, надпись есть на крышке… С другой стороны, если сообщить, подозрение падает на моих ребят, и начнется… Ну, и ни туда, ни сюда.
Дядя пьет вино и забывает о еде. Он выглядит совсем убитым. «Его ребята» — студенты из общежития.
— Вор есть вор, — говорит отец. — И думать тут нечего. Если сейчас ему пройдет даром, он украдет во второй и в третий раз. А если придет милиция, может, и испугается. Даже если его не найдут, все равно будет толк.
— Да, но ты представляешь себе, какой поднимется скандал? Вор среди ребят, это ужасно.
— Может быть, это и не они, — говорит мама. — Бывают же у вас и посторонние.
— Все равно, в общежитии случилось. И какие там посторонние. Восьми часов не было, когда я пошел умываться. — Дядя поглядывает на отца, но тот молчит и пожимает плечами. — Стефан, я думаю, что знаю, кто это, не лучше ли поговорить с ними, а? Может, вернут часы, и шума не будет, а? А то, представляешь себе, что будет, и это сейчас, перед летней сессией! Как раз ребята садятся заниматься.
— Ну тогда делай, как находишь нужным.
— Правда? — загорается дядя Атанас. — Я так и знал, что ты мне скажешь то же самое. Даже если часы и не найдутся, мир в конце концов не провалится… А если хочешь знать, такие все хорошие ребята. Вчера у одного был день рождения, так я им разрешил петь в столовой до одиннадцати. И сам спел один чардаш. Видели бы вы, сколько мне хлопали…
Дядя Атанас наклоняется над тарелкой и забывает про часы. Он начинает доказывать, что комендант общежития играет важную роль в жизни студентов. Он, например, не только следит за тишиной и порядком, кроме прочих своих обязанностей, но и учит своих ребят хорошим манерам — как держать нож и вилку, и уступать в автобусе места дамам. С этой целью он не меньше раза в день ездит с ребятами до центра и обратно.
Тот еще экземпляр мой дядюшка. Нашел себе призвание — что-то среднее между хозяйственным деятелем и педагогом. Ничего ему больше и не надо. А прошлое у него довольно бурное. В юности и он не знал, чего хочет. Учился до седьмого класса, потом, в то время, как отец занимался революцией, завел торговлю металлической галантереей и мануфактурой, сначала по мелочи, потом покрупнее, разбогател, женился на какой-то красавице, и все это за шесть — семь лет. В начале войны дядюшкин компаньон его облапошил, и он за два месяца разорился. Сбежал в Венгрию от кредиторов. Жена выхлопотала развод, потому что он стал человеком без будущего, а он вернулся через три года и привез жену-венгерку, Юлю, устроился работать закупщиком в немецкую зерновую фирму. Потом пришло большое несчастье: во время бомбардировки, весной 1944 года, Юля была убита. Он сам четыре месяца лежал в больнице со сломанным бедром. Даже хотел покончить с собой, не мог пережить смерти Юли.
После Девятого сентября дядя Атанас пошел работать заготовщиком на текстильную фабрику, но его арестовали и началось следствие: раз работал в немецкой фирме, не был ли агентом гестапо. Оказалось, что не был, но на всякий случай его поместили в трудовой лагерь — как бывшего эксплуататора с неясным политическим прошлым. Отец вмешиваться не стал, сказав, что если он не виноват, то дело и так уладится, но вмешался дед, и через год дядю освободили. Он и сейчас с умилением вспоминает начальника лагеря — по его словам, это был душа-человек. Он любил повторять, что кто не был на войне и не сидел в тюрьме, гроша не стоит — потому что сам он провел юность в фашистских тюрьмах, а потом был на войне. Кроме того, в лагере был кружок политпросвещения. На его занятиях время от времени являлся сам начальник и объяснял, что труд может сделать человеком даже обезьяну, а не только вверенных ему бывших паразитов. С тех пор дядя Атанас считается марксистски подкованным товарищем и очень гордится следами мозолей и шрамов на руках.
Я смотрю на его синеватые гладкие щеки, на мясистый нос, который участвует в пережевывании еды, и думаю, что они с отцом все же в чем-то похожи, хотя и представляют собой два полюса — и внешне, и внутренне. Их чем-то объединяет дед: его сентиментальная жилка у дяди гипертрофирована, остальное досталось отцу. Но чтобы с тумбочки пропали золотые часы, — такое может случиться только с дядей Атанасом. Вообще личность он не бог весть какая, но с ним всегда случается что-нибудь интересное.
Он ушел сразу после обеда; обещал Кине вывезти ее на Витошу, на прогулку. Был в отличном настроении от вина и совершенно успокоен советом, которого отец, в сущности, ему так и не дал.
6
Я часто думаю о людях, которых знаю и которых встречаю случайно — на улице, в трамвае, на вокзале, в кафе. Один на другого не похож. Их так много, а попробуй разделить их по росту, цвету волос или кожи, или по форме лица, и вот пусть перед ними побежит малыш, пусть споткнется и упадет и обдерет нос — один из них засмеется, другой испугается, третий бросится его поднимать, четвертый что-нибудь скажет, пятый ничего не скажет и останется стоять, где был, потому что ему своих забот хватает, шестой обругает родителей, которые не смотрят за детьми, и так далее. Видал я такие сцены, — сразу поймешь, у кого есть дети, у кого их нет и даже кто какой человек.
Зорка делит людей на красивых и некрасивых. Кореш говорит: это по-мужски, а то — нет. Для деда существуют коммунисты, беспартийные и враги. Все трое, пожалуй, правы, только Зоркино деление — чепуха. А когда Кореш говорит «по-мужски», «не по-мужски», но имеет в виду не только храбрецов и трусов. Он имеет в виду и многое другое. И я тоже многое имею в виду, когда говорю: тот мне симпатичен, а этот — нет. Знаю, что это не имеет значения, кому-нибудь другому будет симпатичен именно тот, кто мне неприятен. Но не могу отделаться от своих чувств. Все думаю, что люди действительно бывают симпатичные и несимпатичные. Если с несимпатичным идешь в поход, у него может быть полная фляжка воды, но он тебе не даст ни глотка, даже если тебе станет плохо. Все будет думать, что ему самому понадобится. В казарме мы таких звали сусликами. Это прозвище придумал один парень из села Пордим. Он рассказывал, как суслики все тащат в свои норы, все лето тащат — и пшеничные зерна, и ячменные, и ржаные, запасаются на зиму — и часто они очень хорошие хозяева, и что в небе их караулят коршуны и хватают когтистыми лапами и относят своим коршунятам. Суслики этим не смущаются и все равно таскают припасы. Сами суслики мне были симпатичны, но те, кого мы называли сусликами в казарме, — ничуть. С такими лучше дела не иметь. Даже спать рядом неприятно. Мне гораздо больше нравится Шатун: что выбивает, проживает, есть — поделится, нет — у тебя попросит. Легкая кавалерия, все ему просто, и легко, но с таким можно не бояться, что он оставит на дороге, если у тебя нога подвернется.
В последнее время я много об этом думаю, особенно после попытки отца по-мужски поговорить. Страшно совестно, что я ничего утешительного ему не сказал и что разговор наш получился не совсем мужской. Он говорил одно, я же думал другое и не сказал, что именно. Мне кажется, что я все время думал о нем самом. О том, каким был когда-то, он сам — когда жил в Ючбунаре с бабушкой, дедом и дядей в развалюхе, состоявшей из комнаты и кухни, которую хозяева каждый год ремонтировали, чтобы крыша не текла, а крыша все равно текла. Развалюха стояла в глубине большого двора, рядом было еще три-четыре таких же как она, а хозяева жили в двухэтажном доме спереди, с видом на улицу. Дед работал телефонным техником, получал приличное жалованье, но не мог вырваться из этой развалюхи, потому что одного жалованья на четверых не хватало. Может, потому дядя начал торговать мылом и лезвиями для бритья с лотка, повешенного на шею, так вот и стал торговцем, а отец пошел в подмастерья, в слесарную мастерскую, и начал водить в маленькую кухню приятелей; здесь они читали разные брошюрки и сговаривались против властей, в то время как бабушка с дедом спали в комнате. Мальчишки, еще в армии не служили, но целыми ночами говорили и читали и не интересовались ничем другим, даже девушками. Ну, ладно, но почему сейчас отец не хочет понять? Что с того, что меня девушки интересуют и что мне немногим больше лет, чем ему было тогда. Зато я знаю кое-что, чего он не знал, хотя бы про тех же девушек. Или про Кореша и старшину Караиванова. Или про дядю Атанаса. Уверен, что знаю о нем больше отца, хотя тот ему и брат. Когда, например, заговаривали о попытке дяди Атанаса покончить с собой из-за Юли, отец всегда морщился и махал рукой, будто ничего более глупого и легкомысленного быть не может, а я могу себе представить, каково ему было. Может, это было и глупо, но у дяди Атанаса, кроме Юли, ничего в жизни не было. И, наверное, он ее страшно любил… Вообще люди разные, один на другого не похож. Но в каждом есть что-то хорошее, и с каждым можно найти общий язык. Кроме сусликов…
А дни идут. Кончились дожди, точно, как по календарю положено. Начало июня, тепло, можно ходить в рубашке и сандалиях. Я люблю такую погоду. Встаешь, рубашку через голову, потом брюки, ремень на третью дырку — и готов. Воздух на улице легкий и светлый, как роса. С Люлина все время подувает свежий ветерок, и даже гремящие стада грузовиков, автобусов и машин не в силах испортить эту свежесть.
Телогрейки мы давно забросили, по ночам работаем в спецовках из хлопчатки: рубашка и брюки. Шатун надевает их прямо на голое тело — экономит белье, потому что денег ему все время не хватает. В последнее время он что-то страшно разгужевался по женской части. Вечерами приходит на работу невыспавшийся, почерневший, немытый. Похож на ничейного кота, которого гонят со всех дворов. Кореш работает, как бешеный. Не знаю, что его схватывает время от времени, но когда на него найдет такой амок, все начинают злиться, потому что он не дает ни минуты передышки. Только Шеф на него радуется. И особенно Ненов. Здесь и Студент, вообще все мы налицо, кроме бати Апостола. Он что-то болен, лежит дома. Позавчера приходил на работу, но ему стало плохо, он побледнел, покрылся потом, и Шеф велел ему идти домой. Когда я пришел, его уже не было. А вчера явился хозяин, у которого он снимает квартиру, — старик старше него, — и сказал, что врач из поликлиники предписал бате Апостолу лежать две недели и пить лекарства; через две недели его опять осмотрят и скажут, можно ли ему работать. Сердце что-то расшаталось.
— Надо бы скинуться на усиленное питание ему, — говорит Шеф и почесывает круглую стриженную голову. — Без него мы как без рук.
Сказал он это во время передышки между двумя поездами. Сейчас в экспедиции душновато, мы не привыкли здесь отдыхать. Кореш курит, прислонясь к стене, и пускает дым к лампочке. Шатуна нет, наверное, вышел на перрон пить воду, — по ночам он все время пьет, куда только вся эта вода влезает. Студент сидит на полу на упаковочной бумаге, худой, скрестил ноги, как йог, и жует бутерброд — два ломтя хлеба и посередине ломоть колбасы, толще, чем хлеб. Он всегда приносит по три-четыре, бутерброда и в перерывах «подзаправляется». Глаза у него блестят, язык работает без устали.
— Основываем фонд бати Апостола, — объявляет он и ухмыляется. — В целях закупки масла, брынзы, овощей и лимонадной бутылки с водкой. Бутылку доставит Шеф, поскольку в этом случае можно не бояться, что он ее выпьет.
— Никаких бутылок, — говорит Шеф. — С бутылками, похоже, кончено. Врач запретил.
— Тогда лимонадную бутылку с лимонадом.
— Нечего смеяться. — Кореш отделяется от стены и растирает ногой окурок. — Насчет бати Апостола это мы виноваты. Всю весну филонили — то зарплата, то именины, — а он за нас воз тянул.
— Это так, — говорит Шеф, — когда одни филонят, другим из-за них приходится воз тянуть.
— Шеф, а тебе даже полезно, — смеется Студент. — Как насчет килограммов? На сколько похудел за этот месяц?
— А ты не остроумничай, — говорит Шеф. — И тебя частенько было не видать.
— Я с разрешения начальства, по закону. Летняя сессия начинается.
— Закон — законом, — бормочет Шеф, отправляясь к своей комнатке на верхнем этаже, — а я за работу отвечаю. Меня никто не спрашивает, есть в бригаде студенты или нет.
Сегодня он что-то не в настроении — детишки заболели, или с женой поссорился. К тому же в прошлом году он не был в отпуске, и сейчас с нетерпением ждал, когда работы станет поменьше и можно будет поехать отдохнуть.
Студент приканчивает бутерброд, встает и оглядывается в поисках новой жертвы.
— Девушки! — кричит он женщинам, иные из которых годятся ему в матери. — Хотите лимонаду, чтобы прохладиться?
— Хотим… Еще спрашивает!
— Пешо сейчас принесет. Он угощает.
— Почему я?
— Как почему? Через месяц с чем-то Петров день.
Делать нечего. Мы ставим лимонад по очереди, и кажется, на самом деле теперь моя очередь. Отправляюсь в буфет и приволакиваю ящик. За это время явились и Шатун, и помшефа Ненов, но Шатун не может пить: только что чуть ли не всю воду выпил из крана на перроне. Женщины расхватывают бутылки и пытаются подергать меня за уши — по случаю будущих именин. Для нас с Корешем, Студентом и Неновым остаются две бутылки. Кореш выпивает свою долю, Ненов отказывается, потому что пить из бутылки негигиенично, особенно один после другого. Шатун смотрит на него и смеется. Когда Ненов удаляется, он вытирает рукавом остренький нос и говорит:
— Не пойму, что у этого за работа такая. Только и знает шляться туда-сюда.
— У него, как у тебя, — обрывает его Кореш, — Шатун.
— Эге, как у меня, — обижается Шатун. — Я вкалываю, батя.
— И он вкалывает. Тебя на его место не поставишь.
Когда кто-нибудь болтает пустяки, Кореш становится неумолим. Он даже забыл, что угрожал неновской шляпе.
— Мир вам, — изрекает Студент и отправляется к двери. — Пошли грузить видинский, а то завтра в Видине проснутся и не будут знать, что происходит на белом свете и кто получил орден. Шатун, ты когда станешь героем труда?
— Когда твоя бабка дедом станет.
Шатун хочет еще что-то добавить, он разозлился, но Кореш хватает его подмышку и выносит вон.
Женщины смеются. Зорка допивает лимонад и царственным жестом вручает мне бутылку.
— Мерси, Пешо, дай я тебя чмокну, — и прежде чем я успеваю опомниться, она целует меня в щеку под громкий смех женщин.
— Если угостишь еще, могу и замуж за тебя выйти.
— Если только я соглашусь, — говорю. — Откуда это ты взяла, что я хочу на тебе жениться?
Я говорю в шутку, но не совсем, потому что терпеть не могу таких спектаклей. Зорка круто поворачивается и идет к конвейеру. Я ее не останавливаю. Неизвестно почему, она все время находит поводы демонстрировать перед людьми наши отношения, а я этого не выношу. Мне противно смотреть на сопляков, которые ходят по улицам, обняв девушку за шею…
Мы опять летаем от экспедиции к перронам и обратно. Это последний месяц квартала. Печатники торопятся выполнить план. Кроме газет, наших рук ждут тонны журналов. Да еще предстоят две конференции — одна международная, по охране окружающей среды, другая — внутренняя, не то молодежная, не то спортивная, и бумага заваливает нас, как лавина. Кто все это читает? Если бы я вздумал прочесть все эти бумаги, мне и десятка лет не хватило бы. Мы справляемся, но к утру чувствуем себя так, как будто нас кто-то отколотил. И в дневных бригадах не лучше.
Бросаем тридцатикилограммовые пакеты. Студент в вагоне, а когда поезд отправляется, спрыгивает на ходу и тоже кидает. На платформе электрокара остается несколько пакетов. Велика беда, пошлем со следующим поездом по тому же маршруту, но только, когда батя Апостол с нами, такого не случается. Не потому, что он сильнее или ловчее нас, но вот не случается.
Возвращаемся в экспедицию. Студент за рулем, он любит водить электрокар. Я сижу к нему спиной на платформе, сандалии пошаркивают о перрон, — дзз, дзз, — глаза слипаются; электрокар остановится хоть на минуту, я засну, непробудным сном. Светает, но солнце еще не показалось над сводчатой крышей паровозоремонтного завода. Только белый свет в небе разбухает и режет глаза. Несильный ветер переменил направление, дует с северо-запада, посыпая нас белесоватой пылью из труб ТЭС «Надежда».
От зевоты можно вывихнуть челюсти. Я бросаю пакеты, как во сне, и думаю про батю Апостола. Если бы он был здесь, обязательно бы толкнул меня сейчас на какой-нибудь ящик: «Вздремни, парень, минут пять, проснешься, как огурчик». И даже если ничего не сделает, хорошо, когда он здесь. Он все чувствует и с одного взгляда понимает человека.
Вспоминаю, как однажды, — это было еще вначале, зимой, — настроение у меня всю ночь было, как говорится, ниже нуля и я все молчал. Болели мускулы, невозможно было терпеть, и я жалел, что пошел на эту работу. Хотелось швырнуть ватник и сбежать. Утром получилось так, что мы с батей Апостолом вышли с вокзала вместе и он предложил мне зайти в закусочную поблизости, куда он ходил каждое утро, съесть по тарелке супа. Ночь была снежная и нас здорово продуло. От супа я согрелся. Старик заказал и по пятьдесят граммов виноградной водки, и я неожиданно для самого себя разговорился. Я рассказал ему то, о чем не говорю ни с кем, — про бегство из школы, и про казарму, и про Таню, и про все остальное. Он ни о чем не спрашивал, только смотрел на меня прозрачными голубыми глазами, а я говорил, будто меня прорвало. Целых два часа мы сидели в этой закусочной.
Он ни о чем не спрашивал, разговорился и, кротко улыбаясь в усы, сказал, что у него есть сын. Большой уже, лет на десять старше меня, кончил на инженера-химика. И внук есть, ему уже пять лет.
Я удивился. В бригаде знали, что у бати Апостола близких нет и что он живет один, но он сказал мне тогда, что сына после института направили на работу в Шумен, где он женился и решил обосноваться, Я спросил, почему он не живет у сына.
— Да неудобно, — сказал старик. — Он сам примак, живет у тестя, да и родители у снохи — люди особенные. Ездил я к ним четыре года назад, внука посмотреть. Побыл два дня и вернулся. Всем было как-то неудобно со мной. Снохе я видно не понравился…
— И с тех пор не виделись?
— С Траяном переписываемся время от времени, да ведь он сильно занят… Хотел высылать мне по двадцатке в месяц, но я ему сказал, чтоб не беспокоился обо мне, пускай все в семью идет. — Он помолчал, я переставил пустую рюмку и долго растирал каплю по клеенке. — Ты, Пешо, не рассказывай про эти дела ребятам, пускай между нами останется. Траян — хороший парень, только, знаешь ведь как бывает, женится человек, навалятся на него заботы… На что уж солнце, а и то не может согреть всех сразу.
Я был другого мнения на этот счет, но промолчал. В закусочной включили радио, загремел какой-то скучный концерт для скрипки и фортепиано. Официант вытирал столы и поглядывал на нас, а мне было страшно тяжело. Мы встали. Выйдя на улицу, батя Апостол вдруг остановился и сказал:
— Такие дела, Пешо. Люди разные, одни хорошие, другие плохие, третьи так… посередке. Ты про того учителя забудь, не надо тебе его помнить. — Он говорил о Ставреве, о котором я ему рассказывал в закусочной. — Совсем не надо. Если где встретишь, отвернись, да и все. Нет смысла душу себе травить. Злоба, она, как змея: допустишь ее до себя, так она угнездится, грызет тебя и сосет, и работа тебе уже не в работу, и сон не в сон.
— У меня на него злобы нет, — сказал я. — Просто так получилось.
— Коли так, оно и лучше.
В ту минуту я действительно верил, что ненависти к Ставреву у меня нет, и что во всем виноват сам. После этого разговора с батей Апостолом мне стало легче, и я остался в бригаде.
Последний электрокар нагружаем мы с Шатуном. Кореш и Студент пошли умываться, оба торопятся, у них какие-то дела в городе. Мрак в туннеле кажется особенно сильным, когда на улице уже светит солнце. Шатун, кидая пакеты, рассказывает, как в прошлом году ездил отдыхать в Созополь и познакомился там с одной немочкой и что потом произошло, но я его не слышу. Случайно мой взгляд падает на открытую дверь экспедиции, и я вижу, что Зорка разговаривает с Неновым. Он приблизил губы к ее уху, и лицо его белеет, как вымазанное мелом. Зорка улыбается, потом смеется и слегка отталкивает его, а он, видимо, довольный шуткой, вертит живыми глазами, хитровато оглядывая ее. Зорка, уже в легком летнем платье и с высокой прической, отправляется домой и Ненов идет за ней.
Они проходят мимо нас с Шатуном — Ненов ухмыляется до ушей, а она — выставив грудь, делает вид, что не замечает меня. Понимаю, что это она нарочно, чтоб позлить и все же меня словно что-то обжигает. Да откуда я знаю, что ей в голову ударит. Как только они выходят из туннеля, я толкаю электрокар на Шатуна, молниеносно переодеваюсь и лечу на улицу, даже не умывшись.
При входе из туннеля мне попадается Кореш с мокрым лицом и рукавами.
— Пешо, видел?
— Угу.
— Хочешь, я с тобой?
— Не надо.
Площадь перед вокзалом залита солнцем, шумит народ, гудят машины. Зорки и Ненова не видно. Куда они девались?
Решаю идти к Зорке — она живет совсем близко, в одном переулке возле Ополченской. Не знаю, зачем я это делаю. А если Ненов даже и там, так что? Драться мне с ним? Разве я могу запретить Зорке делать, что ей захочется? Глупости! Но как подумаю, что она может обниматься с Неновым, в голове у меня начинает шуметь, будто целый паровоз выпустил туда свои пары.
Перехожу трамвайную линию, которая идет к кварталу «Надежда». На углу Ополченской издалека замечаю платье Зорки. Оно тут же исчезает. В ту же минуту чуть не сталкиваюсь с Неновым. Он стоит на трамвайной остановке. Ждет шестерку. Один.
Я останавливаюсь. Закуриваю, чтобы выиграть время и успокоиться. Хоть бы Ненов не понял, что я гнался за ними! Он переступает с ноги на ногу, посматривает на часы, его бесцветное лицо кисло морщится. Настроение у меня поднимается.
— Домой, Пешо? — спрашивает он, будто не знает, что я возвращаюсь с работы.
Я киваю. Нам обоим на шестой, мы не в первый раз едем вместе. На площади Благоева он пересаживается на пятерку, а я еду дальше.
В вагоне есть свободные места, но я прохожу на переднюю площадку. Ненов тоже приходит на площадку и пытается завязать разговор. Он в светлом летнем костюме; ходить на работу в одной рубашке, он себе не позволит, не то, что Шеф. Я невольно улыбаюсь.
— Ты в квартале Вазова живешь? — спрашивает Ненов, забыв, что уже спрашивал об этом.
— Нет, на площади Бабы Недели.
— А, верно… А я на Горнобанском шоссе. Час на дорогу туда и назад, каждый день. У родителей проживаешь?
— Да.
— И отец есть?
— Да.
— А я думал… Я тебя спутал с Корешем, у него, кажется, только мать, вдова.
— Да, верно.
— А кто у тебя отец?
— Директор завода.
Сонное выражение слетает с его лица. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но ничего не говорит, из горла у него вылетает только «ы-ы-ы».
— Нет, правда? — спрашивает он наконец.
— А что тут такого?
— Ничего, просто удивляешь ты меня, — вздыхает Ненов. — Такого отца имеешь, а ходишь ишачить, как…
— Как кто?
— Э, брось! — машет он. В его жесте — известное презрение и в то же время что-то дружески-доверительно. — Мне бы твои возможности, я бы не торчал там с этими хамами. Да будь я еще помоложе… Позавчера мне пошел тридцать пятый год, поздненько.
— Для чего поздненько-то?
Узнаю, что в свое время он окончил два курса электротехникума, но не доучился. Сманили его обратно в село, в Плевенский округ, дали работу электрика и хорошую зарплату. И там не удержался. Работал несколько лет в Кремиковцах, чтобы получить софийскую прописку, и перешел работать на вокзал. Теперь в свободное время ходит по дачам в Бояне и Драгалевцах, чинит проводку, подрабатывает. А будь он на моем месте…
— Получил бы экономическое образование и пошел бы во внешнюю торговлю. Но поздненько, поздненько…
Он развивает передо мной свои взгляды на жизнь и смотрит на меня с совершенным почтением.
— Бросил бы я все это, — кивает он назад, в ту сторону, где должен находиться вокзал. — Ищу место в каком-нибудь торговом управлении или на большом заводе. Могу заведовать складом, работать заготовителем.
— Закупщиком, — говорю я.
— Да. И работа другая, и зарплата, и среди людей жить будешь… Ты не мог бы спросить отца, а? Может, у него что найдется?
Мне становится смешно. До сегодняшнего утра Ненов почти не замечал меня, в бригаде выделял только батю Апостола и Кореша. А сейчас мы словно поменялись местами, можно подумать, что грузчик — он, а начальник — я. В первый раз встречаю человека, который так изменился бы за две-три минуты. Он поглядывает в окно — подъезжаем к площади Благоева.
— Мне сходить, — говорит он, словно извиняясь. — А ты не забудь спросить. Согласен и на помощника заготовителя. Здесь, сам видишь, никакого будущего.
— Хорошо.
— До свидания, Пешо.
— До свидания.
Трамвай трогается. Вожатая в берете, сдвинутом на затылок, чтобы была видна прическа, потирает курносый нос и по-мужски орудует рычагами управления. Я смотрю на ее некрасивый профиль, некрасивый, но симпатичный, поджатые полные губы, точные движения. Я уверен, что ей, например, было бы наплевать, что я сын директора. А про батю Апостола или Кореша и говорить нечего. И даже про Шатуна, — он бы только, сказал: «Ну ты даешь… твою мать», — просто так, из учтивости, — и тут же забыл бы об этом.
А этот… Надо было сказать, что у меня отец — министр.
Вожатая поворачивается, строго смотрит на меня и сильно крутит правый рычаг.
7
Без фокусов, младший сержант Клисуров, только без фокусов! Будь мужчиной, если не хочешь получить три наряда вне очереди!
Так говорил мне иногда старшина Караиванов, когда у нас была стрельба по подвижным мишеням. Вообще я стрелял отлично — и из автомата, и из винтовки, и из легкого пулемета. И на тактических учениях с боевыми патронами держался хорошо. Но с подвижными мишенями мне не везло. В первый же раз правую руку будто свело и после этого почти все мои выстрелы шли в воздух, как на свадьбе. Плохо было то, что подвижные мишени вели себя как живые, — то появятся, то исчезнут, то побегут над окопом, точно настоящие солдаты, делающие перебежку. И мои пули летели или низко, или слишком высоко. Сначала старшина считал меня просто растяпой, но потом начал смотреть с подозрением и покрикивать: «Без фокусов, Клисуров! Целься на пядь впереди мишени и ниже… Так!» Так-то так, но стоило мне нажать на спуск, я снова промахивался. И чем дольше старшина стоял у меня за спиной, тем больше я мазал. Становилось просто стыдно перед начальством и перед ребятами.
Семь часов вечера. Я стою в коридоре перед зеркалом и, мысленно общаясь со старшиной Караивановым, отталкиваю Пуха, который лезет под ноги и, конечно, налепит мне шерсти на брюки. В последний раз произвожу осмотр своей внешности. Давно я не выглядел таким франтом. Будто сошел с витрины мужского ателье: костюм шоколадного цвета, белая рубашка, галстук. Пиджак чуть тесноват в плечах, — костюм сшит еще до армии, — но брюки сидят очень хорошо. Я побрился дважды, постарался пригладить темно-русую щетину на голове, насколько мог. Шрам на подбородке меня не портит, даже придает мне известную мужественность.
Не слишком ли парадно я вырядился? Нет, костюм только подчеркнет, что это визит вежливости. Может, купить цветы? Старшина Караиванов сказал бы, что не стоит бросать деньги на ветер — он умел ухаживать за женщинами без помощи цветов, более надежными способами и притом с отличными результатами. Наверное добавил бы, если уж тратить деньги, то лучше съесть порцию зажаренных на решетке потрохов с кувшинчиком красного домашнего вина. Но я, конечно, куплю цветы. Можно и записочку вложить в букет: «Моей вечной, незабываемой…» и так далее. Или еще: «Цветы увянут, но воспоминание в моем сердце навсегда останется свежим…» и прочее. Как в старом школьном альбоме у мамы. А можно и устно сказать что-нибудь подобное, когда буду подносить букет, — интересно, что получится… Стоп! Без глупостей! Без фокусов, младший сержант Клисуров.
Что-то очень уж мне стало весело. Я чувствую, что готов закрутить какую-нибудь историю, от которой потом мне будет стыдно. Всегда так: стоит мне закрутить какую-нибудь историю, как самому же приходится отдуваться. Так, что я теперь стал осторожнее. В казарме, когда Таня перестала мне писать и я узнал, что произошло, то всю ночь проплакал, подушка промокла от слез, а на другой день вечером написал ей письмо в три строки: «Узнал, что выходишь замуж. На твою свадьбу не приду по этическим соображениям. К тому же и «бамбин» не люблю…» Письмо я не послал, а порвал и выбросил в отхожее место, как называл старшина Караиванов во время своих воспитательных бесед уборную… И хорошо, что выбросил, а то стал бы смешным.
Атанаска — Таня. Таня — Атанаска. Привычка — страшное дело. И сейчас стоит мне вспомнить о ней, как чувствую слабость в ногах и мне хочется укрыться с головой, чтобы никого не видеть. Просто остаточный рефлекс… Вчера она мне позвонила. Упрекнула, что не поздравил ее с днем рождения два месяца назад, даже по-дружески отчитала за то, что я совсем ее забыл, и пригласила зайти. Она собирает гостей по случаю окончания летней сессии, выдержала все экзамены. Не оставила меня в покое, пока я не сказал «да».
И зачем я ей вдруг понадобился? Между нами все кончено. Девчонок вообще невозможно понять. Но все же я пойду. Если и теперь отказаться, чего доброго подумает, что она все еще не безразлична мне.
Мама провожает меня до дверей, улыбающаяся, довольная и слегка удивленная — то ли тому, что я иду к Тане, то ли тому, как я вырядился. Говорит, чтобы я передал Тане привет, но ни о чем не смеет спрашивать, потому что однажды, когда я вернулся из армии, она захотела узнать, как у меня идут дела с Таней, и я ей ответил грубо и зло, — дескать, Таня меня не интересует, и вообще нечего ей лезть в мои дела. И тут же извинился, но она расплакалась и, вытирая глаза, все повторяла: «Петю, сыночек мой, что с тобой стало? Сыночек мой…» Хоть в окно прыгай. Я стоял, как ошпаренный, а она обняла меня, прижала к себе мою голову, как когда-то, когда я был маленький. С тех пор она ни о чем меня не спрашивает без предварительного: «Ты на меня не сердись…», — после чего я каждый раз чувствую себя скотиной.
— Привет передам, — говорю я. — Если опоздаю, не беспокойся. Может быть, я прямо оттуда пойду на работу.
— А ужинать?
Она говорит еще что-то, но я уже бегу вниз, прыгая через две ступеньки. В ларьке на площади покупаю большой букет розовой гвоздики, нарочно розовой, потому что не люблю этот цвет. Цветами торгует бабка, ей, наверное, сто лет; она предлагает мне самому выбрать цветы, потом по одной вытаскивает гвоздики из ведра и показывает мне каждую, потом срезает концы стеблей большими ржавыми ножницами. Я оставляю ей сдачу, — четыре стотинки, за которыми она потянулась было к картонной коробке с мелочью, и она смотрит на меня такими добрыми, благодарными глазами, что, схватив цветы, спешу скрыться. Под правым глазом у нее бородавка, руки темно-коричневые, пальцы узловатые, — словно их начерно слепили из глины, а потом глина рассохлась и потрескалась. Наверное, она уже не может работать в поле, вот ее и послали в город продавать цветы. Я запомнил только ее глаза, бородавку и руки — особенно руки. Если бы я был художником, нарисовал бы такие руки. Но это — тема старая, да и Ван Гог…
Букет благоухает, хотя я его несу вниз головой. В такой букет записку не положишь, ничего, что розовый. Но мне приходит в голову другое, и вместо того, чтобы идти по бульвару Скобелева к улице Каравелова, где живет Таня, я сворачиваю на Витошу. Блестящая идея, черт меня побери, на такие номера я мастер. Ничуть не хуже, чем то последнее письмо Тане, которое я не послал… На бульваре Патриарха я сажусь в полный троллейбус и вместе со всеми терпеливо трясусь весь длинный путь до вокзала.
Я схожу в конце Ополченской и немного возвращаюсь назад. Сворачиваю в переулок. Двухэтажный дом с обвалившейся штукатуркой и задний дворик с двумя старыми обдерганными грушами, грядкой роз и длинной бельевой веревкой мне хорошо знакомы. С улицы входишь прямо в коридор, где вечно стоят ароматы горелого постного масла и уборной. В глубине коридора — деревянная лестница, ведет на второй этаж. На первом этаже живет многодетная семья и два паренька из деревни — они учатся в механо-техническом училище на бульваре Стамболийского, а на втором этаже — хозяйка, старый холостяк, служащий, и Зорка. Хозяйка занимает две комнатки, служащий — одну, а Зорка — полукладовую, полукухню. Еще я знаю, что хозяйка уже несколько лет пытается «выдворить» многодетную семью, потому что та платит нормированную квартиру, и пустить других квартирантов, чтобы брать за эти две комнатки втрое больше; но неприятная семья каждый раз выигрывает дело в суде.
Звоню. Открывает многодетная мать с мокрыми руками и кислой физиономией, смотрит на меня и на цветы, как будто я — червяк, упавший с неба, откуда положено падать совсем другим вещам; не успеваю я поблагодарить, как она поворачивается ко мне спиной и скрывается за одной из дверей. На верхнем этаже мне открывает хозяйка. Увидев меня таким франтом, она таращит глаза — они у нее синие и блестят, точно эмалированные, — и начинает вдруг обращаться ко мне во множественном числе:
— Пешо! А я вас не узнала… Входите, входите… Зорка здесь, только что проснулась.
Вот что значит одежда! Плюс букет гвоздик… Похоже, что у хозяйки не только глаза эмалированные: пеньюар у нее тоже синий и блестящий, и лицо, и волосы блестят, она их чем-то мазала. Волосы у нее цвета воронова крыла — крашеные, конечно, — а лицо невероятно, даже неприятно гладкое; я заметил, что она никогда не улыбается и не морщится, и когда говорит, шевелит одними губами. Она — вдова майора-летчика, погибшего во время войны тридцать лет назад; второй ее муж тоже умер, и для соседей и квартирантов она так и осталась «майоршей»… Я выжидаю в коридоре, пока Зорка оденется. Расспрашиваю майоршу о здоровье, она отвечает с подробностями — грех жаловаться, очень помогает утренняя гимнастика, пьет отвар из медвежьего ушка для очистки почек, только вот печень немного беспокоит. Так проходят две-три минуты. Моя тактика имеет успех: ей так и не удается спросить по какому случаю у меня такой торжественный вид.
Зорка приоткрывает дверь своей кладовки и высовывает голову:
— Ты чего тут стоишь, не входишь?
Вхожу. Она тоже готова проглотить язык. В зеленых глазах, еще сонных — глуповатое выражение.
— Господи, какой ты нарядный! И цветы… Ты случайно не на свадьбу собрался?
В комнатушке беспорядок. Платяной шкаф открыт, все жакеты висят на одной вешалке, на двери. Сама Зорка в мятой старенькой пижаме, босиком и порядком смущается.
— Одевайся, пойдем в гости.
— Ну да! А к кому?
— К одной моей знакомой.
Зорка смотрит на меня и проводит пальцами по рыжим волосам. Волосы слегка потрескивают. В ее улыбке — разочарование:
— А я думала, что букет для меня…
— Для хозяйки дома, — говорю я сконфуженно, потому что никогда не покупал цветов Зорке. — Тебе в следующий раз, но красивее.
— Да ну, больно надо… Топай один к своей знакомой.
Такого оборота я не ожидал, и мне приходится приложить немало усилий, чтобы ее уговорить: я уже обещал, нас, мол, пригласили обоих, то есть меня пригласили с девушкой (хотя на этот раз Таня ни о каких девушках не упоминала), и в конце концов, ей ничего не стоит оказать мне эту услугу, потому мне одному идти неохота… Но Зорка смотрит в потолок и не говорит ни слова. Когда она обижена или упрямится, ей хоть кол на голове теши, — ничего от нее не добьешься.
Я беру букет со стола и иду к двери, испуская вздох:
— Жалко… Потанцевали бы…
— А танцы будут?
Дело пошло на лад. Как это я раньше не догадался! Мы с Зоркой никогда не танцевали, негде, да и танцор я, по правде сказать, никудышный. Но я не раз наблюдал в экспедиции, стоит по радио музыке заиграть, как ноги у нее сами начинают танцевать.
Она идет умыться. Потом велит мне повернуться спиной, — не любит, когда смотрят, как она одевается.
Я встаю у окна. В дворике за домом, двое мальчишек, из многодетной семьи соседей играют. Водит, конечно, тот, что поменьше. Другой, постарше, забравшись на пыльную грушу, ломает сухие веточки и бросает их в брата. Тот прислоняется к забору с видом оскорбленного достоинства: «Это не считается. На дереве и дурак может спрятаться». Он почесывает одной босой ногой другую, нос его, похожий на сливу, у которой содрана кожица, сердитым шмыганьем выражает возмущение своего хозяина. Мать вешает белье во дворе. Кончив, она командует: «А ну, разбойники, ужинать. Марш передо мной!» И тяжелой рукой дает им по подзатыльнику, но они только почесываются и весело бегут впереди нее. Знают, что это она от нежности. Когда есть нежность, человек готов все вытерпеть, не только подзатыльник…
— Готово, — говорит Зорка у меня за спиной.
Я оборачиваюсь, и мне становится дурно. Она действительно готова, всей своей особой излучает розово-лиловый свет. Розовое платье из искусственного шелка, лиловые чулки в крупную сетку, словно сделанные из рыбацкого невода, белые туфли с бантами на ногах. Даже на глазах синий грим. Она победоносно смотрит на меня, и кружится, чтобы я мог осмотреть ее со всех сторон.
— Так идет?
— Идет, — мямлю я, думая о том, какое она произведет впечатление в Танином доме. — Только если уберешь синьку с глаз, будешь еще красивее.
— Ты это серьезно?
— Честное слово.
Она колеблется секунду-другую, потом начинает стирать грим, и ей снова приходится умываться. Я больше ничего не смею говорить: знаю, рассердится. Мне даже приходит в голову, что в таком туалете Зорка явится самым большим моим фокусом. Даже записочка в букете не нужна.
От этой мысли мне становится весело, хотя в ней есть и немножко злобы, и немножко чувства вины перед Зоркой, и мы выходим, сопровождаемые эмалированным взглядом хозяйки.
Со стороны, наверное, мы представляем потрясающее зрелище. Я с букетом в руке, который держу, как ружье «на караул», Зорка в яркой феерии своего туалета ступает мелкими дамскими шажками, потряхивая роскошной красноватой гривой. Впрочем, грива у нее действительно роскошная, и глаза тоже, и длинные, словно изваянные ноги, — если ее еще и одеть как следует, действительно с ума может свести публику.
Я останавливаю такси, шофер кивает, — свободно. Открываю перед Зоркой заднюю дверцу. Она в восхищении:
— Пешо, да ты у нас кавалер!
— А ты только сейчас узнала?
— Молодец!
Сажусь и я, она сует руку в мою и прижимается к моему плечу. Я вытаскиваю руку и кладу ее на спинку сиденья, за плечами у Зорки, — так полагается держаться, когда едешь в такси с девушкой. Во взгляде Зорки обожание, шофер подмигивает мне, в зеркальце над ветровым стеклом. Я ему тоже подмигиваю. Мы все трое смеемся.
— Какие мы важные, — говорит Зорка мне на ухо. — Видел бы сейчас нас Ненов…
— Почему Ненов?
— Да ну, пристает, — смеется Зорка, — только напрасно надеется. Говорит, как получит «запорожец», будет меня возить, если только захочу. Я ему обещала, что все расскажу жене, он и скис.
Она смеется, словно поет, а шофер часто поглядывает на нее в зеркальце. У Зорки действительно хороший голос, альт, только поет она самые идиотские эстрадные песни. И как только она их запоминает… Потом она сообщает, что сегодня утром после работы ходила к бате Апостолу. Он живет где-то поблизости от «Надежды», слева от шоссе, не доходя до реки. Отнесла ему свежих огурцов и триста граммов виноградной, но он съел один огурчик без соли, а водку заставил ей забрать, чтобы не торчала перед глазами. Ему и курить запретили.
— Так плохо?
— Посмотреть на него — так ничего, такой же, как был. Только задыхается, когда ходит по комнате, и цвет лица неважный.
— И что он сказал?
— Спрашивал про всех, особенно про Кореша и про тебя. Похоже, на работу вернется не скоро. Врач сказал — еще месяц лежать.
— Выздоровеет, — говорю я, потому что больше сказать нечего. — Ты что, очень его любишь?
Зорка кивает и, умолкнув, смотрит в окно. Ее рыжие волосы горят в лучах заката. Мне кажется, что если зарыть в них руку, можно обжечься.
Машина останавливается, и мы выходим. Пока я расплачиваюсь, Зорка, сияя розовым и лиловым, оправляет платье и осматривает себя со всех сторон, как солдат перед походом, и мне хочется вернуться. Но пути назад нет. Беру ее за руку и втаскиваю в парадное знакомого пятиэтажного дома. Я не был здесь несколько лет, и странно, — внутри ощущаю холод, словно меня заморозили. Будто кто-то сжал мое сердце в кулаке и не отпускает его. Тем лучше.
Поднимаемся по широкой лестнице. Зорка неуверенно озирается, останавливает взгляд на круглых, похожих на иллюминаторы, окошках в дверях квартир, проводит пальцами по лакированным перилам.
— Эй, а твоя знакомая, видно из богатых… Одна лестница чего стоит.
— Лестница как лестница, — говорю я.
Медные таблички на дверях возвещают миру все те же звучные фамилии: Копринаровы, Ябанджиевы, доктор Синигеров. Здесь ничто не изменилось. На третьем этаже я нажимаю кнопку звонка. Зорка отступает на шаг, но я дергаю ее к себе, и так нас видит Таня, открыв дверь. Короткое недоумение в ее глазах, молниеносно обежавших Зорку тут же проходит, и она уже широко улыбается, с подчеркнутой радостью, отступая назад, она пропускает нас в квартиру:
— Проходите. А я уже думала, что вы не придете…
От нее пахнет резедой. Ее пожатие гостеприимно. Спешу вручить ей букет, знакомлю с Зоркой, и можно подумать, что Таня весь год мечтала об этой минуте. Она берет Зорку под руку и ведет ее в гостиную. Я топаю следом.
И здесь все по старому. Возле проигрывателя — зеленая тахта, напротив — диван, кресла, низкий столик величиной с полуторную кровать, репродукции Сурикова и Репина на стенах. Только занавески другие — кажется, раньше были красновато-коричневые, а теперь серебристые, в крупную вертикальную полоску. Останавливаюсь на пороге, чтобы перевести дух, и мне приходит в голову, что эта гостиная чем-то напоминает гостиную у Невяны.
Впрочем, сама Невяна здесь, вместе с Кириллом. Они оба мне машут, сидя на пуфах у окна. Остальные мне не знакомы. На зеленой тахте сидят две девчонки, одна в черной мини, другая в белой, — сверхмини, похожих на пляжные юбочки, — с накрашенными глазами и как помело длиннющими ресницами. Увидев нас, они умолкают и одновременно поворачивают к нам головы. Молодой мужчина в галстуке и без пиджака, с ранним нимбом на темени колдует в углу возле магнитофона. Трое, примерно моего возраста, сидят у низкого столика, заставленного бутылками и бутербродами.
— Знакомьтесь, — говорит Таня и разводит руками так, что блузка раскрывается у нее на груди. — Мои коллеги по ВИТИСу. Кики вы знаете.
Знакомимся. Я начинаю со сверхмини, а ребята встают перед Зоркой. Симпатичные парни и девчонки, все в рубашках с коротким рукавом, улыбающиеся, белозубые. Пожалуй, я один в этом идиотском парадном костюме. Зорка производит потрясающее впечатление — благодаря зеленым глазам и туалету. Один из парней, одетый пиратом, — в красной косынке на шее, распахнутой рубашке грубого полотна и в потертых джинсах, — грациозно целует ей руку и усаживает в свое кресло, а сам устраивается рядом на пуфе.
Я бросаю якорь возле Невяны и Кирилла. Таня сует мне в руку пустую рюмку и спрашивает, что мне налить, — водки, коньяку или джина, — и я говорю, водки, потому что остальные пьют коньяк и джин. Таня наливает мне и посматривает поверх бутылки:
— Как это ты решился придти?
— А разве я когда-нибудь боялся?
Она смеется. Ее карие глаза становятся золотыми. Ноги у нее изумительно переходят в бедра, а еще выше она уж и совсем прелестна. В горле у меня начинает першить, и спешу чокнуться с Кириллом и Невяной. Спрашиваю Кирилла, как экзамены.
— Сдал только два. Остальные оставил на осень.
— Что, очень трудные?
— Нет, но читать надо много. А я пока соберусь…
— Это все статья, — говорит Невяна с улыбкой. — Целый месяц сидел писал.
— Какая статья?
— О новом романе главного редактора. — Невяна отпивает коньяк и похлопывает Кирилла по колену. — Пай-мальчик… стихи выходят на днях, а статья появится осенью, в одном и том же номере неудобно. Правда, Кики?
Кирилл смотрит, как две сверхмини танцуют под мощный рев какого-то мужского джаз-трио и словно не слышит ее. Но она продолжает пристально смотреть на него лукавыми глазами. Он медленно краснеет, ставит рюмку:
— Слушай, я тебе сказал, что такие шуточки мне не нравятся. Ты сама настаивала, чтобы я написал об этой книге, Что тебе теперь надо?
— Ничего, — невинно говорит Невяна. — Радуюсь, что эксперимент удался.
— Ну и все — точка!
— Уфф! Петре, видишь, какой он страшный? Как будто это не он, а я написала статью.
Кирилл не выдерживает. Он вскакивает и приглашает танцевать девчонку в черной сверхмини, предоставляя белую сверхмини одному из парней. Таня танцует с молодым мужчиной с нимбом, Зорка с Пиратом. Танин партнер надел очки с бледно-зелеными стеклами, — наверное, бережет глаза, — все время смотрит ей в лицо, серьезен. Когда нужно делать поворот порознь, он все время ее опережает, словно спешит обернуться, чтобы не выпустить ее из поля зрения… Тот самый, что ли?
Танцую с Невяной. Она что-то рассказывает и о чем-то спрашивает, а я киваю и пытаюсь изобразить улыбку, хотя почти не улавливаю, о чем идет речь. Этот разговор об успехах Кирилла засел у меня в голове. И зачем Кирилл это сделал, черт его возьми, неужели какие-то стихи стоят этого? Наверное, он знает, что такие вещи не забываются, что бы ты потом ни делал. Я в свое время сделал нечто подобное, не совсем, конечно, никакой статьи я не писал и не напишу, но что-то в этом роде, что-то глупое и гадкое, и потом сбежал из школы, и вот, все не могу отделаться от этой истории. Уже четыре года она засела во мне, в груди, в горле, и когда я ее вспоминаю, меня начинает душить, и я становлюсь, как тряпка. А в сущности, дело было пустяковое, с каждым могло бы случиться…
— Эй, работяга, да ты совсем меня не слушаешь, — посмеивается Невяна. — Где ты?
— Здесь. Ты как?
Между нами — та самая встреча у нее дома и еще что-то, что сближает нас и делает церемонии излишними.
— Сама не знаю. Уже неделю работаю.
— Где?
— Корректором в газете, где раньше печаталась.
— Не трудно?
— Ничуть. Лучше править чужие глупости, чем писать свои. И дома деньги нужны… Это и есть твоя девушка?
Она кивает на Зорку и Пирата. Зорка пошла плясать, крутится. Пират топчется рядом на месте и делает волнообразные движения руками. В ту же секунду я вижу, как две сверхмини, которые снова уселись на зеленую тахту, шушукаются и пересмеиваются, глядя на Зорку. Я холодею.
— Красивая девчонка, — говорит Невяна, но так, будто хочет меня утешить. — Нет, правда красивая. И эти страшные зеленые глаза…
Разумеется, глаза у Зорки совсем не страшные, сейчас они дружелюбны и веселы, но я уже жалею, что привел ее. Жалею ради нее самой — она здесь красивее всех, и не ее вина, что она не может покупать туалеты в «Тексиме» и не умеет одеваться. И никакие утешения мне не нужны. Я злюсь, хочется брякнуть что-нибудь неудобь-сказуемое, но я усмехаюсь. Держись, младший сержант, и без фокусов!.. Никто тебе не виноват.
Зорка совсем разошлась, скачет, как сумасшедшая. Пират даже вопит от восторга, но я замечаю, как он подмигивает обеим сверхмини. Приближаюсь к нему вместе с Невяной:
— Давайте сменим дам!
Он кланяется и становится лицом к Невяне. Зорка едва ли заметила перемену, — она смотрит себе под ноги, которые движутся в такт бешеному чарльстону, волосы упали на лоб. Потом она откидывает голову назад, и красная лава обрушивается ей на плечи. Лицо ее порозовело, глаза блестят.
— Ох, и здорово! — кричит она. — Давно я не танцевала!
Мне хочется сказать ей, чтобы она была посдержаннее, но она так счастлива, что слова застревают у меня в горле.
Когда танец кончается, мы садимся рядом, тут же пристраивается и Пират. Таня обходит комнату с подносом, на котором стоит лимонад. И вовремя, — Зорка уже выпила большую рюмку коньяка и язык у нее мелет без остановки. Пират обращает свое внимание на меня: спрашивает, правда ли, что я Танин одноклассник и где учусь теперь. Отвечаю, что я действительно ее одноклассник, но не говорю, где учусь. Пират медленно растягивает губы в улыбку и с высоты льет лимонад в рот. Лицо у него черное, будто опаленное на медленном огне, он таращится и вертит глазами, словно вот-вот вытащит кинжал из-за пояса, и вообще не выходит из роли. Симпатяга! На Зорку он производит неотразимое впечатление.
— В каком театре собираетесь играть? — спрашивает она, очевидно, продолжая начатый ранее разговор.
— В Народном, конечно, — серьезно отвечает Пират. — Таких красивых и талантливых, как я, только туда и распределяют.
— Тогда мы с Пешо придем на вас смотреть, — Зорка и не подозревает, что он валяет дурака. — Правда, Пешо?
— Да.
Мы чокаемся с будущим актером Народного театра, а он сует палец за ремень и запевает:
Улагаааа, улагуууу, Слава нам, смерть врагу… Дорого стоят четыре жены, Конь вороной не имеет цены…Черная и белая мини-юбки подпевают, все остальные тоже подхватывают. Только мы с Зоркой молчим, — не знаем песни. Таня оставила поднос и двумя руками дирижирует посреди комнаты. Тот, в зеленых очках, — я вижу его в профиль, — стоит у окна и не спускает с нее глаз. Я тоже. Она страшно хороша собой. В свете желтой люстры ее смуглое лицо словно посыпано золотистым порошком, губы — темно-алые, красиво изогнутые в уголках, в глазах нежная дымка, тонкие ноздри пульсируют. И вся она пульсирует и светится… Глупости! Пульсирует моя фантазия, мое давнишнее преклонение перед ней. Если пригласить ее танцевать, колдовство рассеется.
Очкастый включает магнитофон и направляется к Тане, но она поднимает руку в знак извинения, улыбается и издали делает мне реверанс:
— Дамы приглашают, Петьо.
Этого не надо было допускать. Словно я мальчик, которому сделали подарок. Мы танцуем блюз, то есть, еле передвигаем ноги обнявшись, лицо к лицу. Я чувствую ее тепло сверху донизу. И этого тоже не должно было быть, потому что водка ударила мне в голову и мне начинает казаться, будто все происходит не сейчас, а три года назад… Я начинаю разговор…
— Кончаешь институт?
— Нет, на будущий год.
— А, да… Как родители?
— Хорошо. Мама в Варне. Послезавтра мы с отцом тоже уезжаем.
— А кто этот, в очках?
— Приятель. Очень талантливый архитектор. В прошлом году он проектировал нашу дачу в Панчарево.
— А сейчас что проектирует?
Она удивленно смотрит на меня и пожимает плечами. Не поняла вопроса. Я бы на ее месте тоже его не понял, и так лучше. Все это бесцельно, ничего общего с этой девушкой у тебя нет, младший грузчик Клисуров. Что из того, что ты ее поцеловал раз — другой… Впервые это произошло как раз здесь, у этого эркера. Тогда я приходил помогать Тане по математике и однажды, когда мы облокотились на подоконник и пытались угадывать марки машин, которые проезжали внизу по улице, вдруг посмотрели друг на друга и поцеловались. И я перестал к ним приходить. Мы встречались на улице после школы, ходили в парк Свободы или в кино. Еще раз, — в последний раз, — я пришел сюда перед армией. Мы с ней сидели на зеленой тахте и держались за руки, ничего умнее придумать не могли. Таня все смотрела на меня, и на щеке у нее была дорожка от слезы, а я рассказывал смешные истории про мастера с завода. Она не смеялась. Мы тогда даже забыли поцеловаться…
Сейчас на зеленой тахте сидят две сверхминиюбочки с разрисованными глазами и ресницами, как помело. Я стою у проигрывателя, пью коньяк, потому что водка кончилась, и, сам того не желая, слушаю их разговор. Белая юбка рассказывает про какого-то преподавателя, который все время цепляется к ней, когда встречает в коридоре, и вызывал ее в свой кабинет, чтобы подписать зачетку.
— А ты? — таращится черная юбка.
— А я ничего… Фу! Хоть бы помоложе был, а то…
— Дурочка… На будущий год — распределение. Если не будет блата, придется тащиться куда-нибудь в Смолян или в Силистру.
Белая мини машет рукой и задумывается. Я переключаю внимание на Зорку и Пирата, которые сидят неподалеку. Пират рассказывает ей какой-то анекдот, Зорка смеется. Потом он достает записную книжку из нагрудного кармана и что-то записывает. Я смотрю на часы — почти десять. Пора убираться отсюда.
Допиваю коньяк и иду в ванную облить лицо холодной водой. Сую голову под кран, потом глотаю воду и, вытираясь, стою перед зеркалом, поправляя выражение лица. Но в мозгу тяжело, сегодня ночью буду потеть. Когда выпиваю до работы, потом всегда потею.
Возвращаюсь в гостиную и собираюсь предложить Зорке идти домой, но слышу голос Пирата:
— У вас хороший вкус. Откуда у вас эти чулки?
— Правда, — говорит белая мини. — И я хотела вас спросить. Давно хочу купить такие же, но нигде не могу найти.
Черная мини кивает и едва сдерживается, чтобы не фыркнуть. Зорка, довольная тем, какое впечатление произвели ее чулки, осматривает свои ноги.
— Это мне один железнодорожник привез, из Белграда, — говорит она.
— О-о-о!
Пират и обе мини пьяны и не стесняются. Они готовы продолжить игру, но черная мини тоненько смеется, откидывает голову, — просто воет от удовольствия. Белая вторит. Зорка неуверенно улыбается. Пирату удается сохранить серьезное выражение лица. Я хватаю Зорку за руку и поднимаю с места.
— Ты что?
— Пошли.
— Почему?
Она смотрит на меня своими зелеными глазами, зелеными и страшно невинными в эту минуту, а у меня зубы вот-вот раскрошатся, так я их стиснул. Эти там перестали ржать, но Пират, видимо, слишком пьян и не в состоянии соображать.
— Вы похищаете у нас даму, — говорит он. — Это некультурно… Мы тут так хорошо веселились…
Обе мини снова мелко трясутся, припадая друг к другу, и Зорка, заразившись их весельем, тоже смеется. Мне кажется, что вот-вот сойду с ума и начну пинать направо и налево. Но я только наклоняюсь к Пирату и тихо говорю:
— Давай выйдем на минутку.
— Куда?
— Пошли, пошли, я тебе что-то скажу.
Помогаю ему встать. Он подмигивает, дышит мне в лицо!
— Конфиденциальный разговор, а?
Пропускаю его перед собой. Он идет, покачиваясь, точно моряк или ковбой, — по-прежнему не выходит из роли. А может быть, сильно пьян. Зорка тронулась было за нами, но я захлопываю входную дверь у нее перед носом.
На лестничной площадке Пират застегивает пуговицу на рубашке и в глазах его видны проблески отрезвления. Прислоняется к стене, сует руки в карман.
— Ну?
— Хочу сказать, где ты можешь найти лиловые чулки.
Хватаю его за шиворот и дергаю к себе. Он как будто начинает приходить в себя:
— Эй, слушай, рубашку порвешь…
Он пытается разжать мои пальцы, тяжело дышит, побледнел. А у меня пороху на большее не хватает — надо бы двинуть ему, а не могу. Лицо его совсем близко, и теперь оно совсем не пиратское. Обыкновенное лицо, одно из тех, какие я каждый день встречаю на улице, или в кафе, и на вокзале, лицо, как у Кирилла или Шатуна… Не могу, и все тут. Только встряхиваю его, как следует. Мне хочется плакать. Он чувствует мою нерешительность:
— Пусти, а то…
— А то что?
Он ничего больше не говорит — только смотрит покрасневшими стеклянными глазами и держит мою руку за запястье. Я вдруг понимаю всю бессмысленность своего поступка. Если бы он меня ударил, ох, хоть бы он меня ударил, хоть бы толкнул, тогда другое дело… Случилось то, чего я боялся и чего не хотел.
— Ну, и что теперь? — спрашивает Пират с прежним нахальством. Он осмелел и даже подмигивает. — Будем драться или разберемся по-мужски?
— Свинья ты… Грязная свинья.
Я отпускаю его. Собираюсь позвонить, но дверь открывается. Таня, за ней — Зорка. Таня испуганно оглядывает нас:
— Что вы тут делаете?
— Ничего, — отвечаю я. — Знал бы, что среди твоих гостей будут такие типы, не пришел бы. Извини за беспокойство.
— Подожди, — Таня хватает за руку меня, но смотрит на него. — Владко, вы что, поссорились?
— Да как тебе сказать… По пьянке, — бормочет Пират и шмыгает в квартиру.
— Зорка, пошли!
— Минутку! Петьо! — кричит Таня.
Но я уже бегу вниз по лестнице.
На улице Зорка догоняет меня, берет под руку, заглядывает в глаза, а я иду, тяжело дыша и не глядя на нее. Как будто она во всем виновата. Во рту горько, голова чуть не лопается.
— Пешо, — робко говорит Зорка, — что он тебе сделал, что вы поссорились?
— Мне он ничего не сделал, а вот тебе… — взрываюсь я. — Ты не поняла, что они над тобой смеялись?
— За что?
Я не говорю ей, за что, но она вдруг начинает плакать. Прижимается лицом к моему плечу, и мы идем, как слепые, не разбирая куда. Зорка — мужик-девчонка, а плачет. Мне так и хочется стукнуть ее за эти слезы. А должен был стукнуть этому типу…
Должен был — и не смог. Никогда не мог. Как только подумаю, что ударю кого-нибудь по лицу, мне становится страшно. Всегда представляю себе, как хрустнет под моей рукой нос или челюсть и даже слышу этот противный звук, вижу кровь, совсем явственно, как она размазана по лицу и весь холодею. Отец любит повторять поговорку: «Если не хочешь бить наковальней, будь молотом». Говорит, что это сказал Гете и что она очень ему в жизни помогла. Все равно, не могу я быть молотом… Однажды в школе я подрался с одним старшеклассником. Он меня ударил первым, и мы сцепились. Я тогда страшно разозлился, не смотрел куда бью, пока не увидел на его лице кровь. Убежал домой и спрятался в кладовке, хотя никого дома не было. Я был совсем один, и там в темной кладовке плакал целый час, а то и больше. Плакал и трясся, и все видел кровь на лице этого парня, — она текла у него из носа, а он пытался вытереть ее и еще больше размазывал…
Мы уже перед Зоркиным домом. Не понимаю, как мы дошли так быстро. Зорка предлагает поужинать у нее, потом вместе пойдем на работу. Уже одиннадцать, домой возвращаться поздно. В коридоре нижнего этажа все еще хлопочет многодетная мать; увидев нас, она приветливо кивает и даже улыбается. Лицо у нее светлое, сонное и доброе. Из комнаты слева слышен мужской храп.
Входим в Зоркину обитель. Зорка снимает платье, новые туфли, чулки. Лиловые чулки. Прячет все это за скрипучими дверцами старого шкафа и надевает рабочую одежду — брюки, легкую кофточку с коротким рукавом. А мне придется явиться на работу в парадном костюме, вот будут смеяться ребята. Ну и пусть, — их смех необидный.
Зорка приносит из кухни хлеб, колбасу, помидоры. Я жую через силу, потом закуриваю. Есть не хочется. Зорка кладет руку мне на колено:
— Пешо, ты и правда хотел драться? Из-за меня?
— Ешь скорее, опоздаем.
— Пешо…
Она хочет что-то сказать, но ей не хватает слов. Вынимает сигарету у меня изо рта, несколько раз затягивается и снова кладет ее мне в рот. Это лучше поцелуя.
Потом мы молчим. Просто курим и молчим и смотрим в открытое окно на луну, которая медленно поднимается над крышами и становится все светлее и меньше.
8
Бывают дни, когда ничего не хочется делать. Даже читать. Или валяюсь в кровати и играю с Пухом, или выхожу на улицу и шатаюсь по городу, — просто так, неизвестно зачем, неизвестно куда. Бывает, остановлюсь на углу и смотрю, как проходят мимо машины, люди, и опять иду. Бреду, как во сне, и время течет мимо, не касаясь меня.
Сегодня как раз такой день. Шесть часов вечера и что делать до двенадцати, не знаю. Сижу у столика перед окном и нет сил пальцем шевельнуть. Даже курить не хочется. Я медленно гашу сигарету в пепельнице, медленно размышляю, — и все о вещах неприятных. Противно все время думать о неприятных вещах, но я, как заведусь, не могу остановиться. Вот и сейчас, — вспомнился этот Пират у Тани и пошли цепляться одна за другую разные неприятные истории, пока я не решил, что в жизни мне не везет.
А почему не везет? Почему именно со мной случилась эта история в школе, после которой все пошло вкривь и вкось? Почему и в казарме мне все время что-то мешало, я старался, но что-то мешало и в конце концов даже старшина Караиванов махнул на меня рукой? Почему Таня мне изменила? Почему, когда мне чего-то хочется, я должен добиваться этого ценой больших усилий и неприятностей, чем другие, а нередко и вообще так и не добиваюсь своего? Почему, почему, почему… И почему я все задаю себе вопросы, на которые сам не могу ответить?
Просто я не на своем месте как сказал бы дед. «На своем месте» — «не на своем месте» это у него как у Кореша «по-мужски», «не по-мужски». Ладно, пусть не на своем месте, а почему? Смешно…
Лучше бы лечь и выспаться, только спать-то мне не хочется. И чего я расфилософствовался? Бате Апостолу тоже не везет. И дяде Атанасу не везет, хотя сам он так не считает. И доктору Еневу не везет, а живут же люди, не жалуются, делают свое дело. Делают — и притом не хуже других.
Эта мысль как будто успокаивает, и я возвращаюсь к сегодняшнему дню и бате Апостолу.
Сегодня после обеда мы с Корешем ходили к нему. Купили большой арбуз. Но его дома не оказалось. Хозяин квартиры, старичок, пенсионер, который ковырял мотыжкой во дворе грядку, сказал, что батя Апостол пошел в аптеку за лекарствами. Доктор разрешил ему только по двору ходить, а он, видишь, сказал, что сам знает, здоров или нет, и пошел в аптеку.
— Я было хотел сходить, да он не дал. Вот, велел огурцы рыхлить… Вы, ребятки, зайдите, подождите его.
Хозяин был маленький человечек с голой головой и слезящимися глазами, в очках с проволочной оправой. Он все утирал нос и губы большим синим платком в цветочках. Огурцы на грядке были тоже мелкие, в пупырышках. Он расправлял листья вокруг огурцов, чтобы не загораживали солнце, и маленькими сухонькими руками трогал их бережно и нежно, как новорожденных котят.
И домишко у него был тех же размеров — низкий, одноэтажный, побеленный снаружи, с маленькими кривыми окошками. Воздух внутри был затхлый, пахло старостью и одиночеством, изъеденные половицы скрипели при каждом шаге. Мы вошли в комнатушку бати Апостола. По величине она была, как Зоркина, только еще скуднее и беднее. Кровать, стол, покрытый синей бумагой, два стула — новые, грубо сколоченные, покрашенные и яично-желтый цвет. На полу — два старых половика. На столе — маленький ящик радиоприемника, пузырьки и тюбики с лекарствами, кусок брынзы на бумажке, буханка хлеба. Пол не подметен, в углах под потолком паутина.
Кореш положил арбуз на стол, осмотрелся и тихонько выругался.
— Сколько платит наш старик за эту комнату? — спросил он хозяина.
— А десять левов, — так, больше для порядка, — усмехнулся тот. — Я его держу вроде для компании, присматриваем друг за другом. Иначе нам, старикам, нельзя. — Он с трубным звуком высморкался в свой платок и вздохнул. — Старость — не радость. Дом-то скоро сносить будут. Будем живы-здоровы, поселят нас с Апостолом в какой-нибудь новостройке…
Он потоптался, постучал ногтем по арбузу, рассмотрел его поближе, глядя поверх очков.
— Вроде зрелый, а будет ли сладкий… Мы с Апостолом старые знакомые, на одной фабрике вместе работали еще до войны. Я при матрицах был, а он молотом махал… Это он в последние годы так… съехал. Был у него и дом в квартале «Хаджи Димитр», лучше моего дом и обставлен был, как надо. Но когда сын у Апостола выучился и семью завел, он все продал, — мол, не идти же сыну к жене ни с чем… Да нам с ним дома эти да обстановки ни к чему. На тот свет не понесешь. Это молодые пускай об этом думают.
Он засмеялся мелким и хитрым смешком, словно кого-то ловко обманул, и пошел обратно во двор. Кореш глянул на меня и что-то пробормотал себе под нос.
— Что?
— Говорю, не знал, что у бати Апостола сын есть.
— Есть. Инженер, в Шумене живет.
Кореш что-то проворчал, вышел и вернулся с веником. Подмел комнату, смахнул паутину с потолка и стен, даже оправил одеяло на кровати. Потом мы вышли во двор. Мы сидели на скамейке и курили, а бодрый старичок перекапывал огурцы и рассказывал, как построил когда-то этот дом без разрешения городской управы. Строил с помощью приятелей, таких же бездомных, как и он сам. За одну ночь поставили стены и настлали крышу; главное была крыша, потому что иначе являлась пожарная команда и разрушала такие контрабандные постройки. Настоящие сражения происходили здесь, в этом квартале, с пожарными и полицейскими. Но он успел покрыть дом черепицей за одну ночь и полдня, к обеду дом был под крышей, да и рабочие депутаты в то время встали за бездомных, подняли бучу в Народном Собрании, и пришлось властям поослабить вожжи.
— Такие-то дела, ребятки. Жизнь тогда приходилось зубами выдирать у богачей. Они в одну сторону, мы в другую, — кто кого… Голь ведь на выдумки хитра, как ее ни прижимай, всегда что-нибудь придумает, а?
Он подмигнул и снова засмеялся своим мелким хитрым смешком.
Мы ждали больше часа, но батя Апостол все не появлялся. Хозяин сказал, что у него есть приятель, живет за мостом, в квартале «Надежда», может, он туда пошел, — и мы начали прощаться. Он проводил нас до калитки.
— Жалко, не застали Апостола, вот бы обрадовался, — сказал он. — Все он про вас да про вокзал говорит, будто про дом родной. Вы заходите еще.
— Передайте ему привет от Кореша и Пешо.
— Передам. — Старичок вытащил из кармашка брюк большие часы с потемневшей крышкой, что-то нажал, и крышка отскочила. — Тю-ю, пять часов. Пойду поищу его, не случилось ли чего.
Трясясь в трамвае, мы с Корешем долго молчали. Опершись головой о стекло, Кореш уставился в окно и время от времени ожесточенно почесывал свой длинный нос, — верный признак, что злится. Когда мы сошли с трамвая на площади Бабы Недели, он кивнул и пошел было к остановке первого — ехать к себе — но вернулся:
— Слышь, Кореш… Я придумал. А пишет ли сыну батя Апостол?
— Говорил пишет. А тебе зачем?
— Давай и мы напишем этому сыну, а? Пару ласковых… Ты пограмотней меня, сочинишь.
— Можно. Только я адреса не знаю.
— А ты спроси батю Апостола, на каком заводе работает этот… — он добавил крепкое словечко и вздохнул: — Что-то неохота домой… Зайдем куда-нибудь, что ли, горло промочить.
Но мне не хотелось промачивать горло. Я чувствовал, что если начну, обязательно напьюсь, а этого я не люблю. И смысла нет. Не помогает. Лучше подумать о чем-нибудь или прочесть хорошую книгу, настоящую.
Кореш все-таки сел на единицу и поехал домой, а я отправился к себе и заперся в своей комнате.
Спешу на вокзал. Улицы пусты, идет дождь, не сильный, но промокнуть можно, трамваи и троллейбусы давно убрались в депо. Ищу такси, но такси попадаются редко и все заняты — разъезжаются по домам последние гуляки. Ничего не попишешь, придется отмахать три километра бодрым шагом.
Когда я выхожу на работу, дома все спят, будить меня некому. А сегодня я забыл завести будильник и проспал. Сейчас половина третьего. Помшефа Ненов, наверное, икру мечет. Работы много, а Шеф в отпуске и батя Апостол болен. И Студента нет, на летней практике. Остаются Кореш и Шатун, двое вместо пятерых, и ничего удивительного не будет, если Ненов махнет рукой на свои почки и начнет кидать пакеты.
Поднимаю воротник куртки и прибавляю ходу, почти бегу. В кармане шуршит бумага, в которую завернуты бутерброды. Пока я мазал хлеб маслом и резал колбасу, в кухне появился дед в пижаме, с коробкой сигарет, присел у электрической печки и закурил. Раньше на месте этой печки стояла кухонная плита, и он по ночам любил присесть перед ней и открывать дверцу; тепло от углей согревало ему лицо, и он пускал дым от сигареты в дверцу в ожидании, когда пройдет бессонница. Привычка сохранилась. Когда ему не спится, он выходит в кухню курить и думать о своих делах. Увидев меня, он обрадовался:
— Ты еще здесь?
На то, что я опоздал на работу, он не обратил никакого внимания, хотя в другое время прочел бы мне целую лекцию, и начал рассказывать, как встретил сегодня старого своего товарища, с которым вместе сидел когда-то в концлагере, и каким тот был, каким стал, и что они по этому поводу друг другу сказали. Этот его товарищ был ворчун, ворчуном и остался: много нестоящего народу развелось, карьеристов, выскочек, мы в свое время думали одно, а вышло по-другому. И прочее в том же роде.
— Как будто кто ему вексель подписал, что все получится точно так, как он думал, — сердито сказал дед. — Жизнь есть жизнь, люди всякие рождаются, говорю ему, народ не из одних ангелов состоит. Нет, говорит, если ты марксист… ты мне объясни, почему рождаются разные такие… Старики мы, Петьо, вот что. Все нам не то да не так, все придираемся к мелочам… Задел он меня за живое, до сих пор заснуть не могу.
Мне стало смешно. И у деда с его приятелями есть свои печали. Послушать, как они говорят на лавочках в парке — все про идеи говорят и сердятся, как будто от них зависит, чему быть, а чему нет. Они, как дети, которым принесли воздушный шар, — только протянули к нему руку, а шар-то и лопнул.. Они свою песню спели, дед и сам это говорит, чего же им еще?
Я поспешил уйти. Дед был разочарован:
— Куда торопишься, и так опоздал. Ну, опоздаешь еще минут на десять… Извинишься там, выступишь с самокритикой, — хихикнул он.
«Печали» — это тоже словечко деда. Когда он его произносит, мне кажется, что ему и грустно, и смешно, и больше всего он смеется над самим собой. Странный старикан!
Дождь не обложной. На площади Ленина и дальше сухо и чисто. Большая статуя Ленина слева простерла руку к Дому партии и к городу, указывает на что-то, и вся она устремлена туда же. Облака над городом спустились низко и от уличных фонарей кажутся красноватыми. Душно. Я снимаю куртку и ускоряю шаг, и слушаю, как отдаются мои шаги в темных проемах зданий. Как в фильме, когда какая-нибудь одинокая душа шагает в ночи, не зная, что ждет за углом. От молчаливых витрин на тротуар падают световые дорожки, которые ведут только до противоположного тротуара, глухие переулки завешены темнотой, и я перехожу их и считаю в уме: один, два, три… Но им конца нет.
Первый человек, кого я вижу в экспедиции, — батя Апостол. Я останавливаюсь, удивленный и неизвестно почему испуганный, даже сердце начинает колотиться, а он вместе с Шатуном продолжает швырять пакеты в проволочную корзинку электрокара. Я не верю своим глазам, потому что только сегодня его хозяин сказал, что врач едва разрешил ему гулять по двору. Батя Апостол замечает меня. Он выпрямляется, вытирает лоб и усы и улыбается:
— Пешо, здорово! Арбуз был первый сорт, красный, как кровь. Благодарствую.
Сжимаю его руку, широкую и костистую. Пальцы у него растопырены, не собираются в ладонь, суставы обезображены работой и артритом.
— Да чего там арбуз, — говорю я. — Ты зачем пришел?
— Надоело валяться, — смеется он. — Думаешь, легко целый день в потолок глазеть, когда всю жизнь вкалывал?
Из-под его усов пахнет чем-то кислым и водкой. На лице остались одни скулы, глаза посветлели, в них играют веселые хмельные искорки. Раньше он до работы не пил.
— Батя, что-то рано ты хлебнул. Тебе же нельзя?
— Нельзя, да я немножко, для храбрости. Еще дома. Ты что же опоздал?
— Проспал.
— Ненов аж язык проглотил, — растягивает рот в улыбке батя Апостол. — Остались один Кореш с Шатуном, он и сдрейфил. Накрылась наша премия, говорит, а может еще и из зарплаты вычтут.
— Вчера я слышал, он говорил, что у него очередь подошла на «запорожец», — отзывается Шатун. — Наскреб всю сумму, в долг взял и в кассе взаимопомощи. Ты, батя, иди к экспедиторшам, отдохни.
— Успею.
В туннель врывается Кореш на втором электрокаре. Одному ему пришлось работать. Заметив меня, направляет машину ко мне, я отпрыгиваю к стене, но он все же ухитряется меня толкнуть. Соскакивает и тут же сует в рот сигарету.
— Я уж думал, что и ты слег. Ты где был?
Говорю ему, где был, он почесывается, поджимает губы и смотрит на меня своими бычьими глазами. Потом обращается к бате Апостолу:
— Теперь давай домой.
— Э-э-э, — говорит батя Апостол, — раз пришел, смену кончу. Я вроде ничего.
Он вроде ничего, но по его лицу и шее течет пот, воротник спецовки мокрый. И на спине — темные мокрые пятна. Но раз он решил остаться, никого слушать не станет. Кореш тоже это знает. Он подмигивает мне и кивает на лестницу, которая ведет на верх. Шатун и батя Апостол уезжают с нагруженным электрокаром, а я бегу наверх. В конторе застаю Ненова — он сидит и заполняет карточку спорт-тото. Про опоздание не говорит, только убирает карточку и кивает:
— А, хорошо, что пришел.
— Начальник, — говорю, — бате Апостолу плохо, скажи ему, чтобы шел домой.
— А мне показалось, что он уже здоров.
— Не здоров. Скажи, пускай идет домой.
— Ладно, ладно, дело простое…
Я сбегаю вниз, и мы с Корешем начинаем грузить. Сегодня ночью придется здорово попыхтеть. Мы швыряем пакеты, как бешеные, электрокары со свистом носятся по перрону, поезда глотают пакеты и отправляются один за другим, а мы снова и снова летим к экспедиции и даже закурить некогда. Даже Кореш устает и начинает ворчать. Не знаю, говорил ли Ненов с батей Апостолом, но тот не ушел, и мы оставляем его в экспедиции — все передохнет от одного электрокара до другого. Перед рассветом Зорка приносит ему бутылку лимонада и он время от времени мочит горло. Он еле стоит на ногах, но весел и пошучивает:
— Давай, бычки! Держись, слабаки!
— Помолчал бы ты, батя! — кричит ему Кореш, — нам тут только злой свекрови не хватает!
— А вы не копайтесь, смотреть тошно!
Утром, когда остается всего один поезд, скорый варненский, мы с Корешем закуриваем и я медленно пробираюсь с пустым электрокаром по перрону среди пассажиров. Проезжаем мимо второго электрокара с Шатуном и Неновым, который, видно, решил наконец-то помочь.
В туннеле перед экспедицией батя Апостол сидит на двух пакетах, прислонившись к стене. Голова запрокинута, рот открыт и чернеет под увисшими желтоватыми усами. Весь он наклонился набок, пальцы правой руки уперлись в пол. Спит.
Мы с Корешем соскакиваем и грузим электрокар. Это последняя партия, и мы хотим всю ее нагрузить в две корзины, чтобы не возвращаться во второй раз. Стараемся не мешать бате Апостолу, но к концу вспоминаем про пакеты, на которых он сидит. Кореш легонько трогает его за плечо:
— Батя, вставай. Спать будешь дома…
Батя Апостол, вместо того, чтобы проснуться, как-то странно соскальзывает со своей импровизированной табуретки, нагибается вперед и падает на цемент вниз лицом. Мы бросаемся к нему, он повисает у нас на руках. Глаза его закатились.
— Пешо, что с ним? — кричит испуганно Кореш и старается опять усадить старика на пакеты. — Беги, вызывай скорую помощь!
В туннель въезжает пустой электрокар с Шатуном и Неновым.
— Что тут у вас, ребята?
— А то, — огрызается Кореш. — Врача надо. Звони в скорую.
Ненов тоже пугается, даже больше, чем мы. Стоит, как вкопанный, вытаращив глаза, и губы у него дрожат. Потом бросается к конторе.
Около нас уже собрались работницы экспедиции, двое служащих, какой-то незнакомый человек.
Кладем батю Апостола на спину, на толстую упаковочную бумагу. В лице у него ни кровинки. Есть что-то печальное и страшное в этом лице, с широко открытым ртом и глазами, которые смотрят вверх и внутрь. Женщины охают и тихо переговариваются под свирепыми взглядами Кореша. Мужчины переглядываются и молчат.
— Пешо, может, сделать искусственное дыхание? — неуверенно спрашивает Кореш. — Надо же делать что-нибудь.
— Нельзя его трогать.
Хоть это-то я знаю: сердечным больным нужен покой. Зорка приподнимает голову бати Апостола, и я подсовываю ему пиджак и кепку. Потом встаю на колени и беру его за кисть левой руки, стараюсь найти пульс. И не могу найти. Руки у меня дрожат, сердце колотится и непонятно, чей пульс бьется у меня под пальцами, его или мой. Нет пульса… Задерживаю дыхание и снова ощупываю внутреннюю сторону его кисти, ищу ток крови, жизни в этой крупной темно-желтой руке, руке, обезображенной еще в молодости, с синим обрубком вместо мизинца. Со лба у меня падает капля. Пульса нет… Нет, есть! Есть! Слабый, затихающий, еле уловимый, — но есть, точно есть.
— Есть! — слышу я свой голос и вскакиваю. Прибегает запыхавшийся Ненов:
— Дозвонился. Сейчас приедут.
— Приедут! — сердито говорит мужской голос. — Почему не вызвали нашего врача?
Это Василев, парторг. Черноглазый, черные волосы торчком, всегда хорошо одет, в рубашке с галстуком. Не знаю, кем точно он работает, но знаю, что парторг. В экспедицию он заглядывает редко, а вот сейчас пришел.
— Что с Апостолом?
— Припадок, товарищ Василев, — объясняет Ненов и начинает застегивать пиджак. Его глаза в крапинку смотрят прямо в глаза Василева. — Что-то нездоров…
— Раз нездоров, почему допустили к работе?
— Кто мог предположить, товарищ Василев. Я хотел освободить его от работы, но он не согласился.
Ненов разводит руками, как человек, который сделал все, что в его силах. Василев молча вынимает из кармана коробку «Родоп» и закуривает.
Прибегает врач вокзальной медицинской службы, с ним — Кореш. В ту же минуту появляется и врач скорой помощи с санитарами и носилками. Наш уже наклонился над батей Апостолом со стетоскопом. Все мы стоим неподвижно, даже шепота не слышно. Только с улицы доносится шум перрона и тяжелый перестук паровозных колес.
— Кома, — говорит врач и выпрямляется.
Он и еще что-то говорит по-латыни врачу скорой помощи, и тот кивает санитарам. Они кладут батю Апостола на носилки, поднимают их и несут, ступая легко и мелко. Словно несут динамит.
Мы с Корешем бежим за санитарами, но они уже засовывают носилки в белую машину. Дверцы захлопываются.
— Все, — тихо говорит Кореш. — Конец нашему старику.
Нет, не конец. Батя Апостол — жилистый мужик, просто так не сдастся.
Набиваемся в маленькую контору на верхнем этаже — мы трое из бригады, Зорка и одна пожилая женщина из экспедиции, и стоим, а Ненов каждые десять-пятнадцать минут вертит телефон. Он страшно устал, бесцветное лицо осунулось, галстук сбился на сторону. Но накручивает телефон, и мы слышим сердитый голос дежурной сестры, которая говорит, чтобы позвонили в середине дня. Он тоже ругается в трубку. Говорит сестре, что ее дело — давать сведения о больных, а не сидеть нога на ногу, и еще, если ей лень проверить, он позвонит главному врачу. Прямо разбушевался по телефону, никогда я его таким не видел. И он становится мне симпатичным. Даже Кореш, и тот кивает и смотрит на него с одобрением. В конторе так накурено, что нечем дышать.
Наконец, в половине одиннадцатого дежурная сестра сообщает, что батя Апостол пришел в сознание. Нам становится легче. Ненов кажется счастливее всех. Он поправляет галстук, волосы и смотрит на нас с победоносной улыбкой, будто это он спас батю Апостола. Ничего, пускай. Он совсем не такой эгоист, как кажется, и я жалею, что плохо о нем думал. У кого нет недостатков?
9
Вчера приходил дядя Атанас. Он явился в сумерки и попал как раз вовремя, потому что настроение дома было ниже нуля. Утром пришло письмо от Димы, что этим летом она на каникулы не приедет, потому что хочет как следует подготовить диплом, и приедет только к Новому году на неделю-две. Отец, как пришел с завода и прочел письмо, сразу помрачнел и тут же включил телевизор, — так он делает, когда ни с кем не хочет разговаривать. Они с Димой всегда хорошо друг друга понимали, как мы с мамой. Мама тоже расстроилась и закрылась в кухне — готовить ужин. Я вдруг почувствовал себя десятой спицей в колеснице и ломал себе голову, куда бы удрать, пока не сели за стол, когда появился дядя Атанас.
Он всегда приходит вовремя. Есть такие люди — когда ни придут, все вовремя. Надо полагать, если он явится в гости к далай-ламе или к американскому президенту, тоже придет вовремя и кстати, и никто не будет считать его присутствие излишним. Просто придет, сядет, скажет что-нибудь или молчать будет, и люди почувствуют себя лучше.
На этот раз он притащил четыре бутылки пильзенского пива, банку рыбьей печенки и другие рыбные деликатесы (опять услужил приятель из соответствующего магазина), и еще с порога объявил, что сегодня он угощает. Отец слегка усмехнулся и спросил, когда он не угощал; мама проницательно на него посмотрела:
— Уж не собрались ли вы с Киной жениться?
Дядя пожал плечами, пошевелил своим мясистым носом и вместо ответа извлек из брючного кармашка золотую «Омегу». Крышка отскочила, прозвучали первые такты арии тореадора в исполнении хрустальных звоночков.
— Дядя Атанас, где ты их нашел?
— Петьо, — проговорил дядя Атанас, — даю тебе совет: когда хочешь что-нибудь найти, не ищи, само найдется.
— Ну хорошо, а все-таки? — сказал отец.
Дядя Атанас попросил у мамы консервный нож и, открывая банку с печенкой, пояснил:
— Тогда я абсолютно ничего не предпринимал. Только сказал одному из ребят, что потерял часы. А в общежитии мои часы все знают…
— Еще бы не знать, — рассмеялся отец.
— И еще упомянул, что они у меня — память о покойнице. И все! Да… А сегодня после обеда прихожу в свою комнату вздремнуть, как повелел Магомет всем правоверным, и смотрю, на тумбочке что-то блестит. Вот как!
— Дядя, что-то мне это дело не очень…
— Очень или не очень, а факт есть факт. Вот, пожалуйста. — Он снова вытащил часы, помахал ими перед моим носом и опять убрал. — Говорил я вам, что мои ребята — золото. Хорошо, что не взял греха на душу, не пошел в милицию.
Сели ужинать. Дядя Атанас разливал пиво по стаканам и развивал какую-то сложную и довольно путаную психологическую теорию, которая пришла ему в голову наверняка только что. Мама подкладывала ему в тарелку одну котлету за другой, и он, увлекшись философскими открытиями, лопал со страшной силой. Остановился только на шестой или седьмой котлете:
— Ленче, ты меня убить хочешь… Еще есть?
Мама предложила поставить сковородку на плиту, но он запротестовал:
— Не надо! Ты же знаешь, что я ем, чтобы жить, а не наоборот. Во всяком случае, этой ночью не придется вставать, чтобы рыться в буфете.
В коридоре зазвонил телефон, и отец вышел. Сначала он говорил тихо, но потом повысил голос, и мы стали прислушиваться.
— Нет. Тебе хорошо известно, что у нас на заводе оцинкованная проволока не производится… Не завозим, не нужна… Да… Не знаю, где найти…. Есть кооперации, которые делают проволочные сетки… Нет, не могу помочь.
Трубка была повешена с треском, а отец вернулся в кухню побагровевшим. Он одним духом допил свое пиво. В такие минуты только мама осмеливается говорить, и она спросила, кто звонил.
— Миленков, из объединения, — резко ответил отец. — Дали мы ему старого железа, огородить дачу, так теперь просит проволоку. Простачок!
— Ты ему дал железо?
Не надо мне было задавать этот вопрос, но он слетел с языка сам собой. Я вспомнил, как презрительно отец ответил мне весной, когда я спросил, дадут ли они железо этому Миленкову: «А ты как думаешь?» Сейчас к нижней губе у него пристал листик петрушки из салата, и мне страшно захотелось протянуть руку и смахнуть этот листик. Так сильно захотелось, что я отвернулся, чтобы не видеть этот листик.
— Дал, — ответил отец, и голос его прозвучал неожиданно тихо. — Цонков настоял. Как говорится, в интересах дела.
— Кто этот Цонков? — спросил дядя Атанас.
— Мой главный инженер.
— А-а-а, да, — отозвался дядя Атанас. Я его как-то застал у вас. Впечатление производит… Я тогда, слушая его, еще подумал, что заместитель тебе готов.
— Да?
— Солидный человек, — продолжал дядя Атанас. — Деловой. Я делового человека сразу узнаю, по голосу, по жесту. Твой главный инженер — человек с будущим.
— Конечно, — сказал отец. — Он очень способный. Я сам настоял на его назначении, хотя он и молод. Надо готовить смену. — Он помолчал. — Выпьем еще? Лена, в холодильнике есть бутылка вина.
Я не взглянул на него ни разу во время этого разговора, но чувствовал, что он улыбается. Именно потому я боялся на него взглянуть. Я встал и под предлогом, что хочу вздремнуть до работы, ушел к себе. С кухни еще долго были слышны разговоры и смех. Голос отца звучал громче других.
Но не потому я не мог уснуть. Внешние голоса мне никогда не мешают. Просто думал об отце, об этом его «А ты как думаешь?», и о его детстве в Ючбунаре, и о петле, которая висела у него над головой, когда его арестовала полиция. Тогда он не уступил и получил всего пять лет тюрьмы, и даже переписывался с дедом, который сидел в лагере Еникьой. Дед до сих пор хранит эти письма, однажды он мне их показал. Умные, веселые письма. Все про дела домашние, потому что иначе они не дошли бы до адресата, но чувствуется, что за вопросами о здоровье бабушки и брата кроется совсем другое, гораздо более важное для отца, чем здоровье бабушки и его брата. Я их читал и удивлялся, как можно быть таким веселым в тюрьме.
Я лежал на спине и слушал голос отца из кухни, и сравнивал его с голосом этих писем. Не невесть что произошло, конечно. Я понимал, что если бы этот случай произошел с другим человеком, а не с отцом, он не имел бы значения: какое-то старое железо, за которое этот тип к тому же заплатил, дали, чтобы он огородил дачу… Бывает и так, как выразился бы инженер Цонков. Но отец когда-то написал эти письма, и выучился на инженера заочно, ценой сна и здоровья, и только железный организм помог ему выдержать, и потом уже, совсем недавно, сказал, презрительно выпятив нижнюю губу: «А ты как думаешь?»… Сейчас отец смеялся в кухне, наверное, над дядиными чудачествами, или, может быть, даже над инженером Миленковым и его оградой, а я укрылся с головой и не хотел слышать этот смех. На меня напала моя болезнь, когда не хочется слышать ничьего смеха и даже ничьего шепота, и когда из тысяч мыслей и улыбок, которые и составляют жизнь, я пытаюсь по кусочкам собрать самого себя…
Я сбросил одеяло. Пух испуганно мяукнул и, озираясь, прыгнул на пол. Я встал и открыл окно, чтобы меня продуло ветром. Ночь была теплая и неподвижная, ветра не было. В окне напротив, на той же высоте, что и мое окно, за задернутыми занавесками танцевали ломкие тени, которые то исчезали, то очерчивались ясно. В сущности, весь дом светился, еще не было одиннадцати, и я стоял и всматривался в каждое окно. Ночной город всегда действует на меня своей пестротой: зеленые, красные, синие, желтые, оранжевые, фиолетовые, серебристые, золотые окна, каких никогда не увидишь днем. Но только в окне, что на одной высоте с моим, были видны танцующие тени.
Прекрасно делают, что танцуют, сказал я себе. Потом будут пить коньяк или вино, будут гладить друг другу руки и пойдут в соседнюю комнату. И прекрасно делают… Даже если кто-нибудь выскочит в окно, прекрасно сделает…
Наверное, я был пьян. От чего? От двух стаканов пива? Подсчет меня отрезвил, и я сказал себе, что, в сущности, в этой истории со старым железом ничего особенного и ничего смешного нет. И если бы человек, который дал железо, не был моим отцом, с его презрительной, с его убийственной нижней губой, я бы тут же лег и спал, как младенец. Да почему же меня все это так тревожит?
Может быть, потому, что со мной случилось нечто подобное, теперь я это понимаю. Только я был слишком мал, чтобы рассмеяться и снова сесть за парту. Я был мал, — всего в десятом классе, — или уже большой, уже в десятом классе; и во всяком случае воспринял всю историю более трагично, чем она того заслуживала. Я не хотел поднимать сигарету с пола в школьной уборной, а поднял… В сущности, так и надо было. Ставрев выполнял свой долг, и каждый учитель на его месте, наверное, поступил бы точно так же, но с этой минуты меня словно подменили, и я забыл, каким был раньше. Может, таким же, но я не помню, чтобы до этого мне случилось заболеть страхом — вдруг обо что-то споткнусь или вдруг меня собьет; этот страх появился именно тогда, а не в тот день, когда мне перевязали глаз из-за стружки.
Все получилось оттого, что я поднял грязную сигарету, уже мокрую, с пола школьного клозета. Нас было трое, мы курили у открытого окна и пускали дым на улицу. Еще один караулил у дверей, но, видимо, зазевался, потому что Ставрев, учитель по физике, вошел совсем неожиданно. Остальные успели улизнуть, а я заметил учителя, когда было уже поздно: он заложил руки за спину и смотрел на меня. Я не испугался, было только стыдно и унизительно. Бросил сигарету на пол. Он еще минуту смотрел на меня — спокойное лицо, спокойные глаза, — и сказал: «Подними сигарету». Я молчал и не двигался. «Подними сигарету», — повторил Ставрев, не повышая голоса. У меня потемнело в глазах. Мне казалось, что я сейчас упаду, или ударю его, или закричу. Если бы он сделал хоть одно движение или повысил голос, что-нибудь случилось бы… Но он стоял прямо, положив руку за спину, и только смотрел на меня. Я нагнулся и поднял сигарету. Тогда Ставрев протянул руку, двумя пальцами взял меня за рукав повыше локтя, двумя пальцами, словно грязную тряпку трогал, и повел за собой.
И я пошел. Теперь он мог вести меня куда угодно. Я шел по коридору с мокрой сигаретой в пальцах. Я держал сигарету легко, не сжимая, чтобы не высыпался табак и не запачкал блестящий пол в коридоре, а Ставрев держал меня двумя пальцами и так привел в класс. В наш класс. Я не видел своих одноклассников, смотрел себе под ноги. Ставрев подтолкнул меня к доске, встал рядом и поднял, все так же двумя пальцами, мою руку с сигаретой: «Посмотрите на вашего одноклассника Клисурова. Полюбуйтесь». Отпустил меня и вышел… А я бросился на улицу.
Какой была бы моя жизнь сейчас, если бы не эта история? Эта глупая, нелепая история!
А самое смешное, что тогда я еще не курил. Закурил просто шутки ради из удовольствия нарушить запрет. Мокрая, грязная сигарета, которую я поднял с пола, была моей первой в жизни сигаретой.
10
Я вхожу один, потому что двум нельзя. Кореш отказался в мою пользу и остался ждать во дворе. Сегодня к бате Апостолу в первый раз пускают посетителей.
Он лежит в маленькой палате еще с одним больным. Под спиной у него высокая подушка, он полусидит. Голова утонула в подушке, руки спокойно лежат на одеяле. Рукава синей больничной пижамы открывают только кисти рук, широкие и желтые, и кажется, что выше, под рукавами, рук нет. Лицо осунулось, остались только висячие усы и глаза, прозрачные голубые глаза бати Апостола, которые встречают меня улыбкой. Из-под одеяла торчит нога — щиколотки не видно, вся ступня опухла и желтая, как дыня.
У него уже есть посетитель. Молодой мужчина в хорошем сером костюме. На коленях у него аккуратно сложенный плащ и шляпа. Он сидит в изголовье у бати Апостола, опустив плечи, но видно, что он человек крупный и сильный, и когда я пожимаю руку старику, внимательно взглядывает на меня прищуренными глазами.
— Пешо, познакомьтесь. Это Траян, — говорит батя Апостол.
Он говорит, как всегда, тихо, только задыхается и потом прикрывает глаза. Мужчина на два сантиметра привстает со стула и подает руку:
— Веселинов.
Я понял, что это сын, как только вошел. Кладу пакет груш на белую тумбочку, присаживаюсь на белую деревянную табуретку. Сын неловко молчит, пошевеливает плечами и слегка морщится — в этой гримасе есть что-то от бати Апостола. И в глазах, ясных и голубых, сосредоточенных, с покрасневшими веками, как будто он не выспался.
— Я вас перебил, — встаю я, — подожду в коридоре.
— Оставайся, у нас секретов нет, — говорит батя Апостол и поднимает руку, чтобы меня остановить.
Сын, явно недовольный, вертит в руках шляпу. Я отхожу к окну и смотрю на улицу, в больничный сквер, где больные в халатах сидят с посетителями. По дорожкам снуют врачи и сестры в своих белых облачениях. Но мое внимание — в палате. Может быть, потому, что здесь сидит сын бати Апостола — сын, которого он не видел четыре года. Молчание давит мне плечи, они даже начинают болеть от тяжести. Все-таки надо было выйти.
— Вот такие дела, папа, — произносит сын. — Ты выздоравливай. В следующем месяце опять приеду, у меня теперь часто командировки в Софию.
— Когда приедешь?
— Думаю, в первых числах. Хотя собрать нас на одно совещание… Как встанешь на ноги, возьму тебя в Шумен, поживешь немножко в провинции.
— Ничего, — говорит батя Апостол, — ты обо мне не беспокойся.
— Приедешь к нам. Сейчас есть где тебя устроить, мы с Катей купили квартиру в новом доме.
— А, это хорошо. Поздравляю. Привет Кате. И малыша от меня поцелуй. Если приедешь, привези и его… А?
— Можно. Ни о чем не тревожься, лечись.
— Привези его, пускай на деда поглядит. Сколько ему уже?
— Я же тебе сказал, пять лет исполнилось. Страшный озорник. Здоров, рост выше нормы.
— Привези его, не забудешь?
— Ладно, ладно…
Стул под сыном скрипит, и я оборачиваюсь. Он уже встал и собирается уходить, но нагнулся к отцу и положил руку ему на лоб. В другой руке держит плащ и шляпу.
— Температуры нет, — говорит сын. — Поправишься.
— Ясное дело… Ты не беспокойся, я здоров, как бык. Так, говоришь, в первых числах?
— Да. До свидания, папа.
Какое-то время сын вертит в руках свою шляпу, словно колеблется, уйти ему или нет. Он высок, лицо у него смуглое, с румянцем на скулах, энергичное. Лицо человека, который много работает и здоров поесть. Плечи и шея у него, как у борца. Он еще раз сжимает руку бате Апостолу, бросает мне беглый взгляд, кивает и уходит.
Я сажусь на его место. Батя Апостол закрыл глаза, дышит тяжело. В груди у него хрипит и клокочет, как в испорченном насосе. На другой кровати, возле двери, протяжно охает больной и снова утихает. Я не вижу его лица, он повернулся к стене. Только пальцы руки, закинутой за спину, шевелятся и тоже замирают.
Батя Апостол открывает глаза.
— Ну, добро пожаловать, Пешо. Уморился я немножко… Как ты? Как ребята?
Я рассказываю, как ребята: Кореш ждет на улице, его не пустили; Шеф вернулся из отпуска и в воскресенье придет в больницу; на месте Студента работает новый человек, один парень из Верхне-Богрова; Ненов получил «запорожец» и море ему по колено; Шатун собирается жениться…
— Шатун? Женится? — Батя Апостол смеется своим глуховатым смешком и шлепает рукой по одеялу. — Нет, верно?
— Честное слово. Вчера ходил с невестой покупать, что полагается на свадьбу.
— Ай да Шатун, вот уж не думал? — он захлебывается и начинает кашлять тихо и бессильно. Лицо его становится синеватым. — И… и когда свадьба?
Я прошу его не говорить, если это ему трудно, я пришел ненадолго.
— Посиди, — он кладет руку мне на колено. — И дни, и ночи я тут вдвоем с соседом… на душе тяжело…
— Что с ним?
— Селезенку ему вынули. Пропил человек селезенку, — батя Апостол улыбается. — А может, и рак… Не говорит, не шевелится, только охает. Похоже, списали нас с ним.
— Выглядишь ты хорошо, выздоровеешь, — говорю я. — Только не надо было тебе на работу выходить раньше времени.
— Не надо было. Да как усидишь дома, раз ноги сами ходят. Опять же пришел человек, просит. Так и так, Шефа нету, работать некому, спасай положение…
— Какой человек?
— Ненов. И поллитра принес. Глазам своим не поверил, скупердяй же он, — улыбается батя Апостол. — Даже пригубил со мной.
— Ненов?!
— Он, а то кто же… Слушай, приподними-ка меня, хочу повернуться на правый бок, а то спину отлежал.
Я беру его подмышки, поднимаю и держу, пока он повернется. Он страшно тяжел, хоть и остались-то от него кожа да кости. И я становлюсь страшно тяжелым. Опускаюсь на табуретку, будто меня по голове стукнули. Ненов!.. Потому-то он так испугался, когда батя Апостол потерял сознание.
— Гадина он, — говорю я, и что-то сдавливает мне горло. — Знал я, что гадина.
— Ты так не надо, — батя Апостол неодобрительно морщится. — Человек как человек, о своей службе заботится. Я сам виноват, не надо было браться. Но как выпил, знаешь, полегчало, почувствовал себя будто и здоровым.
— Ничего себе почувствовал!
— Пройдет! Докторша говорит, через месяц меня выпишут. Только, говорит, пора бросать всякую работу и отдыхать. Ничего страшного, Пешо. Проживу на пенсию, да и сын подбросит…
— Помирились вы с ним?
— Угу… Да мы и не ссорились. Он неплохой, снохе я что-то не нравился… Вот, приехал в Софию, сам меня нашел. Чудно, как это он сумел, ни адреса моего не знает, ни где работаю.
Батя Апостол смотрит на меня, и ясные его глаза сияют. А я молчу. Пускай думает, что сын сам решил его отыскать. Раз сын промолчал про наше письмо, будем молчать и мы с Корешем. Так лучше.
Батя Апостол снова кашляет, долго и бессильно, в легких у него нет воздуха. Лицо его краснеет. Я встаю, чтобы позвать сестру, но он кашляет и машет рукой — не надо. Постепенно успокаивается.
— Похоже, конец мне, Пешо.
— Поправишься. Раз врач говорит, что через месяц выпишут…
— Ага, выпишут, рано или поздно, а выпишут. — Он озорно подмигивает. — С твоим тезкой на небе договоримся, говорят, и он винцо любил… Чего мне бояться? Не убивал, не грабил, чужим горем не жил. На том свете мне нечего бояться.
— Я не знал, что ты набожный, — усмехаюсь я.
— А-а-а, набожный. Ты набожного слесаря видел? Не в том дело… Только я думаю, что те, кто много имел и хозяйничал, смерти больше боятся. Одним словом, каждый из них думает: неохота мне помирать, люди добрые, мил мне белый свет, кто тут без меня будет от пирога откусывать да за нитки дергать — делами управлять… А у таких, как мы, расчет чистый. Взял — дал, как положено, и жалеть не о чем. Я хозяину говорил на днях, говорил… Видишь, из головы вон…
Он умолкает. Глаза смотрят рассеянно, будто он пытается припомнить, что говорил хозяину, но веки его медленно опускаются. Желтоватые веки с синими и пурпурными жилками. Устал батя Апостол, ему надо поспать, думаю я. Надо много спать, чтобы побороть эту усталость. И не могу оторвать глаз от его век.
В дверь заглядывает пожилая сестра, которая пустила меня в палату. Она строго поднимает брови и кивает мне, чтобы я вышел. Я встаю, нагибаюсь к больному:
— До свидания, батя Апостол.
— А! — встрепенувшись, говорит он. — Уходишь? До свидания, Пешо. Ребятам там… большой привет. Как на ноги встану, приду вас навестить.
В коридоре сестра ворчит:
— У него нельзя столько сидеть. И ведь сказала я вам.
— Правда, я виноват. Можно повидать лечащего врача?
— Можно. Доктор Спирова, она сегодня дежурная.
И показывает мне белую дверь. Стучу. Врач сидит за новым столиком и заполняет какие-то формуляры. Надо лбом свесилась прядь темных, коротко остриженных волос. Она худенькая и совсем молодая. Может быть, поэтому очень серьезна. Что мне нужно? Спрашиваю, каково состояние бати Апостола. Кто я ему? Никто, работаем в одной бригаде. Лицо докторши смягчается:
— Что вам сказать… Шансов мало.
— Так плохо?
Вопрос ненужный, это я вижу по ее лицу, по глазам, которые осматривают меня с холодным вниманием.
— Я же вам сказала… Полная декомпенсация, если вы знаете, что это значит. Сердце у него с арбуз. Да и возраст… Но конечно, еще не все потеряно, бывают случаи… Завтра проведем консультацию кардиолога, тогда, может быть, я смогу вам сказать что-нибудь более определенное.
— Можно будет вам позвонить?
— Конечно. Моя фамилия Спирова.
— Спасибо.
— А жалко, — говорит докторша, и худенькое ее лицо становится совсем обыкновенным, неврачебным лицом. — Симпатичный старик. Никогда не ворчит, не капризничает. Сердечники обычно, паникуют, а он нас успокаивает. Говорит, ничего страшного нет…
Добрая, снисходительная усмешка как-то сразу красит лицо докторши. Я киваю. Еще бы батя Апостол капризничал, думаю я. Эта умница-докторша ничего не понимает в таких людях, а то бы она не удивлялась.
Я еще раз благодарю и ухожу. В скверике передо мной становится Кореш:
— Ну?
Я только взглядываю на него, слова здесь не нужны. Он дает мне сигарету и идет рядом, сунув руки в карманы. Отправляемся к трамвайной остановке.
— Куда пойдем? — спрашивает Кореш.
— В кафе у театра. Я с Кириллом договорился встретиться.
На этот раз Кореш не возражает. А в сущности, мне все равно, пойдем ли мы в это кафе или куда-нибудь еще. Дело в том, что мне хочется выпить и побыть среди людей, шума и послушать разговоры о чем-нибудь повеселее, чем жизнь бати Апостола. Он много работал и много пил. Поэтому теперь сердце у него с арбуз. Большое, размякшее от ударов сердце. Усталое, едва пульсирующее…
Мы садимся на трамвай, который идет в центр. Сойдем за Судебной палатой, оттуда — пешком в кафе. Кореш опустил голову, ковыряет мозоли на ладонях. И у меня на руках есть мозоли, и я тоже начинаю их ковырять. И у бати Апостола есть — старые, задубевшие мозоли, железные бляшки, покрытые твердой желтой кожей. Ножом ударишь, не пробьешь.
— Кореш, видел я сына бати Апостола. Там был.
— Ну?
— Ничего. Навестить пришел.
Кореш плюет себе под ноги. Гражданин в мягкой шляпе возмущенно взирает на него. Про себя желаю гражданину воздержаться от замечаний. И он воздерживается, поворачивается к нам спиной.
— Пешо, сходим, — говорит Кореш и подталкивает меня к двери.
Здесь конечная остановка. Мы идем по улице Позитано, мимо Судебной палаты, и в ее тени мне вдруг приходит в голову, что для иных дел нет суда и нет судей. А то сына бати Апостола привели бы сюда и дали бы ему пять лет принудительных работ на вокзале, грузчиком, и потом еще пять лет жизни в комнате у того хозяина. Чтобы пожил один, и никого рядом не было… Кто знает, как бы смеялся надо мной Кореш, если бы понял, о чем я сейчас думаю.
Сын бати Апостола не выходит у меня из головы. Рассказывает, что сынишка у него — страшный озорник и выше нормы. Возможно, зато сам он ниже нормы. И жена его тоже. Вдали от них умирал старый человек. Умирал медленно, напивался от одиночества и бросал пакеты по тридцать килограммов, чтобы быть на людях. А они гладили своего ребенка по головке, укладывали его в кроватку, а потом жрали свинину с капустой и занимались любовью, в то время как старый человек совал в карман лимонадную бутылку с водкой, чтобы выдержать еще одну ночь среди людей. И копилась мука — стариковская мука, перед концом, — и батя Апостол заботился о моем вывихнутом пальце и о том, чтобы у Шатуна была зажигалка, а они в это время возвращались из театра. Потому что они — образованные, культурные люди и ходят в театр, и очень довольны, когда добро на сцене торжествует по всем фронтам. Когда батя Апостол выпивал последнюю каплю из своей лимонадной бутылки, они пыхтели в своей кровати, удовлетворенные по всем фронтам, и видели во сне целого жареного поросенка. Или новое рационализаторское предложение, которое обеспечит им еще одно лето на черноморском курорте. И все было, как в романах Диккенса…
— Кореш, дай сигарету.
Кореш протягивает пачку «Арды».
— Ты что?
Как ему объяснить? Просто я зол, как собака. Никогда я не был так зол — даже когда сбежал из школы. Но — что из этого? Думать о том, чего не можешь исправить, все равно, что сидеть на берегу и швырять камешки в воду. Буль — и камешка нет. И вода над ним смыкается и успокаивается, словно ничего и не было…
Кореш кладет мне на плечо руку, и мы выравниваем шаг. Шагаем в ногу, по-солдатски. Только вот солдатом я себя вовсе не чувствую.
Мы с Корешем входим внутрь и садимся за столик у окна, потому что на улице все места заняты. Кафе жужжит, как мотор на низких оборотах. Официантки проплывают между столиками с ленивым достоинством, женщина за стойкой бесстрастно манипулирует своими разноцветными бутылками, кофе и сигареты дымят. Все, как всегда, — знакомо и успокаивает.
Я заказываю коньяк и кока-колу, Кореш — мастику. Потом глазеем на улицу: на прохожих, распаренных от жары, на красное здание театра с мифологическими фигурами над треугольным фронтом, на белый угол Министерства обороны напротив. Над желтой нагретой брусчаткой воздух золотистый и неподвижный. Мне хочется к чему-нибудь прислониться и задремать, но табуретка без спинки, и я тру глаза и оглядываюсь по сторонам. Кирилла и его компании нет.
За соседним столиком сидят три шевелюры — черная, каштановая и темно-русая. Волосы уходят глубоко под воротники, цветные рубашки с короткими рукавами выпущены на брюки, часы с блестящими браслетами. Все у них небрежно, сама мысль о какой-либо униформе здесь вызывает отпор, а между тем на лицах у всех троих одно и то же выражение: слегка скучающее, слегка насмешливое, будто ничто на этом свете значения не имеет. И голоса у них одинаковы: небрежно грубые, беззаботные, озабоченные разве что только одним: быть небрежно грубыми. Каштановая шевелюра рассказывает о какой-то девушке, которая — ну, не смешно ли! — уперлась и ни в какую, двое других вставляют по два — три слова: ну, да, будет тебе! — из чего следует, что с ними такого не может случиться; потом говорят, как кто-то пристроился в радио и теперь ему на все плевать; потом — про «асов» конкурса «Золотой Орфей» и про то, у какой певицы больше всего шансов победить. Они умолкают, исчерпав темы для разговора. Становятся слышны два женских голоса у меня за спиной, которые обсуждают фильм «Козий рог», где показывают два половых акта — совсем по-настоящему, честное слово, стоит сходить второй раз; а вчера в ресторане «Берлин» один пьяный — экземпляр колоссальный — хотел раздеться до пояса, но официанты его вытурили; а шеф, оказывается, завел шуры-муры с этой коротконогой из бухгалтерии, и что только он в ней нашел, понять нельзя, страшна, как я не знаю что, и при этом не сообразит купить себе парик, а вместо этого завивает свои жидкие волосы мелким барашком — ха-ха-ха-ха… И так далее.
Я смотрю на часы — пять. Если в течение десяти минут Кирилл не придет, значит, что-то случилось. Каждый день в пять часов он здесь.
— Не понимаю, чего интересного ты находишь в этом кафе, — говорит Кореш. — Давай допьем и пойдем. Мать у меня что-то опять скисла.
— А что с ней?
— Почем я знаю? Под глазами мешки и ноги отекают. Завтра поведу к врачу.
Мы допиваем и собираемся уходить, когда является Кирилл. Не с Невяной, а с тем, с Даракчиевым, что с узенькой арабской бородкой. Кирилл причесан и элегантен, как всегда — белая рубашка, глаженые брюки, легкие бежевые туфли, а Даракчиев идет за ним следом растрепанный, в побелевших синих джинсах и красной блузе, и в его черных глазах сверкают смешинки. Не понимаю, что этих двоих связывает.
Они садятся за наш столик. Знакомлю Кореша с Даракчиевым. Кирилл вытягивает ноги, зевает и принимает вид человека, утомленного жизнью. Двадцатитрехлетний старик с белой гладкой кожей и темными бакенбардами, с глазами, которые, скучая, оценивают окружающих.
— Ты почему один? — спрашиваю я.
— Как один — отвечает вместо него Даракчиев. — А я что, никто?
— Я говорю про Невяну.
— Поссорились мы с Невяной, — говорит Кирилл.
— Редкое проявление интеллекта с его стороны, — отзывается Даракчиев, кроя усмешку в своих арабских усах. — Нет ничего глупее — всюду таскать за собой женщину… Кики, горю… Эта жара меня прикончит.
— Усек, — говорит Кирилл и машет официантке.
— Я же знаю, что ты интеллигентный человек. Платить никто не будет, — Кики угощает, — обращается Даракчиев к нам с Корешем. — По случаю своего вступления в фалангу бессмертных.
— Не болтай глупости, — говорит Кирилл.
— Кики, в наше время скромность — порок… Вчера вышли его стихи, — поясняет Даракчиев.
— Это хорошо, — говорю я. — Кирчо, поздравляю.
— Ладно, угощаю, — смеется Кирилл. — Что будете пить?
— Мы уже пили, угостишь в другой раз.
— И я не хочу, — говорит Кореш.
— А я хочу. Виноградной водки, евксиновградской, — заявляет Даракчиев. — Смена напитков — все равно что смена привязанностей. Освежает и будит новую жажду.
Кореш взглядывает на него с уважением; он впервые встречает такого человека. Но чувствует себя слегка неловко с той минуты, как узнал, что Кирилл — писатель.
Официантка приносит водку в большой рюмке, — она знает привычки Даракчиева. Он отпивает солидный глоток и ненадолго застывает в молчании и неподвижности, словно прислушивается к чему-то в самом себе.
— Тааак… Теперь можно и разговаривать. — Он снова отпивает. — Один большой ученый сказал, что алкоголь — лучшая пища для ума.
— Кто этот большой ученый? — усмехается Кирилл.
— Не помню точно, но звали его, по-моему, Даракчиев, — говорит Даракчиев и первый же смеется. — Э, друзья, а вы что не пьете? Вы Кики не жалейте, поэты — люди богатые. Духовно, как утверждают некоторые… Кики, интересно все-таки, сколько тебе заплатили за вдохновение?
— А других вопросов в этой связи у тебя нет?
— Есть. Сказал же, что прочел. Получается у тебя. Только…
— Только что?
— Сердиться не будешь, ладно? Стихи хорошие. Мужественные, патриотические… Но мне кажется, что ты перегибаешь палку.
— Не понимаю. В чем?
— В любви к родине.
— Дарак, если хочешь говорить серьезно, говори, пока не напился.
— Пока, потом… такого не существует. Я пьян перманентно… И хочу открыть тебе одну из тайн психологии. — Он нагибается к Кириллу и хватает его за плечо, будто и вправду хочет открыть секрет. — Когда женщина клянется мне в любви и непрерывно повторяет, как она меня обожает, готова за меня умереть и все такое, я всегда питаю известное недоверие. Другое дело, если данная особа, увидев, что на меня, например, налетел грузовик, бросится бить шофера. Тогда я ей поверю.
— Ясно, — говорит Кирилл и дергает плечом. — Стихи мои тебе не понравились. Но имей в виду, что за такие аллегории я могу съездить тебе по морде.
— Все-таки рассердился, значит, — лирик, — подмигивает мне Даракчиев и снова берется за Кирилла. — Ну, съезди, я об этом только и мечтаю, дорогой мой. Жажду, чтобы кто-нибудь мне съездил, хоть бы в ритме амфибрахия, и чтобы я кому-нибудь съездил, ну, хотя бы в ритме анапеста, так хоть воздух придет в движение… Кто-то скажет, что мы ведем себя неприлично, другой будет аплодировать. Зато с тобой будем знать, что в нашей потасовке нет расчетов и корысти, а просто каждый думает, что прав…
— Ты это про какие расчеты, про какую корысть?
Кирилл неожиданно резко отодвигает стул и встает. Пальцы его пробежали по пуговицам рубашки сверху вниз.
— Кики, что ты… Ты не понял меня. — Даракчиев ошарашен, как и мы с Корешем. — Я совсем не хотел сказать…
— Я все прекрасно понял… Петьо, извини, я вас оставлю. — Подбородок у Кирилла дрожит, он лезет в карман рубашки и бросает на стол перед Даракчиевым пятерку. — Заплатишь за водку. А если еще раз явишься ко мне домой, выгоню.
Идет к двери.
— Кики, подожди, — кричит ему вслед Даракчиев, — Кики!
Он привстает, чтобы догнать его, но потом, передумав, остается на месте. Вынимает деревянный резной мундштук с колечками и долго вставляет в него сигарету.
Мы с Корешем сидим, как ударенные. Я ничего не могу сообразить и не знаю, что делать. Встать и уйти — глупо, я с Даракчиевым не ссорился. И непонятно, почему Кирилл обиделся, тот действительно не хотел его задеть. И остаться вроде бы нечестно по отношению к Кириллу. Дурацкая история.
— Ну, ничего. — Даракчиев смотрит на нас с виноватой улыбкой. — Отойдет. Если умен, может, и на пользу пойти.
— Извини, приятель, — говорит Кореш, — не могу взять в толк что произошло.
— Произошло то, что наш поэт едва к берегу подошел, а уж до нитки промок. Потому Невяна его и оставила — Эти слова адресованы мне. — Сначала научила его, как надо пробивать себе дорогу, а как он начал действовать по ее совету, увидела, что от него одни брюки остались… Такое меня зло берет на него, если бы вы знали. Талантливый, черт, и так сумел бы пробиться.
Даракчиев приканчивает свою рюмку, смотрит на дно, со стуком ставит ее на стол. Он и привлекает, и отталкивает меня. Говорит много, и все как-то огрызаясь, а ведь если скажет, что любит родину, на слово поверю. А о Кирилле сожалею.
— Мадам, счет! — говорит Даракчиев официантке и подвигает пятерку к краю столика.
Плачу и я. Даракчиев кладет сдачу в карман и взглядывает на меня:
— Я вас, случайно, ничем не задел? Вы ведь с Кики друзья…
— Да нет, ничего, — говорю я. — Но мне кажется, что вы уж слишком…
— Да вечно у меня так. Обожжет чем-нибудь, я и теряю ориентировку. Все потому, что не люблю преуспевающих. Имел двух друзей и с обоими рассорился. Этот третий… Не то, чтобы я им так уж завидовал, — пускай себе преуспевают на здоровье. Только когда все получается легко, без мук, взглянешь поглубже — и на дне обязательно увидишь червячка.
Его уже пробрало от водки, глаза блестят, как стеклянные.
Мы с Корешем уходим. Он минуту-другую колеблется, пойти с нами или нет, потом машет рукой и смеется:
— Бросаю якорь, пропью Кирилловы деньги.
И начинает оглядываться по сторонам, наверное, в поисках новой компании.
Нам с Корешем в одну сторону. Вечернее солнце греет мягко, тени уже легли поперек улицы. Людей немного, — сейчас время отпусков, и город опустел. Кореш тихонько насвистывает какой-то марш. Тихонько и фальшиво.
— Ох, и надоела мне эта говорильня. — Он потягивается и шумно набирает воздух. — Дыр-дыр-дыр… Эти приятели в армии были?
— Кирилл не был, про другого не знаю.
Кореш, ухмыляясь, кивает:
— Похоже, что твой Кирилл — бегун на короткие дистанции. А я уважаю марафонцев. Вот это — бег, так бег. Или сердце лопнет, или придешь к финишу… А эти что? Щеглы! Пиу-фюиить — и больше ничего.
Я не отвечаю, о приятелях не трепятся, но думаю, что Кирилл в самом деле изменился за то время, пока я был в армии. И компания у него… Все рассуждают о книгах, о великих вопросах, а мне сдается, что и на ногах-то они нетвердо стоят: толкни, — упадут, и лапки кверху.
Мы идем по бульвару Витоши навстречу закату и я изо всей силы затягиваюсь сигаретой. Что-то неспокойно у меня на душе, что-то мучит меня. Не разговор в кафе, нет, что-то другое, более важное хочу я вспомнить и никак не могу.
— Пешо, дважды два — четыре, и думать нечего, — подталкивает меня Кореш.
— Голова побаливает. Сегодня, может, и на работу не приду.
— А не приходи, раз плохо себя чувствуешь. Шеф здесь, справимся. А Ненов в отпуске, пылит где-нибудь на новом «запорожце». Справку от врача спросить некому.
— Ненов? Кореш, знаешь…
— Что?
Я умолкаю. Вот что меня мучит — Ненов, батя Апостол, история с водкой… Но Корешу говорить не стоит. И Зорке тоже. Они обязательно устроят скандал, особенно Кореш, который и без того не любит помшефа.
— Ты о чем, Пешо?
— Забыл, — говорю я, — неважно.
Кореш смотрит на меня сочувственно.
— Не приходи сегодня, отоспись.
Дома я ужинаю, а передо мной все стоит лицо Ненова.
Бесцветное, с играющими блестками неспокойных глаз, вечно озабоченное собственным здоровьем и служебными делами. Надо все-таки кому-нибудь рассказать об этой истории, и я рассказываю маме. Слава богу, отец задержался на заводе, а дед еще не вернулся.
— Бедняга, — говорит мама о бате Апостоле. — Но он прав, не спеши осуждать другого, как его там… Каждому случается поступать, не подумав о последствиях. Может быть, человек и в самом деле думал о работе, о служебных интересах. Я уверена, что и его сейчас совесть мучает…
Про себя я думаю, что совесть Ненова в этом случае меня абсолютно не интересует, но не возражаю и иду к себе в комнату. Какое значение имеет совесть, если она не подала голоса вовремя? Да и не такая уж сложная натура этот Ненов. Правда, он испугался, когда бате Апостолу стало плохо, и потом, как сумасшедший, накручивал телефон в больницу, чтобы узнать, жив ли тот, но что в нем при этом говорило, совесть или страх за собственную шкуру? И как можно после всего этого сесть в новенький «запорожец» и отправиться на прогулку по Болгарии, наслаждаясь красотами природы? Батя Апостол неправ, и мама неправа: почему нельзя судить человека, если видишь, что он преступил границу, которая не позволяет взять дубину и избить без причины прохожего на улице?
Я хожу, почти бегаю по комнате от стены к стене — семь шагов туда и семь шагов обратно — и вопросы вспыхивают у меня в голове, как ракеты в праздник. Однажды я смотрел салют с Витоши. Сначала в темном небе расцветают роем красные, белые и зеленые звезды, а потом долетает глухой раскат орудий.
Глупое сравнение. Нет тут никаких раскатов и никаких ракет. Только несколько по-разному освещенных окон в доме напротив и над ними темное, спокойное небо, на котором не видно ни звезд, ни луны. И воздух тепловатый и неподвижный, как болотная вода. Пух пользуется моим замешательством и начинает тереться об ноги, чуть слышно мяукая, а я легонько отталкиваю его ногой и продолжаю свой спор. Есть у меня такая идиотская привычка — спорить с отсутствующими людьми.
В сущности, я никогда не знаю, с кем спорю. Даже сейчас. Знаю только, что мой оппонент — нахальный тип, который ничего не говорит и вместо этого ходит за мной по пятам и корчит насмешливые рожи. У него нет лица, и я так его себе всегда и представляю — без лица и вообще без формы, нечто беловато-розово-лиловое, что плавно и неумолимо движется в пространстве и мимоходом охватывает тебя щупальцами, посмеиваясь над твоими яростными мыслями. Щупальца и усмешка, от которых никуда не денешься. И чем больше твой гнев, тем крепче и вернее сжимает тебя это нечто…
Голова у меня болит, — явно, простудился. Надо что-нибудь выпить и полежать. Идти на работу или не идти?
Глотаю аспирин и седальгин, они у меня всегда под рукой, на столе у кровати, ложусь и открываю книгу. Не пойду. Книга — немецкого писателя. Парень моего возраста, из Западной Германии, попал в исправительный лагерь, потому что воровал картины. Картины он воровал не для того, чтобы продать, а чтобы спрятать, спасти от сожжения. Это у него комплекс: его отец в свое время, при Гитлере, был полицейским, обыкновенным сельским полицейским, но он сознавал свой долг перед великим рейхом и жег картины одного отверженного и преследуемого художника, а пареньку эти картины страшно нравились. И потом, когда Гитлера уже не стало, его отец продолжал жечь картины художника, потому что приказа никто не отменял, а он был человеком долга… Теперь парень сидит в своей камере, в одиночке, куда его впихнули, чтобы наказать, потому что на уроке немецкого языка он ничего не написал на заданную тему — о долге. И вот теперь он пишет, — но не одну-две странички, как для сочинения; исписывает кипу бумаги на заданную тему о долге, но совсем не так, как ожидает от ребят директор исправительного лагеря… Молодец парень. Может, он — душевнобольной, или судьи сочли его душевнобольным, но я думаю, что он в здравом уме. Страшно мне нравится этот парень. Интересно, что будет дальше?
Откладываю книгу и встаю. Пожалуй, оденусь и пойду поболтаюсь по улицам, а потом — прямо на вокзал. Сейчас улицы тихие, можно идти и думать и к тому же немножко растянуть чтение. Чтение хорошей книги я всегда стараюсь растянуть, боюсь проглотить ее сразу. С другой стороны — нечестно, чтобы ребята и по моей милости надрывались.
Интересное занятие нашел себе тот парень — как он думает спасать картины дальше? И как поступят с ним люди долга?
Вдруг, ни к селу, ни к городу, как говорит дед, мне приходит в голову, что и Ненов — человек долга… Глупости! Он настоящий болгарин. Немцев у нас нет, разве что на Черном море в летний сезон. Просто эта книга страшно меня разворошила. Мне даже кажется, что у меня температура поднялась.
11
— Ты бы зашел как-нибудь на завод, — сказал мне как-то отец. — За три года мы многое переделали. Освоили новые конструкции. Может быть, тебе будет интересно.
— Как-нибудь зайду.
— Если хочешь, я могу прислать за тобой машину.
— Нет, я так приду.
Несколько дней после того, как я ходил к бате Апостолу, я болел, — простудился среди лета — и еще больше похудел. Но едва ли свою машину отец предложил мне по этой причине.
А мне захотелось пойти на завод. Что ни говори, я там проработал целый год, прежде чем попал в армию. Завод стал для меня вторым домом, и потом, особенно по вечерам прежде, чем заснуть на солдатской койке, я часто видел себя в токарном. Видел маленький цех, словно прилепленный к огромному монтажному, окна с квадратами армированного стекла, облупившуюся краску станка, моего станка, который умел петь на разные голоса, видел даже метелку, которой я убирал стружку и мусор в конце смены… Я хотел пойти сразу же, но зная отца, колебался: он ничего не делает, не обдумав предварительно, и я боялся, что он опять начнет меня агитировать вернуться на завод. Но именно туда я вернуться не могу — может быть, потому, что он — директор завода. А может быть, и потому, что с заводом у меня связано и одно плохое воспоминание: я пошел работать на завод так, как месяцем раньше последовал за учителем Ставревым в свой класс…
Все-таки то, что меня тянуло на завод, оказалось сильнее плохого воспоминания. Вчера утром, выйдя с вокзала, я сел на трамвай и отправился. Сошел на предпоследней остановке. До завода нужно было еще пройти триста — четыреста метров, но дорога была хорошо асфальтирована, по бокам — выложенные плиткой дорожки для пешеходов. И ворота были новые. Раньше они были деревянные на двух бетонных столбах, а теперь стояла красивая беленая арка, такой высоты, что под ней свободно могли проходить груженые машины, с широкими двустворчатыми воротами, сбоку — проходная для рабочих. На арке — название завода из металлических букв, покрытых охрой, и лозунг в честь съезда профсоюзов. Дежурный в проходной тоже был новый — пожилая бесстрастная и важная личность, которая спросила, куда я направляюсь, и открыв мой паспорт, взглянула на меня помягче:
— Ты уж не родня ли будешь директору? Проходи. Он только что пошел к вагранкам.
Я одернул блузу, будто собирался из казармы в увольнение и зашагал по широкой мощеной аллее, оглядываясь по сторонам. Здания цехов были те же, только свежевыкрашены в голубой цвет, а в глубине территории вырастали панельные стены недостроенного цеха. Высокий кран с удлиненными тросами как раз понес большую панель для крыши над постройкой и я остановился посмотреть, как трое строителей в рукавицах ставят панель на место. Кран повернулся в поисках следующей панели.
Литейный тоже был в глубине двора, возле самой ограды. Из его дверей дохнуло жаром и меня встретил вой двух мощных вентиляторов. Вагранок, как и раньше, было три. Из средней тек огонь, в нос остро ударил запах дыма, и я на миг закрыл глаза от сверкания огненной струи. Потом огнеупорная бадья поплыла в воздухе, наклонилась над формой в глубине цеха. Металл послушно потек.
Литейщик закрыл вагранку своим железным прутом, и тогда я заметил отца. Он стоял там же, в синих очках, которые закрывали половину лица, но я узнал его по кепке и по крепкой прямой шее, которая держала его голову чуть откинутой назад. Он всматривался в вагранку и что-то говорил литейщику, видимо, напрягаясь, чтобы перекричать гудение вентиляторов и удары молотков, которые сбивали с отлитых деталей нагар. Литейщик кивнул и тоже стал всматриваться в стену вагранки.
Я подождал, пока они кончат говорить, и когда отец снял очки и начал покачивать их в руке, подошел.
— А, Петьо, — сказал он, отряхивая синий рабочий халат. — Иди помогай. Рассуждаем тут с мастером, как ее отремонтировать, чтобы дело не встало. И так прикидываем и этак, — все поджимает. И именно сейчас нагрузки по горло…
Он со вздохом посмотрел на мастера, и тот засмеялся, обнажив белые зубы под широкополой шапкой, которая прикрывала и шею. Такое начало меня немного успокоило. Отец говорил так, будто я бывал тут каждый день и мог дать ему совет. Он улыбнулся и повел меня к выходу.
Он был необыкновенно приветлив, даже складка между бровями поразгладилась. На улице он остановился, глубоко вдохнул воздух, посмотрел в сторону нового цеха и снял кепку. На лбу у него блестели капли пота. Он вытерся тыльной стороной ладони, и на лбу остался черный след. Его крупное темное лицо словно светилось.
— Расширяемся, — кивнул он в сторону постройки. — Через год завод не узнаешь. Поставим еще один цех, для запчастей, монтажный перестроим. Кроме кранов, будем делать конструкции для трубопроводов. Только бы с кредитами кошка дорогу не перебежала.
Он схватил меня за шею и потянул к себе. Посмотрел мне в глаза:
— Наверное, проголодался? Потерпи еще чуток, в кабинете перекусим.
Таким хорошим и внимательным я его давно не видел, и потому внутренне собрался. Когда отец слишком уж добрый, надо быть начеку. Но он отпустил мою шею и уже широко шагал, задумчиво прищурив глаза. Словно забыл обо мне.
Мы вошли в монтажный цех. Удары по железу оглушили меня. Сверкали синим огоньки сварки, над ними — склоненные защитные шлемы. Сварщики всегда напоминают мне рыцарей из кинофильмов, и когда они опускают на лицо защитный щиток, мне кажется, они вот-вот бросятся на противника. Только вместо копья сварщик сжимает в руке короткую искривленную трубочку, которая брызжет синим огнем.
Из фанерной кабинки выскочил начальник цеха, низенький лысый человек с логарифмической линейкой в руке, но отец помахал ему — сиди себе, занимайся своим делом, — тот с удивленной улыбкой пожал плечами. Отец каждое утро обходит цеха и на месте выслушивает доклады и улаживает, что надо уладить. Все называют его на заводе «пешеходец», но это им нравится.
Мы шли вдоль длинных вытянутых арматур двух кранов, и отец на минуту остановился взглянуть на сварку одной детали. Сварщик выпрямился и открыл лицо, а отец нагнулся, чтобы рассмотреть шов. Потом кивнул, хлопнул сварщика по плечу и все так же, не говоря ни слова, пошел к дверям. Я шел за ним, как ассистент.
Когда мы направились к токарному, сердце у меня слегка подпрыгнуло. Я знал, что мы побываем там, и все-таки оно подпрыгнуло. Мне показалось, что отец тайком стрельнул в мою сторону глазами.
Здесь я с одного взгляда увидел новое: два тяжелых новеньких бандажных станка, на которых были закреплены для обточки большие стальные валы. Об этих станках, наверное, говорил мне тогда инженер Цонков. Все остальное было таким, как я помнил, и мне не надо было смотреть под ноги, чтобы пройти между станками: я знал, где обойти, где повыше поднять ногу. Даже два знакомых лица увидел сразу: Стояна и Монтафона.
— Подожди меня, — сказал отец и на этот раз пошел к начальнику цеха, который уже кивал ему издалека.
Внезапно мне захотелось отсюда убраться. Я почувствовал себя чужим и лишним. В других цехах я был спокоен, — это были чужие цеха, — а здесь я работал целый год и сейчас испытывал то же чувство, что и однажды в казарме: мы с Корешем удрали как-то вечером, пошли на именины к одной девчонке в городе, это было после разрыва с Таней, а когда перед рассветом вернулись, я вдруг раскис. Совесть заела. Будто я что украл и вернуть не могу. Это чувство не отпускало меня несколько дней, и я страшно усердствовал тогда по службе.
На моем станке теперь работал Стоян, — веснушчатый рыжеватый симпатяга. Он как раз вставлял новый резец. Пустил станок, вытер руки пучком ветоши и увидел меня. Расплылся до ушей. Раньше, когда я здесь работал, он единственный держался со мной непринужденно и по-дружески.
Я подошел к нему, поздоровались. Монтафон тоже подошел к нам и начал расспрашивать, когда я кончил службу и что делаю теперь, потом вернулся к своему станку, тяжело покачивая плечами. Потому его и прозвали Монтафоном, т. е. коровой монтафонской породы — он был страшно толстый и неуклюжий. Из всего цеха только эти двое остались, все остальные рабочие были новые.
— К нам возвращаешься? — спросил Стоян. — Если вернешься, уступлю станок. Старичок, но поет хорошо.
Он говорил о станке, как о птичке. В это время он нарезал болт — тонкая работа, здесь нужны глаз и штангенциркуль, но главное — глаз, потому что и для штангенциркуля нужен верный глаз. В то время у меня был такой глаз — до того, как попала стружка, из-за которой я ходил к доктору Еневу. И я любил слушать, как поет станок.
Тогда этот станок меня спас. Я пришел сюда без охоты. Отец привел меня, и я подчинился, как подчинился Ставреву, но мне было тяжело, даже жить не хотелось. Станок меня спас. Если бы я не стоял над ним по восемь часов в день и не думал в это время только о куске железа, которому нужно было придать новую форму, кто знает, что стало бы со мной. Потому что, когда я убежал из школы, я и домой не хотел возвращаться, и не вернулся. Дождался Кирилла перед его домом, пообедал у них, потом сказал ему, что больше учиться не буду. Он сказал, что я ненормальный, даже начал меня убеждать, но когда увидел, что я собираюсь уходить, замолчал. Он отвел меня в квартал Лозенец к своему двоюродному брату — художнику, и там я провел больше недели. Художник был холостяк и имел небольшую мастерскую. Рисовал невообразимые вещи: голые оранжевые тела убитых, скорченные, с широко открытыми ртами и незрячими глазами, с растопыренными пальцами, словно что-то хватающими; черного всадника, мчащегося, с откинутой назад рукой с горящим факелом, а за ним — пожар без конца, и лижущие небо языки пламени; темно-синий лес с деревьями, похожими на чудовищ. Самой страшной мне казалась картина ночного города с высоты птичьего полета: на темно-синем, почти черном фоне — только желтые квадраты окон. На первый взгляд просто, и ничего особенного, но было в этой картине что-то зловещее и тяжелое, а если всмотреться как следует, то начинаешь замечать, что огни и мрак образуют в центре полотна что-то вроде большого черного креста или фигуры человека, бессильно откинувшего назад голову и распростершего руки от одного края картины до другого. Мне было страшно оставаться одному среди этих картин. Однажды я сказал художнику, что никогда не видел подобных картин. Художник улыбнулся и сказал, что эти он держит для себя, делает разные опыты, а для выставок пишет другие.
Я спал в ателье на деревянной лавке. Днем ходил по заводам, пытался устроиться токарем. Документов у меня не было, но мастер, у которого мы, школьники, проходили производственную практику, сказал, что он дал бы мне и пятый разряд, по практическим занятиям я был первый в классе. Поэтому я и хотел устроиться токарем. Но на меня везде смотрели как на малолетнего и даже не допускали до экзамена, а идти к тому мастеру мне было неловко. Оголодал. Вечером в ателье находил хлеб и еще что-нибудь в бумажке — художник оставлял, а денег у меня не было, и у Кирилла я не брал. Однажды сгрузил уголь в подвал и заработал два лева. Другой раз мне пришло в голову пойти на площадь Благоева, на стоянку грузовых такси, там нанимали парней носить багаж, но цыгане-носильщики тут же меня засекли и прогнали. И так оно и шло, пока на восьмой или девятый день вечером отец явился в ателье. Конечно, выдал меня Кирилл, но я на него не сердился, потому что перед моим отцом вообще устоять трудно. Отец тогда ничего мне не сказал, только велел одеться. И по дороге домой ничего не сказал. Дома, пока мама плакала в другой комнате, мы с ним закрылись в кухне. Я сел на стул и тоже заплакал — не почему-нибудь, от злости заплакал, что меня нашли, а может быть, и из-за мамы: я о ней за все эти дни и не подумал… Нет, в школу я не вернусь, сказал я. Хорошо, сказал отец, думаю, что я тебя понимаю, переведем тебя в другую школу. Но я не хотел и в другую школу, ничего не хотел. Думал, что если где-нибудь со мной снова случится что-то подобное, повешусь, и потому устоял перед натиском. Отец помолчал, посмотрел на меня и назвал меня «лодырем». Через несколько дней он потащил меня на завод. Это я принял, но с «лодырем» примириться не мог, и с тех пор мы с ним как чужие…
— Когда приступаешь? — спросил меня Стоян.
— Посмотрю, еще не знаю.
— Давай, — весело сказал он. — Опять будем на футбол ходить. «Давай, ЦеЭсКа!»
Мы рассмеялись, и я пошел, потому что отец звал меня, стоя в дверях. Другие рабочие посматривали на меня с любопытством — что это за птицу водит директор — и я решил твердо, что сюда не вернусь. Махнул еще раз Стояну. Его рыжая голова горела, как фонарь, в глубине цеха.
— Видел новые станки? — спросил меня отец, когда мы шли к конторе.
— Видел.
— Отличные станки. Советская автоматика.
Я предпочитал работать на маленьком револьверном станке, где все зависит от руки и глаза, но ничего не сказал. Боялся, что опять нападем на тему «что ты думаешь делать дальше».
В директорском кабинете было тихо, удары, свист, звон железа долетали сюда как сквозь ватную стену. Отец задержался в комнате секретарши, которая о чем-то его спрашивала. Слышал, как он ей сказал принести из буфета кофе и бутерброды. Потом он вошел своим тяжелым шагом, толкнул меня на стул, сам опустился на свое место за длинным темным письменным столом. Занавески на окнах были задернуты и пропускали успокаивающий зеленый свет.
Отец двумя растопыренными пальцами протер глаза и вытащил серебряный портсигар с кремлевской башней на крышке.
— Кури.
Я взял сигарету и поднес ему спичку. У меня было странное чувство, что отец мой состарился и это нас как-то сравняло. Он курил и листал какой-то отчет. Лицо у него было усталое. В морщинах около рта и под глазами лежали темные тени. Волосы, всегда густые и буйные, плотно прилегали к голове. Струйки дыма заплетались вокруг лица, и глядя на него, я понял, как много лет прошло с того времени, когда я был для него Петенце и когда он по выходным дням водил меня в лес на окраине, играть в салочки между деревьями… Он отодвинул отчет и поднял брови:
— Ну, как, Петьо?
И в глазах его стоял вопрос, но я только пожал плечами и улыбнулся. Вошла секретарша с пластмассовым подносом — два кофе и куча бутербродов. Она поставила все на зеленое сукно. Отец пересел за стол напротив меня.
— Принимайся за дело. Вот с ветчиной, с брынзой, с маслинами…
Я вонзил зубы в бутерброд, отпил кофе. Отец только пил кофе и закурил еще одну сигарету. Тяжелые брови закрывали его глаза, когда он нагибался над чашкой.
— У тебя усталый вид, — сказал я. — Почему ты не возьмешь отпуск, не отдохнешь?
Он посмотрел на меня, пораженный.
— Как раз время… А что я устал, так это верно. Меня не работа изматывает. Больше изматывают нерешенные вопросы, суетня, неразбериха.
Он смотрел мне в глаза. Ясно, я был одним из этих нерешенных вопросов. Он не знал, что я и для себя был нерешенным вопросом.
— И не большие, принципиальные вопросы, а мелочи, те, с которыми надо справляться самим. — Он в две-три затяжки докурил сигарету и бросил окурок в пепельницу. — А ты не будешь брать отпуск?
— Буду.
— Можешь поехать в какой-нибудь из наших домов отдыха, в Варну или в горы.
— Нет, в Софии посижу.
— Что будешь делать?
— Не знаю. Читать, ходить на Витошу…
Он посмотрел на меня и как-то примирительно засмеялся:
— Не понимаю я тебя… Нет, агитировать не собираюсь, но не понимаю. Чем ты живешь, а? Видишь ли, человек — такое существо, что вечно ему цель подавай. Жить ради кого-то, стремиться к чему-то. А так, как птички небесные, не выходит… — и внезапно: — Девушка у тебя есть?
— Как тебе сказать…
— Что стесняешься, ты уже мужчина. Спрашиваю, потому что однажды видел тебя с одной девушкой, вы выходили из кино. Симпатичная девушка, не возражаю… Ты не решил ли жениться?
Тон у него был игривый и доброжелательный, и я почувствовал, что если скажу «да», он будет доволен. Наверняка обрадуется. Мне приходилось слышать, что иногда брак выправляет лодырей.
— Мне сейчас только этого не хватало, жениться, — сказал я.
— А почему бы и нет, чего тебе не хватает?
Он прищурил глаза, и в них блеснула веселая хитринка. Он хотел услышать больше, вызвать меня на откровенность.
— Ничего такого нет. Во всяком случае, пока, — сказал я.
«Во всяком случае, пока», должно было смягчить мой ответ. Отец хлопнул ладонью по столу, как, наверное, делал во время заседаний, и встал.
— Хорошо-о-о-о… А теперь топай, меня работа ждет. Если хочешь, зайди к Цонкову, он в соседней комнате.
Он проводил меня до двери и сам закрыл ее за мной. А совсем смешался от этого разговора. Никакого желания заходить к Цонкову у меня не было. Во дворе я на минуту остановился перевести дух. В окнах монтажного цеха вспыхивали синие молнии сварки. Свистали и стучали машины. Из литейного доносился запах дыма и горячего железа.
Завод изрыгал свои шумы и запахи, а у меня во рту было как-то сухо и горько. Но не от бутербродов.
Пока я шел до трамвая, спрашивал себя зачем отец меня позвал? Только чтобы позавтракать вместе? Мне казалось, что я понимаю его хитрость — он умен, но и я не глуп. Но он умнее, потому что, честно говоря, мне захотелось вернуться и еще немножко походить по заводу.
Просто походить.
Не знаю, что заставило меня зайти в больницу к доктору Еневу. Я вспомнил о нем в трамвае, возвращаясь с завода. Правда, я хотел попросить его поинтересоваться батей Апостолом, помочь, если может; но не только поэтому. Просто захотелось его увидеть. Я человек импульсивный, то есть, был импульсивный до того, как бросил школу. Потом я стал более уравновешенным, но и теперь мне еще случается собраться в кино, а вместо этого отправиться к Зорке. Или пройти мимо кино, чтобы просто бродить по улицам.
Внизу в регистратуре дежурная сестра сказала, что сегодня у доктора Енева неоперационный день и что он, наверное, у себя в кабинете. Позвонить и проверить ей было лень. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, я уже жалел о том, что пришел. Енев, наверное, был очень занят, ему только меня не хватало. Но возвращаться я не стал. Не хотелось мне быть смешным в собственных глазах — если бы я вернулся, потом весь день был бы без настроения.
Енев занят не был. Когда я вошел, он стоял у открытого окна, курил и смотрел на улицу. Высокий, сутулый, в коротком белом халате, завязанном сзади на шее. Его темный сухой профиль казался графическим силуэтом на фоне синего неба, при каждой затяжке щеки втягивались внутрь. Не знаю, слышал ли он, когда я постучал в дверь.
— Вот так сюрприз, — сказал он, увидев меня. — А я как раз собирался сегодня к вам зайти. Садись.
Он сжал мне руку и указал на единственное в кабинете мягкое кресло. Остальное пространство занимали небольшой письменный стол, стеклянный шкаф с инструментами и кушетка с белой простыней и куском клеенки поверх нее. Енев присел на краешек стола.
— Дядя Максим, извини за беспокойство…
— Без церемоний, — перебил он меня с улыбкой. — Говори, как дела. Вывих? Чирей на шее? Боли в спине?
— Я в порядке.
— Да? — он глянул на меня своими темными острыми глазами и подал коробку «Родоп». — Возьми. Сигареты дурацкие, но я к ним привык, терпеть не могу фильтр. Говорю как курильщик, не как врач… Как это ты вспомнил обо мне?
Вкратце рассказал ему про батю Апостола. Я еще не кончил, а он уже поднял телефонную трубку.
— Кто лечащий врач?
— Спирова.
— Спирова? Отлично. Мы с ней хорошие знакомые, она — дочь моего коллеги из третьей градской.
Он набрал номер «Пироговки». Доктора Спировой не оказалось на месте, скоро должна вернуться. Я встал и собрался уходить.
— Постой, постой. Ты ведь не спешишь? Надо же услышать, что скажет Спирова. — Он толкнул меня обратно в кресло и сам сел на кушетку. — Ты с работы?
— Был на заводе у отца.
— Пойдешь к нему работать?
— Нет.
— А-а-а… Как отец?
— Хорошо.
— Хорошо… Слово, которое ничего не означает. А ты как, хорошо?
— Жаловаться не на что.
— А если я тебе скажу, что не так уж хорошо, ты мне поверишь?
Его темные глаза кололи, как иголки. Он был посвящен во все тайны нашей семьи.
— Правда, в последнее время немножко болел, — сказал я. — Простудился. Но уже прошло.
— Ты дурака не валяй. Имей в виду, что я на тебя очень зол.
— В чем я перед тобой провинился, дядя Максим?
— Ха, передо мной! Ты перед собой виноват… Слушай, ты когда перестанешь корчить из себя обиженную даму?
Я глотнул и поморщился:
— Не понимаю, о чем идет речь.
— Очень хорошо понимаешь, о чем. Не смотри на меня так. Раз я для тебя дядя Максим, значит, имею право прочесть тебе нотацию. Конское евангелие, по новейшей терминологии… Жизнь, дорогой мой мальчик, — не парикмахерский салон, где оправляют испорченные прически. Хотя бы это должно быть тебе ясно.
— Это мне давно ясно, — пробормотал я.
— Что-то не видно. А то сам постарался б попригладиться и наплевал бы с нужной силой на некоторые вещи… Если бы все падали лапками кверху от первого же удара, в мире было два миллиарда старушенций, пускающих слюни в ожидании похорон.
Он осыпал меня градом таких сентенций, и слова его звучали то ядовито, то насмешливо. Я засмеялся.
— Хорошо, больше не буду.
— Что больше не будешь? Хочешь отвертеться от конского евангелия? Кидаешь пакеты на вокзале и воображаешь, что это невесть какое геройство? Ждешь, что кто-нибудь придет, чтобы извиниться и показать светлый путь к будущему? Не тут-то было… Ну, я не пастор и не стану тебя убеждать, что добро всемогуще и что честному человеку надо только снять шляпу и войти в рай. Каждый из нас так или иначе проходит свои университеты: важно, что получится из тебя в конце концов — человек или мокрая курица… Ты что предпочитаешь?
Молоденькая сестра просунула длинные ресницы в полуоткрытую дверь:
— Доктор Енев, доктор Василев хочет с вами посоветоваться относительно девушки из третьей палаты.
— Хорошо, пусть подождет меня в палате.
Дверь бесшумно закрылась. Енев посмотрел на меня, улыбнулся:
— Ты извини за непрошеное вмешательство в твои дела. Но есть черта, которой я не выношу. Пассивность. Больной, который не сопротивляется болезни, умирает. Здорового человека, у которого нет воли, всю жизнь будут топтать, и его ум, и его таланты, данные ему всемогущим господом летят ко всем чертям. А кто выигрывает? Наглая, настырная, тупая посредственность. Гроша не стоит такая добродетель, которая не умеет постоять за себя.
— Дядя Максим, а как по-твоему, что я должен делать?
— Откуда я знаю? Во всяком случае, не то, что делаешь. Не скрою, мы с твоим отцом говорили о тебе. И я думаю, что он прав. Не столь важно, будешь ты дальше учиться или нет; главное, как ты сумеешь реализовать себя таким, какой ты есть, во что поверишь.
— А ты во что веришь, дядя Максим?
— Прежде всего — в свою работу. А потом — в то, что жизнь — не пена для мыльных пузырей. Не то, чтобы я слишком уважал человеческое племя, его я достаточно хорошо знаю… Но все-таки человек — самая интересная шутка природы и просто безобразие, когда он расходует себя бессмысленно. Ты не согласен?
— На днях ухожу из бригады, — сказал я.
Я брякнул не думая, просто само сорвалось с языка В эти дни, после того, как я был в больнице у бати Апостола, мне не раз приходило в голову, что с вокзалом надо прощаться, но я ничего еще не решил, а сейчас вдруг я так и брякнул Еневу. Даже неприятно мне стало — еще подумает, что я тряпка и что достаточно мне прочитать нотацию, чтобы я тут же исправился, как этого от меня ждут.
— И потом?
Темные скептические глаза смотрели на меня с любопытством, и мне стало еще неприятнее.
— Потом не знаю. Пожалуйста, не говори пока отцу, я сам ему скажу.
— Врачебная тайна гарантирована, — засмеялся Енев. — А ну-ка дай руку.
Я подал ему руку. Он разглядывал мою ладонь, словно собирался предсказывать мое будущее.
— Из тебя мог бы и хирург получиться… А? Только не знаю, как насчет психической устойчивости… Ты знаешь, сейчас молодежь бежит от хирургии, предпочитает другие специальности.
— Почему?
— Да потому, что хотят есть хлеб с мякиша, а хирургия — профессия нелегкая… Подожди-ка, давай еще разок позвоним Спировой.
На этот раз Спирова оказалась на месте. Ее голос ясно звучал в трубке. Медицинских терминов я не понял, но в общем состояние бати Апостола улучшилось, ему разрешили вставать с постели на полчаса утром и вечером, но из палаты еще не выпускают.
— Искра, ты ничего не имеешь против, если я завтра зайду его посмотреть?.. Нет? Благодарю… А если после этого зайду навестить и лечащего врача? — тут его голос внезапно стал невероятно тонким. — А где ты будешь? Жалко… В театр? Значит, решила меня просвещать?.. Хорошо… Нет, вечером я свободен… Ну, когда же я опаздывал?.. Такие вы, женщины, помните только наши недостатки… Хорошо, до свидания.
Он еще подержал трубку, прежде чем повесить ее, будто ждал, что доктор Спирова, которая, оказывается, просто Искра, скажет что-нибудь еще.
— Ну вот, Петьо, ты слышал все, что надо. И даже что не надо. — Он комично вздохнул, развел руками. — Думаешь, ну и дядя Максим, на старости-то лет… Человек не знает, где найдет, где потеряет… А завтра я побеседую и с начальствующими лицами. Там у них есть очень хороший специалист, посмотрим, что еще можно сделать. Ты ходишь к больному?
— Пойду в четверг.
Я начал прощаться. Енев схватил меня за плечи и по-дружески тряхнул:
— Как говорил твой дед, а? Ни шагу назад… Чао!
На улице меня ждало солнце и легкий ветерок, который заставлял вздыхать деревья в скверике напротив. Я был рад за батю Апостола. И за дядю Максима. Попытался себе представить, как бы он выглядел в роли супруга и отца какого-нибудь пискуна… Веселая история. Сказать маме, так не поверит.
Я взял десять дней отпуска. Шеф поморщился — у меня не было одиннадцати месяцев стажа, — но я настоял на своем и сказал, что денег за отпуск брать не буду. Работа меня истощила — не столько сами пакеты, сколько недосыпание, — и кроме того, вернулся из отпуска Ненов, а я не мог его видеть. Ни его, ни новенький его серый «запорожец». Теперь он все время ездит на машине, ставит ее на открытой площадке, где стоят электрокары, и все ходит присматривать за ней, как за больным ребенком. Не мог я его видеть. Даже когда вечером отправлялся на вокзал, ноги были как свинцовые.
Из-за него мы поссорились с Корешем. В последний день перед отпуском. Я проговорился и сказал ему, что Ненов ходил к бате Апостолу звать его на работу и поил его водкой, и Кореш страшно разозлился. Почему я до сих пор не сказал, почему не поставил вопрос перед Шефом, перед парторгом. Он даже собирался идти к парторгу, но я его остановил. Я уже думал об этом. Я уже обдумал все и сказал ему, что теперь уже поздно и нет смысла. Кто докажет, что так и было, если Ненов начнет отрицать? Все было сделано с глазу на глаз, да и никто не пойдет сейчас беспокоить батю Апостола расспросами. Только лишние неприятности получатся, и все. Кореш к парторгу не пошел, но немного подумав, плюнул себе под ноги и сказал:
— Спокойствие свое бережешь? Не ожидал от тебя такого.
Я тоже разозлился и сказал ему, чтобы не лез не в свое дело и не учил меня. Потом я пожалел об этом, но он уже ушел. Я тоже заупрямился и не стал его разыскивать. Раз он может без меня, я тоже могу без него. Подумаешь! Будто он больше меня переживает за батю Апостола, чтобы нотации читать.
А позавчера, как раз в середине отпуска, со мной произошла еще одна авария. Если мне и дальше будет так везти с людьми, придется собрать манатки и поставить себе хижину на вершине Ком или на Елтепе и иметь дело только с ветром и орлами. И почему, черт его возьми, мне все не везет? Ни с приятелями, ни с девушками. Особенно с девушками…
Вот что случилось. Все утро мы с Пухом валялись в кровати, кто кого перележит, и я читал до посинения «Праздные мысли праздного человека» Джерома Джерома, а после обеда взял сумку, сунул туда кусок хлеба, колбасы и блокнот для рисунков, и сел на автобус, который ходит в Панчарево. По плотине перешел на другой берег озера, где на лесистом склоне разбросаны дачи, поплавал в холодной воде, пока не поползли мурашки по телу, и лег на солнце. Был будний день и народу не было. Только сверху, со стороны дач, слышался разговор двух мужчин и удары мотыги о каменистую землю — какой-нибудь собственник рыл землю под фундамент или рыхлил помидоры, — и я целых два часа рисовал: озеро, скалы над шоссе на другом берегу, облака. Думал о разных разностях, и мне было хорошо и спокойно. Я мог бы часами так сидеть и чиркать в блокноте, или просто ничего не делать, потому что, по-видимому, имею природную склонность к безделью, но и самое приятное одиночество в конце концов надоедает. Я еще раз окунулся в озеро и, еще не обсохнув как следует, натянул брюки и рубашку. Солнце стояло уже довольно низко в той стороне, где была София, мотыги больше не было слышно. Я перекинул сумку через плечо, закурил и пошел по тропке, проложенной среди акаций над самой водой, потом вышел на дорогу, которая идет по самой плотине. С одной стороны было спокойное озеро, недалеко два каноэ плыли наперегонки, их лопаты поднимали серебряные брызги; с другой стороны рокотали тяжелые пенистые струи воды, словно пропущенные меж зубьев гигантской расчески. Я зазевался на каноэ, посмеивался и говорил себе, что хорошие гребцы столько воды не поднимают; но так было красивее, потому что в облачках серебряных брызг показывалась радуга. Потом я нагнулся, чтобы застегнуть сандалию, а когда выпрямился, увидел Таню.
Она была еще далеко, но я ее узнал. Она шла от шоссе, по плотине, спиной к солнцу. В легком пестром платье, слишком легком и коротком, чтобы скрыть ее бедра на ветру, она шла танцующим шагом, помахивая голыми руками, поворот вправо — поворот влево, и, кажется, не замечала меня. Полузакрыв глаза, она время от времени кружилась, как это делают дети, когда играют в бабочек. Волосы ее разлетались веером и потом послушно падали на плечи. Она была очень смугла, а спиной к солнцу казалась совсем черной, как негритянка, и страшно красивой. Мне даже стало плохо.
— Петьо, ты? Что ты здесь делаешь?
— Купался.
Я еще что-то пробормотал, не помню, что, а она разглядывала меня смеющимися глазами и поправляла волосы. Ямочка на ее подбородке заставила меня онеметь. Она, по-видимому, почувствовала, какой эффект произвело ее появление, — женщины всегда чувствуют такие вещи — и великодушно подала мне руку:
— А знаешь, сегодня утром я о тебе думала.
— Ну да?
— Честное слово. Встретила в самолете одного одноклассника, Коле, если ты его помнишь. Сидел на предпоследней парте возле окна и все стрелял нам в затылки бумажными шариками… Наговорились мы с ним, перебрали всех ребят и девочек из нашего класса.
— Ты из Варны возвращаешься?
— Из Варны. Приезжаю домой, наших нет. Ну, и поехала искать.
— Здесь?
— Ну да! Раз их нет дома, значит, здесь, на даче… Какой ветерок! Давай посидим, а то я в этом автобусе совсем сварилась.
Я забыл, что у них в Панчарево дача. И про архитектора со светлым кружком на темени забыл. Я смотрел на нее и чувствовал себя щенком, который готов плестись куда угодно за своей хозяйкой.
Мы сели на теплые камни над озером. Оба каноэ медленно возвращались обратно. Мускулы гребцов блестели, напрягаясь и расслабляясь, хотя и устало, но со спортивным умением. От Тани исходил запах женского тела и резеды. Я помнил этот запах со школьных лет и когда его чувствовал, мне всегда не хватало воздуха, словно я тонул. И тонуть мне было хорошо…
— Петьо, я еще перед тобой не извинилась. Можно сейчас это сделать?
— А, брось, — сказал я, — ты не виновата. Оба мы с тем парнем были пьяные. Только он был пьянее и нахальнее.
— Я не об этом. Я имею в виду… нашу ученическую дружбу. Я тогда поступила нечестно.
Сердце у меня подпрыгнуло, как мяч, брошенный в стену. Очарование минуты было разрушено. Это еще что? Почему она вдруг заговорила о вещах, давно прошедших? И чего, в сущности, хочет: чтобы я заплакал от умиления и благословил ее?
— Детские истории, Таня… Смотри-ка, эти двое опять вышли на старт.
— Пожалуйста, не надо. Я говорю искренне. Знаю, что плохо поступила. Я должна была хотя бы написать тебе, объяснить, но так получилось…
Я уже не смотрел на нее. Я смотрел на каноэ, которые летели по воде, оставляя за собой светлые веера.
— Спорим, что этот в синей майке придет первым, — сказал я.
— Не хочешь мне простить, да?
Она положила руку мне на плечо, и мне пришлось посмотреть на нее. Я чуть не поцеловал ее. Светлые коричневые глаза смотрели на меня с мольбой, а лицо было так близко, что я чуть не поцеловал ее. И знал, что она не уклонится. Но она напомнила мне о прошлом, о лжи, которая унизила нас обоих.
— Извини, мне надо идти, — сказал я. — У меня свидание.
Она отпустила мое плечо. Я вел себя, как дурак, конечно, но иначе не мог — старая обида рыбьей костью застряла в горле.
— С той самой девушкой? Которую приводил к нам домой?
— Да.
Она уже закуривала сигарету и была бледна. Пощечина попала в цель. Никакого свидания с Зоркой у меня не было, мы с ней в последнее время вообще виделись редко, и мне было все равно, что сказать, — лишь бы задеть Таню. Но она взяла себя в руки. Выпустила дым, сложив губы трубочкой, и чуть усмехнулась уголком рта.
— Ну что ж, не буду тебя задерживать. Ты что, женишься на этой Зорке?
— Да.
— Не мешало бы немножко подумать.
— Да? Почему?
— Ты знаешь, что я хочу сказать… Это, конечно, твое дело. В конце концов вопрос вкуса и культуры…
— До свидания, — сказал я.
Она не ответила. Смотрела на озеро и улыбалась. Она вернула мне пощечину. Я подумал, что актриса из нее наверняка получится, но что удар ее, в сущности, пришелся по воздуху: Зорка ничем ее не хуже. Она, по крайней мере, не лгала.
Я сошел с автобуса на площади Александра Невского и у Театра оперетты сел на троллейбус, который идет к вокзалу. Мне хотелось сегодня же вечером увидеть Зорку. Хотелось целоваться с ней, говорить ей ласковые слова. Она была моим освобождением от Тани. Освобождением от боли, которая меня мучила столько времени. Освобождением от унижения и лжи. И почему бы мне на Зорке не жениться, в конце концов? Идея неплохая, спасибо, Таня.
Нетерпеливый, я шел по маленькому переулку, ведущему от Ополченской. Вот и старый двухэтажный домишко с пятнистым фасадом и потемневшими гипсовыми украшениями над окнами. Позвонил. Открыла хозяйка, майорша с эмалированными глазами.
— Зорки нету, — сказала она.
— Вы не знаете, где она?
— К какой-то подружке пошла, еще пяти часов не было. Хотела идти с ней в кино.
Я не знал, что у Зорки есть подружка, с которой она ходит в кино, и спросил, когда она вернется. Времени было семь часов.
— Не сказала, — ответила хозяйка. — Что-нибудь передать?
— Я оставлю записку.
Я должен был во что бы то ни стало увидеть ее в этот вечер. Вынул из сумки блокнот и вырвал лист. Написал, что зайду к половине девятого, пусть ждет и никуда не уходит. Я свернул листок и только хотел подать его хозяйке, которая уже нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, как услышал шаги на улице и голос Зорки. Обрадованный, я сунул записку в карман.
Да, это был голос Зорки. И это сама Зорка в своем праздничном розовом платье. Она шла со стороны Ополченской. Увидев меня, она замедлила шаги. Замедлил шаги и молодой человек, который шел с ней рядом. Это был Пират.
Я остановился, они подошли ко мне.
— Пешо, — сказала Зорка с испуганной, глупой улыбкой. — Вы ведь знакомы с Владо?
Я молчал. И смотрел на них, — точнее, не на него, а на нее.
— Мы случайно встретились, и Владко захотел увидеть, где я живу… То есть, я его пригласила… Поднимешься наверх?
Ее зеленые глаза смотрели куда-то мимо меня. Мне было скверно, прямо тошнило, — от нее, от себя самого, от этого самого Владко. В голове шумело, я чувствовал, что могу ее ударить. Закинул сумку за спину, сунул руки в карманы, пошел. Пират отскочил, давая мне дорогу.
Я повернул на Ополченскую, но не к вокзалу, а к центру. Чувствовал себя, как холодная заведенная пружина, — коснись, и я со свистом развернусь. Или упаду… Облокотился. Оперся об электрический столб. Прошел какой-то милиционер в чине лейтенанта, остановился и спросил, мне что, плохо? Я сказал, что нет, и снова пошел…
Так произошла авария. Наверное, так и должно было случиться. Но я еще не могу придти в себя и время от времени, лежа в кровати с книгой, ловлю себя на том, что повторяю про себя: ничего, бывает такое, ничего… И улыбаюсь, но мне нехорошо. Пух дремлет у меня в ногах. Стоит мне шевельнуться, поднимает голову и тут же пытается залезть мне на грудь. Я его прогоняю, а потом мне становится совестно. Хорошо, что он не обижается.
Я возвращаюсь с водохранилища Искыр, куда мы с Кириллом ездили ловить рыбу. Впрочем, ловил Кирилл, оказалось, что это его хобби, а я целый день лежал на резиновом матрасе, который Кирилл взял с собой, и смотрел в небо. Кирилл был в розовом настроении, рассказывал анекдоты, пек рыбешку на небольшом костре, читал стихи. Я прочел его стихи в журнале, где их поместили, — он сам дал мне журнал. Стихи были хорошие, мне понравились, — о родине, о поэтах, о девушке, которая когда-нибудь его дождется. Такие стихи так и пишут, — зря этот самый Даракчиев так бушевал в кафе. Кирилл просиял, когда я ему сказал об этом, и стал говорить, что Даракчиев всегда такой, не знает, чего хочет, но он на него не сердится, потому что вообще-то Даракчиев умный и в поэзии разбирается, только много пьет, и так дальше, и тому подобное. А мне только этого и надо было — болтать о вещах, о которых не стоит много думать. И погода была, как по заказу. Последний день августа, солнечный и мягкий, с золотистым воздухом и пурпурным небом.
Возвращаюсь домой освеженным. Из-за это прогулки я самовольно продолжил свой отпуск на день но это неважно: я уже и так решил, как только явлюсь на работу, предупредить Шефа, что ухожу. Там меня уже ничто не держит, даже с Корешем мы говорим только о работе, и вообще пора мне оттуда убираться. И положить конец своим авариям… Я чувствую себя легким и сильным, какая-то тяжесть свалилась с плеч, и, подходя к нашей площади, я начинаю насвистывать. Давно я с такой охотой не возвращался домой.
Дома все наши — мама, дед и отец — сидят у телевизора в полутемном холле. Смотрят фильм, который уже кончается. Я говорю «Добрый вечер» и отправляюсь в кухню перекусить. Сразу же за мной в кухне появляется отец.
— Ужин сегодня не готовили, возьми что-нибудь в холодильнике, — говорит он и наливает себе воды из-под крана. — Мать сказала, что вы с Кириллом ездили ловить рыбу. Поймали что-нибудь?
— Что поймали, съели, — ухмыляюсь я. — Там ловить нельзя, браконьерствовали.
— Жалко, что не взяли вас за жабры, ох и солона бы стала вам эта рыба. — Он почесывает в затылке, смотрит на меня. — Часов в восемь звонил наш доктор. С тобой хотел говорить…
— А о чем, сказал?
— Умер тот старик.
— Какой старик?
Я закрываю холодильник и так и стою с куском ветчины в руке. Незачем было спрашивать, какой старик.
— Сегодня, около четырех, — говорит отец сочувственно. — Максиму позвонили из «Пироговки», и он тут же перезвонил сюда, но никого не было… Жизнь… Сядь поешь и приходи к нам.
Он сжимает мне плечо и выходит из кухни, а я все стою с ветчиной в руке. Батя Апостол умер… Мне даже не грустно, я просто как-то растерян и думаю: как же так? Почему умер? Почему именно сегодня? Прошлый посетительный день я пропустил, занимался своими авариями и переживаниями, а перед тем, в воскресенье застал его за прогулкой по комнате. Он был страшно доволен, что может ходить, выглядел хорошо и смеялся своим глухоньким дребезжащим смехом. Ему пришло письмо из Шумена с фотографией и он показал мне фотографию — кругленький мальчишка с надутыми щеками сидел на горшке. Горшок был разрисован зайцами и мальчишка широко открыл рот, — наверное, ревел, когда его снимали, а рядом были видны женские ноги и рука, которая придерживала малыша. Смотри, какой паршивец, сказал батя Апостол, этот снимок делали, когда он был совсем маленький, сейчас он, небось, мне до пояса. Поставил фотографию на свою тумбочку и без конца говорил и был страшно счастлив… И почему именно теперь он умер?
Я швыряю ветчину на стол, говорю нашим, что ухожу ненадолго, и вылетаю на улицу. Сажусь на седьмой, к кварталу Вазова. Времени половина одиннадцатого — Кореш дома, если только не шляется где-нибудь. Стою, как всегда, на передней площадке, за спиной вагоновожатого. Тот лениво вертит рычаги, зевает, почесывается. Лицо у него худое, бесцветное от усталости, он на минуту выпускает рычаги и трет глаза. Трамвай скрипит и трясется… Батя Апостол мертв и сейчас, наверное, лежит в морге среди других мертвецов… Водитель разворачивает бумажный сверток и кладет его перед собой. В бумаге — хлеб и сыр… Он отламывает большой кусок хлеба и маленький — сыра и набивает рот. Поворачивается и подмигивает мне:
— Хлеб проголодался, приятель… Ты не из провинции?
— А что?
— Вижу, интересуешься, все в руки мне глядишь.
Бати Апостола нет. Он учил меня, как кидать и ловить пакеты, чтобы не вывихнуть пальцы, а теперь его нет. Лежит в морге, и завтра его закопают, и будто его и не было никогда… Трамвай резко останавливается и гражданин рядом цепляется за мое плечо, чтобы не упасть. Он что-то бормочет насчет водовозов и неопытных вагоновожатых и сходит. Вагоновожатый, ухмыльнувшись, покачивает головой.
— Неопытный! Я пятнадцать лет людей вожу, можно сказать, весь земной шар объехал, а то и больше… Но прав гражданин, я трамвай остановил, как водовоз. Тебе на последней?
— На предпоследней.
— Гляди, как сейчас тебя доставлю.
Укрощенный легкими поворотами рычага, трамвай замедляет ход и останавливается, как старая кроткая собака.
— До свиданья, водитель.
— До свиданья. Приятно отдохнуть.
Есть на свете добрые люди. Просто добрые. В начальство не лезут, стихов не пишут, — делают свое дело, на них все и держится. Как этот водитель. Как батя Апостол.
Улица, на которой живет Кореш, застроена высокими новыми домами и только в конце ее стоит несколько старых хибар, предназначенных на снос. В одной из них живут Кореш и его мать. Окно Кореша светится сквозь листву персикового дерева. Прохожу двор по дорожке и стучу в стекло. Занавеска отдергивается, на миг появляется скуластое лицо Кореша. Он машет в сторону двери.
И вот мы сидим у него в комнате, я — на жестком стуле с грубой резьбой на спинке, — Кореш любит мастерить такие вещи, — а он на кровати, в трусах и майке. Наверное, недавно проснулся. Сидим и долго молчим, забыв о ссоре. Но и сказать друг другу нам нечего.
— Когда скончался? — поднимает голову Кореш и смотрит на меня сердито, словно я тут в чем-то виноват.
— Несколько часов назад.
Он крутит в руке цепочку, на которую надеты два ключа. Потом встает, натягивает синюю рубашку, которую вытаскивает из гардероба, брюки, суетится, стуча по полу тяжелыми башмаками, и неизвестно зачем включает маленький приемник. Мексиканская песня, звон гитары. Кореш уменьшает звук и внезапно трахает ладонью по приемнику. Звук такой, как от барабана.
— Доктора-а-а… Только мучили человека…
— Доктора не при чем, Кореш.
Дверь открывается, в ее рамку входит мать Кореша — в длинной ночной рубашке, с растрепанными седыми волосами. Глаза ее испуганно смотрят то на сына, то на меня, серое нездоровое лицо морщится в беглой улыбке.
— Здравствуй, Пешо… Николай, что у вас? Вроде упало что-то?
Для нее Кореш — Николай, и этот Николай на моих глазах вдруг становится невероятно нежен. Обнимает мать за плечи, сажает ее на стул и набрасывает на нее свой пиджак.
— Ничего не упало. Ты почему не спишь?
— Слышу, будто ударило что.
— Я ударил по радио, не хотел, да… — говорит он виновато. — Батя Апостол умер сегодня.
Его мать тихонько ахает и прикрывает рот рукой. Потом начинает покачивать головой, как делают в горе все простые женщины. Пиджак сползает у нее с плеч, Кореш его поправляет.
— Иди спать, мама. В бутылке осталось еще что-нибудь?
— Минуточку, сейчас принесу.
Она выходит, охая и держась за поясницу, с трудом переставляя ноги, и приносит полбутылки водки и три рюмки. Мы сидим втроем друг против друга и отпиваем по глотку — земля ему пухом, бате Апостолу. Мать говорит:
— Нельзя мне в рот ее брать, проклятую, но за старика выпью капельку. Таким здоровым казался, когда последний раз приходил. Сидел вот на этом стуле, где ты, Пешо, и рассказывал разные случаи про войну и про свою молодость… Несчастный. Принес мне тогда косынку и поллитра, царство ему небесное… Ай-ай-ай…
Я впервые слышу, что батя Апостол бывал здесь. И наверное, не раз, потому что принес подарок хозяйке. А мне-то и в голову не пришло пригласить его домой… Я смотрю на Кореша и на его мать и, кажется, понимаю, почему я не мог быть так близок с батей Апостолом, как они.
Мы сидим и молчим. О чем тут говорить? Кореш положил локти на колени, согнулся и грызет палец — он всегда так, когда усиленно о чем-то думает. Его мать поднимается со стула, чтобы идти спать. Вздыхает:
— Так уж этот окаянный мир устроен, каждый в свое время… Были бы вы, детки, живы.
Она говорит почти то же, что сказал и мой отец. Слова примирения, древние слова, которые несут в себе скорбь, но не утешение.
Мексиканские гитары умолкли. По радио передают последние известия.
Стоит мне подумать о том, что произошло после похорон бати Апостола, мое сознание раздваивается и я, как это часто у меня бывает, начинаю топтаться на месте. Нет, я не жалею. В первый раз в жизни не жалею о поступке, который чужд моему характеру и при других обстоятельствах выглядел бы бессмысленным и отвратительным. Трезво рассуждая, он действительно был бессмыслен, потому что изменить ничего не мог.
С другой стороны, он был неизбежным, я должен был так поступить. Не могу сказать, почему именно был должен, но чувствую, что сделал так не столько ради бати Апостола, сколько ради самого себя. А может быть, и ради других, тех, кто знал обо всей этой истории или узнал бы позже. В тот момент, когда я это сделал, я этого не понимал, но сейчас думаю, что для человека нет ничего обиднее и мучительнее, чем ненаказанная, торжествующая несправедливость…
Мы возвращались с Боянского кладбища. Батю Апостола оставили под холмиком глинистой земли, на котором могильщики поставили красную деревянную пирамидку с пятиконечной звездочкой. Народу было мало — парни из бригады, женщины из экспедиции, Шеф и Ненов, сын и невестка бати Апостола, его хозяин. И Студент пришел, хотя в бригаде уже не работал. Василев, парторг, на этот раз в синей форме железнодорожника с золотым шитьем на рукавах, сказал короткую речь — о старом работнике и честном труженике Апостоле Веселинове, беспартийном, но сознательном, участнике войн и забастовок, верном своему классу. И маленький хор спел две песни. И все.
Сын и сноха выслушали соболезнования и уехали на такси прямо на вокзал, чтобы не опоздать на поезд. Остальные пошли на автобус, который ходит из Бояны в город. Мы с Шефом и Корешем пошли пешком к трамвайной остановке по улице Бакстон на Княжевском шоссе — поразмяться.
Предвечернее солнце скрылось за большим облаком, и старые желтеющие тополя на улице Бакстонов шелестели неспокойно. Шеф рассказывал, как его старший сын, пятилетний, уже начал кататься на двухколесном велосипеде — велосипед купили у одного знакомого, который привез его из Дании в багажнике машины — и, вчера упал и разбил себе нос, но ничего страшного, дети так и растут… Шеф, который не обращает особого внимания на свой внешний вид и всегда одет небрежно, сегодня был в новом костюме и белой рубашке. Когда прошли военный поселок и справа сверкнули окна маленькой закусочной, он предложил зайти выпить по рюмке.
— Шеф, да ты никак запил? — ухмыльнулся Кореш.
— Будь спокоен.
В закусочной оказалось несколько столов без скатертей, официант, который лениво принимал заказы, и три посетителя. Официант принес водку и два салата для нас с Корешем и пиво для Шефа, поставил все на стол и зевнул.
— Ну, ребята, — сказал Шеф и поднял стакан с пивом, — за батю Апостола. Он любил это дело.
Мы не чокались, — чокаются только, желая здоровья, сказал Шеф, а какое там здоровье, когда человек умер. Не успели мы выпить, как на улице зарокотал мотор, и за стеклом витрины показался серый «запорожец» Ненова. Из «запорожца» вышел сам Ненов, аккуратно хлопнул дверцей, закрыл ее на ключ и вошел в закусочную. Удивился, увидев нас. Очень захотел пить, решил выпить лимонаду. Он подсел к нам.
— Привел немножко в порядок цветы на могиле, — сказал он и стряхнул соломинку со своего темного пиджака. — К тому ж мотор закапризничал.
— А что с ним? — спросил Шеф.
— Не знаю, зажигание что-то… Ну, земля ему пухом, Апостолу. Жалко, не могу выпить с вами, но я на машине, придерется какой-нибудь гаишник.
Он чокнулся лимонадом со стаканом Шефа, потом с нашими рюмками — они стояли на столе. Кореш повернул голову и глянул на меня. Взял рюмку и плеснул водку на пол. Прибежал официант.
— В чем дело, гражданин, почему водку вылили?
— Муха попала. Принесите другую.
Уши у Кореша полыхали. Официант посмотрел на мокрый пол, повертел головой, но ничего не сказал. Пошел за другой рюмкой.
— Кореш, ты это зачем? — Шеф не мог придти в себя.
— С гадами не чокаюсь, — тихо сказал Кореш.
Ненов все еще держал стакан с лимонадом в руке. Его русые ресницы подпрыгивали, и он выглядел страшно удивленным.
— Ты, случайно, не свихнулся? — сказал он наконец и поставил стакан на стол. — Почему ты меня оскорбил?
— Нехорошо, Кореш. Почему ты это сделал? — сказал Шеф.
— Пешо объяснит, он знает. — Кореш набычился и смотрел в сторону.
— Кореш, оставь, сейчас не время этим заниматься, — сказал я.
Я схватил его за руку, но он выдернул ее и глянул на меня свирепо:
— Нет, время… Шеф, этот, твой помощник, виноват, что батя Апостол… Он его закопал.
— Как так!?
— Так. Пешо все знает.
Я покрылся потом. То, что делал Кореш, было бессмысленно, да и скандалов я страшно не люблю. Ненов переводил взгляд с меня на Кореша и как будто все еще не мог сообразить, о чем речь. Шеф сморщился и смотрел на меня вопросительно. Я кивнул.
— Это правда.
— Что правда?
— Тогда ночью, когда батя Апостол потерял сознание, Ненов вызвал его на работу. Домой к нему ходил.
Лицо Ненова сразу успокоилось и он откинулся на спинку стула:
— А, вот что… Шеф, я тебе рассказывал, как одно время было туго. Ты был в отпуске, из всей бригады осталось тогда двое. Даже Пешо не было.
— Неправда, я тогда только опоздал.
— Ладно, опоздал… А я что должен был делать? Пошел и вызвал Апостола, верно, но этого работа требовала. А откуда я знаю, что он такой больной? Я его попросил, а не насиловал.
— Ты его не насиловал, ты его водкой поил. — Я начинал закипать и смотрел ему в глаза. — Ему запретили пить, а ты дал ему водки.
Ненов покраснел. Волосы его и ресницы казались теперь совсем белыми.
— Неправда. Он уже выпил, когда я пришел.
— Я верю своим ушам. И бате Апостолу.
— Это он тебе сказал?
— Он.
— Не понимаю, зачем он соврал… Может, не в себе был. Больной человек всякое может сказать.
— Известное дело, — протянул Кореш, голос у него стал сиплым, — известное дело, чего там, батя Апостол, который в жизни не врал, вдруг соврал. Бывает.
Ненов смотрел на него в замешательстве. Он вытащил носовой платок, вытер рот, глотнул. Шеф впился глазами в своего помощника, молчал и слушал.
— Пешо, ты, по крайней мере, разумный человек, — сказал Ненов. — Что было — прошло, кто мог предполагать, чем кончится? Если возьмемся искать виноватых, ты тоже в стороне не останешься.
— Это почему же?
— Ты ж опоздал тогда. Явился бы вовремя, не пришлось бы мне звать Апостола.
Не надо было ему этого говорить. Если бы он это не сказал, может, ничего бы и не случилось… Кореш, растопырив пальцы, положил ладони на стол:
— Та-а-к… Батя Апостол — лжец, а виноват Пешо.
Он перегнулся через стол и сгреб Ненова за воротник вместе с галстуком. Воротник затрещал. Шеф обхватил Кореша за пояс и потянул назад, воротник опять затрещал Прибежал официант, двое из посетителей бросились к нам.
— Стойте! — крикнул я. — Кореш, пусти его. Он не виноват.
Кореш выпустил его и от изумления промычал «ыыых». Просто на стул брякнулся с открытым ртом. Официант требовал, чтобы мы ушли, пьяные драки в заведении запрещаются и тому подобное. Двое посетителей пожали плечами и вернулись на свои места. Шеф со злостью приглаживал стриженую голову и вынул кошелек — расплачиваться. Ненов, пожелтевший, поправлял воротник и растирал шею, на которой выступили красные пятна.
— Ненов, уходи, — сказал я. — Давай, давай.
— Уходи, — сказал и Шеф. — Чтоб не было здесь скандала.
Ненов подтянул узел галстука, посмотрел на Кореша, угрожающе крутанул головой и вышел.
Я кивнул Шефу, чтоб он был при Кореше, и сказал, что иду в туалет, пускай мол подождут. Вышел за Неновым. Я был спокоен, если можно назвать спокойствием острый обжигающий холод, который я чувствовал в груди.
Ненов уже совал ключ в дверцу «запорожца». Услышав мои шаги, он оглянулся, выпрямился.
— За это придется отвечать, Пешо. Потребую увольнения твоего приятеля.
— Так, — сказал я. — Что еще?
— И думай, что говоришь. За такую клевету…
Удар откинул его на радиатор. Он крикнул, но как-то тихо и пискливо, по-заячьи, ему не хватило воздуха. Встал и начал отступать, шаря по земле, — наверное, искал камень.
Я ударил его еще раз. На этот раз попал в подбородок, и он грохнулся во весь рост. Я подождал, пока он встанет, но он лежал и только охал. Может, притворялся.
Я вернулся в закусочную. Был невероятно спокоен, только рука побаливала. Шеф что-то говорил Корешу. Тот слушал, опустив голову, и потирал свой длинный нос.
— Ну, что там? — спросил Шеф, увидев меня. — Уехал?
— С машиной возится.
Уже стемнело, и не было видно, что делается на улице. Зафыркал мотор, фары выбросили сноп света и «запорожец», затихая, исчез в глубине. Значит, притворялся, сказал я себе, тем лучше. В эту минуту я ни о чем не думал, кроме руки. Осмотрел ее. На суставах были ссадины, рука начала опухать.
Шеф тоже смотрел на мою руку.
— Придешь домой, поставь компресс. Без перчаток всегда так… Сильно его попортил?
— Немножко, — сказал я безо всяких угрызений совести.
Кореш улыбнулся и толкнул меня в плечо.
12
Вот и все. Ненов был первым человеком, которого я ударил в своей жизни. Первым, кого я ударил первым.
Я шел домой легким шагом и с легким сердцем. Сошел с трамвая у Русского памятника. Шеф поехал дальше, Кореш сошел двумя остановками раньше — так ему было удобнее, можно напрямик домой, — и я шел один теплым вечером по бульвару Патриарха Евтимия. Шел, размахивая руками, с сигаретой во рту, и улыбался. Вряд ли прохожие видели мою улыбку, но я чувствовал себя их другом — другом всех этих незнакомых идущих по улице людей. Словно вернулся к ним после долгого отсутствия. Не знаю, что со мною было, я ударил человека по лицу, а чувствовал себя счастливым. Только рука побаливала.
Ужинал я вместе с нашими, за столом были все. Даже дед, который обычно допоздна торчит в сквере со своими товарищами. Про руку я сказал, что один тип толкнул дверь в трамвае и прищемил ее. Мама и дед поверили сразу, отец глянул с подозрением, но промолчал. Они знали, что я был на похоронах бати Апостола, а я разговорился, как никогда, и говорил очень громко. И хотя никто меня не спрашивал, сказал:
— На днях ухожу из бригады.
— А! — сказал отец. — Почему?
— Пойду на ремонтный завод. У одного приятеля там знакомое начальство. Будем устраиваться оба.
— Что ж, хорошо, — только и сказал отец, но губы его чуть дрогнули в улыбке.
Я был рад, что он доволен. И сам я был доволен и чувствовал себя страшно добрым. А насчет ремонтного завода мы с Корешем решили всего час назад, когда возвращались из закусочной. Шеф наше решение одобрил, потому что было ясно, что в бригаде нам оставаться нельзя. Может быть, и Ненов уйдет, сказал Шеф, работать ему с ним после этого не хотелось бы и он так ему и скажет; но он понимает, что и нам в бригаде делать нечего. Вообще Шеф — мужик справедливый и привык резать правду, даже когда это ему и неприятно.
Я отправился в свою комнату и растянулся на кровати. Можно было читать, или спать, сколько влезет, или играть с Пухом, — никогда я не чувствовал себя таким свободным и таким живым. Совсем живым. Сейчас все, что произошло в последние дни, казалось мне разумным и неизбежным, и я думал, что бывают в жизни события, которые не могут наступить ни раньше, ни позже, чем положено.
В окна лилась вечерняя прохлада, долетал городской шум и удары моего сердца затихали вместе с ним.
Это был мой город.
Мы с Корешем сидим в комнате парторга. Рядом с его столом — Ненов, нахмуривший свои бесцветные брови, сосредоточенный, с видом невинно оскорбленного человека. Челюсть вздулась и посинела, он слегка шепелявит, потому что один из передних зубов у него качается. Он все время придерживает щеку рукой и на нас не смотрит. Парторг что-то пишет в блокноте. Потом почесывает лоб и проводит растопыренными пальцами, как гребешком, по своей густой, как щетка, шевелюре.
— Ненов, что вы еще можете добавить?
— Ничего, товарищ Василев.
— А вы?
Вопрос относится к нам с Корешем. Я пожимаю плечами. Кореш тоже. Разговор окончен, но Василев постукивает карандашом о письменный стол и не спешит с выводами. Даже ничем не выдает своего мнения. Он просто вызвал нас, расспросил — и все. На столе перед ним лежит медицинская справка, которую Ненов представил в самом начале разговора. Парторг смотрит на всех нас по очереди и говорит:
— Ненов, вы свободны.
Кореш подталкивает меня, и мы тоже встаем, но Василев поднимает руку:
— Вы подождите.
Ненов берет со стола свою справку, кивает парторгу и выходит, волоча ноги, словно у него нет сил ходить. Василев долго молчит — на лбу у него складка, губы сжаты, — сует блокнот в стол и поднимает голову:
— Ну?
Главный обвиняемый — я. Ненов описал весьма подробно, как я нанес ему побои, потому что был пьян, безо всякой причины из-за какой-то собственной выдумки. Я рассказал все, как было — и почему ударил помшефа, и как тот батю Апостола напоил накануне припадка, — но Василев будто и не обратил внимания на мои обвинения, и все время перебивал меня вопросами: «Как ты позволил себе ударить человека?.. Как считаешь, правильно ты поступил?» И я все время не отвечал на эти вопросы. Может, поступил я и неправильно, но ничто не заставило бы меня сказать это в присутствии Ненова. Просто рот не открывался для таких слов…
— Все, товарищ Василев. — говорю я. — Что было, вы слышали.
— Да, слышал… До чего мы дойдем, если каждый начнет творить самосуд и наказывать, кого и как ему взбредет в голову? Как думаешь, Клисуров?
— Никак не думаю. — Зол я ужасно. Можно подумать, будто все происшествие сводится к моему проступку, а не к преступлению Ненова. — Раз вы мне не верите…
— В том-то и дело, что верю, — сердито говорит Василев. — Иначе я бы тут тобою не возился и говорили бы мы по-другому… А вот вы оба мне не верите.
— Как это — не верим?
— Почему вы не пришли ко мне и не сказали обо всем сразу после этого несчастного случая?
— А чем бы это старику помогло?
— Старику не помогло бы, а вот Ненов получил бы по заслугам. — Он качает головой и вздыхает, будто перед ним сидят дети. — А теперь? Апостол умер, даже подтвердить твои слова некому. Больше того, Ненов спокойно может отдать вас под суд. В чем вы его обвиняете? Вызвал старика на работу, когда тот был болен… Ненов — не врач, сделал он это в интересах работы, так сказать… А вы двое будете моргать глазами и рассказывать истории, доказать которые невозможно.
Подавленный, я молчу. Кореш смотрит себе под ноги и кусает губы. Парторг прав — хотя рассуждать сейчас об этом поздно.
— Значит, — говорю я, — виноватый останется ненаказанным?
Василев насмешливо поглядывает на меня, закуривает:
— Зелен ты еще, Клисуров… Вижу, горишь желанием, чтобы правда восторжествовала. Вот только правда — дело трудное… Да, на этот раз Ненов останется ненаказанным. Не я, а ты ему в этом помог, ясно? Допустим, мы сумеем его наказать — что из этого? Как наказать? Морально… Если у человека не хватает здесь и здесь — он стучит пальцем по голове и по груди, — моральное наказание гроша не стоит. Наказаны будете вы, хоть вы и правы.
— Зачем же вы тогда нас вызвали, товарищ Василев?
Я смотрю парторгу в глаза. Теперь я могу смотреть прямо в глаза кому угодно. Он тоже не отводит глаз, только сплетает пальцы ладоней, лежащих на столе.
— Я вас вызвал потому, что поступила жалоба. Это первое. И второе — чтобы вы вовремя поняли некоторые вещи, они вам пригодятся в жизни. Вы знаете, что я должен сейчас сделать? Поставить вопрос перед комсомольской организацией, чтобы вам хорошенько намылили шеи. А какие неприятности устроит вам Ненов — это особый вопрос.
— Мы свободны?
— У меня тут не отделение милиции, чтоб этот вопрос задавать. Раз хотите, можете идти.
Он встает, выходит из-за стола и складывает руки за спиной. Мы с Корешем поднимаемся медленно — оба чувствуем, что в этом разговоре есть что-то неоконченное, недосказанное.
— Можете идти, — повторяет Василев. — Вы свободны. Только помните, что надо знать, когда что делать, как своей свободой пользоваться. Ладно, до свидания.
— Это все, товарищ Василев? — говорит обиженно Кореш.
— Все. — Он пожимает нам руки, на минуту задерживает мою руку в своей и прибавляет. — Что касается Ненова, убедительно ему посоветую не обращаться в суд. У-бе-ди-тель-но… А вообще не знаю, мог ли бы я на вашем месте поступить по-другому… Но пусть это останется между нами.
Он невесело смеется и выталкивает нас из кабинета прежде, чем мы успеваем что-нибудь сказать.
Отправляемся с Корешем в буфет выпить лимонаду. Во рту у меня пересохло. Выпиваем лимонад стоя и выходим на площадь перед вокзалом. Закуриваем и щуримся на солнце. Слева, где раньше был сквер, уже высоко поднялись стены и леса будущего вокзала. Через год-два старое здание — место, где мы работали. — можно будет увидеть только на снимках…
— А Василев — ничего мужик, — говорит Кореш. — Толковый.
— Угу.
Трамвай набит битком. Его окна с одной стороны, откуда дует ветер, залеплены снегом. В вагоне тепло, пахнет мокрой одеждой, душно. Двенадцатый трамвай по утрам всегда переполнен, потому что он идет к одной из заводских окраин Софии, где еще на рассвете толкутся тысячи рабочих. Нет и двух месяцев, как я езжу на этом трамвае, но многих парней и девчат, которые ездят на нем, я уже знаю. Они держатся за металлическую штангу наверху — в пальто, в ватниках, в теплых куртках, с шарфами и без, в шапках и без шапок, — и перекрикиваются из одного конца вагона в другой. Кричу и я — тут есть двое из нашего цеха. Пожилых людей мало, иные из них развернули газеты, пытаются прочесть новости. Один парень рядом со мной включает транзистор. Мощный голос диктора, ведущего радиозарядку, на минуту заставляет всех замолчать: «Руки вытянуты вперед, медленно наклоняемся вперед. Раааз, двааа..»
— Давайте, чего ждете! — кричит низенький черноглазый хохмач. — Медленно и вперед — самое важное. Рааз…
Весь вагон смеется. Не потому, что он сказал что-то ужасно смешное. Просто так, для разминки, чтобы сон прошел. Девушка рядом со мной трясется от смеха и оборачивается, чтобы увидеть, кто это сказал, но видит меня и кивает. И я ей киваю. Она, по-моему, из административного отдела нашего завода, я как-то видел, что она оттуда выходила. Высокая девушка, глаза как маслины, на вязаной шерстяной шапочке, закрывающей ей уши, — алмазные капли от растаявших снежинок. Она смеется, обнажив зубы, громко и без кокетства, и мне приятно на нее смотреть. Человек, довольно грузный, в промасленном коричневом кожухе, пробирается к выходу, чтобы сойти на следующей остановке, но теряет равновесие и наступает мне на ногу.
— Извини, — говорит он, — это вне плана.
— Ничего, — отзываюсь я. — Я вчера тут одной наступил на мозоль, не вашей ли супруге?
Так мы доезжаем до нашей остановки. Высыпаем на улицу. Еще не чистили, и до заводских ворот мы шагаем по мягкому снегу, местами посыпанному сажей. Мой цех — далеко от проходной, и я еще пять минут шагаю к нему с двумя пареньками. Останавливаюсь выкурить первую утреннюю сигарету — до начала смены еще есть время. Мимо проходят слесари, фрезеровщики, сварщики, токари — все те, кто командует машинами и станками завода, — и открытая дверь цеха их поглощает. Стефчо, один из слесарей, останавливается, закуривает от моей сигареты и затягивается, закрыв глаза.
— Первая — самая сладкая, а, Пешо? Там, где вкалываем, курить не дают. Умно придумали — меньше тугриков на ветер уйдет.
Мы курим и глазеем на небо. И нам хорошо. Когда бросаем окурки, остается еще десять минут — столько, сколько нужно, чтобы подготовить рабочее место. Надо было сделать это вчера, после смены, но Кореш утащил меня на матч — последний в этом сезоне.
Я встаю у станка. Осматриваю его, вытираю тряпкой пыль и стружку. Станок новешенький, из маленьких, револьверный. Такой требует верный глаз и точную руку. Буду делать какие-то шпульки, не знаю, для чего они. Еще вчера мастер дал мне чертеж и размеры и сказал, что сегодня от меня требуется пятьдесят штук, значит, по шесть штук в час… Запускаю станок для пробы: вы-ы-и-и-и… Нормально.
— Пешооо! — кричит Кореш с другого конца цеха. — На сколько?
Я поднимаю пять растопыренных пальцев. Это наш код. Пять — самое хорошее настроение, ноль — самое плохое. Но мы никогда не говорим «на ноль». Кореш утверждает, что это не по-мужски. До трех еще можно, а меньше — это уже для бабусь со столетним ревматизмом. Сначала, когда мы только начали здесь работать, настроение у Кореша часто было на тройку, он только осваивался и слесарная работа представлялась ему непостижимой. Сейчас он поднимает руку с пятью растопыренными пальцами.
В обед мы с ним садимся за один столик. Суп с фрикадельками, картофельная запеканка, миндальный крем. К нам подсаживаются парень и девушка. Девушка — та самая, из административного отдела, с маслиновыми глазами, а парень — электрик, из верхнего кармана спецовки у него торчит амперметр. Оба смотрят не столько в тарелки, сколько друг на друга. Что ж, хорошо. Одним с девушками везет, другим — нет, третьи надеются, что повезет, так оно и идет. Я смотрю на этих двух слегка покровительственно, я постарше, опыта у меня больше… Пусть им повезет.
После обеда меня неожиданно вызывают в кадры. Не подал автобиографию. Я говорю служащей, что принес ее давно, еще в начале, она копается в папках, но ничего не может найти.
— Напишите другую, — говорит она, — это вам будет нетрудно.
И виновато улыбается.
Напишу, подумаешь. Завтра же принесу. А что нетрудно, это верно — моя биография исчерпывается двумя словами: родился, учился-недоучился, комсомолец, был в армии. Минибиография… А в сущности, думаю я, самое главное никогда не входит в биографию, даже будь она максибиография. Как написать, какая у тебя жизнь, чего ты хотел достичь, из-за чего не спал по ночам, с кем готов идти в разведку и с кем — нет? Как рассказать о маме, об отце, о сестре, о деде? Или об учителе по физике? Или о бате Апостоле, о Кореше, о Тане и Зорке, о Ненове и Шефе или о Кирилле и Невяне?
Эти люди и есть моя настоящая биография. Все мы имеем биографию, состоящую из людей, каждый из которых подрисовал одну-две черточки на его портрете; потом придут другие и тоже добавят, кто светлое пятно, кто тени, и портрет всегда так и будет неоконченным. И как было бы хорошо, если бы те, что придут, имели в кармане личный паспорт, где чья-то неошибающаяся рука внесла их отличительные признаки:
Дата рождения — не играет роли.
Рост — не имеет значения.
Глаза — честные.
Характер — человечный.
Особые приметы: любит детей и чистый воздух.
Возвращаясь в цех, я улыбаюсь своим мыслям. Дядя Максим сказал: мир — не парикмахерский салон, где поправляют смятые прически. Пусть так, но почему должны быть смятые прически?
Погода ясная, солнце блестит в снегу заводского двора, испещренном следами шин и шагов, а я стараюсь смотреть на этот блеск, не щурясь.
Примечания
1
Кладбище в Софии.
(обратно)2
Член партии «тесных социалистов» в 1919 году преобразованной в БКП.
(обратно)3
Шкембе-чорба — суп из говяжьего рубца.
(обратно)4
Анисовая водка.
(обратно)




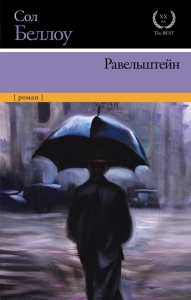


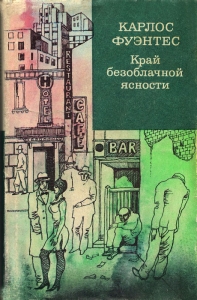


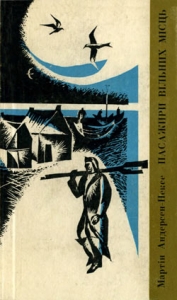
Комментарии к книге «Сын директора», Эмил Манов
Всего 0 комментариев