Андре Камински В будущем году — в Иерусалиме
Андре Камински родился в 1923 году в Женеве, Швейцария. Писатель, драматург, рассказчик и репортер. С 1945-го по 1968 год работал в Польше, затем, будучи лишенным польского гражданства, эмигрировал в Израиль, откуда вскоре отправился в Северную и Экваториальную Африку. Вернувшись в Швейцарию, работал как свободный писатель. Скончался в 1991 году, похоронен в Цюрихе.
«В будущем году — в Иерусалиме!» — говорят друг другу евреи прощаясь и в канун Нового года. «Мы увидимся вновь, — подразумевают они, — причем на Земле обетованной».
Читайте Андре Камински Предисловие переводчика
Читайте Андре Камински — будь моя воля, я написал бы вместо предисловия только эти слова и поставил бы точку.
У русского книголюба, который не читает по-немецки, шансы открыть для себя Камински близки к нулю. А открывать, право же, есть что! Одной этой мысли достаточно, чтобы взяться за перевод. Я сказал «взяться», а надо бы сказать — «осмелиться». Потому что переводить с языка на язык вообще, а Камински в частности, — это все-таки работа, требующая филигранной техники обращения с хрупким продуктом труда большого мастера. Как если бы речь шла об извлечении на свет древней статуэтки, по счастливой случайности найденной при раскопках.
За этой амбициозной работой всегда стоит известная доля авантюризма.
Писателя Андре Камински я отрыл в буквальном смысле этого слова. На книжном развале, где перемешано все сущее. Без намека на систему. Безнадежно невостребованное чтиво, будто выставленное для последнего прощального обозрения перед отправкой под нож. Отрыл и тотчас открыл для себя этого удивительного мастера. И только потом узнал, что книги его совсем еще недавно занимали первые строчки рейтингов в числе самых раскупаемых в Германии бестселлеров последних десятилетий двадцатого века.
Я стал листать потрепанную книжицу карманного формата, и уже не мог от нее оторваться. Старый букинист наблюдал за мной из окна, и ему стало жаль седовласого человека, так долго переминающегося с ноги на ногу. Он вынес мне раскладной стульчик и маленькую чашечку по-походному заваренного кофе: «Bitte schön, mein Herr!» Германия: здесь умеют делать завсегдатаев из случайных прохожих…
С того самого момента я понял, что с Камински мне уже не расстаться никогда.
Являясь первейшей пищей для ума, чтиво бывает вкусным и полезным. Как, впрочем, всякая другая пища, которую мы употребляем для поддержания жизненного тонуса. Два в одном — совпадение счастливое и нечастое. Открытие Андре Камински было моим первым и, пожалуй, главным везением на немецкой земле.
Блистательный Теофиль Готье сказал однажды о себе без ложной скромности: «Я подбрасываю фразы в воздух, словно… котят, ибо уверен, что они непременно упадут на все четыре лапы». Не знаю, была ли такая уверенность у Камински, писавшего свои творения по-польски и по-немецки, но со словами-котятами он, похоже, вытворял то же самое. И с тем же успехом.
В одном из немецких периодических изданий о романе «В будущем году — в Иерусалиме» было сказано: «Чтобы все это свести под одной обложкой, нужно быть дьявольским рассказчиком. Именно таковым и является Андре Камински». А респектабельная «Frankfurter Allgemeine Zeitung» писала, что книга эта, солидно преподнесенная как семейная сага, на самом деле есть не что иное, как блистательно написанный плутовской роман. Поистине, отличная рекомендация: мало кому дано с истинным блеском писать в этом труднейшем литературном жанре!
Как и многие мои современники, значительную часть жизни я провожу перед экраном компьютера. Моя уверенность в могуществе и компетентности поисковых систем была непоколебима до недавнего времени, когда однажды я запросил у них информацию о швейцарском писателе Андре Камински, и они вдруг стыдливо потупились. Все, кроме знаменитого всезнайки по имени «Google»: этот нашел все. До последней строчки, написанной Мастером… по-немецки. Но двадцать три года Андре Камински жил и работал в Польше. Много всего написал он на польском языке, который был для него вторым родным. Но даже «Google» не нашел ничего, кроме перевода с немецкого того же романа «В будущем году — в Иерусалиме». Почему так, спрашивал я себя, разве польское интернет-пространство просматривается компьютерными поисковиками меньше, чем какое-нибудь другое? Ответ на этот вопрос был получен мною позже, когда я прочитал второй роман Андре Камински, под названием «Кибитц», который также надеюсь вскоре преподнести русским ценителям хорошей литературы.
Он сам объяснил все. В своих немногих тонких книжечках, которые оставил нам этот замечательный рассказчик.
Читайте Камински, и вы другими глазами посмотрите на жизнь и судьбу целого народа, великого и неугомонного странника.
«Я говорил, — пишет Камински, — что мы, евреи, в принципе, являемся поборниками религиозной оседлости. Этим я хотел лишь намекнуть, что вечное движение — это наша явь, а покой — наша несбыточная мечта. Вам, наверное, доводилось слышать, что, прощаясь друг с другом, мы с надеждой и верой произносим: „В будущем году — в Иерусалиме!“ Этими словами мы возносим молитву к Всевышнему — положить конец нашему мучительному путешествию. Нашему вечному бегству от одной беды к другой. Мы молим, чтобы однажды он привел нас в тихую надежную гавань оседлости».
Я выражаю сердечную благодарность всем, кто прямо и косвенно способствовал тому, чтобы роман этот попал в руки взыскательного русскоязычного читателя. И в первую очередь — Елене Шукайловой-Васютинской, на плечи которой я, злоупотребив привилегией друга семьи, бесцеремонно взвалил тяжкую ношу литературного редактора. Двуязычный филолог по образованию, человек широчайшей эрудиции, она, что называется, вдоль и поперек проштудировала оба текста — оригинала и перевода, ревностно следя за тем, чтобы не дать переводчику воли поиграть на чужом поле. А те немногие и незначительные вольности в обращении с первоисточником, которые я, тем не мене, позволил себе, прошу расценивать исключительно как адаптацию превосходного немецкого текста к особенностям восприятия такого рода литературы русским читателем. Адаптацией, учитывающей уникальные особенности русской словесности, выразительных средств, только ей свойственных, — пусть простят мне этот пассаж знатоки и поклонники других языков. Если не бояться прослыть нескромным, то проще всего в таких случаях в оправдание свое спрятаться за могучую спину Клода Гельвеция, который предписывал переводить не слово в слово, а передавать красоту красотой. Работая над творениями Андре Камински, мне очень хотелось следовать этому мудрому завету. Получилось ли — судить не мне.
Слова искренней признательности адресую я Феликсу Кантору, предпринимателю из Санкт-Петербурга и моему другу, который, волею случая став одним из первых читателей русской версии романа, сделал все от него зависящее, чтобы книга эта увидела свет.
Читайте Андре Камински, и вы — я нисколько не сомневаюсь в этом — отнесете потраченное на него время к числу самых замечательных минут, проведенных вами над раскрытой книгой.
Леонид Казаков ФРГ, Кассель, ноябрь 2012 г.В будущем году — в Иерусалиме
1
Дядюшка мой, Хеннер Розенбах, был, во-первых, психопатом и, во-вторых, — наипервейшим вралем на всем пространстве двойной Австро-Венгерской монархии. Теоретически он приходился мне двоюродным дедом, в чем я, впрочем, сомневаюсь, поскольку схожести с ним у меня несравненно больше, чем с братом его Лео, который, собственно, и является моим дедушкой по линии матери.
Как бы то ни было, дядя Хеннер принадлежит к известному роду раввина Шломы Розенбаха, который три века тому назад писал в Буковине свой знаменитый трактат и на могильном камне которого высечены слова то ли позднего раскаяния, то ли назидания потомкам: «Правда — это самое благое из всех благ, обращаться с которым следует осмотрительно и не расточать всуе».
Мудрому девизу этому моя семья старалась следовать во все времена. Многие поколения моих родичей ежегодно, в праздник святого Йом Кипура, совершают паломничество в Черновцы, чтобы помолиться за душу великого предка своего. Семейный обычай этот был прерван, когда Черновцы оказались за железным занавесом, однако, к общему утешению, именно сей мудрый завет нашего пращура оказался принятым в качестве максимы мировой коммунистической системой, которая раскинулась от Эльбы до дальних берегов Японского моря.
Меня то и дело спрашивают: «А чем, собственно, промышлял этот ваш дядюшка Хеннер?» — «Видите ли, — отвечаю я, смущенно покашливая при этом, — он был — как бы это лучше выразиться — фантазером…»
Я, конечно, понимаю — это не ответ. Фантазер — не есть профессия, поскольку этим не проживешь, но ведь и дядюшки Хеннера давно уже нет. Он покинул этот мир шестьдесят лет назад. В беспросветной нищете и будучи отверженным собственной семьей. Даже моими ближайшими родственниками, которые, к слову сказать, ни на йоту не отличались от него в лучшую сторону.
Тем не менее я должен объяснить, чем же он все-таки пробивался.
Он был попрошайкой, прихлебателем, что у нас, евреев, считается как бы занятием и при любом раскладе вполне может обеспечить необходимый прожиток.
Он сам называл себя изобретателем; в известной степени, таковым он и являлся. К тому же, существовал этот старатель исключительно за счет своих изысканий, хотя всю свою жизнь он посвятил одному-единственному делу.
(Согласимся, впрочем, что и на этот факт можно взглянуть по-разному.)
Он изобретал цветную фотографию. Беспрестанно. Всю жизнь. Из года в год.
Мой дядюшка Хеннер, равно как и брат его Лео, который, как я уже говорил, якобы приходится мне дедом, целиком посвятили себя правдивому отображению действительности на светочувствительных материалах, в те времена — исключительно на особых стеклянных пластинках. Сдается мне, совпадение это не является случайным. В моей семье издавна сложилось искаженное представление о реальности. В отражении вещей мы находим гораздо больше удовлетворения и смысла, чем в самих вещах. Ничто не захватывает нас сильнее красиво поданного обмана.
Если бы, тем не менее, мой дед ограничился лишь отображением придуманных Всевышним форм предметов, не пытаясь вторгаться в их суть, следом и дядюшка Хеннер направил бы усердия свои на простую имитацию их природной окраски. И тогда, без сомнения, он довел бы это искусство до такой степени, что разница между «быть» и «казаться» бесследно растворилась бы в очаровании иллюзии.
Его изводила навязчивая идея копирования реального Мира, всеобъемлющая шизофреническая страсть — выхватить и запечатлеть мгновение жизни, чтобы впоследствии при желании просто сохранить его в исходном виде, либо подретушировать по вкусу или велению обстоятельств, а при необходимости — попросту уничтожить, будто мгновения этого не было вовсе.
Таким образом, братья Розенбах жили и умерли ради фотографии, эдакой непостижимой черной магии, диковинного колдовства посредством могучих средств оптики, химии и живописи. Именно их в тридцатые годы девятнадцатого столетия волшебным образом свел в единый губительный клубок изобретательный сын Кормейльского судебного экзекутора незабвенный Луи Жак Манде Дагер.
Оба брата были черными магами в истинном смысле этих слов, причем дядя Хеннер дерзнул парадно разукрасить сплошь черную компоненту этого дьявольского промысла, придав ей сотни оттенков радужного спектра.
Впрочем, не стану предупреждать события и начну мой рассказ.
* * *
Лео Розенбах, человек, которому предстояло стать моим дедом, приехал в Станислав, чтобы жениться. Ему было уже за сорок, но, будучи целиком поглощенным необходимостью сделать приличную карьеру, он все еще оставался девственником.
Два десятилетия кряду провел он в Мюнхене при дворе Людвига Второго Баварского, состоя при нем придворным фотографом.
Ему были известны — по крайней мере, как стороннему наблюдателю — все захватывающие воображение прелести придворного быта, которые он по долгу службы бесчисленное множество раз восхищенно созерцал сквозь объектив своей камеры. Тем более удивительно, что при этом он все еще странным образом оставался холостяком.
Почему будущий дед мой покинул это кипящее жизнью высшее общество ради поисков счастья в богом забытой провинции — целиком объясняется природной сутью его нрава. Или — точнее сказать — норова. Вопреки чрезмерной застенчивости, в характере его таились задатки эдакого правдоискателя. Со временем они развились в скверную и к тому же опасную привычку бесцеремонно называть вещи своими именами.
Однажды Ее Величество княгиня Фюрстенбергская, дамочка маленько кривобокая от рождения, пожаловалась Государю, что придворный фотограф Лео Розенбах имел наглость выставить ее на своем фотопортрете в непривлекательном виде. Государь велел звать к себе обидчика и без обиняков спросил — что в оправдание свое на жалобу высокородной дамы тот сказать имеет?
Мой дед с низким поклоном ответил, что сделанный им фотопортрет всего лишь реально отображает то, что видит объектив камеры. И если отображение это высокородной даме — опять низкий поклон — не по вкусу пришлось, то претензии ей следует иметь к своим родителям — еще поклон — и уж никак не к нему, фотографу.
С достоинством справедливого монарха выслушав объяснения придворного фотографа, Их Величество не смогли-таки скрыть легкой улыбки, однако карьера Лео Розенбаха при Мюнхенском дворе в этот день была окончательно завершена. Незадачливый правдолюб был вынужден спешно собирать пожитки и убираться вон. Искать прибежище на родине своих предков.
На вокзале провинциального города Станислава совершенно неожиданным образом решилась судьба моего незадачливого деда и, как следствие, моя собственная.
Провидению было угодно, чтобы некий носильщик по имени Симхе Пильник подхватил багаж отставного придворного фотографа, дабы доставить его в отель Бристоль, который находился на Ягилонской улице и согласно громкому имени своему считался самым фешенебельным в городе пристанищем для именитых гостей.
По дороге выяснилось, что Симхе Пильник был не просто носильщиком. Он ловко совмещал эту рутинную работу с творческой деятельностью брачного свата. Проще говоря, был сводником, который, выражаясь сухим языком протокола, злоупотреблял служебным положением по основному месту работы, вербуя клиентов для своей же работы по совместительству.
Стоял промозглый апрельский день, город захлебывался в хлюпающей под ногами снежной жиже. Из обшарпанных фасадов ссутуленных домов на редких прохожих пялились угрюмые окна, в которых, позевывая и ежась от стужи, мельтешили заспанные мещане. Над малолюдной улицей тяжело нависал нестерпимый дух мочи и сивухи, которую поляки называли «Бимбер». Редкие пролетки с дребезжанием проползали мимо. За ними во все стороны разлетались холодные грязевые кляксы. Изрыгая проклятия, прохожие повыше поднимали воротники и торопливо скрывались за темными арками ворот.
Пройдя совсем немного, Лео Розенбах понял, что в этой Тмутаракани ловить ему нечего. Он решительно заявил Симхе Пильнику, чтобы тот разворачивался на сто восемьдесят градусов и тащил багаж обратно на вокзал. Носильщик вначале не понял и на мгновенье замер в неподвижности. Придя наконец в себя, он решительно подошел к приезжему и что-то быстро прошептал ему в самое ухо.
Десятью минутами позже мой будущий дед сделал в гостевой книге отеля Бристоль следующую запись: «Лео Розенбах из Мюнхена, фотограф двора Его Величества Людвига Второго, короля Баварского». Просто и скромно.
Ему были предоставлены самые роскошные апартаменты, предназначенные исключительно для важных особ высшего ранга.
К вечеру того же дня весь Станислав буквально сотрясала важная новость: в город прибыла оч-ч-ч-ень высокопоставленная персона!
Не откладывая в долгий ящик, уже в ближайший четверг Лео Розенбах нанес визит практикующему свату-носильщику и провел с ним предметный разговор, имевший весьма и весьма радикальные последствия.
Симхе Пильник провел презентацию дюжины фотографий статных дамочек, успевая по ходу дела оглашать приданое каждой из соискательниц достойного избранника сердца. Одну за другой бросал он снимки на стол. Эдаким театральным жестом, будто карточный игрок, демонстрирующий свой неповторимый триумф.
Мой дед изображал при этом глубокое безразличие сноба. Провожая каждую следующую фотографию скучающим взглядом, он издавал вослед ей пренебрежительно-хрюкающий звук, который должен был продемонстрировать этому мечущему бисер крупье, что он, личный фотограф двора Его Величества, видал в своей жизни и не такие картинки и что тяжелый чемодан, скорее всего, придется-таки тащить обратно на вокзал.
Когда же на стол упала двенадцатая фотография, отставной придворный фотограф, будто ужаленный, вскочил с места:
— Кто это?
Сводник наморщил нос и ответил с прохладцей:
— Так… Дочь одного подмастерья при кожевенных дел ремесленнике. Выглядит она действительно недурно, — продолжал он, демонстрируя подчеркнутое безразличие к объекту обсуждения, — но чтоб за душой что-то было, так, прямо скажем, не очень…
При этих словах Лео Розенбах поднялся со своего кресла и заявил тоном, не допускающим возражений:
— Эта, господин Пильник, и никто кроме!
В воскресенье восторженное весеннее солнце одарило совсем уже приунывших горожан неожиданно ярким сиянием, а отставной придворный фотограф лично засвидетельствовал кожевенных дел подмастерью свое глубочайшее почтение.
Тут самое время пояснить одну важную деталь. Сказать, что дед мой был мал ростом, — это не сказать ровным счетом ничего. Он был сущим карликом. По этой причине он носил яловые башмаки с пряжками и на высоченных каблуках, желто-коричневые полосатые брюки из фланели, обтягивающий бархатный камзол и высокий цилиндр. Все это призвано было создавать видимость человека нормального роста. Впрочем, вся эта маскировка мало что меняла в смехотворном облике моего деда, до забавности искажая к тому же манеру его походки, когда он робкими шажками, будто ощупывая земную твердь, вышагивал по узким улочкам рабочего пригорода, в котором размещался утлый домик семейства Вертхаймеров.
Писаная красавица Яна, о которой Симхе Пильник небрежно выразился — «выглядит она недурно», притаившись за тюлевой занавеской, с нетерпеливым волнением наблюдала за поворотом дороги, из-за которого вот-вот должен появиться таинственный соискатель ее верной руки и истосковавшегося сердца.
О нем она знала так же мало, как и ее родители. Пожалуй, единственное: личность он известная — как-никак, придворный фотограф из самого Мюнхена — шутка ли! Что остановился он в самых изысканных и дорогих апартаментах Бристоля и что прибыл он сюда единственно с намерением сочетаться законным браком именно с ней, с барышней Яной Вертхаймер.
Не больше и не меньше.
Сегодня он будет просить ее руки, этот сказочный принц, который, взглянув лишь на ее фотографию, воскликнул: «Эта, господин Пильник, и никто кроме!»
В ее воображении он являл собой, по меньшей мере, Тамино из «Волшебной флейты». Будучи не только прекрасной внешне, но пребывая, к тому же, в крайнем возбуждении от предстоящего события, Яна ждала явления полубога, эдакого Давида, сотворенного Микеланджело.
У евреев говорят так: всякое разочарование — это всего лишь расплата за самообольщение. Если я скажу, что Яну Вертхаймер постигло разочарование, я сильно погрешу против истины. Нет, не разочарована она была, но в высшей степени возмущена, взорвана изнутри, раздавлена — и это еще — мягко говоря! Все ее существо с головой накрыла волна немыслимого отвращения, смешанного с негодованием от одной мысли, что ей, Яне Вертхаймер, кто-то дерзко осмеливается предлагать в избранники нечто подобное!
Она едва разглядела из-за кисеи занавески, как какой-то расфуфыренный недомерок, смешно припадая на обе ноги, — нет, не подошел, — нерешительно подкрался к двери их дома и, оглянувшись по сторонам, еще более нерешительно потянул за шнурок звонка. Он сделал это с такой предупредительной осторожностью, будто сейчас же хотел у всего мира просить прощения за свою неслыханную дерзость. За то, что он вообще осмелился явиться сюда собственной ничтожной персоной, с тем чтобы у его высочества — кожевенных дел подмастерья — просить руки его единственной дочери!
«Карликовый пинчер», — тотчас окрестила его мысленно потенциальная невеста и сейчас же задернула занавеску.
Едкая тошнота подступила к горлу несчастной девушки. Непередаваемая, едва сдерживаемая ярость охватила ее — как вообще, по какому праву ее родители посмели вступить с этим «микроорганизмом» в какие-то семейные сношения!
…И где же наконец этот сказочный принц, этот Тамино, этот мраморный Давид — где они, господи?
Все мечты — вдребезги! Они разом рассыпались, разлетелись…
Еще не придя в себя, Яна пустилась в бегство. Куда? Она не знала. Она была лишь преисполнена решимости любыми средствами избежать встречи с этим крохотным полусуществом. Она немедленно умрет, едва он прикоснется своим поцелуем к ее руке или, упаси господи, к ее губам!
О небо, не дай свершиться такому злу!
От безысходности и отчаяния Яна потеряла голову. Она бросилась бежать в никуда.
Но все то, что произошло дальше, невероятно и непостижимо. Абсолютно. Тем не менее именно так все и было на самом деле.
Она прибежала на задний двор, со всех сторон огороженный палисадом. Здесь девушка оказалась в ловушке, избежать судьбы шансов не было. Ни малейшего укрытия кругом. Единственное сливовое дерево неприкаянно возвышалось над землей сучковатым стволом и совершенно голыми ветками.
Не видя лучшего прибежища, она неимоверными усилиями стала взбираться на дерево. Она карабкалась вверх, сколько могла, затем мертвой хваткой вцепилась в ветку, будто внизу под ней бушевал все на своем пути смывающий поток, готовый немедленно поглотить ее.
Внезапно распахнулись ведущие в задний двор ворота. В их проеме, тяжело дыша, стоял старый Вертхаймер. Зеленый от ярости, как ядовитая плесень, он был не в силах выдавить из себя сколько-нибудь вразумительной фразы.
— Яна, ты режешь меня без ножа. Ты меня позоришь. Я достану тебя из могилы, Яна! Желчь моя разольется, если ты сейчас же не слезешь, Яна.
— И пусть она у тебя разольется. Я не хочу жить!
Аарон Вертхаймер растрепал свои скудные волосы и завизжал как резаный:
— Придворный фотограф Людвига Второго Баварского приехал из самого Мюнхена! Это три раза так далеко, как от нас до Бердичева! А ты сидишь на дереве — босая, посреди зимы — и отмораживаешь себе ноги! Я этого не вынесу, Яна!
— Пусть они у меня отмерзнут. Мне все равно.
При этих словах кожевенных дел подмастерье окончательно вышел из себя и стал причитать во весь голос:
— Из Мюнхена приехал он, специально ради тебя, а ты — ты!.. Родного отца выставляешь как последнего шмока, паршивого работягу с красными руками, потому что он, твой отец, не адвокат, а кусок коровьего дерьма и вынужден вкалывать от зари до зари, покуда эта неблагодарная барышня на роялях играет да умные книжки по-латыни почитывает. Ой, меня сейчас хватит удар!
— Пусть он тебя хватит, я с места не сдвинусь!
Это был уже перебор. Старик помчался в дом и тотчас вернулся с топором в руках. Бранясь и хрипя, принялся он отчаянно рубить ствол. Он полагал, что тяжелое дерево рухнет наконец вместе с его неблагодарной дочерью и погребет его, старика, под своей тяжестью.
В самый разгар не на шутку разыгравшейся драмы во дворе — совсем как в доброй сказке — появился милый карлик. Он подошел к месту экзекуции, намереваясь, кажется, сейчас же направить событие в совсем иное русло.
Это был сам придворный фотограф. Он буквально бросился к лютующему папаше и велел немедленно прекратить это безобразие.
— Безумие, господин Вертхаймер, не есть аргумент. Так вы ничего не добьетесь.
Этого кожевенник никак не ожидал. Он был до такой степени ошеломлен, что тотчас выронил топор и только стер со лба струи пота.
Лео Розенбах достал из кармана семь серебряных рожков и ловко сложил из них что-то наподобие музыкального инструмента. Затем, сложив губы эдаким чувственным хоботком, он приложил их к мундштуку. Полилась мелодия — грустная и удивительно нежная. Волнующее душу Affettuoso, необычное и даже немного пугающее.
— Боже, какая прелесть! — воскликнула девушка, забыв обо всем на свете. — Чья эта музыка?
Карлик прервал игру, медленно поднял голову и, впервые увидев воочию принцессу своей мечты, шепнул — на этот раз себе самому — ту же фразу, что и тогда, Симхе Пильнику: «Эта и никто кроме!»
Восседающая босой среди голых веток, она была в сотни раз прелестней, чем на том портрете, двенадцатым по счету брошенном на стол старым сводником под занавес заочных смотрин. Еще не совсем погасшая ярость в ее глазах лишь прибавляла ей прелести. Черные волосы девушки клубились вокруг ее божественной шеи, клубком разъяренных змей извивались на обнаженных плечах. И лишь в потаенных уголках ее прелестных губ короткой молнией промелькнула едва заметная улыбка.
Лео Розенбах ответил с кротостью, не знакомой ему дотоле и не испытываемой им уже никогда более:
— Эта мелодия — ничья. Она упала с неба каплей росы. Впрочем, — продолжал он, — я — ваш жених, мадемуазель, и я принес вам подарок.
— Что еще за подарок?
— Спуститесь вниз, мадемуазель Вертхаймер, иначе я не смогу вручить его вам.
Чудо свершилось. Единственное чудо в жизни моего деда. Яна слезла с дерева и в королевской позе предстала перед влюбленным «микроорганизмом».
— Вы заявили, что являетесь моим женихом. Это, право, странно! Что-то я не припомню, чтобы была влюблена.
Лео пропустил эту фразу мимо ушей, достал из камзола черный футляр и раскрыл его. Внутри лежало жемчужное ожерелье необыкновенной красоты.
Девушка не верила своим глазам. Осторожно, самыми кончиками пальцев, коснулась она колье. Убедившись, что все это явь, она достала божественное украшение из футляра и приложила к своей белоснежной шее.
Старый Вертхаймер наблюдал эту сцену со стороны и ровным счетом ничего не понимал.
— Яна, ты что — совсем мишугенэ? — воскликнул он.
— Да, — коротко ответила дочь.
— И что дальше? — только и нашелся вконец ошалевший отец.
— Я выйду за него замуж.
— Он тебе нравится? — спросил старик, начиная приходить в себя.
— Нет, — ответила она спокойно, — не нравится, но замуж за него я пойду.
Свадьба была пресной, как, впрочем, большинство свадеб вообще. Эта была особенно пресной, потому как Вертхаймеры принадлежали к либералам: ни богу свечка ни черту кочерга… Между двумя ипостасями этими они располагались где-то посредине. То есть по большому счету — нигде. Можно, конечно, считать себя свободным от предрассудков, однако счастливее от этого не становишься… Лео Розенбах был из той же когорты. Что иврит, что идиш оставались для него непостижимой тайной за семью печатями. Да и по-немецки он говорил с нарочитым баварским акцентом. Отставной придворный фотограф обильно орошал себя parfum français и был не прочь щегольнуть в костюмчике английского покроя. Твердости характера не было в нем ни на грош. Вращался он в кругу себе подобных. Сотоварищи его, эти воинствующие всезнайки, причисляют себя к подвижникам точных наук и с пеной у рта судачат о вещах, абсолютно для них непостижимых. Будучи невеждами — что в физике, что в биологии, случайно сохранив в памяти несколько простейших формул, — они считают себя способными и готовыми постичь всю глубинную суть мироздания.
«Чудес на свете не бывает, — со знанием дела посмеиваются они, — все объяснимо, нужно лишь суметь объяснить». Но всякий раз, когда происходит нечто за пределами их ограниченного понимания, они притихают, забавно покачивают головами и демонстрируют при этом полнейшее свое невежество. Какая-нибудь дурацкая бессмыслица доводит их до параноического неистовства, они готовы разорвать на себе рубашку, а заодно и всех, кто не приемлет радикальности их суждений.
Но при всем при этом они не перестают быть евреями не столько, впрочем, из верности принципам, сколько из страха перед смертью. Они позволяют себе потешаться над раввином, однако признают его авторитет в сфере нематериальной: льготная путевочка в мир иной все же понадобится — рано или поздно…
Все это объясняет, почему свадебное действо совершалось в строгих предписаниях еврейского ритуала.
Господин Кобринер, главный раввин Станислава, должен был произнести торжественную речь. Симхе Пильник занимался практическими деталями торжества и в первую очередь — протоколом застолья. Он один знал точно, кто чего стоит в денежном выражении, и в соответствии с этой стоимостью гостю надлежало сидеть за праздничным столом выше или ниже. Главная же проблема была свойства сугубо оптического: как посадить брачующихся рядом, чтобы никто не заметил, что грациозная невеста на две головы выше своего именитого жениха, этой важной особы из Мюнхена, личного фотографа двора Его Величества Людвига Второго Баварского? Тут не скроешься: брачная пара — в центре внимания всех гостей, к тому же молодых непременно будут фотографировать, чтобы потомкам осталась память о счастливейшем дне в их жизни.
Симхе Пильник знал выход. Он велел изготовить трон, с высоты которого знатный жених будет величественно возвышаться над всем праздничным застольем.
Хасидский оркестр наигрывал веселые мелодии; блистательное собрание с нетерпением ожидало выступления Главного раввина, который веселился вместе со всеми, хотя Аарон Вертхаймер был всего лишь простым подмастерьем кожевенных дел ремесленника. Но у него была раскрасавица дочь — несравненная Яна, и ни один еврей в Галиции не посмел бы упустить счастливой возможности хоть на мгновенье приблизиться к этой сверкающей прелести. Кроме того предоставлялась возможность вблизи рассмотреть человека, который лично знаком с самим королем Баварским Людвигом Вторым, всемирно известным меценатом искусств и личным другом Рихарда Вагнера. Лео Розенбах, таким образом, долгие годы был личным поверенным знатного вельможи.
Приняв без долгих рассуждений сделанное ему приглашение, Главный раввин выступил с речью о смысле и таинствах фотографического изображения как символа бессмертия:
— В Священном Писании, высокоуважаемые гости нашего свадебного торжества, сказано: «Не создавай себе образов». Потому некоторые расценивают фотографию как тяжкий грех. Они заблуждаются. Смысл этой заповеди лежит гораздо глубже. Ты не должен создавать себе фальшивых — я подчеркиваю это — фальшивых образов. Ты не должен посягать на Божий промысел, вмешиваться в его дела. Он сам знает, что делать, и делает это хорошо. Эта заповедь касается живописи и в особенности — плохой живописи, каковая, к примеру, распространена сегодня в Париже и Вене. Всевышний хочет уберечь нас от разного рода пачкунов и фальсификаторов, которые самонадеянно посягают на великие творения его. Именно о них говорится в Священном Писании, а не о точном отображении творений Божьих. Зеркала не несут в себе греха, — так учил нас Моше бен Баймон, — и грехопадение наступает лишь при искажении действительности, ибо в искажении этом состоит лжесвидетельство. Отсюда и смысл заповеди: не лги! А зеркало — не лжет. Оно лишь отражает то, что видит. И фотография делает то же самое. Красивое остается красивым. Безобразное — безобразным. Фотография прославляет творение рук Господа. Она увековечивает то, чему надлежит быть увековеченным. Она запечатлевает то, что достойно пережить смерть. Кто вправе запретить нашему жениху, достойнейшему господину Розенбаху, запечатлеть на стеклянной пластинке и тем увековечить на радость потомкам безупречное совершенство и неповторимый блеск его молодой избранницы, несравненной Яны из благородного дома Вертхаймеров? И разве не является святым долгом, важнейшей миссией человека прославлять и увековечивать великие творения Господа нашего? И разве не в этом состоит высшее проявление истинной любви — дать прорасти в твоей крови обожаемому тобою образу? Может, кому-то из присутствующих в этом праздничном зале известно лучшее средство прославления молодости и совершенства этой несравненной еврейской девушки, чем с помощью фотографического аппарата? Так назовите его…
— Я, господин Главный раввин, я знаю нечто гораздо лучшее…
Это был какой-то свихнувшийся тип. Прервать выступление Главного раввина Станислава! На такое еще никто не осмеливался. Вопрос, заданный раввином, был чисто риторическим. На немедленный ответ никто и не рассчитывал. А тут появляется какой-то залетный ухарь, чужак, которого никто не приглашал, и нагло перебивает высокочтимого докладчика. Нет, с Симхе Пильником такого еще не бывало! И этот самозванец осмеливается вступать в дискуссию с самим раввином!
— Так вот, господин раввин, еще несколько недель, и весь мир узнает о моем изобретении. Я построю специальную машину, так называемый Призматограф. С его помощью это прелестное юное создание, этот нераскрывшийся бутон засверкает в тысячу раз ярче, чем Лео Розенбах может себе представить. Его фотографическая техника несовершенна. Для Лео Розенбаха эти прелестные губки — черного цвета. Для меня — они цвета алой зари. Нежные жемчужины на ее божественной шейке он видит серыми. Для меня они — перламутрово-розовые, как утренняя заря. Так кто из нас двоих ближе к истине? Выходит, и Лео Розенбах грубо вмешивается в Божий промысел, искажает творение Всевышнего, лишая его естественных красок. Да, да, уважаемые дамы и господа, он искажает творимое Богом чудо, сводя бесчисленную палитру дивных красок Природы всего к трем жалким оттенкам: к черному, белому и серому…
Ропот возмущения пронесся по торжественному залу. Старый Вертхаймер решительно подошел к нарушителю порядка, чтобы сейчас же вышвырнуть его вон. Но тут придворный фотограф поднял руку и жестом призвал будущего тестя к спокойствию:
— Оставьте в покое этого человека, господин Вертхаймер, — сказал он спокойным тоном, — это мой брат. Вы же видите, он не в себе и сам не знает, что несет…
Это был апогей празднества, о котором очень скоро все забыли бы, не пойди мой чокнутый дядюшка Хеннер дальше. Выходка его этим не завершилась: спокойно выслушав умиротворяющее заявление жениха, изобретатель таинственного Призматографа поднялся со своего стула и торжественно прошествовал к почетному столу, за котором восседали молодые. Тут он разыграл вторую сцену своего спектакля-экспромта. Подойдя к невесте, он галантно опустился перед ней на колено, с театральным жестом взял ее руку и медленно, с расстановкой прикоснулся губами к самому кончику каждого пальчика. Благоговейно и трепетно, будто слизывал с них бисерные капли Божьей благодати. Изысканный пассаж этот пришелся девушке по вкусу, было видно, что новоиспеченный деверь исключительно нравился ей, и это на самом деле было так: в отличие от законного жениха, его непутевый брат соответствовал ее представлениям о благородном принце Тамино из «Волшебной флейты». Когда этот галантный кавалер поднялся с колен, она глубоко заглянула в его светящиеся восторгом глаза и спросила:
— Вы изобретаете цветную фотографию, господин Розенбах? Я нахожу эту идею превосходной и очень горжусь вами. Как далеко продвинулись вы в ваших изысканиях?
Она говорила чуть слышно, розовым перламутром едва заметно проступило на ее лице очаровательное смущение.
— Можешь говорить мне «ты», прелестное дитя, — ответил Тамино, не отводя взгляда, — мы ведь теперь родственники — не так ли?
Дядюшка Хеннер, как всегда, в своем амплуа! Вместо прямого ответа на щекотливый вопрос, как долго человечеству осталось ждать счастливого мгновенья быть одаренным величайшим открытием века, этот плут изрек фразу, которая повергла Яну в замешательство продолжительностью в целую жизнь.
* * *
Со дня свадьбы дядя Хеннер поселился у брата, который в доме на улице Мицкевича обустроил свое жилище и фотоателье. И хотя дом был достаточно просторным, для троих жильцов он был тесноват. Внутреннее убранство его было до такой степени миниатюризировано, что сами жильцы в его интерьере казались почти величественными. Кругом была расставлена похожая на игрушечную мебель, крохотные столики и миниатюрные креслица, обтянутые желтой и небесно-голубой тканью. На стенах висели изящные картинки австрийских мастеров миниатюры. В зале доминировали маятниковые часы в корпусе, украшенном витиеватым орнаментом. Каждый целый час эта вычурная коробчонка вытренькивала слащавый minuetto. В спальне на верхнем этаже располагалась кровать с балдахином, на которой красовались расшитые серебром подушечки, по форме и величине напоминающие медовые коврижки в форме сердечек.
Словом, руководствуясь собственными представлениями, Лео Розенбах свил для новоявленной принцессы своей кукольное гнездышко, а непутевый братец его Хеннер тут же оккупировал в нем уголок для временного пристанища. Изобретатель цветной фотографии клятвенно заверил брата, что не позднее, чем через месяц, он освободит занятую им комнату, но пока он никак не может оставаться в своем жилище.
— Ты же знаешь, Лео, — пояснял он брату, — моя жена — сущая кокотка. Не больше и не меньше.
— Вздор, — возражал придворный фотограф, — твоя Сара — человек искусства. Просто выходки твои ей уже поперек горла.
— Если я говорю, что она кокотка, значит, это так и есть. Я знаю, что говорю.
— Сара слишком чувствительна, — не соглашался Лео, — ее жизнь принадлежит музыке. Вот почему она не может жить с тобою дальше.
— Наоборот, Лео, совсем наоборот: это я не могу больше с нею жить. Она кокетничает со своими учениками, открыто флиртует чуть не со всей богемой Галиции. Стоит мне ноги за дверь, она тотчас с мужчиной.
— Не выдумывай, Хеннер, все это плоды твоей болезненной фантазии.
— Кроме того, — настаивал брат, — она целыми днями барабанит по клавишам рояля. Вагнер — от завтрака до ужина. А ведь она отлично знает, что я вообще не переношу Вагнера! А тут еще и мой сын Натан: да, он вундеркинд — не возражаю. Но часами без перерыва он пиликает на своей скрипке этюды Паганини — эту визгливую музыку, эти кошачьи концерты… В таких условиях я совершенно не в состоянии на чем-нибудь сосредоточиться, чтобы завершить мои исследования. Невыносимо! Ты ведь знаешь, я почти у цели. Мое открытие — вопрос нескольких недель. Или даже — дней. Осталось совсем чуть-чуть, и мой Призматограф заработает. И тогда все мы сразу окунемся в невиданное богатство! Верь мне, Яна, — взывал он к чувствам своей очаровательной невестки, — моя идея затмит все известные открытия современной науки. Я был у Огюста Люмьера в Лионе — это самый крупный во всей Франции предприниматель в области фотографии. Я показал ему мои наброски. Этот мудрейший человек сжал меня в объятиях, расцеловал в обе щеки… Слезы стояли в его глазах. Он предложил мне сейчас же десять миллионов золотых франков. Без промедления. Наличными. Из рук в руки. Он сумасшедший, этот Люмьер: разве продам я величайшее изобретение века за какую-то жалкую подачку в десять миллионов! Тогда я отправился в Нью-Джерси. К Томасу Эдисону, этому американскому королю электрических лампочек. И знаешь, что ответил он мне? Что в сравнении с ним я просто гигант — вот что сказал он мне. И он готов был вложить в разработку моего Призматографа пятнадцать миллионов золотых долларов США! Но и это предложение я отверг: мне не нужны совладельцы. Под этим солнцем я хочу оставаться единственным в своем роде… Как Наполеон в мировой истории. Дайте мне всего несколько недель, и я заплачу вам за ваш приют столько денег, что вам их будет не сосчитать! Десять тысяч крон в месяц — представляете? И вовсе не потому, что вы их заработали, а потому, что вы приятны мне. А тебя, райская ты птичка, я люблю особенно. Дней через тридцать я навсегда покину ваш дом, и вы вздохнете…
— Что за вздор ты несешь, дорогой Хеннер, — возразила ему Яна, которая слушала всю эту тираду с широко раскрытым ртом, — я вовсе не хочу, чтобы ты покидал наш дом. Напротив, я хочу, чтобы ты остался в нем навсегда, — она снизила тон и отвела взгляд, — у тебя такие большие глаза, Хеннер, и в них такой жар… Он согревает меня…
Каковыми на самом деле были отношения между Хеннером Розенбахом и несравненной Яной, я не знаю. Мне известно лишь, что оккупированную им комнату непризнанный гений покидать вовсе не собирался и что спустя девять месяцев все в доме Розенбахов оставалось по-прежнему. Семейные отношения между молодыми супругами не складывались. Яна, к тому же, была на восьмом месяце. Она сильно раздалась и стала похожей на блестящую каплю смолы, которая налилась соком и зависла на ветке, всякую минуту готовая сорваться с нее. Она ждала ребенка, которому, много лет спустя, суждено было стать моей матерью.
Является ли Лео Розенбах, законный супруг ее, моим биологическим дедушкой — остается тайной. С уверенностью можно лишь утверждать, что к празднику поминовения усопших в 1891 году цветная фотография все еще не была изобретена и что отставной фотограф двора Его Величества Людвига Второго Баварского отпустил по этому поводу свою очередную язвительную реплику: «Человечество замерло в ожидании Призматографа, а мой брат торчит в моем доме, почесывает зад и ухлестывает за моей наивной доверчивой супругой».
Гениальный изобретатель возразил на это: цветная фотография давно созрела в его голове, но не хватает лишь малости, чтобы довести идею до конца, — смешной малости. А именно: родниковой, идеально чистой воды из Быстрицы. Проблема, однако, в том, что река покрыта толстенной ледяной коркой и, значит, нужно дождаться оттепели. Услышав это, добросердечная отзывчивая Яна бросает на мужа сердитый взгляд:
— Человечество не может дожидаться оттепели. Я позабочусь о том, чтобы эта вода была немедленно доставлена изобретателю!
Следующее утро выдалось морозным, весь город, словно усыпанный бриллиантовым бисером, сверкал кристаллами инея, как в новогодней сказке. Редкие прохожие торопливо перебегали улицы, кутаясь в меха, а те, кто мог позволить себе не вступать в спор с лютующим морозом, сидели по домам у теплых печей.
Яна отправилась в сторону Мариенкирхе — там, за церковью, жил извозчик Бойчук. Она спросила, может ли он на санях отвезти ее к берегу Быстрицы.
— Мочь-то я могу, проше пани, — ответил тот, — но я не уверен, что мне хочется это делать…
— И что же нужно, пан Бойчук, чтобы вы захотели?
— До реки, проше пани, наберется пятнадцать миль. Еще пятнадцать — обратной дороги. На дворе собачий холод. Это будет кое-что стоить…
— И сколько же, пан Бойчук?
— Я беру двадцать крейцеров за милю, проше пани. С евреев — тридцать.
— Почему вы делаете разницу? — недовольно спросила Яна.
— По причине распятого Господа нашего Христа, проше пани, — невозмутимо ответил извозчик. — Кроме того, — продолжил он, — вы находитесь в некотором положении…
— Вы не пьяны, пан Бойчук? — рассердилась Яна.
— Если вам не нравится, проше пани, вы можете отправляться к реке пешком…
Немного погодя извозчик впряг в сани двух худых лошаденок, уложил на козлы кирку, взмахнул кнутом, и они тронулись в путь. Через пригороды. По направлению к реке.
Надвинув пониже на нос соболиную шапку, чтобы не маячить перед прохожими, Яна пристроилась сзади возницы. Злой колючий ветер с хулиганским свистом носился по промозглым улицам. Хрупкий панцирь обледеневшего снега с противным скрежетом расползался под полозьями. Бойчук гнал свою упряжку сквозь уныло коченеющий березняк, мимо редких угрюмых хуторов. Зимнее солнце, исполненное чахоточной меланхолии, будто его только что целиком окунули в стылую реку, стояло в самом зените.
Яна соскочила с подводы и попросила возницу сделать во льду небольшую прорубь. Бойчук не пошевелился. Он только сбросил кирку в снег и пробурчал недовольно:
— Я подожду вас здесь, проше пани. Вам лучше знать, что нужно делать.
— Но сама я не справлюсь с этим, господин Бойчук!
— Тогда остается вернуться обратно и привезти работников. Я готов: двадцать крейцеров за милю.
Яна прикусила нижнюю губу. Она подняла кирку и вступила на лед. Переполненная яростным гневом женщина принялась с упорством колотить по льду. Возница, между тем, спокойно раскурил трубку и стал согревать ею мерзнущие руки. Яна содрала кожу с белых ладоней. Прорубь, однако, получилась и стала медленно расширяться. Когда солнце уже валилось за горизонт, она достигла наконец воды. Собрав остатки сил, Яна взяла с подводы ушат, потом еще один, но силы уже покидали ее.
— Я умоляю вас, господин Бойчук, помогите же мне! — взмолилась она, не в силах сдвинуться с места.
— Я поеду в соседнюю деревню и привезу работника, — бесстрастно ответил тот, — это будет стоить еще две кроны.
И хотя слезы бессильного гнева хлынули из глаз несчастной женщины, она мужественно зачерпнула воду из реки и с трудом взгромоздила бадью на подводу.
Что случилось дальше, точно не знает никто. Известно одно: Яна очнулась в своей постели лишь на третий день, возле нее повизгивал посиневший от холода ребенок. Доктор Лихтенбаум предсказывал, что кроха не проживет и трех дней. Однако всем законам медицины вопреки девочка выжила и была названа Мальвой. Это имя — не еврейское и не католическое. Никто не знает, почему так нарекли этот крохотный комочек. Возможно, в честь Мальвы Неглекта — пренебреженного просвирника, как называют в народе эту жизнестойкую неприхотливую траву, которая без капризов произрастает хоть на голых стенах, хоть на строительных отвалах, где и корнями-то ухватиться не за что, и уже совсем несправедливо считается никчемным сорняком.
Будь что будет! Дитя пережило критические дни и превратилось в очаровательное создание.
Впрочем, сейчас речь не о ней, а о воде, которую Яна набрала в Быстрице и привезла все-таки в дом, чтобы доказать своему малодушному супругу главное: его брат — гений! И она, Яна, не остановится ни перед чем, все отдаст, что имеет, лишь бы помочь пробиться к людям великой эпохальной идее, рожденной в голове этого гения. Ради этой идеи она была на волосок от гибели — она и Мальва, однако цветная фотография по-прежнему оставалась тайной за семью печатями.
Незадачливый изобретатель сидел у постели выздоравливающей невестки, теперь уже молодой матери, и объяснял ей причины очередной неудачи:
— Я говорил, что мне нужна чистая вода — родниковая. Ты — безрассудное дитя. От источника такой воды до Липы, где ты крошила лед, чтобы набрать ни на что не пригодную воду, две сотни миль! Ниже по течению в реку вливаются потоки разного дерьма, ила и прочей гадости. Это уже вообще не вода. Не могу же я на полном дерьме делать открытие века! Я знаю, как преданно готова ты служить моим интересам, но то, что ты сделала, было сплошным безрассудством, если не сказать — сумасбродством, прости мне на этом обидном слове. Нужно было либо добираться до источника, либо оставаться дома у теплой печки. Столь высокие порывы, конечно, трогательны, но науке пользы от них нет никакой.
При этих словах в комнате появился Лео. Он слышал, как его брат отчитывает Яну, словно последнего недоумка. Желчь ударила ему в голову, и он закричал на самой высокой ноте, что вот уже девять месяцев, как Хеннер паразитирует в его доме, и что если он тотчас не уберется вон, то придется вызвать полицию, чтобы его вышвырнули силой.
Яна побледнела и взорвалась:
— Как только этот дом покинет твой брат, я немедленно последую за ним. Делай что хочешь. Найди себе другую жену, если сможешь. Но я не позволю, чтобы Богом отмеченный изобретатель был изгнан только потому, что ему по-черному завидуют.
— С чего ты взяла, что этот тип является Богом отмеченным изобретателем? Пока он проявил себя как обыкновенный аферист. И не изобрел он пока ровным счетом ничего. Это пустой болтун, неисправимый самохвал — вот все, что представляет собой этот порочный тип.
— Ты сейчас же возьмешь свои слова обратно, Лео, и извинишься перед братом!
— И не подумаю!
— Возьми свои слова обратно, — повторила Яна, — или ты видишь меня в последний раз!
— Ни за что, — уперся Лео. — Хеннер, сейчас же убирайся вон!
При этих словах Яна с трудом поднялась с постели. Сквозь тонкую прозрачную рубашку был виден ее мраморный стан. Она была прекрасней прежнего.
За окном лютовал небывало жестокий декабрь. Босиком, еще качаясь от слабости, Яна стала спускаться с лестницы. Не было сомнений, что в таком виде она сейчас же покинет дом. Она рискует умереть, и Лео отлично понимал: его Яну не остановит ничто. Тогда он с рыданиями бросился к ее ногам. Он был безутешен. Ломал руки, умолял ее остаться. Он берет свои слова обратно. Хеннер, если хочет, может оставаться в их доме. В конце концов, они же братья.
— Только не совершай безрассудных поступков, Яна, я умоляю тебя, умоляю!
* * *
Лео Розенбах играл на деньги и надеялся на удачу, но игроком он не был. Игроки знают свою меру. У Лео ее не было. Игроки все взвешивают и время от времени срывают банк. Лео учитывал лишь малозначительные детали и потому всегда оставался в проигрыше. Не считая единственного раза, когда он впервые рискнул попытать счастья в рулетке. За его спиной стоял брат и шептал ему в ухо — ставить только на первые числа. Лео послушался и выиграл целое состояние. С этого дня он уже никак не мог отказать брату в доме, поскольку сделался вечным его должником. По сути, благодаря Хеннеру сорвал он банк — шутка ли: девяносто восемь тысяч крон! Это был его первый и последний выигрыш, после которого его постигали одни неудачи. В течение первых двенадцати лет семейной жизни Лео вдрызг просадил все, что имел: свой первый случайный куш в девяносто восемь тысяч крон, свое честное имя и все мюнхенские сбережения. В трубу вылетело все, и только Хеннер с его неизменной сущностью паразита продолжал оставаться рядом. Этот человек обладал какой-то непостижимой тайной или, скорее, владел некой особой, сверхчеловеческой системой — без всякого нажима, одним легким пинком открывать любую дверь. Ничего подобного не было за душой у Лео. О таком неслыханном счастье он мог лишь мечтать. Он жаждал постигнуть такой распорядок жизни, такую житейскую систему, которая привела бы его существование в сколько-нибудь размеренное обывательское русло, но ни одна идея на этот счет не приходила ему в голову. В Бога он не верил, синагогу с ее раввином — высмеивал. Однако все же должен быть у человека хоть какой-то смысл существования, какая-нибудь тайная, ему одному известная идея собственной миссии на этой земле! И если этого нет вовсе, лучше бежать и вешаться на первой же перекладине. Может быть, именно в этом и состоит, в конечном итоге, духовный мир человека.
А может, в чем-то другом…
Будни были убийственно безотрадными, и чтобы сохранить осознанную потребность просто дышать, была жизненно необходима хоть какая-нибудь система ценностей.
Отношение Яны к Лео являло собой единственное в своем роде сплошное и бесконечное унижение. Он, как говорится, просто владел ею, как собственностью. Он спал с ней и, наверное (что, впрочем, тоже не наверняка!), сделал ей ребенка. Но любви между ними не было. По отношению к мужу Яна проявляла жестокую прямолинейность. Когда он порой спрашивал ее — значит ли он для нее хоть что-нибудь, она могла без обиняков ответить мужу:
— Нет, Лео, ровным счетом ничего. Пожалуйста, подай мне ножницы с комода. Благодарю.
Можно ли переносить такое, не располагая соответствующей системой? Едва ли. Подобные муки просто должны были компенсироваться хоть какой-то теплотой, пусть даже призрачной, — но откуда было ей взяться? Лео просто вынужден был нащупать ее источник, и тогда все разом встало бы на место. В его доме, выстуженном от безответной страсти, сейчас же поселилось бы счастье, а с ним, возможно, и сама любовь. Будь он хотя бы богат, он мог бы по крайней мере спекулировать на женских пристрастиях к роскоши, одаривая ее драгоценными камнями и безделушками, и тогда, пожалуй, он мог бы для нее что-то значить. Пусть даже и в сугубо материальном смысле. А может, и нет. Его брат был абсолютно нищим. Ни разу не подарил он ей хоть какой-то малости, кроме навязчивого внимания своего. Он был аферистом, жуликом, круглым нулем. Он плутовал даже в собственной семье, вечно стрелял сигаретки у незнакомых людей, но все это не мешало Яне боготворить его, откровенно и совершенно открыто демонстрируя это всем и каждому. Хеннер был ее великой любовью, всепоглощающей страстью, главным смыслом ее существования. И даже Мальва была, по сути, брошена к его ногам.
Незаметно она превратилась в интересную барышню и возомнила, что однажды он сделает ее своей законной избранницей.
Все это причиняло Лео непереносимые страдания. Он был чужаком в собственном доме. Большую часть времени проводил он в своем ателье, куда местная знать захаживала за очередной путевкой в вечность в виде черно-белого фотографического портрета. Женщины льстили ему в расчете на то, что взамен он постарается запечатлеть их в наиболее выгодном свете.
Надо признать, он был непревзойденным мастером портретного искусства, однако его успехи на ниве фотографии не делали его счастливей. Другие женщины совершенно не волновали его чувств. Он постоянно видел перед собой лишь то капризное существо, которое много лет назад, сбегая от него, вскарабкалось на голую сливу, бессердечную Афродиту, о которой он когда-то изрек: «Эта и никто кроме!» — и которая с самого начала открыто заявила, что она его не хочет. Так постепенно сложилось, что он все чаще проводил вечера не в собственном доме, а в заведении Гловацкого, где состоятельные станиславские евреи занимали свои привычные мраморные столики и за чашечкой крепкого кофе с пирожным по-крупному просаживали деньги, не слишком тяготясь потерями. Их разговоры всегда вращались вокруг одно и того же:
— Что-то мне становится здесь неуютно, Левенталь, слишком много риска. Не свалить ли мне в Америку?
— Двести сверху, доктор Лихтенбаум. Что вы подразумеваете под этим «слишком много риска»?
— Что я охотно потанцевал бы, но не на вулкане.
— В Австрии нет вулканов, господа. Мы здесь в полнейшей безопасности. Как в банковском сейфе.
— Но Кишинев находится всего в нескольких шагах отсюда. Стоит лишь переступить через границу. Что творят там с евреями — хоть беги на край света.
— Так вы играете, Вассерман, или нет?
— Спокойным можно быть, наверное, только в Австралии — я так скажу вам, Магиркович. Здесь они перебьют нас, как мух.
— Триста сверху, Левенталь. Нас делают виновными во всех мировых катаклизмах: за потерю Порт-Артура, за кровавые события в Петербурге…
— Вы какой-то черный пессимист, Вассерман. Поймите же, мы все-таки в Австрии, а не в России.
— Пятьсот сверху, доктор Лихтенбаум. И я спорю, что русский царь и кайзер договорятся. А мы, господа, в любом случае будем жертвами.
— Ставлю на кон семьсот, Левенталь, и мы посмотрим, чем вы располагаете. Между прочим, кайзер говорит, что мы — его любимые евреи.
— Вот именно, Вассерман, — между прочим! А что заявляет он следом? Да это же величайшая… О, господа, кто присоединяется к нам? Наш высокочтимый господин придворный фотограф — добро пожаловать!
— Честь имею, господа, вы позволите мне составить вам компанию?
— Теоретически — да. Но практически — никак не возможно, поскольку вы должны нам одиннадцать тысяч крон.
— Но…
— Никаких «но», Розенбах, мы же разъяснили вам вчера, что вам следует вначале погасить долги. Теперь такие времена, что люди либо отдают долги, либо вдруг исчезают.
— О каких временах говорите вы, доктор, разве что-нибудь случилось?
— Он спрашивает, или что-нибудь случилось! Русские проиграли японцам войну. Чернь взбунтовалась против царя, а из нас, как всегда, делают козлов отпущения.
— В Австрии?
— Во всей Европе. Мы должны срочно сваливать, если жизнь дорога нам.
— Я так не думаю, господин доктор.
— Зато так думаю я, господин Розенбах, и потому мы настаиваем, чтобы вы рассчитались с нами.
— Так дайте мне шанс, — ответил Лео умоляющим голосом, — позвольте мне отыграться, и я тотчас рассчитаюсь со всеми.
— Четырнадцать лет подряд мы даем вам шанс, вы слепец. Прежде вы были человеком чести, но вот уже много лет, как вы постоянно проигрываете. И что за человек вы, Розенбах, что вы все время проигрываете?
— Я сам хотел бы это знать, — грустно ответил Лео и спешно покинул помещение.
«И то правда, — думал он, — что за человек я такой, что кругом только проигрываю? Моя жена изменяет мне. Моя дочь знать меня не хочет. Мое ателье — на грани ареста. Приличные люди показывают на меня пальцем. В рулетке я полное ничтожество. Я погряз в долгах. На каком дереве следует мне повеситься?»
«Ни на каком, Лео. Еще несколько дней, и у нас будут деньги. Большие деньги! Очень большие, Лео! Всего несколько дней, и цветная фотография станет реальностью, клянусь честью наших предков!»
«Не клянись, Хеннер. Вот уже четырнадцать лет мы слышим эти клятвы, четырнадцать лет кряду обещаешь ты нам большущие деньги. И что имеем мы в итоге? Фарш из рубленого цорес и мешок с блохами».
«Я говорю истину, Лео. Мне нужен всего лишь один благородный камень. Не кварц, не каменная соль, не стекляшка какая-нибудь, а настоящий благородный камень с двадцатью четырьмя гранями, которые разложат природный свет на составляющие спектра: красный, зеленый, синий и прочие оттенки большой шкалы. Дайте мне чистой воды алмаз, и мы станем сказочно богаты».
«Кругом убивают евреев, Хеннер. В Кишиневе, в Лодзи и Бердичеве. Они жгут нас живьем. Наш народ вырезают, вытравливают, а тебе подавай чистой воды алмаз. О, Хеннер, мой мишугенер брат! Осознаешь ли ты, что творится в этом мире?»
2
Говорят, революции происходят преимущественно при скверной погоде. Когда кругом холодно и мерзко. Когда недовольство, замешанное на унынии, переполняет души и буквально струится с обледеневших крыш.
Петербургское Кровавое воскресенье, к примеру, случилось в начале января, в самую холодную зиму столетия, в 1905 году. Холода стояли такие, что у некоторых язык примерзал к небу. Под предводительством фальшивого попа Гапона многочисленная депутация — около тридцати тысяч бедняков — отправилась к царскому дворцу, чтобы передать челобитную Государю всея Руси. Царь приказал картечью стрелять в толпу, потому что он не желал ничего слышать о депутациях и прошениях. Более тысячи демонстрантов полегли в том мирном шествии к батюшке-царю. Эта кровавая расправа с безоружными людьми породила цепную реакцию таких исторических потрясений, которые не перестают будоражить планету по сей день. Народный гнев взвился до небес. Ртутные столбики в термометрах опустились до тридцати девяти градусов ниже нуля, и революции расползлись по планете, как бубонная чума. Буквально через несколько дней после петербургской бойни запылала Варшава, следом — Лодзь и, наконец, вся Польша, бывшая тогда задворками Российской империи.
Среди варшавских мятежников находились сыновья некоего Янкеля Камински, предпринимателя, хорошо известного в столице. Он давно решил для себя держаться подальше от суматохи смутного времени, предпочитая увлекаться вином и женщинами. То обстоятельство, что он был женат и имел шестнадцать детей, ничуть не мешало ему предаваться своим увлечениям. Его торговля процветала, как никогда прежде, и если бы однажды, как это случилось третьего февраля, не исчезли занавески с окна в столовой в его доме, он, пожалуй, и не заметил бы, что Варшава буквально стоит на голове. В тот день, незадолго до семейного завтрака истеричка Фела, которая прислуживала на кухне, устроила очередное представление. Она носилась по дому с адскими воплями и причитала:
— Матка Боска, пресвятая Дева Мария! Весь свет рехнулся! Ну и денек начинается…
На верхнем этаже распахнулась дверь, и в полутьме показался Янкель Камински. На голове его был шерстяной колпак.
— Что опять стряслось, do jasnej cholery[1], — проворчал он, протирая заспанные глаза, — какого черта ты тут разоралась?
— Весь мир рассыпается вдребезги, пан Камински!
Патриарх взглянул на часы и сердито посмотрел на причитающую кухарку:
— Еще только половина восьмого, Фела, а ты уже успела хлебнуть. Скажешь ты наконец, что стряслось?
— У нас пропали габардины, дорогой пан…
— Что еще за габардины, черт побери, я не понимаю ни слова. К тому же, от тебя несет этим дешевым пойлом…
— Красные габардины исчезли. С окна. Которые с желтыми французами…[2]
— Красные гардины, хочешь ты сказать, с желтой бахромой. Как это могли они вдруг исчезнуть?
— Потому что весь мир разваливается, пан Камински! Русские идут…
— Что значит — идут? Сто лет они уже здесь.
— Но теперь мы их разобьем — так все говорят…
* * *
Стояло ядреное морозное утро. Дороги сплошь покрылись льдом, туман медленно протискивался между жмущимися друг к другу домами.
Группа конных казаков скакала из крепости в сторону Вишневой улицы, а там — через Мостовую к Кафедральному собору.
Янкель Камински стоял у своего лишенного занавески окна, разглядывал улицу и качал головой. Чего не хватает этим людям? Откуда такое возбуждение? Все, как всегда, кругом царит прежний порядок. Или, может, не совсем? Может, я состарился, рассуждал он, и уже не понимаю происходящего? Вдалеке послышались выстрелы. Кто, в кого и почему стреляет — Янкель не мог взять в толк.
В старом городе настроили баррикад из камней, ржавых остовов железных кроватей, из мятых детских колясок. На Пивной улице одиннадцать парней укрепили на защитном валу самодельное красное знамя. Старшему было двадцать пять, младшему — четырнадцать. Звали его Херш или — Хершеле, как звали его братья. Пули со свистом рассекали морозный воздух, во всю мощь били прожекторы. С крыш сыпались осколки черепицы, но Хершеле только посмеивался про себя:
— Надо же — наша занавеска — на баррикадах пролетарской революции! Ликуйте, господа! Наш папашка лишится рассудка, когда узнает об этом!
Улицы опустели. Послышался приближающийся топот конских копыт, и на Дворцовой площади показались казаки. Не доехав шагов пятнадцать до ликующих одиннадцати парней, они остановились. Над мостовой прогремел выстрел. Прямым попаданием он пробил занавеску, и Хершеле сейчас же во весь голос затянул «Красный штандарт» — песню о красном знамени. Он запел с полной отдачей еще не окрепшим, срывающимся на фальцет голосом, и братья, что было сил, дружно подхватили песню, будто хотели криком своим заглушить страх, который сжимал им горло.
По понятным причинам все одиннадцать молодцев в этот же день предстали перед следователем. Босые, с наголо остриженными черепами. В зале для арестованных варшавской цитадели. Они были скованы общей цепью. Русский полицейский в звании капитана задавал каждому одни и те же вопросы, недовольно выдергивая седые волосы из бороды и недоверчиво разглядывая свое отражение в складном зеркале. В противоположном углу помещения ожидали своей очереди так же закованные в кандалы несколько дюжин фабричных работников и группа гимназистов подросткового возраста. Следователь не считал необходимым беседовать напрямую с каждым арестованным лично. Он задавал вопросы своему адъютанту, а тот отвечал, уставившись мутным взглядом на царский портрет, который красовался на стене.
— Как зовут этих молодых аристократов? — съязвил следователь.
— Осмелюсь доложить, господин капитан. Эти господа имеют одну и ту же фамилию.
Офицер отставил наконец зеркало и стал внимательно разглядывать свои ногти.
— Одинаково звать, одинаково срать, — съерничал он и улыбнулся собственной похабной шутке, — но в Сибири им мозги подправят. За это я ручаюсь лично.
— Так точно, господин капитан. В Сибири мозги им подправят, и прибудут они туда под такими именами: Камински Бэр, 1881 года рождения, Камински Шломе, 1882 года, Камински Ицхак, 1883 года, Камински Мордехай, 1884 года, Камински Мойша, 1885 года, Камински Адам, рожден в 1886 году, Камински Лазик, 1887 года рождения, Камински Бенцион, 1888 года, Камински Менахем, 1889 года, Камински Аарон, 1890 года, Камински Херш, 1891 года рождения.
Следователь бегло взглянул на стоящих перед ним одиннадцать молодцеватых еврейских парней. Они выглядели крепкими молодыми бычками. Он выдернул из своей бороды очередной волос и проворчал сердитым голосом:
— Нам нужны работные люди для наших свинцовых рудников. Много людей, и особенно таких, с мутными мозгами.
Он поднялся со своего стула, подошел к старшему из парней и, глядя ему в глаза, спросил адъютанта:
— Кто отец этого еврейского свинарника, чем он промышляет?
— Кто бы он ни был, — ответил адъютант, — он такая же еврейская свинья.
— Само собой, но все-таки, чем он занимается?
— Торговлей, господин капитан.
— Таким ремеслом занимаются все эти черви. У него есть деньги?
— Как песка на берегу реки, господин капитан.
— А сыночки его — чем пробиваются они?
— Это я сейчас выясню, господин капитан, — ответил адъютант и подошел к старшему из братьев. — Чем занимаетесь вы все — отвечать!
— В настоящее время мы занимаемся революцией, — ответил Бэр и спокойно продолжал: — А в свободное время мы студенты. И мы не желаем, чтобы нас называли еврейскими свиньями. Мы — поляки.
— Ах, так вы поляки! — Офицер выхватил свой хлыст и со свистом махнул им над головой Бэра, осмелившегося на столь неслыханную дерзость. — Нет больше никаких поляков, ты, еврейская свинья, мы стерли вас со всех карт! Все вы теперь русские, па-ни-ма-ешь — русские, хотя вы недостойны жить в России.
— Нет, господин капитан, — возразил Шломе, второй по старшинству.
— Что значит нет! — Офицер стал задыхаться от гнева.
— Мы действительно не заслуживаем жить в России. Мы — варшавяне, а Варшава находится в Польше.
На эти слова весь зал отозвался дружным ропотом. Капитан понимал, что он должен что-то немедленно предпринять. Он угрожающе занес свой хлыст и прорычал:
— Варшава находится в Польше, сказал ты? А я и не подозревал! Зато я отлично знаю, где находится Сибирь. Так вот, Сибирь как раз находится в России, па-ни-ма-ешь — в России! И спускай сейчас же штаны или я оторву тебе яйца!
— Не могу я этого выполнить, господин капитан, мои руки скованы.
— В Сибири вам вдолбят, где находится Варшава — в России или нет. — Он хлестнул Шлому по спине. — Теперь ты понял, где лежит Варшава?
— Нет, господин капитан, Варшава не лежит. Она стоит, — завил четырнадцатилетний Хершеле, младший из братьев. Не выдержав, что его брата так унижают, он оскалился на капитана.
Офицер не верил своим ушам. Впервые в жизни засомневался он в эффективности своих методов. От гнева у него перехватило дыхание.
— А тебе чего не хватает, ты, обрезанная свинья? И у тебя нет почтения?
— Нет, господин капитан.
— А слово «да» ты не можешь произнести?
— Нет, господин капитан.
— Тогда скажи, что вообще ты можешь.
— Я могу петь, господин капитан.
Руки Хершеле были скованы цепями, и он не смог защитить себя от удара хлыстом по спине. Но голос его, когда он запел о развевающемся красном знамени, звучал кристальной чистотой.
Тут капитан окончательно лишился терпения. Ослепленный злобой, он вплотную подошел к братьям и прохрипел:
— В Верхоянске вы будете петь, покуда глотки ваши не полопаются от мороза, пока яйца ваши не станут дребезжать между ногами, пока вы не подохнете все! И чем раньше это произойдет, тем лучше — поняли?
Молчание.
— Я спрашиваю, вы меня поняли, ублюдки?
В допросной повисла мертвая тишина.
— Отвечать, или я выпущу вам кишки!
В этот момент из другого угла зазвучало множеством глоток сразу:
Над миром знамя наше реет, Оно горит и ярко рдеет — То кровь рабочая на нем.Капитан решил было разделить их: поляков — в одну сторону, евреев — в другую, но получилось совсем обратное: все дружно подхватили одну и ту же песню.
* * *
Вишни стояли окоченевшими, промозглый туман повис над мостовой. Февральским морозным утром Янкель Камински поднимался по гранитной лестнице к воротам крепости, охраняемым дюжиной до зубов вооруженных казаков. Возле ворот размещался деревянный барак для посетителей. Приемная стойка находилась на боковой стороне фасада. Янкель представился. Он предъявил паспорт и объяснил, что гарнизонный генерал Калугин ожидает его. Это произвело впечатление, ворота распахнулись, и к Янкелю вышел майор казацкого войска. Щелкнув каблуками, офицер велел посетителю следовать за ним. Они шли через учебный плац к внутреннему бастиону. Янкеля вели по бесконечным переходам, по крутым лестницам, мимо сотен дверей. Майор то и дело останавливался для кратких пояснений:
— Здесь сидят анархисты. Большинство из них — пожизненно…
Янкель оставался безучастным, будто к нему все это не имело никакого отношения. Железная решетка впереди уползла вверх, дальнейший путь пролегал через стальной мост.
— Здесь начинается северное крыло, — пояснил майор, — оно предназначено для красных и «сибиряков». Этим предстоит долгая дорога в Сибирь. За полярный круг, откуда мало кто возвращается…
Намек Янкель понял. Он продолжал оставаться непроницаемым и проследовал за офицером к решетке, выходящей на мрачный внутренний двор. Сквозь прутья просматривалась виселица, сколоченная из грубых сосновых бревен.
— А это конечная станция. — Майор будто даже несколько оживился. — Этот департамент у нас бывает в деле всего один раз в сутки. В шесть часов утра, как только пропоет петух. И расположен он как раз напротив окон господина гарнизонного генерала.
— Вот как? — отозвался наконец Янкель таким тоном, словно лишь эта пикантная подробность представляла для него мало-мальский интерес.
— Так точно, прямо против окон кабинета гарнизонного генерала Калугина. Он очаровательный собеседник, наш генерал. С ним всегда можно договориться. Насколько я знаю, лишь каждый десятый заканчивает веревкой. Сколько, бишь, у вас сыновей?
Янкель не ответил. Майор повел его дальше освещенным коридором и с удовлетворением отметил, что сумел-таки нагнать на посетителя страху. Патриарх не мог скрыть дрожи.
Они подошли к двери всемогущего генерала. Офицер повторил свой вопрос:
— Так сколько у вас сыновей?
— Одиннадцать, господин майор, — ответил Янкель, стягивая с головы шапку.
Гарнизонный начальник лизнул указательный палец и перевернул документ. Взгляд его, однако, был устремлен не в картотеку, а на только что вошедших в кабинет. И тут он заметил паука, который спускался по своей паутинке. «Паучок на завтра», — с усмешкой подумал вельможа и побледнел. Потом он спросил негромко, едва ли не шепотом, чтобы не искушать судьбу:
— Как фамилия этого еврея?
— Камински, по имени — Янкель.
— Место жительства?
— Улица Мостовая, три, в Варшаве.
— Тут значится, что у него одиннадцать сыновей.
— И пять дочерей, с вашего позволения.
— Его сыновья гостят у нас, как я слышал, — сказал генерал, повернув голову в сторону майора, — это действительно так, или я ошибаюсь?
— Так точно, господин генерал, все одиннадцать на полном пансионе.
По губам Калугина скользнула ехидная улыбка:
— У нас недовольных нет. И что думает этот еврей?
— Я думаю, — ответил Янкель осторожно, — что ваше гостеприимство — большая честь для нас, господин генерал. Тем не менее, я не хотел бы злоупотреблять им и был бы рад забрать отсюда моих парней.
— О, это я могу понять. Господин майор, вы можете идти.
— Слушаюсь, господин генерал! — ответил майор и, по-строевому развернувшись, покинул кабинет.
Калугин достал из ящика стола пистолет, положил его сверху и знаком показал Янкелю, чтобы тот подошел поближе.
— Мое гостеприимство, говорите вы, большая честь для вас. Прекрасно, но гостиничный счет еще не оплачен.
Янкель хорошо понимал, куда гнет этот солдафон, возомнивший себя богом. Он достал из нагрудного кармана чековую книжку и спросил по-деловому:
— Чем обязаны мы, господин комендант?
— Морозы в Центральной Сибири переваливают нынче за пятьдесят градусов.
Янкель почувствовал недоброе и не к месту улыбнулся:
— Край неисчерпаемых возможностей. Будущее России лежит в Сибири.
Генерал понял намек, и он ему не понравился:
— Для тех, кто доживет, — сухо ответил он, — от одной только цинги загибаются две трети.
Янкель предложил генералу сигарету и поднес ему спичку.
— Сколько, господин комендант?
— Десять тысяч за каждого, господин Камински, итого — сто десять тысяч рублей за всю партию товара.
— Я не ослышался, господин генерал? — переспросил Янкель севшим от неожиданности голосом.
— И ни копейки меньше, пан Камински. — Всесильный губернатор опять ткнул указательным пальцем в лежащий на столе документ, перевернул страницу и произнес подчеркнуто членораздельно, прикрыв глаза: — Ваши парни еще не осуждены. То, что здесь написано, тянет на пожизненный срок. Если, конечно, им всем повезет…
— А если не повезет — что тогда, господин комендант?
— Я хотел бы надеяться, — сказал генерал Калугин, будто обращаясь к кому-то третьему, незримо присутствующему в кабинете, — что этот еврей понимает меня.
— Итак, вы сказали — пятьдесят тысяч? — Янкель сделал вид, что он не торгуется, а просто уточняет названную сумму.
— Сейчас бушуют революции, и потому суды карают строже, — ответил генерал, будто не расслышав названной Янкелем суммы.
— Шестьдесят тысяч — это же громадные деньги! — продолжал Янкель навязанную коменданту игру.
— Нам приходится устрашать, иначе смута зайдет слишком далеко. — Генерал тоже вошел в роль.
— Но ради бога, где же я возьму семьдесят тысяч? — Накинул Янкель еще десятку и будто переключил шахматные часы.
— Когда государственный обвинитель потребует смертного приговора, я уже ничем не смогу помочь. — Ответный ход генерала был неотразимым.
— А если он не потребует этого? — Янкель все еще пытался избежать мата.
— Сто тысяч рублей, господин Камински, и вы можете забирать ваших бунтарей.
Десятку Янкель все-таки отыграл. Это хоть как-то облегчало его предпринимательскую душу, не привыкшую платить столько, сколько требуют за товар.
— Всех одиннадцать?
Генерал презрительно махнул рукой в сторону двери:
— Я же сказал — всю партию!
Медленно и с нескрываемой злостью подписал Янкель Камински чек на сто тысяч рублей. Передавая чек генералу, он не удержался, чтобы не съязвить:
— Одиннадцать дочерей надо было родить!
* * *
Три пары дрожек остановились перед крепостью. Три кучера восседали на облучках. Коченея в косматых тулупах, с ледяными сосульками в бородах, потягивая трубки. Они даже не сменили поз, когда двенадцать мужчин гусиным строем спустились с лестницы. Впереди шествовал Янкель Камински. За ним — сыновья. Последним шел Хершеле, самый молодой, который с таким восторгом воспринимал мир, будто сам он только что прибыл из Парижа.
Туман рассеялся. Сливы сверкали на морозе, березовые ветки на берегу реки были усыпаны золотистой пудрой, было такое ощущение, что над всем этим неторопливо плывет светлое облако надежды.
И только старик был зол. Более того, он буквально кипел от ярости. Не проронив ни слова, он рассадил сыновей в экипажи и велел кучерам трогаться. Эскорт отправился в путь. Никто не осмелился заговорить. Страшная гроза висела в воздухе.
Дрожки тряслись вдоль реки по кочкам и выбоинам, покуда достигли Дворцового моста. Там начинался подъем в направлении старого города. Наконец, они у цели. Мостовая, три. Однако одиннадцать парней хорошо понимали, что настоящая катастрофа еще только предстоит.
Янкель первым спрыгнул со своей скамьи и рассчитался с возницами. Затем он отпер дверь дома, поднялся по лестнице и на ходу бросил жене:
— Ноэми, пройди в столовую. Сейчас начнется.
Сцена, на которой разыгрался следующий акт семейной драмы, имела десять метров в длину и шесть в ширину. Весь реквизит спектакля состоял из длинного дубового стола и восемнадцати стульев при нем. У оголенного окна стояла мать и плакала. У стола — каждый у своего привычного стула — выстроились все одиннадцать героев дальнейшего действия. Перед зеркалом — словно двуглавый Цербер в ожидании сигнала к продолжению — стоял глава и хозяин дома.
Угрожающе вытянув из петель своих брюк кожаный ремень, он начал вступительный монолог, предназначенный не столько для сыновей, сколько для жены:
— Этот сброд, Ноэми, и есть мои дети? Нет, это твои дети. Ко мне они не имеют никакого отношения…
— Это и твои дети, Янкель, и все они такие же мишугене, как их отец. Такие же неуемные и безрассудные.
— Будь они моими детьми, они не стали бы делать меня банкротом.
— Этот мир не нравится им, Янкеле, они хотят улучшить его. Разве это преступление?
— Это хуже преступления, Ноэми. Одна плохая сделка, и Янкель Камински вынужден долго потеть. Последние занавески срывают они с моих окон. Сто тысяч рублей вынужден я заплатить этому ворюге в генеральском мундире — пусть его хватит удар, — чтобы он не порубил их на гильотине. Бэр, снимай штаны и ложись на стол.
— Мне двадцать четыре года, отец!
— А мне шестьдесят, поц ты несчастный, и я знаю, что делаю. Штаны долой и на стол задницей кверху!
Бэр подчинился судьбе и сделал, что от него требовали. Все одиннадцать провинившихся отлично знали, что с гарнизонным генералом еще как-то можно торговаться, с Патриархом — никак.
Янкель отпустил Бэру десять ударов. Каждому следующему досталось столько же. Вкладывая в каждый удар всю накопившуюся в душе ярость, экзекутор сопровождал его очередным посылом:
— Сто тысяч рублей за сраные идеалы. Это тебе за социализм. Это — за Карла Маркса. А это — за рабочий класс. Получай за женскую эмансипацию. Вот тебе за освобождение негров. Шломе, вынь руки из карманов! За все это я должен платить с таким трудом заработанные деньги. Старый еврей надрывается. Лежать прямо, Мойше! Всю жизнь вкалываю от восхода до заката, чтобы мои дети вышли в люди. Чтобы они стали образованней своего отца — и что? Вместо школы они идут на улицу — я сказал: задницей кверху, Менахем! — буянить и беспокоить приличных людей…
Янкель на мгновенье перевел дух, подошел к жене и прохрипел:
— Что за уродов произвела ты на свет, Ноэми? Одиннадцать бандитов, которые шалят и развлекаются за счет своих родителей. Они должны поплатиться за свою тупость. Отныне в Варшаве нет для них никаких революций. Я не могу себе этого позволить…
Он стер со лба пот и продолжил экзекуцию.
* * *
Мировая история начисто лишена фантазии. Она упрямо повторяется. Некоторые вариации, разумеется, бывают, но в основном — то же самое.
В октябре 1905 года повторилось то же, что происходило в январе, с теми же деталями.
Неугомонная Фела, как всегда по утрам, суетилась с предстоящим завтраком — гремела посудой, укрощала паровую кофеварку и непрестанно ворчала. Войдя в столовую, она вдруг вся позеленела, как молодой огурец, и всплеснула руками. Поднос с посудой полетел на пол. Раздался звон черепков и следом — душераздирающий вопль. Ноэми поспешила на крик, за нею бежал Янкель и все пять дочерей. Фела изображала истерический припадок:
— Пресвятая матерь Ченстохова! Сохрани нас, грешных… Небеса рушатся…
Ноэми принесла веник и сунула его кухарке в руки.
— Не небеса обрушились, Фела, а мой сервиз. Что опять случилось?
— В январе мы обживили нашу скатерть…
— Обновили, — поправил Янкель, — приобрели новую. Говори по-польски, и ты не будешь делать столько ошибок.
— …новую скатерть купили, jak Boga kocham[3], когда река замерзшей была, в торговом доме Вокульского, я точно помню — на улице Торговая, возле Праги… Я помню, мы шли пешком и еще по льду катались…
— Она опять хватанула из бутылочки, эта бездельница. Что стряслось? Говори толком…
Янкель заподозрил недоброе.
— Случилось, — продолжала мямлить кухарка, — что теперь осень и листья слетают с деревьев. Я смотрю на стол, jak Boga kocham, и что видит мой синий глаз?
— Говори толком, Фела, или я вышвырну тебя из окна. И что же видит твой синий глаз?
— Новая скатерть… Из красного шелка… От Вокульского на Торговой улице… Пропала она! Испарилась. Исчезла…
— А где мои сыновья?
— Испарились… Исчезли, пан Камински, пропали. Их комнаты пусты, и все двери открыты.
* * *
На Дворцовой площади опять стреляли. Казаки загнали толпы людей в тесноту Пивной улицы. Кровь текла по мостовой. С крыш на головы русских летела черепица и всякая рухлядь: ночные горшки, медные котлы, колеса тележек. Над Домом Мещанского собрания развевалось красное полотнище: боевая дружина Камински снова была в деле в полном составе. На этот раз осенний ветер бодро трепал скатерть из фамильной столовой. Парнишке, закрепившему самодельный флаг на самой верхней точке здания, не было еще пятнадцати лет. Его волосы не успели отрасти после предыдущей тюремной стрижки, на голове лихо пристроилась рабочая кепка. Юношеским, еще не окрепшим голосом, призывно и звонко выкрикивал он вдохновляющий лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В то октябрьское утро пролетарии всех стран так и не соединились. Вдохновение февральского выступления довольно поистрепалось. Ряды бунтарей сильно поредели, и в самих бунтарях решительность заметно уступила робости. Страх сковал город.
Херш и десять его братьев вновь были арестованы и доставлены в ту же цитадель. Их поместили в тринадцатую камеру — как раз против «конечной станции» за мрачной решеткой. Из оконного проема хорошо просматривалась виселица. Было это случайностью или заранее задуманным ходом — можно лишь догадываться. Скорее всего, это была уловка, которая должна была смертельно напугать Янкеля и сразу отбить у него охоту впредь торговаться с комендантом. Чтобы он безропотно и с сознанием того, что еще дешево отделался, выложил следующие сто тысяч.
Калугин для верности навел справки. Фирма Янкеля процветала, в черные дни японской войны — более чем когда-либо. В 1905 году, когда в стране грянула первая революция, Янкель утроил свое состояние за счет поставок материалов для шитья мундиров. Чем стремительней овладевали японские войска русскими бастионами, чем настойчивей требовал народ свои права, тем необходимее становились люди в мундирах, тем, соответственно, лучше шли у Янкеля его дела. Будь он хоть малость дальновиднее, умей он видеть чуть дальше собственного носа, он не только не противился бы деятельности своих сыновей, а, напротив, всячески поддерживал бы этих отчаянных бунтарей, которые, сами того не желая, рисковали жизнями во благо его бизнеса. Впрочем, было бы наивным требовать этого от шестидесятилетнего Патриарха. Этот предприниматель с большой буквы в бытовых мелочах был человечком мелким и коварным. Он сильно поднаторел в деле поставки тканей, которые назвать таковыми можно было с большой натяжкой. Состояние свое он сколотил из лоскутов, лохмотьев, из копеечной мешковины, из бросового тряпья, пригодного разве что для технической ветоши. Особенно охотно за гроши скупал он мундиры павших солдат, измельчал их, превращая в суконную пульпу, из которой вырабатывал полугнилую ткань, едва пригодную разве что для шитья солдатских мундиров.
Впрочем, самую большую прибыль извлекал он из своего пристрастия к дамочкам, охотно потакая их стремлению к эмансипации. Нанимая работников, он принципиально отдавал предпочтение женской рабочей силе, утверждая на всех перекрестках, что женщины работают лучше мужчин, прилежней и, главное, за меньшую плату. К тому же, пока они молоды, они всегда готовы дополнительно подзаработать оказанием специфических услуг, а это тоже не последнее дело.
В тот октябрьский день, в послеобеденное время, Патриарх сидел в своей конторе и наблюдал сквозь внутреннее окно за работой нескольких сотен молодых ткачих. Перед зачарованным взглядом его мелькали маховики и приводные ремни, будто в каком-то диком помешательстве суетились сновальные валки, челноки, и все это сопровождалось монотонным рокотом, заполнявшим каждый уголок цеха.
Янкель не заметил — или не хотел заметить, — как в зале появились двое мужчин, чем-то серьезно озабоченные. Одного из них звали Хаим Левин, доверенное лицо и правая рука Янкеля. Другой, в погонах высокого полицейского начальника, некто Соколов, остановился в дверях в ожидании особого, долженствующего его положению приема.
Левин кашлянул несколько раз, привлекая к себе внимание хозяина, однако уловка его не возымела никакого действия. Тогда он произнес умоляющим голосом:
— Мы имеем удовольствие, то есть, я хотел сказать — редкую честь приветствовать у нас жандармского офицера господина Тимофея Соколова…
Однако голос его сник, поскольку Янкель завороженным взглядом всматривался в зал, откуда доносился сплошной рокот машин. Не пошевелился он и тогда, когда Левин проворчал ему в самое ухо:
— Сами их превосходительство гарнизонный генерал Калугин прислали к вам этого высокого офицера лично. Вы меня слышите, пан Камински? Очень важная персона из Варшавы командировала его к вам…
Патриарх спокойно взял со стола бутылку, налил себе стакан вина и разом опрокинул его в себя, даже не подумав угостить русского офицера. В Польше такая выходка была бы расценена как бесцеремонность, в России — как провокация. Потеряв терпение, полицейский чин взял Янкеля за воротник и прошипел злобно:
— Я полагаю, что именно вы и есть тот самый еврей Янкель Камински — да или нет?
— Оставьте меня в покое!
— Я, кажется, спросил, вы ли тот самый еврей Камински? — Офицер повысил голос. — Я здесь по поручению гарнизонного генерала Калугина, и мне не до шуток!
— Мне тоже не до шуток, — сухо ответил Янкель, не прерывая своего занятия, — оставьте меня в покое, или вы больше не жандармский офицер.
Это была какая-то таинственная угроза, за которой могло стоять что угодно. Что именно — Соколов не знал. На всякий случай он одернул руку. Он отчетливо видел при этом, что Патриарх все еще неподвижно пялится в окно. Тогда жандарм изменил тактику и заговорил несколько более миролюбивым тоном:
— Мне очень жаль, но я вынужден вам сообщить, что ваши сыновья Бэр, Шломе, Ицхак, Мордехай, Мойше, Лазик, Аарон, Адам, Менахем, Бенцион и Херш сидят под замком. В варшавской цитадели.
Янкель снова налил себе из бутылки, не предлагая гостям ровным счетом ничего.
Левин находил, что Янкель никогда прежде не был столь невыносим, как сегодня. Он попытался как-то снять напряжение.
— Не желаете ли присесть, господин оберлейтенант? — спросил он услужливо.
Соколов остался стоять, продолжая сухим тоном нагонять страху на Янкеля:
— Ваши сыновья совершили тяжкие преступления. Во-первых, антигосударственная деятельность, во-вторых, оказание вооруженного сопротивление русской армии, в-третьих, подрывная деятельность в виде пропаганды в средних и высших учебных заведениях, а также, в-четвертых, упорное неповиновение третьей степени…
Левин был вне себя и хотел лишь как-то разрядить до предела напряженную обстановку. Он раскрыл портсигар и услужливо протянул его офицеру, но тот не обратил на этот жест никакого внимания и продолжал еще более угрожающим голосом:
— Перечисленные в этом документе лица — Бэр, Шломе, Ицхак, Мордехай, Мойше, Лазик, Адам, Бенцион, Менахем, Аарон и Херш — будут приговорены к восемнадцати годам каторжных работ на свинцовых рудниках Крайнего Севера…
Янкель опрокинул третий стакан, поднялся и стал ходить по конторе взад и вперед с плотно сжатыми губами. Офицер между тем продолжал свою атаку в том же духе:
— Вам как отцу этих одиннадцати правонарушителей надлежит обратиться с жалобой к его превосходительству гарнизонному генералу Калугину.
Янкель остановился и произнес едва слышно:
— Передайте генералу Калугину, что Янкель Камински шлет ему большой привет и не понимает, о чем, собственно, генерал говорит.
— Имейте в виду, вы, дурак, что мы отправляем в Сибирь людей и постарше вас!
— Возьмите вашего дурака обратно. И если кто-то из нас двоих отправится в Сибирь, то это, конечно, буду не я. И передайте вашему коменданту, что он сам не знает, о чем говорит, потому что у меня вообще нет сыновей.
— В последний раз предупреждаю вас, пан Камински. Согласно регистру гражданского состояния у вас одиннадцать сыновей.
— А согласно Янкелю Камински, у меня нет ни одного! Прощайте, господин офицер.
С этими словами Патриарх отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Полицейский лишился дара речи. Ничего подобного он еще не встречал. Ошарашенный, он направился к выходу. Хаим Левин, который тоже ничего не понял, механически поплелся за ним.
3
Есть у моей семьи одна великая тайна. Белое пятно в семейной хронике. Странный, загадочный факт, о котором все умалчивают. Речь идет о событии, произошедшем совершенно непостижимым образом.
Одиннадцать воинствующих поборников идеи усовершенствования общественного устройства, которые в декабре 1905 года были погружены в телятник на Варшавском восточном вокзале, к месту назначения так и не прибыли. Скованные одной цепью, они проколесили всю огромную Россию с запада на восток. Где-то весной 1906 года они должны были, по логике вещей, быть доставлены на свинцовые рудники Верхоянска и там переданы кому положено из рук в руки.
Ничего этого, однако, не случилось, в противном случае у меня не было бы отца, у отца моего, соответственно, не было бы сына, и вся эта история так и осталась бы ненаписанной.
Тюремный телятник с одиннадцатью братьями, если верить слухам, просто-напросто исчез. Бесследно. Как иголка в стоге сена.
В девятистах километрах восточнее Новосибирска находится железнодорожный узел Ачинск. Здесь часть состава была отцеплена и переформирована на другое направление — в сторону Абалакова. Отцепление вагонов было произведено по всем установленным правилам, равно как и их переформирование, однако в итоге одного вагона все-таки не досчитались. Вместо этого в Иркутск в одном-единственном вагоне прибыла новая бригада железнодорожников. Все они, без исключения, были значительно моложе доныне работавших здесь коллег, и, что особенно удивительно, большинство из них носило очки, что в данной профессии и вовсе встречается нечасто. За время путешествия, длиною почти в десять тысяч километров по бескрайним просторам степей, тундры и под конец, через необъятную пустошь тайги, произошло нечто такое, о чем ни от одного члена моей семьи по отцовской линии узнать что-либо вразумительное было невозможно. Никто никогда не узнает, что же произошло на самом деле. Было тому содействие со стороны товарищей по борьбе или не было его вовсе, сила или деньги были пущены в ход — все это навсегда останется тайной за семью печатями. Одно бесспорно: само по себе произойти это не могло. Как бы то ни было, девять железнодорожников Транссибирской железной дороги и два сопровождавших их солдата исчезли, сбросив с себя униформу, чтобы бесследно и насовсем улетучиться, испариться в морозном воздухе бескрайней Сибири. А вместо них одиннадцать большевиков, облаченных в одежды русских служивых людей, ехали в направлении Владивостока, и никто не выказал по этому поводу ни малейшего удивления.
Все это очень похоже на сюжет криминального романа, скажет кто-то. И это на самом деле так. С той лишь разницей, что сюжет этого романа был в свое время разыгран на подмостках самой большой сцены — на сцене жизни. Доказательством тому является факт, что все одиннадцать братьев Камински целыми и невредимыми вступили на берег Японского моря, где начиналась новая глава этого увлекательного романа.
4
12 июля 1906 года Мальва Розенбах сидела в своей комнате и рассматривала себя в зеркале. Окно было распахнуто настежь. Легкий ветерок доносил из сада сладкие ароматы, которые кружили голову прелестной пятнадцатилетней барышни. День был совсем обычным, однако девушку не покидало какое-то необъяснимое, безотчетное волнение, неясное чувство, что где-то там, далеко, решается сейчас ее судьба, и что прямо сейчас к ней, к Мальве, решительно приближается неведомый корабль.
Она раскрыла свой обтянутый бархатом дневник и попыталась поведать ему нахлынувшие на нее чувства:
«Я знаю, что Он существует, и я спрашиваю себя — где бы он мог сейчас находиться? Не в Станиславе — это я знаю точно. Здесь ему нечего искать, а если именно здесь ему есть что искать, не может он быть райской птицей моих ночей. Он — Геркулес, полубог из белого алебастра. Он несется на волнах мировой истории, но я не имею ни малейшего представления, как он выглядит. Может быть, он похож на дядю Хеннера. С глазами цвета фиалки, которые постоянно искрятся и сверкают, подобно влажным ракушкам на дне морском, переливаются в водовороте вечной суеты. Я хочу, чтобы он был похож на этого одержимого изобретателя.
Ах, почему это не дядя Хеннер? Просто выть хочется от отчаяния! Он втрое старше меня. И втрое красивее. И он совсем меня не замечает. Он видит только себя самого и, возможно еще, мою маму. Я для него — дитя. Он и не догадывается, что я уже взрослая. Горячий цветок, наполненный сладким медом.
Но есть все-таки другой, и он заметит меня. Сразу же. С первого взгляда. И тотчас страсть заполнит его целиком. Но он будет добиваться невозможного, потому что я никогда не полюблю мужчину, который будет стоять на земле обеими ногами. Пусть люди почитают это за достоинство — прочно стоять на земле обеими ногами, но для меня такой человек — нуль. Круглый надутый нуль. Он будет вдалбливать мне, что жизнь — это искусство возможного. Идиот! Само определение это приводит меня в неистовство! Надо же — искусство возможного! Да само искусство являет собой воплощение невозможного. А то, что возможно, не может быть искусством. Потому что искусство — это прыжок в невозможное. Только какой-нибудь занудливый учитель латыни может утверждать подобный вздор. И зовут его Либерман. Я вполне серьезно. Этот хрыч хочет учить меня тому, что такое искусство! Само имя его — бессмыслица. Ни человека, ни любви… Эдакое нечто. Ни рыба ни мясо. И торчит же ведь на земле…
А мой Наполеон пересекает воздушное пространство. Он ищет меня повсюду. Подобно комете на темнеющем закатном небе несется он ко мне. Я не знаю его имени, но я ни на миг не сомневаюсь, что он преодолеет все законы природы, потому что они слишком тесны для него. Смирительная рубашка для фантазии. Клетка, сплошь наполненная круглыми числами. А где в природе есть круглые числа? Уже само утверждение, что дважды два — четыре, есть ложь. Почему не три целых и девять десятых? Или четыре целых и одна десятая? Дважды два человека, например. Все абсолютно разные. Даже близнецы не во всем равны между собой. И вообще, что такое четыре человека? Три Хеннера и один философ, скажем. И это соответствует четырем человекам? Четырем островам, скорее. Четырем загадкам.
Ненавижу числа. Только неисчислимое истинно. И неизмеримое.
И люблю дядю Хеннера, потому что он находится по ту сторону чисел. Потому что он всегда терпит неудачу. Он — костер. Бушующее пламя, которое противостоит собственной цели своей и потому никогда ее не достигнет.
Хеннер, ты неповторим.
Зачем ты приходишься мне родственником, вместо того чтобы быть возлюбленным моим?»
* * *
В тот ничем не примечательный день 12 июля 1906 года произошли три странных события, которым предстояло оказать самые серьезные воздействия на судьбу пленительным цветком расцветающей Мальвы.
Десятью тысячами километров восточней Станислава одиннадцать братьев, облаченных в формы железнодорожников, сошли с Транссибирского экспресса и осмелились на самую дерзкую выходку в своей жизни.
Пятнадцатью тысячами километров западней Станислава, в зеленой преисподней Французской Гвианы, в камеру заключенного Альфреда Дрейфуса вошел тюремщик и сообщил ему, что Париж отменил приговор Реннского военного трибунала и что осужденный как немецкий шпион капитан полностью оправдан и может продолжить службу в звании майора французской армии.
И, наконец, в самом Станиславе Лео Розенбах привел в дом человека по имени Бальтюр, который не был евреем, однако излучал такое обаяние, перед которым никто не мог устоять, в том числе и королевский придворный фотограф, который вечно похвалялся тем, что еще ни разу не становился жертвой чьих бы то ни было чар.
Бальтюр был русским беженцем, принимавшим участие в революционных событиях, и в минувшем декабре был приговорен к смертной казни. За день до приведения приговора в исполнение некой загадочной даме удалось вытащить его из пресловутой Петропавловской крепости и по губительным украинским болотам переправить в Австрию.
В тот июльский день Бальтюр впервые появился в ателье моего деда. Он откровенно признался, что является анархистом, которого преследует царская охранка, и потому вынужден где-нибудь укрыться. Поскольку же по профессии он обученный фотограф, он мог бы, если, конечно, Лео Розенбах не имеет ничего против, некоторое время пожить здесь и быть, к тому же, полезным.
Мой дед был кем угодно, только не поклонником разного рода махинаций, хоть как-нибудь связанных с насилием. Он был, может быть, самым лояльным евреем во всей Австро-Венгерской империи. При слове «анархист» холодная дрожь пробежала по его спине, однако заявление Бальтюра, что русские варвары приговорили его к виселице, вызвало в нем должное сочувствие. Кроме того Бальтюр был необыкновенно привлекательным. Это был русый молодой человек с выдающимися скулами, глубоко посаженными глазами, которые постоянно излучали теплый блеск, и красиво очерченным ртом с застывшей на нем грустной улыбкой. Он понравился не только Лео. Все без исключения оказались в плену его обаяния, и он сейчас же был принят в семью как горячо любимый брат.
Вечером того же дня Мальва записала в своем дневнике: «У него такой голос! Так мелодично и глубоко звучат голоса струнных инструментов. Я бы сказала — альт. Он напел нам одну русскую песню, и по телу моему пробежали мурашки! Я чувствую, он пел о чем-то, что было на самом деле. Я не поняла почти ничего, но всем нам было очевидно — он верит во что-то большое. У нас не верят ни во что. Только дядя Хеннер верит — в самого себя, разумеется, и все высмеивают его за это.
Этого Бальтюра мы воспринимаем всерьез. Может быть, потому, что он был приговорен к смертной казни. И что преследователи его — дикие звери.
Я спрашиваю себя, во что он верит? Он говорит, что он анархист и хочет уничтожить это государство. Имеет ли это смысл? Раз он ради идеи рискует жизнью, значит, это имеет смысл. Когда человек ради чего-то готов пожертвовать жизнью, значит это что-то того стоит.
Его спасла таинственная женщина. Она должна быть безрассудной, и, конечно же, она является таковой. А у меня хватило бы мужества рисковать жизнью? Не знаю. Ради Бальтюра — пожалуй… Он так нежен и раним, что все время хочется его погладить. Мягкий и бархатистый, как звук, извлекаемый смычком.
Ради него я могла бы пожертвовать собой. То есть не ради него лично, а ради его дела. Ради его песни, в которой — я уверена — поется о том, что на самом деле было.
Странно: я не вижу в Бальтюре мужчину. Скорее, брата. А дядя Хеннер для меня никакой не дядя вовсе, а именно — мужчина…»
* * *
Известие о реабилитации Дрейфуса принес Бальтюр. Он был так возбужден, будто событие это касалось его лично, словно речь шла не о каком-то офицере французского штаба, а о его, Бальтюра, кровном близнеце-брате.
— Вы-то почему так взволнованы? — насмешливо спросил его дядя Хеннер. — Он ведь вам никто.
— Но ведь и вы его не знаете, — ответил Бальтюр, — однако, узнав о его оправдании, вы даже заплакали.
— Это не одно и то же, — возразил ему дядя. — Дрейфус — еврей. Я тоже. Спасение его чести — это спасение и моей.
— Точно так же и моей, — ответил Бальтюр, — хотя я и не еврей. Одни и те же негодяи засадили его — на Чертов остров, а меня — в Петропавловскую крепость.
— Разве что с одной разницей, — вмешался в разговор Лео. — Дрейфус был невиновен.
— Позволю себе возразить вам, господин Розенбах, быть невиновным человек не имеет права. Невиновность наша погубит мир.
— Мне нет дела до подобных вещей, господин Бальтюр. В моем доме все подчинено спокойствию и порядку. И я приговорил бы Дрейфуса, будь он действительно повинен в разглашении военных секретов.
— А я — нет. Совсем напротив: обнародование военных секретов служит делу мира. Государственные тайны прямиком приводят к войнам. Не будь этих секретов, не погибало бы столько народа. Поверьте мне…
— Вы заходите слишком далеко, уважаемый гость, — взорвался Лео, — вы оправдываете государственную измену. Этого я не могу и не желаю терпеть в моем доме!
— Я не оправдываю ничего, — ответил Бальтюр, явно сдерживаясь, — я отрицаю лишь всякую форму безропотного послушания, ибо оно противоречит индивидуальному самоопределению. Дрейфус — буржуа, офицер, солдафон правящего класса, марионетка банкиров и промышленников. Если ему прикажут напасть на Германию, или Англию, или Италию, он, не задумываясь, возьмет под козырек и перемелет в мясорубке тысячи людей, которые ровным счетом ничего плохого ему не сделали. Он невиновен. Никакой он не изменник родины, не заговорщик, но именно в этом и состоит его преступный заговор.
— А вы, Бальтюр, — неожиданно спросила Яна, которая все это время молча прислушивалась к разговору мужчин, — вы лично являетесь изменником родины?
— Да, — с улыбкой ответил он, — согласно Российскому уголовному кодексу именно таковым я и являюсь. И тем горжусь! Я готов в любую минуту выступить против нашей власти, против царя, против российского правительства и генералитета. Я готов даже бороться против моего собственного народа, который добровольно позволяет всем этим обманщикам бесконечно водить себя за нос. Когда разнузданной черни в Кишиневе или в Белостоке позволяют горланить на улицах и громить евреев, я становлюсь изменником родины. Тогда поднимаюсь я против людей одного со мной происхождения и которые разговаривают на том же языке, что и я. Дрейфус, к сожалению, так не поступал, и лишь потому его объявили невиновным.
— Тогда непонятно, — с ехидцей спросил Хеннер, — почему вы радуетесь тому, что он оправдан?
— Не за него я радуюсь, господин Хеннер, а за Францию, правители которой получили щелчок по носу. На ненависти к евреям хотели они сплотить французский народ. Общенациональное помутнение сознания хотели они раскрутить, чтобы при удобном случае захватить Германию или Австрию. Им это не удалось. Но для остального мира вся эта грязная возня послужила сигналом к осознанию истины: правящему классу верить нельзя. Сигнал этот был услышан, и этот факт вызывает во мне радость.
* * *
Между Бальтюром и Хеннером стала разрастаться едва уловимая взаимная неприязнь. В их восприятии жизни сколько-нибудь ощутимых противоречий не было. Один — анархист, другой — изобретатель. Оба стремились к преодолению гравитации, к постижению невозможного, как характеризовала их Мальва. Оба не слишком рассчитывали дожить до осуществления их идей и замыслов. Возможно также, они ревновали друг друга, поскольку и Яна, и дочь ее Мальва то и дело сравнивали этих мужчин между собой, и это нередко бросалось в глаза. А те, в свою очередь, осознанно или нет, боролись за сердца двух прекрасных женщин.
24 ноября 1906 года Мальва писала в своем дневнике: «Я отмечаю мой пятнадцатый день рождения. До сих пор я была ребенком или, по меньшей мере, таковым меня воспринимали. Похоже, сейчас стало по-другому.
Около пяти часов пополудни — в доме было уже темно — Хеннер отвел меня в сторону. Он долго и пристально разглядывал меня, будто пробирался взглядом под мои одежды, к самому телу. К моему изумлению, это нескромное действо доставляло мне невыразимое наслаждение. В нем была особенная пикантность, хмельное упоение, как от глотка прохладного шампанского. От этих новых ощущений я совершенно захмелела, а он взял мою руку и стал целовать ее с внутренней стороны. И тут случилось нечто такое, что я едва могу выразить словами. Нечто неизведанное, что сравнимо лишь с фантастическим фейерверком.
Кровь закипела во мне. Горячей волной скатилась она по шее, по груди, по бедрам и вдруг прихлынула вся прямо к сердцу. Все во мне задрожало, безумный жар, поднимаясь все выше и выше, перехватил горло. Бедра мои застыли в судороге. Я сжала челюсти и вся замерла. Сердце мое на мгновенье остановилось, и тут я будто взорвалась.
Душа выпорхнула наружу, взлетела к самым небесам, и могучий поток сладострастия разлился по всему телу, заполнив собой каждую его клеточку.
Хеннер все еще был рядом, он целовал мою ладонь. Кончиком языка он осторожно щекотал кожу между большим и указательным пальцами. Мои колени сделались ватными, и я почувствовала, что вот-вот упаду. Прямо к нему в руки, в объятиях которых я столько раз воображала себя. Вероятно, он хотел того же, потому что он приблизился ко мне вплотную, и я отчетливо слышала, как колотится его сердце. В это время со стороны лестничного пролета раздался резкий голос:
— Мальва, где ты торчишь?
Мамина бестактность порой убийственна! „Где ты торчишь!“ Это следует понимать: „Какую глупую выходку ты опять вытворяешь?“ Да она просто завидует, что я молода, а она уже старая. Завидует тому, что Хеннер стал обращать внимание на меня.
Нет, я, пожалуй, уж слишком… Она совсем не старая. Она прекрасна, как павлин. Все мужчины, проходя мимо, оглядываются на нее. К тому же, с тех пор, как в нашем доме поселился Бальтюр, Хеннер перестал быть единственным светом в ее окне. Она влюблена в Бальтюра — это очевидно, но этого я не совсем понимаю. Спору нет, Бальтюр — человек. Человек до мозга костей, но Хеннер, как бы это выразиться, Хеннер — мужчина, рыцарь, сказочный принц. Пожалуй, Бальтюр чем-то лучше. Как сказал бы папа — ценнее.
Он поставил на кон всего себя. Ради свободы. Ради своей идеи самоопределения. Не будучи евреем, он готов отдать за нас жизнь, потому что мы гонимы. Он самоотвержен до последней крайности.
Хеннер не таков. Напротив, он думает только о себе. Он обхаживает меня только для того, чтобы распалить ревность в маме. При этом ему нет до нее никакого дела. Его просто бесит, что она восторгается Бальтюром.
Хеннер — записной эгоист. Он озабочен не столько изобретением цветной фотографии, сколько славой, но я все-таки уверена, что открытие свое он сделает. Папа в это не верит абсолютно. Для папы он просто враль и совершенно никчемный человек. Но я не сомневаюсь, что Хеннера ожидает настоящий триумф. Хеннер жаждет поклонения всего человечества. Он хочет, чтобы все его любили и боготворили. Он насквозь корыстен и не считается ни с кем. Именно такие люди добиваются своей цели.
О, Хеннер, зачем я так сильно люблю тебя?»
* * *
Столкновение между Хеннером и Бальтюром становилось неизбежным — это было очевидно. Произошло оно первого мая 1907 года и завершилось вничью.
Яна, Мальва и оба соперника сидели за завтраком и говорили о демонстрации, которая должна начаться в одиннадцать часов на привокзальной площади. Хеннер намазывал на хлеб мед и, окинув русского презрительным взглядом, решил его поддеть:
— Я полагаю, вы не упустите случая поучаствовать в столь важном мероприятии?
— Разумеется, а почему вы спрашиваете?
— Потому что вы чувствуете себя своим в этом стаде, не так ли?
— Почему вы спрашиваете об этом, хотел бы я знать?
— Я просто удивляюсь, что можно быть таким упертым. Два десятка лет кряду вы сражаетесь с ветряными мельницами капитализма, однако ровным счетом ничего не меняется.
— А вы, господин Хеннер? Я слышал, вы изобретаете цветную фотографию — шестнадцать лет кряду, и пока, насколько я знаю, вы ничуть не успешней меня.
— Мне остается всего один шаг до триумфа, господин Бальтюр, чего о вас никак не скажешь.
— Не будь таким высокомерным, Хеннер, — вмешалась в их спор Яна, — господин Бальтюр рисковал головой во имя своей идеи. Он приговорен к смерти. Тем не менее он продолжает бороться с тем же упорством, без оглядки на то, выиграет он или проиграет.
— Я полагаю, господин Хеннер, вы не слишком огорчитесь, не достигнув поставленной цели. Мне лишь трудно понять, почему вы сидите тут без всякого дела и ничего не предпринимаете. Безделье, позвольте вам заметить, это и есть начало конца.
— Сейчас же возьмите свои слова обратно, господин Бальтюр!
— Я наблюдаю вас уже почти год, господин Хеннер. Все это время вы не пошевелили и мизинцем, чтобы хоть на йоту приблизиться к осуществлению вашей идеи фикс. Хотите сказать, что это не так?
— Немедленно возьмите назад все, что вы тут наболтали, — закричал Хеннер, схватил со стола нож и угрожающе приблизился к сопернику, — не то я прямо сейчас пошевелю мизинцем ради моей идеи фикс и прикончу вас, вы, русский варвар!
— Ты оскорбляешь моего гостя, Хеннер, — крикнула ему Яна, вне себя от возмущения, — может быть, он русский варвар, но он готов пожертвовать собой ради нас, евреев, чего ты, как видно, оценить не в состоянии. Постыдись же, ты, хвастливый горлопан!
— Я уничтожу его!
— Потому что он высказал тебе правду! — с этими словами Яна выхватила нож из рук не на шутку разбушевавшегося Хеннера.
— И вовсе не правду он высказал, — всхлипнул Хеннер, который в одно мгновенье превратился в маленького человечка и задрожал всем телом, — еще нынешним летом, когда созреют хлеба, я куплю вам золотую карету с четырьмя арабскими жеребцами в упряжке.
— Не нужна нам никакая карета, Хеннер, а жеребцы — тем более.
— Но, Яна, твой муж — банкрот, если ты еще этого не поняла. Он по уши в долгах. Вот и сейчас, ни свет ни заря, он сидит в кофейне и спускает в карты последнюю пуговицу со своего сюртука. Того и гляди, в дверь постучат судебные приставы и выкинут вас на улицу. Но Хеннер Розенбах спасет вас. Мое изобретение — вовсе не идея фикс. Оно практически готово.
— Что значит «практически готово», Хеннер? Пятнадцать лет назад я доставила тебе своими руками воду из замерзшей Быстрицы — и что?
— Мы будем есть золотых фазанов, ты, вечно сомневающаяся, а вино будем выписывать из Парижа!
— Практически готово, клянешься ты. Всего один шаг до победы. Так чего же тебе еще не хватает?
— Точки не хватает. Последней точки над i, Яна. — В глазах Хеннера все еще стояли слезы, но он вдруг весь засиял, и голос его сделался бархатным: — Мне не хватает самой малости, поскольку свет — это всего лишь иллюзия. Белого света не существует в природе. Это лишь сочетание красного, синего и желтого. Хоть раз присмотритесь к свету, который проникает через окно. Он ведь совсем не такой, каким кажется. Вы видите оптический обман.
— Вы намекаете, господин Хеннер, что все мы — дальтоники? — Голос Бальтюра продолжал оставаться сухим и язвительным.
— Разумеется, у вас абсолютная цветовая слепота, — подхватил Хеннер, делая ударение на слове «вас», — вы жалкий игрок. Во всем мире для вас существует лишь черное или белое. Хорошее или плохое. Красивое либо отвратительное. Вы смотрите на мир сквозь серый фильтр, господин Бальтюр, вы — полуслепец. Но я верну вам зрение. Я разложу белый свет на составные части, но для этого, — он пристально взглянул на Яну, будто хотел загипнотизировать ее, — для этого мне необходимо…
— Что, Хеннер, — призма? — опередила она его.
— Я должен сорвать маску лжи с белого света, разложить его на составляющие, раскрыть всю его природную пестроту, все благоухание таящихся в нем красок. А ты приносишь мне призму — этот жалкий осколок стекла? Нам нужен алмаз, Яна, настоящий ослепительный алмаз.
— На какие деньги мы купим его, ты, дитя неразумное?
— Ты не права, мама, он не дитя, он гений, — не выдержала наконец Мальва, которая все это время не отрывала от Хеннера влюбленных глаз, — в отличие от тебя и вас всех, он сохранил молодость!
— Благодарю тебя за комплимент, Мальва, но я спрашиваю у твоего дяди, на какие средства намеревается он приобрести этот замечательный алмаз.
— Я не знаю, на какие средства, — ответил Хеннер, — но я клянусь тебе всем, что мне дорого, — моим сыном, моей семьей…
— Ты их разорил, — перебила его Яна, — им нечего есть.
— Вы до такой степени утратили веру в меня, что можете только сомневаться? И вы совсем не видите, что дело мое приближается к триумфальному завершению?
— Мое — тоже, господин Розенбах, — с грустной улыбкой ответил Бальтюр, — мое дело должно победить. Так предписывают законы исторического развития, но когда это произойдет — я не знаю. И у меня нет на этот счет никаких предположений, и потому я никому не обещаю золотых фазанов под французское вино прямо из Парижа. А пока — позвольте мне откланяться. Через час начинается демонстрация.
С этими словами Бальтюр поднялся из-за стола и направился к двери.
— Подождите, пожалуйста, — вслед ему крикнула Мальва, — я с вами!
* * *
«1 мая 1907 года.
Невероятно! Невозможно: Бальтюр арестован. Они взяли его прямо на улице, посреди привокзальной площади. Ума не приложу, за что. Может быть, это он подложил бомбу, которая должна была разорвать Столыпина, этого петербургского палача. Этого премьер-министра, организатора всех карательных экспедиций и еврейских погромов. Он должен был поплатиться за свои кровавые злодеяния, но то покушение, к сожалению, сорвалось. И теперь не над Столыпиным нависла угроза, а над Бальтюром. Когда они его забирали, он шепнул мне: „Этот изверг все равно умрет. Я рассчитываю на тебя“. И тут они увели его. Что могу я сделать для него? Пусть не сегодня, но завтра. Я поклялась идти его дорогой, потому что он рассчитывает на меня. Что будет, если они выдадут его? Он будет повешен — это понятно. И если они его повесят, я должна буду отомстить за него. Он на меня рассчитывает. Я пока не знаю, какой будет моя месть, но я что-нибудь придумаю. „Этот злодей должен умереть“, — сказал он. Это было сказано так искренне, будто он давал мне поручение. И теперь у меня есть цель в жизни. Не Хеннера я люблю, а Бальтюра. Хеннер — это старая развалина. Красивый, соблазнительный, но все-таки — развалина. Как и папа мой, который только и делает, что сидит в кофейне и проигрывает свою жизнь. Все они проигрывают свои дни и только старятся.
Сегодня он вернулся домой в слезах. Я спросила, что случилось? Уж не Бальтюра ли он оплакивает? И он ответил, всхлипывая, что вполне в духе нашей семьи: „Я оплакиваю себя самого, потому что я — банкрот. А Бальтюр пусть сам себя оплакивает“. При этом Хеннер обнял его и поклялся ему богом всех евреев, — забавно слышать такое от Хеннера, который не верит ни во что, кроме себя самого, — он поклялся, что не позднее следующего воскресенья он продемонстрирует всему миру свой призматограф, который, наконец, стал реальностью. И папа ему поверил! Несмотря на все его сомнения!
А я ему больше не верю. Сегодня утром он вновь заявил, что ему не хватает единственного алмаза, но откуда же он появится?
Карету обещает он нам подарить с четверкой арабских жеребцов… Да он просто глуп.
Теперь я знаю наверняка, что мое сердце бьется только ради Бальтюра.
Он рассчитывает на меня.
Это — обязывает…»
* * *
Теплым майским днем Яна пробиралась сквозь толчею центральной улицы провинциального Станислава. Одежду ее, как всегда элегантную, дополняла роскошная шляпка. Женщина то и дело оглядывалась, будто опасалась преследования. Убедившись, что никто за ней не увязался, она решительно свернула в темный проулок и торопливо вошла в ювелирный магазин Леонидаса Корнецки, известного в городе бонвивана и поклонника красивых женщин. Корнецки сидел за стойкой и читал польскую газету. Увидев входившую в магазин изысканно одетую даму, он сейчас же отложил чтение, поднялся и, почтительно склонившись, учтиво спросил:
— Чем могу служить?
— У меня к вам, некоторым образом, одна просьба, но… В общем, сугубо интимного свойства.
— Чем интимнее, очаровательная мадам, тем желанней, — ответил Корнецки многозначительным шепотом и учтиво поцеловал протянутую ему руку.
— Могли бы вы мне, под обет абсолютного молчания…
— Я — сама могила, мадам, не сомневайтесь!
— Речь идет об оценке жемчужного ожерелья, господин Корнецки.
Она достала из сумочки черный футляр и нерешительно открыла его.
— Во что могли бы вы оценить эту вещицу?
— Это зависит от некоторых незначительных обстоятельств, очаровательная мадам.
— Похоже, вас это не слишком заинтересовало, — ответила Яна с грустью в голосе, — ну что ж, тогда я обращусь к кому-нибудь другому.
Она уж было собралась вернуть ожерелье на свое место, но ювелир опередил ее:
— Отнюдь, — сказал он, — интересуюсь и даже очень! — Он взял ожерелье в руки и стал бережно перебирать его пальцами. — Мне бы хотелось только знать, кому принадлежит это украшение…
— Оно принадлежит мне, — ответила Яна и покраснела, — это подарок, сделанный мне супругом. Но известные обстоятельства вынуждают меня кое-что предпринять, используя этот подарок в качестве залога, но, разумеется, не за любую цену. Так сколько же вы готовы предложить мне за него?
— Я бы сказал, только ради вас, laskawa pani[4], как говорится, плюс-минус и чтоб без лишних формальностей, — тысячи три крон.
— У вас в витрине выставлен алмаз. Он еще не продан?
— Великолепный экземпляр из Центральной Африки, — сразу оживился ювелир, — безупречный Юкункун. Три тысячи пятьсот крон, и это, как говорится, эксклюзивная цена для очаровательной дамы. Неповторимое сияние, другого такого не найти. Алмаз чистой воды, прозрачный и без малейшего тонирования. На вашей шейке, laskawa pani, или между вашими грудями это будет выглядеть в полном смысле слова по-королевски!
Яна взяла из рук ювелира свое ожерелье и положила его обратно в футляр.
— Не будем уподобляться торгашам, пан Корнецки. Либо вы отдаете ваш алмаз за мое ожерелье, и мы с вами квиты, либо будем считать, что сделка не состоялась.
— Если бы вы, мадам, изволили еще разок заглянуть ко мне вечерком, мы обсудили бы этот вопрос всесторонне. За рюмочкой ликера — vous comprenez[5], при свече, если, разумеется, вы не против. Согласитесь, что состоятельный мужчина и привлекательная дама всегда найдут общий язык…
— Как вы себе это представляете, пан Корнецки?
— Но ведь вы уже не дитя, мадам…
— И в котором часу?
— Как только закроется магазин, — многозначительно ухмыльнулся Корнецки, явно довольный собой.
* * *
Стремительным вихрем сменяли друг друга события. Наступило 1 июня, этот ужасный, отвратительный день. Как раз в праздник Святого Эразма все имущество Лео Розенбаха в 24 часа подлежало описанию за долги. Он лишался не только мебели, но и дома. Вся семья погрузилась в глубокое уныние. Мальва весь день не выходила из своей комнаты и только царапала что-то в своем дневнике.
«Вот и свершилось: у меня больше нет выбора. Тридцать дней от Бальтюра нет никаких известий. Наверное, его уже нет в живых. Впрочем, теперь это не суть важно. Для меня он живее прежнего. Я живу им, а он рассчитывает на меня. Он оставил мне поручение, и я обязана его выполнить. „Этот зверь все равно должен умереть“, — сказал он. Этим и заполнена я теперь. Я научусь обращаться с взрывчаткой, и мне не будет страшно. Страх — самое скверное, что есть. Почему нас, девушек, учат всего бояться, а не быть решительными? Я хочу стать решительной, беспощадной и твердой, как гранит.
Завтра нас вышвырнут из дома. Пусть так. Теперь я должна сама решать — что для меня, а что нет. Собственность изнеживает человека, говорил Бальтюр, и он был прав.
Хеннер клянется, что спасет нас. Именно этот шут, которому уже самому ничем не помочь. Он клянется жизнью своего сына, что на сей раз все получится. А мы то все хорошо понимаем, что на жизнь собственного сына он давно наплевал и отдал его на волю судьбы.
Теперь, дескать, все пойдет иначе, потому что у него наконец есть тот самый алмаз, которого ему все время не хватало.
Сегодня в шесть часов вечера — так утверждает он, по меньшей мере, — начнется новое летоисчисление. Наступит первый год с момента открытия цветной фотографии.
Бедный, бедный дядя, у него начались галлюцинации. Его мучит криз воспаленной фантазии, но мы продолжаем ему верить и ждать чуда. А собственно, почему? Должно быть, он загипнотизировал всех нас. Мы сражены его обаянием и молимся на него. Мы цепляемся за его ложь, потому что он теперь — наша единственная соломинка: завтра мы станем богаты, клянется он маме. Я покажу вам, на что я способен. Моя жена и мой любимый Натан пусть тоже придут, порадуются со всеми нами. Шестнадцать лет все вы держали меня за чокнутого. Теперь все вы должны присутствовать при моем триумфе. Все вместе. Вы должны быть горды за меня, основателя новой эры. У нас будут миллионы. Мы будем купаться в золоте. А судебных приставов мы вышвырнем отсюда. Весь мир будет у наших ног!
Он расходится все сильнее, а мы, завороженные, буквально прилипли взглядами к его губам…
Губы у него обворожительные — спору нет. И весь он — настоящий полубог! Он — последняя надежда наша, хотя мы точно знаем, что все это пустой треп. Мы понятия не имеем, откуда появился у него этот благородный камень. Скорее всего, он его просто стащил где-то — он и на такое способен! Простым воришкой его не назовешь — масштабы у него не те. В худшем случае — он аферист, гениальный проходимец, которому жареные голуби — прямиком в рот, а женщины — в руки падают.
Все же хотелось бы знать, откуда появился этот алмаз… Такое украшение стоит, наверное, не одну тысячу крон. Где мог бы Хеннер взять такие деньги? Нам нечем платить за еду, молочник обходит наш дом десятой улицей, а мой дядюшка приносит в дом Юкункун. Что угодно можно о нем говорить, но человек этот все-таки уникум! Настоящий волшебник. В океане непроходимой нищеты нашей он находит где-то тысячи крон и с восторгом объясняет, как он намерен нас спасать. Наверное, он все-таки колдун. Скоро узнаем, что он такое, этот дядя Хеннер. В сотый раз водит он всех нас за нос, а мы все еще верим ему.
Значит, сегодня в шесть!»
* * *
К назначенному времени на представление стали стекаться сливки местного общества. Каждому хотелось лично быть свидетелем начала новой эры, зачинателем которой явится их земляк Хеннер Розенбах. Вся местная знать в полном составе: евреи, завсегдатаи кофейни «Гловацкий», врачи и адвокаты, которым Лео Розенбах задолжал. Элегантный Магикович в белоснежном смокинге. Воротила-миллионщик Вассерман в черном фраке. Прибыл сам Левенталь, сияющий абсолютно гладким черепом, с серебряной тростью и в желтых перчатках. Главный раввин и, конечно же, Симхе Пильник, известный в Станиславе сводник, который когда-то все это замутил. Даже несчастная супруга Хеннера Сара прибыла с сыном Натаном, восемнадцатилетним юношей столь восхитительной внешности, что все присутствующие на миг онемели, когда он появился в ателье. Да, это был тот самый сын Хеннера, о котором все говорили, что он выдающийся скрипач, дивный парень с белоснежной кожей и необыкновенно грустными глазами. И та самая жена, хрупкая женщина, которую он так долго и так мучительно третировал своей ревностью, что однажды она не выдержала и выгнала его из дому.
Ателье Лео Розенбаха было вдвое больше его дома. У стен, обтянутых шелковым гобеленом, стояли элегантные кресла. Украшенный цветами стол был уставлен сверкающими серебряными блюдами, на которых возвышались горы булочек со всевозможной начинкой.
Мальва в шикарном обтягивающем фигуру платье из нежно-розовой парчи непринужденно общалась с гостями, переходя от одного к другому, предлагала им отведать вкусные угощения от Лемберга. Это были специально к событию приготовленные гастрономические изыски: омары под майонезом, семга с каперсами, индейка под икорным соусом. Яна предлагала гостям напитки: токайское, водку, разнообразные шнапсы и превосходные ликеры.
В одном из углов стоял Лео с фотокамерой, установленной на массивном штативе. Камера была покрыта неизменной черной накидкой. В руке Лео держал наготове чашку с магнием и приспособление для фотовспышки.
Он достал из кармана часы, стрелки показывали без пяти шесть. Еще мгновенье, и жребий будет брошен. Не хватало только Хеннера.
Лео посчитал, что он должен сказать несколько слов для присутствующих. Для начала он откашлялся и стал говорить голосом, переходящим с сопрано на баритон и обратно. Тон его выступления постепенно снижался — возвышенный и даже заносчивый вначале, он стал вдруг сомневающимся в середине и сник до полной неуверенности к концу:
— Вы можете гордиться, уважаемые участники нашего мероприятия, предоставленной вам уникальной возможностью стать свидетелями исторического события. Позже вы сможете даже позволить себе заявить с некоторым самомнением: я лично присутствовал при этом! И это не будет пустым хвастовством.
Хеннера, главного героя торжества, все еще не было. Присутствующие увидели в этом дурное предзнаменование, но Лео этот факт ничуть не смутил.
— Нет, уважаемые дамы и господа, — продолжал он с прежним вдохновением, — вы не просто присутствовали при этом. Это выглядит так, как если бы вы лично были рядом с Галилеем, когда он с помощью своего телескопа открыл спутник Юпитера. Или с Джеймсом Уаттом, который привел в движение первую паровую машину. Конечно, никто из нас не в состоянии испытать в полной мере чувства братьев Лилиенталь, когда они, преодолев земное притяжение, подобно свободным птицам, взмыли над землей и проплыли под небесным куполом. Но всего через несколько мгновений, — Лео во второй раз достал из кармана часы и с тревогой взглянул на циферблат, — через несколько коротких мгновений мой брат Хеннер Розенбах на ваших глазах произведет на свет первую в истории цветную фотографию, и каждый из вас лично ощутит волнение первооткрывателя.
— Если Бог того пожелает, — тихонько буркнул вечно сомневающийся господин Вассерман, — но чаще всего — Он не желает…
Презрительный смешок пронесся по всему присутствию, но Лео продолжал, хотя голос его вдруг сделался почти умоляющим:
— Я прошу вас о крохотной благосклонности, уважаемые дамы и господа, проявите крупицу терпения, дайте изобретателю последний шанс, прежде чем высмеивать его.
— Шанс мы ему дадим, — пробубнил Магиркович, — но его, к сожалению, здесь нет.
— Вы будете удивлены, — донесся из коридора странный голос, — я здесь, и я докажу вам, что сам Бог со мной. Потому что он помогает всем, кто в него верит.
Хеннер вошел в зал. На голове его возвышался цилиндр, а в руках он держал загадочную черную кассету. Ни дать ни взять — факир с головы до ног! Он удостоил гостей всего одним кратким взглядом и произнес:
— Я покажу вам нечто такое, что для всех вас явится полной неожиданностью.
Произнеся эту сакраментальную фразу, он жестом волшебника сорвал покров с того, что держал в другой руке, и перед взглядом присутствующих предстал великолепный алмаз. Хеннер поднял его высоко над головой, и в свете люстры драгоценный камень засверкал всеми своими гранями.
— Господь подарил мне эту драгоценность, и с ее помощью я сделаю невозможное возможным.
— Вы хотите нас убедить, что этот алмаз упал вам с неба, — выкрикнул гладкоголовый Левенталь, — от самого Всевышнего?
— Не лично из его святых рук, уважаемый господин, а через милостивое посредничество преданной мне персоны, имя которой я не смею разглашать.
— В этом доме имеется крупная драгоценность, — закричал Вассерман, — в то время как хозяин его задолжал нам тысячи крон!
— Скучный вы человек, никакой фантазии! Да вы гордиться должны тем, что состоите в числе наших доверителей!
— Ой ли!
— На коленях будете вы умолять нас позволить вам вложить ваши деньги в наши изыскания.
— Я сказал — ой ли! Покажите нам ваше изобретение, и тогда мы поговорим.
— Позвольте мне сейчас подняться в мою лабораторию. Мой сын Натан, насколько я знаю, прихватил с собой свою скрипку и сыграет вам кое-что, покуда я управлюсь. Сара, его мать, женщина во всех отношениях талантливая, подыграет ему на фортепиано. А я откланиваюсь, но не прощаюсь.
С этими словами Хеннер исчез за дверью, ведущей в темную комнату, и запер ее за собой. Вундеркинд достал из футляра скрипку и объявил, что вниманию почтенной публики он представит миниатюру Арканджело Корелли «La Follia»[6], опус 5, нумерум 12. Он стал настраивать скрипку, и в это время раздался звонкий голос Главного раввина:
— В Священном Писании сказано, что траур по усопшим должен продолжаться семь дней. А траур по дуракам — каждый день, всю жизнь!
Следом из лаборатории донесся голос чародея, который в ответ на замечание господина Кобринера заявил нечто неожиданное:
— В Священном Писании сказано и другое: «Вы, неверующие, почему сомневаетесь вы во мне?»
Раввин принял пасс и отыграл его.
— Позвольте вам возразить, господин Хеннер, — заявил он гневным голосом, — это не из Ветхого Завета, а из Нового.
— Завет есть Завет! — огрызнулся в ответ великий изобретатель из своей таинственной темноты. — И чем новей, тем лучше…
На этом словесная перепалка закончилась, и Хеннер выключил свет в лаборатории. Великий момент наступил.
Гробовая тишина воцарилась в зале. Тонким кружевом изящных вариаций развивал Натан известную тему великого Корелли. Красавица Сара подхватывала на фортепиано неожиданные пассажи своего одаренного сына, успевая при этом с подозрением поглядывать в сторону темной комнаты. Она сама не знала, верить ей или сомневаться. Время от времени она задевала не ту клавишу, что, впрочем, оставалось никем не замеченным, поскольку все были поглощены волшебной игрой печального херувима. Внимание гостей было поглощено не столько искусством игры, сколько наукой, вернее — происходящим сейчас процессом совершения коллективной сделки, и потому Сара вообще могла играть, что ей вздумается. Ее игра никому не мешала.
Когда Натан опустил смычок, было ровно восемнадцать часов шестнадцать минут. Гости поблагодарили музыканта легкими аплодисментами. И непродолжительными, поскольку теперь надлежало свершиться главному действу. Прямо сейчас что-то наконец должно произойти.
Лео забрался под черную накидку, готовясь запечатлеть торжественный момент. Вот-вот распахнется дверь, и факир выйдет к гостям с первой в истории человечества цветной фотографией в руках. Он поклонится публике и произнесет крылатую фразу, которой суждено стать бессмертной. Восторженная публика будет вскакивать с мест, чтобы все увидеть собственными глазами, не пропустить ни мгновенья. И он, Лео Розенбах, родной брат гения всех времен и народов, подожжет магниевый порошок, чтобы осветить и достойно запечатлеть счастливый, звездный миг человеческой истории. Фотография эта станет свидетельством века. К сожалению, это будет пока еще черно-белая фотография, но она станет визитной карточкой эпохального события, произошедшего в доме Розенбахов. Фотография для будущего. Для учебника истории грядущих поколений.
В числе гостей находился, как уже было сказано, доктор Левенталь, который пользовал главным образом местную знать. Он сидел рядом с фортепиано. Как только музыка стихла, он повернулся в сторону Сары и прошептал ей достаточно громко, чтобы его слышали и другие:
— Вы знаете меня как гинеколога, почтенная мадам. В мужчинах я понимаю значительно меньше. Но в одном я уверен: этот изобретатель — типичный пациент психиатра.
— И это минимум, что можно о нем сказать, господин доктор, — ответила Сара, — он, к тому же, приходится мне мужем.
— Невероятно! — воскликнул Левенталь, вовсе не смутившись таким поворотом.
— Бывшим мужем, — уточнила Сара, — почти шестнадцать лет. Вы знаете его лично?
— Я наблюдал его сейчас, когда он представлял себя. И теперь для меня остается загадкой: как мог он стать избранником такой дамы, как вы?
— Немало людей считают его гением, — как бы в оправдание ответила Сара.
— Я считаю его в высшей степени сумасшедшим. Этот человек, мягко говоря, социально опасен.
Едва Левенталь довершил свою мысль, из-под черной накидки вынырнул Лео.
— Хеннер, — уже не пытаясь играть прежнюю роль, прокричал придворный фотограф, — и сколько нам еще ждать?
— Всего одну минуту! — послышалось в ответ из неведомой лабораторной темноты.
Тогда Лео сбросил с головы черную накидку, достал часы и стал вслух отсчитывать последние мгновенья:
— Еще пятьдесят секунд, мои дорогие друзья. На всю оставшуюся жизнь запомните вы этот день. Твердо запомните все подробности, господа: первое июня, шесть часов девятнадцать минут по среднеевропейскому времени, Галиция, гарнизонный город Станислав, правление кайзера Франца Иосифа Австрийского. А кто здесь из нас сумасшедший, господин доктор Левенталь, выяснится прямо сейчас…
Лео взял фотовспышку в одну руку, устройство для поджигания ее — в другую.
— Как только откроется эта дверь, — торжественно произнес он, — начнется новое летоисчисление. Сейчас на фотопластинке будет запечатлена беспримерная сенсация. Следите за дверной ручкой! Еще десять секунд… Пять… Внимание!
Было слышно взволнованное дыхание присутствующих. Напряжение достигло апогея.
Ничего нового, между тем, не происходило. Лео был до такой степени возбужден, что пот струился с его носа.
— Хеннер, ты уже готов? Ответь мне — да или нет?!
Ответа не последовало. Взамен все услышали, как Вассерман громко шепнул Саре:
— Ну, что я говорил?
— Мне немного не по себе, — ответила побледневшая Сара, — не могу вспомнить, что вы говорили…
— Тогда я повторю вам, уважаемая. Я говорил, что он ничтожество! Ни больше и ни меньше.
Вечер достиг своей наивысшей точки. Лео, весь красный от напряжения, набросился на одетого во фрак Вассермана, будто намеревался немедленно задушить его. Однако в последний момент он сдержался и бросился к двери лаборатории.
— Немедленно открой, Хеннер, — закричал он диким голосом, — иначе я в щепы разнесу эту дверь!
И на этот раз ответа не последовало. И тут сзади раздалось душераздирающее рыдание. Это была Яна, которая удивительным образом весь вечер оставалась незамеченной:
— Этот несчастный что-то совершил над собой. Потому что никто ему не верил. Вы все бессердечные и малодушные люди. Вы убили его — я чувствую это. И ты, Лео, виноват больше всех. Из ревности, потому что он велик, а ты — ты просто карлик!
Чаша была переполнена. Лео впал в неистовство. Обоими кулаками стал он барабанить в дверь и кричал во все горло:
— В последний раз предупреждаю, Хеннер, я считаю до трех, и после этого случится непоправимое!
Ни звука в ответ.
— С меня довольно, Хеннер. Один… Два… И…
На счет три он изо всех сил толкнул дверь правым плечом. Она рассыпалась в щепы, и Лео буквально влетел в темную комнату. Он хрипел, сопел и, задыхаясь, ртом хватал воздух. Осмотревшись, он понял, что в комнате никого нет. В проявочном закутке тоже никого не было. Вентиляционное окно было распахнуто настежь. Перед ним стояла табуретка. От Хеннера и след простыл.
После короткого замешательства слово взял Симхе Пильник. Почти двадцать лет мечтал он об отмщении, потому что Хеннер, перебив выступление Главного раввина, испортил ему свадьбу брата. Теперь час расплаты настал, и он сказал с едким сарказмом:
— Поздравляю, господин придворный фотограф! Исторический момент для нашего гарнизонного города. Ваш открыватель испарился, как пар из сковородки. И прихватил с собой алмаз, который стоит плюс-минус три тысячи крон. Один Господь знает, кто дал ему его.
При этих словах Яна гордо подошла к свату и прошипела ему, как бешеная кошка:
— Я дала ему этот алмаз, господин Пильник! Вас устраивает такой ответ?
Лео почувствовал, что сейчас задохнется.
— Ты, — закричал он, — а кто дал его тебе?
— Это тебя не касается. Спокойной ночи!
Яна покинула ателье.
— А вы все-таки сфотографируйте нас, господин Розенбах, — съязвил Магиркович, — у вас найдется, надеюсь, еще одна пластинка для иллюстрации мировой истории? История, которую мы наблюдаем, все-таки классическая…
— Всего один снимок для учебника истории, господа, — в том же ироническом тоне подхватила издевку Сара, — вопрос лишь в том, как подпишем мы эту уникальную фотографию…
Доктор Левенталь поднялся с кресла, надел шляпу и пробурчал, направляясь к двери:
— Как подпишем, спрашиваете вы, почтенная мадам? Мы подпишем так: «Общество обгаженных».
С этими словами он покинул ателье.
* * *
«1 июня 1908 года.
Завтра описывают наше имущество. А сегодня была сплошная умора! Дядя Хеннер облапошил всю городскую знать. Фантастика! Они пришли все, хотя ни один из них ему не верит. Но если не верят, то зачем они пришли? Очень просто: потому что все они злорадные мошенники и негодяи. Они хотели поглазеть, как гибнет человек, одержимый своими фантазиями. Сами-то они примитивны, никаких фантазий. Они способны видеть только очевидное. Все необычное пугает их. Сотни раз обсуждают они одни и те же прописные истины. Им понятен лишь язык простолюдинов. С умным видом выслушивают они тысячи раз слышанное. Все новое им отвратительно и ненавистно. Новые картины, новая музыка, новая поэзия раздражают их, вызывают отвращение. Все зарождающееся им ненавистно. Они ненавидят молодость, потому что сами они давно окаменели. Кажется, и на свет они появились с замшелыми головами.
Единственный, кто чего-то ждал от вчерашнего вечера, это мой папа. Но и его ожидания были абсолютно корыстными, потому что ничего, кроме корысти, у него не осталось. Речь идет, по сути, о спасении шкуры — выживет он или нет. Он — полный банкрот и в долгах по самое горло.
Завтра придут судебные приставы, чтобы все у нас отнять. Надеяться нам больше не на кого и не на что.
Если б только знал он, мой папа, до какой степени все это мне безразлично! Единственное, что меня занимает, не нуждается ни в золоте, ни в драгоценных камнях. Все, что мне теперь нужно, это мужество, а мужества не купишь, ему нужно учиться.
Когда на Бальтюра надевали наручники, он улыбался. Страх чужд ему, потому что у него нет никакой собственности. Потому что ему нечего терять и ничего не нужно.
Завтра придут эти мужчины…
Странно, о женщинах так не скажешь, вроде: „Завтра придут эти женщины“. Женщины не приходят, чтобы отнимать. Они приходят, чтобы давать.
Теперь известно, что алмаз достала ему мама. Я догадывалась, что она тайком участвует в этой игре, потому что она любит Хеннера. Она уже и не пытается это скрывать. И почему бы ей не любить его? Только я чувствую, что ее любовь не совсем чиста. Равно как и папина надежда. Есть в нем нечто такое, что будто гипнозом притягивает маму. Я думаю — его тело. И я не утверждаю, что это плохо.
Со мной — совсем другое. Я люблю Бальтюра и ни на что не рассчитываю. Это было бы безрассудно. От него давно нет известий. Скорее всего, он мертв. Я люблю Бальтюра за его мужество. За его бескорыстие. Рисковать жизнью, ничего не требуя взамен, — вот высшая форма фантазии! Он играет на всего себя и проигрывает — вот игрок в истинном смысле слова…
Папа причиняет мне боль… О нем речи нет. Он хорошо понимает, что за этот алмаз мама… Но папа никогда не будет задавать ей вопросов. Для этого он слишком слаб…
И я никогда не посмею напрямую обсуждать — откуда взялись эти деньги, на какие жертвы решилась она ради них, какими скользкими дорогами шла к ним…
А папа должен молчать. И быть счастлив, что его терпят в его собственном доме, который завтра перестанет быть его домом.
Как вообще случилось, что он без памяти любит маму? И что дает ему эта любовь? Ничего. Она просто не замечает его. Для нее он пустое место. Несмотря на то, что ради нее он надрывается всю жизнь, приносит ей подарки, когда у него есть деньги. А мама ни разу не поблагодарила его. Сказать ему простое спасибо она не в силах. Она считает в порядке вещей, что он, как собака, лежит у ее ног.
Это ужасно! Я должна бежать отсюда. Иначе я стану, как все они…
Завтра мама едет на Радауцы. Просить о помощи. У строгого дяди Давида, который нас презирает. Он всего лишь обыкновенный ростовщик, но презирать нас он вправе. Потому что у него есть деньги, а у нас их нет. Он может позволить себе все, что захочет и когда захочет. Нужда вызывает у него насмешку. Люди боятся его и всегда готовы ему служить.
Все, кроме моей мамы. У нее нет перед ним страха, и она даже уверена, что „расколет“ дядю Давида. Разве достойно так говорить? Десять тысяч крон привезет она завтра, утверждает мама, и мы будем спасены. Нам оставят наш дом, и оставят в покое нас.
Бежать отсюда, бежать…
Очень хотелось бы знать, как, собственно, она его „расколет“. Наверное, у нее есть безотказный способ делать такие вещи… Тот самый, которым она „заполучила“ алмаз. Ну и словечки: „расколоть“, „заполучить“! Она пользуется каким-то особым трюком — это бесспорно. Но каким, каким?! Никогда она не раскроет его. О таких вещах принято помалкивать. Жаль, но я все равно узнаю. Этот трюк не может быть слишком загадочным… Я знаю это от Либермана, моего учителя латыни. Он изображает надутого ученого, строгого профессора, но стоит мне посмотреть ему в глаза, и он сейчас же краснеет и начинает бормотать себе под нос. И я знаю, что могу получить от него все, что захочу. В его косых глазах я — богиня. Руки его становятся мокрыми, и от него исходит затхлый запах залежалой ветоши. Этого я наверняка расколола бы, что бы ни означало это гадкое словечко. За счастье овладеть мной он дал бы руку на отсечение…
А, кстати, что значит — владеть кем-то? Я думаю, люди тянутся друг к другу и потом целуются. Инициатива при этом якобы принадлежит мужчинам. Со мной никто еще не пытался так делать. А, собственно, почему? Этому Либерману я просто не позволила бы такого — это же ясно. Я бы его просто ударила. Но тому, кто мне нравится, — почему бы и нет? Хеннеру, например. Но этот куда-то сбежал. Или сыну его, этому почти нереальному Натану. Ах да, и этот сбежал. Исчез с лица земли вместе с папенькой своим. Он вообще похож на ангела, а ангелы умеют летать. Если бы он погладил мне грудь или бедра, я, наверное, растаяла бы от наслаждения…
Он упорхнул вместе со своей волшебной скрипкой. Следом за своим папой. И теперь оба они за семью горами.
Завтра решится все. Мама едет в Радауцы, чтобы „расколоть“ старого кровопийцу. „Смягчить“, — как она выразилась. Может, не так уж он и затвердел? И в его груди бьется обыкновенное сердце? Кто знает? А может, сердце тут вообще ни при чем и все решает какой-нибудь другой орган… Но об этом не принято распространяться.
Если маме удастся раздобыть денег, мы не останемся на улице. А если нет, то именно это и случится. Мне страстно хочется, чтобы мы оказались на улице. И тогда я поступлю так, как поступили Хеннер и Натан: я исчезну. На восток. Через леса и болота, все время — навстречу восходу солнца.
Я приду к тебе, Бальтюр. Жив ты или мертв. Ты рассчитываешь на меня.
Когда они уводили тебя, скованного наручниками, ты смеялся…»
5
Владивосток был заложен в 1860 году и сразу же стал разрастаться во все стороны, как бесхозный озерный камыш. Уже к началу следующего века он превратился в крупнейший порт на востоке России и стал для всего Тихоокеанского побережья главной перевалочной базой. Его нарекли Владыкой Востока, и неспроста. Петербургское правительство возводило эту метрополию как важный форпост на дальней окраине империи. Он стал также портом приписки промысловых судов, добывающих китов и тюленей. Вокруг порта на голом месте, подобно грибам после дождя, вырастали бесчисленные заводы и заводики, во все стороны расползались целые промышленные комплексы, в полный рост поднимались громады портовых верфей, прокатных цехов и доменных печей. Непомерной могучестью своей, равно как и неповторимым уродством, обязан этот монстр особому положению конечного пункта Транссибирской железной дороги.
Я уже говорил, что 12 июля 1906 года одиннадцать сыновей Янкеля Камински ступили на землю Владивостока. Тут же на вокзале, иссеченном солеными океанскими ветрами и обезображенном угольной пылью, купили они местную газету, из которой узнали, что Дрейфус реабилитирован, освобожден из тюрьмы на Чертовом острове и даже произведен в майоры. Черным по белому так и было написано: освобожден из тюрьмы на Чертовом острове. Так что, нет таких крепостей, из которых невозможно вырваться. Это была новость чрезвычайной важности! Если не опускать рук, возможным становится все невозможное, и тот факт, что одиннадцати укротителям ветряных мельниц, обреченным кончить свои дни в глухих застенках царских казематов, удалось вырваться на свободу, является нелишним тому доказательством.
Бэр, старший из братьев, обратился к остальным со словами:
— Законы гравитации посрамлены, товарищи мои: яблоки падают не с дерева на землю, а, наоборот, — с земли на дерево. Но если во Франции уже торжествует сила права, в России все еще царит право силы. Истинная справедливость неделима. Восторжествовав где-то и однажды, она будет торжествовать всюду и всегда, если мы этого очень захотим. От нас зависит это и больше ни от кого. Мы достигнем звезд, и я спрашиваю вас: хотите ли вы взлететь к звездам?
— Мы с тобой! — дружно ответили братья.
— Кто еще сомневается, должен заявить об этом сейчас. Завтра будет поздно…
Сомнений не выразил ни один.
— Тогда поклянемся, братья: с Дрейфусом — вперед, к новой жизни!
И все дружно повторили:
— С Дрейфусом — вперед, к новой жизни!
* * *
Вся команда, как я уже говорил, была облачена в униформу железнодорожных служащих. Они ничем не выделялись из общей массы, хотя очки их на шнурках выглядели не совсем обычно. Слава богу, они находились теперь на Дальнем Востоке, где и не такое видали.
Чтобы было понятным дальнейшее повествование, нужно иметь в виду, что в те времена все нижние чины носили одинаковую униформу. По этой простой причине отличить трамвайного контролера, скажем, от таможенного чиновника или от другого служаки какого-нибудь российского ведомства было практически невозможно.
Потому никто в тот летний день и внимания не обратил на появление в порту одиннадцати мужчин, заявивших, что им поручено проконтролировать погрузку американского сухогруза «Авраам Линкольн», которому предстоит доставить на восточную Аляску партию меховых изделий.
Часы показывали начало двенадцатого, солнце стояло в самом зените. Так называемые таможенники торопливо поднялись на борт судна, где их встретил капитан Фаирхильд и провел по юту к нижним трюмам.
Все проходило чинно и беспрепятственно, покуда вдруг недалеко от подъемного мостика, почти в сотне метров от наблюдательной рубки, не прогремел взрыв, который сотряс весь сухогруз от кончика мачты до самого киля. Все одиннадцать товарищей и бравый капитан, как подкошенные, разом рухнули на палубу. На судне и в обозримом пространстве вокруг него поднялась невообразимая суматоха. Владелец «Авраама Линкольна» пулей соскочил на берег. Всем не терпелось узнать, что произошло и что послужило тому причиной. Причал буквально кишел любопытными, которые на всех мыслимых наречиях перекрикивали друг друга. Все жестикулировали, каждый пытался высказал собственное видение случившегося. И лишь капитан продолжал сохранять спокойствие. Он поднялся на ноги, отряхнулся, надел фуражку, чинно поправил ее и откланялся, сказав при этом одиннадцати служивым, что они могут спокойно продолжать свою работу. Вскоре выяснилось, что ни техника, ни люди не пострадали. Мало-помалу люди стали возвращаться на свои места, и, как ни странно, никому по-прежнему не приходило в голову навести справки о находящихся на борту одиннадцати таможенниках. В суматохе о них вообще забыли. А еще через двадцать минут взвыли корабельные сирены, и сухогруз вышел в открытое море. Никто и не догадывался о том, что на борту его остались одиннадцать близоруких пассажиров и среди них — Мойше Камински, который совсем недавно изучал химию.
* * *
Ошеломленные удачей, одиннадцать беглецов устроились между штабелями бесчисленных коробок с меховыми изделиями. Теперь у них было достаточно времени задуматься над превратностями своей судьбы и оценить все опасности предстоящего путешествия через Берингово море.
Менахем, как всегда, видел все в мрачном свете:
— Нас найдут. Во все российские порты разослана ориентировка на нас. Если где-нибудь между Сахалином и Камчаткой разразится шторм, нам несдобровать. Этот проклятый американец вынужден будет пристать в Тиличиках или в Анадыре, жандармы поднимутся на борт, и нашему путешествию конец.
— Никакого конца, — возразил ему крепыш Мордехай, — нас все-таки много. До сих пор мы сходили за железнодорожников, будет нужно, нарядимся матросами. В Иркутске все прошло гладко — разве не так? Да я, если что, голыми руками могу…
— Оставь ты меня в покое с твоими голыми руками, — остановил его Бэр. — Иркутск был всего лишь первородным грехом в нашей жизни. Сила вместо духа. Стыдно должно быть нам! Чем мы лучше наших врагов?
— А что нам оставалось делать, танцевать с ними? — не согласился второй по старшинству.
— Не танцевать, а разговаривать. Как люди с людьми. Но мы для этого чересчур примитивны.
— С российскими жандармами хочешь ты разговаривать? С профессиональными убийцами, с нашими кровными врагами? Если бы мы их не прикончили, они прикончили бы нас. — Шломе все сильней и сильней распалялся. Соперничество с самым старшим так и хлестало из него, и он горячился: — Они утопили бы нас в Охотском море, как котят. И ничего не осталось бы от нас, кроме жалкого полицейского рапорта. Кому-то сильно хочется заманить нас в ловушку. И этот «кто-то» зовется Бэр. Он убеждает нас, что мы обрели бы свободу, всего лишь мирно поговорив с нашими палачами. И никакого насилия. Как люди с людьми. Да они изрубили бы нас в котлеты!
Бэр слушал и только улыбался:
— Дрейфус стоял в дерьме глубже нас. И он остался в живых. Ловушка, которой пугает нас Шломе, испарится, скорее всего, после Аляски. Аляска принадлежит Соединенным Штатам Америки. Там мы обретем свободу и начнем новую жизнь.
— Пока мы туда доберемся, мы сдохнем от голода. У нас нечего в рот положить.
— Значит, опустошим кухню.
— И тогда они узнают, что мы здесь, и выдадут нас кому следует.
— Американские матросы? Пролетарии, достоинством в двадцать четыре карата, которые стоят на нашей стороне! Спорю, что среди них есть товарищи!
— И как ты собираешься их распознать — при помощи лакмусовой бумажки?
Лазик до сих пор молчал. Он лежал на спине, погруженный в собственные мысли. Вдруг он щелкнул пальцами и воскликнул:
— Я приведу их сюда!
— Кого?
— Товарищей, разумеется!
— И как ты это сделаешь?
— Увидите.
Лазик был современным Орфеем. Он очаровывал всех: за ним бегали женщины, к нему тянулись мужчины. Он играл на различных инструментах и очень похоже подражал голосам животных.
Вечером, когда матросы разошлись по своим каютам, над палубой зазвучали вдруг чарующие звуки, напоминающие птичьи голоса. И только внимательно прислушавшись, можно было уловить подаваемый кем-то сигнал, зашифрованный в щебете птицы. Но услышать этот тайный знак мог лишь тот, кто знал революционный гимн: «Слушайте, люди, призыв к последнему бою…».
На сухогрузе действительно было кому услышать этот сигнал. Двое матросов приняли и сразу откликнулись на него. Они спустились в трюм и обнаружили там тайных пассажиров, которые немедленно оказались под покровительством единомышленников, и впредь им не нужно было дрожать от страха.
* * *
Спустя три недели провинциальный листок — единственная на Аляске ежедневная газета «The Ketschikan Tribune» — вышел с крупным заголовком, тут же перепечатанным всеми без исключения сенсационными вестниками Нового Света: «Царские смертники сбежали на Аляску!» Под ним стояло следующее: «Одиннадцать революционеров из России — точнее, из Варшавы, приговоренных к смертной казни, непостижимым способом тайком проникли на борт сухогруза „Авраам Линкольн“ и от самого Владивостока через Берингов пролив благополучно добрались до американского континента. Без содействия американских единомышленников подобная смелая выходка была бы совершенно невозможной. Для наших учреждений, ведающих морскими перевозками, дерзкая акция эта должна стать серьезным предупреждением. Не имея при себе абсолютно никаких документов, одиннадцать бунтарей утверждают, что они родные братья. И хотя странные беглецы более месяца не мылись и не брились, они производят впечатление вполне цивилизованных людей. Нашему ведущему репортеру Бобу Фергюсону удалось побеседовать с ними и задать им вполне естественный вопрос: что, собственно, толкает их жертвовать своими жизнями ради разрушения нашей цивилизации. На свой вопрос он получил целый ряд объяснений, которые мы приводим здесь с некоторыми сокращениями: Бэр Камински, 24 года, рост средний, телосложение плотное, явно выраженный лидер группы: „Если кто-то и разрушит нынешнюю цивилизацию, то это будем не мы, а воротилы власти, которые поработили всю планету, истребляют народы и организуют кровавые бойни. И если все мы не окажем им сопротивление, они приведут всю планету к полному краху человечества“.
Шломе Камински, 23 года, носит очки, выглядит человеком недальновидным, несговорчивым и саркастичным: „Нынешнее индустриализированное общество основано на свободной конкуренции, то есть на всестороннем порабощении слабого сильным. Поскольку же слабых большинство, однажды они все равно всю эту нынешнюю цивилизацию разнесут в щепы“.
Ицхак Камински, 22 года, носит очки, кожа бледная, шутник, склонный к цинизму: „Цивилизация, которую вы имеете в виду, это же вполне очевидная битва всех против всех. Вполне в духе Дьявола, который призывает нас презирать ближнего своего, равно как и себя самих. Эта битва будет продолжаться, раз уж Богу это угодно, до тех пор, покуда все окончательно не перебьют друг друга“.
Мордехай Камински, 21 год, тяжеловесный, неуклюжий, с маленькими глазками: „Я не привык много говорить. Я человек действия и целиком разделяю точку зрения моих братьев“.
Мойше Камински, 20 лет, типичный остроумный интеллектуал: „Не надо бояться, что мы насильственно разрушим вашу цивилизацию! Она рухнет и без нас. Рухнет от ваших внутренних противоречий. От противостояния миллионов неимущих пролетариев малочисленным группам властных толстосумов“.
Лазик Камински, 19 лет, самый хрупкий из всех братьев, небожитель от искусства, человек, бесконечно далекий от реальности: „Разумеется, я — разрушитель. Потому что этот мир мне ненавистен. Мне хочется переиначить его, но не из жажды разрушения, а единственно из необходимости. Ведь мы, евреи, две тысячи лет подвергаемся избиениям, пыткам, поголовному вырезанию. Два тысячелетия гоняют нас с места на место, из одной земли в другую, и стоит кому-то из нас поднять голову, ее сейчас же отсекают. Против этого я восстал и буду стоять до последнего вдоха“.
Адам Камински, 18 лет, деловой и рассудительный, характерный тип молодого менеджера: „Чего я не переношу органически, так это плохие сделки. Плохие сделки следует ликвидировать, и чем быстрее, тем лучше. И то, что сегодня называют цивилизацией, по сути — тонущий корабль“.
Бенцион Камински, 17 лет, ярко выраженный еврейский тип лица, угрюмый неврастеник: „О чем, собственно, вы говорите? О цивилизации царизма? О Прусской империи? О султане константинопольском? Да если бы вам пришлось провести в Варшавской крепости всего один день, вы положили бы всю оставшуюся жизнь на разрушение этой цивилизации“.
Менахем Камински, 16 лет, фанатичный взгляд, жестикуляция эдакого пророка: „Все состоит из судорог и конвульсий. Все современные государства являются продуктами гражданских войн и революций. Соединенные Штаты Америки, к примеру. Или Франция. Или Великобритания. Один еврей-неудачник — вы, пожалуй, его не знаете, его звали Карл Маркс, — так вот, он писал, что вся современная история — это история классовых битв. Историю ближайшего будущего он тоже причислил бы к этой категории. Подождите десяток лет, и в России не будет больше царя. В Германии — кайзера, а от турецкого султана останется одно имя“.
Аарон Камински, 15 лет, явно не от мира сего, но вполне симпатичный, мог бы стать хорошим работником или даже ремесленником: „Все зависит от угла зрения. Вы с ненавистью говорите о разрушении старого. Я, напротив, с наслаждением говорю о строительстве нового. Вы можете упрекнуть меня в том, что я срезаю живое дерево, чтобы обратить его в обыкновенный мертвый стол. Действительно ли стол хуже дерева? Для меня — нет. В моем понятии стол — это высшая форма дерева. Некий синтез природного и разумного. Рациональный продукт человеческого творчества“.
Херш Камински, 14 лет, полный жизни гномик комедийного свойства: „А позвольте один встречный вопрос: как вы думаете, был бы Христос распят, если бы наша цивилизация нравилась Ему? Он хотел лишь улучшить этот мир, сделать его другим, и за это Его убили. Если бы Он сегодня пришел в этот мир, наверное, Его бы не распяли, но наверняка бы Его изолировали от общества“.
Вчера ночью все одиннадцать бунтарей, находившиеся под охраной Кетчиканского шерифа, были отпущены на свободу. Они продолжат путешествие в Нью-Йорк, где у них якобы есть родственники. Им также предстоит позаботиться там о получении законного вида на жительство».
6
Более двух лет не имеет Янкель Камински никаких известий от сыновей. Кругом и всюду насаждает он мысль о том, что факт этот имеет для него такое же значение, как пустая бутылка, потому что никаких сыновей у него вовсе нет. Четко и ясно заявляет он, что сыновей у него никогда не было и впредь заводить их он не намерен. И если кто-нибудь осмеливается заговорить с ним на эту тему, он грубо прерывает того и требует сейчас же переменить тему. Не однажды пыталась и жена его Ноэми поколебать в муже это его упрямство. Ночи напролет она не спит и только плачет. Янкель хорошо знает, что творится в ее душе, но делает вид, что ничего не замечает.
Не спится, впрочем, и ему. И он испытывает адские муки, но об этом он молчит. Это был сущий безбожник, язычник, сам сделанный из камня. С Всевышним он так же непримиримо рассорился, как и с сыновьями своими, но совесть все же тайком терзала его. Однажды и он появился в синагоге, и когда, обыкновению вопреки, мысли о смерти посещали его, ему на ум пришли давно забытые слова: «Не впадай в бессердечие, потому что оно истощит твои силы, подобно быку, объест твои листья, и высохнут плоды твои, и останется лишь сухой ствол!»
Это он-то — сухой ствол? Смешно! Он был крепок, как буйвол. Округл и коренаст. Холерически вспыльчив, когда что-то мешало ему, что-нибудь было не по нему. Женщин у него было столько, сколько он хотел. Его знали во всех трактирах, потому что он мог пить до рассвета. Кругом и всюду был он первейшим затейником, но желанным не был нигде. Он хорошо знал это и потому часами просиживал в своей конторе в полном молчании. Снедаемый собственными мыслями, молча смотрел в окно, выходящее в машинный зал. Никаких желаний. Пустой, как выпитая бутыль.
«Сто тысяч они мне стоили. Они разорили меня. Потешались над своим отцом. И кто же тут бессердечный? Я? И что такое бессердечность вообще? Ничего такого на бирже не выставлялось. В Варшаве нужна твердость, иначе тебя растопчут. Янкель Камински не позволит растоптать себя, и уж во всяком случае — собственным сыновьям. И во второй раз выкупать их за сто тысяч? Ну уж нет! Я что — дурак? Я вырвал их из крепости, а они через несколько дней вновь там оказались. А теперь они в Сибири. В Верхоянске. Откуда никто не возвращается. В свинцовый рудник человека завозят, но оттуда не вывозят никого… О, Янкель Камински, и что за жизнь у тебя! Черт-те что, а не жизнь! Сплошное несчастье…»
Раздался стук в дверь, но Янкель — ноль внимания. Снова постучали, и он не выдержал:
— Кого тут принесло? Кто там?
— Это я, почтальон.
— Так входи и не поднимай шума. Что еще случилось?
— Ничего особенного, пан Камински. Германский кайзер приземлился в Марокко. Война с французами неизбежна.
— У тебя в голове что — кислая капуста вместо мозгов?
— Когда я три года назад предсказывал войну с Японией, вы вытолкали меня за дверь.
— Я спустил тебя с лестницы не за твое предсказание.
— А за что?
— А за то, что я не хочу твои россказни слушать. Твой голос меня раздражает.
— Мне уйти, пан Камински?
— Сначала дай мне письмо, а потом можешь проваливать.
— Какое письмо? У меня для вас дюжина писем…
— Мне не нужна дюжина, мне одно только нужно, и ты отлично знаешь, что я имею в виду. Но именно это письмо ты не приносишь мне, нарочно, чтобы позлить меня.
— Откуда должно прийти это письмо? — Почтальон злорадно поджал губы.
— Из Сибири, болван. Какого черта ты всегда спрашиваешь о том, что сам знаешь?
— Никак нет, я совсем не знаю этого. Я понятия не имею о том, что у вас есть гешефты в Сибири.
— Скверные гешефты у меня в Сибири. Гадостные. Уходи. И без того письма больше ко мне не являйся.
* * *
Вечером того же дня старик отправился в трактир Хаскля Зонненшайна и стал пить. В зале стоял густой чад, воняло дешевым самогоном и табаком. За столами сидели все те же пьянчуги в черных кепках на головах. И только Янкель Камински был без головного убора. Он был достаточно богат, чтобы не слишком соблюдать всякие там традиции и запреты. Вокруг него сидели завсегдатаи со стаканами спиртного и, как говорится, разводили антимонии. Горбатый Грабюк стоял у стойки и бренчал на своей балалайке. Янкель был мрачен и зол:
— Революция похоронена, потому что она была убыточной. Плохой гешефт, вполне привычный просчет, — о!
— Сдыхает змея, — возразил на это костлявый Пинкус, — а из яйца ее вылупился лебедь — так говорят украинцы…
Янкель велел наполнить стакан и проворчал:
— Этот лебедь тоже околел. Надежда оказалась химерой. Прогресс загнулся.
Грабюк прервал свое бренчание и тяжело вздохнул:
— Немцы изобрели лампочку накаливания, которая десять лет горит и не гаснет.
— Ну?
— Любой может зажечь такую лампу и читать всю ночь.
— И что?
— Человек умнеет, когда читает.
Узкоглазый Шайхет оторвался наконец от своего стакана и произнес:
— Умней — может быть, но более довольный жизнью — вряд ли…
— А кто сказал, что он должен быть ею доволен? — спросил Грабюк. — Он что — хвостом вилять должен, когда ему в морду дают? Напротив, яростней он должен становиться. Защищаться он должен, в противном случае он не человек, а собака.
— Вот вы увидите, из яйца вылупится лебедь, — о!
— А лебедь этот только и сможет, что пернуть, — о-о-о!
Шайхет свирепо покачал головой:
— Счастливого путешествия в Сибирь! Там вы все продолжите вашу болтовню. На свинцовых рудниках Верхоянска места хватит всем вам. Там вы будете читать по ночам и умничать днем. Кстати, что нового слышно про сыновей твоих, Янкель Камински?
— Слышно, что ты лобковая вошь, и если ты дальше будешь задавать свои дурацкие вопросы, я тебя растопчу!
Грабюк почувствовал, что сейчас начнется драка, и попытался смягчить обстановку:
— В жизни, как в карточной игре, говорят гоим: то тебе везет, то — нет. Взять, к примеру, этого Дрейфуса: сначала из него делали шпиона. Его изничтожили, заслали на Чертов остров, осудили как еврейского заговорщика…
— О, у тебя, наверное, появилась уже лампа накаливания…
— …а десятью годами позже, — продолжал Грабюк, не обращая внимания на пущенную в его адрес шпильку, — его освободили. Вернули его во Францию и произвели в майоры.
— И что сказали эти гоим? Извините, сказали они просто, мы ошибались.
— Из яйца вылупится лебедь, но с подрезанными крыльями.
— И все-таки мне хотелось бы знать, Янкель Камински, что слышно о твоих сыновьях? — продолжал нарываться Шайхет.
— Я не знаю, о ком ты брешешь, Мендель Шайхет. У меня пять дочерей, и это все. Прежде чем одну из них ты возьмешь в жены, я отрублю себе обе ноги — о-о-о!
— Я не о дочерях спрашиваю тебя, а о сыновьях твоих. Ты думаешь, мы не знаем, что они на твоей совести, ты, старая скряга?
— Придержи свою варежку, Мендель Шайхет, или ты раскаешься!
— Ты знаешь эту байку про торговца лошадьми из Калиша? Ее знают все. Он продал дьяволу все свое семейство. И что сделал он со своей выручкой?
— В последний раз советую тебе заткнуться!
— Так вот, — не унимался Шайхет, — он пришел в корчму, выложил их на стол и все до последнего гроша пропил.
Это был перебор. Янкель схватил стоявшую на столе бутылку и ударил Менделя по голове. И что? Произошло чудо: бутылка — вдребезги, а Шайхету — хоть бы что. Узкоглазый лишь кисло улыбнулся:
— Именно так, Янкель Камински, мишпуху свою он продал, вырученные деньги пропил. Потом он пришел домой, и его хватил удар.
Все с любопытством посмотрели на Янкеля — чем ответит он не унимающемуся обидчику. И чем он ответил? Он надел пальто и выкрикнул:
— Хаскль, счет!
7
Когда Янкель Камински вышел из трактира, на Западном полушарии — в Нью-Йорке, например, — было три часа пополудни.
Тому, кто сегодня пересекает Лексингтон-авеню или Третью улицу Лоуер Ист Сайд, может показаться, что он находится в родном Житомире или вообще — в каком-нибудь еврейском местечке Восточной Европы: такие же текстильные магазинчики, такие же кошерные ресторанчики, тележечки с горяченькими «кишкес» или «бэйгэлэс», запыленными книжками, засахаренными фруктами и прочими радостями тех давних времен. И точно такие же патриархи в кипах, с длинными бородами, торопливо снуют по тротуарам.
Уличные музыканты наигрывают приторную мелодию, примостившись в укромном уголке одной из улиц. Прямо напротив какой-то фанатик горячо произносит свою подстрекательскую речь. На заднем плане уныло стоят красные кирпичные дома. Один из них приютил в своем чреве мужской салон Джима Вайсплатта.
Из тридцати парикмахерских кресел занятыми были не больше половины. Тем не менее дискуссия, разгоревшаяся между клиентами, была не менее жаркой, чем в салоне у Зоненшайна в Варшаве или у Гловацкого в Галиции:
— В двадцать раз больше приезжих, чем в прошлом году, парень! Америка скоро лопнет от галдежа эмигрантов.
— И пусть она лопнет. Это пойдет ей на пользу.
— Что вы имеете против эмигрантов? Вы сами — один из них. Здесь, между прочим, все эмигранты. Кроме индейцев, но им тоже несладко.
— Индейцы и негры — это наша беда. Ни писать, ни читать они не умеют. Налогов они тоже не платят, потому что они неимущие. Черт бы их всех побрал!
— Зато они здоровы, не в пример нам, а мы все сдохнем от чахотки. Грамота никого еще не сделала богатым в Америке.
— Черт бы их всех побрал, сказал я. За гроши выполняют они любую работу, и когда профсоюзы решают бастовать…
— Нам не нужны ни профсоюзы, ни забастовки. Нам нужен порядок и один канал между восточным и западным побережьем. Все!
— И вы верите, что канал спасет нас? Плевать я хотел на этот канал!
— Это значит, плевать вам на Тедди Рузвельта, мистер? Тедди Рузвельт — лучший президент, который когда-либо был у евреев. С пробором или без?
— С пробором, если позволите, и абисл бриллиантина… Но Тедди Рузвельт мне не по карману. Его избирательная кампания обошлась нам в миллион шестьсот тысяч долларов. Таких затрат мы не можем себе позволять. Для евреев он, может быть, и хорош, но что ищет он в Латинской Америке?
— Тедди Рузвельт сказал, что мы имеем святое право — you understand[7] — святое право имеем мы установить там законность и порядок.
— А у меня, мистер, есть святое право отхватить вам ухо моими острыми ножницами.
— А это уже не одно и то же, сэр!
— Это как раз и есть одно и то же. Потому что у меня есть ножницы, а у вас их нет. Это мое святое право, а вы как еврейский эмигрант стыдиться должны, что вытворяли с евреями в Лодзи и в Кишиневе всего несколько лет назад, а теперь вы сами готовы отправиться в Латинскую Америку и вытворять то же самое с индейцами…
В это время открылась дверь, и в зал вошли одиннадцать клиентов, которые своим запущенным видом всполошили всех присутствующих. Заведующий филиалом, который без особого интереса листал бульварную газету, приподнялся со своего стула и спросил скучным голосом:
— Постричь? Побрить?
Предводитель группы парней ответил за всех сразу:
— Благодарим. Ни то ни другое.
— Но ничего третьего здесь вам не предложат, господа. Прощайте.
— Тогда мы хотели бы нечто четвертое…
— Здесь, как вы заметили, парикмахерская. Туалеты находятся в следующем блоке. Прощайте.
— Мы хотели бы поговорить с вашим боссом, мистер. Кажется, его зовут Вайсплатт.
— Могу я попросить вас, господа, очистить помещение?
— Позовите босса и побыстрей! Вы глухой или того хуже?
— Если я кого и позову, так это полицию. Немедленно проваливайте!
— Я спрашиваю, Джим Вайсплатт является хозяином этого предприятия или нет?
— Джим Вайсплатт является хозяином пятидесяти семи парикмахерских салонов и некоторых других предприятий. Выметайтесь-ка отсюда, парни, и чем быстрее, тем лучше для вас.
Он запустил сигнальный колокол, который жутко загудел снаружи, и дюжины зевак сейчас же собрались у входной двери.
— А теперь я вышвырну вас вон!
— Или, напротив, сэр, вы вылетите отсюда, потому что Джим Вайсплатт — наш дядя.
— А Тэдди Рузвельт — моя тетя. Вы имеете меня за идиота?
— Именно так!
При нормальном раскладе вся эта перебранка на подобной ноте неизбежно перешла бы в потасовку. Но тут в зал вломились сразу три блюстителя порядка.
* * *
В сравнении с варшавской цитаделью любая тюрьма мира покажется Луна-парком. А полицейский участок на Третьей авеню — и вовсе увеселительным притончиком. Под нестрогим присмотром двух верзил весь выводок братьев Камински восседал на мягком диванчике и, ухмыляясь, внимательно прислушивался к разговору их дядюшки с полицейским начальником:
— То, что вы просите, мистер Вайсплатт, выполнить невозможно.
— Но это действительно сыновья моей сестры, которая проживает в Варшаве, улица Мостовая, дом три, и замужем за моим зятем Янкелем Камински.
— Эти господа должны покинуть Америку в течение сорока восьми часов. Это мое последнее слово.
— Если это ваше последнее слово, сэр, мои несчастные племянники будут повешены. Побег из ссылки — это особо тяжкое преступление.
— Это меня не касается, мистер, у них нет — э-э-э… пермит фор иммигрейшн… Разрешения на иммиграцию в Соединенные Штаты, а они, тем не менее, здесь. Таким образом, они нарушили закон и будут выдворены из страны. Мы — правовое государство, мистер Вайсплатт.
— Я хотел бы кое-что спросить, господин полицейский начальник, — неожиданно вмешался в разговор Хершеле.
— У кого нет никаких документов, не должен задавать никаких вопросов. И что же вы хотите спросить, молодой человек?
— Как называется та громадная статуя, которая возвышается в Нью-Йоркском порту? Я видел ее впервые и понятия не имею, что она означает.
— Это статуя Свободы, и это знает каждый…
— Кроме вас, господин начальник полиции.
— Без документов нет никакой свободы, в том числе и у нас — you understand?
— No, I don’t understand[8], — возразил дядя Вайсплатт, — вы хотите послать моих племянников на смерть. Почему?
— Потому что я — служащий, я исполняю мой долг и только. Но вы можете еще внести залог.
— В сумме?
— Десять тысяч долларов, и можете их забрать.
— Вот вам залог, — вздохнул Джим Вайсплатт и выписал чек. Затем он направился к выходу. У самой двери он остановился, обернулся к полицейскому:
— Чтоб вам скрутило живот, сэр, как от тухлой рыбы! — Он уже собрался было покинуть участок, но полицейский окликнул его:
— А что мне с парнями вашими делать?
— Продезинфицировать, сэр. За счет государства.
* * *
Одиннадцать бойз сейчас же стали сенсацией. Половина Лоуер Ист Сайд говорила о них. В мужском салоне Джима Вайсплатта на Лексингтон-авеню ни о чем другом вообще не говорилось. Шеф филиала увлеченно рассказывал изумленной публике:
— Представляете, одиннадцать ковбоев с очками на носу. Такого еще не знала история. Воняет, как от желтушных, а они еще грозятся вдребезги разнести весь салон.
— Боб хотел их перестрелять, слышал я, это правда?
— Разумеется, потому что я исполнил свой долг и вызвал полицию.
— Вы действовали в пределах необходимой обороны — так написано в газете.
— Разумеется, в этих самых пределах — как же иначе? Одиннадцать здоровенных парней! Документов у них нет. Окружили со всех сторон и только твердят: «Джим Вайсплатт — наш дядя». Что оставалось в такой ситуации, я вас спрашиваю? Я включил сирену. Она, естественно, заорала, и трое полицейских тут же влетели в салон. Они арестовали этих парней, и что в итоге?
— Что Джим Вайсплатт на самом деле оказался их родным дядей. Так написано в газете.
— И пришлось ему отвалить десять тысяч баксов полицейскому начальнику лично. Этого в газете не написано, но это ведь было на самом деле?
— Залог есть залог, мистер. Деньги будут возвращены, ничего страшного.
— Джим Вайсплатт раскошелился на десять тысяч долларов! Только квитанции ему не было выписано. Значит, не залог это вовсе, а взятка. Обыкновенная взятка! Так точно, чаевые для полиции. А я должен за это расплачиваться. Собачья жизнь и гехактэ цорес…
* * *
О вкусах не спорят. О вкусе Джима Вайсплатта — уж во всяком случае, поскольку его эстетические нормы под стать представлениям примерно пятнадцати миллионов американцев. Такому множеству противопоставить нечего в принципе. Стоит ли, например, ввязываться в заранее обреченную на проигрыш свару против какого-нибудь индийского шелкового ковра, на котором вышит исполненный достоинства царь зверей, мирно спящий в тени двух кокосовых пальм? И что с того, что трогательный сюжет этот растиражирован на станках какой-нибудь занюханной сингапурской фабрики в количестве двух миллионов экземпляров и вся эта товарная масса завезена в Бруклин одним и тем же поставщиком? Что можно поделать против фарфоровых оленей, стоявших в натуральную величину во всех без исключения столовых комнатах от Манхэттена до Сан-Франциско? Есть ли малейший смысл оспаривать необходимость и целесообразность громоздких кожаных кресел от Самуэля Филькенштейна, изготовленных на двенадцать миллионов и выброшенных на рынок по двести баксов за штуку? Бессмысленно, потому что за три недели все двенадцать миллионов были распроданы, и это как нельзя лучше свидетельствует о совершенстве вышеназванной мебели.
Таким образом, квартира дяди Вайсплатта являла собой типичный образец типичного образцового американского вкуса, потому что в ней невозможно было найти хоть что-нибудь, о чем не упоминалось бы на страницах любого приличного каталога заказов.
Длиннющий стол с двадцатью четырьмя стульями при нем был поставлен компанией «Липпман и Фербер». Сервант со всеми хрустальными рюмками, рюмочками и стаканчиками в нем, серебряные столовые приборы и элегантная веджвудская посуда — все это было приобретено по случаю юбилейной распродажи в Торговом доме «Хайноцкий», в Вашингтонском сквере.
И даже Салли Вайсплатт, третья жена дядюшки-миллионера, на все сто процентов соответствовала идеалу пятидесяти миллионов американок. Она была американской девушкой мечты с мурлыкающим голосом ангорской кошки и с ослепительной улыбкой, буквально слепленной с рекламы зубного эликсира. У нее была безупречная фигура среднестатистической манекенщицы, а личико ее было поразительно схоже с бесчисленными личиками красоток, улыбающихся нам с обложек столь же бесчисленных ежедневных изданий. Она была приведена в дом ровно через девять месяцев после кончины предыдущей супруги его хозяина и с тех пор не уставала утверждать, что никогда прежде не была так счастлива, как теперь. Она относилась к своему мужу с такой же неподдельной нежностью, как и к своему автомобилю, к своей личной яхте, а также к чековой книжке Бостонского банка, с которой она ни на минуту не расставалась.
Грациозным жестом руки велела она всем одиннадцати парням присесть, успев при этом отметить, что даже неуклюжий Мордехай выглядит изящней и привлекательней, чем тот дородный господин Гемаль, с которым она когда-то познакомилась при посредничестве брачной конторы «Маккаби» на Второй авеню.
Женский инстинкт подсказывал ей, что неожиданное появление в их доме этих одиннадцати родичей может серьезно поколебать его привычное равновесие. Поэтому она сразу и вполне откровенно обозначила четкую дистанцию, которой в доме Вайсплаттов гостям следует придерживаться. При этом она не переставая грызла конфетки и то и дело выглядывала в окно.
Что же до дядюшки Вайсплатта, то он, напротив, демонстративно расточал гостеприимство, подливая племянникам светлое вино.
— Запомните, бойз, я совсем не филантроп. Я уже заплатил за вас десять тысяч долларов, потому что вы являетесь сыновьями моей родной сестры Ноэми, которую я люблю и почитаю, как мою собственную супругу. Не подумай превратно, Салли, тебя я люблю по-другому, и ты, крошка, хорошо знаешь как! Но заплаченные за вас деньги я хотел бы вернуть, к тому же — с процентами…
— Сомневаюсь, — заметил, между прочим, Адам, — что наш отец отстегнет их вам. Он у нас бройгес — злопамятный, и никогда не простит нас.
— Ваш отец? Какое отношение имеет Янкель Камински к вашим долгам? Ни черта он не имеет! Вы сами будете работать, и, значит, я верну мои деньги.
— Что ты на нас заработаешь? — спросил старший из братьев насмешливым тоном.
— Двести процентов, бойз, или я расшевелю вас пинками!
— А если мы не согласимся, дядя Вайсплатт?
— У вас нет никаких документов, парни, не забывайте об этом. Итак, чему вы в жизни учились?
— Я — студент-дипломник в области философии.
— Пустота. Дальше?
— Ицхак учился в Академии искусств.
— Тот же нуль. Дальше?
— Шломе пишет диссертацию о римском праве.
— Этим не прокормишься. Следующий?
— Мордехай — учитель физкультуры.
— Наконец первый нормальный человек. Дальше?
— Мойше — студент-химик.
— Тоже неплохо. Дальше?
— Лазик учился в консерватории на музыканта.
— Соловушка, если я правильно понимаю. «Песни — лето напролет, а зимой — ни крошки в рот…»
— Адам изучал математику.
— Профессия попрошаек.
— Бенцион изучал ассирийскую грамматику.
— О, — съехидничал дядя Джим, — эти знания сделают его миллионером!
— Менахем посвятил себя оккультным наукам.
— Факир, значит. Так это зовется в Америке. Он должен научиться вытворять фокусы и выступать в цирке. Умора, ей-богу! Один лучше другого…
— Аарон учился на часового мастера.
— Слава тебе, господи! Третий нормальный человек на все семейство. И последний?
— Хершеле хотел стать артистом, но пока — он школьник.
— Ну вот что, парни, — тяжело вздохнул дядя Вейсплатт, с отчаянием забрасывая в рот полную жменю орешков, — счастливый я человек! У меня самая красивая жена во всем Лоуер Ист Сайде. У меня более пятидесяти парикмахерских салонов в Нью-Йорке и дюжина казино на Западном побережье. Но завтра все это обернется прахом, если я соглашусь вас содержать. Здесь вам не Россия, мои дорогие, здесь — Америка. Здесь никто не станет тратить время на римское право и ассирийскую грамматику. Здесь человек вынужден бороться за выживание, либо он погибает. Знаете, что это означает?
— Именно за то, что мы боролись, нас сослали в Сибирь.
— Борьба — процесс бесконечный, но нужно чего-то добиваться. Чего хотите вы добиться в этой жизни?
— Всеобщей справедливости, дядя Вайсплатт.
— И все?
— Что значит — и все? Справедливость — главное достоинство жизни.
— Только ею сыт не будешь.
— Возможно, на жизнь зарабатывать нам придется чем-то другим. Возможно, мы вообще погибнем в борьбе, но одно бесспорно: мы либо победим, либо умрем.
— Вы в этом уверены?
— Абсолютно!
— И вы ни за что не сдадитесь?
— Ни за что!
— Это дело! — воскликнул миллионер, лукаво усмехнувшись краешками губ. — Я пристрою вас к настоящему делу.
— Пристраивай, дядя, а мы поглядим.
— Вы — одиннадцать крепких парней, не так ли?
— Это точно!
— И вы не любите проигрывать — так?
— Ни за что!
— Прекрасно! Я сделаю из вас футбольную команду. Но при одном условии.
— При каком?
— Вы не должны проигрывать — ни при каких обстоятельствах!
8
Мальве исполнилось восемнадцать, и взгляды прохожих притягивались к ней, будто магнитные стрелки компасов к Северному полюсу.
— Наша дочь — сущая ловушка для мух, — говаривал Лео, — чуть не половина города оторваться от нее не в силах. Ее нельзя выпускать одну на улицу: того и гляди, несчастье случится.
Отец сопровождал ее всюду, куда бы она ни шла. Лео, разменявший уже шестой десяток, шествовал рядом с дочерью с гордым видом старого франта, который, выгуливая свою юную фаворитку, с высокомерием и недовольством перехватывает нескромные взгляды и недвусмысленные подмигивания прохожих.
В тот летний день он сидел со своей красавицей-женой и еще более прекрасной дочерью на открытой веранде кафе в городском парке. Курортный духовой оркестрик вполсилы наигрывал попурри на тему военных мелодий.
Вся троица увлеченно поглощала малиновый торт под белой кремовой шапкой, запивая его охлажденным шоколадом. За соседним столиком царило громкое оживление. Дюжина студентов-корпорантов, обвешанных дешевой бижутерией, явно перебрав пивного зелья, раскачивалась в такт мелодии и горланила при этом, перекрикивая один другого:
Граф Радецкий клялся смело: Всех врагов — в бараний рог, А когда дошло до дела — Граф пустился наутек!Лео Розенбах весь сиял от восторга. Когда этот музыкально-патриотический митинг закончился, он поднялся и шепнул Яне:
— Я должен поприветствовать этих смелых господ.
— Ради бога, прекрати!
Но Лео не унимался. Он подошел к шумным соседям, взял руку одного из студентов, энергично потряс ее и торжественно произнес голосом, исполненным ревностного умиления:
— Я горд и счастлив, что в Австрии еще не перевелись настоящие мужчины!
Опьяненный такой честью корпорант спрыгнул со стула, вскинул руку в приветственном салюте и громко прорычал:
— Да здравствует кайзер Франц-Иосиф!
— Вы делаете честь фатерланду, господа, — отозвался Лео хотя и не так громко, но с тем же достоинством в голосе и с почтительным неглубоким поклоном. — Имею честь представиться: Лео Розенбах.
— Ваш немецкий безупречен, — ответил на это студент после несколько затянувшейся паузы, — и для нас знакомство с вами — большая честь!
Лео очень хорошо понимал, что кроется за этими словами, однако он ответил студенту с наигранным достоинством:
— Бывший личный фотограф двора Его Величества Людвига Баварского!
Парни, как один, вскочили со своих стульев, чокнулись пивными кружками и выкрикнули язвительно и громко:
Дружно выпьем — о-ля-ля — За баварского короля!Лео предпринял последнюю попытку сломить стену этой откровенно нескрываемой враждебности:
— Мы были бы счастливы, господа, предоставить вам, научной элите империи, исключительное предложение: исполнить для вас любые виды фоторабот на самых льготных условиях.
Стоящий рядом с ним студент выразительно щелкнул каблуками и прогнусавил от имени всей хмельной компании:
— Научная элита империи преклоняется перед вашим безупречным немецким произношением, перед вашим исключительно выгодным для нас деловым предложением, но, в первую очередь, перед двумя прелестными дамами, вашими спутницами, которые заставляют сердца наши биться громче и громче. Ура! Ура! Ура!
— Эта барышня — наша дочь. Кроме того, она встречает посетителей в нашем ателье — вы найдете его на улице Мицкевича, одиннадцать.
— За здоровье прекрасной барышни, которая принимает посетителей в фотоателье на улице Мицкевича, одиннадцать! Ура! Ура! Ура!
Корпоранты явно задирались. Ничего хорошего это не сулило. К счастью, вновь заиграл курортный оркестрик, и страсти несколько поутихли.
Яна кипела от гнева. Вся красная от стыда и злости, она решительно поднялась и сказала достаточно громко, чтобы не в меру разошедшиеся студенты могли услышать ее слова:
— Здесь становится слишком шумно. Подай мне зонтик, Лео!
* * *
Утром следующего дня Яна и Мальва шли по вокзальному мостику. Они намеревались отыскать некоего доктора Дашинского, о котором не утихала местная молва. Он снимал мансарду в шестиэтажном многоквартирном доме, расположенном в непосредственной близости от железной дороги, где он проводил свою холостяцкую жизнь. Днем доктор подрабатывал натаскиванием отстающих студентов, а вечерами устраивал разного рода посиделки.
Обе женщины были взволнованы и возбуждены, будто им предстояло участвовать в каком-то предосудительном приключении. Яна то и дело выхватывала свое отражение в витринных стеклах, желая лишний раз убедиться, хорошо ли ухожена кожа ее лица и не пора ли ее чуть припудрить.
— Что являет собой этот доктор Дашинский, — неожиданно спросила Мальва, — он похож больше на Хеннера или, скорее, на Бальтюра?
— Прежде всего, ни слова папе — прошу тебя!
— Я вся в жутком напряжении, мама! Какой он — большой или маленький? Совершенно не представляю его.
— Красивый мужчина, — ответила Яна коротко, — увидишь сама. Но, повторяю, папа не должен знать, что мы сюда приходили.
— А почему, собственно?
— Видишь ли, Дашинский — социалист. Он возглавляет партию, а взгляды твоего отца тебе хорошо известны.
— Возглавляет партию, говоришь ты? Однако это не помогло ему подняться выше частного репетитора.
— Потому что его честолюбие находится совсем в другом месте.
— А почему он не женат, если он так красив, как ты говоришь?
— Я замужем, Мальва, — и что с того?
— Ты самая красивая женщина в мире, мама, я тебя обожаю!
— И я тебя, моя девочка!
Они поднимались по крутой лестнице. Пахло общественным жильем и свежей мастикой. На втором этаже проживал профессор Квятковский — декан медицинского факультета.
— Дашинский хочет обязательно стать профессором, но они ему не дают. Он, видите ли, опасен для молодежи.
— Я бы ни за что не отказала ему. Опасные люди увлекают меня. А тебя?
— Не знаю, Мальва. Твой папа — человек совсем не опасный. И вообще, не задавай нескромных вопросов!
Наконец они добрались до самого верха. Шестой этаж. Мальва наморщила губы и тихо сказала:
— Я разочарована, мама! Я представляла его себе молодым богом, а на табличке написано «Специалист по классической филологии».
— Ты не должна быть такой нескромной, Мальва. Позвони-ка лучше в дверь.
Дверь распахнулась. Перед женщинами стоял человек, который в полной мере отвечал всем представлениям о нем Мальвы. Ему было около сорока пяти лет, не слишком высок, но и не мал. При этом чрезвычайно компактного телосложения, как будто природа постаралась вместить максимум человека в минимум тела. Красивым он, пожалуй, не был, скорее даже неприятным, с этими его выступающими скулами и острым носом. Глаза его искрились, излучая почти детскую доверчивость. С висков его сбегали к щекам крохотные морщинки, которые выражали то ли дружественность, то ли, напротив, сдержанность характера. Типичный поляк — гордый и импульсивный. Во всех движениях его была какая-то критическая настороженность, которая порождает в собеседнике уважение к нему и желание соблюдать некую невидимую дистанцию.
Он окинул женщин оценивающим взглядом и улыбнулся:
— Мадам и мадемуазель Розенбах, полагаю я. Вы писали мне. Которая из вас мама?
Яна смущенно покраснела:
— Я много слышала о вас, господин доктор, и восхищена вами. Потому я и позволила себе явиться к вам. Надеюсь, вы не откажете давать уроки моей дочери.
— Я тоже знаю вас, — ответил Дашинский, проводя женщин в кабинет, — я заметил вас на одном из наших митингов.
— Ты посещаешь митинги, мама? — удивилась Мальва, с любопытством рассматривая содержание книжного шкафа.
— Я сыта положением домохозяйки при твоем отце. Это ты должна понять.
— И как ты объясняешься, когда он тебя спрашивает, придумываешь всякие небылицы?
— Есть вещи, моя девочка, — Яна многозначительно посмотрела на Дашинского, — на которые люди решаются, но это остается их маленькой тайной. Не все нужно говорить. У каждого есть своя частная сфера, которая принадлежит только ему. И мне вовсе не нужно придумывать какие-то небылицы.
— Ах, мама, я прошу тебя! — шепнула Мальва прямо в ухо своей очаровательной матери, обняв ее.
— Присядьте же наконец, — вмешался в их разговор Дашинский, с интересом наблюдавший эту сцену. — Афиняне считали, — продолжал он, раскуривая трубку, — что человек охотнее выслушает семь небылиц, чем одну горькую правду. Что вы об этом думаете?
— Эти афиняне были умными людьми, — ответила Яна, выдержав небольшую паузу, — но лично я вместо придумывания сладкой лжи предпочитаю просто промолчать.
— А вы, мадемуазель Розенбах?
— Мой папа — человек очень порядочный, но он, похоже, не представляет себе, в какое время мы живем.
— А вы сами — вы хорошо представляете, в каком времени вы живете?
— Мне уже восемнадцать лет, господин доктор, и я обеими ногами стою в двадцатом веке.
— В таком случае мне хотелось бы знать, для чего намерены вы изучать греческий язык? К тому же — у меня.
— Во-первых, я не столько хочу это делать, сколько вынуждена, поскольку мне предстоит выдержать абитур. Мне хочется продолжить образование в университете, хоть бы я была первой женщиной в мире, дерзнувшей на такое. И потом, я слышала, что вы совращаете молодежь. Мне хочется быть совращенной вами…
— Не показывай себя глупее, чем ты есть, Мальва! — сквозь зубы одернула ее мать.
— Греческий язык считается мертвым, мама, я хочу успеть познать его, покуда он окончательно не исчез.
Дашинский взял с письменного стола пожелтевшую фотографию и показал ее девушке:
— Думаю, это не очень заинтересует вас…
— Почему же? — возразила Мальва, беря снимок в руки. — Она превосходна! Это Венера Милосская. Она находится в Лувре. В Париже. Я хочу непременно съездить в Париж, чтобы увидеть ее.
— Скульптор, который ее изваял, мадемуазель Розенбах, давно лежит в гробу. Свыше двух тысяч лет. Девушка, которая позировала ему, — тоже.
— Вы хотите меня переубедить, господин доктор? — ответила Мальва, которая поняла, куда он клонит.
— Я хотел лишь заметить, что мертвые при определенных обстоятельствах бывают живее живых.
— Это ваше замечание едва ли прибавит мне предвкушения восторга от необходимости зубрить греческие слова.
— Если нет, позволю себе дать вам совет: оставьте тогда эту затею. И без греческого можно прожить.
Такая развязность дочери Яне не нравилась:
— Но ты же сама просила, чтобы я привела тебя сюда, разве не так?
— К социалисту и совратителю молодежи, мама, но не к классическому филологу. Его грамматика нагоняет на меня скуку. Или ты предпочтешь, чтобы я соврала и заявила: «Ах, какое это для меня наслаждение!»
— Социализм и античная культура не противопоставлены друг другу, — возразил Дашинский, выбивая трубку и заправляя ее вновь, — стремление к равенству всех людей зародилось в Афинах.
— Что мне с того, что оно — всего лишь стремление, не имеющее никаких последствий? Где видим мы равенство евреев, например? Тысячелетиями преследуют нас, и конца этому не видать.
— Потому что вы позволяете вас преследовать — все очень просто. И женщин притесняют, и всех на свете неимущих, потому что они разобщены. Мало того, они и дальше позволяют разобщать их. Если бы они объединились — все униженные и оскорбленные, евреи, негры, индейцы, все женщины и пролетарии, — тогда лишь стремление это возымело бы действие.
— Если вы готовы кровью расписаться в том, что сейчас сказали, клянусь, я вызубрю весь греческий словарь. Но, как говорится, увы! Этого сделать вы не сможете.
— А вам, мадемуазель Розенбах, подавай письменную гарантию. Совсем как при покупке часов с кукушкой. Или музыкальной шкатулки…
Мальва покраснела до самых ушей и промямлила:
— Мне… Мне… Мне очень жаль… Я не хотела… Словом, я верю вам.
— Я тоже, — добавила Яна, — и я хотела бы почаще к вам захаживать. Вы позволите?
— Вы всегда желанный гость в моем доме, — ответил мужчина, заглянув в самую глубину Яниных глаз.
* * *
«1 октября 1909 года.
Я люблю маму, хотя она всех мужчин у меня уводит. И для этого ей ничего не нужно делать. Стоит ей появиться, и жареные голуби сейчас же сами летят ей в рот. И Дашинский — туда же! Этот рассудительный человек, едва увидит ее, теряет рассудок. Я часто спрашиваю себя, что должна я постичь, чему научиться, чтобы иметь такой же успех? Уж во всяком случае, не греческие слова. Едва ли это впечатлит кого-нибудь, и уж во всяком случае, не этого классического филолога.
И вообще, что он за человек? Типичный поляк. И все же он совсем другой. Поляки презирают нас и не упускают случая унизить. К тому же выглядят они, как пьяные лягушки. Дашинский никого не унижает. И представить себе невозможно, чтобы он кого-нибудь унизил. Даже заклятые враги его не раз признавали это. Он действительно совсем другой.
Бальтюр верит в героя-одиночку и в личную месть. Один хороший выстрел, и Столыпина не стало. Дашинскому такие идеи смешны. Анархисты для него — неразумные дети. Они застрелят одного кровопийцу, на его место придут сотни других. Не Столыпина нужно было ликвидировать, уверен он, а все подлое болото. Наверное, он прав. В общем, он мне нравится. А может, нет. Сегодня ночью он приснился мне. Будто стоит он в осеннем парке на пестром ковре из кленовых листьев и молча любуется мраморной статуей. Уверена, это была Венера Милосская. Я лежу рядом на базальтовом могильном камне и плачу. Не обращая на меня внимания, он, будто крадучись, подходит к статуе и обнимает ее тело. Нежно целует соски ее грудей и шепчет: „Мертвые при определенных обстоятельствах бывают живее живых“. Я молчу. По щекам моим текут горячие слезы, мне кажется, я сейчас умру или окаменею. И тут он обнял меня. Жадно прижался губами к моей груди. Она у меня не менее красива, чем у этой каменной богини любви, но для него я слишком молода.
Боюсь, до него так и не дошло, что я уже сформировавшаяся женщина. Или я заблуждаюсь на этот счет? Случалось, в промежутке между двумя грамматическими параграфами он будто пожирал меня взглядом, и я чувствовала, как из глаз его струились золотые искры. Но я и представить себе не могу, что он на самом деле желает меня. Нет, он — едва ли. Но все мужчины на улице провожают меня жадными масляными глазами. Все они так отвратительны! Холодный пот струится по моей спине от их похотливых взглядов. Или эти клиенты в ателье — когда они говорят мне свои пошлые любезности, у них дрожат голоса. И всегда — одно и то же пустословие, за которым ничего не стоит, кроме плохо скрываемой жажды просто обладать мною. „Целую ваши ручки, глубокоуважаемая барышня…“ Никакого уважения в словах этих, конечно же, нет — ни тени! Целовать они хотят вовсе не руки мои, а… Опротивело мне все это — сил нет!
Вместе с тем я полна томительного ожидания. Чего? Сама не знаю. Я тоскую по Хеннеру, который пропал, и никто не знает, где мог бы он быть. По Бальтюру, который оставил мне поручение. Но и он пропал бесследно, и я чувствую — он давно уже мертв.
„При определенных обстоятельствах мертвые бывают живее живых…“
О, Господи, помоги мне и дай мне силы верить в Тебя!»
* * *
В мировой политике назревала буря. Первые раскаты грома быстро приближающегося кризиса уже сотрясали ее. Экономические индексы зашкаливали.
Дом общественных собраний трещал по швам, сотни людей, буквально стоя на одной ноге, примостились в вестибюле, потому что протиснуться дальше не было никакой возможности. Всем не терпелось услышать, что на сегодняшнем митинге скажет Дашинский по поводу последних событий. Под бурное приветствие публики он поднялся на трибуну. Две тысячи человек разом встали и дружно запели гимн «Красного знамени». После этого он заговорил. Резким, взволнованным голосом:
— Соотечественники! Товарищи!
Он обвел взглядом присутствующих и тотчас заметил в переднем ряду грациозную женщину, которая таинственно подмигнула ему. Тогда он поправился и сказал:
— Дорогие соотечественницы и соотечественники, товарищи! Плохую новость принесли газеты. На нас надвигается ужас. Но это не значит, что мы должны испугаться. Напротив, чем безнадежней положение господ, тем более обнадеживающим становится положение рабов. Коронованные особы не могут больше безраздельно властвовать, как им того хочется. Народы начинают роптать. Безымянные ломятся в ворота дворцов. Неимущие требуют своих прав, и монархи задрожали. Немецкий кайзер распустил на этих днях рейхстаг, законно избранный парламент, потому что социалисты отказали ему в военных кредитах. Русский царь одного за другим отстранил демократическим путем избранных депутатов Государственной думы, потому что народные избранники захотели дать хлеб голодающим рабочим и крестьянам.
И что предпринимает в этой ситуации его коллега в Вене? Вы знаете, о ком я говорю, но я не вправе произносить имени его, поскольку это было бы оскорблением Его Величества, а я всего менее хочу оскорблять всеми нами любимое Величество…
При этих словах зал буквально взорвался от гомерического смеха, но оратор уверенно продолжал:
— Венский коллега опасается развала империи, потому что народы ее с некоторых пор хотят самостоятельно управлять своими странами. Ему теперь позарез нужен взрыв патриотического недовольства и козел отпущения, чтобы недовольным толпам было кого растерзать. И он нашел их. Вчера его доблестные воины вступили в два славянских города. В Боснии и в Герцеговине. Теперь можно не церемониться, и церемониться никто не будет: Россия видит себя заступницей всех славян, и этого достаточно для оправдания начала очередной бойни. Не перед нами, разумеется, нужно ему это оправдание, потому что мы тоже славяне. А поскольку мы с вами входим в состав Австрийской империи, получается, будто обе стороны предстоящей кровавой бойни будут резать друг друга во имя наших интересов. Россия, как известно, связана договорами с Францией и Англией, и потому рано или поздно все мы будем втянуты в мировую войну. Как поляки мы любим французов. А как подданные Австрийской империи мы должны научиться их ненавидеть. Как поляки мы восхищаемся Англией. Как подданные Австрийской империи мы должны ее презирать. Так радуйтесь, польские товарищи! Ликуйте и гордитесь вашим отечеством, южная часть которого называется Австрией, северная — Германией, а восточная — Россией. Так учили нас в школе, значит, так оно и есть. Более трех веков мы находимся под тремя великими коронами. И когда эти три самодержца вцепятся друг другу в волосы, они вынудят нас всех стать польскими братьями. Разве же это не прекрасно! Польская проблема разрешится сама собой. В этой схватке поляки сами себя перебьют, и в итоге в выигрыше останутся опять же их величества — один в Вене, другой в Берлине и третий в Петербурге. Именно этого хотите вы, товарищи, — да или нет?
Все, как один, поднялись с мест — весь зал. Будто из одной глотки вырвалось тысячекратное:
— Nie, nigdy, niech żyje Polska![9]
— Вы не хотите этого! Вы не хотите ни гибели нашей родины, ни конца света в угоду великодержавию.
— Nie, nigdy, niech żyje Polska! — прогремело вновь.
— Тогда готовы ли вы поддержать создание Социалистического интернационала, что будет означать предотвращение угрозы мировой бойни всеми доступными вам средствами?
— Всеми средствами — клянемся! Да здравствует Польша!
— И если нам не удастся это, мы будем использовать все противоречия великодержавия, чтобы до основания разрушить царствующий ныне капиталистический порядок и навеки утвердить на планете мир социальной справедливости…
Когда оратор произнес эти свои последние слова, таинственная женщина из первого ряда вскочила со своего места и выкрикнула со всей страстью в голосе:
— Я готова, товарищ, вы можете на меня рассчитывать!
Зал взорвался мощными аплодисментами. Все встали и запели «Интернационал». Несколько неприметных господ при этом нацелились на Яну и стали подавать друг другу знаки — разгляди, мол, получше эту очаровательную даму.
Дашинский, между тем, дошел до апофеоза. Он скромно покачал головой и сказал:
— Война монархий станет последней войной, которая потрясет нашу планету. Она станет началом эпохи всеобщего мира. На обломках этой последней войны, товарищи, возродится наше отечество, наша любимая родина — Польша…
Говорить дальше он не мог. Все присутствующие — мужчины и женщины — поднялись со своих мест и запели Национальный Гимн Польши:
Не сломлена, не сгинет Польша, покуда мы ведем борьбу!* * *
Дождь как из ведра. Одинокая пара бредет по едва освещенным улицам. Оба будто не замечают, что город почти поглотил всемирный потоп. Они идут сквозь ночь под большущим зонтом:
— Что искали вы на моем митинге, мадам Розенбах?
— Зовите меня Яна!
— Такому прелестному бутону, как вы, нечего у нас искать.
— Возможно, я и Белоснежка, но именно поэтому меня привлекает все это.
— То есть не ради меня пришли вы?
— Именно ради вас. Потому что вы умны и вам много есть что сказать.
— Я много говорю, потому что мало знаю. Все, что я говорю, — всего лишь красивые мечты.
— Я знаю. Вы мечтаете о вещах, которых нет. Которых пока нет. Но которые однажды случатся, когда нас уже не будет на свете. Это захватывает меня особенно.
— Я мечтаю и о вещах, которые уже есть. Но боюсь, что вас это разочарует…
— Например?
— Сейчас, под этим зонтом, я мечтаю о ваших губах, Яна. Но о таких вещах говорить не следует.
— Вы так думаете?
— Во всяком случае, не на массовых митингах. Товарищи будут против.
— Не все. Я тоже товарищ, и я — за.
Дашинский застыл под газовым фонарем и уставился на Яну. К тому же он только теперь заметил, что по щиколотку стоит в луже. Он улыбнулся и продекламировал:
— Товарищи, мы увязаем в трясине и сегодня более, чем когда-либо, необходимо… Если смотреть фактам в глаза… Как вам нравится моя речь?
— Продолжайте, мы увидим…
— И эти глаза абсолютно сбивают меня с толку, потому что они таинственны, как сама ночь, и в них сверкают медового цвета звезды… Поговорить теперь о ресницах?
— Это ваша речь, не моя. Только почему о ресницах?
— Ладно, тогда я поговорю о руках. В такие времена, как нынче, товарищи, мы должны протянуть друг другу руки. — Дашинский взял руки Яны в свои, бережно снял с них перчатки и стал целовать кончики ее пальцев. — Потому что руки эти пахнут, как фиалки в лесу… или это незабудки?
— Я в этом мало что понимаю, господин доктор, но мои руки холодны, как лед.
— Настанут теплые времена, дорогие братья и сестры. Взойдет солнце. Сердце будет рваться наружу… И уста… Сейчас я буду говорить о ваших губах, Яна.
— Пожалуйста, не здесь.
— Тогда пойдем ко мне. В мою комнату.
— В другой раз. Не настаивай сейчас, будь так добр!
— Почему не сегодня?
— В следующий четверг, если что-нибудь не помешает.
— А если что-нибудь помешает? Как знать, Яна, увидимся ли мы вновь…
— Тогда дай мне какой-нибудь залог. Что-нибудь, что я должна буду вернуть тебе.
— Вот тебе мой амулет. Это память о моей матери.
* * *
Братья Балицкие были близнецами. Высокоблагородных кровей и столь же ограниченного ума. Одного звали Густав, другого — Аугуст. Зеркально похожие между собой, они с самого рождения старались всегда быть рядом, будто две ягодицы одного седалища. Что одного, что другого отличало абсолютное отсутствие чувства юмора. Само собой разумеется, они неизменно облачались в одинаковые костюмы, носки, туфли и шляпы. Мало того, если вставал один, немедленно вскакивал и другой, одновременно они и садились, будто соединенные общей пружиной. Кроме того, совершенно синхронно они сморкались, чихали, кашляли и рыгали. Если кто-то в их присутствии отпускал шутку, что, разумеется, в кругу общения этих господ было большой редкостью, то обоим требовалось абсолютно одинаковое время, чтобы добраться до ее сути. Словом, уникальные близнецы эти были явным чудом природы. Поскольку же им суждено было сыграть судьбоносную роль в жизни моей семьи, я задерживаю на них мое внимание несколько, может быть, дольше, чем они того стоят. Ах да, чуть не забыл: Густав Балицкий имел совершенно идиотскую привычку. Он начинал высказывать какую-нибудь мысль и, не доведя ее до конца, внезапно умолкал, буквально на подъеме голоса, словно готовясь сейчас же передать эстафету. Аугуст же — как раз напротив: будто приняв ее у брата, он вступал именно в том месте, где тот остановился, и завершал начатое Густавом предложение.
Одним роковым ноябрьским днем близнецы появились в ателье Лео Розенбаха и заявили о своем желании сфотографироваться. Словно два свежерасфранченных солдафона, они синхронно щелкнули каблучками и хором громко отрапортовали приветствие, адресованное исключительно красавице Мальве и, как обычно, состоящее из двух частей:
— Примите, высокочтимая мадемуазель… — (далее — тра-ля-ля-ля) — выражение нашего глубочайшего почтения!
Оба господина одновременно вдохнули порцию воздуха и, как «двое из ларца», дружно затараторили дальше:
— Для нас величайшее удовольствие и огромная честь… — (далее — опять тра-ля-ля) — оказать должное почтение вашей несравненной красоте!
Когда оба придурка дружно переломились пополам в глубоком поклоне, Мальва, придав улыбке своей как можно более дружественный оттенок, ответила:
— Как желают высокочтимые господа быть запечатленными — вместе, врозь или достаточно одного за обоих?
— Это будет зависеть, несравненная мадемуазель… — (тра-ля-ля-ля) — какой из вариантов дешевле.
— Разумеется, господа, один за обоих — дешевле всего, — ответила Мальва, сдерживая улыбку.
— Мы — близнецы, — возразил Густав, и тут же Аугуст продолжил начатую им фразу:
— Поэтому с самого рождения нас фотографируют только вместе.
— В связи с чем, — снова подхватил Густав, — мы хотим быть сфотографированными вместе, а заплатить как за одного.
— Нет проблем, господа, но тогда фотографии будет отпечатаны в половину формата. Ведь это логично — не так ли?
Близнецы наморщили лбы в поисках подходящего ответа.
— Возможно, это и логично, — первым нашелся Густав, — но ваш господин папа имел исключительную любезность…
— …сделать особую скидку для элиты нации, — как всегда, без паузы подхватил Аугуст.
— Господа принадлежат к национальной элите, — подчеркнуто уважительным тоном переспросила Мальва, — и у вас есть тому документальное подтверждение?
В ответ братья дружно и громко щелкнули каблуками и по очереди представились:
— Балицкий Густав!
— Балицкий Аугуст!
— Третий по древности дворянский род Галиции…
— И студенты факультета прав Лембергского университета…
— А также родственники по прямой линии семейства Габсбургов…
— Слава им, слава, слава, слава!
К счастью, Мальва была еще так молода, ее кожа сверкала такой снежной белизной, а малиновые губы ее были так обворожительны, что она могла позволить себе никак не отреагировать на все это бахвальское кудахтанье высокородных особ.
— Я очень прошу господ представителей третьего по древности дворянского рода Галиции присесть на кушетку и не смотреть так тупо в объектив. Иначе, если снимок получится смазанным или невыразительным, виноватым будет мой папа.
В этот самый момент в ателье вошел Лео, который был вынужден тут же вмешаться во всю эту аферу. Он сейчас же принес извинения высокородным господам за то, что его дочь позволила себе некоторые вольности. Он просит покорно не судить ее слишком строго. После этого сказал примирительным тоном:
— Ребенку еще нет девятнадцати, светлейшие господа, и она плохо представляет себе, с кем разговаривает.
— Я хорошо представляю себе это, папа, — возразила Мальва, — я разговариваю с элитой нации — слава им, слава, слава, слава!
— Сейчас же замолчи, Мальва, и покинь помещение!
Студенты юридического факультета мнения отца, однако, не разделяли и потому возразили, как обычно, в два голоса:
— Присутствие этой восхитительной личности…
— …является истинной причиной нашего здесь появления, господин Розенбах!
Лео не знал, как ответить на это заявление, и не нашел ничего лучшего, чем перевести внимание высокородных особ на кулисы за их спинами:
— Обратите внимание, господа, на задний фон в моем ателье: при необходимости эти кулисы можно опустить на нужный уровень при помощи шнурка. Это работа известного театрального художника Славомира Шантцера из Кракова, мастерская рука которого видна во всем оформлении нашего ателье. Здесь, к примеру, вы видите замок Шёнбрунн. Здесь — Акрополь. А вот и Колизей. И, наконец, пирамида Хеопса с караваном превосходно выписанных верблюдов. На каком фоне хотели бы высокородные господа быть запечатленными?
— Ни на каком, — сухо ответил Густав.
— …потому что мы хотим что-нибудь на военную тему, — завершил его мысль Аугуст.
— Это может быть конь, господа?
— Лучше — пушка, господин придворный фотограф.
— Мне очень жаль, господа, но у меня нет пушки на складе.
— Тогда потрудитесь принести униформу. Точнее — две: одну для меня и другую для моего брата-близнеца.
Лео с готовностью улыбнулся и велел дочери пересмотреть весь костюмерный шкаф и принести два мундира:
— Только, пожалуйста, — предупредил отец, — по возможности, совершенно идентичные!
* * *
«21 ноября.
Через три дня мне исполнится девятнадцать. Еще год, и я официально стану совершеннолетней. В принципе, я давно уже взрослая, но для людей я долго еще буду оставаться ребенком. Я уже все понимаю, насквозь все вижу. Только меня никто не принимает всерьез. Папа говорит со мной снисходительно. Свысока, с выражением эдакой родительской терпимости на лице, что для меня особенно унизительно. На самом деле, он боготворит меня, но при этом он и в мыслях не допускает, что его дочь — некий автономный остров, целый мир в людском океане.
Сегодня в ателье побывали два мыльных пузыря. Два абсолютных нуля из аристократического дома. Близнецы, единственной забавой которых является то, что их путают. Они гордятся тем, что их трудно отличить друг от друга. Разве это не характеризует их достаточно? Обрести собственное лицо, собственную индивидуальность — разве не в этом состоит смысл существования? Так нет, они находят этот смысл совсем в обратном. Эти забавные парни попытались ухаживать за мной. Это было восхитительно! Папа был в полном смятении от всего этого спектакля. „Ты представляешь себе, какие последствия могли иметь твои шпильки в их адрес? — сокрушался он. — Сами господа Балицкие проявили интерес к твоей скромной особе!“ Простофиля ты наш дорогой! Старый остолоп, который за малость меня почитает. Да один мой мизинец интересней, чем оба эти ничтожества, вместе взятые. Студенты, по-солдафонски щелкающие каблучками, с глубокими отметинами заядлых забияк на носах и губах. Впрочем, только по шрамам этим и можно отличить одного от другого. В остальном они одинаковы, как две печеночные тефтельки. Будущие правоведы — курам на смех! Они говорят в один голос, но их слова — все равно что пустые орехи на сухой ветке.
У моего папы очередные иллюзии: шутка ли, столь высокородные персоны заинтересовались такой малостью, как его дочь! Впрочем, если я в принципе что-то для них собой являю, так это ничтожная песчинка, каких неисчислимое множество вокруг. Некое дифференцированное органическое соединение из различных элементов Периодической системы. Калейдоскоп из всех красок спектра, которые мельтешат перед глазами. Для этих господ я всего лишь волнистый попугайчик, которого поймали и посадили в клетку. Им хочется проникнуть в мой круг, вонзить в меня свое жало, покуда я не упаду бездыханной. Вернее, покуда я не опрокинусь на спину беззащитной. Но они жестоко заблуждаются. Меня они не заполучат никогда, хотя я — всего лишь Розенбах, а они — Балицкие. Папу они впечатлили, потому что принадлежат к третьему по значимости дворянскому роду. Потому что они студенты университета. От слова „университет“ у папы глаза увлажняются от умиления. Он мечтает, чтобы и я стала студенткой. Безразлично, какого факультета. Лишь бы я поднималась на верхние этажи общества. Сам он — жалкий демон, не сумевший подняться ступенькой выше. Они вышвырнули его, как вышвыривают всех евреев. Раньше или позже. На собственной шкуре испытал он, как преходящи все эти титулы, звания, почести и сама честь. „Только знания никто у тебя отнять не может“, — вздыхает он, и потому, дескать, мне следует учиться. Подняться, как можно выше. Папа путает „выше“ и „лучше“. Он клянется, что только добра мне желает. И делает при этом все наоборот. К примеру, сегодня. Эти два существа покидают дом, и он зовет меня в кабину для переодевания. В руках у него вешалка, на ней — два мундира. Он снимает один из них, прикладывает ко мне и произносит с волнением: „Надень это, дитя мое. Я хочу видеть, как к лицу тебе мундир“. Я нахожу это абсолютно нелепым, но стараюсь ответить ему сдержанно, что наряд этот не имеет к университету никакого отношения. Балицкие обряжаются во все это, отправляясь на свои поединки и кутежи. А под бравыми мундирами — они примитивные одноклеточные существа. Но папа настаивает — я должна поступать, как он велит, и я согласилась участвовать в этом дурацком маскараде. Я переоделась и встала перед зеркалом. Жалкое зрелище! Я выглядела, как расфуфыренная обезьяна. Я сгорала от стыда, а папа светился счастьем. Мальва Розенбах при сабле с кисточкой и золотой рукояткой. „Моя дочь будет зачислена в университет! Первая женщина — студентка университета! Они будут поражены, дитя мое! Подойди ко мне, мой ангел. Я должен запечатлеть тебя такой. Именно такой: как корпоранта Габсбургского…“
Противно все это, но я позволила папе уговорить себя. Полдюжины поз — так хотел он. Слева и справа. Вблизи и на общем плане. С саблей в руке и без нее. „Это прекрасно!“, — не унимался папа. На самом деле это было ужасно. Отвратительно и смешно».
* * *
Насчет «отвратительно» — спору нет, а насчет «смешно» — Мальва, увы, заблуждалась. В итоге сложилось так, что было совсем не до смеха и даже напротив.
Порученец Лео, этот дряхлый господин Сероцкий — у него была кличка Склероцкий, потому что он вечно все забывал и делал наоборот, — совершил жуткую ошибку, от которой Розенбахам было в пору вешаться. На стойке, где обычно лежат снимки, подготовленные для рассылки их заказчикам, слева лежали фотографии высокородных господ Густава и Аугуста, а рядом справа — полдюжины фотографий пленительной Мальвы Розенбах в наряде студента-корпоранта с саблей, с шелковым бантом и в форменной фуражке. Сероцкий, конечно же, перепутал снимки и доставил Балицким фотографии описанного Мальвой маскарада с переодеванием. То, что произошло потом, можно назвать комедией ошибки или, вернее, мелодрамой с трагическим концом.
Утром следующего дня дверь ателье распахнулась и высокородные близнецы буквально влетели внутрь. Один держал в руке желтый конверт, другой — шесть полуформатных фотографий.
— У нас нет слов, господин придворный фотограф…
— …чтобы выразить наше негодование!
— Мы протестуем против подобного кощунства…
— …и требуем возврата наших денег.
Лео стал бледным, как мел. Глаза выкатились у него из орбит.
— Что-нибудь не так, — промямлил он, — я имею в виду, не так, как бы вам хотелось?
— Да вы, можно сказать, подлый пачкун…
— …потому что сделанные вами фотографии являются грязной провокацией. Мы, знаете ли, истинные австрийцы и католики.
Лео весь съежился. Это был жуткий удар, противостоять которому он был бессилен.
— Поверьте, господа, вы первые клиенты, которые выражают недовольство моей работой.
— Кто говорит о недовольстве? За вашу пакость вы ответите.
Лео пытался оправдываться и решился на беспомощную контратаку:
— Я в высшей степени удивлен, господа, ваше поведение оскорбляет меня.
— Ха, этот еврей оскорблен! И это при том…
— … что оскорбленными являемся как раз мы!
С этими словами Аугуст Балицкий швырнул на пол вещественные доказательства. Шесть снимков Мальвы Розенбах полетели к ногам Лео. Придворный фотограф стал красным, как вареный рак.
— Я прошу, поймите же вы наконец… Я умоляю вас о прощении, светлейшие господа. Это всего лишь досадное недоразумение, если мне будет позволено так выразиться.
— Нет, вам не будет позволено! Это гораздо больше, чем досадное недоразумение…
— …это оскорбление нашего рода и оплевывание нашего отечества!
Холодный пот выступил на лбу Лео. Он не представлял себе, как разжалобить своих клиентов.
— Неужели невозможно, мои дорогие господа Балицкие…
— Мы вам не ваши дорогие господа! Извольте подбирать выражения!
— Я прошу вас понять, что произошло недоразумение, которое… Которое я сам объяснить не могу.
При этих словах разгневанный господин Густав Балицкий наклоняется, двумя пальцами, будто он прикасается к чему-то заразному, поднимает с пола одну из брошенных фотографий и кричит во все горло:
— Это ваша дочь или нет?!
— Я же пытался объяснить вам…
— Нечего тут объяснять! В Австрии запрещено… строго запрещено лицам женского пола использовать в одежде наши цвета.
— Но ведь это была всего лишь шутка, господа, в интимной обстановке моего ателье.
— Подобные шутки никому не позволительны…
— …и мы заявляем, что Габсбурги не намерены закрывать глаза на подобные оскорбления, господин Розенбах.
— Кроме того, мы обязаны сообщить вам о том…
— …что мы осведомлены о тайной стороне жизни вашей супруги, товарищ Розенбах.
— Ни о какой тайной стороне и речи быть не может, — пролепетал в ответ Лео и сделался бледным, как мел.
— Вашу супругу видели на одном из митингов, который подрывает устои нашего государства. Нашей службе безопасности известно все. Вы должны отдавать себе отчет в том, что это может означать для вас.
— Моя семья безоговорочно предана нашему кайзеру, господа. Ваше утверждение в высшей степени оскорбительно для нас!
— То, что вы позволяете вашей жене, еще более оскорбительно для чести отечества, а вы продолжаете упорствовать. В Станиславе с вами будет покончено!
— Чего вы требуете от меня, господа? — беспомощно выдохнул Лео, схватившись за грудь и едва не упав в кресло. — Если вам жаль ваших денег, можете получить их обратно. Что еще я могу для вас сделать?
— Выбирайте одно из двух, господин Розенбах: либо дуэль, и тогда вы называете ваших секундантов…
— …либо вы навсегда покидаете этот город! Мы даем вам три дня.
* * *
Ах, как неохотно меняют евреи насиженные места свои! Разве что по принуждению, ибо евреи в принципе являются поборниками религиозной оседлости и потому едва ли можно отнести их к народам кочевым. Между тем, не зная покоя, мотаются они по всему свету, как неприкаянные…
Все это — известные клише, однако с истинно наследственными национальными чертами евреев общего тут мало. Евреи мечутся с места на место, потому что вечно гонимы, потому что спокон веку земля горит у них под ногами.
С одной стороны, это их исторически сложившаяся беда, с другой — именно в этом гонении состоит их судьбоносный шанс. Нравится это самим евреям или нет. Им постоянно приходится сравнивать, ибо столь же постоянно наблюдают они казовую и обратную стороны жизни. Вначале — глазами новых поселенцев, преисполненных надежд на открывающиеся перспективы, а после — глазами вынужденных беженцев, вдоволь хлебнувших лиха и вконец разочаровавшихся. По причине этого вечного бегства они не успевают прикипать к чему бы то ни было душой и сердцем, обрастать духовной ленью. Их вынуждают сопоставлять, соизмерять все сущее, вечно все взвешивать. В том числе их идеи и представления не имеют, по сути, реальной возможности остывать, каменеть, превращаться в догмы. Беспрестанно подвергаются они анализу и сомнениям, ибо то, что считалось абсолютно истинным в одном месте, в другом представляется абсолютно ложным, и наоборот. Что похвальным было вчера, завтра станет предосудительным. Наша постоянная готовность к перемене мест вынуждает нас быть предусмотрительными и осторожными, наши вечные страхи делают нас недоверчивыми и хитрыми.
Присмотритесь однажды к нам повнимательней: у нас особая манера качать головой. Мы подчеркиваем этим, что по поводу одной и той же проблемы можно сказать «да» и «нет». Мы разговариваем руками. Мы поворачиваем ладони то к небу, то к земле. При этом мы многозначительно поднимаем брови, будто хотим сказать: и так плохо, и так не слишком хорошо.
Я говорил, что мы, евреи, в принципе являемся поборниками религиозной оседлости. Этим я хотел лишь намекнуть, что вечное движение — это наша явь, а покой — наша несбыточная мечта.
Вам, наверное, доводилось слышать, что, прощаясь друг с другом, мы с надеждой и верой произносим: «В будущем году — в Иерусалиме!» Этими словами мы возносим молитву к Всевышнему — положить конец нашему мучительному скитанию. Нашему вечному бегству от одной беды к другой. Мы молим, чтобы однажды Он наконец привел нас в тихую и надежную гавань оседлости.
* * *
Был леденящий декабрьский день. Всю ночь сыпал снег, благодаря чему Станислав, вечно грязно-серый, кокетливо облачился в горностаевое манто. Кучер восседал на козлах и посасывал трубку, давно погасшую от холода.
Весь домашний скарб Розенбахов лежал на подводе плотно упакованными тюками. Рядом с возницей сидели Мальва и Лео, который бережно держал между ногами деревянный штатив с прикрученной к нему фотокамерой.
— В Мюнхене нужно было мне остаться, — ворчал сквозь зубы придворный фотограф, чуть ослабив плотно сжатые челюсти, — и что ищет в этом занюханном Станиславе разумный человек?
— Так ведь и я все время об этом думаю, — безжалостно прокомментировала Яна, — останься ты в Мюнхене, не пришлось бы мне стать твоей женой. Только ведь и там ты никому не был нужен.
Эти злые слова показалась Мальве чрезмерно обидными, и она попыталась смягчить сказанное:
— Всеми фибрами души ненавижу это захолустье. Зато в пятницу мы уже будем в Вене, и до субботы весь этот кошмар будет забыт.
— Это твоя родина, Мальва, здесь ты появилась на свет, — грустно ответила Яна, — и я — тоже.
Подвода тряслась на ухабах, миновала вокзальный мост и дом, в котором квартировал Дашинский.
— Как же много оставляю я в этом городе! — вздохнула Яна, мельком взглянув на шестой этаж.
— Следы на снегу ты оставляешь, — съязвил Лео, не представляя, о чем вздыхает его жена, — да и те исчезнут, как только снег растает.
Яна промолчала, неприязненно стрельнув в сторону мужа уголками глаз. Мальва почувствовала напряженность между родителями и вновь попыталась немного разрядить обстановку:
— Видишь тот балкон наверху? — спросила она отца и уточнила: — Вон тот, с зеленым остеклением и ржавыми решетками?
— Мне это безразлично.
— Там живет Дашинский, мой учитель греческого.
— И это мне безразлично.
— У нас было договорено с ним встретиться сегодня в девять. Сейчас он ждет меня и понятия не имеет, что мы уезжаем навсегда.
— Пусть этот остолоп ждет, сколько ему влезет.
— Что, он тебе не нравится? — шикнула на него Яна. — Ты же совсем не знаешь этого человека.
— Я знаю этот город и его жителей. Все без исключения — бандиты.
— А Вена лучше, папа?
— Миллионный город, дитя мое. Там жили Моцарт и Шуберт.
— Ты всегда говоришь о покойниках, папа, а меня больше интересуют ныне здравствующие. Кто вообще там живет?
— Вся верхушка монархии. Все, что имеет имя и звание. И прежде всего, конечно же, кайзер.
Яна скорчила презрительную гримасу.
— Его Величество, полагаю я, будет лично встречать нас на вокзале, — в очередной раз съязвила она, роясь в сумочке, — с духовым оркестром, конечно же, и с наследником за руку.
— Он единственный в мире глава государства, под рукой которого мы в безопасности. Он называет нас «мои любимые евреи».
— Я так польщена, Лео. И когда ты снова наделаешь карточных долгов, Его Величество оплатит их, полагаю я.
— Ты же знаешь, Яна, в Вене начнется новая жизнь.
— Знаю, Лео, знаю, но ты уже много новых жизней начинал.
— Ну что ты, мама, всего боишься и опять тоску нагоняешь! — огрызнулась Мальва, заметив слезы в глазах матери.
— Я боюсь? А кто же отсюда убегает? Не я — это точно. Кто до смерти испугался студенческой шпаны?
— По-твоему, мне следовало бы драться с ними? — негромко возразил Лео. — Вас бы это устроило, если бы они саблями искромсали мне лицо? Чтобы они убили меня только за то, что я мою дочь в их тряпках сфотографировал? Я еще не сошел с ума! Они хотели меня четвертовать, эти кровопийцы. И что потом? Кто будет кормить мою семью?
Яна продолжала обыскивать свою сумочку. Наконец она нашла то, что искала. Это был амулет, данный ей Дашинским в качестве залога будущей встречи. Она крепко сжала его в кулаке и тихо заплакала. Лео, между тем, продолжал оправдываться, но Яна почти не слышала его слов:
— Я же не драчун — разве не так? Ради моей чести я должен был драться на дуэли, искать секундантов? Добывать оружие? Плевать мне на эту честь. Моя честь — не их, а их честь — не моя. У каждого — своя. Сущий сброд эти утонченные люди. Эти первые, вторые и третьи лучшие семейства. Обычные ворюги они — или я не прав?
— Конечно, папа, ты прав. Только с опозданием. До вчерашнего дня ты готов был лизать им задницы, этим мыльным пузырям. А сейчас ты понял, что весь твой прошлый мир был сплошной иллюзией.
— Ради бога, как же я, по-вашему, должен был поступить?
— Остаться там и сражаться, — ответила Яна, всхлипывая и утирая слезы, — не на саблях, разумеется, но есть и другое оружие.
В это время кучер выбил свою трубку и объявил:
— Мы прибыли на вокзал, prosche Pajnstwa[10], пожалуйте выходить.
9
Из одиннадцати парней Камински Джим Вайсплатт решил создать американскую футбольную команду. Его конкуренты считали, что старик просто рехнулся, и тайком посмеивались в кулак. Работники его втайне жалели босса, пряча сочувственные взгляды и благоразумно воздерживаясь от каких-либо комментариев. Друзья недоуменно покачивали головами, строя молчаливые догадки о том, что это вдруг могло с Джимом произойти. И только молодая супруга его открыто демонстрировала свое отношение к новой затее мужа: она театрально вздымала руки и стенала:
— О, Джеймс, ты накликаешь на нас беду! Если ты не остановишься, я покончу с собой!
Джим, между тем, и не собирался отказываться от своей затеи. Он знал, что делает, и в успехе не сомневался. Он заглядывал в Библию, хотя, если честно, понятия не имел, с какой стороны к религии подступиться. Всего раз в год заходил он в синагогу и бранился после, как извозчик. По-настоящему он не прочел ни одной молитвы, но Библия ему нравилась.
— Потрясающая книга, — восхищался он, — сущий бестселлер, по которому можно учиться жить. Мудро сказано в Писании: мы — народ чемпионов, и самых могущественных противников наших мы будем одолевать до тех пор, покуда не иссякнет в нас уверенность в правоте нашего дела.
— Какого дела? — спрашивали его не раз.
И он всегда отвечал одно и то же:
— Не важно какого! Лишь бы дело было.
И чтобы совсем уж отбросить всякие сомнения, Джим Вайсплатт нанес визит мистеру Гольдблюму. Это было, мягко говоря, из ряда вон, поскольку мистер Гольдблюм был раввином Четырнадцатой улицы и славился своей нетерпимостью к умеренным и полукошерным, как он презрительно называл вечно колеблющихся между «хочу» и «надо». А Джим Вайсплатт не однажды проявлял себя не только полукошерным, но чуть ли не язычником. Сущим грешником, который уплетает ветчину, когда ему этого хочется, ни во что не ставя строгие религиозные предписания.
Тем не менее Джим явился к раввину, чтобы спросить этого святого человека, так ли хорош, по его мнению, задуманный им бизнес — создать еврейскую футбольную команду. Святой человек, тотчас узрев неплохую рекламу для своего гешефта, неожиданно проявил поразительную любезность. Он просверлил Джима проницательным взглядом, многозначительно потер указательным пальцем правую ноздрю, давая этим понять, что напряженно обдумывает ответ на заданный ему вопрос.
— С одной стороны, — выдал он наконец, — это плохой бизнес, потому что можно проиграть. С другой стороны, — продолжал он, выдержав паузу, — это хороший бизнес, потому что очень даже возможен выигрыш. Эти гоим, порази их гром, утверждают, что мы крепки на головы, но совершенно слабы на ноги. Этим они недооценивают наши мускулы, будучи уверенными в том, что раздавят нас одним мизинцем. That is a chance[11], мистер Вайсплатт, — это таки шанс! Что головами нашими, что ногами способны мы положить их на лопатки. Вспомните, что убило Самсона из рода Данова? Он ведь одолел льва, который вдесятеро был сильнее его. Но маленький Давид, этот тщедушный шмокеле на вид, взял-таки крепость Сион! Он разбил Маобитов, стер в порошок сирийцев и убил Голиафа, который насмехался над ним и был вдвое крепче его. Или Дебора, хрупкая женщина, которая выступила против ханаанеев, у которых было девятьсот железных колесниц и такие несметные полчища воинов, что небеса темнели от их бесчисленных копий. Но она победила их, потому что добрые цели преследовала.
— Короче, мистер Гольдблюм, что ждет моих племянников конкретно?
— Твои племянники победят, поскольку служат доброму делу, либо…
— Что значит «либо»? — неуверенно переспросил Вайсплатт.
— Либо они проиграют, если они такие же проклятые грешники, как ты. Они будут валяться на футбольном поле, как конский навоз, если они такие же идолопоклонники, как их дядя, если они будут молиться Мамоне или футбольному мячу.
— Они не молятся ни тому, ни другому. Пролетарской революции они молятся. Не богатство их идеал, а бедность. Они верят в социализм, все они одновременно стоят на земле и парят в облаках. Вот и судите, достойному делу служат они или нет…
— Если они исходят из веры, это достойное дело. Если же только из знаний, из предположений — никчемное. Вера позволяет человеку достичь невозможного, и это возвышает его до Бога. А просто знания приземляют человека, они предписывают ему делать лишь то, что он видит, чем располагает, что способен постичь. Жалкие плоды повседневной суеты, и все это затягивает человека в клоаку. Ты говоришь, они верят в бедность, в победу слабых над сильными, добра над злом, подобно Самсону, Давиду и Деборе. Они не ждут вознаграждения, а сражаются, как евреи из Священного Писания. Они смело бросаются в безнадежную борьбу. Это хорошо. Они победят.
— А если их противники окажутся такими же фанатиками своей веры, готовыми вступить в еще более безнадежную борьбу, чем мои племянники, — что тогда?
— Тогда победят другие, мистер Вайсплатт. А теперь ступай домой, потерянная ты душа. У меня еще много дел…
— О’кей, — ответил Вайсплатт, — я создам футбольную команду. Мои племянники совершенно мишугене — все как один. Самые большие фантазеры от Аляски до Бразилии. Я заработаю на них много золота, и это — главное!
* * *
Ури Таубеншлаг был самым дорогим тренером в Нью-Йорке и потому — именно так судят американцы — он считался лучшим тренером. У него был гимнастический зал в Грамерси Парк, где он пестовал спортивную элиту Соединенных Штатов. Правильнее было бы сказать — вымучивал, поскольку он, добиваясь высших результатов, изматывал своих воспитанников до крови, до потери пульса. Через его ежовые рукавицы прошли самые именитые атлеты страны. Джеймс Ректор, серебряный призер Олимпиады в беге на дистанции больше ста метров, Мартин Шеридан, золотой медалист в метании диска, античный стиль, Георге Доле, чемпион мира по борьбе вольным стилем, Харри Портер, победитель Олимпиады по прыжкам в высоту. Словом, не было ни одного фехтовальщика, ни одного пловца, ни одного бегуна с барьерами, который не познал бы на своих боках шпоры в бешеных гонках в Грамерси Парк. Ури Таубеншлаг называл свою школу Атлетической академией, и уже одно это название гарантировало качество.
Джим Вайсплатт был принят им и спросил напрямую: сколько возьмет Ури за то, чтобы превратить одиннадцать его племянников в первоклассную футбольную команду, способную сражаться за высшие призы. Ури ответил на это, что гонорар его не интересует и он претендует на часть прибыли.
— Прибыли, сказали вы? — Вайсплатт даже подпрыгнул. — С чего вы взяли, что она будет и что вообще они станут побеждать?
— Потому что мои воспитанники всегда побеждают — это во-первых. И во-вторых, вы — известный скряга, и вы не вложили бы ни цента, будь у вас малейшие сомнения в успехе.
— Ну хорошо, — согласился Вайсплатт, — я предлагаю десять процентов.
— Сходите лучше к моим конкурентам, мистер Вайсплатт!
— Двенадцать, но вы хватили через край.
— Наймите О’Брайна, он дешевле меня.
— Пятнадцать, но это мое последнее слово.
— Пятьдесят, мистер Вайсплатт, и ни пунктом ниже!
Выбора у Вайсплатта не было, и он подписал контракт. Он был до такой степени впечатлен размером маржи, которую выжал у него Таубеншлаг, что теперь и сам поверил: братья Камински победят!
* * *
Ровно через год Джим Вайсплатт появился в гимнастическом зале в Грамерси Парк и был потрясен. За двенадцать месяцев яйцеголовые интеллигентики превратились в крепких мускулистых парней. Это понравилось ему особенно потому, что, как всякий американец, он привык больше всего полагаться на примитивные достоинства тела.
Это были они, его племянники. Они упражнялись на гимнастическом коне и на брусьях, на перекладине и канате, на гимнастической стенке и трапе. Перед ним стоял крепкий, как камень, Хершеле, который изготовился для сальто. Там совершал прыжок согнувшись через коня пышущий здоровьем Бэр. Хрупкий Бенцион превратился в могучего штангиста. Педантичный хлюпик Шлойме стал походить на геркулеса, который, не чувствуя усталости, колотил боксерскую грушу.
— Парни в отличной форме, мистер Таубеншлаг! — с восторгом произнес дядя, и глаза его заблестели.
— Через год они достигнут высшего класса, — буднично ответил тренер.
— Я забираю их, — настаивал дядя, — для меня они уже хороши.
— Через двенадцать месяцев, — не уступал наставник.
— Я заплатил вам уже сто семьдесят тысяч долларов, сэр, я снял для парней квартиру — внизу, в Бронксе. Они будут столоваться у Вольфов, на Пятой авеню. Сегодня им понадобится врач, завтра — стоматолог. Если через три месяца они не начнут играть, я банкрот.
— Через двенадцать месяцев, сказал я, и ни днем раньше!
— Через три, и если вы не укладываетесь, меняйте методику!
— Моя методика признана во всем мире.
— Для гоим, мистер Таубеншлаг, а не для племянников Джимми Вайсплатта. Мои бойз — это вам не кто-нибудь! Довольно их натаскивать.
— А что — молиться на них прикажете?
— Вы должны их мотивировать — понимаете?
— Нет.
— Если вы сумеете мотивировать этих парней, через три месяца они одержат победу в первой же игре, а еще через полгода — в четвертьфинале.
— И как намерены вы это сделать, мистер Вайсплатт?
— Я не атлет, мистер Таубеншлаг, но им нужно внушить, что не футбольные баталии предстоят им, а классовая борьба. Я должен убедить их, что противник готовит — как это выразиться — империалистический заговор. А еще, скажу я, их противники — реакционные свиньи, и не о кубке идет речь, а о мировой революции.
— А про маржу в пятьдесят процентов должен я им рассказать? Вся эта чушь стоит пять пунктов дополнительно.
— Два пункта, мистер Таубеншлаг, и делайте, что я требую! Даю вам три месяца.
* * *
1908 год был богат на события. Стараниями и упорством Пауля Эрлиха был изобретен знаменитый Сальварсан, первый химиотерапевтический препарат против сифилиса. Фредерик Кук первым в истории достиг Северного полюса. Рокфеллер учредил полмиллиона долларов на развитие науки. Вайсплатт подписал дополнительный контракт о политическом мотивировании первой еврейской футбольной команды Америки, а Янкель Камински первый раз в своей жизни пошел в театр.
Я сказал об этом так просто, будто о чем-то само собой разумеющемся, а между тем в семейной истории это стало событием исключительным. Тотальный перелом, о котором без волнения невозможно говорить. Разрыв с Иеговой в известном смысле, потому что театр — это святотатство. В Священном Писании об этом не сказано, но это все же святотатство. Театр — есть искусство подражания, а это уже грех, потому что театр пытается имитировать Создателя или, что еще хуже, поправлять его. Даже самый продвинутый раввин разъяснит вам, что театральное действо — это дерзость, и человеку не подобает лицедействовать по поводу Божьего промысла, тем более — подсказывать Всевышнему, как, дескать, должен выглядеть сотворенный им мир. Каждый еврей чувствует и знает это, и не престало нам разглагольствовать на эту тему, тем более — подвергать сомнению. Нам не нужно доказывать, что комедианты — народ сомнительный. Мы это знаем — и баста.
И для Янкеля все это было само собой разумеющимся, хотя он над этим никогда не задумывался и тему эту никогда ни с кем не обсуждал. Это было убеждением на уровне подсознания: ничего настоящего на сцене происходить не может. И уж во всяком случае, ничего сколько-нибудь полезного. А все, что не имеет пользы, — от лукавого. О!
10
Было бы неправильным утверждать, что вся предыдущая жизнь Янкеля Камински — до того злополучного посещения театра — являла собой образец рациональности и полезности. Его таскание по кабакам и доступным девкам полезным и, тем более, богоугодным делом не назовешь. Но сам он об этом не задумывался. Не имея ни малейшего представления о служителях Мельпомены, он тем не менее глубоко презирал их, априори причисляя всю их братию к фиглярам, балагурам и трюкачам. Эти люди совершенно не соответствовали ни его жизненным принципам, ни вкусу его, и потому были для него издержками общества, в высшей степени перехлестом.
Сам он был старым еретиком. Все грешное влекло и возбуждало его, он тянулся к греху, словно околдованный самим дьяволом. Самое большее, что вызывали в нем заповеди, это сарказм, он высмеивал их и крайне редко появлялся в синагоге.
Невзирая на это, посещение театра он считал занятием неподобающим. Шесть десятков лет кряду удавалось ему десятой улицей обходить все, что имело хоть какое-то отношение к сцене.
На этот раз, в нарушение собственных принципов, он переступил порог театра. Повод был тривиальным: на сцене появилось молодое дарование, которое слухи возвеличили до самой восхитительной актрисы всех времен и народов. Разумеется, это было большим преувеличением, как, собственно, и все остальное, что имеет отношение к шоу-бизнесу.
Должен заметить между прочим, что весь наш род обвиняют в тяготении к театру и неизлечимой мании к преувеличениям. Честно говоря, не вижу в этом ничего плохого. Напротив, в преувеличении есть некая тенденция затушевать то, что лежит на поверхности и бросается всем в глаза, выдвигая при этом на передний план глубинную суть вещей. Разве поэзия не являет собой известную форму преувеличения? Или живопись?
Таким образом, если исходить из этого утверждения, любая орхидея с голубыми прожилками являет собой восхитительнейшую актрису всех времен, хотя особым впечатлением, которое она производит на нас, она обязана исключительно обаянию своей неординарности. Это так, и нет в этом прегрешения против истины. Ни в малейшей степени.
Актриса эта была феноменом — никто не спорит. У нее были изумрудного цвета глаза, огненно-рыжие волосы и голос, исполненный страстного ожидания, похожий на зов дрозда, струящийся сквозь майскую ночь.
Газеты, будто состязаясь друг с другом, захлебывались от превосходных степеней: «Она не копирует жизнь, а представляет ее в совсем ином измерении. Любую роль возносит она к вершинам сверхъестественного и мистического. Порой кажется, она обжигает вас словами, которые, подобно палящему зною, вытекают из ее горла. Она проливает сладкое волнение, лихорадочное беспокойство на каждого, кто прислушивается к словам, источаемым ее устами…»
И так далее, и тому подобное. Вся Варшава только о ней и говорила, хотя сравнительно немногим посчастливилось лично насладиться ее игрой. Тысячи мужчин были влюблены в нее. Рахель Файгенбаум — таково ее настоящее имя — была непревзойденным шлягером сезона.
Все места на спектакли с ее участием, за исключением лож для вельможных особ, были распроданы на месяц вперед. Уже одно это было достаточным основанием для Патриарха, чтобы непременно попасть на ее спектакль. «Если нет ни единого билета, — рассуждал он, — Янкель Камински просто обязан доказать всем, что заполучит лучшее место в зале. Ибо нет ничего такого, что Янкелю Камински было бы недоступно».
— Желаете место в ложе? Извольте! Можем предложить и ложу. Сколько стоит? Сто рублей.
— С каких это пор место в театре стоит таких денег? Что? Вы говорите, Вайцман уплатил сто тридцать рублей? Тогда дайте мне место за сто сорок. Впрочем, можно и дороже. А что дают? «Ромео и Джульетта»? Понятия не имею. Никогда не слышал. Ни его не знаю, ни ее. Вы хотите знать мое имя? На что это вам? Ах, так, тогда пришлите билет ко мне в контору, только — прошу вас — без шумихи, если можно. Да, Янкелю Камински, улица Фрета, четырнадцать…
* * *
Театр «Варшавский» находился на улице Новы Свят и был одним из самых фешенебельных строений в центре города. Как фасад с его высокими окнами в стиле барокко, так и сверкающие черные колонны были исполнены достоинства и благородства.
Янкель Камински входит в сверкающее зеркалами фойе, проходит в гардероб и сдает пальто. Поднимается по роскошной лестнице и целиком погружается в фейерверк запахов: жасмин и цветущий миндаль, фиалки и розы перемешаны с пьянящим ароматом, который исходит от декольтированных дам. На тонких гранитных пьедесталах красуются статуи импозантных мужчин, одни имена которых вызывают благоговение: Аристофан, Эсхил, Шекспир, Мольер, Пушкин. Редкие имена, которые не звучат на бирже и не значатся в торговом реестре города. В таком окружении просто невозможно быть варваром, примитивом, и Патриарх, к собственному своему удивлению, приосанился. Он взял программу и когда наконец занял свое место в ложе, сам того не желая, принялся ее листать…
Так начинался тот памятный вечер, который для моей семьи обернулся последствиями самыми невероятными.
Когда точно в восемь занавес степенно пополз вверх, Янкелю показалось, что он попал на другую планету. Актеры двигались по сцене с необыкновенной грацией, будто они были невесомы. Они не говорили, а декламировали с подчеркнутым величием. Как причудливые экзотические птицы, носились над залом слова, которые хотя и были Янкелю знакомы, но никогда и ни при каких обстоятельствах не слетали с уст такого человека, как он.
Ромео, о, зачем же ты Ромео! Покинь отца и отрекись навеки От имени родного, а не хочешь — Так поклянись, что любишь ты меня, — И больше я не буду Капулетти.Патриарх неодобрительно покачал головой. Он перегнулся через парапет и обратился к даме из соседней ложи:
— Я не понял, что она хочет: фамилию поменять — или как?
— Пссс!
— Ее зовут Джульетта. Очень красивое имя — зачем его менять?
— Тихо! Вы же в театре!
— Я только сказал, что ее зовут Джульетта.
Со всех сторон по рядам поползло злобное шипение. Янкель предпочел прикрыться лорнетом.
Одно ведь имя лишь твое — мне враг, А ты — ведь это ты, а не Монтекки. Монтекки — что такое это значит? Ведь это не рука, и не нога, И не лицо твое, и не любая Часть тела. О, возьми другое имя! Что в имени? То, что зовем мы розой, — И под другим названьем сохраняло б Свой сладкий запах! Так, когда Ромео Не звался бы Ромео, он хранил бы Все милые достоинства свои Без имени. Так сбрось же это имя! Оно ведь даже и не часть тебя. Взамен его меня возьми ты всю!Это уже было выше понимания Янкеля. Имя — оно либо есть, либо его нет. Она зовется Джульеттой и хочет имя свое сменить. Его зовут Ромео, и ему тоже нужно зваться по-другому. И все это потому, что человек влюблен. Так в чем же смысл всей этой болтовни? Старику захотелось покинуть театр, но он все же остался.
Да они просто пьяны, ворчал он, нормальные люди так не разговаривают. О чем они там бормочут? Кто скажет? Наверное, все они что-то хотят, но я совершенно не понимаю, чего им не хватает? А звучит все красиво. Будто мед льется в уши, только говорят они очень уж напыщенно. Почему не сказать просто и прямо — что они имеют в виду? Наверное, они смогли бы, если бы захотели, но они чувствуют, что привычными словами всего этого не выразить. Может быть, сердца их так полны, что повседневного языка уже не хватает. Священная Книга тоже не повседневными словами написана. А может, лучше бы повседневными ее написали? Тогда и я проникся бы.
Я спрашиваю себя. Было ли мое сердце хоть раз полным? Один раз, пожалуй, было. Когда мой младший появился на свет. Хершеле, храни его Бог. Это была самая черная ночь в моей жизни. Я думал, Ноэми не выкарабкается, а с ней и ребенок погибнет. Ноэми лежала в постели, уставившись пустыми глазами в потолок. Ребенок не дышал, а прерывисто хрипел, все тело его было покрыто серыми струпьями. Как сейчас, помню: я просил — Ноэми, поживи еще хоть пару лет, не покидай меня. Она ответила погасшим голосом: «Для чего?» Страшное слово это ошеломило меня. «Для чего?» Я подбежал к окну, чтобы распахнуть его. Мне захотелось сейчас же увидеть реку, которая протекала рядом, и облака над городом. Мне хотелось кричать, но все звуки комом застряли в моем горле, и я не смог вытолкнуть их наружу. Тогда я пустился в пьяный загул. Трое суток в беспробудном угаре. Когда очнулся от дурмана, увидел Ноэми. Она сидела, откинувшись на спинку стула, вся неподвижная. И только руки ее ритмично подергивались: она вязала. Это были совсем крохотные варежки. И я понял, что Хершеле выжил. Что оба они живы. Тогда я опять побежал к окну. Мне хотелось кричать, будто я помешался вдруг. На этот раз — от счастья, но я опять не смог проронить ни звука. Голос снова отказал мне, и лишь в висках моих бился все тот же страшный вопрос: «Для чего?» Я вдруг понял, что имела она в виду! Никогда в жизни я не целовал ее. Я сделал ей шестнадцать детей, но мы никогда не были нежны друг с другом. Зачем? Она все равно не любит меня. Не за что ей меня любить.
Как же так? Почему? Для чего? Этот театр все перевернул в моей голове.
Мое лицо под маской ночи скрыто, Но все оно пылает от стыда За то, что ты подслушал нынче ночью. Хотела б я приличья соблюсти, От слов своих хотела б отказаться, Хотела бы… но нет, прочь лицемерье! Меня ты любишь? Знаю, скажешь: «Да». Тебе я верю…Ни разу в жизни не спросила она, люблю ли я ее. Она не хотела знать этого. Если бы она одно-единственное слово единственный раз произнесла, я мог бы стать другим человеком. Я — родник, засыпанный камнями. Дремучая окаменелость. От сыновей своих я отрекся. Моя жена играет со мной в молчанку, и скоро пробьет мой последний час. Но я не хочу еще уходить. Я промотал мою молодость. И я обязан наверстать ее. О, мой Бог, это я, твой блудный сын, — не отрекайся от меня…
Янкель Камински улыбался всем этим соловьиным трелям на сцене, но вдруг ощутил горячее желание сжать в объятиях эту райскую птичку. Ему показалось на мгновенье, будто она сказала что-то именно ему. Он сидел один в своей роскошной ложе за сто сорок рублей, и она, эта птичка, была совсем близко. Он был уверен: на него она смотрит — на него! Такого с ним еще не происходило. Она ласкала ему сердце, прокралась в душу. Она встряхнула все его существо от шестидесятилетнего сна.
Он поднялся вдруг со своего места и на цыпочках вышел из ложи. Тихо, тихо, чтобы уходом этим посреди действа не огорчить ее. В коридоре сидел заспанный смотритель. Янкель сунул ему в руку двадцатку:
— Принесите мне двадцать роз, — велел он.
— Какого цвета, господин барон?
— Красные, желтые, белые — все равно, только, прошу вас, поторопитесь!
Слова «пожалуйста» не было в его лексиконе, но на сей раз чуть ли не ангельским тоном обратился он к служителю, привыкшему к собачьему обращению и от которого за версту несло сивухой и карболкой.
Когда он вернулся в свою ложу, он чувствовал себя моложе на двадцать лет. Что-то вдруг круто переменилось в его жизни. Отныне он целиком принадлежал этому дому с его торжественными зеркалами в фойе, с его необыкновенными запахами, и с этой райской птичкой, которая щебечет и манит:
Приди, о ночь, приди, о мой Ромео, Мой день в ночи, блесни на крыльях мрака Белей, чем снег на ворона крыле! Ночь кроткая, о, ласковая ночь, Ночь темноокая, дай мне Ромео! Когда же он умрет, возьми его И раздроби на маленькие звезды: Тогда он лик небес так озарит, Что мир влюбиться должен будет в ночь И перестанет поклоняться солнцу.Ни один человек так не говорит — он был в этом уверен. Но что это меняет? Джульетта так говорит, и этого достаточно. И вообще, нет и не было никакой Джульетты. Ее зовут Рахель Файгенбаум. Она — обыкновенная девочка из плоти и крови и тоже не должна так говорить. Это невозможно. Она должна, как все, есть и пить. Платить за аренду жилья, делать покупки, общаться с пекарем и молочником.
Это лишь и утешало старого одуревшего бонвивана: только на сцене произносят подобные слова — не в жизни! Она совсем не ангел, слава богу, а обыкновенная женщина, и значит, ею можно просто владеть. И он захотел владеть ею — безраздельно, как владеет он всем прочим, что принадлежит ему и чего душа его пожелает. Она должна принадлежать ему.
Дверь его ложи тихонько открылась, и смотритель подал Янкелю букет роз. На сцене как раз завершался последний акт, герцог произносил свои последние слова:
Нам грустный мир приносит дня светило — Лик прячет с горя в облаках густых. Идем, рассудим обо всем, что было. Одних — прощенье, кара ждет других. Но нет печальней повести на свете, Чем повесть о Ромео и Джульетте.Занавес опустился. Двое влюбленных были мертвы. Удручающая тоска повисла над залом. Сердца зрителей замерли. Никто не посмел проронить хоть слово, и все только ждали, затаив дыхание: вот сейчас занавес раздвинется и неземная девочка выйдет на поклон. Тысяча зрителей поднялась как один. Зал взорвался громом аплодисментов, будто внезапно после удушливого томления над залом разразился неистовый ливень.
И чудо свершилось: Джульетта восстала из мертвых. Она устало улыбалась толпе, которая устроила ей дикую овацию.
Могучий ураган страстей вырвал Патриарха из его кресла, и он стал хлопать в ладоши, как одержимый, хотя и сам не мог бы сказать, кого осыпает он аплодисментами — мертвую Джульетту или здравствующую Рахель. А может, и самого себя, который в тот вечер краем глаза впервые заглянул в другой мир, неведомый ему прежде. Стоя вместе со всеми, он аплодировал дольше остальных.
Публика стала уже покидать зал, когда молодая актриса в последний раз появилась перед занавесом. Она была приятно удивлена пылкостью Янкеля, который, собрав в кулак все свое мужество, бросил к ее ногам огромный букет живых роз.
— В каждой розе — частица моего сердца! — крикнул он вслед полетевшему букету.
Неожиданный поклонник был одарен взглядом, полным восторженной признательности.
С того памятного спектакля Янкель каждый вечер сидел в той же самой ложе. Множество раз переживал он смерть бессмертной пары влюбленных, но всякий раз волшебство театрального действа захватывало его целиком, будто все это проходило перед ним впервые.
Не стану утверждать, что в нем произошли решительные перемены. Для этого он был человеком слишком бывалым и отвердевшим. Он продолжал оставаться все тем же — или, скажем, почти тем же варваром, который пьянствовал по притонам и волочился за каждой юбкой. Он продолжал оставаться домашним тираном. Он по-прежнему восседал в конторе своей фабрики и ощупывал молодых работниц плотоядным взглядом рабовладельца. Он продолжал твердить, что сыновей у него не было и нет. В собственном сознании он оставался застывшей в небе звездой и мог позволить себе все, что ему вздумается.
Верхняя левая ложа театра теперь принадлежала ему практически безраздельно, потому что он зарезервировал ее для себя до конца сезона. Каждую ночь бросал он на сцену букеты роскошных роз, когда его несравненная выходила на поклоны, хотя ее искусство перевоплощения давно уже не вызывало в нем прежнего пиетета. Страсти его сделались приземленными. Теперь он больше сосредоточивался на ее теле, на ее белоснежной коже. Он мечтал уже о ее губах, шее, груди. Он решил заполучить эту женщину — во что бы то ни стало, а все, что втемяшивал он в свою голову, рано или поздно должно было свершиться.
И вместе с тем его все чаще стали посещать страхи. Еще совсем недавно он не задумывался о том, что далеко не молод, что остается ему совсем немного и что по этой причине все новые и новые ограничения гирями повисают на его ногах. Рахель напомнила ему обо всем этом. И открыла ему глаза на то, что было для него новым. Прежде он не упускал случая потрепаться со своими собутыльниками о женщинах, которыми обладал или обладать которыми был бы не против. Теперь он не только не касался этой щекотливой темы вообще, но и всячески скрывал новое состояние своей души. Он был влюблен. Мучительная страсть переполняла всю его сущность, но он не смел — никогда прежде с ним такого не случалось — даже заговорить с предметом своей страсти.
По-прежнему после каждого спектакля бросал он к ее ногам роскошные букеты роз, сопровождая их громкими комплиментами. Но истинные размеры его чувств скрывались за неизменным громом общего восторга. Его исключительные проявления невозможно было как-то выделить из общего потока тысяч восторженных комплиментов, в которых молодая звезда буквально утопала. Со стороны он выглядел старым чокнутым фантазером, который раскатал губу, будучи уже давно беззубым.
Это было заблуждением. Он был еще довольно зубаст и очень даже мог укусить. В прямом смысле и переносном. Он легко разгрызал челюстями орехи. Он обладал медвежьей силой. И не просто так блажил он, перевешиваясь через барьер своей ложи и размахивая кожаной кепкой: «Я хочу тебя, ты, цветок персика». Или: «Я целую твои ресницы, прекрасное дитя!» Или вовсе запредельно, как это было в один из вечеров: «Живи вечно, моя изюминка, мой миндаль!» И если из соседней ложи в его адрес слышалось недовольное шипение, чтобы он, дескать, вел себя прилично, он рычал еще громче: «Сто лет да не смолкнут в твою честь литавры и трубы!»
* * *
Так продолжалось всю зиму, до первых весенних дней. В городе Янкель сделался притчей во языцех. Один бульварный листок поместил даже карикатуру на него. Уже появилось немало людей, которые шли в театр не ради спектакля, а чтобы поглазеть на забавные выходки Янкеля Камински, этого выживающего из ума старого хрыча.
Поначалу все это выглядело просто забавным и даже вносило некоторое освежающее разнообразие в монотонную жизнь театра тех лет. Однако постепенно дело приняло иной, неприятный оборот. И если вначале вся эта история вызывала лишь язвительные замечания, то к началу весны со всех сторон доносилось уже откровенно злобное шипение, которое, смешиваясь с неприязненными смешками, вылилось в конечном итоге в грязную волну негодования. «Типичный жид, — изрыгала взбудораженная молва, — похотливый и невоспитанный! Что вообще ищет этот разошедшийся павиан в нашем театре?» О том, что Рахель — тоже еврейка, все как-то забывали: слишком юна и прелестна она для того, чтобы задумываться об этом. И лишь когда восторженность его переросла в откровенную навязчивость, начались неприятности и у нее.
Однажды — это было уже в марте — Патриархом овладело вдруг непреодолимое желание положить конец своим платоническим воздыханиям и перейти к активной атаке. Под ногами трещал лед, еще покрывавший набережную Вислы, теплый ветер носился над городом, бледная луна едва пробивалась сквозь плотные облака.
Янкель был твердо уверен: все случится либо сейчас же, либо уже никогда. С трепещущим сердцем отправился он в театр. До боли стиснув челюсти, стал подниматься по лестнице. Именно в тот вечер персона его была удостоена внимания неугомонных сограждан более, чем когда-либо прежде. Вопреки обыкновению, он впервые не стал бросать на сцену букета роз. Не стал выкрикивать привычные комплименты в адрес актрисы, что также не прошло незамеченным, вызвав недоуменное покачивание головами. По залу пробежала тень недовольства и разочарования, и многие решили для себя, что Янкелю просто не понравилось нынешнее представление. Рахель, привыкшая к шумным демонстрациям чудаковатого миллионера, даже почувствовала укол в груди. Что бы это значило? Она плохо играла сегодня? Или она утратила прежнее свое обаяние? Ей было ясно: вечер для него пропал. Раздосадованная вернулась она в гардеробную и недовольно взглянула в зеркало. Ее отражение ей очень не понравилось. Окончательно расстроившись, она наспех переоделась и сняла с лица грим. Рахель была самой себе неприятной — бесцветной и заурядной.
— Я играла сегодня бездарно, — призналась она старой гардеробщице Рыхлитцовой, которая помогала ей раздеваться, — сплошной пустоцвет!
— Вздор, дитя мое, не пустоцвет ты вовсе, а ягодка-малина со сливками.
— И выгляжу я, будто кусок подсохшего сыра. Ненавижу себя такой!
— Бог свидетель, девочка, ты выглядишь, как июльская вишенка.
— Не нужно мне льстить, я знаю лучше — хороша я была или нет. Сегодня я была безобразна, и зрители заметили это.
— Люди, люди… Ты же знаешь, сегодня полнолуние, у всех поэтому приступ меланхолии. Ты сама себе накручиваешь всякие страсти.
— Всего восемь занавесов было у меня сегодня. Вчера было девять.
— Ах, Рахель, лучше надень что-нибудь на себя, иначе простудишься.
В это время распахнулась дверь, и в гардеробную решительно вошел мужчина. Похоже, он был не в себе. В петлице его пальто торчала гвоздика. Вокруг шеи было обмотано шелковое кашне. Из нагрудного кармана выглядывали золотые часы. Двумя пальцами судорожно сжимал он роскошный кожаный футляр. Войдя, он отвесил ей глубокий поклон, насколько позволяла ему его застарелая подагра.
— Я, старый еврей, имею честь боготворить вас всю и каждую вашу клеточку в отдельности.
— Что вам угодно, господин…
— Камински, — тут же подсказал он, — меня зовут Янкель Камински. У меня зуб на зуб не попадает, я весь трясусь, как тюлень. Пять месяцев подряд я посылаю вам розы.
— Здесь гардеробная, prosche pana, и вы не могли не заметить, что я не совсем одета.
— Совсем или не совсем… Вы околдовали меня, и я думаю о вас дни и ночи напролет.
— У меня не было намерений кого-либо принимать сейчас, господин, извольте удалиться!
— Эти бриллианты — настоящие, мадемуазель Файгенбаум, — прошептал Патриарх, раскрыв футляр и достав из него изумительное колье, — такие же настоящие, как удары моего сердца, когда поднимается занавес, и на сцене появляетесь вы. Такие же настоящие, как вода в реке и звезды в небе, как эти искры в ваших изумрудных глазах. Умоляю вас…
— Выведи его отсюда, Рыхлитцова, и немедленно! Я не намерена тратить на него время.
Янкель бухнулся на колени.
— Почему вы такая жестокая, мадемуазель Файгенбаум! — прошептал он, протягивая девушке колье.
— Мы не знакомы с вами, prosche pana, и вы здесь ничего не потеряли…
— Мое сердце потерял я здесь и разум — вместе с ним. Я пришел только затем, чтобы вручить вам этот подарок. Никакой другой красоты нет в этом городе, кроме вас…
— В последний раз требую: сейчас же уйдите, или я буду кричать!
— Примите только мой подарок, и я исчезну.
— Помогите!
— Я хочу сказать вам…
— Помогите!!!
— …что я умру от тоски.
— Сейчас что-нибудь полетит вам в голову!
Дверь распахнулась, и в гардеробную вошел Сокорский. У него был совершенно голый череп, лицо его, начисто лишенное растительности, было розовым, как у новорожденного младенца. С его носа стекали крупные капли пота. Сокорский был управляющим театра — коммерческим директором, как он себя называл, и считался мастером распутывания сложных житейских узлов.
— Вы звали, мадемуазель Файгенбаум?
Молодая актриса тряслась всем телом: в комнате было скверно натоплено, и она к тому же была до такой степени возбуждена, что не могла вымолвить ни слова.
— Этот медведь хочет нас изнасиловать, — вместо нее ответила гардеробщица.
— Чем, prosche pana, — сердито возразил Янкель, — этими бриллиантами?
— Чем же еще, вы, чудовище! В вашем возрасте — кто как может, тот так и насилует!
— И что — у него это получилось? — спросил Сокорский, презрительно разглядывая коленопреклоненного Патриарха.
— Почти, — неуверенно ответила Рыхлитцова, — еще бы чуть-чуть и…. Долго ли устоишь, когда перед твоим носом крутят драгоценными камнями!
— Я так и предполагал, пан Камински. Мы давно — вот уже несколько месяцев — присматриваемся к вам. Эти ваши розы после каждого спектакля переходят всякие границы. Весь город потешается над вами, и не мудрено: каждый вечер устраиваете вы в нашем театре такой балаган — уму непостижимо! Вы выставляете ваши чувства на всеобщее обозрение, будто исподнее на бельевой веревке. Всему свету оглашаете вы секреты ваших старческих слабостей. Вы утомляете нашу публику вашей вопиющей безвкусицей, и, что самое скверное, вы компрометируете талантливейшую актрису. Мало того, вы врываетесь в ее гардеробную, где вас вовсе не ждут, и потому дама, мягко говоря, не совсем одета, и смеете делать ей безнравственные предложения…
— Я же сказал, что питаю к ней особую страсть, — тяжело дыша, Янкель поднялся наконец из своего двусмысленного положения, — это вы находите безнравственным, вы, ходячий бильярдный шар?
— В вашем возрасте это непристойно!
— Я же сказал, — продолжал защищаться Янкель, — что боготворю ее. Разве это непристойно?
— В вашем положении — бесспорно. Вы ведь человек семейный. У вас шестнадцать детей, половина из которых находится в изгнании. Мы все о вас знаем, и потому я спрашиваю: неужели вам не совестно?
— Я тебя раздавлю, ты, вошь лобковая!
— Я позабочусь о том, чтобы вас задержали, вы, сексуальный маньяк. Вход в это помещение посторонним строго запрещен. Об этом большими буквами написано на двери.
— Посторонним, говорите вы? Я не посторонний вовсе, а вот вас отсюда уже вышибли.
— Что вы тут мелете? Совсем рехнулись! Немедленно покиньте это здание, иначе я вызову полицию!
— Ну, это мы еще посмотрим, ничтожество!
С этими словами Янкель достал из кармана жилетки конверт, торжественно раскрыл его, извлек на свет какой-то документ и, церемонно развернув его, стал помахивать бумагой перед самым носом Сокорского.
— В три часа дня, — с расстановкой заявил он, — весь этот театр перешел в мою собственность. Это значит, я — единственный его владелец. Я купил его за восемьдесят тысяч рублей наличными. Кто здесь не посторонний, так это я один. Больше никто. Теперь вам понятно, вы, насекомое? Я теперь здесь всюду самый главный — на сцене и в гардеробе. Первое мое распоряжение — вы уволены. Я вышвыриваю вас. Вон!
В изумрудных глазах Рахели сверкнула молния.
— Если вы изгоняете Сокорского, вы, насильник, я ухожу следом, — заявила она дрожащим от негодования голосом, — и вы можете закрывать эту лавочку. Без меня — это всего лишь жалкое хранилище хлама, а не театр. Сокорский остается.
— Вот как? — уже не столько гнев, сколько ревность перехватила Янкелю горло, и он окончательно закусил удила. — Да кто он такой, это ничтожество, — жених он вам или кто?
— Он мой коллега. Вам известно, что это такое? Наемный работник, получающий жалованье, как и я. Мы с ним на одной стороне. А вы — на другой.
Янкель не знал, что ему ответить. Эта девчонка говорила те же слова, что и его сыновья. Он стал искать подходящий ответ на них и не находил.
— Как вам будет угодно, — выговорил он наконец, — пусть он остается, этот чурбан, но при одном условии.
— И при каком же условии? — спросила девушка, стараясь скрыть усмешку. Она поняла, что выиграла эту схватку.
— При условии, что вы не будете так жестоки со мной.
— Что вы под этим подразумеваете?
— Что вы примете этот подарок и не будете смотреть на меня так строго.
— Уж не вообразили ли вы себе, пан Камински, что, прикупив этот театр, вы и меня вместе с ним заполучили в собственность?
— Ничего подобного я себе не воображаю. Я старый осел, мадемуазель Файгенбаум. Я влюбился в вас по уши. Возьмите эти бриллианты и можете бросить их в реку. Подарите их попрошайке. Делайте с ними что хотите, только возьмите это колье, умоляю вас!
— Хорошо, я возьму, но вы сейчас же уйдете отсюда.
— Могу я приходить сюда после?
— Вы — владелец всего этого и вправе делать все, что вам заблагорассудится. Но стучаться в дверь вам придется все равно.
— И вы опять будете улыбаться?
— Если мне будет того хотеться. А сейчас — уходите. Уходите же!
11
Если кто и знает, сколько денег было вбухано в братьев Камински, чтобы сделать из них футболистов, так это, пожалуй, только спортивный наставник олимпийцев Ури Таубеншлаг. Восемнадцать месяцев кряду лепил он из них команду победителей, глубоко знал подноготную каждого из них, словно это были его родные сыновья. Он вырвал все, что прежде составляло их индивидуальность, и довел честолюбие парней до точки кипения. Выговорив себе пятьдесят два процента прибыли от суммы их будущего гонорара, он предопределил успех всей этой затеи и, следовательно, отличный гешефт для себя самого. Этот хитрый еврей не торопился выпускать парней на поле, настаивая на том, что они еще недостаточно готовы к жестоким схваткам с соперниками.
— Эти парни слишком много думают, мистер Вайсплатт, — объяснял он их дяде, которому не терпелось увидеть ребят в деле, — в политике это, может, и не плохо — не могу судить, но в футболе человеку нужны ноги — понятно? И если ваш Бэр, к примеру, большой философ, огромный вопросительный знак, который вечно о чем-то спрашивает, то брат его Шломе — такая же большущая зануда. Педант, буквоед, который все знает лучше других. Ицхак у нас комик. Когда нужно бить по воротам, он отпускает шуточки. Мордехай был бы уже о’кей — не парень, а паровой каток, но он чудовищно туп! Мойше все еще остается научным изыскателем, а Лазик — поэтом, который вечно витает в облаках. Ваш Адам до такой степени сентиментален, что искренне сочувствует своим соперникам, когда те плошают. Бенцион — теоретик, Аарон обладает золотыми пальцами, но и деревянными ногами при этом. А Хершеле ваш — вообще не спортсмен, а кавалер.
— Что значит кавалер, мистер Таубеншлаг?
— Задайте этот вопрос девкам, с которыми он якшается. Они знают лучше меня.
— Я отлучу его от этих девок — в этом можете на меня положиться. Но я хочу знать, одержим ли мы победу.
— Я похож на гадалку, мистер Вайсплатт? Я могу лишь утверждать, что сверху у них слишком много, а снизу — пока еще слишком мало.
— Я хочу лишь знать, выиграем ли мы. Я, знаете ли, бизнесмен, а не филантроп.
— Не исключено, что мы выиграем.
— Вы получаете пятьдесят два процента, сэр. При таком куше ваши ответы должны быть более конкретными.
— Конкретные ответы — еще дороже. Я говорю то, что знаю наверняка.
— Мистер Таубеншлаг, слушайте меня внимательно: все, что им еще нужно, это политическая мотивация. Без этого мы проиграем.
— Как это делается, мистер Вайсплатт?
— Я растолкую это вам!
* * *
Ури Таубеншлаг был технократом старой школы. Его интересовало лишь то, что имело отношение к его профессии, все остальное было ему глубоко безразлично. О политическом мотивировании он не имел ни малейшего понятия. Его воспитанники были вне партий. Они поднимали тяжести, упражнялись на турнике и делали ножницы на спортивном коне, но о пролетарской революции они ровным счетом ничего не слышали. И зачем, собственно? У них все шло гладко, и каждый день они сжирали по одиннадцать тысяч калорий.
С братьями Камински все было иначе. Хуже того — вообще все наоборот. Поскольку их победа была в значительной мере сомнительна, тренер как бы влезал в их шкуры и проводил с ними такого рода беседу:
— Завтра вы играете вашу первую игру. К тому же — с этими проклятыми «Голдстарз». Мне не нужно объяснять вам, кто они, эти «Золотые звезды». Их финансирует Ронни Мак-Корник, а этот Ронни Мак-Корник открыто заявил в Сенате, что не намерен впредь терпеть евреев в Соединенных Штатах. Что он будет изгонять нас огнем и мечом, потому что все мы — свиньи, подрывающие устои государства. Так заявляет он. А вы — первая в Америке еврейская футбольная команда, и потому вы обязаны выиграть! Вы должны показать этому старому штинкеру, этому вонючему негодяю, что нас так просто не вышвырнешь. Что мы не дадим себя в обиду. Я желаю вам мазлтов, парни, счастья вам! Порвите его в клочья, этого антисемита! К тому же, бойз, вы — первая социалистическая команда. Через год мы будем избирать нового президента. В 1908 году рабочая партия набрала всего восемьсот тысяч голосов. Наш кандидат, Евгений Дебб, был еще недостаточно известен. Победу одержал Уильям Говард Тафт, империалистический кровопийца. В 1912 году Евгений Дебб должен набрать в десять раз больше голосов: восемь миллионов американцев должны проголосовать за социализм. Но для этого вы должны одержать победу. Ваша победа — лучший аргумент правоты нашего дела. В 1916 году, через восемь лет, Евгений Дебб станет президентом, если вы хорошо сыграете. Лехаим, бойз! За социалистическую Америку!
У братьев Камински глаза полезли на лоб: их тренер оказался товарищем! Все что угодно могли они предположить, только не это. При таком раскладе все выглядело иначе: они должны разбиться вдребезги, но победить! И невероятное случилось: «Красное знамя» выиграло у «Голдстарз» со счетом 5:4. Два гола из пяти забил Хершеле, хотя никто и не предполагал, что он проявит в этот день спортивные достоинства. И как вообще стало это возможным? Верил ли он в искренность произносимых Таубеншлагом слов? Ведь и слепому было очевидно, что олимпийского тренера интересуют только деньги и ничего, кроме денег. И Хершеле не был слеп, но и ему это не казалось очевидным. Он поддался соблазну красивых слов тренера. Впрочем, не только, кажется, этому…
* * *
Разумеется, было что-то еще, но я смотрю на эти события сквозь толстую призму времени, и никогда не догадаться бы мне — что именно было, не позвони мне недавно одна дама. Будучи проездом в Цюрихе, она остановилась в одном из фешенебельных отелей и стала искать номер моего телефона. Приложив немалые усилия, она-таки отыскала его.
Ее зовут Франческа Бертини. Я слышал, что лет шестьдесят назад она была столь же знаменита, как Софи Лорен в наши дни. Мы говорили с ней по телефону минут двадцать, и от услышанного я едва не свалился со стула.
— Доводилось ли вам что-нибудь обо мне слышать, синьор?
— Что-то не припоминаю. Может, вы подскажете?
— Вы — сын известного господина по имени Херш Камински, которого еще называют Хершеле, — это так?
— Это так и не так, синьора. Он переделал свое имя на американский лад, и зовут его теперь Хенрик.
— Вот плут! Имя свое он, видите ли, американизировал! А для меня он останется Хершеле, пока я живу. И как додумался он до этого «Хенрик»? Гадость, что за имя!
— К сожалению, синьора, были времена, когда люди боялись демонстрировать свою принадлежность к евреям. Мой отец родом из России, а там называться Хершеле было смертельно опасно.
— Не говорите глупостей! Ваш отец не знал, что такое страх. Это был самый мужественный человек, которого я когда-либо знала. У него были идеалы, и за них он готов был отдать жизнь.
— Его идеалом была всеобщая справедливость, но никак не иудаизм.
— Это одно и то же, синьор. Читайте Библию, и вы поймете, что я имею в виду.
— Иудаизм, синьора, это диагноз. Неизлечимый недуг, который ничем не изгнать из человека. И эта болезнь принуждает человека всегда и везде быть настороже.
— Осторожность — что за глупое выражение! Он был смелым до безрассудства. И меня он никогда не боялся.
— А почему он должен был вас бояться?
— Потому что в то время я уже была… Я была, как говорят, красивейшей женщиной Италии.
— Где он познакомился с вами, синьора? Простите мне этот нескромный вопрос…
— Он узнал меня в Нью-Йорке. Я подчеркиваю эту формулировку: он узнал меня, потому что он был дерзким и наглым. Это случилось на стадионе в Бруклине. Я помню все так отчетливо, будто это случилось только вчера. Я сидела в ложе почетных гостей рядом с бургомистром Манхеттена и наблюдала, как первая еврейская футбольная команда Америки громила этих хваленых «Голдстарз».
— Я, наверное, слишком любопытен, синьора, но скажите, как попали вы в Нью-Йорк?
— С моим первым фильмом, который сразу завоевал мировой успех. Я играла Корделию в «Короле Лире» и была приглашена на премьеру фильма в Америке в качестве почетного гостя. Нью-Йорк принимал меня по-королевски!
— Я понимаю, но как он на вас вышел? Это ведь было, полагаю, совсем непросто!
— Он забил два гола, синьор. Шестнадцать тысяч зрителей ликовали, потому что из всех игроков он был самым хрупким. Он был красив, как молодой тигр. Сквозь нежную кожу его щек проступали жилки. У него были глаза цвета голубого аметиста и нос фараона. Я по сей день без ума от его губ…
— И он просто уговорил вас?
— Уговорил — не совсем правильное определение. Он просто набросился на меня. Я сидела между бургомистром и Бальдасаром Негрони, моим режиссером, который охранял меня, как цепной пес. Команда-победительница была приглашена для того, чтобы выслушать приветствие руководителей города. Но отец ваш потряс самого бургомистра: он прямиком направился ко мне, отвесил мне такой поцелуй, что я едва не потеряла сознание, и шепнул прямо мне в ухо: сегодня в шесть вечера в Геометрическом центре Земли.
— И что же?
— Мне было шестнадцать лет. Такой сумасшедший еще не попадался на моем пути. Я не знала, что ответить, и единственное, что смогла я выдавить из себя, было дурацкое слово «почему». И он ответил: «Потому что я люблю тебя, Корделия. И еще потому, что ты говоришь правду своему отцу и при этом страдаешь».
— И что же случилось потом, синьора, вы решились на рандеву?
— Разумеется, синьор! Вопреки протестам бургомистра и этого бешеного Негрони, который попытался запереть меня в отеле. Ему это не удалось… И потому сегодня я позвонила вам, синьор.
— Не понимаю…
— Мы встретились в том месте, которое называют «Пуп Земли». В центре Таймс-сквера. И я люблю его по сей день. Поскольку его уже нет, я хотела слышать хотя бы голос его сына. У вас такой красивый голос, синьор, но его голос был еще красивее…
— Позвольте мне, синьора, задать вам не совсем приличный вопрос?
— Спрашивайте. Я сама решу, отвечать ли мне на него.
— Как далеко зашли у вас отношения с моим отцом? Насколько мне известно, он был сорвиголова.
— Нет, синьор, он не был таковым. Он был нежнейшим соблазнителем из всех, кого довелось мне знать.
— И он соблазнил вас?
— В тот же вечер. Я родила от него дочь. Копия он. Ваша сестра… Наполовину.
— Последний вопрос, синьора: почему вы не поженились?
— Потому что оба мы были повенчаны: он — со своей революцией, а я — с кинематографом. Жаль…
— Я хочу увидеть вас, синьора!
— Боже упаси! Мне восемьдесят восемь лет.
* * *
Позвольте мне сделать небольшое отступление, которое на первый взгляд может показаться не совсем уместным, но для понимания дальнейших событий имеет немалое значение.
Шотландский аптекарь по имени Мак Сноу был человеком довольно посредственным, но при этом свято верил в прогресс. В свое время он сформулировал поразительное правило возрастания вероятности успеха наших начинаний, которое хотя и является сугубо эмпирическим, но по сей день не только никем не оспаривалось, но даже не ставилось под сомнение. Золотое правило это утверждает, что вероятность успеха любого начинания нормального человека пропорциональна квадрату вложенных в него физических и психических ресурсов.
Такое нарастание успеха в геометрической прогрессии теоретически должно развивать его до размеров космических.
Увы, на практике все выглядит иначе, поскольку Homo sapiens — есть творение в высшей степени нелогичное и потому абсолютно неспособное в полной мере реализовать свой природный потенциал. Согласно выводам Мак Сноу, в человеке орудуют бесчисленные тормоза, которые сильно препятствуют достижению поставленных целей, постоянно приводя его в состояние неспособности к действию. Шотландский аптекарь называет этот факт «Принципом имманентных самоограничений». Они-то и являются причиной того, что у подавляющего большинства людей успех их деятельности развивается не в геометрической, а лишь в арифметической прогрессии. Или — что того хуже — не развивается вовсе, и это — увы! — воспринимается как нечто нормальное. Множество совершенно гениальных личностей в истории человечества собственными жизнями подтверждали Золотое правило Мак Сноу, однако даже они в конце своего пути нередко становились жертвами имманентных самоограничений. Сократ кончил свои дни в темнице. Иисус Христос — на Голгофе, а слава Наполеона окончательно закатилась после Ватерлоо. Человечеству неизвестно ни единого случая, когда бы Homo sapiens всерьез отнесся к собственным возможностям. Однажды уходят все, и одним этим фактом опровергается непрерывность квадратичного нарастания успеха отдельно взятой личности, ибо сама смерть в конечном итоге являет собой последнюю неудачу всей жизни…
* * *
Вернемся, однако, к Хершу Камински. Если бы он по-настоящему того хотел, в следующем матче он забил бы четыре гола, еще в следующем — восемь, затем — шестнадцать голов — так предписывает теория Мак Сноу с его геометрической прогрессией. Однако действительность не всегда соответствует принципам науки. Не теоремы управляют действительностью, а инерция, индивидуальные и общечеловеческие причины.
Хершеле влепил еще несколько красивых голов, однако мотивационные байки хитрого мистера Таубеншлага стали для него — что об стену горох. Истинного стимула ему уже недоставало: самая красивая женщина Италии вернулась в Неаполь и вышла замуж за своего режиссера, этого жуткого ревнивца Бальтасара Негрони, которого она не любила, но объявила тем не менее отцом зачатого ею ребенка, хотя тот, на самом деле, таковым вовсе не являлся.
Между тем команда Камински стремительно рвалась от победы к победе. Триумфом своим они были обязаны не столько своему младшенькому, сколько все еще агрессивному Мордехаю, который в схватках менее всего пользовался головой, больше полагаясь на ноги. Вначале к команде присматривались, потом стали побаиваться, а вскоре одно название ее — «Красное знамя» — наводило на соперников панический страх. Оно сделалось символом еврейского упорства и социалистической решимости. То, что удалось совершить братьям Камински, было не просто восхождением к Олимпу, а стремительным взлетом к звездам.
В апреле того же года «Красное знамя» играет против сборной команды Чикаго. Еврейские футболисты выигрывают со счетом 1:0 и выходят в четвертьфинал чемпионата Америки. В конце мая они выигрывают у грозной сборной команды Колумбии. Предпоследний барьер взят: «Красное знамя» выходит в полуфинал.
Пресса бушует! На всем Западном побережье и за его пределами все, что касается команды Вайсплатта, выходит под крупными заголовками. Газета «Сан-Франциско пост» взахлеб сообщала о триумфальном шествии команды «Красное знамя» как о небывалом землетрясении, называя Мордехая Голиафом американского футбола. «Сан-Луи ньюз» назвала его тяжелым броненосцем в человеческом облике, который, скорее всего, владеет неким тайным трюком, непостижимым для простых смертных. Со всех концов мира, перегоняя друг друга, летели предложения денег и почестей — одно другого соблазнительней. Бэр получает предложение занять пост профессора спортивных наук в Дурбанском университете. О бесчисленных предложениях руки и сердца — и вовсе говорить не приходится. Внучка одного из королей прессы предлагает Хершеле навестить ее в их имении в Нью-Гемпшире и — в случае возникновения взаимных симпатий, разумеется, — стать ее супругом. Всемирно известный пионер кинематографа Эдвин Портер снимает полнометражный боевик об одиннадцати «Dreamboys from Russia», который с триумфом проносится по всем кинотеатрам страны.
Эти парни рушат все привычные представления о евреях и о социалистах, которые дотоле властвовали над умами американцев. Прежде было распространено убеждение, что дети Израиля — это непременно слабогрудые, болезненные существа, а тут одиннадцать «Каминскибойз» демонстрируют всему миру медвежье здоровье и беспримерную выносливость. Тогда говорили — и говорят, кстати, по сей день, — социалисты, дескать, чудовищно ленивы и вялы в работе. Бригада Вайсплатта — так называли братьев Камински бульварные газетенки — проявляет беспримерное усердие и выдержку. Эти парни, безусловно, владели чем-то особенным, но никто в Америке не мог объяснить, чем именно.
Впрочем, один досужий трактователь все-таки нашелся: известный в стране доктор Зауэрштайн, приват-доцент Гарвардского университета, опубликовал очень спорную статью, которую смаковали главным образом разного рода снобы и дилетанты. «Из наблюдаемого нами опыта, — писал он, — я делаю вывод, что, согласно законам природы, несовершенство тела способствует развитию величия духа. Низкорослость нередко становится источником незаурядного интеллекта. Наполеон Бонапарт, — продолжает автор, — которого, как известно, называют Великим, всю жизнь страдал от ничтожных размеров своего тела. Снедающий его комплекс неполноценности по причине малого роста, эта неутолимая боль фрустрации, становится неисчерпаемым источником энергии для достижения высочайших результатов. Поражающие воображение пропорции тела талантливых евреев, гомосексуалистов и прочих аномальных личностей разного рода лишний раз свидетельствуют в пользу этого моего утверждения. Никогда прежде я не имел чести быть лично знакомым с этими одиннадцатью братьями Камински. Тем не менее я позволю себе предположить, что весь их беспримерный успех на футбольных полях нашей страны является плодом пережитых ими бесчисленных унижений и оскорблений. Нелегкие судьбы отверженных и заклейменных приводят их либо к социальному бунтарству, либо к поразительным социальным взлетам. Бригада Джими Вайсплатта как раз и являет собой группу политических и этнических изгнанников, вынужденных бежать от невыносимых условий жизни в России. Критическая масса их фрустрации достигла верхнего предела, и я ни на минуту не сомневаюсь, что эти парни выиграют финальный матч».
* * *
9 сентября «краснознаменцы» прибыли на решающую игру. Джим Вайсплатт вложил в них целое состояние, а Ури Таубеншлаг — 412 дней интенсивных тренировок. Все одиннадцать парней вообразили себе, что от исхода этой игры зависит судьба всех евреев Америки, а может, даже и престиж всего социалистического движения в мире.
Дядя Джим появился в гардеробной, когда сюда уже доносился гул шестидесяти тысяч зрителей, битком заполнивших трибуны стадиона. Стрелки большого стадионного хронометра показывали 14 часов 50 минут. В воздухе вибрировало непередаваемое напряжение. «Красное знамя» стояло на пороге небывалого триумфа, но именно в этот исторический момент совсем не к месту сработал описанный Мак Сноу «вторичный Сноу-эффект». Совершенно неожиданно за пять минут до свистка Хершеле решительно подошел к старику Вайсплатту и задал короткий вопрос:
— Что в письме?
— В каком, ребята?
— Ты отлично знаешь, о каком письме мы спрашиваем. Я повторяю: о чем письмо из Варшавы?
— Ах, вы об этом! — Дядя сделал вид, что не сразу понял. — Да ничего особенного, парни. Сразу после игры вы сможете его прочесть.
— Не после игры, а сейчас же! За столько лет первая весточка из Варшавы, а ты говоришь, ничего особенного.
— Это сюрприз, парни. Выиграйте встречу с этими сукиными сынами из сборной Филадельфии, и потом, когда вся Америка будет ликовать, когда вы станете чемпионами…
— Ты лжешь, дядя Вайсплатт. Вначале ты говоришь, что ничего особенного в письме нет, а минутой позже заявляешь, что в нем сюрприз. Говори, от кого письмо?
— От моей сестры, то есть от вашей матери. Говоря коротко, ничего особенного. Сейчас важны эти бандиты из сборной Филадельфии, этот авангард американского большого капитала.
— К которому, между прочим, принадлежишь и ты, дядя Джим. Так что, не рассказывай нам сказок. Мы хотим видеть письмо.
— После финальной игры, я сказал, а я свои слова назад не беру. И вообще, кто растрепался вам про это письмо?
— У нас друзья на каждом углу. В том числе — на почте.
— А вы знаете, как это называется? Разглашение тайны переписки. За такие штучки полагается тюрьма от двух месяцев до трех лет.
— Мы хотим видеть письмо!
— Шестьдесят тысяч американцев сидят на трибунах и ждут с нетерпением.
— Они могут убираться. Мы не выйдем на поле, покуда не получим письмо.
— Я не позволю на меня давить. Вы же слышите, что публика требует вас.
— Никто из нас к мячу не прикоснется.
— Зрители на трибунах скоро лопнут от крика. Вы должны немедленно начинать игру.
— Мы не пошевелим и пальцем, дядя!
Вайсплатт кипел от ярости. Он нервно грыз ногти и наконец спросил как можно более примирительным тоном:
— А если новости не совсем хорошие — что тогда?
— Тогда мы тем более хотим их знать.
— И вы будете играть в любом случае?
— Показывай письмо и не ставь нам условий!
— У вас нет никаких прав на это, ребята. Письмо адресовано мне. В адресе четко указано черным по белому: Джиму Вайсплатту, 74-я Западная улица… Ну и так далее. Люди разорвут вас на части, за то что вы не вышли на игру. Они заплатили за вход и ничего за свои деньги не получают. Вы хотите меня изничтожить за все, что я для вас сделал?
— Уничтожать тебя мы не собираемся, но мы бастуем.
— Уже пять минут четвертого. Вы играете или нет?
— Покажи нам письмо, и мы решим.
— О’кей! Я вас предупредил.
Хершеле взял письмо в руки. Он пробежал текст глазами и побледнел. Потом он начал читать дрожащим голосом: «Дорогой брат, впервые в жизни пишу я тебе письмо, хотя дается мне оно с трудом. Короче, здесь вся правда. Мой бедный Янкель, с которым я произвела на свет шестнадцать детей, неожиданно спятил с ума. Он влюбился в актриску, которая на сорок лет моложе его. Неделю назад он ушел из семьи. Все мужчины покинули наш дом. Что может еврейская мама без…»
Читать дальше Хершеле не мог. Голос отказался ему подчиняться. Снаружи ревела буря. Вся масса, заполнявшая стадион, свистела и орала. Стены содрогались от урагана, охватившего стадион.
Внезапно дверь распахнулась. Ури Таубеншлаг влетел с мертвецки бледным лицом и выдавил из себя дрожащим от волнения голосом:
— Еще минута, и вы будете дисквалифицированы!
— Мы и без того проиграли.
— Так вы будете играть или нет?
— Если это так необходимо, мы выйдем, но шансов — никаких.
— Вы должны нам целое состояние! Если вы не выйдете на игру, все мы становимся нищими. И я, разумеется, вместе с вами.
— О’кей, мы играем.
Снаружи уже бушевала буря восторга команды противников. Никто не мог предвидеть, что случится в следующую минуту. Вайсплатт смотрел на олимпийского тренера стеклянными глазами и лишь стонал:
— Что я буду делать, мистер Таубеншлаг, если мы проиграем?
— Ах, мистер Вайсплатт, — отрешенно ответил тот, — банкротом больше, банкротом меньше… Это уже не имеет большого значения.
— Как же я рассчитаюсь с долгами?
— Отправьте ваши счета в Варшаву. Там ведь у вас богатый родственник… Миллионер, кажется.
— Он таки миллионер, — грустно ответил старик, — но он больше мне не родственник.
* * *
Братьям Камински было хорошо известно, что отец их пьяница, что он, по сути, давно переселился в пивную и что ему уже не выбраться из хмеля. Их это ничуть не удивляло, поскольку порок пьянства они целиком относили к неизбежным атрибутам загнивающего капитализма. Поскольку же Янкель был типичным капиталистом, он по логике вещей рано или поздно должен был погрузиться в пьянство. О его сексуальных наклонностях они тоже были наслышаны. От женщин легкого поведения, с которыми он якшался, а также по многочисленным таинственным рандеву, которые он то и дело устраивал средь бела дня. Это обстоятельство удивляло их менее всего, ибо моральное разложение рассматривали они как неизбежный червеобразный отросток самого процесса общественного распада. Словом, вся его распутная жизнь отражает закат правящего класса, и у его сыновей не было никаких иллюзий относительно их воспитателя. Более того, он отрекся от них, он допустил, чтобы их, кровных его сыновей, отправили этапом на свинцовые рудники Верхоянска. Чего угодно ожидали они от него, и ничто уже не могло их удивить.
Единственное, впрочем, что никак не укладывалось в их революционные фантазии, так это тот неожиданный факт, что их отец смог еще влюбиться. Это было для них непостижимо. К тому же, согласно их революционным представлениям, этого не должно было произойти в принципе, поскольку отец их не был свободен. С другой стороны, их теоретические постулаты о свободной любви и об отмене института семьи были для них святы.
В общем, они были вынуждены вуалировать свои оценки эдакой псевдопрогрессивной изворотливостью. Они старались уверить себя, к примеру, в том, что их отец вел лицемерную двойную жизнь: у него одновременно есть жена и возлюбленная, что, в принципе, и хорошо и плохо, однако надо и мужество иметь, чтобы на такое решиться. Конечно, рассуждали ребята, чтобы затеять развод, ему никогда не хватило бы смелости. Для окружающих он был строгим главой семейства, безупречным Патриархом, а втайне он содержит любовницу, продажную сожительницу, которая на сорок лет моложе его.
За деньги можно купить все, рассуждали его сыновья, даже актрису-подростка, которая на самом деле и не актриса вовсе, а обыкновенная потаскуха — правда, из приличного балагана. Но ему вовсе не совестно, этому старому развратнику, этому дряхлеющему Казанове с пудовыми мешками под глазами и ржавыми отметинами прожитых лет на дряблой коже. Он не может не знать, что эта девчонка изменяет ему с молодыми парнями, потому что сам он противен ей до тошноты. А если это не так, то чего стоит она сама, покорно отдающаяся этому Мафусаилу, отцу шестнадцати детей? Сама она не старше младшего из них, и когда этот старец умрет, ей достанется все, что он имеет. Разве не это ее единственная цель? Ничего иного ей не нужно.
Конечно, смотрится она неплохо, старик целиком в ее власти и позволяет ей абсолютно все. Пять взрослых дочерей его остаются ни с чем. Об одиннадцати сыновьях и говорить не приходится. Старик ходит у нее на поводке и слишком глуп, чтобы знать всю подноготную ее намерений. И поделом ему! Всю жизнь он выжимал соки из других. Теперь пришла расплата. Не для того производят на свет шестнадцать детей, чтобы однажды пустить их всех по миру. Их мать он бросил на произвол судьбы. Дочерей тоже. Такая же жалкая доля постигнет и его самого, старого скрягу, этого неандертальца без стыда и совести.
Сыновья Янкеля, если брать в среднем, обладали вполне приличным показателем интеллекта. В большинстве своем они учились, читали умные книжки и задавали себе вопросы о смысле жизни. У них было сравнительно ясное представление о мире, который они вознамерились перестроить. Но, чтобы понять душу своего отца, им не хватало фантазии. С человеческой душой у них вообще было много неясного. Есть ли она в принципе? Научно это было недоказуемо, и никому еще не удалось ее обнаружить. Анатомы изрезали уйму тел, но так и не обнаружили, где бы она могла таиться.
В трудах Маркса и Энгельса душа якобы являет собой гормональную секрецию различных желез, и этим, казалось, все объясняется. Если это на самом деле так, то душа Янкеля являет собой секрецию скопления ленивой протоплазмы — побочного продукта дегенерированных белковых соединений. Он вел себя, как существо, не отягощенное этическими тормозами — как одноклеточное, как безмозглая инфузория. Он уподобился машине, которая инстинктивно жмется ко всему, что способно удовлетворить ее примитивные горюче-смазочные запросы, то есть, насытить плоть: пожрать, хлебнуть хмельного пойла и утолить жажду похоти. И это чудовище влюбилось. И оно смеет разглагольствовать о чувствах, хотя вся его гнусная суть соткана из гешефтов и прегрешений. Сие никак не укладывается в психологическую схему этого грубияна, который, во-первых, на столь высокие чувства был не способен по определению, а во-вторых, — если они все-таки и могли в нем зародиться, то им следовало быть направленными к той женщине, с которой он произвел на свет шестнадцать детей. И точка!
Любила ли Ноэми Камински своего мужа — такого вопроса перед многочисленными детьми ее никогда не стояло. Она была их матерью и тем стояла выше всяких сомнений. Ее боготворили, о ней говорили как о святой.
Хотя сыновья Янкеля и подтрунивали над несовершенством гражданских кодексов и наивностью религиозных заповедей, но в действительности все они были хранителями буквы закона, воинствующими поборниками дисциплины и правопорядка.
А еще они были командой футболистов — Божьей милостью командой! Они поклонялись не Создателю небесному, а пролетарской революции. Одиннадцать непреклонных раввинов, увлеченных идеями «евангелия» от Маркса и Энгельса. За время американской ссылки их гнев по отношению к отцу несколько поостыл. Свои запасы ненависти они растратили на другие объекты: на президента Говарда Тафта, на вечно воинствующих американских «ястребов», на Нью-Йоркскую биржу, а также на всех прочих мошенников, которые сплошным обманом верховодили судьбами простых людей.
Так оставалось, покуда ни пришло вдруг это письмо. Оно свалилось неожиданно, как природная катастрофа, которая жестоко напомнила им, что у них есть отец.
Окажись их противником на футбольном поле одиннадцатикратный Янкель Камински, они без малейшего сомнения разгромили бы его в пух и прах и развеяли бы по ветру. Но там стоял не их создатель, а отлично сыгранная команда студентов университета с мировым именем. С разгромным счетом выиграли они матч у братьев, и ни Джим Вайсплатт, ни Ури Таубеншлаг не в силах были что-либо изменить. Эта игра была единственным поражением команды, и шестьдесят тысяч футбольных фанатов стали свидетелями светопреставления. Обладатели дорогих мест разразились восторженным ревом, те, кто занимал места подешевле, отозвались возмущенным свистом. Но изменить что-либо было невозможно. Золотое правило Мак Сноу об имманентном крушении успеха в очередной раз с триумфом восторжествовало.
В раздевалке бруклинского стадиона, тяжело опираясь на загаженную раковину умывальника, будто на перебитых ногах, стоит Джим Вайсплатт и беспомощно стонет. Воротник его нелепо вывернут кверху. Пять жалких минут отделяют старика от полного банкротства. Пыхтя, как перегретый на затяжном подъеме паровоз, вваливается Ури Таубеншлаг, который вторую половину матча наблюдал с трибуны. Он выглядит так, будто только что ему без наркоза вырвали все до единого зубы. Тренер не в состоянии выговорить ни слова.
— Восемь — ноль, мистер Вайсплатт! — завопил он вдруг, как одержимый. — И это ваши племянники, сэр! Нас прилюдно побрили от головы до самой тохэс!
— Что нового для вас, мистер Таубеншлаг, — грустно отпарировал великий предприниматель, — мы поставили на справедливость и проиграли.
— Кто делал ставку на справедливость — я? Ну уж нет! Это вы, потому что вы — фантазер… А я человек вполне нормальный, сэр! В этом я могу кровью расписаться!
— Вздор, мы ставили на равных, уважаемый друг. И если мне надлежит быть повешенным, вы должны болтаться рядом. Об этом уж я позабочусь.
— Господь решил оторвать нам яйца. Он всемогущ, и он знает, что делать.
— Он подает нам знак, мистер Таубеншлаг. Нам надлежит учиться на собственном горьком опыте и понять, что социализм — совершенно непригодный бизнес для евреев.
— Он и для гоим — паршивый бизнес. — Олимпийский тренер схватился за голову. — Восемь — ноль, мистер Вайсплатт! Вас, ваших бездарных бойз и всю вашу мишпуху должен был хватить удар!
Невообразимый рев сотряс весь стадион. Безудержный крик, который донесся со стороны дорогих трибун, столкнулся над футбольным полем с яростным воем, несущимся со стороны трибун дешевых. За две минуты до финального свистка сборная Филадельфии забила девятый гол.
— Не восемь, а девять — ноль, — прохрипел Вайсплатт, — девять — понимаете — вы, великий наставник олимпийцев? Вы, Божьей милостью спортивных дел феномен! Повешусь! Сегодня же повешусь…
— Зачем же сегодня, мистер Вайсплатт, а не через два года? Вы могли бы напоследок насладиться днем, когда я лишусь последних волос. Так что у вас есть повод еще пожить.
— Отличная идея, сэр! — несколько оживившись, ответил старик. — Говнюцкая была сделка, — завершил он снова поникшим голосом, — говнюцкая! Черт меня дернул…
— Да уж, — подхватил тренер, — вы ведь сами настаивали, чтобы я мотивировал этих идиотов. Я послушался вас и толкал перед ними речи. Я рассказывал этим олухам политические байки. Все, как вы хотели. И как выглядим мы теперь? Как два нуля на двери сортира…
— Полмиллиона профукал я, полмиллиона!
— Сами виноваты, мистер Вайсплатт. Кто показал парням это дурацкое письмо — я или вы?
— Это письмо, — пропыхтел в ответ старик, тщетно пытаясь раскурить трубку, — это мое личное проклятие, и вам нет до него никакого собачьего дела, сэр!
— Девять — ноль, — простонал в ответ тренер, — шутка сказать — девять — ноль и только потому, что этот старый павиан Камински завел себе очередную молоденькую шлюху!
* * *
Хаос после завершения матча был неописуемый. Сирены ревели до хрипоты. Болельщики бушевали и не хотели покидать стадион.
Выжатые до предела бойз вернулись в раздевалку вконец поверженные, грязные, сами себе противные. Мордехай тяжелой походкой подошел к Вайсплатту.
— Мы проиграли, дядя, — промычал он на одной ноте.
— Не вы, а я проиграл! — завизжал в ответ старик. — Рассчитайтесь со мной, и прежде, чем я вышвырну вас ко всем чертям!
При этих словах открылась дверь и в раздевалке появился продавец газет.
— Убит Столыпин, — выкрикнул он, — царского премьера продырявили тремя пулями!
— Мы выиграли! — тут же торжественно заявил Хершеле, подойдя к дяде. — Россия стоит на пороге революции!
— А я стою на пороге банкротства, — ответил тот, — вы должны мне пятьсот тысяч долларов, и до задницы мне ваша Россия!
Тут в разговор включился Мойше. Этот парень говорил редко, но если уж он брал слово, то логикой своих рассуждений ошеломлял слушателей:
— Послушай, дядя Вайсплатт, ты ведь умеешь считать. Итак, подумай: через несколько лет повсюду победит социализм. Может, чуть позже, а может, и чуть раньше, но он наступит с неизбежностью солнечного затмения.
— Ты так сказал, Мойше, — солнечного затмения, — старик тяжело вздохнул, — так именно ты сказал…
— Наука есть наука, дядя. Происходит то, что произойти должно. С астрономической точностью. Значит, все можно предсказать и вычислить. За сотни лет предсказать — нравится тебе это или нет.
— И что мне с того, ты, умник?
— Ровным счетом ничего. И даже — напротив: ты потеряешь и то, что у тебя останется. Последнее потеряешь: твой дом, твои фабрики, все твои гешефты — все подчистую! Будет национализировано все, до последнего пенни. Ты останешься с круглым нулем. Так о чем ты сейчас плачешь? О малости…
— Пока это дерьмо наступит, вы верните мне все мои вложения, иначе я посажу вас на нары или вышлю к чертовой матери из страны.
— Лично меня тебе не придется вышвыривать, дядя Вайсплатт, — усмехнулся в ответ Хершеле, — я сам сваливаю отсюда.
— Ты останешься здесь!
— Нет, я уеду!
— Без документов? И куда же — к ковбоям на Дикий Запад? Или старателем на Аляску?
— Как центральный нападающий, дядя Вайсплатт. В Россию. Именно там начинается главная игра за золотой кубок будущего. Завтра же уезжаю.
12
День 14 сентября 1911 года значится в анналах моей семьи в числе памятных дат. В Нью-Йорке братья Камински с разгромным счетом проиграли сборной команде Филадельфии финальный матч чемпионата Америки. В Киеве известный террорист Дмитрий Багров застрелил российского премьер-министра Петра Столыпина, самого ненавистного в России человека. В Вену скорым поездом из Галиции в числе других пассажиров прибыло семейство Розенбахов с целью начать в столице Австрийской империи новую жизнь с чистого листа. На плече Лео висел тяжелый деревянный штатив, на котором была закреплена допотопная фотокамера — единственный капитал всей семьи. Бывший придворный фотограф велел обеим женщинам своим, не двигаясь с места, постоять на лестнице главного вокзала столицы, чтобы он мог запечатлеть для семейной истории торжественный момент прибытия на новое место.
С юных лет гонялся Лео за сколько-нибудь важными историческими моментами. Вначале — состоя на службе у Людвига Второго Баварского, затем — как компаньон своего придурковатого брата, а теперь — как вольный художник, пристраивая штатив перед зданием венского вокзала.
— Мальва, милое дитя мое, сними наконец с головы соломенную шляпку. Сегодня мне не нужны тени на твоем прелестном личике — сегодня, по крайней мере. И ты, Яна, будь так любезна, обопрись непринужденно на твой зонтик. Отлично! Так будет превосходно. Теперь мы, пожалуй, готовы. Итак, мы находимся в самом сердце мира. На берегу прекрасного Дуная. Здесь живет и трудится наш любимый кайзер Франц-Иосиф, храни его Бог! Пожалуйста, дамы, глубокий вдох и… Улыбаемся!
* * *
«17 сентября 1911 года.
Который день не оставляет меня в покое один и тот же сон. Будто, прогуливаюсь я по улицам. Бесцельно и до смерти влюбленная. Вдруг чувствую на себе пристальный взгляд таинственного незнакомца. От этого взгляда я вся покрываюсь гусиной кожей. Силюсь позвать незнакомца, но имя его всякий раз ускользает из моей памяти. Оно крутится на моем языке, но едва я хочу произнести его, соскальзывает с языка и куда-то проваливается. Потом вновь приходит мне на ум, но всякий раз голос мой отказывается его произносить, и я не в силах окликнуть этого человека. При этом, я точно знаю, кто он: конечно же — это он, он, мой единственный, мой возлюбленный! Тот самый Божьей милостью авантюрист, который только здесь, в благословенной Вене, в этой фата-моргане, и может процветать.
Улицы сверкают, будто позолоченные. В тысячах окон играют искрящиеся блики. Никто никуда не торопится, но все жаждут иллюзий и приключений. За проходящими мимо женщинами степенно тянутся пышные шлейфы восхитительных ароматов. Мужчины, будто влекомые призраком, то и дело оборачиваются и тянутся за каким-нибудь из них. У всех — уйма времени. Облака сладострастия буквально свисают с крыш.
Здесь я встречу его. В этом я теперь уверена. Когда я медленно иду по улицам Вены, я чувствую это кожей, кончиками пальцев. Я отчетливо вижу его профиль за каждым кустом, за каждой изгородью. Я слышу его, я чувствую, как он целует мои ладони.
Уличные певцы напевают сентиментальные песенки, и слезы подступают к моим ресницам. Пусть это смешно, но это так.
Я любуюсь витринами на Кэрнтнерштрассе, фантастическими шляпками на Кольмаркт, божественными одеждами на улице Грабен, и меня не покидает чувство, что повсюду он следует за мной — шаг в шаг!
Из дверей кофейни доносится сладкое блаженство: „Господин официант, чашечку меланжа, пожалуйста!“ Или: „Мне чашечку капуцинера!“ Или: „Пожалуйста, мокко со сливками…“ Здесь я лакомлюсь крохотными пышками, там — кусочком пирога с повидлом, и при этом кто-то пристально наблюдает за мной.
Возможно, все это мне только кажется. Может быть, ощущения мои происходят оттого, что не он меня, а я его ищу. Но я уверена: он здесь. Он где-нибудь скрывается. В одном из этих несравненных зданий. За алебастровым столиком у Куглера, Демеля или Захера…
Я так влюблена, что потеряла счет времени — ночь теперь или день? Я брожу бесцельно по аллеям Пратера, мимо Большого колеса, подхожу к знаменитому Ватченману, осматриваю Русские горки. По ним лихо колесит маленький вагончик. Я готова поклясться, что заметила его сидящим в этом вагончике из замка привидений. Он это — честное слово — он! А рядом с ним — ангелочек с грустными глазами.
„Хеннер, — кричу я, — увидь же меня наконец! Вот она — я…“ Он поворачивается в мою сторону. Жутко чужой… Ему кажется, я сошла с ума…
Весь мир у моих ног, потому что мне двадцать лет. Вчера мы с папой ездили в Шенбрунн. Он показал мне дворец прелестных нимф. Сотни попугаев в серебряных клетках раскачиваются на своих тоненьких жердочках и лопочут что-то друг другу. Приглушенные зеркала мягко отражают великолепие их пестрых перьев. Потрескавшиеся фрески с улыбкой разглядывают меня сверху, необыкновенные птицы крутятся, суетятся и кокетничают подобно тщеславным царедворцам, которые бесцеремонно окликают меня. Одна из них бархатным воркованием умоляет меня освободить ее из плена. Это он, мой возлюбленный, величайший изобретатель всех времен и народов, которого жестокий рок превратил в какаду.
О боже, мне уже двадцать! И я живу в Вене, в городе всех городов, очарование которого в том и состоит, что он такой весь переполненный, исполненный легкомыслия, безалаберного разложения и неутолимой жажды жизни.
Я тоскую по тебе, ты, небесный шалопай.
А еще — о том, другом, человеке из гранита.
Вновь и вновь перечитываю я сообщение, которое разрывает мне сердце:
„Воспользовавшись фальшивым входным билетом, известный анархист по имени Дмитрий Богров проник на театральное представление, на котором присутствовал также премьер-министр правительства России Петр Столыпин. Перед началом представления анархист приблизился к высокопоставленному чиновнику и трижды выстрелил в него. Тяжелораненый Столыпин был доставлен в ближайшую больницу, где вскоре скончался. Убийца был арестован, в результате короткого судебного разбирательства приговорен к смерти и 26 сентября был казнен“.
Известный анархист. Это мог быть только Бальтюр. Или кто-то другой? Другой человек из гранита? Убийство этого кровопийцы сделалось целью его существования. Дважды пытался он это совершить, но безуспешно. Дважды хватали подозреваемых и, не слишком разбираясь, расстреливали по приговору полевого суда. Которым из них был Бальтюр? Этого никогда не узнать. Они все ходят под фальшивыми знаменами. Один раз их зовут Дмитрий, другой — Павел. Или — Бальтюр. У них дюжины тайных имен и прозвищ, но ты — лучший из всех. Ты — мой горный хрусталь. Ты относишься к тем мужам, которых распинают на крестах и которые на третий день воскресают из мертвых. Вчера утром они расстреляли тебя. Завтра ты воскреснешь и заберешь меня. Ты постучишь в мою дверь и велишь мне следовать за тобой. И ты знаешь, что я последую. Без промедления. Но сейчас ты не здесь. Пока ты в некотором неведомом городе. В Новгороде, скажем, или в Царицыне — само имя звучит как тяжелый вздох. Ты расскажешь мне, как они тебя расстреливали. Как они хватали тебя и заковывали в цепи. Я хочу знать, что кричал ты им в лицо во время неправого военного судилища над тобой. Правду услышали они от тебя. Великую правду, во имя которой стоило идти на смерть.
Я люблю тебя, Бальтюр. Свою мечту ты скрывал под гримасой. Ты поведаешь мне, как они вели тебя к эшафоту. Какие чувства бушевали в тебе в тот миг. О чем и о ком ты думал. Быть может, обо мне или о каком-нибудь весеннем дне. О ландышах или о красных гвоздиках.
Ах, Бальтюр, приди же наконец! Я так жажду тебя и твоих крепких рук. Никому другому не хочу принадлежать — только тебе одному. Ты возьмешь меня. Под липой, на вереске. Ты будешь целовать мои глаза. На берегу реки или на откосе. Я раскроюсь тебе вся, как кувшинка. Я буду ласкать тебя за всю боль, что тебе пришлось вытерпеть…
Но что же случится, если ты не сойдешь с креста? Если они убили тебя навсегда — тогда как? Тогда я буду ждать твое подобие. Того пестрого шалопая, который многие годы изобретал цветную фотографию и, в конечном итоге, сбежал, прихватив наш драгоценный камень. И где только носит его, этого нежного фальшивомонетчика? Почему не дает он о себе знать? Его терзают угрызения совести, этого чудака. Он витает в облаках, как Бальтюр. Он путает свое упоение с реальностью и стыдится своего сумасшествия. Знал бы он, что все мы немного тронутые. Вся наша мишпуха — сплошные сдвинутые. И как можем мы питать к нему злобу? По какому праву? Мы давно простили его — мама и я. И теперь мы мечтаем о его возвращении. Теперь мы отдали бы все, что угодно, лишь бы он появился в нашем доме.
Я влюблена.
Я плачу.
Мне двадцать лет…»
13
Нет в мире страны свободней, чем Англия, — такое любопытное откровение вычитал где-то по случаю дядя Хеннер и в силу романтического склада своего характера свято в это уверовал. Он был твердо убежден, что все вокруг злонамеренно препятствуют его изобретательской деятельности, что все человечество ополчилось против него и все кругом только и жаждут — подставить ему ножку, а дюжины тайных завистников то и дело норовят перехватить его великую идею, и потому он просто вынужден бежать из родных мест и искать счастья в Лондоне. Располагая некоторой суммой денег, вырученных от продажи злополучного алмаза, он поселился в густонаселенном доме на Скулстрит, 13. Вместе с Натаном они снимали небольшую комнатенку в мансарде, которая служила им лабораторией, кухней, салоном и спальней одновременно. Единственным достоинством их нового жилища был вид из окна. Из крошечного люка под наклонным потолком беглецы могли любоваться Темзой, лондонскими мостами, вдали хорошо просматривались купола собора Святого Павла и Вестминстерский дворец с его знаменитым Биг-Беном. Бурые потоки воды медленно проплывали перед взором, лениво тянулись к морю в поисках выхода на широкий простор.
С того безумного дня в Станиславе дела несчастного изобретателя шли все хуже и хуже. Некогда синий шелковый смокинг давно утратил и цвет, и форму. Прежде его рубашки сверкали торжественной белизной. Теперь трудно было понять, есть ли вообще у него под жилетом что-нибудь на теле. Он все еще предпочитал носить галстуки, но то, что теперь обвивалось вокруг его шеи, было, скорее, похоже на дохлого дождевого червя. Словом, Хеннер выглядел злой карикатурой на самого себя, что не мешало ему по-прежнему очаровывать мужчин и женщин. В особенности мисс Поппер, хозяйку его жилища, которая буквально боготворила его и прощала ему все, и даже его ужасный английский язык, с которым он, вопреки пятилетнему пребыванию в британском изгнании, так и не сумел подружиться.
В тот полдень он, что называется, потряс милейшую даму речью, которая пафосом своим буквально затмила собой все предыдущие спичи этого заправского краснобая:
— В вашем доме, мисс Поппер, посреди этой каменной пустыни, в самом чреве этого скопища тусклых ламбертов, отходит заря беспримерной эпохи…
— Восходит, мистер Розенбах, заря восходит, а не отходит. А вы, между прочим, уже третий месяц не платите за это место, где восходит заря…
— Клянусь вам колоколами собора Святого Павла, мисс, что вы получите в сотни раз больше, чем я вам задрожал.
— Не задрожал, а задолжал, мистер Розенбах, и я хотела бы знать, когда произойдет то, что вы обещаете. Как долго еще мне ждать и почему, собственно? Вы избегаете встречи со мной и сын ваш — тоже. Не спорю, на скрипке он играет как сущий ангел, но жить с этого я ведь не могу.
— Сегодня же вы получите все, что я вам должен. В считанные мгновения взойдет заря новой эры, ибо я наконец пошел то, что так давно искал.
— Не по-шел, а на-шел. Вам следует правильно выражать ваши мысли, мистер Розенбах. Английский — это язык Шекспира, и он заслуживает достойного с собой обращения.
— Эти крупинки, похожие на канифоль, мисс Поппер, — таинственно зашептал Хеннер с глубоким волнением в голосе, высыпая на стол горсточку порошка медового цвета, — это существо химическое…
— Вещество, мистер Розенбах, а не существо, умоляю вас…
— Химическое вещество, которое потрясет мир. Верьте мне!
— Я верю вам во всем, мистер Розенбах, хотя вы этого не заслуживаете, сэр.
— Я засыплю его и расплавлю. И здесь, в этой сраной комнатке…
— Считайте, мистер Розенбах, что этого слова я не слышала. — Мисс Поппер вначале побледнела от услышанного, потом густо покраснела. — Эта комнатка, позвольте вам заметить, что угодно, только не сра… Только не то, что вы про нее сказали. Вы, как всегда, неаккуратны со словами, мистер Розенбах. Вы хотели, наверное, сказать «в этой славной комнатке». Позвольте вам напомнить, сэр, что вы находитесь в Лондоне, а Лондон — столица Великобритании.
— И из этого невзрачного порошка, — ничуть не смутившись, продолжал свою мысль великий изобретатель, — еще до заката нынешнего дня выкристаллизуется чувствительная к цвету субстанция, которая отныне и на веки веков будет носить мое имя…
— От всей души желаю вам этого, мистер Розенбах! Всем жаром моего сердца молю я Господа нашего помочь вам. Ваша удача, сэр, это еще и моя удача…
— Вы моя прелестная свидетельница, мисс Поппер. Вы увидите мой триумф вашими животными глазками…
— Живыми глазками, — поправила хозяйка и покраснела до самых ушей.
— Вашими живыми глазками, — согласился изобретатель, — убедитесь вы, как из бесцветной эмульсии станут проявляться разноцветные контуры — зеленый, оранжевый, фиолетовый — весь естественный букет, сотворенный Богом.
— Я верю тебе, верю, ты — волшебник, — выдохнула мисс Поппер, положив руку на плечо Хеннера, — в Священном Писании сказано, что последние станут первыми. Ты же хочешь этого?
— Чего?
— Стать моим первым…
— Разумеется, мисс Поппер, мы вернемся в Австрию на белом коне…
— Кто — мы, дорогой?
— Мой сын Натан и я, разумеется, кто же еще! Сам кайзер выйдет встречать нас. Он устроит нам прием в Шенбрюнском дворце. И мой брат Лео простит меня. И я стану богатым, как монах…
— Не как монах, мистер Розенбах, а как монарх…
— Самым богатым человеком в Англии буду я…
Хеннер решительно подошел к окну и запер ставни. Потом он положил на стол стеклянную пластинку, насыпал на нее своего таинственного порошка, достал из шкафа газовую горелку и поджег ее. Затем через воронку он подлил в раствор воды и произнес высокопарно:
— Я кругом грешен, высокочтимая леди, но Всевышний великодушно прощает нам наши прегрешения. Мы стоим на пороге исторического момента. Вы будете рассказывать вашим детям…
— Но у меня нет детей, мистер Розенбах…
— …вашим детям и детям ваших детей, — продолжал Хеннер, — будете вы рассказывать, что присутствовали при этом торжественном миге. Что кроме самих Розенбахов — Хеннера и Натана, вы единственная видели, как это свершалось. А теперь — полное внимание, мисс Поппер. Раствор начинает вскипать. Вот уже вздымается он крутым паром. Чувствуете ли вы этот мылоподобный запах? Мы уже у самой цели. Внимание! Готово!
Страшный хлопок потряс всю мансарду, и часть крыши с грохотом отлетела прочь.
* * *
То, что осталось от моего двоюродного деда, его сына Натана и восторженной мисс Поппер, было отправлено полицейской каретой в Скотленд-Ярд. Оба иностранца были прикованы друг к другу наручниками, а престарелая девственница, еще не совсем оправившись от потрясения, вжималась в переднее сиденье и беззвучно бормотала что-то себе под нос. За рулем сидел неотесанный констебль, который, думая о чем-то своем, то и дело тяжело вздыхал. Между ним и мисс Поппер восседал вахмистр, который все время пытался проникнуть в глубинную суть произошедшего на мансарде.
— Итак, — рассуждал он вслух, — все трое получили ожоги — верно, Мак? Волосы и брови обгорели. Одежда покрыта копотью и местами уничтожена полностью. Что бы это могло значить? — продолжал он вслух урок дедукции. — Это означает, Мак, что какая-то штука взлетела на воздух, — логично заключил он.
— Верно мыслишь, старина!
— Эти двое разговаривают на ужасном английском, Мак, — продолжал вахмистр, — значит, они иностранцы. И к тому же — нелегальные иностранцы. Русские анархисты с Сидней-стрит, полагаю я.
— Как пить дать, дружище, русские анархисты. Но сдается мне, эти парни квакают по-немецки.
— Значит, они не русские вовсе, а проклятые германцы, эти гребаные социалисты, Мак, те самые, что спровоцировали у нас забастовку железнодорожников.
— Ты прав, парень. Но что ищет у них эта отцветшая барышня? Эта ведь из наших…
— Очень может быть, что из наших, но смотрится она, как поджаренная сосиска.
— Отлично сказано, парень!
— И у меня есть гипотеза, Мак: эти трое — ирландцы. Очень на то похоже, и они заодно. Эти трахнутые ирландцы, которые крошат нашу старушку Англию.
— Превосходно, старик. Они — ирландцы. Квакают по-немецки, чтобы мы приняли их за русских…
— И эта красотка с ними — явная феминистка, из тех самых борцов за женское равноправие, помянешь мое слово, Мак. Они всегда держатся вместе. Пару дней назад эти хреновы гусаки подорвали телефонный кабель. Главную соединительную линию Лондон — Глазго. И вспомни, кто ликовал при этом: конечно же, ирландцы. И за это тебя, — он метнул злой взгляд на слегка поджаренную сообщницу «террористов», — тебя, ирландскую свинью, мы вздернем на виселице!
— Да я, — всхлипнула домоправительница, — я чистокровная англичанка в сороковом поколении, со времен короля Артура и битвы при Гастингсе. За ирландскую свинью вам придется извиниться, сэр…
Едва договорив эти слова, мисс Поппер вдруг развернулась на четверть оборота и влепила вахмистру две увесистые оплеухи, которые тот принял, не шелохнувшись.
— Возможно, — заметил он едва слышно в ответ, почувствовав, что и впрямь зашел слишком далеко, — возможно, мисс, вы не это… Ну, не ирландская свинья, но эти два типа — точно русские анархисты.
Теперь не выдержал Хеннер. Он выпрямился, сколько это позволяли обстоятельства, и заявил с достоинством карьерного дипломата:
— Я невыразимо счастлив быть подданным Его Королевского Величества Франца Иосифа Австрийского. Впрочем, боюсь, для вас его высокое имя не имеет решительно никакого значения…
— Террористов мы вешаем, ты, залетный сукин сын, а кайзеру твоему австрийскому мы вырвем яйца.
— За оскорбление его чести Австрия ответит войной. Господа, вы зашли слишком далеко, и это вам даром не пройдет!
* * *
После двухнедельного разбирательства Хеннер и Натан предстали перед судьей. Комната была полна служивых людей, облаченных в черные мантии. В высоком красном кресле восседал прокурор, который демонстративно изображал скуку и небрежно рисовал на папке комические фигурки. Рядом стоял защитник с горькой улыбкой на лице и размахивал в воздухе горелкой Бунзена. Мисс Поппер при этом плакала, обхватив голову руками.
— И это, по-вашему, вещественное доказательство, ваша честь? Этой смехотворной безделицей вы выставляете себя на посмешище перед всей Британской империей…
Прокурор оторвал глаза от своих бумаг, будто только что начал приходить в чувство после глубокого наркоза.
— Эта безобидная игрушка, — возразил он сонным голосом, — причинила серьезные повреждения, а именно — в размере семнадцати тысяч фунтов стерлингов.
— Обвинение утверждает, таким образом, что мой подзащитный намеревался и был в состоянии с помощью этой игрушки причинить нашему государству значительный урон?
— Так точно, сэр. Одна дама с безупречной репутацией была при этом на волоске от смерти…
— Факты, однако, показывают, ваша честь, и это подтверждает психологическая экспертиза, что у обвиняемого мистера Розенбаха явно не все в порядке с головой. Вы дискредитируете себя как англичане и как юристы, если будете принимать его всерьез, господа.
— Наука утверждает, уважаемый коллега, что у всех нас не все в порядке с головой. В большей или меньшей степени. Однако это не означает, что нам позволено поднять на воздух всю Великобританию…
— Несомненно, господин прокурор, но мой подзащитный и не пытался этого делать. Неплохо бы всем нам, господа, не отрываться от земли. В полицейском протоколе я прочитал даже — и это написано черным по белому, — что обвиняемый угрожал нам военной интервенцией. За это, тем не менее, мы не вправе привлекать его к ответственности, поскольку военных действий он до сих пор не начал. Слава богу, мы являемся правовым государством. Мы наказываем только за совершенные преступления. Вот уже семь столетий не замечалось за нами скверной привычки преследовать кого бы то ни было за его намерения, будь они и дурацкими…
— Вы заблуждаетесь, коллега. Здесь ни в коей мере не идет речь о дурацких намерениях. Мистер Розенбах уже начал разрушение нашего островного государства.
С этими словами обвинитель достал из портфеля бутылочку, в которой находился золотисто-желтый порошок. Он многозначительно поводил этой бутылочкой в разные стороны, как бы предъявляя ее суду.
— Здесь находится та самая роковая субстанция, господа присяжные заседатели, посредством которой этот иностранец снес три этажа жилого здания, принадлежащего одной лондонской домовладелице. И это официальный защитник называет безделицей!
— Это всего лишь крупинки канифоли, господа Высокий суд! Безобидный натуральный продукт, который обладает светочувствительными свойствами. Именно поэтому находится он в арсенале мистера Розенбаха. На протяжении десятков лет наш обвиняемый ищет волшебную формулу, с помощью которой он сможет претворить в жизнь идею цветной фотографии. К великому его сожалению, он пока еще не нашел этой формулы. Мисс Поппер, домоправительница моего клиента, подтвердит вам, что ее жилец испытывал к ней исключительно дружеские намерения. Я прав, мисс Поппер?
— Я пострадавшая, господа присяжные, и я должна бы быть заинтересованной в наказании обвиняемого, но я могу сказать о нем лишь хорошее. Я боготворю этого человека. Он гений!
— Означает ли это, мадам Поппер, что вы его любите?
— Это означает лишь то, что это означает, господа присяжные! — ответила домоправительница, не сумев сдержать рыдания.
— Если это означает то, что означает, господа присяжные, то заявление свидетельницы не имеет решительно никакой юридической силы. Мисс Поппер была бы, таким образом, лицом заинтересованным, и я считаю необходимым допросить лично обвиняемого.
— Я к вашим услугам, ваша честь!
— Известно ли вам, мистер Розенбах, что вы злоупотребили гостеприимством королевства, поскольку владение взрывчатыми веществами у нас строжайше запрещено?
— Разумеется, мне это известно, но я протестую против вашей формулировки, будто бы я нарушил законы гостеприимства этой страны.
— Вашим ответом вы открыто признаете себя виновным?
— Никак нет, ваша честь.
— Почему же нет, мистер Розенбах?
— Потому что я не мог предвидеть, что применяемая мною субстанция при нагревании может взорваться.
— Почему же вы не могли этого предположить? Вы ведь, вроде бы, являетесь ученым — разве не так?
— Я этого не говорил, ваша честь, что я — ученый. Я изобретатель — это верно. Здесь есть весьма тонкое, но абсолютно очевидное отличие…
— Мало ли кому придет в голову называть себя изобретателем! Один уверяет, что он Галилей, другой называет себя Бенджамином Франклином или Исааком Ньютоном. По правилам таких обряжают в специальные рубашки и изолируют от общества. Вы понимаете, что я имею в виду, мистер Розенбах?
— Я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду, ваша честь, и потому мне хотелось бы покинуть эту страну.
— Я сделаю все возможное, сэр, чтобы помешать этому.
— А я сделаю все возможное, чтобы показать этой стране спину. Британскому величию пришел конец. Свободный дух не может здесь ни дышать, ни мыслить.
— Обвиняемый хочет показать спину нашей стране, как он только что живописал. Он хочет покинуть нас после того, как безуспешно попытался нас уничтожить. Отлично! И куда же, позвольте спросить, намерен он направить свои стопы?
— В Рим, ваша честь.
— И там, полагаю я, вы прямиком отправитесь на прием к римскому папе, — продолжал прокурор, начиная понимать, что перед ним стоит законченный психопат.
— Папа сочтет за честь познакомиться со мной.
— Ну, в этом, мистер Розенбах, здесь никто не сомневается. И вы попытаетесь, конечно, обратить в пепел собор Святого Петра — не так ли?
— Насколько я понимаю, ваша честь, вам хочется быть остроумным… За мой, как говорится, счет. Нет, я не намереваюсь обращать в пепел собор Святого Петра. Я хочу принять крещение…
Над залом будто пронеслась молния всеобщего оживления, а следом — взрыв смеха. Прокурор перевесился через барьер и прошептал в ухо защитнику, но все присутствующие отчетливо слышали каждое слово:
— Он не немного тронутый, а на всю голову!
— Ошибаетесь, — ответил на это Хеннер абсолютно спокойным тоном, — я совершенно здоров, господин прокурор. Во всяком случае, не менее здоров, чем вы. Но мне просто необходимо свидетельство о крещении.
— Для чисто научных целей, полагаю я…
— Потому что я — изобретатель, и потому что время протекает сквозь пальцы, как песок, человек теряет напрасно полжизни.
Хеннер замолк. Голос его задрожал, а глаза наполнились влагой.
— Почему же человек, будучи евреем, теряет половину жизни, мистер Розенбах?
— Потому что он вынужден со всем смиряться, ваша честь. Постоянно изменяться, чтобы устоять. Втягивать голову. К месту и не к месту улыбаться, чтобы не выглядеть обиженным…
— Такого рода бредовые представления в психиатрии называют паранойей. Человеку кажется, что весь мир против него…
— Именно в этом и состоит мой недуг. Все человечество ополчилось против меня!
Мисс Поппер поднялась со своего места и обратилась к Хеннеру:
— Это неправда. Не все человечество. Я на вашей стороне. Евреи — избранный народ, и вы — избранник… Бог будет милостив к вам. — При этих словах она всхлипнула и повернулась к прокурору: — Разве вы еще не поняли, что перед вами — Мессия? Он невиновен, господин прокурор, и он чист, как Иорданский родник.
— И вы защищаете его, мисс Поппер, хотя он превратил в песок ваш дом?
— Он святой. Позвольте мне отбыть его наказание, а он… А ему… Умоляю — отпустите его!
14
«Вена, 10 октября 1911 года.
Мы стоим по горло в воде: мы буквально тонем в долгах. Папа не зарабатывает ничего, потому что у нас нет теперь ателье. Мы забыли, как выглядят деньги. Мама ходила к Самуэлю Тайхману, местному раввину, — он такой милый… Тот посоветовал ей обратиться в еврейскою общину, но там ответили, что это не их компетенция, и направили ее в банкирский дом Ротшильда, где ее тоже приняли весьма прохладно. Чиновник сказал маме, что в принципе банк может выдать небольшой кредит, но при условии, что еврейская община Станислава подтвердит кредитоспособность папы. Хоть волком вой! Мама лишь зарыдала в ответ, потому что она знает: ни один здравомыслящий человек во всей Австро-Венгерской империи не поручится за нас. Чиновник не совсем понял причину ее слез. Он подумал, она расстроилась, полагая, что оформление кредита торговым домом Ротшильда увязнет в волоките, и неожиданно любезным тоном посоветовал ей переговорить с бароном Гутманом, человеком, широко известным своим великодушием. К тому же, подсказал чиновник, барон испытывает особую слабость к таким красивым женщинам, и обстоятельство это оч-ч-чень даже может сыграть свою роль… Увидев, что мама продолжает всхлипывать — искусством этим мама владеет виртуозно, — чиновник написал ей личную рекомендацию к барону.
Со всех сторон обсуждали мы — следует ли маме обращаться к барону. Риск, конечно, слишком велик, но что же делать: во всей округе Флоридсдорфа уже почти не осталось магазинов, где мы могли бы хоть что-нибудь получить в кредит. Меня это касается в первую очередь, потому что клянчить товары в долг посылают, как правило, меня. Три ближайшие пекарни — Тырнка, Грогер и Грюнлих — пригрозили нам санкциями, если до конца года мы не погасим наши долги. То же самое заявил мясник Хавлишек. А бакалейщик Кралик — тот вообще… Он выставил в витрине желтый лист, на котором крупными буквами написано, что означенные здесь лица впредь до погашения своих задолженностей обслуживаться не будут, и вообще, пусть они десятой улицей обходят эту лавку. Наша фамилия стоит в списке на втором месте, и мне теперь даже появляться на этой улице стыдно…
Словом, никогда прежде дела наши не были так плохи, как сейчас, но на душе у меня, признаюсь честно, никогда не было так радостно, как теперь! Я постоянно пребываю в приподнятом настроении и сама себя спрашиваю вполне серьезно: уместно ли это в подобном положении? Кто знает, быть может, сама нищета — достаточная предпосылка к тому, чтобы радоваться жизни. А может, я просто черствая девица, начисто лишенная чувства сопереживания? Как бы то ни было, но материальные трудности моих родителей оставляют меня равнодушной. Мы как-нибудь перебьемся — ни на миг не сомневаюсь в этом. Порой это даже забавно. Каждый прожитый день, можно сказать, выигран у жизни, будто в лотерею. Каждое утро просыпаешься с таким зудящим душу вопросом: продержишься ли ты до вечера на ногах. Это до предела напрягает и делает твою повседневность осмысленной. И уж во всяком случае — интересней повседневности людей богатых, все дни которых похожи один на другой, как яйца в корзине.
Через десять дней мне предстоят экзамены на аттестат зрелости. Я выдержу их вопреки тому, что я трижды ущемлена. Нет, не так: я выдержу их вопреки тому, что трижды ущемлена. Прежде всего, я ущемлена как девушка. Во-вторых, ущемлена как дочь нищих евреев. И в-третьих, из-за моих убеждений. Бальтюр и Дашинский для меня по-прежнему святы. Сердце мое бьется слева, и кровь моя красна. И я должна выстоять. Это мой долг перед моим героем, повешенным в Киеве. Все мои успехи принадлежат ему и все мои победы — его победы. Я люблю его и мертвым, и тем подтверждаю бессмертие души.
В математике я слабовата, но что поделать? С числами у меня вечная вражда. Все фарисеи, умеющие хорошо считать, люди приземленные. Синева неба над головой — для них ничто.
Я надену черное шелковое платье с глубоким вырезом, о котором папа говорит, что я выгляжу в нем, как цирковая наездница. Ради бога, ничего не имею против. Пусть я буду выглядеть, как цирковая наездница, и при этом иметь успех.
Кстати, сегодня я была свидетельницей небывалого чуда. Нечаянно. Я вернулась домой на Фрейтаггассе и, войдя в кухню, увидела редчайшее из представлений: мои родители целовались! Не как хорошие товарищи, а по-настоящему, искренне. В губы. Как парочка молодых влюбленных. Я наблюдала, можно сказать, братьев Лилиенталей, взлетающих к небу. Непостижимо! В кинематографе на Нусдорфштрассе я смотрела фильм „Вдова Чаунер“. Там тоже было нечто подобное, но здесь, у родителей моих, это было еще непостижимей! Как-то раз я слышала с фонографа голос бессмертного Патти. Для меня это было вершиной непостижимого. Но родители мои были сама нежность! Это выше моего понимания! Папа обнимал маму и что-то горячо шептал ей в ухо. Мама была абсолютно покорной и только плакала. Чуть слышно постанывая, она подставляла шею для его пылких поцелуев. Из самой глубины груди едва доносились повизгивания, будто там, в самой глубине ее, таял громадный ледник.
Оба до такой степени были заняты друг другом, что не замечали моего присутствия. Мама бережно расстегнула папину рубашку и гладила его плечи. При этом она бесшумно всхлипывала и прижималась к этому маленькому человечку. Как молитву повторяла она одни и те же слова — никогда не поверила бы, что они вообще могут слетать с ее губ, до такой степени несвойственны слова эти устам моей дорогой мамы:
— Лео, бедный мой Лео! Ну почему я так бессердечна с тобой?
Папа долго не мог выговорить и слова в ответ. Он был целиком поглощен жаркой волной встречного тепла, нежданно-негаданно метнувшегося к нему с той стороны, откуда он не ждал его вовсе. Но вдруг и в его перехваченном чувствами горле ожил язык, и он выдохнул в ответ:
— Ах, Яна, это я, я, я сам во всем виноват. Я не стою твоего ноготка. Ты — свет мой, единственная звезда, которая сияет в темном небе над моей несчастной головой. Я украл твою молодость. Я поработил тебя. Моим эгоизмом, моим малодушием, позорной трусливостью моей я лишил тебя воздуха. Мое бессердечие задушило в тебе все чувства. Жар-птица моя…
— Мой бедный, бедный Лео! Почему, почему я так бессердечна с тобой?
— Это я гадкий, я. Ни разу не посмел я сказать тебе, как я тебя обожаю, потому что я боялся тебя. Я готов умереть от стыда, потому что я — ничтожный карлик. Круглый нуль. Жалкий простофиля. Я — вечный неудачник по жизни. Ты заслуживаешь лучшей доли, Яна…
— Почему, почему же я так бессердечна с тобой, мой бедный Лео?
— Я мечтал осыпать тебя драгоценными камнями, бросить к твоим ногам самые роскошные одежды. Весь свет мечтал я исколесить с тобой, чтобы везде и всюду люди восхищались твоей красотой. Всем и каждому хотел я буквально кричать: „Смотрите — это моя владычица! Богиня, которой я молюсь и у которой я состою в вечном рабстве!“ Об этом мечтал я, и что в итоге? Мы прозябаем в дыре под названием Флоридсдорф, в этом бедняцком предместье Вены, и кругом пусто, будто помелом прошлись…
Безудержные рыдания вырвались из его груди при этих словах. Он бросился перед мамой на пол, стал целовать ей ноги и выл, как израненный пес. Я не могла этого вынести. Мне захотелось немедленно прекратить эту сцену самобичевания, и я крикнула:
— Мама, папа, ради бога, что происходит?!
И тут мама очнулась от экстаза, осмотрелась вокруг и, будто даже отряхнувшись, ответила с деловым спокойствием служаки из почтового ведомства:
— Разве ты забыла, Мальва? Сегодня Йом Кипур, праздник всеобщего примирения. Мы с папой примиряемся. Таков обычай.
Мне вспомнилось тут же: будучи одиннадцатилетней девочкой, я спросила как-то учителя религии — что, собственно, означает Йом Кипур? Он ответил мне, что это десятый день седьмого месяца, который называют Тишре. В этот день евреи молят Бога о прощении грехов. Йом Кипур — это день всеобщего примирения. Учитель продолжал говорить — то и это, но я уже не слушала его, потому что слова его были слишком напыщенными, а голос — чересчур театрально-трагичным. Я не выдержала и рассмеялась. И была наказана за эту дерзость. Все это казалось мне забавным — не более того. Целые сутки человек накапливает в себе злость, а на следующее утро достает ее оттуда целой и невредимой. Люди опять раздражаются, поносят друг друга и то же самое получают в ответ. Проклинают один другого, подставляют друг другу ножки, кощунствуют, богохульствуют, чтобы в будущем году, в десятый день месяца Тишре стереть все это, словно губкой, и вновь все будет выглядеть в полном порядке. Мы, евреи, народ практичный. Мы поклоняемся искусству возможного. Триста шестьдесят пять дней в году любить ближнего — это уж слишком! Подобные добродетели нам не по плечу. Любить можно либо себя самого, либо своего ближнего. То и другое вместе — это из области фантастики.
Вот христиане — сущие фантасты. Они живут под вечным прессингом одной бредовой мысли: возлюби ближнего, как себя самого! Но это же невозможно! И потому они испытывают чувство постоянной вины и вечно каются на исповедях:
— Mea culpa, mea maxima culpa! — причитают они. — О, моя величайшая вина! О, о, о!
Они вменяют себе свои прегрешения с эдаким налетом оправдания — не ангелы мы, дескать, а простые люди. И не можем мы возлюбить ближнего, как себя самого — не можем, и все тут!
А мы, евреи, поступаем честнее: мы поносим друг друга на чем свет стоит, а при случае устраиваем праздник всеобщего примирения. Ровно на двадцать четыре часа. И никаких тебе терзаний! Послезавтра все вернется на круги своя.
Не верю я в любовь к ближнему. Уж слишком альтруистична она, чтобы быть реальностью. Это какая-то однобокая мораль, игра в одни ворота. Если я во что-то и верю, то, скорее, в любовь плотскую. Она зиждется на понятиях „давать“ и „получать“. Никто в долгу не остается, и каждый получает по своим счетам.
Между мамой и папой любви нет. В их браке нет места любви, потому что папа всегда только отдает, ничего не получая взамен. Он чувствует себя обманутым, потому что двадцать лет подряд имеет нулевую отдачу. И потому вся эта комедия с примирением и этот риторический мамин вопрос: „Лео, почему я так бессердечна к тебе?“ — все это достойно разве что саркастической улыбки. И папе следовало бы отколотить ее хорошенько, но вместо этого он проявляет христианское смирение. Он берет всю вину на себя и тем на веки вечные закрепляет свое унизительное положение в семье, возводя при этом маму на королевский трон. Делает ее безраздельной владычицей над своей ничтожностью. Называть это нормальным положением вещей нельзя никак. Скорее, это саморазрушение, и никакой Йом Кипур ничего здесь не изменит.
Я хочу жить иначе. Либо полное равенство в смысле „давать“ и „получать“, либо вовсе ничего. Я не хочу ни владеть, ни быть подвластной. В неравенстве счастья нет — в этом я уверена!»
* * *
С переездом в Вену Яна вдруг начала придавать значение мелочам. Ей уже стукнуло сорок, и она стала еще привлекательней. Более тонким сделалось ощущение форм и красок. Она регулярно посещала блошиные рынки, по дешевке скупала остатки тканей, соединяла их между собой, подбирая эффектные варианты, и затем из полученных пестрых полотен шила стильные платья.
Когда она вошла в приемную барона Гутмана, могло показаться, будто дама эта — супруга высокопоставленного вельможи. Сидевший за письменным столом пухленький господин вскочил с места, окинул посетительницу изучающим взглядом и прогнусавил с подобострастием:
— Госпожа Розенбах, если не ошибаюсь?
— А вы — барон Гутман?
— Я его личный секретарь. Меня зовут Оппенхайм. Позвольте проводить вас в салон?
С ангельской улыбкой Яна подала ему рекомендательное письмо:
— Я уж потеряла всякую надежду быть принятой вами…
Личный секретарь барона бросил на обворожительную просительницу похотливый взгляд, взял из ее рук письмо и пригласил даму присесть:
— Вы приехали к нам из Галиции, как здесь сказано. И что же ищете вы в этой гоморре?
— Мой муж, к сожалению, был вынужден покинуть Станислав.
— Денежные затруднения, полагаю я?
— Преследование, придирки, потому что мы евреи.
— Мы тоже евреи, госпожа Розенбах, однако мы не можем пожаловаться…
— Мой муж был вызван на дуэль!
— Вот как? И что же?
— Он содержит семью, господин Оппенхайм.
— Значит, если я верно понимаю, он бежал от дуэли? Аж до самой Вены. И теперь барон Гутман должен выручать его — верно?
— В том, что случилось, вины моего мужа нет. В этом я могу вам поклясться.
— И нет вины барона Гутмана, мадам, — в этом я готов поклясться вам.
У Яны больше не было сил подвергаться этим мучительным расспросам. Она поднялась, натянула перчатки и сказала совсем уже иным тоном:
— Я вижу, от вас мне ждать нечего. Прощайте.
Оппенхайм от неожиданности растерялся, от попытался удержать даму, такую грациозную и решительную.
— Есть у него какая-то профессия, у этого — как зовут его — Лео Розенбаха?
— Когда-то он был придворным фотографом у Людвига Второго Баварского.
— Что же вы сразу об этом не сказали, почтенная мадам? Это решительно меняет дело.
— Если бы вы были готовы предоставить ему небольшой кредит, — Яна наконец открыто назвала цель своего визита, многозначительно взглянув на секретаря, — несколько тысяч крон — не более, он смог бы устроить здесь, в Вене, превосходное ателье. Уверяю вас, оно было бы вне конкуренции. Без сомнения, ваши деньги были бы возвращены с приличными процентами.
Секретарь поднялся и подошел к Яне:
— И вы, мадам, были бы готовы…
— Меня зовут Яна, господин Оппенхайм.
— И вы готовы, мадам… Яна, поручиться вашей личной честью в том, что деньги наши будут своевременно возвращены?
— Что понимаете вы под этим — поручиться моей личной честью?
— Ровным счетом то, что я сказал. Вы ручаетесь вашей личной честью… Вы — женщина желанная, мадам Яна…
— До какого срока должен быть погашен этот долг?
— До тридцать первого декабря следующего года. В вашем распоряжении — пятнадцать месяцев.
— Итак, шесть тысяч крон. Возврат — до конца 1914 года.
Оппенхайм подошел к сейфу, со знанием дела открыл его и достал шестьдесят сотенных купюр. Он педантично пересчитал их, неторопливо выкладывая одну за другой на письменный стол:
— Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят. Теперь, мадам, от вас я попрошу единственного…
Последнюю часть фразы он почти прошептал, явно подчеркивая ее и без того очевидную двусмысленность. «Жребий брошен, — слышалось в этом шепоте, — игра началась…»
Яна съежилась. Этот тип был ей нестерпимо противен.
— И чего же вы ждете? — спросила она в ответ с нарочитым высокомерием.
Оппенхайм слащаво улыбнулся:
— Вашу подпись, очаровательная мадам!
* * *
«Вена, 30 октября 1913 года.
Ура! Я получила аттестат зрелости, и это при том, что я — женщина! И при том, что к экзаменам я готовилась сама. И что молимся мы, как говорят, не тем богам, и что я исповедаю взгляды, подрывающие устои общества. Тайхман поздравил меня. На иврите, и я не поняла ни слова. Правда, в конце он добавил по-немецки, что своим успехам я в большей степени обязана моему черному шелковому платью. А еще, съязвил он, при таком откровенном декольте даже он имел бы не меньший успех. Тайхман, между прочим, тоже нравится мне, но он раввин и о моем отношении к себе даже не подозревает. Он высок и худ телом, его кожа цвета слоновой кости, он носит густую бороду, но как человек — полнейшее ископаемое. Таким людям место в музеях. Этот человек всегда в пути, он постоянно ходит от дома к дому, но и ему не дано перепрыгнуть через собственную тень. Он не способен чему-либо учиться, потому что сам вечно кого-то учит. Кстати, все учителя глупы именно по этой причине. Он поучает, что женщина вообще не должна получать образование. Интеллект — это исключительная прерогатива мужчин. Даже мне известно немало мужчин, которые из этой прерогативы ровным счетом никакой пользы не вынесли. Бальтюр — это, разумеется, исключение. И Хеннер. И еще — Дашинский. Будь на самом деле интеллект исключительной привилегией мужчин, весь наш мир выглядел бы иначе. В известном смысле, все сущее пока еще является привилегией мужчин, но я буду делать все от меня зависящее, чтобы изменить это положение.
Политикой занимаются мужчины. Войны — и говорить нечего. Вся эта вечная погоня за богатством и престижем от начала до конца придумана мужчинами.
Один из вопросов на экзаменах звучал так: „Какой литературный герой заслуживает у нас наибольшего признания?“ Я ответила — не герой, а героиня, и зовут ее Лизистрата. Эта прекрасная афинянка, которая хитроумным способом — с помощью женской „сексуальной забастовки“ сумела остановить войну между Спартой и Афинами. Экзаменатор ухмыльнулся и спросил, известно ли мне, кто автор этой абсурдистской пьесы. Тогда я ответила, что пьеса эта — вовсе не абсурд, а, напротив, очень даже актуальна и теперь, и что написал ее Аристофан. Профессор ухмыльнулся вновь и сказал, не стану же я, дескать, отрицать, что Аристофан был мужчиной. Разумеется, не стану, ответила я, но не случайно именно женщину сделал Аристофан главной героиней своей пьесы. То, что она совершила, мужчине было бы не под силу. Кроме того, женщина дала жизнь самому Аристофану — женщина стирала его пеленки, и вообще, без женщин человечество давно вымерло бы. Вся эпоха Перикла, продолжала я, для меня менее значима, чем одна эта комедия „Мир“. Какая человечеству польза от всех фриз Пантеона и мудрых наставлений Платона, если в итоге мужчины придумывают все новые и новые трюки, направленные на уничтожение этого? И тут лицо экзаменатора засветилось:
— Значит, вы все-таки признаете, что не только войны — творение мужских рук, но и литературные произведения, и философские трактаты…
— Разумеется, — ответила я, — но Пракситель и Сократ, Фидий и Аристотель — все они творения женщин, сыновья матерей, научивших их говорить и мыслить.
Профессор сказал, что ставит мне высший балл, потому что я обладаю такими удивительными познаниями. Но он хочет предостеречь меня:
— Умные женщины, барышня Розенбах, несчастны в жизни.
— Мне это известно, — ответила я, — мужчинам больше нравятся дурочки, что лишний раз подтверждает вашу природную мужскую невзыскательность».
15
От прежнего Хершеле не осталось ровным счетом ничего. Разве только — внешность. Из политической осторожности, а также по причинам, разговор о которых еще впереди, он отбросил окончания в имени и фамилии и стал называться Хенрик Б. Камин. Он до предела обкорнал свою дикую гриву и вместо старомодных очков на шнурке носил теперь солидные очки в роговой оправе, которые делали его похожим на преуспевающего американского бизнесмена. За последние годы парень заметно вырос и превратился в роскошного молодого человека. У него были черные волосы, блестящие и гладкие, как шелк, глаза цвета морской волны и выразительно очерченный рот. Чтобы сделать человека своим сторонником, ему совсем не нужно было много говорить. Достаточно было просто улыбнуться — тотчас зрачки его вспыхивали множественными искрами, и сердца людей дружно раскрывались навстречу ему. Мужчины и женщины в одинаковой степени добивались его благосклонности.
Даже матросы немецкого крейсера «Кенигсберг» искали его общества. Когда за бортом бушевали стихии и волны наперегонки обрушивались на верхнюю палубу, они рассаживались вокруг него в кубрике, чтобы послушать его рассказы и перекинуться в картишки.
Всюду, где он появлялся, его считали «своим в доску», как о нем многие говорили, и относились к нему как к своему. И только однажды столкнулся он с человеком, который сходиться близко никак не хотел. Звали его Роттмайстер. Он не упускал случая поддеть Хершеле-Хенрика и даже провоцировал его на конфликт:
— Почему бы тебе, парень, не продолжить игру? — задирался он как-то.
— Дай мне адрес, — невозмутимо отвечал Хершеле, — и мы продолжим, хоть до утра.
— Видать, проигрался ты, парень, вчистую! — не унимался тот.
— Я же сказал, продолжим завтра.
— Посмотришь на тебя — чистый пижон, послушаешь тебя — точно пижон. А сядешь с тобой в картишки — сразу видать — пролетарий.
— Извини, мне пора. Пока!
— Нет, если ты пуст, сыграем на твои часы.
— Я же сказал тебе: завтра утром и на деньги.
— А почему бы тебе не поставить на кон твои часики?
— Потому что это подарок матери.
— И где же она проживает — в Америке?
— В России. Я пошел спать.
— Но имя-то у тебя — американское. Что-то тут не так, парень.
— Откуда тебе это известно?
— Оно написано на твоем чемодане.
— Документы у меня русские, по национальности я поляк, имя у меня американское, и направляюсь я в Австрию. Бывает и такое. Еще вопросы?
— Имей в виду, парень, раз уж я тебе помогаю, я хочу знать, что ты за фрукт.
— Теперь ты знаешь. Если тебя что-то не устраивает, обойдусь без твоей помощи.
— Сколько ты хочешь за твои часы?
— Я же сказал — они не продаются.
— Проводник через границу тоже не продается. А кстати, для чего он понадобился тебе, парень?
— Мне нужно в Россию.
— Тогда возьми в кассе билет и отправляйся с комфортом по железной дороге.
— Не могу.
— Что-нибудь не чисто?
— Если попадусь, я пропал. Дай адрес!
— Сколько?
— Сто марок.
— Мало.
— Двести, и ни пфеннига больше.
— Откуда мне известно, что ты не провокатор?
— А сам ты? Твой человек переводит меня через реку, а там меня уже поджидает русская ищейка.
— Покажи-ка твои часики, товарищ!
— Сдались тебе мои часы!
— Я хочу знать, откуда они родом.
— Из Швейцарии. И что дальше?
— Говорят, все сработанное там, — чистая классика.
— Не все.
— Что имею в виду я — это суперклассика.
— К чему ты клонишь? — спросил Хершеле, который только сейчас понял, что все это — обыкновенная проверка.
— Знаком тебе один русский, которого зовут Ульянов?
— Понятия не имею, о ком ты говоришь.
— Жаль, — ответил Роттмайстер, — этот человек у них самый главный, и сейчас как раз он находится в Швейцарии.
— Ты имеешь в виду Ленина, парень? Но он давно не в Швейцарии, а в Австрии.
— Ты уверен?
— Абсолютно. Он проживает сейчас в Поронине, недалеко от Кракова.
Роттмайстер поднялся, хлопнул Хершеле по плечу и рыкнул, довольный результатом:
— Отлично, коллега, проверку ты выдержал. Я дам тебе адрес моего проводника. И все для тебя будет сделано бесплатно.
— Тогда возьми мои часы, — ответил Хершеле, — и тоже бесплатно. В память о Херше Камински — это мое настоящее имя.
— Итак, Херш Камински, слушай и запоминай: наш человек живет в Вене. В двадцать первом районе, на Шлосхоферштрассе…
16
В тот же день, когда где-то между Нью-Йорком и Бремерхафеном происходил этот разговор, Лео Розенбах открывал свое новое ателье. Оно находилось на заднем дворе четырехэтажного многоквартирного дома по Фрейтаггасе, три, в фабричном квартале с цветастым именем Флоридсдорф и представляло собой весьма странное сооружение. Здание было построено в форме ротонды, перекрытой стеклянным куполом, к парадному входу его вел мостик из зеленого мрамора. На массивной двери красовалась латунная табличка, на ней витиеватыми буквами было выведено: «Лео Розенбах, бывший придворный фотограф Мюнхенского королевского двора. Портреты и фотоработы всех видов». Торжественное открытие было скромным — соответственно обстоятельствам. Лишь немногие знакомые удостоили его своим присутствием. Две дальние тети из Галиции, некоторые из дочерей домовладельца, с которым по понятным причинам следовало поддерживать хорошие отношения, бледнолицый юноша с третьего этажа по фамилии Самотный, что в переводе с польского означает «Одинокий». Он безуспешно пытался ухаживать за Яной, не отводя от нее исполненного тайного желания взгляда влажных глаз. И уж конечно, Самуэль Тайхман собственной персоной был здесь с его неизменны спичем, долженствующим надолго запомниться участникам торжества:
— Это новоявленное ателье, уважаемые дамы и господа, призвано служить увековечению людской страсти к самовыражению. Именно здесь высокомерие дам и тщеславие мужчин изо дня в день будут выплескиваться наружу из глубин человеческой сущности и входить в соприкосновение друг с другом. На этом самом месте из ложного людского самомнения и из порочной спеси, из губительного воображения и разрушающих личность себялюбия и надменности будет извлекаться на свет материальная выгода. Но это вовсе не должно означать, что искусство Лео Розенбаха покушается на основополагающие принципы нашей религии. Ни в малейшей степени, высокочтимые гости нашего праздника. Нам всем надлежит всячески сдерживать людскую самонадеянность, ибо любое проявление высокомерия рано или поздно будет осуждено и наказано. Пройдет совсем немного времени, и, вглядываясь в нынешние портреты свои, мы с ужасом обнаружим, как мало осталось от нашего былого глянца и поблекшего величия. Святотатство и прегрешения оставляют скорбные печати на чертах нашего лица, до неузнаваемости изменяя наш облик, — желаем мы того или нет. Несправедливость и упущения разрушают наш лик. Лишь сравнивая сегодня с вчера и позавчера, постигаем мы истинные масштабы нашего разложения. Может, кому-то это покажется нелепым, но я скажу так: да будет благословенно место, где будут создаваться изображения, предостерегающие нас от заблуждений и побуждающие нас жить в повиновении и страхе перед Всевышним, строго следуя священным заветам его!
* * *
Лео Розенбах был суеверен, хотя сам себя считал человеком продвинутым и вполне свободным от предрассудков. Он был убежден, что, согласно старой примете, вся дальнейшая судьба его бизнеса целиком зависит от того, что будет являть собой самый первый клиент. Его имя, происхождение, наружность — во всем этом скрыты важные знаки, которые предопределят успех дела или его провал. По этой причине бывший придворный фотограф с лихорадочным нетерпением ждал момента, когда под ротондой пройдет тот, которого провидению будет угодно избрать первым посетителем его только что открытого ателье. Лео дал объявление в «Новой свободной газете» и полагал, что вправе надеяться на благосклонное внимание к его заведению высокопоставленной публики.
Лишь утром третьего дня раздался первый звонок в дверь, и Мальва, которой, как и прежде, была отведена роль барышни, встречающей посетителей, с волнением распахнула дверь. Перед ней предстал он, судьбоносный посланник провидения, которого так ждали. Это был кавалерийский капитан со свежими рубцами на надменном, исполненном самонадеянности лице, левый глаз его сверкнул элегантным моноклем.
— Честь имею представиться, высокочтимая барышня! Йозеф фон Шишковиц, офицер одиннадцатого гусарского полка, — отрапортовал он столь же гнусаво, сколь и изысканно, — как вы, вероятно, заметили, на физиономии моей имеется пара отметин, которые, как говорится, мне было бы угодно увековечить посредством фотографии.
— Извольте, господин капитан. Не угодно ли будет вам пройти и дать мне ваше пальто? Мне кажется, с вами произошел какой-то несчастный случай?
— Пустячок, очаровательная дама, так, поединок чести между мужчинами. С трагическим исходом…
— Трагическим? Но вы, кажется, еще живы…
— Я — пожалуй, как вы верно заметили, но сопернику моему, знаете ли, не повезло…
В этот момент через боковую дверь в ателье вошел Лео, наблюдавший всю эту сцену из темной проявочной комнаты.
— Высокочтимый господин, — торжественно произнес он, одаривая посетителя лучезарной улыбкой и почтительным поклоном, — вашим посещением вы, несомненно, принесете удачу нашему новому ателье.
— С превеликим удовольствием, господин… Как, то бишь, вас? Если я верно прочел, вы состоите придворным фотографом…
— Я был им. При дворе Его Величества Людвига Второго Баварского, если, конечно, это имя что-нибудь для вас значит. Вы принесете нам двойное благословение, господин капитан. Как раз только что мы открыли новую студию, и вы являетесь нашим первым клиентом в Вене. К тому же вы одержали славную победу в отважном поединке, и это тоже добрый знак для нас…
— Если я правильно понимаю, вы намерены вознаградить меня. Я предвещаю вам удачу, и вы хотите отблагодарить меня за это…
— Для меня это приятная обязанность, господин капитан. Вы будете сфотографированы бесплатно — это само собой разумеется.
— Тогда прошу сфотографировать меня дважды. Вы ведь заявили, что мое посещение дважды благословенно для вас. Отлично, сделайте мне два профиля — слева и справа. И, если возможно, один снимок — рядом с этой очаровательной особой.
— Если это вам нужно, извольте, — неохотно согласилась Мальва, — но вначале я хотела бы знать, жив ли еще тот, другой…
— Какай другой, очаровательная барышня?
— Которому не повезло, как вы изволили выразиться.
— Он дрался неплохо, как подтверждает моя физиономия, но он убит!
— И вы так спокойно об этом говорите, господин капитан?
— Для австрийского офицера, прелестная барышня, жизнь — это исключение, а смерть — правило. Страх мы оставляем нашим врагам.
— В моем представлении, страх — это проявление интеллекта, а героизм — глупости.
От этих слов в животе придворного фотографа все похолодело. Ему сейчас же вспомнилось бегство из Станислава. И страх этот был не без оснований: дерзость его дочери могла накликать на всю семью новую катастрофу. Он постарался как можно дипломатичнее заретушировать категоричность ее слов:
— Ах, эта нынешняя молодежь, — торопливо вмешался он, — на все у них есть готовые суждения, господин фон Шишковиц, не стоит, однако, вдаваться в долгие дебаты. Давайте лучше присядем в кресла и подготовимся к съемке. — Эта фраза тоже показалась Лео слишком резкой, и он постарался смягчить неприятное впечатление, которое она могла оставить. — Нет ли у нашего высокочтимого гостя особых пожеланий? — спросил он, как бы невзначай.
— У вашего высокочтимого гостя есть особое пожелание, — в тон ему ответил капитан, — он желает пригласить уважаемую барышню на новогодний бал и берет на себя обязательство доставить ее обратно домой в целости и сохранности.
— В этом, господин капитан, никто и не сомневается, — верноподданнически ответил Лео, — мы счастливы получить столь любезное предложение и можем ответить на него единственным образом: желание гусарского капитана — для нас закон!
Настроение Мальвы, между тем, становилось все более мрачным. У нее и в мыслях не было участвовать в этом спектакле.
— Что значит закон, папа? — недовольно прошипела она. — Я не намерена следовать чьим бы то ни было предписаниям, с кем танцевать мне на Новый год.
Лео глубоко вздохнул и сделал вид, что ослышался:
— Ты же не сказала, что хочешь ответить отказом на приглашение господина капитана?
— Ты прав, — спокойно ответила Мальва, — этого я не говорила. Я лишь сказала, что желание гусарского капитана для меня не является законом и никогда таковым не будет.
— Итак, — настаивал Лео, — если я правильно тебя понимаю, предложение это ты принимаешь?
— Нет, ты понимаешь меня неправильно, — твердо ответила Мальва, — я не отказываюсь от этого предложения, но и не принимаю его. Я хочу подумать.
* * *
«12 декабря 1913 года.
Один Бог знает, на что я решилась! Этот человек противоречит всем моим представлениям о мужчинах, которые сложились у меня до сих пор. Спору нет, он недурен собой, но, боже мой, какая беспросветная преснота, какое убийственное отсутствие чувства юмора! Что снаружи, что изнутри он туго стянут мундиром. А что этот солдафон мнит о себе — просто невозможно передать, потому что он неописуемо убог. Мне почти двадцать два года, и я абсолютна убеждена: либо человеческая мысль стремится течь против общего потока, либо ее не существует вообще. Лично он — случай второй. Он целиком погружен в какое-то болото и чувствует себя там абсолютно комфортно. Он не задает никаких вопросов и готов поддакивать всему сущему. Обязанности постигать что-нибудь новое для него не существует, равно как и потребности в этом. Пусть Бог простит ему его ограниченность, но я этого не выношу. Он то и дело повторяет солдафонские банальности и пошлости из полкового лексикона: „Для австрийского офицера, — с неизменным пафосом произносит он, не краснея при этом, — жизнь — это исключение, а смерть — правило“. Господи, что за чушь! Зачем вообще появился он на свет? Чтобы служить кайзеру? Он только то и делает. А тот разве избрал его для этой цели? Разумеется, нет, но подобные вопросы — выше его понимания. Он следует лишь поступающим сверху указаниям. Он, в сущности, оловянный солдатик, которым Его Величество играет в войну.
Тем не менее я решила позволить ему вывести меня „в свет“. Выходит, и я — оловянный солдатик? Дама из шахматной коробки, которую можно двигать куда угодно…
Двадцать два года жила я собственным умом, а 31 декабря меня поведут на бойню, чтобы там со мной покончить…
Такова традиция. Я буду танцевать с ним, и у него будет полнейшее право потискать меня. Не от любви или нежности, а для того только, чтобы продемонстрировать свое мужское начало. Лихой гусар покорил душу еврейской девушки, и в этом состоит его очередной гусарский подвиг.
Зачем вообще я согласилась? Потому что он недурен собой и шустрый малый, как говорит папа, к тому же, носит мундир. И мне не следует забывать, что к облачению его принадлежит еще и сабля, которой убивают людей. Просто так. „Ему не повезло!“ — так это у них называется, и дело с концом.
Одна лишь интонация его голоса выбивает меня из колеи! Он никогда ничего не просит, он приказывает. Папа предлагает ему сфотографироваться бесплатно, но ему этого мало. Сразу три фотографии желает он получить, с очаровательной барышней — в том числе, и все это, разумеется, бесплатно, потому что это так. С ним соглашаются, не задавая вопросов, — извольте, господин фон Шишковиц! Он — из касты повелителей. Что общего у него с каким-то там Бальтюром или с Хеннером? Или — с Дашинским? Пожалуй, только гениталии, но на этом сходство кончается.
Так ли все это незначительно, спрашиваю я порой себя. В особенности, оставаясь наедине с собой, перед сном, лежа в постели. Когда ко мне приходят ощущения, что я — женщина и что во мне разгорается страсть к мужчине. Не просто к человеку, если честно признаться, а именно к мужчине из плоти и крови, который сможет меня почувствовать, который проникнет в мое тело и поглотит меня целиком.
Хочется мне этого или нет? Этот капитан первым вторгнется в меня и сделает меня женщиной. Или — рабыней. Как должна я себя вести? Поддаться чувству или довериться разуму?
Не дури, Мальва! Не позволяй выбить тебя из колеи. Помни о Лизистрате. Мы, женщины, владеем тайным оружием, которое делает нас сильными. Оружие это — слово „нет“».
* * *
В тот же день, когда в дневнике была сделана эта запись, произошло нечто такое, что во всей нашей истории сыграло решающую роль.
Стояло морозное зимнее утро, и блеклое солнце с трудом пробивалось сквозь снежные тучи, которые сгрудились над столичным небом.
У Розенбахов царило приподнятое настроение: несколько дней подряд тонкий ручеек клиентов тек в ателье. Первые доходы давали робкую надежду на то, что времена бедствия остаются позади.
Яна и Мальва были озабочены приготовлениями к рождественским праздникам, кроме того, на них лежала забота о выпечке лакомств к предстоящему празднику Хануки. Поскольку же вся семья не молилась, по сути, ни Христу, ни Моисею, и вообще никому, оба праздника отмечались одинаково, по-земному, как того требовало течение времени.
Из кухни доносились сладкие запахи корицы и сахара. На столе лежали изюм, чищеные орешки и засахаренные фрукты. Яна наносила кисточкой на торт густой смородиновый мармелад. Мальва раскатывала на доске кружки из теста, готовила густой крем из облитых карамелью орешков и взбитых белков. Затем накладывала его небольшими, размером с голубиное яйцо комочками на заготовленные кружочки и вдавливала в каждую кучку зернышко лесного ореха.
В это время в дверь позвонили. Мальва помчалась посмотреть, кого бы это могло принести. Она открыла дверь и оцепенела: на пороге стоял необыкновенной красоты мужчина. Искусное сочетание «Эроса» с Пикадилли с «Мыслителем» Родена. На вид ему было лет двадцать пять, и Мальве он показался явлением из другого мира.
Девушка и юноша — оба разом застыли, потрясенные друг другом, не в силах вымолвить ни слова. Прошла, кажется, целая вечность, прежде чем Мальва выдавила из себя наконец:
— Что вам угодно?
— Ничего. Ровным счетом — ничего, — ответил молодой архангел бархатным голосом, — я совершенно не помню, что, собственно, мне нужно…
— Но вы ведь звонили в дверь… Да кто же вы?
— Я напугал вас?
— Да, — ответила Мальва и залилась краской.
— Вам не нужно меня бояться, — улыбнулся таинственный посетитель, — я всего лишь, так сказать, облако в штанах.
Теперь Мальва растерялась окончательно. В совершенном оцепенении уставилась девушка на этого ниоткуда появившегося мага, которого она, будь ее воля, с наслаждением заключила бы в свои объятия.
— Вы зашли насчет комнаты, если я не ошибаюсь, — почти прошептала она, едва сдерживая рвущиеся наружу чувства.
— Насчет комнаты, — подхватил он, — совершенно верно. Я пришел насчет комнаты. А теперь еще и по другой причине. Я увидел табличку на двери и подумал… — Он заглянул в самую глубину ее глаз, и голос его осекся: — Я забыл, о чем я подумал.
— Так придумайте что-нибудь!
— Я подумал, что я непременно должен позвонить в эту дверь, иначе я сейчас же упаду замертво. Сказать по правде, я не верю в судьбу, но…
Мальва почувствовала, что, если она еще хоть на миг останется наедине с этим юношей, она утратит контроль над собой и совершит что-нибудь из ряда вон. Испугавшись этой мысли, она обернулась и позвала:
— Мама, тут кто-то к нам пришел. Насчет мансарды.
— Насчет чего? — переспросила Яна из комнаты.
Девушка не выдержала и вбежала в кухню. Она была в крайнем возбуждении.
— Выйди же, мама! Там стоит… Адонис.
— О чем ты, Мальва? Ты что — спятила?
— Он пришел из другого мира. Я клянусь! Выйди, и ты сама в этом убедишься!
— Успокойся, Мальва! Выражайся понятно. Он стар, молод или как?
— Облако в штанах — вот что он такое. Это его слова.
— Надеюсь, он не принес нам бурю, — проворчала Яна.
Она вымыла руки, придирчиво рассмотрела себя в зеркало и вышла в коридор, чтобы собственными глазами рассмотреть этот феномен. Увидев пришельца, Яна окаменела точно так же, как ее дочь минутой раньше. От растерянности она тоже утратила дар речи. Наконец взяла себя в руки и спросила прохладным деловым тоном:
— Так вы насчет комнаты?
— Да, я буду здесь жить. Позвольте представиться: меня зовут Камин. Хенрик Б. Камин из Нью-Йорка. Я прибыл сегодня…
— Очень рада, мистер Камин, — ответила Яна, только теперь внимательно рассмотрев посетителя. Его глаза светились серебряным блеском, и весь он излучал поразительный поток любопытства и необычайного задора. Яна не удержалась от улыбки и спросила:
— Что привело вас в Вену, позвольте спросить?
— Я студент-медик, и здесь я, в некотором роде, проездом.
— Зачем же вам моя комната, если вы не намерены оставаться здесь? — Вопрос прозвучал несколько неприветливо. — И куда же вы дальше направляетесь?
— Об этом мы поговорим позже, — ответил Хершеле с таинственной улыбкой, — а сейчас я прошу вас показать мне мою комнату.
Яна заперла входную дверь и повела гостя на мансарду. Поднявшись, она открыла дверь в комнату и сказала смущенно:
— Показывать здесь, собственно, нечего, господин Камин, если это ваше настоящее имя. Это скорее похоже на чулан, чем на жилую комнату. Боюсь, вам это не подойдет…
Адонис вошел в комнату и присел на кровать, тогда как Яна продолжала стоять у двери. Он не удостоил помещение и беглым взглядом. Вместо этого он прикурил сигарету и сказал:
— Вы уж позвольте мне самому решать, нравится мне этот, как вы выразились, чулан или нет. Я беру эту комнату и сейчас же. Это как раз то, что я искал. Но отчего же усомнились вы в моем имени. Прикажете предъявить документы?
Кровь прихлынула к голове Яны:
— Мне очень жаль, если я обидела вас, — ответила она, смутившись, — однако людям, подобным вам, нередко приходится — как бы это поточнее сказать — маскироваться. Кроме того, у вас славянский акцент, и потому я подумала…
— Вы полагаете, я фальшивомонетчик, мадам Розенбах, или беглый должник?
— Зовите меня Яна. Я знаю, что вы не обманщик. Напротив…
— А кто же? — спросил Херш, из глаз которого сыпались хрустальные искры.
— У меня такое чувство, что вы все-таки маскируетесь.
— И при этом вы мне все-таки верите?
— Пожалуй, именно поэтому. Я всегда принимаю сторону преследуемого.
— Тогда мне все-таки придется открыться вам, мадам Яна. На самом деле, меня зовут Херш Камински — мои братья зовут меня Хершеле. Я хочу вернуться в Россию. Точнее — в Варшаву. Но — нелегально.
— Нечто такое я себе и представляла. Как долго намерены вы задержаться у нас?
— Это зависит не от меня, но скоро все прояснится. В любом случае, в этом доме мне хорошо…
Яна была околдована. Она чувствовала, что перед ней не просто случайный человек, ищущий подходящее жилье. В словах его она слышала семейную доверительность, внутреннее родство, как тогда, у Дашинского, когда они с Мальвой в первый и последний раз навестили его. Хершеле был из той же касты. Он говорил со сдержанной уверенностью, убедительно и негромко, как человек, твердо убежденный в правильности избранного пути. Яна понимала, что человека этого привела к ним сама Судьба. Она подошла к стене, поправила слегка покосившееся зеркало, не преминув при этом окинуть себя беглым взглядом, и сказала по-польски:
— Очень неохотно покидаю я эту комнатку, пан Камински. Для меня она была чем-то вроде убежища.
— Со мной у вас не будет никаких проблем, пани Янко, — в тон ей ответил Хершеле, — целыми днями я в университете, остальное время провожу с моими товарищами.
— Я сдаю эту комнатку потому лишь, что нахожусь в затруднительном положении. Мне нелегко решиться на это, но вы симпатичны мне…
— Я скопил немного денег, — сказал студент, по-мальчишески улыбнувшись, — и могу помочь вам…
— Благодарю вас сердечно, — ответила Яна, покраснев, — мне будет достаточно, если вы регулярно будете вносить плату за проживание.
— У вас материальные затруднения, сказали вы?
— На карту поставлена моя честь… Но я надеюсь как-нибудь выкрутиться.
— Я заплачу вам вперед. За двенадцать месяцев — согласны? Пожалуйста, не отказывайтесь!
Он протянул Яне связку банкнот. Она взглянула на нее с испугом, глаза ее сделались влажными.
— Дела наши не всегда были так плохи, как сейчас, — сказала она чуть слышно и потупилась. — Что ищете вы у нас? — спросила она неожиданно для него и себя самой. — Этот дом отвратительный и холодный. Почему вы хотите остановиться непременно у нас? Видно ведь, в какой среде вы вращались. Здесь не самое подходящие место для вас. Мне так неудобно…
— Я буду жить здесь, pani Janeczko[12]. По разным причинам. Например, ради ваших глаз.
— Моих?
— У нас глаза отверженных. В наших сердцах полыхают ярость и нежность. Мы — племя одержимых. Поэтому мы узнаем друг друга. Всюду. Даже в темноте. В нашем голосе звучит страстный призыв, в наших душах — полыхает пламя…
— Как необыкновенно вы говорите, panie Камински! Вы занимаетесь алхимией с помощью покоряющих душу слов. Подобно миссионеру, который старается улучшить наш мир.
— Разве это предосудительно?
— Мне хотелось бы знать, к какому берегу направляете вы ваш челн. Какие ставите цели…
Хершеле хитро улыбнулся:
— Я хочу оплатить аренду этой комнаты. Причем, как было сказано, за двенадцать месяцев вперед.
— Не получится, — коротко возразила Яна.
— Получится, — настаивал Хершеле, — у меня и не такое получалось.
— Во-первых, вы не знаете, соглашусь ли я сдать вам комнату…
— И во-вторых?
— Какую плату я потребую.
— Все это я знаю, госпожа Яна. Я умею читать по глазам.
— Ну, попытайтесь! — кокетливо заявила Яна.
— Вы действительно хотите убедиться в этом?
— Разумеется!
— Видно, и вам приходится набрасывать на лицо маску. Как и дочери вашей…
— Ваше утверждение необоснованно.
— Вы прибегаете к той же алхимии, что и я.
— Откуда вам это знать?
— Опять же, ваши глаза говорят об этом. Это алхимия с помощью зрачков. Я вижу, вы обе в этом мастерицы — обе!
Едва Хершеле произнес эти слова, Яна стянула с шеи цепочку с амулетом, полученным от Дашинского в качестве залога. Она раскрыла его. На пурпурно красной подложке сверкало золотое солнце.
— Хорошо, что мы с вами встретились, господин Камински, — сказала она серьезно, — случайности — это звездные метеориты, которые падают с неба.
Он стоял перед ней, тот самый полубог. Облако в штанах, нежданно-негаданно повисшее в их доме и осыпавшее его весь хрустальной пылью из искрящихся глаз.
Хершеле взял ее руку и нежно поцеловал.
— Я прошу вас об осторожности и конспирации, товарищ Розенбах. Меня преследуют. — Он выложил на умывальник пакет с деньгами. — Здесь шестьсот крон.
Не говоря больше ни слова, он направился к двери. У самого выхода остановился и обернулся:
— Вы еще не сказали мне, сдаете ли вы мне комнату и на какой срок. Я буду жить здесь. Нравится это вам или нет.
* * *
Последний день 1913 года выдался на редкость отвратительным. Ледяной восточный ветер продувал улицы вдоль и поперек. Часть старого Дуная покрылась льдом, и это не предвещало ничего хорошего. Сотни тысяч венцев готовились к проводам старого года. Никто не думал, что мир стоит на пороге, по сути, нового летоисчисления. Знал бы кто-нибудь, что несет наступающий год и какие времена грядут вскоре, он постарался бы зарубками в собственной памяти запечатлеть каждое мгновенье того рокового дня, 31 декабря 1913 года.
Люди, однако, ничего не подозревали, и по обыкновению, в семьях, посвятили все послеобеденное время тому, чтобы выжать из последних минут уходящего года как можно больше наслаждений. Особенно этим были озабочены женщины, которые рылись в шкафах и сундуках, извлекая на свет всякого рода забавный новогодний реквизит.
Одни искали истину в пестрых игральных картах и кубиках из слоновой кости, другие — в восточных сонниках и всевозможных чудодейственных средствах. У евреев принято наугад раскрывать Тору и разбирать смысл слов, которыми начинается страница справа.
Розенбахи устроились в уютно натопленном зале. Развлечение их состояло в том, что, расплавив старые оловянные фигурки, они бросали кусочки жидкого металла в холодную воду. Расплавленный металл немедленно схватывался, образуя причудливых форм комочки. Их выкладывали на блюдо и подвергали исполненному фантазии обсуждению и толкованию.
Сеанс открывала Мальва, которая более других ждала от будущего судьбоносных событий. Для начала она плеснула расплав в воду, и у нее получился маленький монстрик, отдаленно напоминавший шар с пятью застывшими на его поверхности зубцами. Зубцы эти, хотя и были разной длины, обращены были в одну сторону. После долгих обсуждений все сошлись во мнении, что в итоге получилась все-таки звезда, но полного удовлетворения компромисс этот никому не доставил. Тогда Яна предложила для пущей уверенности заглянуть еще и в Тору — может, там найдется подсказка для разрешения общих сомнений. Лео отыскал на стеллаже редко извлекаемый оттуда фолиант, достал его и, пробубнив скороговоркой монотонную молитву, раскрыл книгу наугад. Результат оказался ошеломляющим: самым первым на странице справа стояло слово Jad, что в переводе означает — рука. Шар с пятью обращенными в одну сторону лучами оказался в итоге рукой! Оставалось лишь предположить, что рука эта означает для Мальвы.
Яна, которая с давних пор исполняла в семье роль сверхчувствительной личности, закрыла глаза всеми десятью пальцами и полушепотом изрекла пророчество, скорее отвечавшее ее собственным желаниям, чем магической интуиции:
— Я вижу руку, которая простирается к тебе, Мальва. Придет человек и возьмет тебя за руку. Ваши руки сплетутся и поглотят друг друга. Он положит свою руку на Священное Писание и произнесет клятвенное обещание. Он возьмет в руку перо и подпишет важный для вас обоих документ. И еще я вижу: этою же рукой он погладит тебя по голове и укажет путь, по которому предстоит тебе идти…
Розенбахи льстили себе уверенностью, что они выше всяких суеверий. Они высмеивали широко распространенную практику черной магии и отвергали ее как рудимент мрачного Средневековья. Да и к самой религии относились с известной долей иронии. Когда однажды Лео попытался, в порядке исключения, зачитать что-то из Торы вслух, он сделал это по-шутовски булькающим голосом старого евнуха, и эта его дурацкая выходка была дружно встречена злорадным смешком.
В этот новогодний день все было иначе. На дворе снежило, и по всему жилищу распространилось приятное ощущение уютного тепла. Пророчество Яны, которая слыла человеком холодного рассудка, целиком отвечало актуальным чаяниям, оно прозвучало в высшей степени убедительно и тем повергло всех присутствующих в глубокое смущение. Лео заявил, что предчувствие скорой свадьбы буквально висит в воздухе и вопрос лишь в том, кто явится избранником. Мальва и вовсе была сбита с толку. Она наотрез отказалась вступать в игру с двумя свечами и тем подвергать себя новым потрясениям.
— Значит, он укажет мне путь, по которому я должна буду идти? — сказала она шутливым тоном. — Ну что ж, пусть тогда бережется: я никому не позволю указывать мне дорогу рукой или еще чем-нибудь!
Сделав такое решительное заявление, она схватила пятипалый шар и шмякнула его об пол. Магический предвестник тут же разлетелся на мелкие кусочки. В зале повисла тревожная тишина. Нить беседы была разорвана. Яна молча убрала со стола оловянные фигурки. Но Лео, похоже, так и не понял, почему вдруг в воздухе повисло напряженное молчание.
— Когда же явится этот наш гусарский кавалер? — спросил он абсолютно некстати.
Он ни на миг не сомневался, что пророчество его супруги может касаться исключительно руки этого великолепного господина фон Шишковица — кого же еще!
— Между восьмью и девятью, Лео, — ответила ему Яна, многозначительно улыбнувшись одними уголками рта, — но я очень удивилась бы, окажись именно он тем самым избранником.
— А кто же еще? — с тревогой в голосе переспросил придворный фотограф. Но ответа не последовало.
С Мальвы было довольно. Она решила положить конец дебатам на эту тему:
— Что значит «наш гусарский кавалер»? Кому хочется взять его в мужья — пожалуйста! А меня, ради бога, оставьте уже в покое. Я — вне игры.
— А что, собственно, тут не так? — все еще продолжая недоумевать, спросил Лео и недовольно наморщил лоб. — Похоже, в моем доме, за моей спиной принимаются ответственные решения — это так?
— Разумеется, папа, — холодно ответила Мальва, — все, что касается меня лично, решаю я сама и не нуждаюсь в ваших любвеобильных родительских подсказках.
* * *
Он позвонил в дверь ровно в восемь ноль-ноль. С военной пунктуальностью и нетерпением офицера императорской гвардии.
Лео был на седьмом небе от счастья: на таких парней можно смело полагаться! Это настоящий человек слова. Сказано — сделано: господин фон Шишковиц пригласил Мальву на новогодний бал.
Сам он был похож на лакированный манекен, на фельдмаршала из детской книжки с картинками. Даже Яну впечатлил его вид! Все сверкало на нем: ордена и эполеты, пуговицы мундира и сапоги. А глаза его посверкивали, как у рептилии.
Мальва была польщена, но не ослеплена. «Перед публикой с таким предстать еще можно, — подумала она, — но только не погружаться в его глаза. Не забываться на его плече. У него застывшие глаза цвета зеленой тины — совсем как у лягушки, готовой наброситься на свою жертву». И весь он напоминал ей какое-то водяное ископаемое. Смотришь на него и будто прикасаешься к чему-то слизистому, наподобие угря — красивому и холодному. И даже имя у него какое-то водянистое, если внимательно прислушаться: Шиш-ко-виц — будто что-то раскрутилось и плюхнулось в реку, и тотчас на дно пошло, даже кругов за собой не оставив…
Он низко кланяется, но в показном почтении этом так и сквозит самолюбование. Со стороны он — само уважение, но когда в воинском приветствии он подносит к виску руку, напряженную, как перетянутая струна, так и кажется, что салютует он самому Его Императорскому Величеству. Его манеры были до такой степени безупречны, что Лео с трудом подбирал слова для выражения своей признательности и восхищения. Когда капитан подавал Мальве шубу, отцовская гордость придворного фотографа вышла из берегов, и счастливый Лео воскликнул:
— Мы чувствуем себя облагодетельствованными!
* * *
Благодаря своему несравненному залу для балов, офицерское казино на Шоттенринг особо отмечено в путеводителе 1913 года двумя звездами. Это означает, что построенное во времена правления Марии Терезии это грациозное сооружение с его неповторимой архитектурой и божественным оркестром, основанным в 1834 году всемирно известным «отцом венского вальса», блистательным маэстро Йозефом Лайнером, засияло в полном блеске. По сути — и это бесспорно — и в 1913 году тот же самый струнный оркестр с неизменным виртуозным мастерством исполнял все ту же танцевальную музыку, неземной легкости и сладостную, как знаменитый Венский сахарный торт.
Уже к девяти часам роскошный зал был охвачен предвкушением новогоднего бала. Йозеф Шишковиц зарезервировал столик, на котором красовалась табличка с его именем, выведенным изысканно витиеватым шрифтом. А ниже была сделана приписка: «В сопровождении фройляйн М. Р.». Мальву приписка эта покоробила: быть упомянутой одними инициалами, тогда как на соседних столиках стояли таблички с полными именами сидящих за ними дам, — фе!
— Это простое недоразумение, моя прелестная барышня, — успокоил ее капитан гусарского полка, мило улыбнувшись, — я немедленно все улажу.
Шишковиц куда-то умчался, чтобы исправить «досадную ошибку», а Мальва осталась стоять. Нежно-розовое шелковое платье и сверкающая позолотой диадема делали ее похожей на сказочную Эсмеральду, на благородную орхидею, к которой, сгорая от любви и нетерпения, уже спешил блистательный молодой щеголь.
— Через три часа наступит Новый год, сударыня, — шепнул он, приблизившись к ней со степенным поклоном. — Граф Ференц фон Кароли спрашивает, может ли он рассчитывать на танец с вами?
— Скажите графу, что я не одна, — холодно ответила Мальва и отвернулась от просителя, не удостоив его ни единым взглядом.
Кавалер, однако, не сдавался. Он поклонился еще раз и сказал — на этот раз гораздо настойчивей:
— Этого, жестокая сударыня, я никак не могу передать ему, поскольку…
Остаток фразы был целиком поглощен медовым потоком внезапно грянувшей музыки. Потерпев вторую неудачу, незадачливый проситель осекся и лишь кисло улыбнулся. В этот момент с не менее кислой улыбкой на лице вернулся Йозеф фон Шишковиц. Нарочито небрежным жестом он пригласил Мальву на танец.
Танцорами оба были великолепными! Это заметили все — кто-то с завистью, а кто-то с одобрением. Пары одна за другой сходили с круга, пристраиваясь у стен, чтобы полюбоваться блистательной парой — бравым гусаром и его таинственной партнершей. А те, увлеченные танцем, не заметили, как остались одни в нарочно созданном для них круге, и когда оркестр выдыхал последние аккорды, все присутствующие наградили молодых людей громкой овацией.
Незнакомый проситель предпринял третью попытку уговорить строптивую барышню, которая еще не успела перевести дыхание после стремительного полета по залу:
— Сударыня, вы — королева новогодней ночи, спору нет. Но графу Ференцу фон Кароли я не могу передать, что вы отказываете ему в танце, потому что пришли не одна.
— Значит, ему не повезло, и он даже не узнает об этом, — ответила Мальва, снисходительно улыбнувшись. Этот приставала стал уже действовать ей на нервы.
— Он уже знает об этом, — не унимался тот, — потому что граф Ференц фон Кароли — это я. А кто вы, безжалостная незнакомка?
— Я — Розенбах. Не больше и не меньше.
Сказать, что внезапно наступила гробовая тишина, значит не сказать ничего. Над всем залом разразилось вдруг оглушительное безмолвие, будто шальная шаровая молния, заблудившись, влетела сюда и стала неприкаянно рыскать по сторонам в поисках чего-нибудь достойного ее губительной разрядки. В орлином гнезде, предназначенном исключительно для представителей касты голубокровых, в этом элитном казино для самых, самых избранных офицеров Австро-Венгерской империи посмела появиться какая-то еврейская бабенка, и она, к тому же, имеет наглость вслух произносить свое поганое имя, которое незаконным образом пытались стыдливо завуалировать инициалами!
Буря не заставила себя долго ждать. Уязвленный граф почувствовал, что ему следует сейчас же, немедленно отреагировать, если он не хочет, чтобы от такой наглости рухнула в небытие вся двойная Австро-Венгерская монархия.
Лицо его покрылось бурыми пятнами, в висках застучала ярость, и Ференц фон Кароли, снедаемый жаждой немедленной мести, пустил в ход свои самые острые стрелы.
— Наконец прояснилось, — злобно прошипел он, — будто пелена с глаз, сударыня Розенбах…
— Что вы хотите этим сказать? Ваша назойливость…
— Что были достаточные основания сократить ваше имя до инициалов. Но и этого оказалось слишком мало, считаю я.
Мальва побледнела. Она повернулась к своему кавалеру и потребовала, чтобы перед ней немедленно извинились. Гусар наклонился и шепнул ей в самое ухо, что он не хотел бы раздувать скандала. Мальва окончательно поняла, что дело зашло слишком далеко, и что рассчитывать ей не на кого. В таком случае, ответила она, ей придется самой за себя постоять. Она подошла к графу и влепила ему несколько звонких пощечин. Ни единый мускул не дрогнул на лице фон Кароли. Он достал из бумажника визитную карточку, сунул ее под нос ошеломленному всей этой сценой фон Шишковицу и прогнусавил с особенным высокомерием:
— Вы немедленно вышвырнете отсюда вон эту еврейскую тварь, иначе мы будем драться!
Капитан гусаров принял решение, которое вполне отвечало его мелкой сущности. Он взял Мальву под руку и направился с ней в гардеробную:
— Следуйте за мной, фройляйн Мальва, — чуть слышно произнес он со скользкой улыбкой угря, в очередной раз выскользнувшего из рук рыбака, — мы покидаем это помещение.
— Почему же вы не побили этого хама, господин Йозеф? — спросила Мальва достаточно громко, чтобы схлопотавший от нее оплеухи фон Кароли хорошо мог расслышать ее слова. — Это был бы поступок мужчины и офицера. Или я ошиблась в вас?
— Разумеется, вы ошибаетесь, фройляйн Мальва, — ответил незадачливый кавалер, — я всего лишь капитан. А он — майор. У нас в Австрии существует табель о рангах.
* * *
«Вена, 8 января 1914 года.
Дорогой Бэр, дорогие братья, я в Вене. Можно сказать, в двух шагах от российской границы. Я внимательно наблюдаю, прислушиваюсь в ожидании какого-нибудь сигнала оттуда, но пока ничего нет. Точнее, почти ничего. Я знаю, что там все кипит, но кипение это продолжается уже десятки лет. Теоретически этот вулкан давно должен был вскрыться, однако новости, которые долетают до меня, по-прежнему разочаровывают.
Вчера разговаривал с Радеком. Он стал еще более близоруким, чем прежде, а губы его — еще тоньше. Его тон, как всегда, высокомерен и холоден. Наш разговор привел меня в состояние досадного беспокойства. Потому я решил в ближайшие дни преодолеть большую стену. Теперь я вообще потерял уверенность и потому пишу вам. Мне нужен ваш совет — как мне поступить.
Царизм, говорит Радек, это бомба замедленного действия, готовая в любую минуту взорваться. Если так, оставаться дальше в Вене и заниматься изучением всякой чепухи — я имею виду медицину — нецелесообразно.
О нашем бегстве в Америку он знает все и говорит, что партия считает нас дезертирами. Я возразил, что и Ленин бежал из ссылки, к тому же и не раз. Радек обозвал меня дерзким идиотом, потому что сравниваю себя с Лениным. Ленин — наш вождь, он гигант, мозг нашего движения. А мы с вами — всего лишь смешная команда футболистов, которые в решающий момент наложили в штаны.
Он знает о нас все и, похоже, вообще отлично информирован обо всем. Он набросился на меня — дескать, я втюрился в хорошенькую мордашку и забыл о революционном долге. Откуда стало ему это известно? Сама девушка до сих пор ничего не знает, потому что признаться ей в этом у меня по сей день нет ни времени, ни мужества. Я не спорю, этот Радек — крупный зверь в партии, но я его с трудом переношу. Он позволяет себе такой самонадеянный тон, который не оправдывают ни его осведомленность, ни его политическое прошлое. Он разговаривает языком газетных передовиц, без эмоций и сочувствия.
Все, что он говорит, выглядит вполне логично и взаимосвязано, как замок и ключ. Но все — лишь вокруг да около. Я почти не в силах в чем-то возразить ему, потому что не воспринимаю изощренного хитроумия его формальной логики.
Я спросил его, что, собственно, партия ожидает от меня. Мне ни в коем случае не следовало этого делать, ибо таким вопросом я как бы признаю непререкаемость его авторитета и, значит, позволяю ему и впредь во всем поучать меня. Что он и делает.
Он требует, чтобы я незамедлительно ехал в Варшаву и там — я цитирую дословно — устранил все сомнения относительно нашей фамилии. У меня перехватило дух! Я также не нашелся, что ответить, когда он поучал меня, будто я обязан исполнением мелких поручений доказать, что мне вообще доверять можно, потому как мы тогда дезертировали и без согласования с товарищами пустились в бега. Таким образом, до конца нынешнего месяца я должен покинуть Вену и отправляться к польским товарищам. Это приказ. Больше сказать нечего.
Теперь я спрашиваю вас, дорогие братья, что думаете вы обо всем этом? Кто, собственно, он такой, этот Радек? Друг Ленина, как он об этом кругом рассказывает, или нечто совершенно противоположное, ибо о его личности ходят самые нелицеприятные слухи? В любом случае, мне непонятно, по какому праву он распоряжается моей жизнью. И ведь сам он не находится в бурлящей Варшаве, а обретается на сытом и спокойном Западе и корчит из себя серого кардинала. Кто дал этому воображале право распоряжаться от имени партии? Он заручился ее согласием на эту роль? Кто-то поручил ему это? Кто вообще избирал его? Насколько я знаю, никто не давал ему такого мандата. Тем не менее он не стесняется приказывать мне.
Сам я, однако, намерен прислушиваться к голосу собственной совести. Или вы другого мнения на этот счет?
Я намерен завершить мое образование. Хочу приехать в Варшаву квалифицированным врачом. В профессиональные революционеры я не гожусь. Для этого я должен уметь что-то делать, чтобы быть полезным нашему делу.
Быть может, вы скажете, братья, что я тут разомлел от комфорта, поддался соблазнам красивой венской жизни, а все остальное, о чем я вам пишу, всего лишь отговорки. На это я могу ответить лишь, что город этот — действительно настоящее Эльдорадо, самый приятный и в то же время — самый распутный город на земле. Кругом на поверхности — сверкающее очарование, а внутри его — откровенное распутство, неотвратимое разложение, беспомощно прикрываемое блекнущей мишурой, и все это в масштабах, которые выше всяких представлений. Вена — это тухлое болото, и я вовсе не намерен погружаться в него. Напротив, вся эта мерзость вызывает во мне отвращение и лишь укрепляет мое революционное самосознание. Никогда прежде я не был так тверд в моих убеждениях, как теперь.
Это правда, что я влюбился. Но не в хорошенькую мордашку, как выражается Радек, а в прекраснейшую девушку на свете. Разве это предательство? Я уже писал, что я еще не объяснился ей в любви. И ее мнение мне пока неизвестно. Но все это уже не играет большой роли: она должна стать моей. Во что бы то ни стало. Живой или мертвой. Но, конечно же, не в ущерб моему революционному долгу. Либо она пойдет со мной, либо я заставлю себя забыть о ее существовании.
Если вы считаете, что мое место в Польше, я выезжаю туда немедленно вместе с ней. В том, что она последует за мной, не сомневаюсь ни на миг.
Я видел ее единственный раз. На лестничной клетке. Но я уверен: именно она станет моей женой и пойдет за мной хоть на край земли. Иначе моя жизнь лишена всякого смысла.
Ответьте мне сразу. Чувствую, мы стоим на пороге очень важных событий.
Хершеле».17
Все человечество стояло на пороге важных событий. Не составлял исключения и дядя Хеннер, который держался в стороне от мирового исторического процесса.
В тот день стопы его приближались к стенам Вечного города на семи холмах. О том, что его стараниями в Лондоне взлетел на воздух многоквартирный жилой дом и было разбито сердце добропорядочной английской дамы, он уже забыл. Как я уже не раз говорил, он был фантазером, если не сказать аферистом или даже обычным пройдохой. Впрочем, в каждом из нас в большей или меньшей степени есть что-нибудь от этих пороков. Направляясь в Рим, чтобы принять крещение, Хеннер стал позорным пятном нашей семьи: такого не следует совершать даже и с петлей на шее.
Истины ради надо признать: вовсе не страх перед Божьей карой свойствен нашему племени. Безрассудства в нас куда как больше — это факт, и народом избранным мы стали, скорее, случайно, но благодаря именно этой случайности, мы не приемлем отступничества. Более того, не веря в небесный промысел, богохульствуя, проклиная и греша на каждом шагу, пастырей своих мы не меняем. К Заветам мы относимся без должного пиетета. Не моргнув глазом, поглощаем свинину, но перебежчик для нас — вечный изгой. Мы легко довольствуемся тем, что в синагогу заглядываем всего раз в году, но нога наша не ступает в церковь, где молятся гоим, которые на протяжении двух тысячелетий стремятся нас извести.
И только Хеннер совершил эту мерзость, и потому все мы, выражаясь языком моего деда, отрекаемся от него.
Разумеется, дед мой все же малость перебирает. Впрочем, разве не все у нас с перебором? У нас орут, причитают, вздымают над головой руки, рвут на себе рубашку, кусают сжатые кулаки, и это — по всякому поводу, а то и вовсе без. В произносимых нами словах мы — сущие экстремисты, воинствующие фанатики… Но на деле — ни от кого мы не отреклись. На самом деле, от Хеннера мы отвернулись лишь на какое-то время, и даже это не вполне истина, потому что, в сущности, он был всего лишь полоумным дядей, мишугене, что у евреев — не более чем грубоватое прозвище. Мне кажется, его попросту невзлюбили, а может, и того менее — на него обозлились за то, что он как бы обратился к конкурентам, не выговорив предварительно должных выгод. Короче, он совершил плохую сделку, а плохие сделки не прощаются никому, даже ангелам. Все осуждали скверный поступок Хеннера, втайне алкая при этом не упустить случая оказаться в одной связке с этим грешником и разделить с ним его тяжкий грех, а заодно и возможные выгоды.
Наконец, Хеннер, этот роковой неудачник, который всех нас надул, обобрал и выставил дураками, был родным братом Лео Розенбаха. В конечном итоге, он — один из нас, плоть наша и кровь, а это и есть самое главное.
Итак, Хеннер прибыл в Рим. Как того требовал артистический темперамент этого чудака, он вступил на святые камни Вечного города босиком, облаченный в пепельно-серые лохмотья пилигрима, истрепанные ветрами и невзгодами. За ним, с трудом перебирая до крови сбитыми стопами, сжимая под мышкой обшарпанный футляр с драгоценной скрипкой, покорно плелся его бессловесный сын Натан. Вступление в город этой пары было в высшей степени импозантным, оно не осталось незамеченным зеваками, по достоинству его оценившими.
Тибр сверкал в лучах утреннего солнца, в садах уже вовсю распускались магнолии, наполняя воздух изысканным ароматом, смешанным с нежным запахом жасмина.
Хеннер и Натан направились к площади Святого Петра. Будто два лунатика, все еще удерживаемых путами давно прошедшей ночи, проковыляли они к замку Святого Ангела. Вдруг откуда-то сверху могучим потоком полился неземной красоты колокольный звон. Запрокинув голову, Хеннер, будто помешанный, стал крутить ею по сторонам, подставляя лицо льющемуся с небес потоку божественных звуков.
— Это звонят колокола собора Святого Петра, мой мальчик, — прохрипел он сквозь перехватившие дыхание слезы и простирая к небу дрожащие от волнения руки, — возьми в руки скрипку, и пусть зазвучит «Аве Мария», чтобы христианский Бог услышал нас!
Натан положил футляр прямо на тротуар. Наклонив голову, он прижался щекой к скрипке и осторожно тронул смычком струны. Из груди ее полилась мелодия необыкновенной чистоты и нежности. Никогда прежде Натан не играл так проникновенно. Он не был больше вундеркиндом. Звуки, которые извлекал он из своей скрипки, окончательно окрепли. Они сделались уверенными и печальными, как молитва, с которой обращается к небу человек, твердо знающий, о чем просить Бога.
Вскоре оба паломника были окружены плотным кольцом невесть откуда появившихся зевак. С благоговением внимали итальянцы божественной кантилене, которая в сопровождении вибрирующего в воздухе колокольного звона заставляла сердца людей сладко вздрагивать, призывая случайных прохожих к необыкновенному воскресному концерту. Слушатели были околдованы. В особенности женщины, которые не в силах были отвести завороженных взглядов от хрупкого юноши с такими печальными глазами и мраморно-белой кожей.
Неожиданно мелодия оборвалась. Натан опустил скрипку, и по щекам его заструились слезы. Околдованные и потрясенные слушатели с недоумением смотрели на рыдающего уличного скрипача. Они не знали, что нужно сделать, чтобы он продолжил свою волшебную игру.
Тогда дядя Хеннер едва заметным, но вполне понятным движением пальца указал толпе на лежащий на тротуаре футляр. Люди поняли. До тонкостей отработанный трюк, без промаха срабатывавший на всем пути паломников от Англии через Францию и до самой Италии, безотказно сработал и на сей раз. Многие сотни мелких и крупных монет сплошным потоком полетели к ногам Натана. Засверкали и золотые монеты, которые Хеннер поспешно подбирал и рассовывал по карманам. Выдержав должную паузу, Натан вновь прижал скрипку подбородком к плечу и доиграл «Аве Мария» до конца. Буря непередаваемого восторга сотрясла толпу. Одухотворенные столь бурной реакцией пилигримы собрали свои пожитки и, не переставая кланяться восторженной публике, продолжили свой путь.
Когда они достигли цели своего странствия, было уже половина десятого утра. Перед ними простиралась площадь всех площадей, на левом крыле которой величественно и достойно возвышается главное на земле хранилище небесной благодати, которое называют Центром христианского мира.
Несостоявшийся изобретатель цветной фотографии и его сын, виртуозный мастер скрипичной игры, с глубоким волнением вступили под знаменитый портал перед собором Святого Петра. Наконец-то оба они стояли у самых главных и единственных на земле ворот, ведущих в Рай. Последняя надежда их истерзанных душ уже дышала на ладан.
По обе стороны Святых врат стояли стражники в пестром обмундировании. Пристальным, недоверчивым взглядом ощупывали они приближающихся к святыне посетителей, жаждущих вступить наконец в пределы храма всех храмов, святыни всех святынь, чтобы получить причитающуюся каждому страждущему толику Божьего благословения.
Хеннер приблизился к одному из стражников и спросил его дрожащим от волнения голосом:
— Вы ведь швейцарец, не так ли?
— Не останавливаться! — отрезал страж металлическим голосом.
— Я уважаю швейцарцев, — продолжал приставать Хеннер, — за то, что они живут высоко в горах, ближе к Всевышнему.
— Что хочет этот человек? — спросил напарника другой стражник.
— Отпустить мне грехи, — ответил тот без тени улыбки на лице, — совершить службу Богу и исповедаться.
— Если этот господин хочет войти в храм, — строго сказал второй стражник, — ему надлежит вначале облачиться в другие одежды!
— Но я ведь паломник, — почти взмолился Хеннер, — я иду из самой Англии. Тысячу миль пешком.
— Другие одежды, сказал я! В таком виде я не могу впустить вас.
— Но в Священном Писании сказано: «Придите ко мне, обремененные и в отрепьях!»
— Найдите там что-нибудь более подходящее, — не поддавался стражник.
— О ты, святой отец наш! — с глубоким выдохом изрек Хеннер, поклонившись до самой земли.
Стражник уже понял, что за паломник стоит перед ним.
— Вот, вот, — насмешливо буркнул он в ответ, — святой отец наш? Он давно дожидается вас. У него уже и ноги от ожидания свело.
— Я уверен, он слышал обо мне, — гордо произнес Хеннер, пропустив мимо ушей иронию швейцарца, — ибо я — Богом отмеченный изобретатель, а это — мой сын.
— Ладно, ладно, — ответил стражник, теряя терпение. — Папа живет не здесь, а там, напротив. А в этот храм допускаются только прилично одетые люди. А теперь — ступайте!
Хеннер решил прибегнуть к другой методике:
— Да будет прославлен Иисус Христос! — громко прошептал он.
— Ныне и во веки веков! Аминь, — подхватил стражник и отвернулся.
Эти слова тоже не подействовали на Хеннера. Он все еще надеялся пройти в храм, но окончательно потерявший терпение швейцарец бесцеремонно взял его за воротник и строгим голосом заявил:
— Вам не сюда, сказал я, а туда, напротив! А теперь — марш отсюда!
Так бесславно завершилась первая попытка Хеннера приобщиться к христианству. Жалкими и понурыми пересекли наши паломники площадь Святого Петра и поплелись в противоположную сторону. У самого фонтана стоял торговец церковными безделушками, предлагая крестики из дерева, слоновой кости и серебра. При виде его, на Хеннера снизошло озарение. Он ведь о главном забыл: у него должен быть крест! Непременно деревянный, как подобает нищему паломнику, большой и тяжелый, наподобие того, что возлежал на спине Спасителя, когда того гнали тернистой дорогой его.
Взвалив на плечи эту ношу, Хеннер вновь потащился к входным воротам, которые, по его представлению, прямиком вели в покои святого отца. Как раз из ворот этих вышел богатырского сложения человек. Это был священник, облаченный в фиолетовую мантию, которого Хеннер ввиду его внушительных размеров принял за Верховного правителя христианского мира.
Не раздумывая долго, бросается он к ногам священника, вздымает к нему упоенный взгляд, протягивает к нему свой крест и выкрикивает:
— Припадаю к ногам вашего преосвященства и прошу апостольского благословения я, нищий странник!
— Vous faites erreur, mon fils, vous devez vous adresser’a quelqu’un qui sait parler votre langue[13].
Хеннер ни на миг не сомневался, что перед ним — святой отец собственной персоной. Он обхватил обеими руками стопы священника и завопил:
— Я — сын греха, ваша светлость. Позвольте мне присоединиться к великой пастве Спасителя и снимите с меня грех моего происхождения!
Он стал проникновенно целовать обувь священника — кажется, и камень размягчился бы от искренности этих эмоций, но громадного роста пастырь оставался безучастным ко всем этим стенаниям:
— Que Dieu vous pardonne, mon fils. Levez-vous de la poussière et n’avilissez pas ce lieu sacré! Vous êtes dans la ville éternelle![14]
С этими словами он, незаметно для Хеннера, не понявшего ни единого слова из по-французски произнесенного монолога, тихо и незаметно исчез, растворившись в пестрой толпе зевак, заполнявших площадь Святого Петра. Сам же Хеннер, решив, что испрошенное благословение им получено, продолжал стоять на коленях.
— Благодарю вас, святой отец, — изрек он, обливаясь слезами умиления, — вы освободили меня от позора иудеев. Смыта Авраамова скверна. Я крещен. Высшая благодать христианского Бога легла на мою голову и на дела мои, которые теперь будут завершены мною!
С высочайшим благоговением прижал Хеннер к груди только что купленный крест, поднял взгляд и убедился, что воображаемый Папа Римский действительно исчез. Он растворился в напоенном святостью воздухе. Чудо свершилось, и Хеннер поверил, что Господь принял его в свою паству.
Он окинул себя зачарованным взглядом и, весь светясь от счастья, воскликнул с пылкостью истинного католика:
— Laudetur Jesus Christus! In saeculus saeculorum…[15]
18
Прежде чем продолжить рассказ о приключениях моего дядюшки, странным образом принявшего христианство, — а они, надо сказать, из ряда вон интересны, — я должен рассказать, что произошло, между тем, в Вене, поскольку дом на Фрейтаггасе все больше и больше становился главной ареной событий, непосредственно касающихся меня и моей судьбы.
В начале марта на имя Хенрика Б. Камина пришло письмо, которое не могло остаться без последствий. Письмо это было следующего содержания:
«Нью-Йорк, февраль 1914 года.
Дорогой брат,
твое письмо от 8 января я получил и прочел его всем братьям. То, что пишу я тебе в ответ, есть результат многочасовой дискуссии. Ты просишь у нас совета. Вот тебе наш совет: мы были в высшей степени удивлены, узнав, что ты влюбился в самую чудесную девушку на свете, но тебе не хватило ни времени, ни мужества признаться ей в этом. Как такое могло произойти с тобой, Хершеле? Ты был ведь самым боевым центральным нападающим. Что случилось вдруг? Ты испугался женщины, которая, как ты говоришь, последует за тобой хоть на край земли, и ты ни на миг не сомневаешься в том? Здесь что-то не так. Или ты там, в Вене, до такой степени раскис, что превратился в труса? И какова вообще связь между твоим мужеством и нехваткой времени? Ты же не хочешь нас убедить в том, что день и ночь напролет ты зубришь медицину. Если это на самом деле так, Радек прав, и тебе действительно следует немедленно отправиться в Варшаву. Медицина все-таки не какая-то там чепуха — даже напротив, но и ради нее не стоит совершать глупостей. И вообще, в жизни не существует ничего такого — социалистическая революция в том числе, — ради чего стоило бы терять рассудок.
Ты пишешь, что ты в полной растерянности и не знаешь, следует тебе перебираться туда или нет. А для чего, собственно, это нужно делать? Ты говоришь, в России все бурлит и что теоретически вулкан этот должен был давно уже подать первые признаки извержения. Но ты же сам пишешь, что бурление это продолжается уже сотню лет и все остается без изменений. С нашей помощью или без нее мало что изменится. Те известия, которые оттуда просачиваются, согласно твоему собственному мнению, лишь разочаровывают.
Поэтому мы считаем, что никому в Варшаве не нужен твой спешный приезд, ради которого стоило бы откладывать учебу. Радек велит тебе сейчас же отправляться туда, чтобы, как он говорит, восстановить репутацию нашей семьи. Так вот, репутация нашей семьи — не его собачье дело. Радек — известный пустозвон. Он превосходно чувствует себя в глубоком тылу, на Западе, а тебя посылает на фронт. А почему, собственно, ехать должен ты, а не он? Если в этом котле царизма в самом деле заварится что-то, и он лично появится там, мы все готовы тотчас последовать туда за ним. Это даже не обсуждается. Мы уже не раз доказали, что ради партии готовы рисковать своими жизнями. Когда мы девять лет назад защищали наши баррикады в Пивне, Радека там не было. Ни в рукопашной схватке на Рунеке, ни под дождем пуль на Дворцовой площади. Многие дюжины таких, как мы, оказались после в цитадели, многие сотни революционеров были угнаны по этапам в Сибирь, но Радек избежал подобной участи, потому что в событиях этих просто не участвовал.
Мы готовы жить ради великих дел и умереть за них, если будет необходимо. Но — подчеркиваю — тогда лишь, когда это действительно будет необходимо.
Радек — всего лишь кролик, которому только бы команды раздавать, чтобы было чем заполнить ненаписанные страницы его биографии. Короче, приказы его нам не нужны.
Мы говорили также о том, что ты хочешь заполучить самую чудесную девушку на земле. К тому же, как ты сам пишешь, живой или мертвой. И опять мы должны несколько охладить твой пыл. Уж если и заполучить ее, то непременно живой. Все мы не видим никакого смысла в том, чтобы из любви или страсти ее следовало бы убивать. Оставайся трезвым большевиком и пойми наконец, что вся наша жизнь — это один большой футбольный турнир: то выигрыш, то проигрыш. В твоем конкретном случае по всем предположениям, тебе обеспечена победа. Но для этого ты должен вступить в игру и бороться. Кто остается в стороне, тот проигрывает. Иди к девушке и объяснись с ней. Желательно, не на словах, а на деле.
И потом, как зовут это твое чудо? Кстати, было бы по-дружески с твоей стороны, если бы ты при случае передал нам твой опыт в таких делах…
От имени всех братьев обнимаю тебя.
Твой Бэр».* * *
Когда Хенрик в своей комнате в мансарде читал это письмо, внизу, на первом этаже, Лео Розенбах вскрыл конверт с другим письмом, также чреватым серьезными последствиями. К тому же, оно было составлено гораздо более резко и по-военному напористо, чем то, которое только что получил Хенрик. В письме этом было следующее:
«Господин придворный фотограф,
положение, в котором я оказался по милости Вашей прелестной дочери, вынуждает меня пятнадцатого числа будущего месяца покинуть столицу Австрии и отправиться в расположение части, расквартированной в венгерском городе Пресбурге. Высочайшим повелением мне предписано продолжить мою карьеру в провинции, где общественные нравы не так категоричны, как в Вене.
В связи с этим мне хотелось бы, прежде всего, сочетаться браком с фройляйн Розенбах, что ввиду неловкости моего положения и моих пламенных чувств не терпит никаких отлагательств.
Во-вторых, я планирую еще до откомандирования объявить о намерении соединиться клятвой с вышеупомянутой барышней и оповестить об этом общественность посредством городской печати Вены.
В-третьих, я позволю себе в субботу на текущей неделе, в три часа пополудни, провести предварительные переговоры в Вашем доме, чтобы в должном порядке и в присутствии членов Вашей семьи официально просить руки Вашей дочери.
P. S.: Само собой разумеется, что еще до бракосочетания, о котором идет речь, фройляйн Розенбах перейдет в католическую веру.
За сим остаюсь с выражением высочайшего почтения
Йозеф фон Шишковиц».* * *
Прочтя это письмо, Лео Розенбах сейчас же огласил текст его за обеденным столом. Едва дослушав до конца, Мальва швырнула свою тарелку в стену и закричала, что этот гусарский солдафон может убираться ко всем чертям. Он просчитался, и она не хочет больше о нем слышать. Лео аккуратно собрал осколки и заявил, что хозяин здесь пока еще он и никакие сделки не состоятся без его на то согласия. Поэтому он намерен принять господина Шишковица, и принять именно так, как он считает нужным. Яна, в свою очередь, заявила жестким тоном, что в этом доме и она имеет право голоса. Она находит, что этот офицер перегнул палку и едва ли годится на роль зятя. Что же до отречения от иудейской веры, то об этом и вовсе речи быть не может. Времена инквизиции, слава богу, давно прошли. Переход в католическую веру — есть принуждение, и ни в коем случае не может быть совершен против воли, хотя бы и сам кайзер лично потребовал этого. Никому нынче не позволено принуждать совершеннолетнюю женщину отказываться от своей конфессии, и Лео обязан незамедлительно отписать этому господину, что визит его нежелателен. И что это ему вообще взбрело в голову, продолжала взбешенная такой наглостью Яна, сначала проявить себя жалким ханжой, а после, какие-нибудь полгода спустя, как ни в чем не бывало являться в дом, да еще с таким ультиматумом! Этот наглец утратил всякое право переступать порог дома Розенбахов. Точка!
Лео возразил на это, что Яна слишком поспешно и эмоционально принимает столь важные решения. И что он не может себе позволить так просто восстановить против себя австрийского офицера. Однажды он уже поплатился за невоспитанность своей дочери и был вынужден со всем своим скарбом спешно бежать из Станислава. Куда направлять свои стопы теперь, если придется так же спешно бежать из Вены? Если бы Мальва так безрассудно не надавала пощечин графу, дело не зашло бы столь далеко. И теперь Мальве следует самой расхлебывать заваренную ею кашу.
Разговор за столом достиг того предела, когда вспышка Мальвы была уже неизбежной. Бледная, но решительная, она поднялась, подошла к двери и заявила, обращаясь непосредственно к Лео:
— Позволь ему только явиться, папа. Я знаю, что мне делать…
* * *
«Вена, 5 июня 1914 года.
В нынешнюю субботу будет брошен жребий. Мой новогодний кавалер явится к папе, чтобы просить моей руки.
Мне уже двадцать четыре года, и рука моя теперь котируется почти по цене подержанных вещей в лавке старьевщика. Если я теперь же не выйду замуж, я могу вовсе остаться ни с чем, а это, пожалуй, самая печальная доля женщины.
Этот гусар, как принято говорить, вполне выгодная партия. Он получает приличную зарплату, не слишком при этом напрягаясь. Ему платят за то, чтобы он хорошо выглядел, элегантно одевался и достойно представлял Австрию. Без сомнения, все это он делает. Он выглядит, как цыганский барон. И вообще, он, можно сказать, муж, о котором женщина может только мечтать, и, откажи я ему, меня назвали бы дурой.
Честно говоря, меня обидело, что с того злополучного новогоднего бала он ничем о себе не напоминал. И тот, другой, который живет в одном со мной доме, на нашей мансарде, и в которого я влюбилась с первого взгляда, тоже не подает признаков жизни.
Почему мне так не везет в любви? Я неприятна мужчинам или есть во мне недостаток, о котором я не догадываюсь?
Да, гусар проявил себя, как трус, но какое я имею право требовать от кого бы то ни было рисковать жизнью ради меня?
Не герой он, и это все. Или, может быть, даже герой, но не во имя первой же эффектной глупости. Возможно, он бережет себя для чего-то более важного. Для отечества своего, например.
Но его манера говорить действует мне на нервы. Этот неизменный высокомерно-командный тон: „Само собой разумеется, фройляйн Розенбах должна будет перейти в католическую веру!“ Ничего я никому не должна! И что, собственно, он себе позволяет? Если уже сегодня он допускает подобный тон, можно себе представить, что услышу я, когда перестану быть „прелестной дочуркой“. Ну нет, этого мне не нужно!
К тому же я не уверена, что он вообще мне нравится. В принципе, он очень уж далек от моего идеала. Его не назовешь ни фантазером, как Хеннер, ни идеалистом, как Бальтюр, и уж конечно, он не философ, как Дашинский. При мысли о нем сердце мое вовсе не трепещет. Даже не вздрагивает, если признаться честно.
Существует только один, который по-настоящему вскружил мне голову. Он поселился под нашей крышей и не показывается. А может, он избегает меня — мы ведь всего один раз взглянули в глаза друг другу? Мне показалось тогда, что я вот-вот упаду замертво… Если бы он спросил меня, готова ли я вскарабкаться с ним на Эверест, опуститься на дно морское, в дремучий лес за ним пойти, я ответила бы — да. Тысячу раз — да! Но он не спрашивает меня. Боюсь, он вовсе не обратил на меня внимания.
Или я ошибаюсь? А может, он ждет от меня какого-нибудь знака?
Через несколько дней будет уже поздно…
А может, он слишком скромный и не привык проявлять инициативу? Или слишком робкий…
Но он прекрасней летней ночи!
Он назвался облаком в штанах, а облака безмолвны.
Ну зачем же он молчит?
В субботу сюда явится гусар со своим ультиматумом. Этот мучитель с кнутом и пряником. Он будет объясняться мне в любви, делать предложение, и — прощай мечты! В истории барышни-одиночки будет поставлена последняя точка. Конец сладким девичьим мечтам и капризам, причудам, страданиям и прихотям! Я лишаюсь всякого выбора, кроме, разве что, последнего: превратиться в госпожу фон Шишковиц, либо остаться старой девой. Если я соглашаюсь — а что мне еще остается? — я становлюсь его женой, супругой или, вернее сказать, девочкой в услужении, и весь остаток отпущенных мне дней провожу в каком-нибудь захолустном Брюнне или Теплице.
К черту! Стоит только подумать об этом, и сразу тянет на рвоту.
Почему не приходит тот, другой? Почему, как назло, именно этот самонадеянный чурбан? В чем моя вина, что так складывается моя судьба? Кто может это знать? У меня было множество ухажеров, но всем им я выказала мое безразличие. Ни один не был для меня достаточно хорош. Ни один не соответствовал кумирам, на которых я молилась. Потому ни один из них и не посмел приблизиться ко мне. Из страха получить отказ и быть оконфуженными, они обходили меня десятой улицей. И что в итоге? Я погибаю в одиночестве от тоски по мужчине.
Наверное, мне следует сделать первый шаг — немедленно, потому что всего четыре дня остается в моем распоряжении, но мне так не хватает мужества решиться на это!
Кровь сотен поколений терпеливых, дожидающихся, увядающих женщин пульсирует в моих венах. Тысячелетия тупой пассивности как некий символ женской добродетели. Мужчинам можно все. Чем наглей они себя ведут, тем большего восхищения удостаиваются. Они ведут себя сообразно их чувствам. А мы — напротив, мы можем лишь тайком плакать, и в этом все наше право.
С меня довольно! Не желаю больше следовать этим дурацким принципам, пусть даже я стану первой, кто дерзко нарушает вековые традиции. Я осмелюсь на такой эпатаж — написать письмо нашему постояльцу. Я подсуну его под дверь, и будь что будет!
А может, ничего и не будет… В худшем случае разразится скандал, зато я сделаю хоть малость, последнюю попытку.
Остается лишь подобрать нужные слова. Скажем, такие: „Дорогой Незнакомец, Загадка, Облако в штанах! Я обращаюсь к Вам (или к тебе), или как следует мне обратиться, чтобы сказать, что я стою перед мучительным решением и уже не в силах не обратиться к Вам. В ближайшую субботу один офицер императорской гвардии явится для переговоров с моим отцом и в присутствии всего нашего семейства будет просить моей руки. В результате этого визита я, вероятнее всего, стану его женой, что повергает меня в ужас!
Вот почему — и не только поэтому (!), я прошу у Вас… Нет, я прошу у тебя совета, хоть мы, по сути, и незнакомы. Мы виделись всего однажды, но я молю Бога, чтобы ты наконец услышал…“
Нет, это не письмо вовсе. Это объяснение в любви. Я не вправе писать такое. Он же будет смеяться над моим беспомощным лепетом. Более того, увидит всю меня насквозь, и все полетит к черту.
Впрочем, так или иначе — все равно все летит к черту.
Что же мне делать?»
* * *
Когда евреи не знают, как поступить, они приглашают на обед родственников. Чем запутанней ситуация, тем больше выставляется яств. Чем сложней положение, в которое они угодили, тем шире круг приглашенных гостей.
7 июня 1914 года Лео Розенбах созвал мишпуху на большой совет. Все, кто имел хоть какое-то отношение к его роду или к семейству его супруги, были срочно вызваны телеграммами. День еще только начинался, а жилище Розенбахов на Фрейтаггасе уже наполнилось шумной ватагой евреев и евреек. Прибыли многочисленные кузены и кузины Мальвы, многие из которых успели обзавестись собственными семьями. Появились богатые Вайтхаймеры из Кракова и Моритца. Прибыл сам Розенбах, известный хирург из Черновиц. Полуденным поездом из Восточной Галиции прикатили и бедные родственники — братья Файнштайн из Тернополя и Верфелзы из местечка Броды, о которых говорили, что они промышляют сомнительными гешефтами.
Около часа пополудни набралось более тридцати гостей, и все буквально сгорали от любопытства — слишком уж таинственной была формулировка приглашения.
Итак, все ждали сенсации. Лео старался быть непроницаемо загадочным, отделываясь лишь скудными намеками.
Он заявил наконец, что ровно в три должен явиться некий гусарский капитан, который в присутствии всей семьи намерен просить руки его дочери. В глазах его сверкало откровенно высокомерное возбуждение, и по всему было видно, что отставной придворный фотограф надеется сегодня же получить полновесную сатисфакцию всех его чаяний. Крови Розенбахов предстоит быть облагороженной. Поистине, великий день! Может быть, самый великий в жизни Лео.
И хотя весь он был наполнен предвкушением грядущего счастья, глубоко под ложечкой, не унимаясь, свербило нехорошее предчувствие. Не было сомнений: сенсация вот-вот свершится. Оставалось лишь тайной — какая именно.
Тайной для всех…
* * *
Он явился ровно в три, с третьим ударом часов. В левой руке его красовался букет из двадцати пяти алых роз. Правой он по-военному приветствовал Лео, затем поклонился ему со словами «Высокоуважаемый господин тесть». От такого неожиданного обращения в раскаленном от напряжения воздухе сейчас же повисла томительная пауза: ни письменного, ни устного решения на этот счет пока оглашено не было, и потому главное действующее лицо, а именно Мальва счастья своего еще никак не обозначила. Таким образом, и без того добела накаленную обстановку господин фон Шишковиц еще больше подогрел своим нескрываемым высокомерием.
В широко раскрытые окна влетали по-летнему сладкие ароматы буйно цветущих каштанов, а в доме Розенбахов в это время воцарилось ледяное молчание. Все застыли вдоль стен в немом ожидании мига, когда кто-нибудь расколет этот лед.
Наконец кавалер алых роз набрался мужества и хриплым басом выдавил из себя несколько как бы примирительных фраз, призванных внести так необходимую сейчас разрядку:
— Как лицо частное и как офицер Его Императорского Величества Кайзера я имею удовольствие засвидетельствовать мое глубочайшее уважение высокочтимым дамам и господам!
— Аналогичные чувства испытываем и мы, как вы можете в том лично убедиться, — в тон ему отрапортовал Лео с плохо скрываемой насмешкой.
— Эти красные розы, — продолжил гусарский офицер свой высокопарный текст, — я передаю несравненной фройляйн, которая своим неуемным темпераментом в единый миг разрушила мою карьеру, а вместе с ней и мое сердце.
С этими словами, которые, с одной стороны, были комплиментом, а с другой — откровенным упреком, Йозеф фон Шишковиц подошел к Мальве, поцеловал ей руку, передал букет и продолжил в том же ключе:
— Я убежден также, что, поскольку теперь это в ваших руках, все мои потери в части карьеры, а также пережитые мною чувства будут достойно вознаграждены и что семья Розенбах готова благосклонно принять все письменно изложенные мною требования.
Лео отозвался на эту тираду должным поклоном. Он хорошо понял, к чему гусар клонит.
— Разумеется, господин капитан, ваши потери должны быть компенсированы, — ответил он с явным недовольством в голосе. — Мы — ваши должники и не успокоимся, покуда вы не получите полного удовлетворения. Однако и мы чувствуем себя уязвленными, поскольку моя дочь в вашем присутствии была оскорблена самым недостойным образом. Своим поступком она защитила не только свою честь, но еще и честь всей нашей семьи. Вы должны признать также, что мы не вправе принимать решений, которые противоречат желаниям наших детей. Кроме того, мы должны уяснить себе, согласна ли Мальва добровольно отказаться от ее исконного вероисповедания и принять католическую веру. Если да, мы не можем противиться ее желанию. Если же нет, вам придется отказаться от ваших требований.
Йозеф фон Шишковиц побледнел. Зрачки его расширились. Такой прыти он не ожидал от этого сморчка. И вообще — подобной реакции, ибо в его кругу всякого рода мнения, сомнения, решения приходят исключительно сверху. А снизу должно следовать лишь послушание и ничего более. Он ни на миг не сомневался, что этот Розенбахов бастион он сломит без всякой борьбы, тем более что комендант этой крепости — всего лишь запуганный еврей из Галиции, безымянный карлик, не имеющий титула и звания, который комично пресмыкается и который должен беспрекословно повиноваться.
К своему несчастью, капитан понятия не имел, что у нас, евреев, есть стратегический резерв, который называется мишпуха. В переводе — это семья, но на самом деле за словом этим стоит гораздо больше.
Этот самоуверенный капитан понятия не имел о сплоченности еврейской клики, когда речь заходит о чести дочери или сына. Говорят, мы народ завистников, вечно конфликтующая друг с другом свора злонамеренных интриганов, великих мастеров ставить друг другу подножки. Пусть себе говорят, тем более что все это на самом деле встречается, можно сказать, на каждом шагу. Впрочем, равно как и совершенно обратное. Но если к нам приближается враг, когда грозит опасность, тысячекратно возрастает наш боевой дух, наша готовность постоять за себя. Подобно Гидеону, который с тремя сотнями преданных воинов уничтожил сто тысяч Мидьян, мы сокрушаем наших врагов одним мизинцем левой руки. Не пушками, не гранатами, а собранной в комок яростью нашей мишпухи. Об этом следует знать тем, кто осмеливается бросать нам вызов.
Гусарский офицер ничего этого не знал и знать, разумеется, не хотел. Недооценив соотношения сил, он наивно попытался грубым натиском вернуть себе инициативу в этом нелегком разговоре.
— Для вас не является новостью, почтенные дамы и господа, — начал он ледяным тоном, — что по причине моей страсти, как я уже имел честь здесь заметить, я пошел на некоторые жертвы. Фройляйн Розенбах, в силу ее чересчур горячей крови, кроме прочего, содействовала тому, что я отнюдь не по своей воле отправляюсь служить в провинцию, а именно — в Пресбург, если это географическое название вообще о чем-то говорит нашей несдержанной в своих поступках барышне. Поэтому было бы законно и справедливо, чтобы и она кое-чем пожертвовала.
Это было уже чересчур. Яна почувствовала себя уязвленной и спровоцированной на соответствующую реакцию:
— Вы забываете, господин капитан, что не моя дочь пригласила вас на новогодний бал, а совсем наоборот. Следовательно, моя дочь была вашей гостьей и потому состояла под вашей личной защитой.
Возразить на это было нечем, и гусару понадобилась передышка, чтобы найти подходящую формулировку.
— Это так, — ответил он тоном, еще более непримиримым, — я действительно попросил вашу дочь сопровождать меня в казино. Но такого уговора не было, чтобы там она при всех надавала пощечин моему старшему по званию коллеге. Это хоть вы понимаете или тоже не совсем?
— Этого я не могу и не желаю понимать, — вступила в разговор Мальва, — ибо вы тогда намеренно избежали вмешательства в спор, лишь бы только остаться в стороне от неприятного конфликта. Ваш «старший по званию коллега» позволил себе беспримерную любезность обозвать меня еврейским отродьем, и никто из присутствующих не осмелился заступиться за меня. Я подчеркиваю это: никто!
— Я объяснил вам, фройляйн Мальва, почему я не мог за вас заступиться. Я не желаю быть изгнанным из австрийской армии из-за скандального инцидента с женщиной.
На сей раз не выдержала Хелли, заводная кузина из Кракова. Ей едва исполнилось пятнадцать лет, но она уже хорошо владела свойственной всем Розенбахам склонностью к театральному действу.
— Я, конечно, не принадлежу к жителям столицы, — заявила она с достоинством примадонны, — но хочу вам заметить, что дом, в котором вы находитесь, это вам не офицерское казино. И если вы вашу Liaison[16] — ваши отношения с Мальвой считаете «скандальным инцидентом», то вы ошиблись адресом.
Дядя Мориц, известный хирург из Черновиц и кузен Лео, недовольно наморщил нос. Объяснения гусара он нашел вообще неприличными.
— В моей профессии хирурга, — вмешался он, — я вынужден постоянно искать самое подходящее решение. Любая моя нерешительность может привести к трагедии. Поэтому я сторонник ясных позиций. Избегайте затянувшихся колебаний! Если должно быть сказано «да», говорите «да». Если «нет», значит «нет», но не жалуйтесь, что вы жертвуете чем-то. Все чем-то жертвуют. Вся наша жизнь состоит из жертв…
Старый Верфель из местечка Броды тоже не мог не вставить несколько своих грошей.
— В каждом деле приходится решать, — философствовал он с нарочитым еврейским акцентом, — в моем, представьте, тоже. Да, я согласен, в моем деле вопрос жизни и смерти не стоит. Речь идет лишь о том, быть моему гешефту или не быть. И потому я, прежде чем что-то делать, просто спрашиваю себя: стоит это делать или не стоит. Пока вы находитесь в нашем доме, вы делаете плохой гешефт. Так лучше заберите ваши розы и поезжайте себе в Пресбург!
Йозеф фон Шишковиц почувствовал, что он один противостоит хорошо сплоченной армии. Привычная уверенность его была явно поколеблена.
— Я пришел сюда не для того, чтобы вести под венец все семейство Розенбахов, — просипел он почти растерянно, — меня интересует только фройляйн Мальва и больше никто. Мое окончательное решение звучит «да». И я хочу заявить тут без обиняков, что я готов вступить с ней в брачный союз. Разумеется, — продолжал он, еще более понизив тон, — можно задать вопрос, стоит ли выходить замуж за опального офицера или брать в жены дочь провинциального еврейского фотографа. Подобная меркантильность мне отвратительна. Мною движут чувства искренней преданности и горячей страсти.
Мальва между тем продолжала хранить упорное молчание.
— Вы поставили условием вашего брака принятие моей дочерью католической веры, — ответила вместо нее Яна, — и пока вы не откажетесь от этого притязания, мы не можем ответить вам ни согласием, ни отказом. С момента нашего исхода из Египта мы молимся Иегове и намерены молиться ему впредь, устраивает это вас или нет…
— Но, фрау Розенбах, — попытался возразить гусар, — австрийскому офицеру не подобает венчаться где-либо, кроме как у католического алтаря. Изменить это правило абсолютно невозможно!
— Вот и отлично, молодой человек, — снова вступил в разговор Лео, которому вся эта перепалка стала в тягость, — идите венчаться к католическому алтарю, если иначе невозможно, только без нас!
— Разумеется, без вас, — ухмыльнулся гусар, возвращаясь к изначальному тону, — но не без фройляйн Розенбах — это точно. В конце концов, я приму необходимые меры воздействия, но все мои требования…
И тут свершилось: едва воинственно настроенный господин фон Шишковиц, выбиваясь из сил, предпринял последнюю атаку против Розенбахов, в открытое окно незаметно влез незнакомый человек. Он молча встал на карниз за занавеской и с любопытством наблюдал за заключительной сценой битвы титанов. Рубашка его была расстегнута, темные волосы испачканы, и в глазах сверкала кипучая жажда немедленно сделать что-нибудь из ряда вон. Оборвав на полуслове атакующего гусара, он издал боевой крик индейцев и вихрем слетел с карниза в комнату. Охваченные ужасом дамы и господа вмиг побледнели. К бравому гусару, между тем, сейчас же вернулась надежда: вот он, счастливый миг реванша! Сейчас он лихо восстановит поруганный престиж офицера кайзеровской гвардии!
— С кем имею честь, вы, безымянный невежда? — надменно спросил он, кладя руку на эфес сабли.
— Попридержите язычок, сэр, иначе я вынужден буду стереть вас в порошок, — весело ответил пришелец, смахивая волосы с лица.
Кровь ударила капитану в голову.
— Кто это ничтожество, фройляйн Мальва? — завизжал он.
— Это ничтожество — квартирант в доме Розенбахов, — спокойно ответил пришелец с легким поклоном, — я прибыл из Нью-Йорка. Камин — моя фамилия. Я регулярно плачу за жилье и, в свою очередь, спрашиваю вас: а вы кто?
Заокеанское происхождение незваного гостя в высшей степени впечатлило притихшую мишпуху, а офицер, чтобы окончательно не потерять лицо, недвусмысленно принял боевую стойку.
— Этот нуль спрашивает — кто я. Я — боевой офицер кайзеровской гвардии, и я намерен сейчас же вышвырнуть вас в то самое окно, в которое вы имели наглость влезть.
— Попытайтесь, если вы в состоянии сделать это, — спокойно ответил американец, — только скажите мне прежде, что вы здесь потеряли?
— Я пришел за фройляйн Розенбах. А вам я советую немедленно исчезнуть, ибо ваше непотребное присутствие оскорбляет мою честь.
— Вы не заберете с собой фройляйн Розенбах — за это можете поручиться собственной головой.
— В последний раз предупреждаю: выметайтесь отсюда, если вам дороги ваши кости.
— Не приближайтесь ко мне, сэр, я строго блюду гигиену!
При этих словах Хершеле достал из сумки пучок моркови и с королевским жестом протянул его Мальве:
— Прими этот овощ, небесная дива, в знак моего безграничного восхищения!
Это было уже чересчур. Фон Шишковиц окончательно вышел из себя и закричал срывающимся на визг голосом:
— Вы оскорбили даму! Немедленно извинитесь!
— Извиниться? За что же, господин капитан? — с улыбкой спросила Мальва. — Своим подарком он доставляет мне необыкновенное наслаждение. Роскошных роз я получала в жизни множество, но пучок моркови — впервые.
— Вы находите в этом наслаждение, фройляйн Мальва? Это унижение, с которым я не могу смириться! — Он резко повернулся к своему сопернику и прошипел: — Я вызываю вас на дуэль, вы дикарь! Назовите ваших секундантов!
Американец снял очки, прищурился, подошел к гусару на расстоянии двух шагов и спросил как ни в чем не бывало:
— О, у вас следы оспы на лице — откуда?
— Это не оспины, ничтожество, а боевые шрамы! Каждый из них — свидетельство моей непримиримости. Я повторяю требование драться со мной, причем на саблях.
— Ваш вызов льстит мне, храбрый рыцарь, — презрительно улыбнулся в ответ Хершеле, — но я не принимаю его.
— Так я и думал, что вы окажетесь трусливым дерьмом…
Гусар выхватил из ножен саблю и принял боевую стойку. Хершеле даже не пошевелился.
— Вы же не посмеете с оружием наперевес набрасываться на безоружного штатского человека. Или в этом как раз и состоят ваши честь и доблесть, о которых вы столько говорите?
— Вот именно, — прорычал гусар, — это именно она, сабля австрийского офицера!
— Мое восхищение, сэр! Но я социалист, и потому отвергаю насилие.
— Потому что вы просто тряпка!
— С одним только исключением, — продолжал свою мысль Хершеле, не обращая внимания на грубые выпады гусара.
— Любопытно, — прогнусавил офицер, — с каким же?
— Оружие пролетариата, сэр, это кулак.
С этими словами он резко развернулся и нанес капитану мощный боковой удар, от которого тот мешком повалился на пол. Школа Ури Таубеншлага в очередной раз продемонстрировала свой высокий класс. Хершеле поклонился публике:
— Шалом алейхем, господа, не извольте беспокоиться!
Блистательный офицер кайзеровской гвардии Йозеф фон Шишковиц лежал в нокауте на полу между сервантом и диваном. Американец поднял его и бережно перенес в коридор. Столкновение между офицерской кастой и пролетариатом на этом было завершено в пользу низшего сословия. Виртуозный пассаж квартиросъемщика был единодушно воспринят мишпухой как поступок в высшей степени патриотический. Боковой удар в нижнюю челюсть выглядел реваншем, сладостной расплатой за многолетние унижения, которые чаще всего переносились без сопротивления, с вынужденной покорностью. Вздох облегчения вначале сменили бурные овации, ими вознаградили нью-йоркского архангела, когда тот выносил из комнаты поверженного франта, который посмел обозвать Лео Розенбаха провинциальным еврейским фотографом. Предельное возбуждение охватило всю мишпуху, а Яна и вовсе была вне себя. Внутри нее все ликовало, она выставила на стол водку, изысканный ликер и пригласила всех гостей должным образом отметить счастливое завершение всей этой трагикомедии.
В комнату вновь вошел Хершеле. На лице его была невинная улыбка, но глаза светились так, будто он сразил злого дракона. Как бы между прочим он спросил, нет ли в домашней аптечке чего-нибудь оживляющего — нашатыря, например. Он объяснил, что не рассчитал силы и нанес бедняге слишком сильный удар. Парень все еще не пришел в себя и выглядит довольно жалко. Его нужно привести в чувство, иначе он опоздает вернуться в казарму, а при теперешних обстоятельствах подобной вольности он не может себе позволить.
С помощью известного в Черновцах хирурга гусар был забинтован и усажен в пролетку. В таком неприглядном виде Йозеф фон Шишковиц был отправлен восвояси.
Лео Розенбах, который не имел понятия о том, что происходит в его доме, задал Хершеле вопрос, с кем, собственно, он имеет честь разговаривать. Он, дескать, признателен своему квартиранту, если это на самом деле так, однако странным образом ничего о нем не знает.
— Я — Красный Томагавк с Гудзон-ривер, — веселым голосом ответил архангел, — боевой топорик униженных и оскорбленных. Я переплыл Большую Воду, чтобы сделать своей скво красавицу-дочь вождя фотострелков.
Такого еще не бывало, и вся мишпуха была, мягко говоря, озадачена. В конце концов, это было респектабельное семейство, готовое рассмотреть предложение о браке в какой угодно форме, но чтоб так… Этот парень — сущий тайфун, жуткий торнадо, зловещий рыцарь, готовый сокрушить все, что встает на его пути. Гусарского офицера он поверг в нокаут. Он постоял за честь Розенбахов и достойно высвободил их из довольно сложного положения. Отлично. Но человек ни с того ни с сего, хладнокровно влезает в окно, как говорится, ни тебе звонка ни стука, не представившись, и заявляет легко и просто: он, видите ли, намерен взять в жены дочь хозяина дома, — хорошенькое дело!
Пока Лео не сделал какого-нибудь неуместного заявления, Яна поднялась из-за стола и постучала вилкой по бокалу с шампанским.
— Если я не ошибаюсь, — сказала она, — то вы, непредсказуемый ураган, намерены стать нашим зятем. С таким заявлением сегодня вы второй. Итак, скажите же наконец серьезно, что вы хотите!
— Ничего! Ровным счетом — ничего. Я всем доволен и хочу жениться на этой девушке.
— Вашими поступками, мистер Камин, вы показали себя человеком надежным, но есть один существенный вопрос.
— Никаких вопросов нет. Мне нужна ваша дочь.
— А если вы не нужны ей — тогда как?
Среди присутствующих воцарилось гробовое молчание. Пробеги сейчас мышь, ее было бы слышно. Все взгляды разом обратились в сторону Мальвы, которая в этот миг была так прекрасна, как никогда в жизни. Она подошла к Хершеле и посмотрела ему в глаза.
— Ты, Красный Томагавк, заслужил от меня пощечину за свою самоуверенность и дерзость. Мы видимся во второй раз, а ты уже распустил хвост и собираешься взять меня в жены. Откуда ты знаешь, что я думаю на этот счет?
— Знаю, Павлиний Глаз, потому что ты написала мне. Сегодня, час назад, я прочитал твое послание.
— Записку я действительно подсунула под твою дверь, но в ней было всего одно слово.
Тут терпение придворного фотографа лопнуло.
— Ты переписываешься с незнакомым мужчиной, Мальва, — возмутился он, — за спиной отца и без ведома твоей матери, если я правильно все понял? Немедленно говори, что было в этой записке!
— Я совершеннолетняя, папа, — ответила Мальва, продолжая смотреть в глаза Хершеле, — и я вправе писать кому угодно и что угодно.
— Что было в записке? — не унимался Лео, вне себя от ярости. — Я хочу это знать!
— Я могу это сказать тебе, Большой Вождь, — ответил вместо нее американец, — в записке было одно лишь слово: «Помоги!», а внизу — подпись Бабочки, число и время. Все.
— Я просила тебя о помощи — это правда. Но это действительно — все.
— Нет, не все, — возразил квартирант, — я отозвался. Я ведь пришел и помог тебе!
— И это верно, — ответила Мальва, — но по какому праву ты заявляешь, что получишь меня?
Американец вскочил на стол, таинственно зажмурился и зашептал, простирая руки:
— Я — медик. Я — всезнающий. Я вижу тебя насквозь, Павлиний Глаз, до двенадцатиперстной кишки. Ты влюблена, как пьяная обезьяна!
— Прекрати дурачества, — рассердилась Мальва, которой весь этот спектакль стал действовать на нервы, — слезь со стола. Мы не у индейцев.
— Красный Томагавк весь дрожит и стучит зубами, — продолжал тот. — Красный Томагавк тоже влюблен, как шальной медведь!
— Сейчас же слезь со стола!
— Но почему, — спросил Хершеле нормальным голосом, — почему я должен слезть, ты, Дикая Роза?
— Потому что иначе я не смогу поцеловать тебя…
19
28 июня 1914 года произошло очередное судьбоносное событие для человечества вообще и для дяди Хеннера — в частности. В сопровождении своего сына хромал он вдоль австрийской границы с единственной мыслью — приступить наконец к осуществлению своей давней мечты. Оба странника выглядели совершенно одичавшими. Заросшие, в жалком отрепье, обливаясь потом, вскарабкались они на какой-то холм, на вершине его был укреплен указатель, из которого следовало: до их родины оставалось всего четыре мили. Чувство мучительного блаженства охватило их вконец опустошенные души. Кроме скрипки, деревянного креста и томительной неизвестности — чем встретит их родина? — у них не осталось больше ничего.
Хеннер, по своему обыкновению, рисовал себе картины восторженного приема. Более трезвый Натан, однако, опасался неожиданных осложнений, связанных с их загадочным исчезновением с украденным алмазом в руках. С тех пор прошли годы, но кто знает, прощен ли им тот скверный поступок?
Хеннер успокаивал сына, говоря, что обстоятельства с тех пор сильно изменились, обращая при этом к небу взгляд, исполненный веры и тайной надежды. Они покинули родину Богом проклятыми евреями, а обратно возвращаются очищенными христианами, которых благословил сам Папа Римский. Что для потомка Авраамова есть смертный грех, то легко простится сыну Христову, и, значит, теперь они могут без страха смотреть в будущее.
Как заклинание бубнил Хеннер в тот день всю эту галиматью, успокаивая то ли Натана, то ли себя самого. Как раз в это время в Сараево наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд и его супруга, герцогиня София Гогенберг, были наповал сражены пулями сербского террориста Гаврилы Принципа.
Но Хеннеру до политики не было никакого дела.
— Выше голову, сын мой, — завершил он свою подбадривающую тираду, — на этот раз мы пойдем к кайзеру лично. Он должен назначить нам аудиенцию, потому что теперь мы с ним одному Богу молимся. Пока ты немного помузицируешь кайзеру, я посвящу его величество в тайну открытия века. Благодаря моему изобретению Австрия решающим прыжком опередит всех своих соперников. Отец небесный поможет нам.
Был душный летний день. Вдали по глубокой впадине между скалистыми склонами упрямо пробиралась к Триестскому заливу пограничная Изонцо. На противоположном ее берегу — рукой подать — начиналась родина с ее неповторимо зелеными лесами и сочными лугами, хотя, надо признать, и на этом берегу — леса не менее зеленые и луга не менее сочные. Тут и там расцветали пушистые анемоны и луговой шалфей, арника и ястребинка. Упоительные ароматы поднимались над полями, обезображенными зелеными оборонительными сооружениями и грубо обтянутыми корсетом из колючей проволоки. Не будучи посвященным, никогда не поверишь, что эта долина сказочной красоты разделена войной надвое, что именно по ней проходит граница, на которой скоро бессмысленно оборвутся жизни многих тысяч молодых людей.
Ничего не подозревая, ковыляли наши измученные странники через мост в Градиске к самой отвратительной таможне на границе между Австрией и Италией.
В служебной каморке воняло, как во всех подобных помещениях Старого Света, карболкой и человеческими испражнениями. Несмотря на полуденный зной, все окна были наглухо закрыты. На задней стене на длинных полосках, нарезанных из шелкового одеяла, болтались серебряные монеты различного достоинства и происхождения, которые служили мишенями. Перед стулом с высокой спинкой стоял майор Павлик, командир пограничного поста, и упражнялся в благородном искусстве пистолетной стрельбы. За столом сидел его адъютант. Вопреки непрерывной пальбе он оставался невозмутимым и, согласно заведенному распорядку, составлял дневной отчет.
Майор выстрелил. Серебряный рубль плюхнулся на линолеум.
— Каждый выстрел — один рубль, — удовлетворенно прорычал Павлик, довольный результатом. — Да здравствует Австрия!
Адъютант мечтательно окунул перо в чернильницу.
— Какие слухи ходят в казино, господин майор, — спросил он, откашлявшись, — война уже началась или все еще нет?
Павлик перезарядил пистолет и снова выстрелил. На этот раз на пол полетел золотой франк.
— Каждый выстрел — один француз, — констатировал он, вновь довольный результатом, — если нам повезет, будет война.
— Эти сербы — все они полнейшие задницы, — не к месту заявил адъютант, продолжая скрести пером по бумаге.
— Но это не означает вовсе, что они не умеют стрелять. Стреляют они хорошо — этого у них не отнимешь, — ответил майор, поднося пистолет к свету и внимательно заглядывая в дуло.
Похвала такого профессионала, как майор, высказанная в адрес этих недочеловеков, писаря откровенно смутила.
— Наследного принца нашего они уничтожили, эти свиньи, — пробубнил он себе под нос, — теперь наша очередь. Вся Сербия должна сдохнуть!
Павлик выстрелил в третий раз, и по полу покатился английский фунт.
— Каждый выстрел — англичанину смерть! — снова прорычал он, довольный своей работой. — Но если нам не повезет и сербы принесут свои извинения, все мы протухнем на этой вонючей точке, потому что опять никакой войны не получится. — Адъютант обнаружил волосок на своем пере и тщетно пытался стряхнуть его, не переставая философствовать: — Если не получится сейчас, считай пропало: не дождешься больше войны. И чего дожидаться нам в этой дыре, решат без нас. В Вене сидят штатские крысы и молятся о мире…
Прогремел четвертый выстрел, и на этот раз на пол упала серебряная лира. В самый разгар ликования по поводу очередной удачи распахнулась дверь и в комнату вошел пограничник.
— Осмелюсь доложить, господин майор, — пролаял он, щелкнув каблуками, — эти двое при переходе границы были задержаны ввиду подозрительности их одежды.
Павлик, похоже, не расслышал доклада. Он педантично стал разбирать свой пистолет, аккуратно почистил шомполом еще теплое дуло и поинтересовался как бы между прочим, не из Белграда ли случайно следуют задержанные.
Газет Хеннер не читал. Ему в голову не приходило, как коварен был этот вопрос.
— Мы идем из Рима, господин комендант, из святого града на Тибре, — с достоинством доложил он.
— Подобное отродье может идти не из Рима, а только из Белграда.
— Чем заслужили мы такое оскорбление, господин майор?
— Он знает это не хуже меня, — ответил офицер презрительно, обращаясь в третьем лице, — потому что сербы убили нашего наследного принца.
— Искренне сожалею, что господина наследника престола постигла столь печальная участь, — промямлил Хеннер, — но, поверьте, я впервые об этом слышу.
— Он, видите ли, искренне сожалеет, — продолжал майор в том же тоне, — сначала убить эрцгерцога, а после сожалеть о его участи. Но вы за это поплатитесь, проклятые сербы!
— Господин комендант, — обратился Хеннер, стараясь быть предельно сдержанным, — мне хотелось бы прояснить некоторые детали. Я вовсе не серб, я верноподданный нашего монарха Франца Иосифа Австрийского, храни его Всевышний!
Лицо майора исказила гримаса отвращения.
— Он, видите ли, верноподданный нашего монарха, — процедил он сквозь зубы, вновь собирая пистолет, — и потому тайком, как бродяга, переходит границу. За кого он нас принимает, этот оборванец?
— Я христианский паломник, господин майор, и я молюсь за благополучие нашей монархии.
— Христианского паломника он из себя корчит, — прошипел майор, — тут и лошадь расхохочется! Он еврей — это видно и слепому. И как звать этого паломника?
— Хеннер Розенбах мое имя, а это — мой сын Натан.
Ядовитая усмешка вспыхнула на лице снайпера.
— Ах так! Тогда совсем другое дело. Хеннер Розенбах зовется он. И, конечно же, он не кто иной, как сам архиепископ Галиции. Он пожаловал к нам прямиком от Святого Престола, полагаю я, с тайным посланием…
— Не прямиком, господин комендант, но я действительно навестил папу Пия Десятого, который этим самым крестом благословил нас и совершил обряд крещения.
Павлик достал из кармана мундира патрон, старательно заслал его в магазин.
— Профессии у него, конечно же, никакой, полагаю я, — продолжал свой допрос комендант, по-прежнему в упор не видя Хеннера.
— Я изобретатель, господин майор. Это не профессия, а призвание.
— А вот это запишите, вахмистр, — приказал майор, поворачиваясь к своему адъютанту, — это уже интересно. Так и пишите: Розенбах Хеннер. Еврейский паломник из Рима с благословением Папы. Босиком бредет в Австрию с целью… Какая, собственно, у него цель?
— Я рассчитываю быть принятым кайзером, к тому же, как можно скорее.
Будто ком застрял в горле коменданта. Злая насмешка застыла в его глазах.
— Он намерен быть принятым кайзером, — закричал он, — как можно скорее! Отлично: именно его-то мы и дожидаемся!
— Я сделал открытие, которое потрясет мир, — продолжал Хеннер, — и потому мне просто необходимо встретиться с кайзером!
— Мир он хочет потрясти. В высшей степени превосходно! Другими словами, отправить к ангелам. Открытие, которое сотрясет мир, — я верно понимаю?
— В высшей степени — сотрясет, господин комендант!
— И это сотрясающее мир открытие он хочет нашему кайзеру…
— …лично продемонстрировать, — подхватил Хеннер, — так точно, господин комендант.
Павлик угрожающе поднял пистолет и стал диктовать писарю следующий текст:
— Арестованный без акцента говорит по-немецки, что само по себе подозрительно, поскольку иностранные шпионы вообще и сербские агенты в частности обладают поразительными способностями к языкам, чтобы вводить в заблуждение нашу контрразведку. Таким безукоризненным языком владеют исключительно агенты особо секретные, чтобы не вызвать в свой адрес ни малейших подозрений. Точка. Кроме того, он намеревается ликвидировать нашего кайзера…
— Я бы хотел поправить, господин майор: я сказал — продемонстрировать, а не ликвидировать. Продемонстрировать мое изобретение.
— Мне лучше известно, что он сказал и что — не сказал. Он шпион и должен предстать перед военным трибуналом, о чем он еще пожалеет. Точка. А теперь — довольно возиться с этим дерьмом. Увести!
20
«Вена, 1 июля 1914 года.
Сегодня я вступаю во вторую половину моей жизни. Именно сегодня, в 3 часа 15 минут пополудни, я стала женщиной. Свершилось то, что десять лет подряд я лишь смутно себе представляла, и, к тому же, произошло все это совершенно удивительным образом и при обстоятельствах столь же удивительных.
Потеряв всякий стыд, я дерзко поднялась к нему в мансарду. Я знала, что папа по делам службы отправился в Санкт-Пёльтен и воротится лишь завтра, а мама принимает двухнедельное лечение на венских водах.
Я придумала себе отговорку. Никакой особенной хитрости, но все-таки — отговорку: поскольку жара в последние дни приняла ужасные формы, я, дескать, решила принести моему любимому графин лимонного напитка. Только и всего!
Я спросила через дверь, испытывает ли он жажду. Он ответил с наигранной деловитостью, что не совсем меня понимает и что я должна войти. Разумеется, я сейчас же сделала это, но, стоило мне переступить порог, графин вывалился из моих рук и мелкими осколками разлетелся по всему полу.
Говорят, посуда бьется к счастью. Так оно и вышло: Хенрик Б. Камин, это облако в штанах, ангел моей мечты, возлежал на постели абсолютно голым и читал толстенную книгу, которой, едва я вошла, он стыдливо прикрыл свое лицо.
От испуга я не могла вымолвить ни слова. Он, однако, ничуть не смутился и спросил, не вид ли его непокрытого носа так впечатлил меня вдруг. В другой обстановке я, наверное, просто рассмеялась бы такой шутке, но на сей раз мне было не до шуток. Не на его непокрытый нос, который он стыдливо закрыл книгой, смотрела я вовсе, а на странный хобот между его бедрами, который, словно гриб, торчал из его тела и вдруг сам собой зашевелился. Необычным зрелищем этим я, признаться, была буквально загипнотизирована. Приличия предписывали мне немедленно бежать отсюда вон, тогда как инстинкт мой, напротив, требовал, чтобы я осталась и вкусила от протянутого мне плода.
От смущения я бросилась подбирать с пола осколки того, что мгновенье назад было графином, и нечаянно оказалась в непосредственной близости к моему любимому.
Хенрик все еще прикрывал нос своим потрепанным чтивом и спросил, не жарко ли мне. Дар речи вернулся ко мне, и я ответила голосом, дребезжащим, как расстроенный рояль, что жара в этом доме непереносима, в мансарде — страшнее, чем внизу, и что поэтому мне лучше бы вернуться в мою комнату. Мой идол ответил на это, что как раз по этой причине было бы более логичным просто сбросить с себя одежды. И, дескать, нет решительно никакого смысла стесняться, поскольку он-то уже гол и, к тому же, из-за своей толстенной книги, лежащей на его голове, все равно ничего не видит. Наконец, чтобы не смущать меня, он обещает отвернуться, пока я буду раздеваться.
Словно под гипнозом, я стащила с себя все мои одежды. Сладкая истома разлилась по моему телу. Задыхаясь от волнения, я спросила его, куда мне присесть. Он взял меня за руку и осторожно притянул к себе в постель.
Сейчас я рассказываю об этом так, будто провела теплый летний вечерок в приятной компании, в привычной обстановке. На самом же деле, всю меня трясло — от кончиков волос до самых пят. От сознания, что сейчас все произойдет, мысли мои спутались в тугой клубок и слова замирали на языке.
Я боялась и хотела этого. Любой ценой. Пусть после мне пришлось бы умереть.
Долгие годы я представляла себе этот миг. Я представляла рядом с собой Хеннера, Бальтюра, Дашинского и даже нашего раввина. Но мне хотелось сохранить себя для того единственного избранника моего, который придет и воспламенит меня всю…
Я читала, что потеря девственности — это жуткая пытка, унизительный акт насилия над личностью женщины. Какая ужасная ложь, чушь, глупое заблуждение! Теперь мне даже смешно, что я так думала, а после мы посмеялись над этим вместе.
Вначале, едва касаясь, он гладил мои бедра, живот… Потом взял с ночного столика кисточку, обмакнул ее в краску и принялся рисовать на моем теле. На обеих грудях появились забавные пичужки, вокруг пупка — большущий подсолнух. А под конец он нарисовал на одном бедре дорожный указатель и вывел на нем: „К гроту Калипсо — 15 сантиметров“. На другом бедре — еще один указатель с надписью: „До сада наслаждений — 15 минут“.
— Почему так долго? Почему, почему? — шептала я.
— Не спеши, — ответил он, — все должно быть преисполнено высшего наслаждения… Это нужно вкусить…
Всем своим поведением я дала ему понять, что терпение мое закончилось, и я не в силах еще целые полвечности дожидаться этого счастливого мига. А он, мучитель, ответил, что пятнадцать минут — это не половина, а всего лишь четверть вечности. При этом он вложил в мою руку кисточку и сказал, что теперь моя очередь нарисовать что-нибудь на нем…
Ничего оригинального не приходило мне в голову, и тогда он предложил раскрасить эту его штуку цветами французской революции. Вся дрожа, взяла я этот удивительный предмет пальцами, чтобы выполнить задуманное. И тут всю меня охватило небывалое возбуждение.
С чем сравнить то, что забилось в моей ладони? Разве что с Геркулесовым столбом, невзначай затерявшимся в лиственном лесу…
С дерзким, царапающим сталактитом, который с опаской пробирается сквозь хрупкую шелковистую медуницу, готовую рассыпаться от первого неосторожного прикосновения…
Я и представить себе не могла, что это его оружие пронзит меня насквозь…
Всем существом моим я отзывалась на каждое его слово, вздох, жест, намек, и Хенрик щедро вознаграждал эту мою отзывчивость. Там, в глубоких недрах моих, расточал неземные ласки его горячий факел — так бережно и так нежно, что я, потеряв ощущение реальности, впилась губами в его губы и не в силах была оторваться. Его глаза, шею, грудь я покрывала жаркими поцелуями. Вдруг откуда-то с неба обрушился на меня горячий водопад, ливневым потоком прокатился по бедрам, сладким ожогом пронзил спинной мозг, и я закричала от охватившего меня восторга и сладостной боли, когда долгожданная неуемная жажда была наконец утолена. Он прижал меня к себе с такой силой, что я едва не лишилась сознания. Я успела еще почувствовать, как вся душа его замерла на мгновенье и вдруг растеклась во мне непередаваемой теплотой.
Это был шестой день сотворения мира, во всех красках повторенный Всевышним для меня одной, первый и единственный в своем роде рассвет для моего тела, для всего моего существа.
В сравнении с этим все прошлое показалось игрой. Лишь сегодня познала я истинный идеал. Оказавшись в руках этого самого бережного и самого прекрасного на свете мужчины, познала я страсть и негу телесного наслаждения.
Я люблю его больше всего на свете, этого сумасбродного, сумасшедшего обладателя трехцветного ключа от французской революции. Он раскрыл меня, распахнул все мое существо для блаженства и счастья: vive le son, du canon![17]»
21
Районный центр Виллах, который находится в Каринтии, — это, мягко говоря, глубокая провинция. В числе немногих его достопримечательностей можно назвать приходскую церковь, построенную в готическом стиле, и радиоактивные термальные источники. Впрочем, сюда же следует отнести еще уродливую крепость, которая долгие столетия была яблоком раздора между Германией и Словенией. Мало кому из тех, кто в тогдашние времена немилостью рока оказывался ее узником, удавалось выйти оттуда живым.
Когда Хеннера доставили в этот бездонный котел, единственный вопрос, которым он был удостоен, сулил ему, по сути, один и тот же исход: что предпочитает он сам — виселицу или гильотину?
— Ни то ни другое, — ответил он, понимая, что иного выбора ему уже не предложат, — но если ничего лучшего меня не ждет, то на прощанье поцелуйте меня в задницу!
Оказавшись тут, он замкнулся и перестал вообще отвечать на какие-либо вопросы. Дни напролет стоял он колом перед окном своей камеры. Сквозь толстые прутья решетки был виден кусок тюремного двора, где кроме регулярной смены караула можно было видеть время от времени исполнение смертных приговоров.
Однажды, теплым июльским днем, случилось нечто из ряда вон. Хеннеру показалось, что весь гарнизон охватила вдруг какая-то необычная суета. Со всех сторон доносились строевые команды и бесчисленные распоряжения офицеров, раскатисто гремела военная музыка. У Хеннера засосало под ложечкой: наверное, подумалось ему, сам кайзер пожаловал в эту чертову дыру, чтобы лично увезти его отсюда в Вену. Около полудня дверь его камеры отворилась, на пороге стоял фельдфебель.
— Сейчас вы получите то, что заслужили, славянские выродки! — прокричал он истерически срывающимся голосом. — Вам объявлена война, и теперь мы всем вам вырвем яйца. Камня на камне не останется от вашего вонючего государства. Всех вас перестреляем, как зайцев на охоте. А из тебя, сраный ты крестоносец, кривая Пизанская башня, из тебя, сербского шпиона, мы сварим суп с клецками. Мы повесим тебя на водосточной трубе, гнусный ты фальшивомонетчик. Он, видите ли, чужими перышками разукрасил себя, а мы, австрийские простофили, должны поверить, что он из наших. Будешь вздернут, не сомневайся, а мы…
Это было уж слишком, и дядя Хеннер соблаговолил наконец нарушить обет молчания:
— У меня есть высокопоставленные покровители в Вене, и если кто-то из нас будет вздернут, так это, скорее, вы!
Эта угроза попала в яблочко, ибо во всей Австро-Венгерской монархии ничто не производило впечатления более сильного, чем малейший намек на высокое покровительство.
— Знаем мы эту шайку, — ответил фельдфебель, но тон его был уже не таким воинственным, — небось, такие же агенты, как вы, тайные крысы сербского короля, проклятые террористы и подрывники.
В ответ на эту брань изобретатель эффектным рывком разорвал на себе рубашку и оголил грудь, на которой гордо красовался двуглавый орел Габсбургов. Когда-то давно, в молодые годы, поддавшись минутной слабости, Хеннер позволил выколоть эту татуировку на своей груди.
— А это что, — закричал он, — узнаешь, ты, жалкий лакей?
— Наш высший знак, — ответил фельдфебель и механически щелкнул каблуками, — но орел, — продолжал он, — это одно, а твой шпионаж — совсем другое. Так кто он, этот твой высокий покровитель?
— Мой любимый брат — личный фотограф двора Его Величества Людвига Второго Баварского!
— Если ты соврал, будешь четвертован.
— А мне все равно конец, болван ты неотесанный, — ответил Хеннер, — и потому я могу на прощанье сказать все. Мне больше нечего скрывать.
— И где же проживает этот, якобы придворный фотограф?
— Уж во всяком случае, не в вашем районе, ты осел. Это было бы для него унизительно.
— Я спрашиваю, где он живет?
— В Вене он живет. Флоридсдорф, Фрейтаггасе, номер три.
— Думаешь, поручится он за тебя?
— Спроси об этом его, не меня.
— И отвечать за свое свидетельство он готов?
— Может, будет, может — нет. А если готов он отвечать, ты, жалкое ничтожество, тогда что?
— Берегись, если не поручится! Башкой вниз тебе висеть — вот что тогда…
22
Ужасно, но факт: мой дед по материнской линии на старости лет пополнил ряды тех, кто получал выгоды от войны. Всю жизнь он был неудачником, пытаясь прыгнуть выше собственной головы в искусстве тратить больше, чем зарабатывать. Сказать точнее, этим больше грешила его супруга, то и дело позволяя себе жить не по средствам. С первых дней их супружества он мечтал осыпать подарками свою очаровательную супругу и таким веками испытанным способом добиться ее к себе расположения. Увы, все это оказалось ему не по зубам.
Неожиданным образом случай таки подвернулся: кайзер Франц Иосиф объявил своим недругам войну, и Конрад фон Хетцендорф сейчас же распорядился начать мобилизацию мужского населения империи. Для семейства Розенбахов настал момент больших перемен. Сотни тысяч людей стали спешно готовиться к сборам для отправки на фронт. Бесконечные очереди выстраивались у разного рода госучреждений, а также у фотоателье. Многим хотелось поскорее обзавестись семьей, прежде чем быть отправленным в готовящуюся для них мясорубку. Другие просто фотографировались на память, понимая, что дорога на фронт вполне может оказаться улицей с односторонним движением.
В хозяйстве Розенбахов настал час пик. От клиентов не было отбоя, и поток их нарастал. Флоридсдорф был пролетарским районом, который являлся главным источником пополнения воинских рядов, и потому потребность оставить о себе хотя бы недорогой снимок на память была самой высокой в столице.
Испокон веков малоимущих первыми гонят на передовые позиции всех без исключения боен. Те, кто побогаче да к верхам поближе, всегда располагают средствами и способами находить для себя укромные местечки в глубоком тылу, подальше от пуль и снарядов.
Таким образом, в бедняках и беднягах, гонимых на бойню и жаждущих запечатлеть себя напоследок, недостатка не было. Благодаря этому дед мой невольно стал самым крупным в двадцать первом округе Вены оптовым торговцем памятью. Он выпекал пирожки в виде памятных фотографий по три кроны за дюжину, и не было дня, чтобы он не положил себе в карман меньше сотни крон.
Жизнь в достатке ключом забила на Фрейтаггасе, а с ней пришли и новые непредвиденные трудности. Утром первого же дня войны комната ожидания ателье была битком набита солдатами, пожелавшими быть в последний раз запечатленными непременно в присутствии своих близких — матери, подружки или возлюбленной. Поздним вечером Лео, выжатый, как лимон, чуть приоткрыл дверь ателье и спросил, есть ли еще желающие. Отозвался какой-то облезлый прапорщик, прижимавший к себе щуплую барышню, которая от страха тряслась всем телом и не переставая бубнила одно и то же:
— У меня будет от тебя ребенок, Тони. Если ты не вернешься, я удавлюсь.
Мой дед был до мозга костей преданным монархистом, но эта грустная сцена тронула даже его сердце и угрызением совести застряла в самом горле. Сочувствие свое он выразил особенным образом, официально спросив хриплым голосом:
— Ваше имя, пожалуйста?
— Хавличек Антон, — ответил прапорщик.
Подружка его между тем продолжала тихо причитать:
— Я жду ребенка, Тони, ты не должен умереть…
Лео сам готов был вот-вот разрыдаться, но взял себя в руки и спросил прохладным тоном:
— Где проживаете?
— На Шпиц, номер двенадцать. Сто шагов отсюда.
— Сын торговца кониной, если не ошибаюсь?
— Не задавайте столько вопросов, нам нужно спешить…
— Вы отправляетесь на фронт, как я понимаю…
— Куда же еще? Завтра чуть свет, когда вы еще будете пукать в вашу перину, в шесть часов мы отправляемся. Фотографии заберет эта барышня, моя невеста.
Не в силах больше сдерживаться, девушка стала безудержно всхлипывать:
— Если ты не вернешься, Тони, я выброшусь в окно.
Лео потихоньку удалился в другую комнату и позвал туда Хавличека:
— Ваш отец должен гордиться, молодой человек. Он дает кайзеру такого крепкого бойца. Присядьте, юноша, вот сюда. И улыбайтесь!
— Я должен улыбаться, господин Розенбах? Именно я должен улыбаться, тогда как вы остаетесь дома, у теплой печки…
Лео быстренько нырнул под черную накидку, откуда было легче изрекать подобные пошлости:
— Бог мне судья за мои грехи, господин Хавличек, — пробубнил он оттуда, — я произвел на свет единственного ребенка, и та, к сожалению, дочь…
— Не отчаивайтесь, господин Розенбах, вы еще успеете настрогать детишек, которые сложат свои головы за какое-нибудь дерьмо.
— Вы полагаете, юноша, наш кайзер — это какое-то дерь…
— Да пошли вы вместе с вашим кайзером! — перебил его Хавличек. — Он ничуть не лучше вас, вы оба делаете ваши гешефты на солдатах, которых гонят на бойню.
Лео чувствовал, что разговор этот хорошим не кончится. Он спросил неуверенно, действительно ли нынешняя молодежь против Австрии.
— Против Австрии — нет, господин фотограф, — резко ответил прапорщик, — но против евреев — это точно. Они лезут своими вонючими пальцами в наши тарелки и слизывают масло с наших булочек. Когда меня повезут на поле брани, ваша дочурка будет красоваться перед зеркалом и чистить свои холеные перышки.
— Может, такое ничтожество, как я, вообще неподходящий для вас фотограф?
— Когда фотографии эти будут готовы, меня уже не будет в живых! — ответил прапорщик с усталым презрением в голосе.
Лео понял, что дальнейший разговор бессмыслен. Он поднял вспышку, поджег ее и выдал, чтобы уж не остаться перед этим сопляком в долгу:
— С вашими представлениями, господин Хавличек, эту войну мы точно проиграем…
* * *
Через три дня после того, как престарелый кайзер Франц Иосиф объявил войну королю Сербии, через два дня после наделавшей много шума мобилизации в России и на следующий день после объявления немецкой стороной ультиматума Франции в Париже был застрелен известный борец за мир — лидер социалистов Жан Жорес. Многие годы призывал он пролетариев всех стран объединиться и посредством всеобщей международной забастовки предотвратить разжигание мировой войны. Рецепт его был прост, и будь он претворен в жизнь, вся наша планета выглядела бы сегодня совсем по-другому. Но в жизнь он претворен не был. Голос этого миролюбца навсегда умолк. Пролетарии всех стран не сумели противостоять соблазну и предпочли действовать собственным интересам вопреки. Будто в хмельном угаре, шатались они по просторам своих стран, требуя одного и того же: войны до победного конца. Войны против братьев по классу. До полного истребления противника. Было очевидно, что чьи-то «научные расчеты» на деле обернулись полным просчетом.
Теория научного социализма Маркса и Энгельса учит, что рабочий класс всех пяти континентов представляет собой непобедимую силу, которая, если разразится мировая война, дружно повернет оружие против собственных поработителей и возьмет власть в свои руки. Но вместо этого пролетарий стреляет в пролетария и ревностно исполняет приказы своих классовых врагов.
Так что же произошло? И как вообще такое могло случиться?
* * *
На берегу Дунайского канала сидела влюбленная парочка. Над хмурой водой мертвецки зеленого цвета висел удушливый запах мертвой рыбы. Белые цапли кружили в небе, высматривая добычу. По мосту прогрохотал грузовой поезд. Издали доносился гул миллионного города. Над Леопольдсбергом сгрудились грязно-желтые тучи. Чувствовалось приближение грозы, но воздух еще оставался спокойным и только поблескивал, будто наполненный серебристой пылью.
Мужчина обнимал девушку и нежно гладил ее по волосам:
— Это ужасно, Мальва, — сказал он, — ужасно!
— Ты о чем?
— Они застрелили Жореса. Это сигнал.
— Сигнал к чему, Хенрик?
— Ты не поверишь, но это начало катастрофы. Надвигается ураган небывалой силы. Он снесет все на своем пути, все преграды. Но именно из пепла страшной бойни начнется зарождение нового мира…
— Ты все говоришь о какой-то страшной заварухе, Хенрик, но я не знаю, что ты имеешь в виду.
— Рабочий класс всех стран вооружен. Такой шанс представляется раз в тысячу лет.
— Я чувствую, тебя тянет в Россию.
— Со времен восстания рабов в старом Риме у человечества не было подобной ситуации.
— Ты хочешь покинуть меня — говори прямо!
— По-твоему, Мальва, мне следует оставаться в стороне?
— Да, оставаться в стороне и любить меня.
— И ты сможешь положиться на мужчину, который посвятил себя великому делу, а в решительный момент притаился в кустах?
— Смогу, и еще как! Потому что я люблю тебя. Потому что не хочу тебя потерять. Но ты меня не любишь. Тебе подавай героическую смерть. За химерические идеалы, за сомнительное знамя, на которое ты молишься, будто на икону. Ты ничем не лучше тех олухов с восточного вокзала, которые, отправляясь на бойню, вовсю горланят дурацкие патриотические песенки.
— По-твоему, я должен предать самого себя?
— Предательством будет, если ты покинешь меня. Этим ты предашь нас обоих. Мне наплевать на твои «сложившиеся обстоятельства», Хенрик. Твои сложившиеся обстоятельства — это я.
— Но я люблю тебя — как можешь ты сомневаться! Я обожаю твои глаза, твои губы, бутоны твоих грудей… Но пойми, я не могу и не хочу перестать быть мужчиной. В мире и без меня довольно карликов. Бесполых, хладнокровных существ, которые прячутся под листьями салата. Они с головой зарываются в землю и кормятся дождевыми червями. Трясутся за свои шкуры. Всех их презираю! Настал час, я должен исполнить свой долг, чтобы всю дальнейшую жизнь мне не стыдно было заглядывать в зеркало. Сколько себя помню, я всегда плыл против течения. Мне было четырнадцать лет, когда я стрелял в казаков. Не испытывая страха, я ехал на свинцовые рудники Верхоянска. Я стоял под виселицей в Варшавской крепости, и мне не было страшно. А теперь я должен сдаться? В самый решающий момент? Когда мы либо победим, либо на века обречены стенать, скованные цепями? Сейчас каждый честный человек должен подняться на баррикады, чтобы повести за собой людей в последний бой, на священную войну против всех на свете войн. А я в эти решающие часы должен завернуться в голубой плащ трубадура и растекаться патокой слезливых мадригалов? Нет, Мальва, это не для меня…
Мальва поняла, что спорить с ним бесполезно. Ее райская птица намерена улететь, и воспрепятствовать этому не в ее силах. Слезы залили ее лицо. Она осторожно освободилась из его объятий и поднялась с травы. Минуту помедлив, она пошла наугад, уже не сомневаясь больше, что это конец.
Она заблуждалась! По молодости лет она была еще совсем не искушена в тайном пристрастии мужчин к разного рода волшебным приемам, к которым те прибегают, чтобы должным образом обставлять крутые повороты в своей жизни.
Хенрик давно уже для себя решил выбрать в качестве дальнейшего пути что-нибудь полегче, или, точнее сказать, — поразумней. В выборе между абстрактными партийными догмами и страстными поцелуями очаровательной девушки он твердо, ни на миг не сомневаясь, остановился на втором. Но социалистическая совесть его все еще требовала дани. Ему было уже двадцать пять. Половину прожитой им жизни он провел на баррикадах классовой борьбы. Он гордился Красным знаменем, под которым прошел путь своего становления как личности. У него была своя линия, которой он следовал с железным упорством. У него был идеал, и когда Мальва попросила его написать что-нибудь в ее альбоме, он не нашел ничего лучше знаменитого четверостишья из «Зимнего путешествия» Генриха Гейне:
Иную песню запевай, Всех прежних песен пуще: Мы на земле построим рай — Один на всех живущих!Как этот рай будет выглядеть, Хенрик представлял себе с трудом, но он был уверен в том, что в любом случае фундаментом для него будет гуманизм. Что это будет некий оплот всеобщего взаимопонимания, всеохватной взаимовыручки. Прибежище для свободных и равных, ради которого стоит жить и умереть. Мир, в котором найдут свое реальное воплощение все человеческие мечты и чаяния, и не отдать всего себя этим чаяниям — есть подлейшее предательство.
Высшая логика, так называемого, научного социализма, рассуждал прежде Хенрик, с улыбкой противостоять немилости бытия и без вмешательства высших сил переплывать океан жизни. Почему нет? С равным успехом, как известно, можно с помощью одного лишь закона Архимеда доказать существование привидения. Теперь же лицом к лицу с ним стояла, быть может, сложнейшая из всех житейских альтернатив: революция или любовь. Жизнь ради всего человечества или жизнь ради единственной, но «самой прекрасной на свете девушки». В нем, таким образом, бушевало извечное противоречие между духом и телом, между рассудком и безумием, между идеалами и интересами. Поскольку же Хенрик происходил из семьи чрезвычайно импульсивной, победу одержало земное, и теперь проблема состояла лишь в том, чтобы выбор этот обставить достойно и убедительно, так все подать, чтобы, как говорят в таких случаях, красиво умыть руки.
Мальва между тем, глотая слезы, удалялась от него. Она шла вдоль берега, спотыкаясь, но ничем не выказывая готовности вернуться и понять его точку зрения. Он вскочил и побежал вдогонку.
— Ты хочешь меня потерять! — закричал он, в отчаянии схватив ее за плечи.
— Не я тебя, а ты меня, — ответила Мальва срывающимся голосом.
— Так ты не хочешь со мной оставаться, Мальва?
— Если ты уедешь в Россию, я буду искать для себя смерти.
— Так нужен я тебе или нет?
— Нужен, нужен! Если ты останешься.
— И опять крайности, Мальва! Неужели ты не видишь компромисса?
Слезы вновь потекли по ее щекам. Она была не в силах произнести ни слова.
— Ну хорошо, — сказал Хенрик более мягким тоном, — позволь мне только раз съездить туда. Всего на месяц. Чтобы привести в порядок самые важные дела. Ну, хорошо, на три недели. И я вернусь. Навсегда…
— В цинковом гробу — я знаю это. Нет никаких компромиссов, Хенрик. Или ты остаешься, или я брошусь в воду. Сейчас же!
Хенрик упал перед ней на колени, стал обнимать ее ноги, но Мальва вырвалась и побежала с откоса. Она ловко взобралась на ржавый огрызок канализационной трубы, торчавший из воды. Волосы ее были распущены, девушка тяжело дышала. Еще мгновенье, и она прыгнет в воду. И тут неудержимый на футбольном поле центральный нападающий потерял остатки хладнокровия и закричал изо всей мочи:
— Я люблю тебя, змея! Сейчас же вернись!
— Или ты остаешься, или прощай.
— Ты не оставляешь мне выбора.
— И что же?
— Я остаюсь. Ты выйдешь за меня замуж?
— Поклянись, что останешься!
— Клянусь, но скажи, ты хочешь быть со мной?
— Конечно, хочу, ты, идиот!
Хершеле, он же Хенрик Б. Камин, сложил оружие. Так, по крайней мере, это выглядело. На самом же деле он одержал победу. На всех фронтах. В этот момент он дезертировал из рядов пламенных борцов за торжество мировой революции. Он отказался возвращаться в мрачную Россию и согласился остаться в Вене. Он предпочел следовать не партийным директивам, а собственным чувствам, но при этом он мог говорить самому себе и будущим потомкам своим, что в решении этом он был жертвой оказанного на него давления.
Для его собственной совести это было достаточным утешением.
* * *
Шел пятый месяц мировой войны, которую называют Первой и которая, как известно, была не последней. И уже сотни тысяч матерей на планете оплакивали своих сыновей. Конца этому было не видно, но именно по этой причине дела Лео Розенбаха шли как нельзя лучше. Он стал счастливым обладателем банковского счета, что автоматически сделало его представителем привилегированного класса и позволило совершать такие операции, о существовании которых он в прежней жизни своей даже не подозревал. И он уже ни на миг не сомневался, что нет такой силы, которая могла бы помешать ему вернуть барону Гутману тот, во всех отношениях неприятный заем, который в прошлом году он получил благодаря чарам своей все еще прелестной супруги.
Но, как гласит поговорка, человек предполагает, а Бог располагает. А в каждой поговорке слышится очередной тяжкий вздох многоопытного человечества, и на деле все эти вздохи оказываются гораздо более обоснованными, чем принято о них думать.
Кто бы мог предполагать, что в тот самый день, когда русские войска начнут опустошительный поход на Силезию и Папа Бенедикт выступит со своей знаменитой энцикликой «Мир народам», перед дверью дома моего деда появится полицейский и поинтересуется, не здесь ли проживает личность по имени Лео Розенбах?
— Разумеется, это я, — ответил отворивший ему дверь хозяин дома и побледнел, почувствовав, как что-то екнуло у него под сердцем, — могу я предложить господину обервахмистру пройти в дом и чувствовать себя уютно?
«Обервахмистр» был, на самом деле, унтерефрейтором, что легко можно было понять по его погонам. Столь приятное «повышение в чине» льстило его самолюбию, и он позволил хозяину дома проводить себя в приемную.
— Как давно живете вы в этом доме, господин Розенбах? — начал он свой допрос, не теряя времени.
Лео почувствовал, что лучше говорить все как есть, но, по возможности, — как можно более расплывчато.
— Со дня моего переселения в Вену, господин обервахмистр. Окажите честь, присядьте, пожалуйста. И позвольте предложить вам что-нибудь. Рюмочку сливовицы или коньяку?
Жандарм предпочел сохранять дистанцию и потому остался стоять и лишь многозначительно откашлялся в кулак.
— Хм, но прежде вы проживали в другом месте. Хм… Или мы ошибаемся?
Внутри Лео все задрожало. Он решил, что блюститель порядка намекает на его неудачную карьеру в Станиславе. Скорее всего, на его несостоявшуюся дуэль с высокородными близнецами и на бесславное бегство Розенбахов из Галиции. Что же вдруг нужно этому человеку от него? Неужели и в Вене нельзя чувствовать себя в безопасности? Ведь теперь он человек достаточно имущий, исправный налогоплательщик, вхожий в приличное общество, известный, к тому же, своими монархическими убеждениями.
— Это так, господин обервахмистр, — ответил он уклончиво, — прежде я проживал в другом месте. Двадцать лет я жил в замке Нойшванштайн, а также при мюнхенском дворе…
— При Людвиге Втором, насколько я знаю. Или мы ошибаемся?
— Вы не ошибаетесь, господин обервахмистр, я состоял придворным фотографом при Его Королевском Величестве, известном покровителе искусств и личном друге великого Рихарда Вагнера!
— Нам известно, — продолжал темнить жандарм, — что с Его Величеством вы были достаточно близки.
— Можно сказать, что так, — ответил Лео с тяжелым вздохом, все еще не понимая, что привело к нему этого непроницаемого служаку. — К сожалению, этого выдающегося монарха уже нет.
Очень осторожно, чтобы не сболтнуть лишнего, он коснулся обстоятельств загадочной кончины Людвига Второго, разумеется, ни на йоту глубже, чем объяснены были эти таинственные обстоятельства всенародно, заметив при этом, что разного рода диким домыслам на этот счет доверять нельзя абсолютно…
Терпение унтерефрейтора вскоре иссякло, он решил прервать многословие допрашиваемого и вернуть его к главной теме своего визита:
— Вопреки вашему иудейскому происхождению, господин Розенбах, у вас были связи с высокопоставленными персонами, или мы ошибаемся?
Что это — похвала или упрек? Лео окончательно перестал понимать этого господина.
— Похоже, вы слишком многое хотите обо мне знать, господин обервахмистр, — кокетливо ответил он на последний вопрос и кисло улыбнулся.
— Нам известно все, господин придворный фотограф. У нас на строгом учете и контроле каждый подданный нашего государства.
Моему деду беседа эта нравилась все меньше и меньше.
— Но это же вполне законно, господин обервахмистр. Жизнь становится все опаснее. Вокруг нас — враги. Речь идет о том — быть нашей монархии или не быть. Ты ведь согласна со мной, Яна, не так ли?
Угодливость мужа отклика в Яне не нашла.
— Нет, Лео, — возразила она, — с этим я совершенно не согласна. Горе всем нам, если и вправду каждый подданный находится под строгим учетом и контролем, если всех нас подозревают в подрывной деятельности, если кайзер совсем не доверяет своему народу! При таком раскладе теперешнюю войну мы проиграем.
Высказанную Яной мысль унтерефрейтор до конца не понял, и потому она ему не понравилась. Дама была в высшей степени привлекательна, к тому же явно остроумна, что вывело жандарма из равновесия. Он решил, что в полемику лучше не вдаваться, и только спросил, действительно ли госпожа Розенбах урожденная Вертхаймер из Станислава.
Лео опасался, что строптивая супруга его, дай ей волю вступить в полемику, может еще больше наломать дров. Того и гляди, вместо простого безобидного ответа на вопрос жандарма, она выложит совсем не то, чего от нее ждут. Непременно возражать и высказывать свое суждение — это у нее в крови. Потому он решил опередить супругу с ответом — дескать, господин обервахмистр прав, именно так все и есть.
Полицейский стрельнул в сторону Яны неодобрительным взглядом, исполненным жандармской подозрительности, решив про себя с особым вниманием прислушиваться к ее дальнейшим замечаниям.
И вновь повисла неловкая пауза. Нежданный гость решил перейти непосредственно к цели своего визита.
— У вас должен быть брат… Хеннер, кажется, его зовут — или мы ошибаемся?
От такого неожиданного вопроса даже Яна съежилась. На мгновенье и Лео утратил дар речи. Когда короткий шок отступил, он попытался придать своему голосу тон некоторого смущения, будто речь шла не о родном брате, а, скорее, о каком-нибудь предмете, недостойном внимания.
— Видите ли, — промямлил он, — брат, если можно так выразиться, у меня, в принципе, есть… И зовут его, действительно, Хеннер. Однако мы не общаемся с ним бог весть с каких пор… О чем, впрочем, мы не очень и сожалеем… Я имею в виду себя и мою супругу…
— Отвечай только за себя, Лео, — вновь резко возразила Яна, — что касается меня, то я готова отдать все, чем располагаю, лишь бы знать, где он сейчас и что с ним.
Многозначительная ухмылка прочертила рот жандарма и застряла в самом его уголке.
— Ну что ж, — сказал он, отвесив поклон в сторону Яны, — значит, все, чем вы располагаете, мадам, отныне принадлежит мне, потому как я готов сообщить вам, что родной брат вашего мужа в течение пяти последних лет находился на территории Великобритании. Затем, в связи с преступным деянием, он был выслан оттуда, через Францию перебрался в Италию и теперь…
Лео почувствовал недоброе. Желая еще больше дистанцироваться от непутевого сородича, он прервал повествование жандарма, чтобы лишний раз подчеркнуть, что с этим типом у него и у всей его семьи давно нет ничего общего.
— Видите ли, господин обервахмистр, — промямлил он по своему обыкновению, — наши связи с братом полностью прервались после довольно скандального происшествия…
— Все, что касается вашего брата, это сплошные скандалы, — в свою очередь прервал его полицейский, — он уверяет, например, что является крупным изобретателем…
Кровь ударила Яне в голову. С нее было довольно.
— Что скандального, собственно, находите вы в том, что человек является изобретателем? — спросила она с нескрываемым раздражением. — Эдисон, например, братья Райт, Маркони — все это известные изобретатели. Не будь таких людей, все мы до сих пор сидели бы на деревьях. Разве в наши дни стало предосудительным, когда человек ищет способы улучшить этот мир? Или вы полагаете, что мир наш столь совершенен, что и улучшать в нем больше нечего?
В столь неожиданно горячей защите Яны на фоне явного желания самого Лео дистанцироваться от родного брата жандарм уловил полнейший диссонанс и нескрываемую строптивость дамы по отношению к супругу. Что стоит за этим, полицейскому все еще было неясно. Он решил про себя, что самое время теперь подбросить в эти противоречия хорошенькую бомбочку.
— Хеннер Розенбах, — начал он, — так называемый изобретатель из Станислава, что находится в Галиции, гражданин еврейского происхождения, в настоящее время подозревается в намерении совершить террористический акт, к тому же, против Его Величества Франца Иосифа, кайзера австрийского. Нет никаких сомнений, что арестованный действовал по заданию сербского правительства. — Жандарм поднял глаза и пристально посмотрел на Яну. — Что скажете вы на это, мадам?
— Коротко и ясно, господин обервахмистр, — не мешкая ответила Яна, — тот, кто это утверждает, просто остолоп!
Лео был ошеломлен. Не тем, что против брата были выдвинуты столь страшные обвинения, — отнюдь! Он был ошеломлен вопиющей неуважительностью его супруги по отношению к государственному служащему, облаченному в соответствующую униформу.
— Ты с ума сошла, Яна! — закричал он. — Ты оскорбляешь господина обервахмистра и в его лице — все Австрийское государство, которое, истекая кровью, сражается против врагов. Сейчас же извинись!
— И не подумаю, — спокойно ответила Яна, — я никого не оскорбила. Ни этого полицейского, ни Австрийскую империю. Я только сказала, что лишь полный тупица может обвинять моего деверя в покушении на убийство кайзера, или его наследника, или вообще кого-нибудь. Не спорю, у нашего Хеннера есть множество недостатков, но он не преступник. Ты не согласен с этим, Лео?
Лео призадумался — как ответить на этот вопрос.
— Разумеется, никакой он не террорист, — пробубнил он, опускаясь в кресло и смахивая пот с кончика носа, — в конце концов, мы с ним из одного теста слеплены. Не исключаю, стащить что-нибудь, напридумывать, смошенничать, фальшивые деньги напечатать, наконец, — это еще куда ни шло. Но террористический акт учинить — нет, это совершенно исключено!
Однако унтерефрейтор еще не все свои козыри выложил на стол. Он приготовился к решающему прыжку, но прежде опрокинул стаканчик сливовицы, любезно предложенной ему придворным фотографом.
— Ну что ж, — выдохнул он, — если вы так уверены в невиновности вашего брата, вы должны быть готовыми поручиться за него — или не так?
Лео с сомнением посмотрел на Яну.
— Уверенность, господин обервахмистр, это одно, — ответил он, — а поручительство — совсем другое. Надеюсь, вы понимаете разницу…
— Где мой деверь? — строго спросила Яна, которую подобная «мужская» мелочность окончательно вывела из себя. — Я хочу это знать!
Унтерефрейтор вновь опрокинул стаканчик и, вытирая усы, произнес с эдаким наигранным еврейским акцентом:
— Или вы поручитесь за него, или он будет расстрелян.
От этих слов дрожь пронзила все тело и без того трясущегося от страха Лео. Он посмотрел на Яну умоляющим взглядом, ища у нее помощи.
— На-на-наши де-де-дела, — выдавил он из себя заикаясь, — и-и-идут не-не-неплохо, сла-а-ава богу! У-у-у нас есть не-не-которые сбере-ре-жения. Но до конца э-э-этого года мы до-должны…
— Не виляй хвостом, Лео, — перебила его Яна, гневно сверкнув глазами, — решайся лучше!
— Но у-у-у нас ведь есть долги, ди-ди-дитя мое, — снова залепетал Лео, — на карту по-поставлена на-наша честь — ты же зна-знаешь, о чем я го-говорю… И потом, мы еще не-не-не знаем, каких де-денег стоит наше по-по-ручительство…
Крепкая сливовица, похоже, жандарму понравилась.
— На вашем банковском счету, — ответил он, опрокидывая третий стаканчик, — есть приличная сумма — четырнадцать тысяч крон, господин Розенбах. Нам известно все, как я уже имел честь вам заметить. Итак, вы вносите залог в четырнадцать тысяч крон. Эти деньги будут для вас потеряны, если подозрения наши подтвердятся.
— Когда нужны вам эти деньги, господин обервахмистр? — спросила Яна решительно, не дожидаясь, покуда Лео соберется с мыслями.
— Приведение приговора в исполнение, почтенная госпожа, отложено до середины следующей недели.
Лео схватился за подлокотники кресла. Сердце его стучало так громко, что казалось, еще миг, и оно разлетится вдребезги.
— Этого я не переживу! — еле слышно произнес он.
Но на Яну все это не произвело, казалось, никакого впечатления.
— Если я правильно понимаю, — хладнокровно произнесла она, вплотную подойдя к мужу, — ты предпочел бы, чтобы его расстреляли?
Лео был на пределе сил. Слезы потекли по его щекам.
— Я должен вернуть мои долги, — простонал он в ответ, — я должен выдать замуж мою единственную дочь. Я вынужден надрываться, я… я…
— Прекрати этот театр, Лео! — оборвала его Яна. — Вот тебе перо. Подписывай вексель, и делу конец. Худшее мы уже пережили.
* * *
Наступило тридцатое декабря 1914 военного года. Ровно в полдень истекал срок погашения взятого лично Яной восемнадцатимесячного займа. Его условия исключали всякие компромиссы: деньги обратно или честь. Поскольку же денег не было — все они до последнего гроша вмиг испарились, перейдя в заклад за несчастного Хеннера, эта роскошная женщина не видела иного выхода, кроме как принести в жертву собственную честь, которая, в силу сложившихся обстоятельств, в тот памятный день оценивалась в шесть тысяч крон.
Коренастый секретарь барона Гутмана стоял в своем бюро перед зеркалом в позолоченной раме и подкручивал кверху кончики усов. Он был явно недоволен собственным отражением, ибо хорошо знал, сколь неприятна его внешность, эта лысина, эти испорченные передние зубы. И даже знаменитая Кельнская водичка, которой он освежил себя более обыкновенного, не смогла сделать его скучное, ничем не примечательное лицо хоть сколько-нибудь привлекательным.
В самый разгар этого удручающего самоосмотра с пристрастием вошел слуга и с подчеркнутой многозначительностью доложил о прибытии очаровательной, элегантно одетой посетительницы. Затем он повернулся к входной двери, поправил на себе галстук и объявил противным фальцетом:
— Вы можете войти!
Женская честь обреченной на предстоящую расплату Яны была упакована в черное сатиновое платье с глубоким декольте. Роскошную шею ее обвивала золотая цепочка с таинственным агатом. Перчатки сафьяновой кожи и щегольская шляпка еще больше подчеркивали аристократическую внешность прекрасной дамы. Пальто она предусмотрительно оставила в приемной, чтобы оно не мешало любоваться прелестью ее шеи, плеч и рук.
Она вошла в приемную секретаря с таким видом, будто явилась на заранее обусловленное интимное свидание, что, в принципе, вполне соответствовало действительности.
— Сегодня тридцатое декабря, господин Оппенхайм, — сказала она, остановившись у двери и окинув помещение взглядом, полным нескрываемого высокомерия, — и уже пробило двенадцать. Все, как было между нами оговорено.
— Вам можно доверять, фрау Розенбах, я польщен. Ваш визит — большая честь для меня, — ответил секретарь и после гнетущей паузы продолжил: — И мне не терпится узнать, мадам, с чем явились вы на сей раз.
— Денег, к сожалению, нет, господин Оппенхайм, — как можно спокойнее ответила Яна, медленно стягивая перчатки, — я намеревалась своевременно вернуть долг, но, увы, непредвиденные обстоятельства перечеркнули все мои намерения.
Оппенхайм подошел к двери, запер ее и положил ключ в ящик письменного стола.
— Такой исход был предусмотрен вами с самого начала, прелестная мадам, — проворковал он, явно довольный исходом дела.
— Нет, господин Оппенхайм, — возразила Яна, — это не было предусмотрено. Война поставила все с ног на голову, в том числе и наш счет в банке. И потому я прошу вас ходатайствовать перед бароном Гутманом об отсрочке платежа на шесть месяцев.
Меленький человечек самодовольно опустился на стул с высокой спинкой и, не спеша, раскурил сигарету.
— Я готов немедленно выложить вам всю сумму, мой черный ангел. Господин барон не любит подобные игры при заключении финансовых сделок, и потому разного рода отсрочки не в его правилах.
— И что это означает, господин? — спросила Яна, изменившись в лице.
— Что вам надлежит раздеться, мадам.
Не предвидеть подобного исхода Яна не могла. Более того, она готовилась к нему. Ее наряд, духи, которые незримым шлейфом сопровождали ее, и то, как вошла она в приемную, — все это бросало открытый вызов мужской удали секретаря. Вопрос был лишь в том, действительно ли она была готова во имя чести своего мужа поплатиться собственной честью и лечь под этого мерзкого господина. Я в это не верю. И не поверю никогда! Я не знал ее лично, но мое преклонение перед ней не знает границ. Живы еще свидетели, которые подтверждают, что Яна не позволила этому человеку прикоснуться к ней. Я готов им поверить. Если бы она любила Лео, многое в ее жизни сложилось бы иначе, потому что любовь дает человеку право на какие угодно поступки. Любовь выше всех законов. Она безудержна и в истинном смысле этого слова — аморальна. Любовь выше самой морали или, можно сказать, является квинтэссенцией всякой морали, и потому позволительно все, что служит ей.
Но мужа своего Яна не любила. Просто за деньги она не отдалась бы никому. Хотя бы и за те проклятые шесть тысяч крон. Я готов на чем угодно присягнуть, что моя несравненная бабушка не имела ни малейшего намерения оказаться в постели с омерзительным господином Оппенхаймом. Для чего же тогда был разыгран весь этот ошеломляющий спектакль, этот неотразимый лоск, это великолепие, с которым она смело вступила в логово столь отвратительного ей сластолюбца?
Ответ лежит на поверхности: она чувствовала, что перед ней был лишь жаждущий, а не могущий. Непостижимый женский инстинкт подсказывал ей, что, несмотря ни на что, она выйдет отсюда, не будучи оскорбленной отвратительным ей прикосновением. Даже если она будет провоцировать этого типа самыми рискованными приемами. Даже если она совершенно нелепым образом обратит этого потрепанного лошака в племенного жеребца, вернув ему на мгновенье давно растраченные силы.
С дерзостью прожженной куртизанки, на которой пробу ставить негде, ответила она на предложение секретаря раздеваться, заявив, что готова сделать это, если и он последует ее примеру. И сейчас же медленным движением, исполненным предвкушения предстоящего наслаждения, шепча при этом слова, которые повергли обрюзгшего моллюска в высшую степень смущения, она расстегнула платье.
— Сбрось же одежды твои, ты, таинственный Геркулес! Покажи мне твои сильные руки, твои железные бедра, твой твердый хлыст, который взлетает, подобно языку змеи, когда глаза твои с вожделением ощупывают мое тело, мою шею, холмы моих грудей, мой живот, мои ягодицы. Я хочу разоблачиться перед тобой и вся для тебя раскрыться, как предрассветная кувшинка. Почему же ты все еще так далек от меня? Разве не жаждешь ты погрузиться в мой таинственный Сезам? Или ты боишься моих распахнутых перед тобой раковин, медовой сладости моей крови? Я сгораю от любопытства познать мрамор твоего тела, твою тугую кожу. Смотри, я стою обнаженная перед тобой. Ну — быстрей же, быстрей. Чего ты медлишь?
Яна добилась именно того, чего хотела добиться. Если бы она защищалась, плакала, молила о пощаде, то и в этом самонадеянном бонвиване, до конца себя издержавшем, наверняка проснулся бы мужчина.
Он рассчитывал увидеть покоренную рабыню, но вместо нее перед ним была царица, и секретарь сдался. Весь дрожа, поднялся он со своего кресла и едва слышно произнес:
— Оденьтесь, фрау Розенбах!
* * *
С тех пор, как все мы сидели в пещерах и на деревьях, миновало несколько тысяч лет. В сравнении с миллионами лет доисторического развития — это всего лишь краткий миг. Каннибальские инстинкты в нас, однако, все еще значительно сильней этических тормозов, которые Моисей попытался прорастить в нас своими заветами и запретами.
Мы продолжаем оставаться племенем людоедов, и это неистребимо в нас, сколько бы ни льстили мы себе громкими заверениями о том, что как вид мы давно достигли вершины совершенства.
Еще философы позапрошлого столетия торжественно провозгласили наступление эпохи всеобщего просвещения. Ученые следующего века пошли еще дальше: на всех перекрестках трубили они, что стоят на пороге разгадки последних тайн природы. Наконец, мудрецы нашей эпохи торжественно провозгласили зарождение на планете бесклассового общества, открывшего эру мирного сосуществования всех народов на Земле.
Сколь беспочвенны и наивны все эти надежды и чаяния великих умов сегодня понимают самые нерадивые школяры, но это не мешает поборникам всеобщего прогресса возводить собственные фантазии в ранг свершившихся фактов. Чем беспочвенней их иллюзии, тем уверенней провозглашают они их торжество, что, впрочем, совсем не означает, что и самих их втайне не гложут сомнения в собственной правоте. Напротив, их терзают мысли, что они, являясь в большинстве своем умнейшими представителями общества, смиряются с существованием несовместимых противоречий, а порой и пропасти между их теоретическими выкладками и реальностью. Чем язвительней посмеиваются они над Высшей силой и Вечностью, тем сильнее впечатляют их очевидные примеры иррационального. Чем непримиримей насмехаются они над проделками Провидения, над парапсихологией и прочими непостижимыми чудесами, тем доступнее сами они воздействию разного рода заклинаний и пророчеств.
Идолопоклонники образца начала двадцатого века, которые в первые дни января 1915 года праздновали бракосочетание Мальвы Розенбах и Хенрика Б. Камина, изо всех сил старались увидеть в этом событии нечто знаковое, предопределяющее всю дальнейшую жизнь и судьбу. Как рационалистам им следовало бы знать, что будущее не предрешается ни расположением звезд, ни сочетанием неких магических чисел, тем не менее они интерпретировали все происходившие в тот день события как нечто несущее в себе особый, тайный смысл. И что особенно удивительно, несколько событий того дня на самом деле аукнулись впоследствии и тем заслуживают особого внимания.
Таинственным знаком, например, было отмечено самое начало торжественной церемонии. Сильный порыв штормового ветра вдруг настежь распахнул окно в кухне, ворвался внутрь, вихрем пронесся по всему дому и — надо же было такому случиться — разом задул все семь свечей меноры. Это вызвало раздражение у раввина: он прервал молитву и только молча покусывал нижнюю губу. Лица гостей покрылись бледностью. Лео спросил озабоченно, что бы это могло значить. Даже у жениха от неожиданности перехватило дух. Встревоженная Яна спросила его, что видит он в столь зловещем предзнаменовании.
— Вполне естественный зимний сквозняк задул горящие свечи, — ответил он, несколько даже покоробленный этим вопросом, — как марксист и приверженец точных наук, другого объяснения всему этому я просто не вижу.
Свечи зажгли вновь, и свадебное действо мало-помалу продолжилось. Раввин намекнул, что по долгу службы должен благословить молодых, хотя он наверняка знает, что в этом доме Иегову не очень почитают.
Он взглянул на молодоженов: их глаза излучали ослепительное сияние. Но это было, скорее, отражением плотской страсти, чем выражением религиозного благочестия. Из всех высших благ, дарованных нам Всевышним, эта страсть, может быть, и есть самый желанный на свете дар.
И тут случился второй непредвиденный инцидент, забавный и досадный одновременно, который, тем не менее, впечатлил всех присутствующих на торжестве пуще прежнего. В самый разгар молитвы маленький волнистый попугайчик в порыве бешеной страсти стал недвусмысленно запрыгивать на свою подружку, но, к всеобщему удивлению и разочарованию, самочка упорно отказывалась должным образом отвечать на его порыв. Вплоть до сегодняшнего дня она проявляла все признаки беспримерной страсти, с готовностью отвечая на его пылкие ухаживания. Теперь же она неожиданно выказала холодную неприязнь, упорно отвергая его настойчивые домогательства.
Сбитые с толку гости, в том числе многочисленные кузены и тетки Мальвы, шумные беженцы из восточных районов военных действий, вдруг притихли и только обменивались многозначительными взглядами. А Штеффи, гораздая умничать по всякому поводу и без такового, которой по этой причине в семье была отведена роль брюзгливой Кассандры, просто не могла удержаться от мрачного прогноза. Исподлобья наблюдая за разыгравшимся в клетке спектаклем, она произнесла голосом, исполненным трагизма и фатальной безысходности:
— Птицы вцепились друг другу в загривки — это означает, что четыре года подряд у молодоженов не будет детей.
(Весь остаток того памятного дня был отмечен этими двумя странными событиями, а забавная сценка, разыгравшаяся в раскрашенной под золото клетке на пианино, и вовсе была воспринята участниками торжества как происшествие знаковое, сугубо символичное, непременно чреватое бог весть какими последствиями.)
Случайно предсказание ее оказалось пророческим. Четыре весны сменили друг друга, прежде чем я появился на свет…
Раввину очень не понравилось, что кто-то говорит ему под руку. Он твердо придерживался той точки зрения, что деяния Господа непредсказуемы и необсуждаемы, а если кто-то и наделен полномочиями их трактовать, то это он, раввин, и никто кроме.
— В старом Риме, — выговаривал он с еще большим раздражением, чем до того, как птицы в клетке разыграли свое интермеццо, — были идолопоклонники, которых называли харусписами. Они были так дерзки, что осмеливались по поведению птиц предсказывать судьбы людей. Имей они представление об Иегове, они знали бы, что он не желал быть разгаданным. — Раввин сделал паузу и стал пристально рассматривать свои ногти. — Будущее непредсказуемо, — продолжал он, — потому что там, — он поднял на мгновенье глаза к небу, — решается, чему быть и чему не быть. Иегова велик и своенравен. Он выше всех и всяких законов и правил. Он, а не какая-то бездушная пернатая тварь решает, когда и сколько детей произведет на свет эта молодая пара. А кто пытается предсказывать, совершает грех перед Всевышним. Я не берусь пророчествовать. Могу лишь высказать мои пожелания вам. Исполнятся ли они — зависит от Него, — раввин снова поднял глаза к небу, — и от вас самих. Я молюсь нашему Отцу, чтобы он ниспослал вам свою милость, а сердцам вашим — вечную любовь и согласие. На языке предков наших обращаюсь я к вам: шалом алейхем. Да будут радостны ваши дни! Я надеюсь, что…
Резкий звонок в дверь не дал раввину завершить свое выступление. В третий раз прервалась свадебная церемония, но никто не высказал желания мчаться в холодную прихожую. Пришлось хозяину дома взять на себя эту противную обязанность. Как и все другие гости, он уже не сомневался, что на пороге дома стоит третье и, конечно же, самое гадостное происшествие этого будто заговоренного дня.
Случилось же следующее: в дверях возвышался мясник Хавличек, который был вдвое крупнее Лео. Рядом с ним, беспрестанно всхлипывая, стояла безутешная невестка его, облаченная в траурные одежды.
До этого момента свадебное действо совершалось и без того не лучшим образом. Эти двое окончательно переполнили чашу терпения несчастного Лео.
— Что угодно господам от меня? — грубо спросил он непрошеных гостей.
— Фотографию моего Тони, которую вы недавно сделали! — в тон хозяину дома ответил мясник, оставаясь неподвижным, как привидение.
Кровь ударила Лео в голову.
— Какого черта, господин Хавличек, врываетесь вы в столь неурочный час? Суббота, вторая половина дня…
Угрожающих размеров пришелец заговорил в ответ столь тихим голосом, что тела гостей прошиб холодный пот:
— Идет война, а на войне не бывает ни суббот, ни воскресений…
Кровь застучала в висках моего деда:
— Разве вы не видите, что я выдаю замуж дочь? Это не каждый день происходит.
— А я похоронил моего единственного сына, — прохрипел Хавличек, вплотную приблизившись к Лео, — и это тоже происходит не каждый день. Он пал на поле брани, господин Розенбах, за кайзера нашего отдал он жизнь. Ничего не осталось от него, кроме той фотографии, которую вы сделали.
Невестка мясника чуть слышно повизгивала, утирая траурной повязкой горячие слезы.
Настроение гостей было испорчено окончательно. Многие стали собираться. И только Хенрик сохранял спокойствие.
— Ты меня знаешь, — сказал он Мальве, — я не верю ни в бога ни в черта. Но вся эта свадьба мне, признаться, порядком надоела.
* * *
Мой дед Лео Розенбах всю жизнь страдал от недостатка сердечности и умер от сердечной недостаточности. Потому что его жена никогда не любила его. Потому что родной брат разорил его до последней нитки. Потому что единственная дочь его, вступив в брак, была обречена на несчастную жизнь — именно так запало ему в душу в результате всех перипетий, случившихся во время ее свадьбы.
Боже милостивый, да кто же, вступив в брак, тотчас же погружается в сплошное счастье — раз и навсегда? Уж Лео-то следовало бы это знать, и тогда, может, он не терзал бы себя напрасно и не довел бы себя до смерти…
Но он этого не знал.
Когда пробил его час, два человека стояли у его постели. Яна вся дрожала, будто предстала перед своим судьей. Она сжимала в ладонях безвольную руку Лео и шепотом причитала:
— Прости меня! Не оставляй нас!
Жестокое воспаление легких разрывало грудь несчастного Лео, глаза его блестели.
— Я всегда любил тебя, Яна, — отвечал он слабеющим голосом, — с первого и до последнего дня.
— Побудь еще хоть немного с нами, — умоляла его Яна, которая чувствовала себя виноватой, — как же мы будем жить без тебя?
Лео не отвечал. Он посмотрел в сторону Мальвы, которая в отчаянии крутила свое обручальное кольцо, и прошептал:
— Ты должна завершить твою учебу, моя девочка. Это моя последняя воля.
Мальва только всхлипывала. Неоспоримость этих слов была для нее невыносима.
— Я не хочу, чтобы ты так говорил, папа. Ты выздоровеешь. Скажи, что ты хочешь жить. Скажи!
Но Лео уже не слышал этих слов. Невидящим взглядом уставился он куда-то вдаль и прошептал, собрав последние силы:
— Мой крест «За заслуги», Яна, там… На комоде…
В душе Яны теплилась надежда, что муж переживет этот тяжелый кризис, и потому она ответила ему с улыбкой:
— Крест «За заслуги» кладут на грудь покойникам, а ты, Лео, будешь еще долго жить…
— Ты слышишь меня, Яна? — вновь прошептал умирающий. — Крест мне на грудь!
Яна нехотя повиновалась и сделала, что он просил.
— Но я прошу тебя, Лео, — взмолилась она, — еще не время для такого… Для этого…
Собрав остатки сил, Лео поднял указательный палец и направил его в сторону камеры, которая была установлена на штативе в ожидании исторического момента:
— Один снимок, Яна, последний… Рядом с Мальвой…
Яна сделала, что он просил.
— Но здесь слишком темно, — сказала она дрожащим голосом, направляя камеру.
Невесть откуда взявшиеся жизненные силы пробудились в этот миг в умирающем придворном фотографе.
— Диафрагма пять и шесть десятых, выдержка — одна шестнадцатая, — скомандовал он, — сними накидку!
Яна установила камеру и стянула с нее накидку.
— Я не могу! — застонала она. — Не могу! Не могу!
Но последние искры сознания придворного фотографа были целиком сконцентрированы на технических деталях, все другое для него более не существовало.
— Диафрагма пять целых и шесть десятых, — упрямо повторил он, — выдержка — одна шестнадцатая. Мальва должна молиться за меня.
— О чем должна я молиться, папа?
— Чтобы Бог простил меня, — ответил Лео, — за то что я экономил на угле и в нашем доме было холодно…
Было очевидно, что конец уже близок. Женщины заголосили. Яна взяла в руку спусковой механизм и выдавила из себя срывающимся голосом:
— Пусть Бог простит всех нас, Лео.
Придворный фотограф в последний раз приподнял голову и пробормотал уже почти неразборчиво:
— И помолитесь за нашего кайзера… За то, что он… Что эту войну…
Яна щелкнула затвором камеры. Голос Лео оборвался на полуслове. Он упал на подушку. Тусклый огонек, который целую жизнь мерцал вполнакала, окончательно погас.
* * *
«20 ноября 1915 года.
С июля прошлого года я не открывала мой дневник. За это время я стала женщиной и зовусь теперь по-другому. Как и продолжающаяся война, которую теперь называют мировой.
Папы больше нет. Он умер своей смертью, и на том, как говорится, спасибо.
На Западном фронте немецкие части уже применили ядовитый газ. Это так ужасно, что мне совестно смотреться в зеркало. И это — против наших союзников! Жуткую летучую смерть закачали в стальные бочки, и при благоприятном ветре — так без тени смущения называют это варварство — немцы открыли газовые краны. В пять утра, когда поют петухи. Плотное желтое облако поползло из наших окопов. Я говорю „из наших“, потому что и я принадлежу к этим варварам. Значит, есть в этом и моя вина. Я не сделала ровным счетом ничего, чтобы предотвратить это зверство. Смертельный туман, от которого нет спасения, достиг расположения французских частей. Северо-восточный ветер способствовал тому, чтобы этот туман быстро стелился в сторону противника, подобно ковру. Произведенное им действие не поддается описанию: большинство отравленных солдат умирали от удушья на месте. Некоторым удалось спастись бегством, но и они вдохнули от ядовитого облака. В считанные минуты лица их почернели. Кровавый кашель добивал их одного за другим. Мы истребляли французов массово, как опасных паразитов. Потому что мы — нация культурная, а все остальные — варвары. Так выглядит это зверство. И Ремский собор, это величайшее творение человеческих рук, мы без устали поливаем огнем и железом. Именем культуры! Наши прославленные цеппелины бомбами засыпают Париж. Чтобы защитить высокую германскую мораль от порочной безнравственности южан! Само Провидение — на нашей стороне. Правота, разумеется, тоже, поскольку французы проповедуют равенство и братство, а это все несовместимо с принципами монархии и, значит, должно пресекаться со всей беспощадностью. Пушками, зажигательными бомбами, отравляющим газом. Бить без промаха: каждый выстрел — одним русским меньше! Или одним французом. Да здравствует культура!
Хенрик прав: мы все виноваты, потому что прямо и косвенно способствуем этому варварству. Хотя бы и тем, что не противостоим ему.
Сегодня я попыталась еще раз осмыслить те предзнаменования, которые случились на нашей свадьбе. Само небо выказывало нам свою неприязнь, потому что мы слепы. Сам Бог пенял нам за то, что мы устроили праздное веселье, вместо того чтобы исполнять свой гражданский долг.
Мы стоим на вершине Арарата. Вокруг нас неистовствует всемирный потоп. Мир захлебывается в потоках грязи и крови, а мы устроили церемонию бракосочетания. С танцами, с песнями, с добрыми пожеланиями, будто вокруг нас царят мир и благодать.
Война эта проиграна. Всеми проиграна, всем человечеством.
По дунайским мостам тянутся бесконечные потоки транспорта. Они ползут с Восточного фронта. С Вислы, с Мазурских озер, с Буга, где мы одерживаем победу за победой — так, по крайней мере, бодренько докладывают нам наши газеты. В переполненных вагонах лежат, сидят и стоят тысячи изувеченных людей. Их головы забинтованы. Сквозь щели с ненавистью и проклятиями смотрят на нас, не ведающих, что мы творим, их окаменевшие глаза.
А мы жрем, пьянствуем и размножаемся, тогда как клубы ядовитых газов жабьего цвета тысячами, будто вредных насекомых, вытравливают наших сыновей, братьев, возлюбленных…
Нам нет оправдания. Мы будто наблюдаем за всем этим действом из театральной ложи.
На мне лежит особая вина. Это я препятствовала тому, чтобы Хенрик плыл против течения. Когда он хотел по зову своей совести и по мере сил противостоять всей этой жути, я удержала его. Теперь он целиком принадлежит мне, но это уже не тот, кого я избрала. Он растрачивает свои дни в университете, а ночи — со мной в постели. Каждый понедельник он обязан отмечаться в полиции. Он должен быть счастлив, что его не интернировали. Как потенциального шпиона, как представителя враждующей стороны, как подданного русского царя. Он имеет право свободного перемещения, потому что у него есть доказательства, что он революционер и заочно приговорен к смертной казни, что он союзник Австрии в борьбе против петербургской тирании. Какая великая честь — быть союзником кайзеров Франца Иосифа и Вильгельма, султана константинопольского и стальных бочек с ядовитым газом!
Он хотел вновь предаться дремавшей в нем боевой удали, но я пригрозила броситься в воду… Я грубо шантажировала его, и он остался из любви ко мне. Я обожаю его и ненавижу за то, что он поддался на мой шантаж. И теперь он больше не бог, которому я молюсь. Я боготворила в нем несгибаемость Бальтюра, мужество Дашинского, безумство Хеннера. Он был для меня олицетворением всех идеалов, и что осталось от всего этого? Да, я люблю его, как в тот первый день нашего знакомства, когда он появился вдруг перед дверью нашего дома и назвался облаком в штанах. Я люблю его, как в тот летний день, когда он кисточкой разрисовал мой живот и провел меня по райскому саду неведомого дотоле наслаждения. Потом была наша свадьба со всеми ее странностями и предзнаменованиями. Но…
А теперь еще и этот смертоносный желтый газ, и всем нам уже стало вовсе не до улыбок.
Я должна что-то предпринять, иначе вся страсть наша очень скоро иссякнет…
Но что же — что? Что?»
* * *
Летом 1916 года генерал-фельдмаршал Франц Конрад фон Хётцендорф, начальник генерального штаба австро-венгерских войск, оказался в весьма затруднительном положении. Не имея достаточных резервов для сдерживания активного наступления в районах Волыни и Галиции русских соединений под командованием известного московского рубаки генерала Алексея Брусилова, он затребовал дополнительные немецкие части. Австрия находилась, по сути, на краю неизбежной катастрофы. Италия и Румыния вероломно — так характеризовалось это в официальных сообщениях — нарушили нейтралитет, которого придерживались дотоле, и выступили на стороне западных союзников.
Германия — до гробовой доски верный соратник — поспешила на выручку, потребовав, однако, в качестве ответной услуги безоговорочного подчинения немецкому командованию всего Восточного фронта.
«Этому свинству с австрияками, кажется, не будет конца, — разглагольствовал в те дни генерал Людендорф в одном из своих многочисленных откровений, адресованных будущим исследователям его патриотического опыта служения отечеству, — противник крошит их разобщенные боевые части почем зря, как это подтверждают печально известные события последних дней. И тут, — продолжает генерал, — я невольно обращаю мой взор на Польшу. Поляк — хороший солдат. И если не получится с Австрией, мы вынуждены будем искать другие силы. Создадим „Великое княжество польское“ — иная государственная система тут не годится, а затем и польскую армию под немецким командованием!»
Это была потрясающая концепция прусского вояки: польское пушечное мясо для пополнения поредевших рядов немецко-австрийской коалиции. Образование польского государства в обмен на кровь самих поляков. «Великое княжество польское» — не больше и не меньше, но главное — непременно под немецким командованием.
Более ста лет Польшу как топоним вытравливали из сознания современников. Будто пирог, делили ее между Пруссией, Австрией и Россией. Не существовало такой страны на географических картах, не было такого термина в официальном словоупотреблении. Поляков, как любезно называют населяющий эту страну народ, принудительно германизировали, русифицировали и, как говорится, — к ноге!
И вдруг Польша была удостоена доброго взгляда Верховного правителя Пруссии, и он изволил обнаружить в поляке отличного солдата. При этом умалчивалось, что в 1915 году одна только Германия потеряла на Западном фронте 881 922 человека. Не помогло ей ни зверство с газовыми атаками, ни варварское разрушение Ремского собора, ни методичные бомбардировки Парижа. Так что, «этому свинству» с немецкими солдатами тоже не было видно конца. Самым наглым образом они умирали под огнем французских и английских контратак, и потому их доблестным полководцам срочно понадобилось вливание свежей крови. Полякам великодушно пообещали прусской милостью Великое княжество — маленькую свободу, как это называли в Варшаве. А в благодарность за нее поляки должны были дружными толпами идти на смерть. За Людендорфа, за Хётцендорфа и других голубокровых сверхчеловеков из Берлина и Вены, которые так и не научились в жизни ничему другому, кроме как ошибаться в расчетах и упускать из виду решающие обстоятельства. Немецкое командование хотя и знало, что поляк — хороший воин, забыло, однако, что воин этот просто так в пекло не полезет. Для подобной жертвы он должен быть достаточно мотивирован, и это немаловажное обстоятельство нельзя не учитывать, выстраивая стратегические планы. Шесть революций устроили они за последние сто лет, шесть раз теряли они десятки тысяч голов — на виселицах, у расстрельных стен, и это вовсе не потому, что им по нраву подобное жертвоприношение. Напротив, им по нраву нормальная жизнь. Им по нраву быть поляками — свободными гражданами свободного отечества.
Именно поэтому некоторые из польских политиков собрались в Вене — тайно, разумеется, чтобы поразмыслить над тем, как поломать планы Людендорфа и его сообщников.
Так случилось, что холодным осенним утром Мальва случайно столкнулась на Рингштрассе с человеком, который показался ей очень знакомым. Похоже, и он сейчас же узнал ее. Оба, будто окаменев, застыли в смущении. Ни один не решался заговорить первым. Наконец мужчина вышел из оцепенения:
— Кажется, мы знакомы с вами, — прошептал он, — я не ошибаюсь?
— Если я не ошибаюсь, — в тон ему шепотом ответила Мальва, — у моей мамы до сих пор хранится ваш залог… Амулет…
— Мадемуазель Розенбах! Это вы?
— Я теперь замужем, и у меня другая фамилия. Я никогда не переставала думать о вас…
Неловкая пауза повисла в воздухе.
— А ваша мама, — неожиданно спросил Дашинский, — она вспоминает меня?
— Бедная мама, — с двусмысленной улыбкой ответила Мальва, — она постарела и овдовела. Мой папа умер, я из дому ушла, и мама теперь совсем одна…
Мужчина осмотрелся, будто опасался кого-то.
— Через три часа я уезжаю, — снова прошептал он, — позвольте пригласить вас на чашку чая?
* * *
Со дня свадьбы Мальва и Хенрик снимали меблированную комнату недалеко от университета. Она была пропитана запахами кислой капусты и нафталина и не годилась ни для чего другого, кроме любовных утех.
Дни напролет Мальва работала в аптеке «Морен» на Випплингерштрассе в качестве практикантки. Хенрик учился в университете и подрабатывал уроками английского языка.
Однажды, вернувшись домой, он застал свою жену в необычном состоянии, ее будто подменили. Сбиваясь и отводя взгляд в сторону, она сообщила ему, что в конце месяца ей необходимо съездить в Галицию. На замечание мужа, что только ненормальный решится пересекать линию фронта и что вообще потеряла она в Галиции, она заявила таинственно, что ей необходимо выполнить некоторое задание и что через пару дней она вернется обратно.
Хенрик заявил, что не совсем ее понимает и хотел бы знать, о каком задании идет речь и, что самое главное, кто за этим стоит. Вначале Мальва не хотела отвечать ему, потом, взяв с него слово, что разговор останется между ними, сообщила: некий господин по имени Дашинский попросил ее доставить в район Тарнова, в деревню под названием Ивонич, двадцать тысяч листовок и там передать их с рук на руки одному доверенному господину.
Хенрик не поверил своим ушам:
— Кто он такой, этот Дашинский? — спросил он, не скрывая раздражения.
— Один из социалистических лидеров из Станислава.
— Это понятно, — ответил Хенрик, — но ты откуда знаешь его?
— Знаю, — резко ответила Мальва, — знаю — и все тут!
— У тебя есть общие дела с ним?
— Не задавай слишком много вопросов. В этом нет смысла.
— Когда я хотел уехать, — прошипел Хенрик, почувствовав опасность, — и тоже по важному заданию, ты пригрозила мне, что бросишься в реку!
Несмотря на возникшую напряженность Мальва наслаждалась сложившейся ситуацией. Довольная, она продолжала вести свою игру, в которой ее возлюбленный впервые проявил неуверенность и страх за нее.
— С тех пор прошло два года, — ответила она, сверкнув таинственным взглядом от сознания, что стоит на правильном пути, — мы оба изменились за это время. В особенности — ты…
Это был удар ниже пояса — коварный и расчетливый. У Хенрика было такое чувство, будто всего его просматривают насквозь. Более того, в ответе ее он услышал прямую угрозу.
— Я хочу знать, — сухо заявил он, желая перевести всю эту разборку на другую колею, — кто он такой, этот Дашинский.
— Я уже ответила тебе — один из польских социалистов.
— Это известно, — резко ответил Хенрик, — один из совратителей народа. Из группы Пилсудского. Националист, для которого интересы отечества важнее, чем освобождение трудящихся.
— Лично для меня, — спокойно ответила Мальва, — важно и то и другое.
— Ложными лозунгами об отечестве подстрекают народ. Телами двух миллионов усеяны поля сражений Европы. В мазурских болотах, под Верденом, под руинами бельгийских городов, на берегах Изонцо.
— Ты выступаешь против свободной Польши, Хенрик?
— Я выступаю за свободный мир — как ты не поймешь этого? Я верю в интернационализм рабочего класса. Я ненавижу эти проклятые знамена, за которые люди всех стран складывают свои глупые головы.
— И что тебе дороже — свободный поляк или порабощенный?
— Ты болтаешь, как этот Дашинский. Да что он значит в твоей жизни? Ты что — спала с ним?
— А сам ты о чем болтаешь? Ты будто бы жаждешь освободить весь мир. Отлично! И что конкретно делаешь для этого лично ты?
— Слишком мало, потому что я сижу теперь в твоей клетке. Потому что я пляшу под твою дудку, подобно обезьяне. Когда я захотел что-то конкретное сделать, ты стала шантажировать меня.
— Похоже, Хенрик, ты был совсем не против того шантажа. И это ничуть не задело твоего самолюбия. Тебе не кажется, дорогой? Беззубый тигр — вот ты кто…
Это была первая размолвка влюбленных. На первый взгляд поводом для нее был Дашинский, на самом же деле причина лежала гораздо глубже, и Хенрик чувствовал это. Мальва попала в десятку. Самолюбие Хенрика было ощутимо задето тем, что под сомнение была поставлена искренность его убеждений. К тому же, она зашла слишком далеко. Последние слова ее были уже не столько критикой, сколько прямым унижением. Хенрик отреагировал на них, как раненый зверь. Его зрачки угрожающе сузились и пожелтели, губы туго сошлись в кривую линию. Он еще пытался сдержаться, но хрип и сопение выдавали окончательную потерю самообладания. Он сжал кулаки, скрипнул зубами, с шумом втянул в себя воздух и вдруг набросился на Мальву, словно дикая кошка. Левой рукой он вцепился ей в волосы и резко откинул ее голову назад. Правой стал бить ее по лицу. Еще и еще, покуда она не обмякла и без чувств не повалилась на пол. Падая, она ударилась виском об эмалированный кувшин. Струйка крови потекла по ее лбу, и это вывело Хенрика из помешательства. Будто с глаз его мигом слетела пелена, и он с ужасом увидел, что натворил. Он упал на колени, положил руку на голову Мальвы и стал плакать. Вначале он лишь жалобно скулил, но вдруг судорога сотрясла всю его грудь. Этот несгибаемый большевик, выкованный из прочной стали, этот атлетического телосложения центральный нападающий, этот непримиримый рыцарь классовой борьбы, не знающий бога и отечества, разразился бурным потоком слез. Он склонился над мраморным лицом своей супруги и стал покрывать его жаркими поцелуями.
— Прости меня, прости меня, — шептал он без остановки, — прошу тебя, Мальва, прости меня!
Он поднял к небу глаза, и из вздымающейся груди его стали вырываться слова, которые восходили к далекому детству:
— Гот, грейсер Гот, ло мир давенен!
На идише, языке своего детства, обращался он к Богу, которого высмеивал всю свою жизнь:
— Боже, великий Боже, услышь молитву мою!
И чудо свершилось: Мальва открыла глаза, и следом приоткрылись, будто в едва заметной улыбке, ее губы.
Давно забытым возгласом возблагодарил Хенрик Всевышнего:
— Адонай, ху хоелехим!
* * *
«20 октября 1917 года.
Он бил меня. Кулаком по лицу. Я должна его бросить, потому что я поклялась: не потреплю никаких унижений — никогда и ни от кого! Я поклялась себе, что ни один мужчина в мире не поднимет на меня руку.
Именно это теперь произошло, и я должна от него уйти.
Должна, но не могу…
Я сама спровоцировала его на этот поступок, заявив ему, что он превратился в безобидного беззубого тигра. Выходит, я сама напросилась.
Когда-то я удержала его, пригрозив наложить на себя руки, если он отправится в Россию. А теперь я, видите ли, разочарована в нем — не герой он, дескать, не Бальтюр, не Богров, расстрелянный на рассвете.
То были девичьи мечты, а жизнь — это нечто совсем другое. Она состоит из компромиссов. Даже если они ведут прямиком в преисподнюю.
Будь я принципиальней, мне следовало бы немедленно собрать мои чемоданы и убираться от него вон…
Но я люблю его.
Он мне дороже всех моих принципов».
* * *
Мальва была одной из первых студенток Венского университета и, пожалуй, первой в Австрии фармацевт-практиканткой. Война способствовала тому, что по причине нехватки мужчин женщины были допущены к академическому образованию и связанным с этим работам.
Не думаю, что доктор Корвилл был поклонником женской эмансипации. Отнюдь, но он был дельцом и просчитал: хорошенькая женщина может быть неплохой приманкой для клиентов, что, собственно, очень скоро и подтвердилось. Только за третий год войны доходы Морен-аптеки на Випплингерштрассе возросли впятеро. Конкуренты кипели от зависти. В деловых газетах все чаще стали появляться объявления о том, что та или иная аптека готова принять на работу девушку-фармацевта. Это было почти невозможно: в те времена еще сильны были предубеждения, дескать, в силу недостаточности интеллекта барышне более присуще быть матерью, кухаркой, в лучшем случае — куртизанкой, поскольку, согласно неким исследованиям, женский мозг в среднем на двадцать процентов легче мужского. Высшие школы всячески избегали принимать на учебу студенток, долгое время оставаясь оплотом мужского тщеславия. Отсутствие женщин способствовало тому, что в академических аудиториях царил бравый казарменный дух. Студенты и даже профессора нередко допускали в разговорах сальные двусмысленности и откровенные непристойности на грани похабщины. Характерно, однако, что отпетые женоненавистники на людях демонстрировали образцы исключительной галантности. Какой-нибудь завзятый волокита, записной бабник, находясь в присутствии, демократично расточал изысканные комплименты в адрес женщины, а в узком кругу своих собратьев — в столовой или в туалете — выставлял себя непримиримым антифеминистом. За всей этой примитивной двойной игрой стоял такой же примитивный страх мужчин перед тем, что иная представительница слабого пола на деле может оказаться во всех отношениях способнее своего коллеги в брюках. Подобная неуверенность в себе как раз и определяла двойные стандарты в поведении представителей сильной половины человечества.
Доктор Корвилл принял к себе на практику очаровательную Мальву, руководствуясь исключительно финансовыми соображениями. Однако он, как говорится, постоянно дышал ей в затылок, не упуская возможности отпускать по ее адресу всякого рода двусмысленности.
Однажды после полудня Мальва стояла у рецептурного стола. Она готовила лекарство и не заметила, как шеф приблизился к ней сзади. Внезапно она почувствовала на затылке его горячие дыхание.
— Для кого готовите вы это лекарство, фройляйн Розенбах? — прошептал шеф у самого ее уха.
— Вы хорошо знаете, доктор, что я замужем и ношу фамилию моего мужа, — ответила Мальва, обернувшись.
— Если не ошибаюсь, — продолжал он, пропустив мимо ушей ее замечание, — лекарство это прописано нашему господину придворному советнику?
— Вашему господину придворному советнику, — ответила Мальва, — вашему, а не моему.
— Адонис верналис, как всегда, — не так ли?
— Господин придворный советник имеет проблему не с головой, а несколько ниже, — ответила Мальва с пренебрежительной улыбкой.
— То есть?
— Gortex Franguale, господин доктор, — ответила Мальва, — кора крушины. У него хронический запор.
— Мне показалось, он раздражает вас чем-то?
— Я готовлю прописанное ему лекарство, и это все, что я могу для него сделать.
— А он, между прочим, жалуется, что вы слишком холодны с ним.
— Все, что ему нужно, это хорошее слабительное. Антрахинондериват, например.
— Господин придворный советник желает, чтобы его обслуживали соответственно его общественному положению.
— Тогда и вести себя он должен соответственно его общественному положению, — без тени смущения ответила Мальва, — а у него вульгарная привычка распускать руки.
— Но фройляйн Розенбах, вы ведь не монахиня!
— Называйте меня фрау Камински. И потом, я не желаю, чтобы господин придворный советник лапал меня. Мне это не нравится. — Мальва строго посмотрела в глаза шефа и добавила: — Он годится мне в дедушки.
Доктор Корвилл намек понял. Он мельком взглянул в висящее на стене зеркало и лихо подкрутил кончики усов.
— Вы находите, — прощебетал он голосом завзятого обольстителя, — что я выгляжу на мои годы?
— Ваш возраст, господин доктор, мне абсолютно безразличен, — холодно ответила Мальва, продолжая свою работу.
— Эти ваши слова, — не унимался аптекарь, — можно понимать так, что вы находите меня привлекательным. Это не так?
— Только что здесь был ваш сын, — ответила Мальва, оставив без внимания вопрос шефа, — он просил передать вам, что зайдет к портному.
Уклончивый ответ девушки мог быть понят двояко. Ей не нравится, что придворный советник норовит облапать ее. Это может означать, размышлял аптекарь, что она совсем не против, чтобы кто-то другой проявил себя в той же манере. И еще она сказала, что возраст шефа ей абсолютно безразличен. А это может означать, что его годы — не помеха вовсе. Будь что будет! Доктор Корвилл трактовал слова практикантки так, как ему того хотелось. Он подошел к ней так близко, что ускользнуть от контакта было просто невозможно.
— Я надеюсь, — прошептал он в самое ее ухо, — сегодняшний вечер мы проведем вместе…
Мальва хладнокровно продолжала свою работу и с неизменной осторожностью налила в колбу две жидкости.
— Итак, сегодняшний вечер вы проведете вместе, — сказала она с явной насмешкой в голосе, — и куда же вы намерены сходить?
— Вы меня неверно поняли, фройляйн Розенбах, — проворковал он, кладя руку ей на талию, — я хотел сказать, мы проведем этот вечер с вами.
— Я очень в этом сомневаюсь, господин доктор.
— Но почему же, прелестное дитя?
— Потому что ваша госпожа супруга не одобрит этот шаг.
Чаша терпения аптекаря переполнилась, и он перешел к открытому штурму. Он обнял Мальву и попытался притянуть ее к себе. Это ему не удалось, потому что Мальва знала, как следует укротить не в меру разгорячившегося шефа. В миг наибольшей опасности она нарочно уронила на пол стакан с препаратом, и он с шумом разлетелся на тысячи осколков. Желтая жидкость расползлась по паркету, распространяя едкий запах. Личное имущество было аптекарю дороже неудовлетворенной страсти.
— Пощадите мой инвентарь, — произнес он притворно-сладким голосом, убирая прочь руки, — и будьте полюбезней с вашим шефом!
— Фрау Корвилл будет против, — возразила Мальва язвительно.
— Далась вам эта фрау Корвилл, — не сдержался аптекарь, — черт бы ее побрал совсем!
— Могу я ей так и передать? — с озорством спросила Мальва, снимая трубку телефона.
Аптекарь ни на миг не сомневался в том, что Мальва не решится на подобный шаг.
— Разумеется, — ответил он хладнокровно, — хоть прямо сейчас звоните ей!
Мальва не заставила просить себя дважды. Она спокойно набрала нужный номер и дождалась ответа.
— Мальва Камински у аппарата, — представилась она, медленно и четко выговаривая слова, — я разговариваю с фрау Корвилл? Да? Так вот, ваш супруг просил меня передать вам…
Терпению аптекаря пришел конец. Он вырвал из рук практикантки телефонную трубку и торопливо повесил ее на рычаг.
— Вы можете быть свободны, фройляйн Розенбах, — прохрипел он. Затем решительно подошел к шкафу, взял свое пальто и направился к выходу.
— А как быть с моей зарплатой? — спросила Мальва, когда он был уже в дверях. — Вы задолжали мне за три месяца!
— С этим вы и останетесь, — ответил аптекарь, не оборачиваясь, — вы уволены. Прощайте!
* * *
«15 ноября 1917 года.
Говорят, у лжи короткие ноги. Это неправда. Ложь живуча и даже очень. Мифы — и того более. Чем они дремучей, тем длиннее их ноги и тем вероятней, что в историю они войдут неоспоримыми фактами.
Наша поездка в Ивониц и есть такой миф. Все, вроде бы, знают, как было на самом деле, но никто не считает нужным назвать вещи своими именами. Хенрик говорит, что это было партийное поручение. Он без промедления согласился ехать, хотя знал, чем мы рискуем. Это было самоубийством, заявляет он. В самый разгар войны отправляться в Галицию, в эпицентр боевых действий — безрассудство! Ивониц, говорит он, расположен в двенадцати милях от линии фронта, хотя на самом деле — между ними все тридцать миль. Туда доносился грохот орудий, и горизонт то и дело вспыхивал огненным заревом. Мы проезжали сквозь океан разрушенных деревень, выжженных хуторов, ехали мимо разлагающихся трупов. Сколько видит глаз, сплошные болота и снежное месиво. В этой части рассказов Хенрика все соответствует истине. В какой-то подводе, съежившись, фактически на корточках, парализованные от холода и промокшие до костей, тряслись мы по бесконечному бездорожью, будто бог весть куда пробирались через преисподнюю до основания разрушенного мира. В лесу выли волки. Над обугленными руинами кружили стаи ворон.
Хенрик утверждает, будто без всякого поручения партии нам надлежало доставить в Ивониц пятьдесят тысяч экземпляров листовок и вернуться обратно в Вену.
На самом деле листовок было не пятьдесят, а двадцать тысяч, кроме того, мы преследовали свои, сугубо личные цели.
Словом, тут немало вымысла. Это, впрочем, ничуть его не смущает, и он фантазирует дальше, не боясь быть уличенным в, мягко говоря, неточности излагаемых фактов. Мы, дескать, с нашим смертельно опасным грузом пробирались непосредственно по линии фронта, преодолевая дюжины полицейских постов. На самом деле было всего три полицейских поста, на которых ровным счетом ничего с нами не происходило.
Хенрик преувеличивает. Ни он, ни я листовки на себе не прятали. Кучер тоже ничего не подозревал. Выходит, мы тайно рисковали чужой жизнью. По сути, это было подло, но Хенрика это ничуть не трогало. Он любит рассказывать, каким отчаянным рубакой был этот кучер, который, смеясь, рассказывал о своей самоубийственной поездке через линию фронта. Это был, дескать, типичный поляк, которому смерть нипочем и сам черт не брат. Безымянный герой, сущий святой, с которым весь мир перевернуть можно.
Ничего такого мужик этот собой не представлял. Это был отвратительный пьяница, грязный и вшивый донельзя. Беспросветный идиот, который никогда не бывает трезв, но Хенрику этот тип импонировал, потому что он по-пролетарски сквернословил и от него за версту несло перегаром. По этим признакам мой фантазер заключил, что конюх был настоящим социалистом. Умора, ей богу! Круглым ничтожеством был он, к тому же продажным, как все поляки. За бутылку спиртного вез он нас по минным полям немецко-русского фронта. У нас было с собой десять литров спирта, потому что в Галиции все виды денег потеряли свое достоинство и больше не годились для расчетов. Когда там были русские, в ход шли рубли. Когда пришли немцы, хождение получили рейхсмарки. Потом обстановка менялась так часто, что единственным средством оплаты стал алкоголь. Из спирта можно было приготовить водку, а за нее поляк готов отдать все на свете, но факт этот Хенрик отрицает. А сам между тем велел мне выпросить у старика Корвилла десять литров спирта в счет зарплаты. Лишь после этого мы отправились в путь. Всю дорогу Хенрик был полон подозрений, полагая, что в Галиции у меня есть любовник. Смешно, мне не нужен никакой любовник. Мне хватает мужа.
Он порядком привирает, приукрашивает нашу историю, из ничего создавая эдакий героический эпос. По сути же, то злосчастное путешествие в Ивовиц являло собой обыкновенную поездку за дефицитными продуктами. Доставка туда листовок — акция попутная, но главной нашей целью, если быть откровенными, был вояж на черный рынок. Ничего плохого в этом нет — такие уж нелегкие времена были тогда, но нужно иметь мужество говорить так, как было, и не героизировать обыкновенное житейское дело. В конце концов, и в Вене мы голодали. Сто пятьдесят граммов мяса и сто граммов затхлого жира в неделю — это все, на что можно было рассчитывать, да и то, если достанется, что случалось тоже не всегда. Часами приходилось простаивать в очереди, чтобы получить эту малость. Не поработаешь локтями, уйдешь ни с чем, и каждому приходилось изворачиваться, чтобы только выжить. Каждый должен был найти кого-то, кто услугой ответит на услугу. Чтобы выжить, нужно было научиться подмазывать, выкручиваться и плутовать на каждом шагу. Весь народ поголовно постигал искусство выталкивать соседа, чтобы занять его место, и кому это не удавалось, тот был обречен быть раздавленным.
Итак, мы отправились в Ивониц с десятью литрами спирта и вернулись домой с половиной свиньи. От этой акции выиграли мы все, наевшись наконец досыта. Целый месяц мы наслаждались ветчиной, колбасами, солониной и паштетами. И даже бабушка, которая за всю предыдущую жизнь не поднесла ко рту ни кусочка свинины, с наслаждением прикладывалась ко всей этой снеди, запретной для благочестивого еврея.
Так выглядел наш вояж на самом деле, но Хенрик настаивает на своем видении. Он рассказывает о нем столь красочно и с такими подробностями, что я порой ловлю себя на том, что сама начинаю верить в эту благородную сказку. Все-таки с немалым риском мы доставили по назначению двадцать тысяч листовок. Нельзя отрицать и того, что в этом состояло партийное поручение и мы с ним справились. Но правда и то, что социалист Дашинский и большевик Хенрик Б. Камин разнятся между собой, как день и ночь. Для меня лично большого значения все это не имеет, потому что политические нюансы интересуют меня слишком мало. Главное, у нас появилась еда, тем более что снабжение с каждым днем становилось все хуже».
* * *
15 декабря 1917 года дядя Хеннер и его сын Натан вышли из железных ворот крепости Виллах.
— Хвала господу нашему! — с благоговением прошептал дядя, вознеся к небу благодарный взор.
Счастливое освобождение свое и сына от неминуемой гибели он приписывал Божественному провидению наряду с великодушной поддержкой со стороны брата Лео.
Впрочем, был еще и некто третий, кто опосредованно приложил к этому руку. Фамилия его — Ульянов. Тот самый, который под именем Владимир Ильич Ленин взял в свои руки всю власть в Петербурге. Об этом, впрочем, дядя Хеннер даже не догадывался, поскольку, как известно, газет он не читал. Не знал он и о том, что Лео ради его освобождения выложил на стол все свое состояние. Разумеется — и нам это хорошо известно — с большой неохотой расстался он со своими деньгами, чтобы поручиться за несчастного брата и тем вызволить его из беды.
Ленин между тем заключил мир с военными противниками России, в том числе и с Австрией, чей монарх от радости приказал открыть тюрьмы и сейчас же выпустить всех заключенных. Одним из первых, кто получил свободу, благодаря столь неожиданному порыву монарха, был как раз дядя Хеннер. Совершенных преступлений за ним не числилось, к тому же немаловажную роль сыграл приличный залог, внесенный за него братом. Словом, его выпустили, и он в числе многих других счастливчиков на собственной шкуре познал всю благодать монаршей милости. При этом с залогом пришлось распрощаться, потому как он прямиком перешел в собственность двойной монархии. В итоге все остались довольными: дядя Хеннер обрел свободу, кайзер — деньги несчастного Лео, а Ленин — полнейшую власть на необъятных просторах России. Мировая история продолжила свой привычный ход, а вместе с ней и Хеннер после трехлетнего перерыва возобновил свое паломничество с того самого места, где оно в первый день мировой войны было прервано столь драматическим образом. Двое странников продолжили свой путь в Вену. Все, что было у них в руках, это неизменная скрипка и черный деревянный крест, а в душе — непоколебимая вера в покровительство Пресвятой Девы.
* * *
18 декабря около полудня оба странника свернули наконец на Фрейтаггасе. Минутой позже они позвонили в дверь, на которой значилось: «Яна Розенбах, вдова придворного фотографа Лео Розенбаха».
Выйдя на звонок, Яна не поверила собственным глазам:
— У меня галлюцинации! — воскликнула она.
— Ты все так же прекрасна, Яна, как десять лет назад, — произнес Хеннер звучным баритоном, низко склонив голову, — и ты совсем не изменилась!
— Господи, да откуда же вы взялись, и почему только теперь?
— Три года подряд томились мы в страшной темнице. Тысячу дней и ночей! Все, что осталось от нас, это наши души, а тела наши — разрушены, раздавлены.
— Да что же произошло? Не хотите ли вы войти в дом?
— Тысячу дней и ночей все мои мысли были обращены к тебе, Яна, я думал о твоих глазах. Я боялся единственного, что они утратят свой блеск…
Странники вошли в дом и смущенно огляделись, не проронив ни слова. Здесь все было не так, как в прежнем жилище.
— Как видите, я уже совсем старушка, — кокетливо сказала Яна грустным голосом, прерывая неловкое молчание.
— Я боялся, что твои губы увянут, — ответил Хеннер.
— Твоего брата больше нет, Хеннер, — продолжала Яна. — Лео покинул нас навсегда, потому что я была недостаточно добра с ним.
— Но ты осталась такой же молодой, Яна. И ты по-прежнему женщина моей мечты.
— Мальва вышла замуж, — сказала Яна, пропуская мимо ушей слова Хеннера, — теперь и она ушла от меня и живет в городе. Наш дом опустел.
— Я знаю, — продолжал Хеннер, — что ты веришь в меня. Ты всегда верила в меня. Я не виновен, Яна…
— Давай не будем об этом, Хеннер!
— Они хотели сделать из меня шпиона, эти идиоты. А мы молились за нашу Австрию. Каждое утро, когда просыпались, и каждый вечер, отправляясь ко сну.
— Ты ходишь босиком, Хеннер, почему ты не в обуви? И что означает крест, который ты держишь в руках?
— Я стоял под виселицей, дитя мое. Они уже накинули петлю мне на шею. Я даже попрощался с сыном и мысленно обратился к нашему Отцу. Но этот крест спас меня. В самую последнюю минуту моей жизни.
— Лео поручился за тебя, Хеннер. Ты знаешь об этом? Впервые после нашей свадьбы в доме появились деньги. И все их до последнего гроша он отдал. За тебя. Потому что мы в тебя верим.
— Ты веришь в меня, Яна, только ты. Я это знаю. Я это чувствую. На виселице стоя, я чувствовал это. Ты, но не Лео. Он презирал меня. Всегда. К тому же он был ревнив, потому что не его ты любила, а меня…
— Молчи, Хеннер, мертвые слышат нас.
— И пусть, я говорю правду.
— Почему на тебе эти мерзкие тряпки, Хеннер?
Изобретатель поднял крест над головой, и слезы ручьем побежали по его щекам.
— Я совершаю акт покаяния, Яна. Я должен каяться, потому что великий грех тяжким грузом лежит на моем сердце… Я был у Его Святейшества Папы Римского. Теперь я прибыл в Вену, чтобы встретиться с кайзером.
Задорный лучик промелькнул в глазах Яны:
— Ах так? С самим кайзером хочешь ты встретиться. Отлично! Тогда скажи ему, что все мы по горло сыты его войной. Она тянется уже четыре года, и конца ей не видать. Если он сам не положит ей конец, это сделают без него, и в Австрии случится то же самое, что в России.
— Мои переговоры с Его Величеством касаются совсем иных проблем.
— Иных проблем не существует. Весь мир захлебывается в крови. Это не может продолжаться дольше!
— Мое открытие, — настаивал Хеннер, — гораздо важнее для нашей общей стратегии. Можно сказать, оно имеет решающее значение для всех. Цветная фотография поможет нам распознать каждого навозного жука за вражеской линией. Если кайзер даст мне концессию и необходимые средства, война эта будет победоносно завершена всего за пару недель.
— Скажи мне правду, Хеннер, единственный раз в твоей жизни: ты действительно так продвинулся или по-прежнему дурачишь всех нас своими фантазиями?
— Я не дурачу, душа моя, и никогда не делал этого. Единственное, чего мне не хватает, это денег. И больше ничего. Мы вырвались из душегубки под названием Виллах. У нас было достаточно возможностей заработать кусок хлеба… Мы не ели трое суток.
— Мои дела тоже не лучше. Что от меня ожидаешь ты, Хеннер?
— Ровным счетом ничего. Мне нужна лишь концессия от кайзера. Все остальное готово. В моей голове.
— Ты собираешься идти во дворец Шёнбрунн в таком облачении?
— Я — один из величайших изобретателей нынешнего столетия.
— Кроме тебя, Хеннер, этого не знает никто. В том числе и кайзер. Если ты появишься в таком виде в Шёнбрунне, тебя немедленно арестуют.
— Глупости! Я нужен кайзеру больше, чем он мне. Кроме того, я жертва судебного произвола. Безо всякой вины у меня отняли тысячу дней моей жизни. За это мне положена компенсация.
— И где же вы сейчас квартируете?
— Пока я не получу концессию, — на Западном вокзале, в зале ожидания третьего класса.
Сердце Яны зашлось от сострадания. Давно остывшее увлечение вновь шевельнулось в ее сердце.
— Так оставайтесь уж здесь, ради бога. Какую-нибудь еду я раздобуду. Что же касается вещей — гардероб Лео стоит нетронутым. В конце концов, он был твоим братом. Все, что принадлежало ему, теперь твое — не так ли?
Хеннер бросился к невестке и обнял ее.
— Ты никогда не пожалеешь об этом, мой ангел, — горячо шептал он прямо ей в ухо, дрожа всем телом, — я нахожусь всего в одном шаге от полного завершения моей работы. Теперь это вопрос дней. Нет, что я такое говорю? Это вопрос часов! С нами Сын Божий, клянусь тебе. Мы будем богаты, как никогда.
— Дай бог, чтобы это было правдой, Хеннер! Но я верю в тебя — все равно, правда это или нет. Я всегда в тебя верила. Пусть не в силу благоразумия, зато из любви к тебе…
* * *
С той самой поездки в Ивониц Хенрик уверился, что он опять находится в центре мировой истории. И опять он вообразил, как это было прежде, будто вокруг головы его светится нимб несгибаемого борца за свободу человечества. И он вновь стал разыгрывать из себя бескомпромиссного вояку, чья жизнь целиком и полностью принадлежит идеям социализма. И роль эту он разыгрывал так искусно, что даже Мальва стала в это верить, хотя она-то должна была замечать, что муж ее всего лишь умело жонглировал цветастыми фразами, уклоняясь от настоящей борьбы. Эти решительные перемены в нем были ей очевидны, но она старалась ничем не показывать ему, что все его бойцовские порывы были бы более уместны до революции, а не после нее, ибо это последнее дело — энергично размахивать кулаками после драки.
Когда в России уже вовсю хозяйничали рабочие и солдатские Советы и стали очевидными обнадеживающие перспективы вскочить на подножку уходящего поезда, Хенрик вспомнил свое большевистское прошлое — и подумывал о том, как бы не упустить возможности приобщиться к одержавшей победу фракции.
Такие мысли роились в голове Мальвы, они терзали ее, но высказать их вслух она не осмеливалась. Лишь молча наблюдала, как Хенрик то и дело затевал какие-то студенческие волнения, будто собирал свидетельства своего бесстрашия и революционной активности. Он строил свои собственные баррикады, на которых единолично сражался с им же назначенными представителями уходящего мира. И в этой шутовской игре он проявлял свойственное его натуре искреннее усердие.
Однажды холодным февральским утром он появился в Морен-аптеке на Випплингерштрассе и заявил дежурному провизору, что хочет немедленно говорить с доктором Корвиллом. Хозяин аптеки тут же вышел и спросил, чем он может быть полезен господину.
— Пожалуйста, мне нужен строфантин, — ответил Хенрик, изобразив на лице страдание.
— Вам известно, надеюсь, — ответил аптекарь с подчеркнутым сочувствием в голосе, — что препарат этот весьма токсичен и может вызвать нежелательные побочные действия. Поэтому вам необходим рецепт от врача.
— Я сам медик, — возразил Хенрик с улыбкой усталости на лице, — и мне это известно. Речь идет о том, однако…
— Я понимаю, — не дал ему договорить аптекарь, заговорщически подмигнув посетителю, — мы с вами коллеги.
— Это лекарство необходимо лично мне, — ответил Хенрик, несколько театрально потирая себя в области груди, — я из России.
— Херрьемин! — позвал аптекарь. — Есть у нас это в готовом виде?
Хенрик присел в углу на кушетку и устремил взгляд вдаль, словно пытался что-то вспомнить:
— Я мог бы скрыться. С опасностью для жизни, разумеется, но я в Вене и с ужасом вижу, что и Австрия заодно с Лениным.
— Австрия сражается до победного конца, — буркнул в ответ доктор Корвилл, — каждый капитулянт будет расстрелян!
— Эта страна кишит капитулянтами, — возразил Хенрик.
— Мы выиграем войну — точка! — заявил аптекарь.
— Цивилизованный мир уже проиграл ее, — возразил Хенрик.
— Я сам являюсь австрийским офицером, — не унимался аптекарь, — попридержите язычок, господин!
— Вы в курсе последних новостей? — спросил Хенрик.
— Новости вполне хорошие, — ответил доктор Корвилл.
— И вам известно, что произошло в России?
— Россия далеко. Меня это не касается.
— Имейте в виду, господин доктор, — угрожающе заявил Хенрик, — Австрию постигнет та же участь.
— Вы полагаете?
— Я не полагаю, а знаю твердо: большевизм — это такая зараза, от которой спасения нет.
Хозяин аптеки стал выходить из себя.
— Строфантина вы не получите — и точка! — сказал он раздраженно.
— Он национализировал фабрики, — не унимался Хенрик.
— Кто?
— Ленин. И землю разделил между чернью. Церкви полетели на воздух. А вы говорите, что новости вполне хорошие.
— Мы уничтожим всех врагов, — ответил аптекарь, — большевиков — в том числе.
— Или они вас, — возразил Хенрик, — если вы не примите во внимание происходящее.
— Еще пару дней, и они захлебнутся в собственном дерьме, — пригрозил аптекарь.
— Между прочим, — не унимался Хенрик, — вы их поддерживаете, насколько мне известно.
— Что вам угодно, господин? — не выдержал аптекарь, у которого глаза вылезали из орбит и кровь ударила в виски. — Немедленно замолчите или я вышвырну вас отсюда!
Хенрик встал и направился к выходу.
— Кто поддерживает этих бандитов? — вслед ему крикнул аптекарь.
— Австрия и Германия. Официально, ничуть не стесняясь. Вы продолжаете воевать против Англии и Франции, а с этими разбойниками, с этими отбросами общества вы заключили мир.
— А на скольких же фронтах должны мы воевать? Мы рады, что хоть на востоке нас оставят теперь в покое.
— Таким образом вы хотите обрести покой? У вас все национализируют, отнимут всю вашу собственность — все, что можно отобрать. Все станет общим — все: железные дороги, женщины, бани… Что с вами, доктор?
Владелец аптеки стал смертельно бледным. Он с трудом доковылял до прилавка и выдавил из себя едва слышно:
— Аптеки тоже?
— Разумеется, — ответил Хенрик.
— Никогда! — прохрипел в ответ аптекарь голосом простуженной сипухи. — Слышите — ни-ког-да! У нас подобное — не-воз-мож-но!
— Ну что ж, — ответил Хенрик, — берегитесь, доктор, ваших сотрудников. Они только и ждут подходящего момента, чтобы взять реванш. И ваша аптека будет национализирована. Вот увидите.
— Нечто похожее у меня уже было, — ответил аптекарь, — бабенка одна, но я ее выгнал.
— Тем хуже, господин доктор, — продолжал Хенрик нагонять страху, — она вернется, чтобы отомстить.
— Что вам от меня нужно, вы, изверг? — прохрипел аптекарь, с трудом глотая воздух.
— Один порошок строфантина для моего сердца.
— Похоже, мне самому уже пора принять это лекарство, — тяжело вздохнул доктор Корвилл и поплелся в рецептурную. Он прилег там на кушетку, свернувшись калачиком.
Хенрик поспешил за ним, бегло осмотрел его и констатировал собравшимся сослуживцам:
— Коронарный склероз, господа, с образованием тромба в одном из сердечных сосудов…
* * *
Однажды апрельским вечером 1918 года дядя Хеннер не нашел ничего лучшего, как устроить сеанс парапсихологической связи с покойным братом Лео. Дела шли — хуже некуда. Натан все еще играл «Аве Мария» на Западном вокзале, однако теперь ему почти ничего не подавали: денег у людей просто не было. Вена голодала. Вся система снабжения столицы было разрушена. Продовольственных запасов в стране оставалось максимум на три недели.
У кайзера Карла решительно не было времени принимать в Шёнбрунне изобретателя цветной фотографии, и Розенбахам попросту не оставалось ничего другого, кроме как попытаться искать спасение в потустороннем мире.
Собралась вся семья: Мальва и Хенрик, которые снимали теперь меблированную комнатку на Флориангассе, обе кузины — Хелли и Штеффи, бабушка и, разумеется, Яна, которая стояла рядом с Хеннером, готовая в любую минуту прийти ему на помощь в его подготовке к сеансу.
Вся обстановка и общий настрой должны были в полной мере соответствовать духу предстоящего общения. И хотя большинство участников этого таинства относились к нему скорее скептически, ни у кого не вызывало сомнений, что для спиритического сеанса подходит лишь черное одеяние. Разумеется, и сама комната, в которой вызывался дух усопшего, была убрана соответствующим образом. Из нее, к примеру, было вынесено все, что могло иметь хоть какое-то отношение к предметам развлекательного свойства, включая книги неподобающего содержания. Привезенный из Рима крест Хеннер прикрепил к стене. Для этого он вбил в нее два стальных крючка, тщательно выверив горизонтальность их взаимного расположения с помощью ватерпаса.
Все это способствовало созданию атмосферы особенной взволнованности, абсолютно необходимой для успешного проведения подобных ритуалов. Никто не проронил ни звука. И только Мальва вдруг нарушила эту таинственную тишину.
— А крест-то для чего, дядя Хеннер? — прошептала она. — Папа же был евреем?
— Иисус Христос тоже был евреем, — ответил изобретатель с сарказмом в голосе, — но Он дал распять себя на кресте.
Ответ этот был столь дерзким, что все присутствующие остолбенели. Лишь Хелли молча поглаживала свою черную шелковую блузу, Штефи с совершенно потерянным лицом стала зачем-то шнуровать свои ботинки, боясь взглянуть на Хеннера.
Главное же действующее лицо между тем продолжало священнодействовать, пытаясь приладить крест к подготовленному для него месту. А Яна со свойственной ей придирчивостью рассматривала себя в зеркале, стараясь придать себе подобающий вид, когда Лео появится в комнате. В успехе всей этой затеи она очень сомневалась, однако это не мешало ей непрерывно нашептывать слова молитвы:
— Матерь Божья, смилуйся над нами!
Почему в этот момент она обращалась именно к Пресвятой Деве, к тому же еще и по-польски, остается загадкой. Но вдруг она разразилась истерическим криком:
— Что вы тут себе вообразили, будто сможете перепрыгнуть через собственные тени? Да вы же все евреи — нравится вам это или нет. Иегова дал нам жизнь, и он возьмет ее обратно, когда придет время.
Слова эти адресовались прежде всего самому Хеннеру, но он, будто не слыша их, продолжал свое дело.
— Этот крест, — произнес он, сделав несколько шагов назад и плотно зажмурившись, — ионизирует воздух, которым мы дышим, но лишь в том случае, если он висит правильно. Он должен правильно висеть — это непременное условие!
Будто за экзотическим развлечением молча наблюдал Хенрик за всей этой возней. Вдруг словно шлея попала ему под хвост, и он спросил у Штеффи, с чего это у нее такое скверное настроение. Известно ведь, что духи сторонятся сердитых женщин.
— Злых женщин и глупых марксистов! — язвительно отпарировала Штеффи.
— А что следует нам говорить, если он появится? — неожиданно спросила Хелли, продолжая нервно поглаживать свою блузу.
— Не мы будем общаться с ним, а Хеннер, — ответила Яна, припудривая нос, — это его затея, и он знает, как поступать дальше. Речь идет о том, быть или не быть его великому изобретению. Если вы будете молоть всякий вздор, наш папа обидится и сразу исчезнет.
— Непросто будет ему исчезнуть, — заметил Хенрик, — поскольку он еще даже не появился.
— А еще трудней ему будет появиться, — парировала его замечание Яна, — если кто-то будет отпускать дурацкие шуточки…
— Если он появится, — заметила Хелли, которая будто вовсе не слышала всей этой перепалки, — я спрошу его, когда наконец кончится эта война.
— Если он появится, — возразила ей Яна, — ты будешь молчать, а не задавать ему твои вопросы.
— Я буду делать, что считаю нужным, — дерзко настаивала Хелли, — война важнее всего другого. И уж во всяком случае — важнее этой никому не нужной цветной фотографии, которая всем нам давно уже поперек горла!
— Замолчи, Хелли, или вообще выйди отсюда! — прикрикнула на нее Яна, шумно бросив косметическую кисточку на туалетный столик.
— А как это, дядя Хеннер, — спросила Мальва, желая разрядить накалившуюся обстановку, — крест ионизирует воздух?
— Он излучает запах опиума, — ехидно пошутил Хенрик, — опиума для народа.
— Нет, моя дорогая Мальва, — возразил Хеннер, который был занят теперь омовением рук после завершения всех приготовлений, — этот крест обладает в высшей степени таинственным свойством: он излучает магнитное поле — тебе это понятно? Некое сосредоточение статической энергии, благодаря которому он материализует дух нашего Лео. Это же так просто! Но, как было сказано, он должен правильно висеть, иначе все наши усилия напрасны.
Слушая всю эту болтовню, Хенрик пожал плечами.
— Почему вы уверены, — спросил он с саркастической улыбкой, — что наш уважаемый фантом даст правильные ответы на поставленные вами вопросы? Он ведь понятия не имеет о цветной фотографии. Откуда ему знать, может она вообще давно уже изобретена.
— Наш фантом, — возразил Хеннер, тщательно вытирая каждый палец, — то есть мой дорогой брат, находится сейчас на небе. И в отличие от вас, господин Камин, он не сомневается, а знает наверняка. Он знает все, потому как приписан теперь к небесной рати. Мы вызовем его, и он явится. Мы спросим его, и он ответит.
— Ну а если он все же осрамится, — не унимался Хенрик, — ведь и духи ошибаться могут — не так ли? Тогда это станет еще одним крахом вашей жизни…
— Мертвые никогда не ошибаются! — заявила бабушка, бросив на пол свое неизменное вязанье. До сих пор она не вмешивалась в разговор, но тут старушка решила, что пора и ей проявить себя. — Лео был серьезным человеком, — проворчала она, — и вам не следовало бы его беспокоить вовсе. Это грех! Но если уж вы это делаете, то хотя бы ведите себя прилично, чтобы не накликать какую беду…
— Что значит — вести себя прилично? — набросилась Штеффи на бабушку, почувствовав себя задетой. — Вы хотите спросить у моего покойного дяди, что надлежит дальше делать Хеннеру, чтобы наконец разбогатеть? Именно дядю Лео, который очковтирательством никогда не занимался, всю жизнь вкалывал и во всем нуждался. Он что — на небе научился гешефты делать? Там золото никому не нужно.
Вступать со Штеффи в философские дебаты в планы Хеннера не входило. Он взял с комода свечку и зажег ее. Потом выключил электрический свет и торжественно произнес:
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…
В комнате повисла тревожная тишина.
— Кажется, я что-то чувствую! — прошептала Яна.
— И что же? — спросила Мальва.
— Воздух ионизируется, и я стою в центре магнитного поля. Сядьте к столу и приготовьтесь. Мы должны сосредоточиться — очень, очень сосредоточиться! Мы видим свечение. Над столом мерцает бледный свет…
Мурашки пробежали по телу Яны. Ее волнение передалось другим и даже Хенрику.
— Мне зябко, — пролепетала Хелли, — и страшно…
— Закрываем глаза и кончиками пальцев прикасаемся к верхнему краю стола, — зашептал Хеннер, перекрестившись и беря на себя управление таинством, — сияние светлеет. Мы отчетливо слышим биение наших сердец. Мы поднимаем все пальцы, кроме больших…
В тайной надежде хоть на миг заглянуть в потусторонний мир, участники действа, вопреки всем своим сомнениям, дружно повиновались.
— Вот увидите, — внезапно проворчала бабушка, ставшая невольной участницей этого безбожного действа, — Лео обидится на нас из-за этого креста. Я вас предупреждаю!
— Этот обидится! — возразила Штеффи недовольным голосом. — Да он сам был наполовину язычником!
— Святым он не был, — возразила ей Яна, — но в общем он придерживался заветов.
Хеннер почувствовал, что если эта перебранка немедленно не прекратится, контакт с потусторонним миром будет потерян.
— Всем надлежит касаться кончиками больших пальцев края стола, — потребовал он, повысив голос, — и должна быть тишина, как в вечности микрокосмоса! Мы проносимся по бесконечности галактики. А сейчас… Пусть покойный Лео Розенбах предстанет перед нами… Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…
В ответ не произошло ровным счетом ничего. И только пауза, бесконечно длинная и неловкая, плетью повисла в воздухе.
— Лео, единственный брат мой, — позвал Хеннер вновь, на этот раз слегка повысив голос, — прости мне все мои грехи, которые я совершил по отношению к тебе. Я обманул тебя, ограбил! Но мы с тобой — одной плоти и крови. Ты только подай мне знак — слышишь ли ты меня?..
Раздался страшный грохот, который разом вывел всех присутствующих из благоговейного состояния. Что-то свалилось на пол. Хенрик вскочил первым и включил свет, который разом всех ослепил.
— Крест свалился, — закричала Хелли, — смотрите, он развалился на три части!
— Это знак! — произнесла Яна торжественным голосом, стоя с театрально распростертыми руками. — Вот видишь, мой дорогой Хеннер, Лео зол на тебя!
Хенрик тоже был ошеломлен неожиданной ситуацией, но быстро взял себя в руки.
— Разумеется, он зол, — ответил марксист, — но на вас всех, потому что вы верите в эту чепуху!
Хеннер опустил глаза.
— Лео всегда был зол на меня, — ответил он чуть слышно на язвительное замечание Хенрика. — Он злился и завидовал мне, потому что я умею видеть невидимое, а он никогда этого не умел. Я слышу голоса ангелов, а он был глух к ним. Он вечно ревновал ко мне. До смертного часа своего.
Яна подошла к Хеннеру и положила руки ему на плечи. От былого высокомерия ее не осталось и следа.
— Он зол и даже больше, — тихо сказала она. — Лео пребывает в глубокой печали, потому что ты отрекся от еврейства.
— Никто меня не слушал, — сердито прокряхтела бабушка, вставая из-за стола и направляясь к двери, — а ведь я вас предупреждала!
* * *
Газеты Австро-Венгерской империи правились цензурой до неузнаваемости. Узнать хоть самую малость об истинном положении дел на фронтах было совершенно невозможно. С самого начала боевых действий на газетные полосы не допускалось ничего, кроме победных реляций. Читателей информировали исключительно о наступательных действиях австрийской армии, об отступлении войск не сообщалось ни слова. Теоретически кайзеровские части стояли уже в Полинезии. Если бы хоть кто-то, руководствуясь исключительно официальными сводками австрийского генштаба, потрудился подсчитать общее число жертв со стороны противника, он сделал бы для себя удивительное открытие: Россия, Сербия, Италия и Румыния давно уже полностью лишились своего населения и могут быть стерты с географических карт. Поэтому люди серьезные давно отказались верить сообщениям отечественной прессы, предпочитая узнавать новости из иностранных газет нейтральных стран. Разумеется, все они были под запретом, но на черном рынке можно было достать такую газету, заплатив за нее стоимость пары кожаных сапог.
Однажды Хенрику удалось раздобыть свежий номер «Новой цюрихской газеты». Он принес ее домой и за один присест буквально проглотил от первой до последней буквы. Кроме всего прочего, он узнал из нее, что при посредничестве Швейцарии австрийское правительство зондирует почву на предмет возможности вступления в сепаратные переговоры о перемирии. Он вычитал также, что в Вене, в Нойштадте, прошла массовая забастовка, которая докатилась до Берлина, Будапешта, Граца и Праги. Бастующие требуют немедленного перемирия без всяких аннексий. Там же сообщалось, что только за последний год войны погибли один миллион пятьсот восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь немецких солдат… И что известный доктор Хаблютцель, фармацевт из Цюриха, ищет помощника для своей приграничной аптеки.
Это сообщение воодушевило и Хенрика, и Мальву. Наконец-то промелькнул робкий лучик света в конце туннеля, слабая тень реального шанса или, как минимум, проблеск надежды спастись от наседающего конца света и хоть как-то поправить дела. Жаль только, что перспектива эта светила не обоим, а лишь красавице Мальве, да и то, если повезет.
Они вдвоем сочинили довольно искусное резюме, не преминув приложить к нему фотографию очаровательной соискательницы, которая выгодно отражала самые обворожительные черты ее лица. О том, что Мальва ждет ребенка, они, конечно, умолчали. Во-первых, сами еще не совсем были уверены, а во-вторых, обоим страстно хотелось во что бы то ни стало не упустить это место.
Фотография сотворила чудо. Спустя шесть недель молодые супруги прощались на перроне Западного вокзала Вены. Они смеялись и дурачились, чтобы не разразиться слезами.
— В Швейцарии, — шутил Хенрик, протирая очки, — коров больше, чем людей.
— Я буду тебе писать, — успокаивала его Мальва, — каждый день ты будешь получать весточку от меня.
— И на каждую корову, — продолжал Хенрик, — говорят, приходится чуть не тысяча пчел. Ты едешь в рай, Мальва!
— Но как в том раю я буду без тебя, дорогой?
— К этому ты привыкнешь. Там в каждую кухню проведены две трубы: из одной течет молоко, из другой — мед.
— Что будет с нашим ребенком, Хенрик?
— Из него, конечно же, выйдет трубач. У нас будет сын. Трубач — это мужская профессия.
— Не сын, а дочь, Хенрик. В моей семье по женской линии рождаются только девочки.
— Мой отец произвел на свет одиннадцать сыновей.
— Ты сам еще совсем ребенок, Хенрик. Почему, собственно, наш сын должен стать трубачом?
— Он будет стоять на вершине Эвереста и ждать, когда на земле свершится мировая революция.
— А потом?
— Он заиграет «Интернационал».
— А если она не свершится?
— Тогда он возьмет в руки другой инструмент…
— Чем он будет жить?
— Воздухом и любовью — как его родители. Разве это так плохо?
Мальва взглянула на вокзальные часы. Оставались считанные минуты до отправления поезда.
— Мы не будем видеться с тобой очень долго, — всхлипнула она, — может, мне лучше остаться?
Хенрик почувствовал противную сухость во рту.
— Если ты меня обманешь, тебе несдобровать!
— Я никогда не обману тебя.
— Берегись, если обманешь! Я убью тебя!
— Мы оба сумасшедшие, Хенрик: сегодня я уезжаю в Цюрих, а завтра ты — в Варшаву. Разве это правильно?
— Тридцать миллионов поляков ждут моего приезда.
— Я знаю. В их числе — пятнадцать миллионов женщин. Ты только скажи, что я должна остаться…
— На Варшавской цитадели, где меня собирались повесить, я водружу красное знамя.
— Ты уверен, что тебя там ждут? Может, они давно забыли тебя. Или ты вообще им не нужен.
— Ты очень красивая Мальва. Ты такая красивая, что, когда я смотрю на тебя, у меня дрожат колени.
Он стал целовать ее шею, лоб, губы.
— Но летать — тебе не дано, — сухо сказал он.
— Я была с тобой в Ивониц, Хенрик, я видела там нескольких из этих тридцати миллионов поляков. Как ты думаешь, чего они хотят?
— Они хотят летать, чтобы оторваться от земли и построить целые города воздушных замков…
— И упиться за счет пролетарской революции, — грубо дополнила Мальва. — Ты наслушался небылиц…
— Война близится к концу, — возразил Хенрик, — расцветет новая Польша, и вы приедете ко мне в Варшаву.
— Или ты к нам — в Цюрих.
— Вас встретит военный духовой оркестр. Тебя и твоего сына.
— У меня будет дочь.
— У нас будет сын, и он будет летать, как его отец.
— Носом вниз! Совсем как его отец, который плетет всякие фантазии. И без которого я не могу жить…
В это время раздался голос — бесцветный и казенный, который обоих резанул по сердцу: «Займите ваши места в вагонах, господа. Скорый поезд на Зальцбург, Инсбрук, Фельдкирх и Цюрих отправляется».
Пора! Хенрик с трудом выдавил из себя последние слова. Они должны были принести утешение, но прозвучали как-то неуклюже:
— Если родится наш сын, войны не будет!
Если родится… А если нет? Для Мальвы это было уже слишком. Комедия чересчур затянулась. Много дней кряду старались они вдвоем унять ее страхи, быть мужественными, уговорить самих себя, что там, на другом берегу, растет та самая соломинка, за которую они вдвоем ухватятся, чтобы выплыть. Но теперь им приходится расставаться, и один Бог знает, доведется ли им когда-нибудь заключить друг друга в объятия.
Сердце Мальвы рвалось на части. Она рыдала отчаянно и не стесняясь. Всеми десятью ногтями впилась она в плечи любимого, и впервые вырвались из ее горла слова, которым она до сих пор не давала воли.
— Я не хочу уезжать от тебя, Хенрик! Лучше я здесь умру от голода. Почему ты не удерживаешь меня?
А, собственно, почему? Он хотел этой разлуки с ней? Ему нужны были новые приключения? Революция? Таинственные женщины? Или обратно в Америку захотелось?
Доподлинно известно только, что, сотрясаемая рыданиями и сомнениями, ничего не видящая от слез, Мальва наконец поднялась в вагон. Она еще раз осмотрелась, стараясь в подробностях запечатлеть эту тягостную минуту.
Там, внизу, на перроне, стоял он. Дрожащими губами пытался улыбаться. В глазах его блестели слезы.
Поезд тронулся. Хенрик не выдержал и спрятал лицо в ладони.
Почему? Разве это грех — плакать?
Да, это грех. Тем более — плакать прилюдно. Не подобает большевику слезы лить, ибо это проявление слабости, а большевик должен быть сильным. Так предписывает кодекс чести пролетарской революции. Плачет — значит, испытывает чувства, а тот, кто способен испытывать чувства, подобен тормозной колодке колеса классовой борьбы. Для партии — это обуза. И даже опасность. Идеальный боец — существо безмозглое и бессердечное, с каменным лицом и стальными глазами. С помощью марксизма-ленинизма будет сотворен новый тип человека: губы его плотно сжаты, взгляд устремлен в будущее. Герой труда — яростный и решительный, он остается хладнокровным, даже если вокруг него рушится весь мир. Высокие чувства и прочие переживания ему незнакомы, и смотрит он на все так же безучастно, как памятник павшим воинам. Понятия симпатии или антипатии неприменимы к нему, потому что кровь в его жилах необратимо застыла. И весь он — ископаемая окаменелость вымирающего вида. Истукан из надвигающегося на нас нового ледникового периода…
Такой приблизительно истукан стоял теперь на перроне венского вокзала, неловко прятал неуемные слезы и тщетно пытался сделать вид, будто расставание для него — сущий пустяк. Сквозь окно медленно отъезжавшего поезда Мальва жадно всматривалась в любимое лицо, стараясь запечатлеть в памяти дорогие черты мужа. Но тот быстро уменьшался в размерах, и только слезы в его глазах отчетливо блестели в лучах утреннего солнца. И эти сверкающие чистотой слезы были последним для нее утешением, потому что плакал сейчас не большевик, а обыкновенный, нормальный человек.
* * *
Теперь у несчастного дяди Хеннера оставался только один-единственный выход. С тяжелым сердцем принял он решение отыскать Главного раввина Вены. По прихоти судьбы звали его Шрекман, и от самого имени этого людям становилось не по себе. Этот человек по имени Ужас ютился в полупустой каморке под самой крышей густонаселенного дома, насквозь пропахшего кошачьим духом и нафталином. Когда Хеннер, с трудом переводя дух, хватаясь за голые железные перила, карабкался по крутой лестнице на самую верхотуру, сердце его сжималось от предчувствия, будто винтовая лестница эта ведет в другой мир, откуда обратной дороги уже не будет. Перед его глазами то и дело бесшумно сновали какие-то бледные фигуры, похожие на серые тени пугливых привидений. Словно блуждающие ночные огни в густой топи болота, они невесть откуда появлялись и тотчас исчезали прочь. То тут то там внезапно со скрипом приоткрывались двери, из которых высовывались мертвецки бледные рожи, исполненные досужего любопытства. С придирчивой подозрительностью они ощупывали глазами несчастного старика с ног до головы, и от жуткой, леденящей душу неловкости Хеннер не раз порывался немедленно бежать отсюда, но куда? Куда бежать, если все пути к отступлению уже отрезаны? Он сам сжег за собой все мосты. Намеренно? Нечаянно? Ответов на эти вопросы он не знал. Одно бесспорно: некуда ему отступать. Некуда…
Наконец он добрался до самого верха и остановился. Дышал тяжело и прерывисто. В страхе и нерешительности потянул шнурок звонка. До тех пор, пока за дверью не послышались шаркающие шаги и она нехотя отворилась, прошла целая вечность. На пороге стоял человек с восковым лицом, суровым и отталкивающим, надменным, как устрашающий лик Торквемады, великого инквизитора Кастилии. Сам ангел смерти с длинными паучьими пальцами и тонкими губами. С бородой грязно-желтого цвета.
— Итак, друг мой, что дальше? — спросил он глухим голосом так, будто продолжил только что прерванный разговор.
Эти двое никогда не видели друг друга прежде. Ни разу в жизни не пересекались их дороги, но казалось, этот восковой сухарь, поросший ржавым мхом, хорошо знает, какие страсти привели к нему стоящего перед ним совершенно потерянного старика. Что он буквально раздавлен гнетущим положением, выхода из которого нет. Что этот жалкий старец лишился последней надежды, и уже никто на этом свете, включая его самого, не верит ему ни на грош.
Главный раввин лишь скользнул по Хеннеру беглым взглядом и сейчас же все понял.
— Итак, друг мой, что же дальше? — хрипло и глухо выдохнул он из себя не то вопрос, не то упрек.
Что дальше! Именно этот горький вопрос и был как раз главным источником страданий несчастного Хеннера. Ибо он понятия не имел — что дальше.
Шрекман жестом предложил ему войти в свое жилище, в котором, кроме двух стульев и стойки для носильных вещей, не было ничего.
Хеннер повиновался.
— Садись, друг мой, — сухо приказал отшельник, — садись и говори мне правду!
Откуда ему было знать, что перед ним — отпетый враль? Что за всю свою жизнь он не проронил ни единого слова правды?
Шрекман опустился на стул напротив. Он насквозь сверлил Хеннера колючим взглядом, и от этого спина неожиданного посетителя покрылась гусиной кожей.
— Что носишь ты в своей утробе — говори, несчастный!
— Ничего особенного, — засуетился Хеннер, — собственно, ничего…
— Не смей мне лгать, жалкий безумец!
— Мне очень стыдно, — потупился Хеннер.
— Хвала Господу! Если ты стыдишься, значит, ты еще не совсем пропащий. Итак, с чем пожаловал ты ко мне? Выкладывай все начистоту!
— Пережитки моего греха…
— Не юли, прямо называй свой грех. Как это делали наши предки!
— Это… Я не в силах произнести… Это крест…
Ангел смерти стал еще бледней:
— И ты посмел с крестом явиться к Главному раввину Вены? Как это понимать?
— Я вызвал дух моего покойного брата. И тут крест падает со стены и разлетается на части.
— Как ты его вызывал — какими словами?
— Просто… Как обыкновенно вызывают умерших…
— Я спрашиваю, какими словами ты звал его!
— Я… Я не могу вспомнить, господин Шрекман.
— Еще одна ложь, и я вышвырну тебя отсюда. Немедленно говори — какими словами звал ты его!
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Это все.
— Это все! Такая малость! И что же ищешь ты в моем доме?
— Милости Господа, если это возможно. Я хочу обратно, господин Шрекман. Обратно.
— Что подразумеваешь ты под этим, друг мой? Обратно к нам или к тем, другим?
— Обратно к Иегове, господин Главный раввин. К живому господу, который даст мне новое сердце и чистый разум…
Шрекман резко поднялся и прошел к окну. Решительным и твердым шагом.
— Все возможно, — процедил он, не оборачиваясь, — в том числе — и возвращение к Всемогущему. Но я не советую тебе. Ты совершил девяносто девять ошибок. Не делай сотой!
— И это говорите вы — Главный раввин Вены?
— Глупец, да сам Господь отсоветовал бы тебе делать это, потому что Он любит тебя. Он любит всех своих детей, а неудачников — особенно.
— Именно поэтому у меня к Нему такое стремление, господин Шрекман.
— Знаешь ли ты, мой друг, какая это миссия? Чего стоит это — принадлежать к избранному народу?
— Я не хочу этого знать. Я хочу вернуться к еврейскому Богу. Большего мне не нужно.
При этих словах Шрекман резко повернулся, и из горящих глаз его на Хеннера, уже совершенно раздавленного, градом посыпались раскаленные стрелы гнева.
— Это особая награда — быть причисленным к служителям Иеговы! — заорал раввин, вздымая к небу иссохшие плети рук. — Не каждому такое дано — быть его слугой. Но Бог отметил нас всех, потому что Он наказывает нас.
— Я готов, господин Шрекман.
— В книге Иова сказано: блажен отмеченный Божьей карой. Не отвергай наказания Всемогущего, ибо Он и ранит, и врачует. Он бичует и исцеляет. В голодной нужде Он спасет тебя от смерти, а в лютой схватке — от смертельных ран, и ты не будешь знать страха опустошения, если в недобрый час оно постигнет тебя.
— У меня нет страха, господин Главный раввин.
— Это делает тебе честь, друг мой, но если ты — разумный еврей, оставайся христианином. Для твоего здоровья это полезнее.
— Но крест упал со стены — это ведь знак! Богу угодно, чтобы я вернулся к своей вере.
— Бог не вмешивается в такие дела, — язвительно проворчал Шрекман, — и вообще — Он ничего не хочет. Если бы ты покрепче вбил гвоздь в стену, этот крест и сейчас висел бы на своем месте.
Хеннер почувствовал себя обиженным.
— Видите ли, — попытался он оправдаться и осторожно перехватить инициативу в разговоре, — я — как это говорят — изобретатель. Я стою на пороге исторического перелома.
— Однако гвоздь как следует вбить в стену ты не умеешь, — осадил его Шрекман.
— Мой успех, — продолжал Хеннер, пропуская мимо ушей язвительное замечание раввина, — я хочу положить на алтарь Иеговы!
— Выстави его лучше на рынок, друг мой, — вновь остудил его пыл неуемный раввин, — платят там больше, а риску — меньше.
— Почему насмехаетесь вы надо мной, господин Главный раввин?! — завопил Хеннер, падая перед ним на колени и эффектно заламывая руки. — Я ведь не требую чего-то дурного! Я жажду лишь крыши над моей головой, которая защитит меня. Я хочу вернуться в лоно моего народа!
— То, что ты требуешь, — безрассудно, — холодно ответил раввин, — ибо ты не знаешь, что ждет тебя.
— Все надежды безрассудны, господин Шрекман, — не унимался Хеннер, — безрассудством был сам исход из Египта, потому как никто не мог знать, чем все это кончится. Но по другую сторону пустыни лежала земля обетованная…
Только теперь раввин почувствовал, что слова стоящего перед ним на коленях старика искренни и что исходят они из самой глубины его страстями измученного сердца. Он положил ладони на его голову, закрыл глаза и произнес сухим скрипучим голосом:
— Я повергну вас в ужас, сказал евреям Иегова, чахотку и лихорадку нагоню я на вас!
— Пусть, — с жаром ответил Хеннер, — меня радует это!
— Глаза ваши померкнут, — продолжал раввин нагонять страху, — а души будут изнемогать от томления!
— Я заслужил все это! — в такт ему шептал Хеннер.
— Напрасно будете вы бросать в землю ваши зерна, потому что плоды достанутся врагам вашим.
— Я грешил, — шептал в ответ Хеннер, — и должен расплачиваться за это.
— Пытки и истязания будут вашим уделом, — продолжал вещать раввин с еще большим жаром, — вы будете гонимы и попираемы злейшими врагами вашими, и вы будете бежать в вечном страхе даже тогда, когда никто не будет преследовать вас.
— Я — неверный сын иудеев, — отвечал Хеннер, — пусть отрекшийся, но — плоть от плоти своего народа. И я хочу разделить его участь.
Шрекман окончательно поверил в искренность просителя. Он сел и предложил посетителю сделать то же самое. С непроницаемого лица раввина сошло наконец жуткое напряжение, и едва заметная улыбка смягчила его губы.
— Если уж этому суждено случиться, я не имею ничего против, мой друг, — сказал он уже совсем другим голосом, — но обрезать тебя я не могу, потому что ты уже обрезан. И евреем тебя объявить не могу, потому что евреем ты пришел в этот мир. Единственное, что в моих силах, — предупредить тебя, и это я сделал.
* * *
Осенью 1918 года поездка из Вены в Варшаву пассажирским поездом занимала около пяти дней и столько же ночей. К тому же не было никакой уверенности, будет ли вообще достигнута конечная цель цель маршрута. Окна вагонов были наглухо заколочены досками, все купе, проходы и тамбуры — забиты австрийскими солдатами и польскими торгашами. Времена, когда путешествие по железной дороге сулило приятные переживания, канули в вечность. Голодающие пассажиры молча восседали на своем жалком скарбе. Неистребимая вонь карболки, мочи, потных ног и махорки превращала поездку в адскую пытку. Пассажиры чурались друг друга, избегая даже встречаться взглядами, а если кто-то и озирался по сторонам, то исключительно затем, чтобы удостовериться, все ли пожитки его еще на месте. Время от времени поезд надолго застывал в открытом поле, а после, чуть продвинувшись, вновь зависал на каком-то богом забытом полустанке. Но это давало хоть какую-то возможность опорожниться, набрать флягу воды, а заодно и попытаться выяснить, на каком свете находишься вообще.
Хенрик пребывал в полузабытьи, когда поезд внезапно остановился. В вагон стали набиваться поляки, это было понятно по говору. Значит, они уже на территории Польши, где бедность — страшней, чем где бы то ни было в Европе. Единственное что утешало его, это осознание того, что он возвращается в Варшаву, не рискуя при этом угодить на виселицу или в ссылку.
Варшава, Варшава, Варшава, — выстукивали колеса, гулко спотыкаясь на раздолбанных стыках. Варшава — арена его первых приключений, бравурных юношеских спектаклей и сумасбродных выходок…
Теперь, по прошествии многих лет, вновь слушая родную речь, он испытывал волнение. Будто неведомая сила влекла его в отчий дом, в семью, к старым товарищам, к неисчерпаемому роднику немыслимого счастья, давным-давно затерянному в непроходимой сутолоке житейской суеты…
Всякие проявления тоски по родине всегда были чужды Хенрику. Но тут он вдруг почувствовал, как под самым сердцем скребется неведомый прежде голодный зверек ностальгии. Он стал вспоминать прошлое, как он любил прогуливаться от площади Трех крестов через Новы Свет прямиком к пригороду Кракауера. Он отчетливо видел себя на Дворцовой площади, у знаменитой колонны короля Сигизмунда. Он мысленно взирал на зеленый берег Вислы и видел, как там, на противоположном берегу, чернеют трубы Праги.
Как там было в той песне — уже и название ее забылось: пули градом пролетали мимо, их визг сливался с топотом обезумевших коней. Кровь струилась по мостовой, а он высоко нес знамя над крышами Пивнагассе — «bo na nim robotnicza krew»[18].
«Нас в бой ведет наш красный флаг — он цвета нашей крови…»
А вон там стоит зеленоглазая девчонка, худая, как тростинка. Она бьет в барабан, извещая начало атаки. Где ты теперь, Ванда, с соломенными волосами девушка из рабочего квартала Вола? Я тоскую по тебе. Дай мне руку, и мы вместе пойдем дальше. К собору Святого Йоганнеса, в самое сердце города, где когда-то была пивнушка под названием «У Фуггера». Она наверняка и теперь так зовется, если, конечно, ей посчастливилось уцелеть.
«У Фуггера» я встречусь с Анкой. 15 октября, в полдень. Эта встреча — сущее безумие! Как можно было назначать ее в такое время и в таком месте? Весь мир рушится на глазах. На Востоке бушует гражданская война. Троцкий захватил Казань. Эсерка Каплан стреляла в Ленина, ее товарищи по партии поднялись на борьбу против советской власти. На Западе полностью обрушен немецкий фронт. Кайзер бомбит Париж. Американцы овладевают городом Ипр. И при всем при этом Хенрик договаривается со своей младшей сестрой о встрече в пивной «У Фуггера» за чашечкой кофе с кусочком пирога… Анка — любимая сестра. Доверенное лицо всех одиннадцати братьев, прервавшая все отношения с одуревшим на старости лет отцом. Потому что этот старый скряга не пожелал выкупить своих сыновей и тем обрек их на верную гибель. Он допустил, чтобы их отправили в Сибирь, на свинцовые рудники Верхоянска, откуда живыми не возвращаются. Хенрик содрогался от одной мысли об этом, и потому не отцу телеграфировал он, а сестре Анке: «Встречаемся в понедельник, в полдень, у Фуггера. Обнимаю. Хершеле».
Хенрик много думал, в мечтах рисовал себе живописные картины предстоящей встречи.
В вагоне стоял сплошной мрак. Внезапно дверь вагона распахнулась и в проникшем из тамбура луче света показался проводник.
— Если вы хотите попасть в Варшаву, господин барон, — сказал он с сильным венским акцентом, обращаясь к Хенрику, — вам придется сделать пересадку в Катовице.
— В Катовице, говорите вы? — спросил Хенрик, очнувшись от тяжелого полусна-полузабытья. — Но расписанием это не предусмотрено.
— Война, господин барон, тоже не предусмотрена расписанием, — парировал проводник, не к месту рассмеявшись, — однако она идет. Если бы вы знали, господин барон, чего только ни происходит на свете, что никакими расписаниями не предусмотрено, вы лопнули бы от злости!
Тут в разговор вмешался человек, который дотоле оставался никем незамеченным. На нем была зеленая офицерская шинель, на носу его сидели очки с темными круглыми стеклами, какие носят слепые люди и которые придавали всему его облику особенное высокомерие.
— Вы еще юны и глупы, — безапелляционно заявил он, — на вашем месте я лучше бы на Луну отправился, в созвездие Плеяды, если угодно, только не в Варшаву!
Хенрик даже растерялся от этих слов, потому что слепой высказал вслух его собственные опасения.
— Много лет мечтал я о возвращении в освобожденную Польшу, — ответил он с неуверенностью в голосе, — почему же я не могу ехать в Варшаву?
— Потому что вы не найдете там того, что ищете, — ответил незнакомец с улыбкой усталости на лице, — у вас ошибочные представления, молодой человек.
— Откуда известны вам мои представления? — недовольно произнес Хенрик.
— Послушайтесь моего совета, — продолжал слепой, не обращая внимания на слова Хенрика, — и уезжайте лучше в Палестину!
— А сами вы почему туда не едете? — спросил Хенрик с раздражением.
Слепой неумело набил табаком трубку.
— Я не еду туда, — ответил он после паузы, — потому что я не еврей. Но будь я им, я непременно отправился бы туда, и к тому же — немедленно!
В вагоне повисла неловкая тишина: этот таинственный слепой четко определил принадлежность Хенрика к евреям, притом что тот говорит на безукоризненном немецком языке. Не будь он даже слеп, это трудно было бы сделать, потому что внешне Хенрик был похож скорее на американца.
— Поляки, будь их воля, — прервал молчание проводник, — уничтожили бы всех евреев до одного. Разве не так?
— Вы точно знаете, чего хотят все поляки? — взорвался Хенрик. — И вы, конечно, причисляете себя к тем, кто жаждет именно этого?
— Я поляк, — вместо проводника ответил парень, который молча сидел возле двери с полузакрытыми глазами. На нем были кожаная куртка и добротные кулацкие сапоги, которые доставали до самых его колен. — И я готов подтвердить слова кондуктора. Если что-то и объединяет всех нас сегодня, так это ненависть к евреям.
— Наверное, есть такие поляки, — попытался слепой немного смягчить неловкость трудного разговора, — но есть и другие. Разве же не так?
— Есть такие поляки и есть другие, говорите вы? — Хенрик, перешел в наступление. — Все это вздор! Есть спекулянты и есть неимущие. Есть зажравшиеся и есть голодающие. И не важно — евреи они или христиане. А прежде всего, есть мошенники, которые натравливают неимущих и слабых друг на друга, чтобы легче управлять ими.
— Ого, да вы прямо-таки ленинист, как я посмотрю. — Человек в синих очках весь подался в сторону Хенрика. — Нынче это в моде — молиться на него. Только поостерегитесь, молодой человек, потому что и Ленин вынужден заигрывать с народными массами. Значит, в один прекрасный день и он начнет расправляться с евреями.
— С чего вы взяли, что я ленинист? — спросил Хенрик, стараясь держать себя в руках. — Вы тут изображаете из себя эдакого провидца.
— В этой священной войне за веру, за кайзера и за отечество я потерял зрение под Изонцо, — неторопливо ответил слепой, раскуривая трубку и эффектно пуская перед собой кольца дыма. — Никакой, конечно, я не провидец, но теперь я вижу этот мир отчетливей, чем прежде.
Хенрику стало неловко за свой бестактный вопрос. Он достал из кармана куртки флягу со шнапсом, открутил пробку и наполнил стакан.
— Извините меня, господин, — сказал он, протягивая стакан слепому, — глотните-ка лучше, и забудем все, что я вам тут наговорил.
Слепой одним глотком опрокинул в себя спиртное.
— Я на вас не в обиде, — ответил он, возвращая Хенрику стакан, — я лишь посоветовал вам, молодой человек, вернуться туда, откуда вы едете. Здесь никто вас не ждет. И не раздумывайте долго! И вообще, ищите себе другое пристанище, где вас ждут.
Хенрик хотел что-то ответить слепому, но парень в кулацких сапогах опередил его:
— Wierzysz w Lenina, prawda?[19] Ты веришь Ленину и всей его еврейской шайке? Скажи наконец, ты — еврей? Если это так, то забейся лучше так, чтобы тебя не было слышно, иначе мы вышвырнем тебя отсюда вон!
— Если вам еще не доводилось в жизни получать тумаков от еврея, — парировал Хенрик, которому кровь ударила в голову, — то я готов исправить это упущение. Иных я уже ставил на место и не раз.
Парень, который был на голову выше Хенрика, даже испугался: прежде он не встречал еврея, который так бесстрашно бросался бы в драку.
— Меня одного ты, может, и побьешь, ты, кошерная свинья. Но попробуй одолеть всех нас!
— Всех вас? — Голос Хенрика даже сорвался на крик. — Вы говорите от имени всех пассажиров этого вагона?
— Не только, — ответил верзила, — я говорю от имени тридцати миллионов поляков. От имени всех католиков, если ты вообще слышал о таких.
Хенрику не оставалось ничего другого, как полагаться на свою веру в торжество разума, на свое понимание миропорядка, на свои юношеские представления о людских достоинствах.
— Я полагаю, — ответил он парню, но так громко, чтобы слышно было всем, — что тут вы один придерживаетесь этих идиотских принципов, или я все-таки ошибаюсь?
Гнетущая тишина повисла в вагоне. Был слышен лишь перестук колес. Никто — ни поляки, ни австрийцы — не хотел встревать в их спор. И Хенрик понял, что все его идеалы — сплошные мыльные пузыри. Что ни на кого не может он рассчитывать. Он — один против воинствующего националиста.
Затянувшееся было гнетущее молчание прервал проводник:
— До Катовице еще час езды. Но если вы, господин барон, дорожите жизнью, вам, пожалуй, лучше спрыгнуть прямо сейчас.
Хмурые взгляды попутчиков, исподлобья глядевших на него, тоже ничего хорошего не предвещали, лишь подтверждая только что сказанное: другого выбора у Хенрика нет. Он поднялся, взял свой багаж и в сопровождении проводника вышел в тамбур. Отперев дверь вагона, он распахнул ее и прошептал слова, которые со времен далекого детства не слетали сего губ: «Owinu sche beschamaim!»[20]. Он взывал к Богу. Не от страха, а лишь от отчаяния.
Он спрыгнул на полном ходу, ударился о землю, несколько раз перевернулся и остался лежать посреди пустого поля. «Owinu sche beschamaim!» Он чувствовал каждую косточку в своем теле. Собрав последние силы, он со стоном поднялся и пошел наугад. К вечеру оказался в каком-то населенном пункте. Там нашел почтовое отделение и отправил в Варшаву короткую телеграмму: «Встреча откладывается на неопределенное время. Подробности письмом. Хершеле».
* * *
«1 Ноября 1918 года.
Я в Швейцарии. Будь Хенрик со мной, я была бы счастлива, но он теперь на другом краю света. Я сижу на скамейке, делаю записи в моем дневнике и тоскую по нему.
Здесь кругом такая неописуемая красота, что у меня замирает сердце. Над озером висит щемящая душу дымка, за которой едва просматриваются серебристые заснеженные вершины Альп. Над водой склоняются плакучие ивы. Вдоль берега величественно проплывают лебеди жемчужной белизны. Неподалеку пожилой мужчина кормит голубей.
Я даже не знаю, живу я еще или меня уже нет. Здесь сущий райский сад! Тихий потусторонний мир покоя и благодати.
Мой поезд прибыл на цюрихский вокзал точно по расписанию. Я сошла на перрон и загадала: первое, что бросится мне в глаза, будет пророческим. Это оказался парень, который продавал булочки и сосиски с горчицей. В его торговой колясочке теснились также шоколадки и апельсины. Мне показалось, что я сплю: подобных лакомств давно ведь не существует в природе!
Я направилась в сторону гостиницы. Это была „Виктория“ — жуткое название! — и располагалась она как раз против вокзала. Здание, похожее на громадный малиновый торт.
Швейцар у входа церемонно приветствовал меня со всеми почестями, достойными знатного гостя, а хозяин отеля называл меня сударыней. Меня провели в элегантный номер с шелковыми обоями, на столе стояли цветы и ваза, в которой аппетитно пестрели разнообразные фрукты. Двуспальная кровать была аккуратно застелена свежайшим бельем. Слезы подступили к горлу, потому что на этой дивной постели мне придется спать одной.
Господи, если бы он только знал, как тяжело мне без него!
Когда я пересекала границу в Буксе, я почувствовала, как что-то шевельнулось в моем животе. Впервые и так четко… Наш ребенок, который странствует по миру вместе со своей мамой…
Деревья уже пожелтели, а некоторые — стали совсем красными. Где он теперь, мой любимый, мой единственный? Я могу иметь здесь все, что пожелает мое сердце, но это не радует меня.
Помывшись, я вышла из гостиницы и в сильном возбуждении пошла по привокзальной улице, главной артерии Цюриха. На ней расположены все банки, ювелирные и другие роскошные магазины города. Все это казалось мне неправдоподобным. Богатые витрины сверкали великолепием, о котором прежде я знала лишь понаслышке. И это при том, что далеко не из провинции прибыла я сюда, а из Вены — города с мировым именем. Но Вена теперь в полном упадке. Война опустошила города, страны и целые народы. Единственный нетронутый ею остров — Швейцария. Мировой музей для переживших конец света. Они будут совершать сюда паломничество, опираясь на деревянные крючья и громыхая протезами. Чтобы подивиться тому, что было когда-то на этой земле, которую они выжгли и залили кровью. Всем этим чудесам, по собственной вине потерянным для них навсегда. Эти солдаты стояли друг против друга насмерть. А здесь, тесно зажатый между заклятыми врагами, в мире и согласии живет крохотный народ. Люди разговаривают здесь на четырех языках и при этом не убивают друг друга.
Сегодня воскресенье. Все магазины закрыты. К работе приступаю завтра утром. Вся дрожу от страха перед неизвестностью. И еще оттого, что уже заметно: я жду ребенка.
В гостинице я разделась догола и встала перед зеркалом. Если ничего не знать, все выглядит вполне нормально. Но я вижу, что мой таз стал шире и груди сделались более упругими. И мне важно быть уверенной, что этот аптекарь, мой будущий работодатель, ни о чем не догадается. Или он такой же бесцветный, как стиль его письма? И такой вычурный, как его почерк?
Я уже побывала на улице Реннвег и внимательно осмотрела эту аптечную лавку. Пока только снаружи, потому что сегодня она закрыта. Кое-что меня даже удивило: на двери значится совсем другое имя — Обермюллер. Ничего не слышала о нем прежде. Что бы это значило? Бог весть… Впрочем, увидим. В конце концов, все это не так важно. В моей жизни есть только одна ценность — это он. И только он. Интересно, он еще в Варшаве или уже вернулся в Вену? И что происходит у этих тридцати миллионов поляков, которые, как он говорит, ждут его приезда? Как приняли они его? У меня такое предчувствие, что не слишком гостеприимно…
Я молюсь всем богам, чтобы он как можно скорее избавился от своих иллюзий и вернулся ко мне. Или, вернее сказать, к нам, потому что все чаще я чувствую движения под самым сердцем…
Вновь и вновь спрашиваю себя — где я нахожусь? В некоем лесу, где обитают одни кролики? Кругом все так буднично. У этих швейцарцев хороший нюх и вечно удивленные глаза. Могу поспорить: ни один из них не пойдет умирать за идею. Хенрика это раздражало бы, а мне нравится. Люди живут своей недолгой жизнью и кормят голубей на набережной. Спрашивается, оправданно ли подобное состояние как цель существования? Или, может, гораздо привлекательней стремление вскарабкаться на небо и создавать новую жизнь? Все чаще и чаще задаю я себе вопрос: существует ли вообще более высокая цель, чем просто жить? Ах, будь я хотя бы по-настоящему верующей, но — увы! Это не для меня. Господь Бог потерпел кораблекрушение, иначе он не допустил бы нынешнего светопреставления, при котором люди, что есть мочи, истребляют друг друга.
Все „великие цели“ обречены на провал. Одна за другой. Не будь их, ни один солдат на земле не взял бы в руки оружие. А теперь они тысячами томятся за колючей проволокой — французы, англичане, немцы, русские, итальянцы. Тлеют под руинами, а вместе с ними — „высокие идеалы“, ради которых они погибли.
Ненавижу высокие цели! Хенрик, конечно, возразил бы мне: дескать, его идеалы правильнее моих. Потому что они являются квинтэссенцией человеческой мечты и выражают вековую мечту всех народов. Потому что теперь это не просто идеалы, а реальность, получившая воплощение на одной шестой части земного шара. В России, где преодолена сила гравитации и невозможное стало возможным.
Ах, Хенрик, мой неистовый Роланд! Я хотела бы верить ему, но мой внутренний голос подсказывает мне, что и в России деревья не достают до небес…
Что будет со всеми нами, мой любимый, мой единственный? Я и представить себе не могу, что он сидит где-нибудь на берегу прекрасного озера и кормит голубей…
Существует же наконец и что-то среднее между высокими идеалами и жизнью слепого крота. Для меня, например, есть вполне достижимая мечта: моя любовь.
Я постоянно чувствую Хенрика рядом с собой. В моих объятиях. Душа в душу. Кожа — к коже. Глубоко во мне. Неужели это так мало для него?
Я устала. Продолжу завтра…»
24
Янкелю Камински было уже за семьдесят, но упрямства у него ничуть не поубавилось. Он был богат, владел многими домами, несколькими текстильными фабриками и самым известным театром в центре Варшавы. Его супругу, когда она появлялась на сцене, публика по-прежнему встречала с ликованием. Все пять его дочерей, будучи барышнями толковыми и необыкновенно остроумными, производили в обществе неизменный фурор. Но сам Патриарх был вечно погружен в унынье. Ничто не радовало его, ибо он все еще не имел никаких вестей от своих сыновей, много лет назад канувших в неизвестность. Он отверг их и трубил на всех углах, что у него нет ни одного наследника мужского пола. Он строжайше запретил кому бы то ни было упоминать их имена или вспоминать о них по какому бы то ни было поводу. Он разорвал всякие отношения с лучшим компаньоном своим, Хершем Блументопфом, только потому, что не мог слышать его имени — Херш. Он был достойным производителем на свет одиннадцати недостойных сыновей, которые отвергли его с той же непреклонностью, с какой были отвергнуты им.
Янкель втайне ждал проявления хоть какого-то признака их жизни, но все было напрасно. Кое-какие слухи об их судьбе, их успехах и неудачах время от времени доносились до него, но наверняка он ничего не знал. Не знал бы он и дальше, если бы не Анка, младшая дочь его, которая тайком поддерживала связь со всеми одиннадцатью братьями, не проявила однажды готовности продолжить их дело.
В тот ноябрьский день случилось нечто ужасное. Хаим Левин, доверенное лицо Янкеля, неожиданно прервал послеобеденный сон шефа, что само по себе было деянием, равнозначным особо тяжкому преступлению. Тем более что Левин хорошо понимал: по меньшей мере, природная катастрофа или революция могут служить оправданием столь дерзкому поступку. При этом, чтобы не шуметь, ботинки свои он нес в руках. Осторожно ступая в одних носках, он буквально подкрался к двери его святейшества и стал скрестись в нее так тихо, что Патриарх продолжал похрапывать, ровным счетом ничего не слыша. Левин повторил свое непотребное деяние, на этот раз несколько настойчивей, потом еще и еще — пока, наконец, весь дом не был поднят на ноги, а цветущая Рахель в испуге не выпрыгнула из своей постели. Тут уж проснулся и сам Янкель.
— Что стряслось? — проворчал он недовольно.
— Телеграмма, пан Камински! — донесся из прихожей сдавленный голос.
— Левин, — прокричал в ответ старик, задыхаясь от гнева и с трудом напяливая брюки. — Я таки сделаю из тебя отбивную!
Но на этот раз доверенное лицо Патриарха испуга не проявило, поскольку ему было известно, сколь судьбоносной была принесенная им новость. Он шептал так громко, что в соседском дворе залаял цепной пес.
— Телеграмма от господина Хершеле, пан Камински! Или, вернее сказать, две…
Янкель вдруг почувствовал, как из-под его ног стал уходить пол. Телеграмма от Хершеле, его любимчика! Сердце старика запрыгало от счастья, но никто не должен этого заметить! И потом, этот Левин позволил себе вольность, за которую и в мирное время ставят к стенке.
— Где эта телеграмма, ты, шмок! Давай ее сюда и проваливай, иначе я порву тебя на части!
— У меня нет телеграммы, пан Камински, — стал оправдываться Левин, заикаясь, — и потому я не могу дать ее вам.
От такого заявления Патриарха чуть не хватил удар. Для семидесятилетнего еврея это было уже слишком. Он распахнул обе створки дверей своей спальни и схватил Левина за плечи.
— Где, по-твоему, мы находимся, ты, бестолочь! В России — или где? Подчиненный вырывает своего шефа из сна и, как большевик, ставит на уши весь мир. Телеграмма, говоришь? Послание, которого у тебя нет, от человека, о котором я понятия не имею. Откуда тебе известно, от кого она, если ее нет? Отвечать!
Хаим Левин смущенно почесал шею. Похоже, с ожидаемым эффектом от своего сообщения он немного просчитался.
— Есть депеша, пан Камински, — пролепетал он, покорно склонив голову, — даже две сразу пришли, но не у нас они…
— А где же?
— У одной из ваших дочерей, с позволения сказать. И без указания даты.
— То есть ты хочешь сказать, что был у одной из моих дочерей?
— Боже сохрани! — испугался Левин и даже весь покраснел. — Я узнал это от ее служанки, от Фелы, которая прибирается у фройляйн Анки. И при этом…
— Короче, Хаим Левин, — перебил его Патриарх, — о чем говорится в этих двух депешах?
— В первой, — ответил Левин, — сообщается о том, что господин Хершеле приезжает в Варшаву…
— А во второй?
— Что он не приедет в Варшаву…
— И что в итоге? Ты решил меня помучить!
— Один Всевышний знает это, пан Камински. На депешах нет дат, и я не могу сказать, какая за какой следует. Может быть, он приезжает. А может — и нет…
— Это и мне известно, ты, несчастный! И вообще, я знать не знаю никакого Хершеле. Если он желает меня видеть, он должен явиться ко мне с извинениями.
— За что, пане Камински?
— Еще один вопрос, и я прибью тебя!
— Это не вопрос вовсе, господин шеф, это лишь выражение моего удивления. Он был сослан в Сибирь. Вместе со всеми братьями. Чем же он виноват перед вами?
— В последний раз заявляю: если он желает меня видеть, он должен явиться ко мне с извинениями!
Красавица Рахель между тем молча наблюдала за этой словесной перепалкой в наспех накинутой на себя шали.
— Он вовсе не желает тебя видеть, мой дорогой, — сказала она с лукавой улыбкой, — иначе он телеграфировал бы тебе, а не своей сестре.
Янкель резко отвернулся к окну, потому что слезы комом подступили к горлу.
— Да и как же ему хотеть видеть меня, этому олуху! — хрипло ответил старик.
25
Стоял грустный ноябрьский день. Весь мир лежал в руинах, а Цюрих по-прежнему оставался нетронутым, как тысячу лет назад. Не город, а декорация к сказочному спектаклю: все неправдоподобно миниатюрное, в ненавязчивых пастельных тонах. Над аккуратными домиками нависала легкая туманная дымка. В маслянисто-зеленой глади воды картинно отражались многочисленные башенки и мосты.
Новая неделя началась невесело и хлопотно. Над городом стоял запах плесени, гниющих водорослей и свежевыкрашенных перил. Мальва пребывала в лихорадочном возбуждении. На ней были желтая пелерина и черная фетровая шляпка с широкими полями, которая как-то сдерживала ее сердцебиение и придавала уверенности.
Она вышла из гостиницы в половине восьмого и торопливо зашагала в сторону аптеки. Внезапно опомнилась и резко замедлила шаг: не стоило появляться на новом рабочем месте раньше заранее обговоренного времени. Никто не должен догадаться, как напряжена она вся, сколько надежд связывает она с новым местом. Она стала прогуливаться вдоль берега через живописный квартал Шипфе в сторону Линденхофа. Оттуда можно было рассмотреть знаменитое Царство медового пряника во всей его красе.
Она хочет жить именно здесь — это было ее окончательным решением. И здесь должен увидеть свет их ребенок. На восток ее больше ничто не влекло. В том числе никакие идеалы. Она страстно хотела одного: утвердиться здесь и преуспевать в своей профессии. Здесь и только здесь желает она жить обыкновенной негероической жизнью. Цюрих уже успел стать для нее гораздо больше, чем европейским городом. Это была альтернатива, материально осязаемый воробей в руке взамен воображаемых голубей на крыше.
Мальва не строила себе никаких иллюзий: этот воробей был, конечно же, вовсе не тем, что являет собой птичка певчая. Она осознавала, осязала всю здешнюю тесноту и даже духоту. Но именно сюда стремились тысячи людей в поисках пристанища и находили его. Лучшие оседали в Цюрихе, элита Старого Света, потому что здесь они могли думать что хотели, писать, рисовать, творить музыку — словом, делать все, что доставляет им радость, и никакие ничтожества в мундирах не смеют им в этом мешать.
Таковы были факты, и тем не менее она осознавала, как непросто будет затащить сюда Хенрика. Как удастся ей сделать для него привлекательным этот миниатюрный сказочный городок? Какими словами, какими аргументами убеждать его, сделавшего своей целью жить и, если потребуется, умереть за лучший мир? Швейцария — далеко не лучший мир. Она была упитанной, самодовольной и чистенькой, но никак не лучшей. Здесь все выглядит опереточно миниатюрным: игрушечный городок для прилежных деловых лилипутов, которые вполне благочестиво, но столь же алчно пресмыкаются перед золотым тельцом. И этого никак не скроешь. Настанет день, и Хенрик приедет, потому что он любит ее и ему тоже хочется увидеть ребенка. Но очень скоро он станет упрекать ее в том, что она связывает ему крылья. Или она заблуждается? Может, он вовсе не тот высокопарный донкихот, каковым хочет казаться. Кто знает, что творится с ним сейчас…
Подобные мысли роились в ее голове, когда она приблизилась к цели. Крупными буквами значилось: «RENNWEGAPOTHEKE». Это как раз была та самая золотая соломинка, за которую она хотела ухватиться, чтобы выплыть. Фармация доктора Хаблютцеля, который искал в помощницы провизора и который преодолел бесчисленное множество бюрократических препон, чтобы вызвать Мальву из погибающей Австрии в обойденную войной Швейцарию.
Деревянные ставни, закрывавшие окна вчера, были убраны. Теперь можно было беспрепятственно заглянуть внутрь, где двое мужчин с заметной проседью обслуживали первых клиентов.
Еще целую минуту Мальва стояла, погруженная в свои мысли, прежде чем окончательно очнулась. Стиснув зубы, она вошла в аптеку. Часы показывали начало девятого, но в аптеке уже было полно народу. Люди терпеливо ждали своей очереди. Аптекари были облачены в белоснежные кители. Лицо одного из них пересекал глубокий шрам, на пальце другого красовался перстень с гербом. Они обслуживали посетителей в сдержанной и снисходительно-учтивой манере. При этом они не могли заметить появления Мальвы, но почувствовали, что по ту сторону прилавка появилось нечто не совсем обычное.
Это была она: Шехерезада в желтом шелковом манто, иссиня-черные волосы и глаза, в которых пульсируют искры. Никто из них не посмел взглянуть ей прямо в лицо, но все были околдованы. Мальва стояла у самой двери и озаряла собой все помещение. Было очевидно, что здесь она не для того, чтобы покупать что-нибудь. Она молча ждала, и не замечать дальше ее присутствия становилось более невозможным: от нее исходил пленительный запах, перламутровой белизны зубы сверкали меж чувственных губ, а из глаз ее буквально струилась золотисто-медовая дымка цветочной пыльцы.
Она стояла молча, как видение, у которого вовсе нет намерений продвигаться к прилавку, но вся она была до такой степени настоящей, что аптекарь, забыв на мгновенье о давно заведенных правилах, обратился к ней, не дожидаясь ее очереди:
— Доброе утро, фройляйн! Вам что-нибудь угодно?
— Я хотела бы поговорить с доктором Хаблютцелем.
— К сожалению, это невозможно. Но я к вашим услугам.
— Доктора нет на месте?
— Да, и, к сожалению, уже навсегда. Он скончался. Испанка. Половина Швейцарии лежит в постелях, а вторая половина — в могилах. Полагаю, вы слышали об этом…
Мальва почувствовала, как почва уходит у нее из-под ее ног.
— Что же мне теперь делать? — пролепетала она, покрывшись смертельной бледностью. — Доктор Хаблютцель вызвал меня в Швейцарию…
— О, этот старый Казанова понимал толк в красоте!
— Он искал фармацевта, — продолжала лепетать Мальва, пропуская мимо ушей замечание аптекаря.
— А кто нынче не ищет фармацевтов — вам известны такие?
— Позвольте мне представиться, — сказала девушка, смущенно кашлянув в кулак, — Мальва Камински.
— Меня зовут Обермюллер, Оскар. А этот человек — мой брат Эмиль. Мы наследники доктора Хаблютцеля.
— И вы также ищете фармацевта, если я верно понимаю?
— К тому же срочно, — ответил аптекарь.
— На каких условиях?
— Это будет зависеть от претендента.
— Я уже сказала вам, что претендент — это я.
У человека со шрамом отвисла челюсть.
— Вы?! Юная барышня — кровь с молоком — вы не шутите?
— Я получила специальное образование.
— А это и вовсе нереально. Фройляйн, первое апреля давно миновало, а для карнавальных шуток — слишком рано…
— Повторяю, — ответила Мальва, явно сдерживаясь, — я — дипломированный аптекарь. Вот мой диплом.
Она выложила на стол картонный пенал и извлекла из него пергаментный свиток.
— Ах нет, благодарю вас, диплом ваш меня ничуть не интересует. — Аптекарь со шрамом отворотил нос.
— А меня интересует! — вмешался в разговор второй мужчина с перстнем на пальце. — Вы мне понравились. Я выставлю вас в витрине, и вы будете привлекать к нам клиентов мужского пола.
Идея столь привлекательной приманки, похоже, воодушевила и человека со шрамом.
— Вы уж нас простите, — сказал он, — но мы, разумеется, не позволим себе такого. В подобных вещах мы скорее консервативны…
— В каких вещах, — с пренебрежением в голосе уточнила Мальва, — в витринных куколках?
— Видите ли… Женщина с образованием… У нас только мужчины получают образование.
— Но это странно! Почему, собственно? — возмутилась Мальва и спрятала свой диплом.
Вопрос этот оказался неожиданным для обоих. Аптекарь с гербовым кольцом на пальце ответил первым, рассчитывая на поддержку посетителей, терпение которых стало заметно убывать:
— Потому что точным наукам, барышня, нужны соответствующие головы!
— И вы, господа, конечно же, обладаете таковыми? — парировала Мальва.
— Вот именно, мы располагаем в высшей степени точными головами, хотя вы ставите это под сомнение. Кстати, покажите-ка ваш диплом!
— Но вы же заявили, что он не интересует вас, поскольку я — всего лишь женщина.
— Вы незамужняя?
— А это тоже вас касается, господин Обермюллер?
Пожалуй, это было уже слишком.
— Наши женщины, — с раздражением ответил аптекарь со шрамом, — образования не получают, но при этом они умеют себя вести.
— Чего не скажешь о ваших мужчинах, — парировала Мальва. — Насколько я вижу, вы люди образованные, но вести себя не умеете.
Столь вызывающая раскрепощенность женщины пришлась не по вкусу человеку с перстнем.
— Мы ценим хорошие манеры. По крайней мере здесь, в Цюрихе, — отпарировал он сухо.
— Мы тоже, представьте себе. Я приехала из Вены.
— Почему же вы там не остались?
Мальва поняла, что дальнейшие разговоры бессмысленны. Из слов обоих аптекарей ей стало ясно, что в Цюрихе она найдет легко работу.
— Не смею больше занимать ваше драгоценное время, господа. Ваши клиенты сгорают от нетерпения.
«Точные головы» явно перестарались. Тот, что носил на пальце перстень с гербом, попытался было смягчить впечатление от неприятного разговора.
— И на какую же зарплату рассчитывает дама, позвольте полюбопытствовать? — спросил он заметно более мягким тоном.
— Ровно на такую же, — ответила Мальва, — как все другие коллеги той же квалификации. Но, разумеется, не в качестве куклы в витрине, а за рецептурным столом.
— Как вы себе это представляете? Мы ведь все-таки не в России.
— Ни франком меньше, ни франком больше, — ответила Мальва. — На равных правах.
Окольцованный понял, что с этой женщиной не очень-то поспоришь.
— Скажите мне одно, вы, несравненная, — произнес он заметно потеплевшим голосом, — в вашем Венском университете вас не учили улыбаться?
— Напротив, — ответила Мальва с широкой улыбкой, — но в подобающих ситуациях.
Лед был сломан. Аптекарь со шрамом протянул Мальве правую руку и глухо произнес:
— Вот видите, всего-то и требовалось — поговорить друг с другом.
— Когда мне приступать? — спросила Мальва.
— Прямо сейчас!
26
Так все-таки, приедет Хенрик в Варшаву или нет? Какой из двух депеш верить — даты отправления нет ни на одной из них? И вообще, каковы перспективы того, что, даже и приехав, он станет искать встречи с Патриархом?
Терзаемый этими сомнениями, Янкель немного поубавил свою гордыню и тем же утром отправился на Силезский вокзал, чтобы, как он это представил, купить ящик сигар и газету. Он ни за что не признался бы в тайном намерении встретить там любимого сына, потому как тринадцать лет подряд трубит везде и всюду, что нет у него никаких сыновей — нет и не будет! Он попросил свою молодую жену составить ему компанию, а Левину велел заказать пролетку.
Не только весь дом был в курсе дела, но и пол города. На каждом углу только о том и судачили, что приезжает один из потерянных сыновей, и что старый дурень отец отправляется на вокзал, чтобы заключить его в свои объятия. Само собой разумеется, вся эта история пересказывалась без имен — никто и не осмелился бы их называть, поскольку Янкель в созданной им империи все еще оставался личностью единовластной и неприкасаемой. Всякий, кто осмелится разозлить его, жестоко поплатится за это.
Скорый поезд из Катовице должен прибыть в одиннадцать утра, но уже в половине десятого пролетка Печинского подкатила к парадной двери. Это был самый обшарпанный извозчик во всей округе.
— Карета подана, пан Камински, — прогорланил он на весь лестничный пролет.
Янкель уже минут десять стоял в коридоре, дожидаясь Рахель, которая, как всегда, запаздывала.
— Ты, кажется, нервничаешь, — сказала она с усмешкой, появившись наконец в коридоре, — что так?
— Я нервничаю? — ответил Янкель, провожая ее к пролетке. — Почему я должен нервничать? Я никого не жду.
— Я знаю, что ты никого не ждешь, — ответила Рахель, которая, конечно же, знала больше, чем он сам, — но что это тебе взбрело в голову, чтобы я сопровождала тебя? Я должна помочь тебе в чем-то? В чем же?
— Когда я еду на вокзал, — смутившись, ответил Патриарх, чувствуя, что жена насмехается над ним, — я не хочу быть один. Мной овладевает тоска. Ничто так не угнетает меня, как железная дорога.
— Я тоже не переношу железную дорогу, мой дорогой муж, — продолжала Рахель свою коварную игру, — но почему тогда ты покупаешь свои сигары исключительно на вокзале, к тому же — на Силезском? Мрачнее этого нет, кажется, ничего на свете!
Кучер никак не мог взять в толк, почему столько разговоров об этом вокзале. Он развернулся в сторону седоков и выдал со свойственной ему прямолинейностью:
— Мне, конечно, нет до этого никакого дела, почтенная мадам, но все знают, что ваш муж едет на вокзал не за ящиком сигар, а за своим сыном.
— Вези меня куда тебе велено, — сердито оборвал его Янкель, — и думай лучше о своей выгоде!
Грубый окрик вельможного седока Печинского ничуть не испугал, и он продолжил задираться:
— Этот парень, пан Камински, приезжает из Вены, и его папашка лопается от нетерпения скорее увидеть его.
— А тебе, хам, следует помалкивать!
— Старика мучит совесть, — не унимался возница, — потому что он его отверг и предал.
— Заткнись или я выбью тебе все зубы!
— Этого юношу, пана Хершеле, старик продал оптом вместе с остальными десятью сыновьями, — в том же тоне продолжал Печинский, — или то, что я говорю, не так?
— Я изобью тебя до смерти, ты, сучье вымя! И прямо сейчас же, здесь, посреди этой улицы!
— Слишком жадный он был, чтобы уплатить выкуп. Он отдал их на растерзание русскому, который загнал парней в Сибирь. На свинцовые рудники Верхоянска.
— Ты говоришь правду, клоп вонючий. Да, я собственноручно надрал ему задницу за то, что этот сопляк вместо учебы решил податься в революцию. А с тебя я живьем спущу шкуру, если ты посмеешь вымолвить еще хоть слово!
— Уймись, Янкель, — вмешалась наконец Рахель, видя, как ее вельможный супруг вот-вот от злости лишится рассудка, — твой Хершеле, между прочим, за это время выучился на доктора в Венском университете. Теперь он врач, и он умнее нас с тобой. Ты не узнаешь его!
— Откуда тебе знать, кого узнаю я и кого — нет? И вообще, почему тебе известно больше, чем мне, и кем он стал, и что он умней, чем…
— Потому что я владею собой и не ору, как ты. Поэтому мне говорят такое, чего тебе никогда не скажут.
— Лучшего мира ему захотелось, — не успокаивался Янкель. — Вот мы его и получили. Большевики стоят у Буга — двести верст отсюда.
— До Варшавы они не дойдут, Янкель.
— Эти дойдут до Гонолулу, говорю я тебе. Они осчастливят весь мир, и мои бывшие сыновья, ты слышишь — бывшие, — акцентировал он, — маршируют в первых рядах!
— Твой любимый сынок спокойно сидит в Вене и пережидает войну. У него — красавица-жена, штиблеты на ногах и диплом врача в кармане.
— И что же делает этот недоумок? Едет в Варшаву, чтобы даровать нам коммунизм? Гром и молнии на его голову!
— Не бери греха на душу, Янкель. Через десять минут он появится, и ты станешь мягким, как перезревшая груша.
Старик готов был продолжить свое брюзжание, но они уже подкатили к вокзалу.
— Вас подождать, пан Камински, или вы потащите сигары домой сами? — как ни в чем не бывало спросил кучер, остановив пролетку.
Янкель подумал, не всыпать ли как следует этому хаму, однако решил, что этим он лишь выставит себя посмешищем. Он буркнул что-то себе под нос и повел супругу в здание вокзала.
Внутреннее напряжение его достигло предела. Он осведомился у дежурного по вокзалу, вовремя ли прибывает поезд из Вены. Тот ответил, что подобные справки стоят три с половиной злотых. Янкель дал ему двадцатку, чтобы услышать от дежурного то, что было и без того видно: венский экспресс как раз подошел к перрону, и два десятка пассажиров вышли из вагонов. Хершеле Камински среди них не было.
Что творилось при этом в душе старого упрямца трудно себе представить. Известно лишь, что он решительно направился к киоску, купил коробку сигар и велел Рахель возвращаться к пролетке. Слезы готовы были вот-вот хлынуть из его глаз. Он влепил кучеру звонкую пощечину и спокойно сказал:
— Меня, мои сигары и эту высокородную даму ты доставишь домой — rozumiesz[21] — и если ты посмеешь еще раз вставить свой пятачок, я тебя прибью!
* * *
Эпидемия испанского гриппа уже сходила на нет. Более двадцати тысяч жизней унесла она в могилу, принеся аптекарям баснословные прибыли, хотя в те времена, как, впрочем, и теперь, против этой загадочной болезни никаких радикальных средств не существовало. Жизнь возвращалась в привычное русло. Цюрихским фармацевтам пришлось вновь довольствоваться нормальной прибылью. Аптека на Реннвег между тем продолжала получать повышенные доходы. Каждый день лавка была полна людей, которых приводила сюда не столько подлинная нужда, сколько досужее любопытство — разглядеть вблизи темноглазую Наяду. Мальва, к тому же, проявляла удивительную профессиональную компетентность в своей работе. Она была сама любезность, исключительно проворна и в высшей степени обязательна. В ее лице господам Обермюллер выпал, можно сказать, счастливый билетик, который принес их аптеке больше выгоды, чем страшная эпидемия. Этого, разумеется, они старались не показывать строптивой аптекарше, однако Мальва и сама понимала истинное положение вещей. Ей и в голову не приходило как-то этим воспользоваться, однако в отношениях с клиентами она проявляла такую непринужденность, которой ее коллеги-мужчины позволить себе не могли.
Однажды ноябрьским утром она стала невольной свидетельницей разговора между коллегой со шрамом и широко известным профессором Ротмайстером, и разговор этот еще более утвердил ее в собственных глазах. Профессор стрельнул в сторону Мальвы восхищенным взглядом и произнес достаточно громко, чтобы слышно было всем:
— Здорово идут дела ваши в последнее время!
— Да, дела наши идут неплохо, — скромно ответил аптекарь, подмигивая знатному клиенту, — слава Богу. Впрочем, мы и прежде не жаловались.
Профессору захотелось польстить Мальве.
— Я пользуюсь услугами вашей аптеки более десяти лет, — ответил он, — но такого наплыва посетителей, признаться, не замечал.
На лице со шрамом промелькнул испуг — не слышала ли новая служащая это лестное замечание, и аптекарь поспешил приуменьшить значение сказанного.
— Да, этот грипп, — вздохнул он, — сколько ни старайся, а толку все равно не так уж много…
Профессор знал обстоятельства дела гораздо лучше и потому ответил, что эпидемия, слава богу, пошла на спад. В последний месяц было отмечено всего несколько дюжин жертв, но если и сегодня аптека так же посещаема, как и в пик эпидемии, то это исключительно благодаря некой черноглазой Мелузине…
— Вы, господин Обермюллер, — сказал он, — выловили золотую рыбку, с чем я вас и поздравляю! И замечу, кстати: нужно обладать мужеством, чтобы в таком филистерском городке, как наш, пригласить на работу в аптеку женщину.
— Большое спасибо за комплимент, господин профессор, — ответил коллега с перстнем на пальце.
— Скажу вам по секрету, — продолжал льстец, переходя на еще более высокий тон, — иные из ваших товарищей по цеху завидуют вам и намерены переманить вашу райскую птичку.
Мальва все слышала, но продолжала свое дело так, будто до нее ничего не дошло. Братьев Обермюллеров, однако, это обеспокоило. Но они были предупреждены и тотчас насторожились.
Немного позже Мальва обслуживала группу иностранных дипломатов и общалась с ними на их языке. Это еще выше подняло ее авторитет в глазах клиентов, вызвав вместе с тем откровенное раздражение у обоих владельцев аптеки, которые постоянно подкарауливали блистательную коллегу на предмет какого-нибудь просчета с ее стороны, чтобы учинить ей хорошенькую взбучку.
Как раз накануне полудня подходящий случай и представился. В аптеку вошел явный иностранец и незаметно для всех как-то придирчиво осмотрелся по сторонам. Вначале он внимательно рассматривал старинные ступки, украшавшие стеклянный шкаф возле кассы, а затем стал с интересом наблюдать за происходящими в аптеке событиями, которые явно забавляли его. Мальва как раз была целиком поглощена изучением неразборчиво написанного рецепта. Оба хозяина неслышно подошли к ней и предложили свою помощь, но ни один из них не смог проявить должной сообразительности. Мальва стала нервничать и огляделась по сторонам, как бы ища помощи.
— Позвольте, я помогу вам, — неожиданно предложил иностранец, кашлянув, — если нужно, я могу прочесть что угодно, будь это даже египетские иероглифы.
Это было подобно землетрясению. Внезапно всю ее охватил лихорадочный бред. Будто страшная эпидемия испанского гриппа с его типичными проявлениями галлюцинаций и ложных ощущений добралась наконец и до нее. Чтобы не упасть, ей пришлось крепко ухватиться за стойку.
Посреди аптеки стоял Хенрик, который, как она была уверена, сейчас находился в Варшаве и который вот уже несколько недель не давал о себе знать. Он был там, а она отчетливо видела его здесь. Здравому смыслу и логике вопреки, ибо один и тот же предмет не может находиться в двух разных местах одновременно! А что противоречит логике, есть иллюзия, а иллюзия является порождением замешательства духа. Вот оно, доказательство того, что она стала одной из последних жертв страшной эпидемии.
Будучи вне себя от охватившего ее смятения, она беспомощно уставилась на хозяев, которые предлагали ей помощь в прочтении неразборчивого рецепта. Парень между тем спокойно ухмылялся, и когда она выдавила наконец из себя вопрос, кто он такой, будто ненароком ответил:
— Не пугайтесь, мадам! Я всего лишь облако в штанах.
Она не поверила своим ушам. Так ответить мог только он! Именно так представился он ей, когда впервые появился в ее жизни. Но даже осознание этого факта не могло служить ей доказательством, потому что и голос этот мог быть нереальным. Возможно, она слышала его подобно святой Иоанне. Бывают же, в конце концов, и слуховые галлюцинации!
Она просто должна была убедиться в реальности происходящего. С этой целью она вышла из-за стойки, подошла к нему и стала ощупывать его шею, лицо, руки.
— Кто вы? — снова спросила она его. — Разве мы с вами знакомы?
— Меня зовут Камински, — будто в бреду услышала она в ответ, — насколько я знаю, вы приходитесь мне супругой, и я люблю вас!
Даже это, отчетливо услышанное, еще не стало для нее доказательством, но хоть на миг вернуло к реальности. В худшем случае, это всего лишь лихорадочный бред или подобное этому парапсихологическое явление, что по нынешним временам было делом вполне обычным. В конце концов, посетители аптеки в этом смысле были ей вполне под стать, и она, не сдерживаясь более, повисла на шее стоящего перед ней привидения. Она всхлипывала, смеялась, беспорядочно произнося лишенные всякого смысла слова.
— Любимый мой мираж, фальсификация моя! Я знаю, что все это только сон, но как же он прекрасен! Как же ты прилетел сюда? На каком облаке? Каким вихрем тебя сюда занесло?
— Очень просто, — отвечал Хенрик, нежно гладя ее по волосам, — меня доставил сюда беспроволочный телеграф господина Маркони. Я перенесся подобно телеграмме…
Мальва ничуть не удивилась бессмыслице, которую нес ее фантом.
— А как же тридцать миллионов поляков? — со слезами в голосе спросила она.
Хенрик предпочел уклониться от обсуждения этого вопроса. Он прижал Мальву к груди, крепко поцеловал ее в губы и прошептал:
— Я принес тебе тридцать миллионов поцелуев. По одному от каждого поляка.
— А как же революция?
— Я не могу дышать без тебя, Мальва. Ты так прекрасна!
Они обнялись, будто, кроме них, в целом мире не было ни души. Перстненосец решил, что пора наконец вмешаться в эту идиллию:
— Здесь не ярмарка, госпожа Камински, и мы с вами находимся в Швейцарии!
Мальва была слишком счастлива, чтобы обратить хоть малейшее внимание на замечание шефа.
— Теперь ты останешься с нами или нет? — спросила она Хенрика.
— Как долго еще? — шепнул Хенрик ей в самое ухо, мельком взглянув на ее живот.
Мальва испугалась разоблачения. До сих пор она скрывала свою беременность. Она рассчитывала, сколько это будет возможным, удерживать за собой свое место, чтобы зарабатывать на жизнь. Поэтому она ответила молча, показав мужу четыре пальца. Хенрик расцеловал ее в глаза и спросил как бы между прочим:
— У вас действует запрет на поцелуи?
— Что разрешается и что запрещается здесь делать — решают братья Обермюллер, — ответил аптекарь, почувствовав себя уязвленным. — Кто вы, собственно, такой?
— Доктор Камински, — ответил Хенрик, кладя на стойку визитную карточку, — я супруг вашей служащей и потому обладаю законным правом целовать эту даму, когда и сколько мне хочется.
* * *
11 ноября 1918 года для всего человечества было отмечено окончанием Первой мировой войны, а для дяди Хеннера — всех иллюзий его жизни. На всем произошедшим в тот день лежит жестокая печать эдакой злой шутки.
Брат моего деда потерпел в тот день такой фантастический крах, что это едва укладывается в сознание!
В то утро по своему обыкновению Хеннер проводил своего сына Натана к вокзалу, где тому предстояло за милостыню исполнять на скрипке «Аве Мария» Шуберта. Когда же продавцы утренних газет известили об окончании войны, Хеннер велел сыну сменить репертуар и исполнять «Оду к радости» Бетховена.
Натану в то время было уже за тридцать, и он давно перестал быть вундеркиндом. Вместе с тем, и его игра обрела законченную зрелость и тем неизменно покоряла сердца слушателей.
Идея с «Одой к радости» оказалась превосходным коммерческим ходом и принесла небывалый результат. Поскольку же то ноябрьское утро было необыкновенно холодным, на голове Хеннера восседала громадная фетровая шляпа покойного брата. В нее-то и собирал он подаяния, которые градом сыпались из рук восторженной публики. Сбор превысил все мыслимые ожидания. Около полудня наши герои имели более тысячи крон — гораздо больше всего собранного ими за последние годы, и это было целое состояние в истинном смысле слова. На такие деньги можно было купить дом или, будь на то охота, совершить кругосветное путешествие.
Но бедный дядя не хотел ни того ни другого. Он был не от мира сего. В политике он не смыслил ровным счетом ничего. Он лишь смутно представлял себе, что между окончанием войны, громадной толпой слушателей «Оды к радости» Бетховена и неожиданно обрушившимся на них градом монет есть какая-то связь, но никак не мог взять в толк — какая. Тогда он впервые в жизни своей купил газету, чтобы узнать, как будет теперь выглядеть географическая карта планеты. Поскольку же Хеннер видел лишь сообщения о победоносном окончании войны, он, оставаясь в плену собственных иллюзий, конечно же, понял, что войну выиграла Австрия, разгромившая всех своих врагов на всех фронтах, и, следовательно, австрийский император вновь овладел всеми своими территориями. Сын же его Натан имел обо всем этом еще меньшее представление, чем его несчастный отец. Он печально смотрел на беснующуюся публику и никак не мог взять в толк, что, собственно, осчастливило всех этих людей и почему так дружно ликуют.
Как бы то ни было, оба лунатика решили отправиться домой, в свой Флоридсдорф. Они спешно сложили заработанные деньги в футляр Натановой скрипки, вскочили в городской трамвай и заняли два места у окна. Оба наслаждались сознанием неожиданно свалившегося на них богатства, но тут несчастный дядя бросил беглый взгляд в «Кроненцейтунг» — самую толстую австрийскую газету, за которую он только что щедро выложил целых пять крон.
Каково же было его потрясение, когда на самой первой ее странице он прочел, что двуглавый орел — символ Австро-Венгерской монархии окончательно повержен, что кайзер отрекся от престола и что мир не будет больше тем, что являл собой прежде! Война проиграна, монархия низвергнута, вся Европа — сплошной сумасшедший дом, а повсюду на улицах ликует и неистовствует народ!
Почувствовав недоброе, дядя принялся листать газету дальше и убедился в том, что в его руках — настоящее средоточие роковых вестей. Он собирался было выбросить газету прочь, когда взгляд его на мгновенье остановился на рубрике «Техника». Он рассчитывал, по меньшей мере, хоть здесь найти сколько-нибудь радостное сообщение, но вместо этого брови его взлетели кверху, зрачки выкатились, весь он побледнел и из его горла вырвался жуткий вопль, рев, животный крик отчаяния. Он вдруг в беспамятстве свалился на пол.
Двумя часами позже, когда моя бабушка Яна с обеими кузинами — Штеффи и Хелли — сидели за обеденным столом, раздался звонок в дверь. Двое мужчин внесли в дом носилки. На них, недвижим, лежал несчастный дядя. Рядом весь в слезах стоял его сын Натан.
* * *
— Дорогие скорбящие родственники! Уважаемый сын преставившегося! Вы являетесь, возможно, самой маленькой общностью, к которой обращаюсь я в этот скорбный час, но, конечно же, не самой незначительной. Пять сыновей Господа, говорится в Талмуде, это целое человечество, подобно тому, как пять слезинок от чистого сердца — это целый океан. Не в количестве суть, но в печали. Хеннер Розенбах был степным волком. Фантазером-одиночкой. Блуждающим огоньком во мраке нашего времени. Он брел через пустыню с единственным попутчиком — немногословным, но исключительно одаренным сыном Натаном, который дошел с ним до самой последней точки его путешествия. Теперь мы скорбим и спрашиваем себя — кем же был он, этот человек? Сам он называл себя изобретателем. Таковым был он и в переносном смысле. Он страстно хотел найти, но не нашел. Он искал, он был вечным искателем, и значит, истинным сыном израильского народа. Едва ли за свою семидесятилетнюю жизнь он бывал в синагоге. Он стыдился себя, своего происхождения, которое давило на него подобно наследственному пороку. Он даже подверг себя крещению в надежде найти наконец то, что он ищет, но и это не помогло ему.
Незадолго до своей кончины пришел он ко мне, потому что захотел вернуться к своему Богу. Я исполнил мой долг. Я попытался разъяснить ему и удержать его от шага, который не принесет ему ничего, кроме дополнительных страданий и новых испытаний. Но он не поддался страху. Он подтвердил свою волю стать евреем, и я приложил немало усилий, чтобы объяснить ему: невозможно становиться евреем тому, кто евреем был рожден. Кто пришел в этот мир искателем Господа, тот и в вечность уйдет из него таковым…
Но тут возникает следующий вопрос: а что же искал этот несчастный человек? Он утверждал, что ищет волшебную формулу, с помощью которой сможет подражать творческой палитре самого Создателя, — он изобретает цветную фотографию. Фактически, он искал вещь сомнительную. Он дерзнул постичь таинственный промысел самого Всевышнего. Но имитировать краски, вторгаясь в глубинную тайну предметов, в самую суть мира — это все-таки грех. Более того, это тот самый грех! Типично еврейское высокомерие — встать выше всех запретов и, не стесняя себя никакими ограничениями, вкушать запретный плод.
Да, это так, говорю я вам, пятерым наследникам его деяний. Мы — маленький, но самонадеянный грешный народ, любопытный и любознательный, одержимый страстью до всего докопаться. Мы стремимся постичь непостижимое. Мы норовим разгадать последние загадки Господа Бога. И что же делает он, Вездесущий? Он прощает нам. Он провозглашает нас избранным народом, потому что мы объединяем в себе все ошибки рода человеческого, и потому мы — гораздо больше, чем просто евреи. Мы — просто люди. Абсолютно. Во всем. Он избрал нас за наше высокомерие, за наше незнание меры, за наши прегрешения, и любит Он нас за то, что мы постоянно ищем Его.
Хеннер Розенбах именно потому и был безгрешным, что он был смертельно грешным евреем, который для того искал Бога, чтобы уподобиться ему. За это он погиб, ради этого он сжег свое сердце. Он хотел быть первым, кто постигнет тайну Господа, но позавчера, в первый мирный день на земле, он вынужден был узнать, что есть уже некто, сделавший это раньше него. Хеннер Розенбах ехал в городском трамвае и вычитал в газете, что некий француз, католик по имени Люмьер, давно изобрел цветную фотографию. Француз, христианин, которого к тому же зовут Люмьер — это слово означает «свет». Кто же еще должен был пролить свет на эту тайну, если не человек по имени Люмьер?
Хеннер Розенбах скончался от зависти, от этой нижайшей формы ревности, и мы задаем себе третий вопрос: простит ли его Бог? Да, дорогие скорбящие. Он простит его вопреки всем его прегрешениям только за то, что всю свою жизнь покойный посвятил поискам Бога, а не Дьявола…
* * *
По дороге с еврейского кладбища Яна села рядом с Натаном и спросила его, как намерен он жить дальше. В ответ Натан лишь всхлипывал, не проронив ни слова. Он тонул в слезах с того самого момента, когда Хеннер покинул этот мир.
— Слава богу, — сказала Яна, сочувственно положив руку ему на шею, — у тебя есть твоя скрипка. Ничего плохого с тобой не случится.
— У меня ее больше нет, — ответил Натан, всхлипывая.
— Господи, куда же она подевалась? — удивилась Яна.
— Я потерял ее. Вернее, она осталась лежать вместе с футляром, в котором находилась тысяча крон.
— Несчастный ребенок, как же могло такое случиться?
— В трамвае. Когда умер папа. Я умер вместе с ним, и мне стало все безразлично.
Яна сжала виски. У нее потемнело в глазах. Все вокруг закружилось.
— Но сам-то ты жив еще, мальчик! — закричала она, обнимая Натана. — Тебе нужно на что-то жить. Что ты станешь делать без папы?
— Шрекман надоумил меня, — ответил он, вытирая глаза платком. — Я вернусь к моим братьям. Я буду молиться на Святой земле.
* * *
После всего, что мы уже знаем, никого не удивит весть о том, что в муках появился на свет ребенок Мальвы и Хенрика. Муки были столь нестерпимы, что акушер с символичным именем Кёниг был вынужден прибегнуть к кесаревому сечению. Так что роды получились в некотором смысле королевско-княжескими. По-настоящему достойное уважения событие, растянувшееся на три дня и три ночи. Характерно еще и то, что заключительный акт этой драмы происходил под наркозом. Впрочем, в обеих причастных к данному процессу ветвях — Розенбахов и Камински — ни одно аналогичное событие в обозримом прошлом не совершалось без проблем и при полном сознании.
Уступая особому пожеланию матери, в качестве ассистента был привлечен и сам Хенрик, что в цюрихских роддомах было вообще новшеством. Здравомыслящие швейцарцы по собственному опыту знали, как непросто молодому отцу воочию познать процесс появления на свет его первенца. В данном конкретном случае укоренившиеся предрассудки оказались, кстати, весьма обоснованными. Когда операция достигла своего апогея и была перерезана пуповина, весь поднос с инструментами полетел из рук Хенрика на пол, и новоиспеченный отец бухнулся в обморок.
Иегове, однако, было угодно, чтобы отец и сын счастливо пережили этот судорожный день.
Все это происходило 15 января, дороги были припорошены снегом, а над крышами сверкало солнце. В Германии в этот день были убиты Роза Люксембург и Карл Либкнехт. В Зеркальном зале Версальского дворца готовился к подписанию пресловутый мирный договор. Лорд Резерфорд с помощью радиоактивных лучей превратил атом азота в атом кислорода. Адольф Гитлер вписал себя пятым членом нацистской партии, и в гороскопе на 15 января значилось: «Мальчики, которые появятся на свет в этот день, станут фокусниками, бродячими актерами, паяцами или чернокнижниками. Они придумают себе жизнь вечных жертв собственных измышлений, но в самом конце пути им откроется истина».
* * *
Через час после родов Мальва очнулась от обморока. Ее первый вопрос был не о новорожденном, а об отце его: «Как чувствует себя мой муж?» Возле кровати с сияющим лицом стоял доктор Кёниг.
— Все участники процесса в порядке, — доложил он, — и даже папаша пока живой.
— А девочка?
— Мальчик, — подсказал доктор, — к тому же — рекордного веса: целых восемь фунтов!
Мальва чувствовала такую легкость, будто парила в воздухе. Вместе с тем она была невыразимо усталой. Все тело ее будто налилось свинцом, и было трудно собраться с мыслями.
— Мне казалось, — заявила она, — я вот-вот умру.
— Естественно, — ответил акушер, — малыш никак не хотел выходить наружу. Ему нравилось находиться в вашем животе. Нам пришлось миллиметр за миллиметром извлекать его оттуда.
Извлекать! От одного этого слова Мальва вся обмякла.
— Что-нибудь получилось не так? — спросила она сквозь слезы.
Доктор решил позабавиться и нагнать немного страху на хорошенькую роженицу.
— Ничего такого сверхъестественного, милая фрау, — сказал он как бы между прочим, — просто роды были, как говорят, не совсем естественными.
— Вы что-то скрываете от меня, господин доктор. Я хочу знать все. Без утаек!
Из стоящей рядом кроватки доктор достал крохотный фиолетовый комок только что зародившейся жизни, поднял его над головой и показал Мальве:
— Этот парень, — весело сказал он, — появился на свет уже обрезанным! С научной точки зрения это неестественно.
— Это мне безразлично, господин доктор, — облегченно вздохнув, ответила Мальва и сверкнула счастливой улыбкой.
— Каких только странностей не насмотрелся я на своем веку, — ответил доктор, возвращая в кроватку маленького человечка, — но этот — сущий феномен! Явление — абсолютно из ряда вон!
Задавая свой вопрос, Мальва опасалась услышать худшее. Но теперь в ней все ликовало.
— Вы меня разыгрываете, — улыбнулась она, — но теперь у вас ничего не получится, господин доктор, я безмерно счастлива!
— Нет, подобные вещи случаются, — менторским тоном ответил чудаковатый гинеколог, продолжая забавляться, — приблизительно один раз на три миллиона. Население Швейцарии составляет четыре миллиона. В их числе — половина женщин, которые всегда рождаются необрезанными. Даже если кому-то очень хотелось бы этого. Из этого следует, что младенец сей есть настоящий уникум. Его следует выставлять в музее.
— Это может иметь какие-нибудь нежелательные последствия? — с опаской в голосе спросила молодая мать, в душе которой от заявления доктора вновь зародились сомнения.
— Вы о чем?
— Об этой противоестественности…
Доктор Кёниг направился к двери, затем повернулся и ответил жизнерадостным голосом:
— Научная литература умалчивает об этом явлении, мадам. Но я полагаю, что мальчик, рожденный с таким редчайшим отклонением от нормы, непременно станет раввином.
— О, тогда уж лучше в музей! — вздохнула Мальва, устало закрывая глаза.
Внезапно она вновь очнулась из своего полусна и громко спросила:
— Где мой муж?
— Я влил в него полную чашку шнапса, — успокоил ее врач, — представьте, это сразу привело его в чувство.
— И что теперь?
— Полагаю, он помчался на почту телеграфировать.
27
— Пан Камински! Сенсация!
— Что случилось?
— Фройляйн Анка получила телеграмму.
— Хаим Левин, я сплю!
— Телеграмма из Цюриха.
— Я же предупреждал тебя, Хаим Левин!
— От вашего сына Хершеле!
— Во-первых, нет у меня никакого сына, ты, шмок…
— И во-вторых, пан Камински, он произвел на свет обрезанного еврея!
— Тоже мне искусство!
— Не просто искусство, пан Камински, это же рекорд! Мальчик весит четыре кило — целых восемь фунтов!
Скрывать дальше свое возбуждение Янкель был не в силах. Он вскочил с кровати, влез в пижаму и стал орать во все горло:
— Обрезанный еврей! Как можно родиться обрезанным? Человек рождается обыкновенным человеком, а потом его обрезают, и он становится евреем. Но сразу быть обрезанным — такого не бывает. Рахель, ты слышишь? Твой муж стал дедом. Семьдесят два года, а еще может иметь внуков…
Супруга Патриарха была известной актрисой. То, что произошло, было известно ей уже несколько часов. Но она изобразила искреннее потрясение от услышанного:
— У тебя появился внук, Янкель? В твоем возрасте? Вот уж настоящая сенсация! Твой любимый сын, которого у тебя нет, стал отцом, а ты — дедом. Теперь-то уж вам следует помириться. Самое время — или нет?
— Помириться? С ним? Ни за что! Я никогда не помирюсь с ним, даже если меня хватит удар!
— А как же иначе?
— В конце концов, отцом стал он. Вот он пусть и мирится, но не я. И почему я должен это делать?
— Кто-то должен быть умней, Янкель. И потом, как назовут ребенка?
— Откуда мне знать, как его назовут? Телеграмму получила Анка, а не я. Читал ее Левин, а не я. Старому Камински ничего не сообщают, потому что он — козье дерьмо в собственном доме. Хаим Левин, говори сейчас же, как назвали моего внука, иначе ты вылетишь в окно!
— Ребенка назвали… Я не могу в это поверить, пан Камински, — промямлил в ответ Левин, весь дрожа, как желе.
— Во что не можешь ты поверить, ты, поц! Говори слово за словом, как написано в телеграмме!
— В телеграмме написано, что…
— Так что же?!
— Что в честь пролетарской революции… Нет, я не могу этого выговорить…
— Можешь!
— Что в честь пролетарской революции ребенка зовут…
— Хаим Левин, продолжай!
— Владимир Ильич, как вождя международного движения.
Янкель захватил побольше воздуха грудью и прорычал:
— Это я расстрою!
— Что ты расстроишь, Янкель? — успокаивающим тоном спросила известная актриса, чувствуя, что сейчас может разразиться нечто неслыханное.
— Что мой сын, этот хюльтай, эта шельма, во второй раз меня губит. Вначале он собирался разорить меня. А теперь мой внук будет носить имя этого ганефа, этого разбойника? Владимир Ильич — как этот красный барабанщик, который весь свет на голову поставил. О, Хершеле, Хершеле! Я вырву твои яйца, свинья ты паршивая!
— Янкель, дорогой мой, ты сошел с ума?
— Да, Рахель, я сошел с ума!
Янкель решительно подошел к шкафу, распахнул дверцы и, тяжело сопя от злости, стал извлекать оттуда зимнее пальто, меховую шапку, достал святая святых — чековую книжку.
— Через месяц вернусь, — буркнул он, — может, даже раньше. Он может называть моего внука, как ему хочется. Хоть Иисусом Христом, если ему так по душе. Но уж никак не Владимир Ильич! А если понадобится, то я…
— Пан Камински!
— А тебе следует молчать, Хаим Левин. В мое отсутствие заменишь меня. И помни о прибыли, иначе…
* * *
Процедура обрезания проводится у евреев на восьмой день после рождения и имеет целью отличать сыновей Израиля от филистеров, а также неверующих. Ритуалом удаления крайней плоти новоявленный житель земли приобщается к Иегове: самым чувствительным местом своим он должен ощутить, что с этого момента он стал другим, избранным, не тем, что появился на этом свете, он должен выдержать это испытание Иеговы.
Поскольку же сын Мальвы и Хенрика появился на свет уже обрезанным, таинственная процедура эта не могла состояться по причинам чисто техническим, что создало ситуацию двоякого толкования. С одной стороны, этот факт мог означать, что новорожденный не годится для приобщения его к союзу с Всевышним. С другой — напротив: Провидению было угодно, чтобы младенец появился среди людей, с самого первого мгновенья его земной жизни, будучи особо отмеченным Богом.
Ребенку, таким образом, суждено было либо остаться язычником, поскольку не по своей воле вынужден был он избежать ритуала обрезания, либо, напротив, — стать Мессией, помазанником Божьим, ибо эта избранность, как говорится, дарована ему самим Всевышним. И с такой неоднозначностью ребенок вступил в жизнь. Это был глас самой Судьбы.
Но с процедурой обрезания связано еще и получение ребенком имени, а это, как известно, также составляет важную миссию. Ибо через имя ребенка выражают родители свои чаяния и надежды, их воспитательные намерения. Скажем, называя дочь Евой, родители хотят видеть в ней нечто от первой женщины на земле — неотступную соблазнительницу и княгиню любви. Называя сына Беньямином, что означает в переводе «сын правой руки» или — в переносном смысле — «баловень судьбы», родители как бы желают ему иметь неизменный успех у женщин, удачу в играх, в делах, в поединках и победы над всеми противниками.
Хенрик и Мальва избрали имя Владимир — «властелин мира», и при этом они, конечно же, имели в виду Владимира Ильича Ленина, который всего за одну революционную ночь завладел огромной Русью, стал диктатором на одной шестой части Земли, могучим Цезарем от Балтики до Японского моря.
Поскольку же, как было сказано, о ритуале обрезания не могло быть и речи, было решено устроить скромный праздник, посвященный присвоению новорожденному его имени. Разумеется, для столь важного праздника недоставало помещения и средств, и потому родители решили обратить нужду в достоинство и устроить торжество прямо в своей квартире с мансардой, которую они снимали в районе Старого города.
В приглашении значилось, что в честь пролетарского наследника, в связи с присвоением ему имени состоится прием с вином и закуской и что принято решение назвать его «Владимир Ильич».
В торжестве по этому случаю должны были участвовать около тридцати человек: пять сестер из Варшавы, десять братьев из Нью-Йорка, а также бабушка Мальвы, конечно же, Яна и еще кузины из Вены. А кроме того, несколько задиристых интеллектуалов из разных мест, которых легко распознать по их небритым подбородкам и очкам на шнурках — свидетельствам их принадлежности к той же когорте, что и сам хозяин мероприятия.
И только Патриарх не был удостоен приглашения. Когда подали угощение и в честь новорожденного подняли бокалы, были оглашены имена всех присутствующих, но имя Янкеля при этом упомянуто не было. Наконец Хенрик открыл церемонию и произнес краткую речь, однако и он не упомянул имени деда новорожденного младенца.
— Мои дорогие попутчики и товарищи по борьбе, — сказал он, — вы прибыли издалека, чтобы торжественно зачислить в ряды революционеров нового бойца. Ему достанется более легкая миссия, чем нам, но одновременно и более сложная. Более легкая, потому что наше красное знамя развевается сегодня над одной шестой частью земной суши, потому что больше мы не являемся побитыми и порабощенными. Потому что русские товарищи показали нам, как можно поставить на колени даже самых властных на земле. Но ему будет и труднее, чем нам, потому что на смену абстрактным мечтам пришла конкретная повседневность. Для нас коммунизм был лишь прекрасным итогом труднейшей дороги. Для него — он станет началом дальнейшего шествия — еще более трудного и мучительного, которое приведет человечество к счастливому будущему. Для этого долгого шествия сквозь мрак мы должны вооружить его. Ему нужен свет, который будет освещать его нелегкий путь. И свет этот зовется Ленин. И пусть ребенок наш носит имя, за которое его будут любить простые люди и ненавидеть варвары. Итак, отныне пусть он зовется Владимир Ильич Камински!
После бурных аплодисментов слово взял Бэр, самый старший брат. В то время он был уже издателем широко известной ежедневной газеты социалистов под названием «New York Daily Worker». Его выступление было менее патетичным, чем предыдущая речь:
— От имени всех братьев я обращаюсь к тебе, Хершеле, поскольку с момента нашего прощания в нью-йоркском порту минуло семь лет. С тех пор мы потеряли друг друга из виду и — так, по крайней мере, кажется мне — мы друг от друга несколько отдалились. Все мы теперь не те, что были прежде. И сам мир изменился до неузнаваемости. И только ты, мой экстравагантный брат, остался прежним, о чем я в высшей степени сожалею. Ты торжествуешь от сознания, что над одной шестой частью суши развевается красное знамя. Для нас это тоже отрадно, но мы знаем также, что знамя власти — будь это и знамя коммунизма — может быть таким же красным. Наши идеи, переходящие всякие границы, сделались государственными идеями на пространстве от финляндских морей до китайских границ. Тебе следовало бы знать, что государственные идеи, как правило, ограничены и лишены всякой фантазии. Ты видишь в твоем сыне будущего солдата революции, Хершеле. О какой революции ты говоришь? О революции для народа, для рабочего класса или для партийных лидеров? Увы, сегодня это не одно и то же. Народ желает дальнейшего развития революции, но партийные лидеры хотят ее задушить, потому что они уже получили все, что хотели. У них есть власть. Для них революция — это пройденный этап и место ей — в музее.
Эти слова старшего из братьев распространили в комнате чувство глубокой досады, никто не мог взять в толк, куда, собственно, клонит Бэр. Хенрик пребывал в нерешительности — учинить скандал, внести поправки в свое выступление или заявить протест, но Бэр был самым старшим, и никто не осмеливался возражать ему.
— Ты хочешь, — продолжал Бэр, — чтобы этот малыш носил имя Ленина — пожалуйста! В конце концов, Ленин вытащил старый мир из петли. Ленин поднял пролетариат всех стран на борьбу за новую жизнь. Он олицетворяет собой освобождение от всяких оков. О’кей, с этим никто не спорит, как, впрочем, и с тем, что имя Ленина достойно уважения. Но, Хершеле, ты уверен, что этот младенец хочет носить имя Ленина? Это было бы не лишним, поскольку ленинское имя — это еще и каинова печать, а ты хорошо знаешь: у того, кто носит ее на себе, выбора нет. Он вынужден — по душе ему это или нет — быть коммунистом. Бунтарем. Человеком вне общества. Более того, отверженным, вечно гонимым. Человеком вне закона и потому вечно преследуемым. Если он сам этого хочет — пожалуйста. Это его выбор. Но если он не захочет всего этого — что тогда? Посмотри сам, с каких времен людей толкают к их счастью. Выгляни из окна своего жилища. Ты видишь круглый купол твоего университета и остроконечную башню церкви. У тебя есть выбор между разумом и верой, между наукой и мистицизмом. Ты сам выбираешь из двух миров, и в этом твое счастье. Этот шанс предлагает тебе Швейцария. Но сыну своему ты хочешь отказать в этом шансе. Ты вынуждаешь его следовать дорогой, избранной для него тобой. Разве должны плоды великого переворота превратить работу в принуждение, а детей — в рекрутов революции? Не думаю, — продолжал Бэр, — что в этом состоит твоя цель, потому что…
— Твое время истекло, — перебил Хенрик брата и дальше стал проповедовать сам: — Никто имя себе самому не выбирает. Этого никогда не было и не будет. Каждый носит имя, данное ему родителями. Тебя зовут Бэр, потому что твоему сумасшедшему отцу взбрело в голову так тебя назвать. Меня зовут Херш, потому что так захотелось моему сумасшедшему отцу. Мой сын будет носить имя Владимир Ильич. И данность эту никому изменить не дано…
Пока хозяин званого обеда хорохорился подобным образом, открылась дверь и в комнату вошел человек: меховая шапка на голове, зимнее пальто переброшено через руку и на сапогах калоши. Он прямиком подошел к люльке с ребенком, чтобы с замиранием сердца рассмотреть маленького червячка, который был причиной столь эмоциональной словесной дуэли. Старик долго рассматривал малыша, затем подошел к Мальве, наклонился к ней и спросил, шепча ей прямо в ухо:
— Кому принадлежит этот человек?
— А вы кто такой? — шепнула Мальва в ответ нарушителю спокойствия.
— Кому принадлежит этот человек, спрашиваю я, — настойчиво повторил старик.
— Мне, — ответила Мальва, — а что?
— Я прихожусь ему дедушкой и желаю знать его имя.
В комнате повисла гробовая тишина. Все взгляды были обращены на незваного гостя. Чувствовалось, что вот-вот разразится ураган, скандал, потому что внезапно появившийся человечек был ни кем иным, как жестоким отцом-отказником, бессердечным грубияном, который отдал в руки палача одиннадцать родных сыновей, испугавшись краха своего гешефта. Янкель Камински имел дерзость влезть в львиное логово, в котором его никто не ждал, и вмешаться в ситуацию.
Его старший сын Бэр и любимчик Хершеле вцепились друг другу в шевелюры, к тому же из-за самой злободневной темы века — из-за русской революции. Если для кого-то и стало новостью, что братья будут ссориться по этой причине, так это был он, Янкель.
Мансарда на Тритлиггасе уподобилась пороховой бочке. Враждебное возбуждение носилось по комнате: самовластный старик против бескомпромиссных сыновей, нью-йоркские рационалисты против ослепленного верой цюрихца, миролюбивые женщины против своенравных мужчин. Довольно было одной искры, чтобы весь семейный праздник взлетел на воздух, но тут свершилось чудо: один из приглашенных взял в руки гитару, которую по счастливой случайности прихватил с собой. Он взял звучный аккорд и запел старинную еврейскую народную песню:
Ас дер ребе лахт, Ас дер ребе лахт, Лахен але хасидим, Лахен але хасидим.Все дружно стали подпевать ему:
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, Хо, хо, хо, хо, хо, хо — Лахен але хасидим, Лахен але хасидим.Янкель, разумеется, перед развеселившимися гостями вообразил себя раввином и тут же подхватил второй куплет:
Ас дер ребе танцт, Ас дер ребе танцт, Танцен але хасидим, Танцен але хасидим!При этом он подхватил Мальву, сидевшую на стуле, и стал кружить ее вокруг себя, повторяя:
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, Хо, хо, хо, хо, хо, хо — Танцен але хасидим, Танцен але хасидим!Веселье и хорошее настроение мигом вернулись в комнату, и все тридцать гостей хором подхватили припев:
Ха, ха, ха, ха, ха, ха, Хо, хо, хо, хо, хо, хо — Танцен але хасидим, Танцен але хасидим![22]Все пустились в пляс, и даже беззубая бабушка из Вены, которая впервые за многие годы тоже развеселилась.
Гости пели, хлопали в ладоши, собравшись в кружок, пока наконец песня не закончилась и снова не установилась тишина. И Янкель снова в полной тишине повторил свой вопрос, который более всего беспокоил его:
— Так как его имя, хочу я все-таки знать?
— А я все-таки хочу знать, кто вы такой! — ответила Мальва, уставившись на старика. — Вы вошли в мой дом, не сняли шапку с головы. Вы танцевали со мной, будто вы мой жених, но так и не представились.
— Я твой свекор, ты, соловушка! Но явился я для того, чтобы узнать имя моего внука.
Вместо нее ответил Хенрик тоном, по которому еще нельзя было понять, наступило ли наконец перемирие или противостояние все еще продолжается:
— Твоего внука будут звать Владимир Ильич Камински.
— Я разговариваю с дамой, а не с тобой.
— Моего сына будут звать так, как хочет его отец, — ответила Мальва, адресуя мужу примирительную улыбку.
— А что хочет его мать? Или ей в этом доме нечего сказать?
— Я хочу, чтобы он рос здоровым, — ответила Мальва, понимая намек, — и чтобы людям было приятно иметь с ним дело.
— С таким именем? — сердито спросил Янкель. — Да при его появлении люди будут запирать двери!
Хенрик понял, что, если он не хочет потерять свое лицо, он должен брать ситуацию под контроль.
— Как будут звать нашего сына, — сказал он сурово, беря Янкеля за углы воротника, — решаем мы, а не какие-то капиталисты из Варшавы.
— Наследник моих миллионов, мой внук не будет носить имя Владимир Ильич. Тебе никогда этого не понять, но твоя жена, слава богу, симпатичнее тебя.
С этими словами он достал из кармана чековую книжку, раскрыл ее и что-то начеркал внутри.
— В качестве начального капитала, на расходы по воспитанию моего внука тридцати тысяч злотых, полагаю, будет достаточно, — сказал он, передавая Мальве подписанный чек.
Мальва побледнела. Таких денег она не видела в жизни. Она растерянно посмотрела на Хенрика, потом опять на Янкеля:
— Но я не понимаю…
— Это для твоего сына и моего внука Андрея Камински.
Мальва взяла чек и передала мужу, а тот взял его театральным жестом и демонстративно разорвал на клочки.
— Не знаю никакого Андрея Камински, — буркнул он, — и купить себя никому и никогда не позволю. Возьми себе паршивые тридцать тысяч, а нас оставь в покое!
Янкель досадливо пожал плечами и снова достал чековую книжку.
— Я понял, — сказал он, — тридцати тысяч маловато. Извольте.
И он снова стал чиркать в своей чековой книжке.
— Пятидесяти тысяч, надеюсь, хватит за имя моего внука Андрея? Но это мое последнее слово!
Хенрик хотел было выставить старого упрямца за дверь, но тут Мальва взяла его за руку, погладила по плечу и шепнула в самое его ухо:
— Хенрик, любимый, ты хочешь взять на душу грех против родного отца? Ради нескольких грязных швейцарских франков? Ради имени, которое всего лишь имя? Все ведь заключено в сердце человека, а не в названии.
Хенрик смотрел на нее так, будто пробуждался от тяжелого сна длиною в четырнадцать лет. Братья улыбались ему, словно подбадривая — против природы, дескать, не попрешь. То же самое — и сестры.
Он подошел к старику, обнял сумасшедшего Патриарха, расцеловал его в обе щеки и сказал со слезами в голосе:
— Ах ты, старая накипь! Ах ты, ростовщик! В сотый раз ты изнасиловал меня. Но все равно, ты обречен вместе с твоим проклятым классом, с твоими векселями, чеками и банкнотами…
— И что же? — улыбнулся Янкель.
— Ничего. Все равно я тебя люблю.
28
Ну что ж, мой терпеливый читатель, вот и конец моей истории, и Вы, разумеется, спросите меня — все ли здесь правда?
Мне трудно ответить Вам однозначно на этот вопрос, потому что при всех описанных мною событиях я сам не присутствовал. Все происходило до моего появления на свет. Все, что мне известно, я знаю из устных рассказов. Многие годы изучал я обстоятельства моей наследственности. Поскольку же я всегда был сверх всякой меры любопытным, мне хотелось досконально разобраться, что за люди внесли свой вклад в палитру моих хромосом. Я беседовал с жившими в одно время со мной дядями, тетями, а также более дальними родственниками, разбросанными по всей планете о том, как произошло слияние двух ветвей — Розенбахов и Камински. При этом оказалось, что средний возраст моих информантов составлял девяносто один год! Их возрасту соответствовала и память. Кроме того, моим собеседникам самим очень уж хотелось оказаться на высоте. Они не упускали ни одной возможности переоценить собственную роль в семейной хронике, а иные и того боле: кое-что прибавить от себя, а кое-что утаить.
По этой причине почти все сведения в этой книге должны восприниматься с известными оговорками. Мне было бы жаль, если бы кто-то из серьезных современников описанных событий стал придирчиво относиться к фактам, приведенным в моей истории. Я не готов поручиться за их достоверность, равно как и за достоверность географических названий или изложенных мною биографических сведений. Уже на первой странице этой книги я привожу надпись на могильном камне давно ушедшего в иной мир раввина Шломе Розенбаха из Черновиц — помните? «Правда — это самое благое из всех благ, обращаться с которым следует осмотрительно и не расточать всуе». Как я уже намекал, его потомки, к числу которых принадлежу и я сам, завету этому стараются следовать. Мы говорим и пишем правду тогда лишь, когда ничего другого нам не остается…
Так что, расценивайте мои заметки как измышления, как сумасбродные небылицы. И если Вы, вопреки этому, тут или там все-таки отыщете искорку правды, принимайте это за чистую случайность. И потому очень прошу Вас не строить мне за это никаких козней.
На том я ставлю последнюю точку и адресую Вам слова, которые говорят друг другу евреи в минуту прощанья: «В будущем году — в Иерусалиме!»
Примечания
1
Черт побери (польск.).
(обратно)2
Кухарка коверкает слова: «Gabardinen» с «Gardinen» и «Franzosen» с «Fransen» (Прим. перев.).
(обратно)3
Люблю как Бога (польск.).
(обратно)4
Уважительное обращение к даме, наподобие русского «уважаемая госпожа».
(обратно)5
Вы понимаете (фр.).
(обратно)6
Шумное веселие, безумие — старинный португало-испанский карнавальный танец.
(обратно)7
Вы понимаете (англ.).
(обратно)8
Нет, я не понимаю (англ.).
(обратно)9
Нет, никогда! Да здравствует Польша! (польск.).
(обратно)10
Обращение к уважаемым людям: прошу вас, господа; извольте, господа.
(обратно)11
Это шанс! (англ.).
(обратно)12
Госпожа Янечка — нежное обращение к девушке.
(обратно)13
Вы ошибаетесь, сын мой, вы должны обратится к кому-нибудь, кто понимает ваш язык (фр.).
(обратно)14
Бог простит вас, сын мой. Встаньте же, здесь так пыльно, не оскверняйте это святое место! Вы находитесь в Вечном городе!
(обратно)15
Слава Иисусу Христу! Во веки веков…
(обратно)16
Спутница, подруга.
(обратно)17
Гром победы — раздавайся! Дословно: Да здравствует гром пушек! (фр.).
(обратно)18
Потому что на нем — кровь пролетариев (польск.).
(обратно)19
Ты на самом деле веришь в Ленина? (польск.)
(обратно)20
Мольба о спасении (иврит).
(обратно)21
Понимаешь (польск.).
(обратно)22
Еврейская песня: «Когда смеется наш раввин, с ним вместе смеются все хасиды. Когда танцует наш раввин, все хасиды пускаются в пляс!»
(обратно)


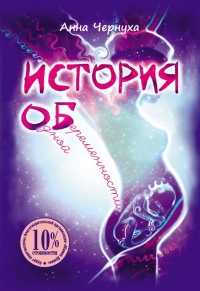








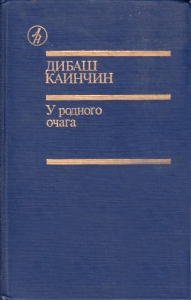
Комментарии к книге «В будущем году — в Иерусалиме», Андре Камински
Всего 0 комментариев