София Лундберг Маленькая красная записная книжка
© Sofia Lundberg 2017
Den Röda Adressboken © Amy Weiss / Trevillion Images
© Медведь О. М., перевод на русский язык, 2018
© Москвитина А. А., редактура, 2018
© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
***
Лучший feel good из Швеции!
Книга очаровала читателей в 28 странах!
«Написано с любовью, рассказано с радостью. Наслаждение и легкость на каждой странице».
Фредрик Бакман, писатель, автор книги «Вторая жизнь Уве»
***
Когда я была маленькой, у меня была тетушка Дорис. Она была одной из тех, кто всегда готов накормить тебя печеньем и обнять. А еще она рассказывала потрясающие истории о своем детстве и юности.
Однажды в ее доме я нашла старую адресную книгу, полную имен. Но большинство из них были зачеркнуты. Что стояло за ними? Возможно, истории большой любви или крепкой дружбы? Головокружительных путешествий или судьбоносных решений? Так появилась идея для этой книги.
Я много думала о значении любви. О семье и романтике. О страсти и одиночестве.
После выхода романа читатели писали мне, что книга вдохновила их навестить своих родных. Это настоящее счастье для меня и, могу поспорить, удивило и обрадовало бы Дорис!
Глава первая
Солонка. Таблетница. Пиала с леденцами для горла. Тонометр в овальном пластиковом футляре. Лупа и катушка красной кружевной тесемки, снятая с рождественской занавески и завязанная на три толстых узла. Телефон с очень большими кнопками. Старая красная книга с адресами в кожаной обложке, под потрепанными уголками – пожелтевшие страницы. Она тщательно раскладывает все на кухонном столе. Все должно быть в идеальном порядке. Никаких складок на светло-голубой выглаженной льняной скатерти.
Остановившись на минуту, она выглядывает на улицу – за окном дождь и слякоть.
Мимо спешат прохожие – с зонтами и без. Голые деревья. Лужи на улице присыпаны гравием, через который всё равно просачивается вода.
При виде белки, пробегающей по ветке, ее лицо озаряет улыбка. Она чуть наклоняется вперед, внимательно следя за размытыми движениями маленького создания. Пушистый хвост зверька покачивается из стороны в сторону, мелькая среди веток. А затем белка прыгает на дорогу и быстро исчезает, отправляясь навстречу новым приключениям.
Пора поесть, думает она, поглаживая живот. Берет лупу и дрожащей рукой подносит ее к золотым часам на запястье. Все еще слишком рано, и у нее не остается выбора, кроме как смириться. Она спокойно складывает руки на коленях и на мгновение закрывает глаза в ожидании знакомого звука от входной двери.
– Вы спите, Дорис?
Слишком громкий голос вырывает ее из сна. Она чувствует руку на своем плече, сонно пытается улыбнуться и кивнуть молодой сиделке, склонившейся над ней.
– Похоже, задремала. – Слова застревают в горле, и она его прочищает.
– Вот, попейте воды.
Сиделка ловко подает ей стакан, и Дорис делает несколько глотков:
– Спасибо… Извините, но я забыла ваше имя.
Снова другая девушка. Предыдущая ушла, решив вернуться к учебе.
– Дорис, это я, Ульрика. Как вы сегодня? – спрашивает она, но тут же отходит, не собираясь слушать ответ.
Да и Дорис не отвечает.
Она молча наблюдает за быстрыми передвижениями Ульрики по кухне. Смотрит, как та достает перец и убирает в кладовку солонку. После нее скатерть вся мятая.
– Никакой лишней соли, я же вам говорила, – ругается Ульрика, держа в руке контейнер с едой и строго глядя на Дорис.
Та со вздохом кивает, а Ульрика вскрывает упаковку. Соус, картофель, рыба и бобы – все, смешанное воедино, вываливается на коричневую керамическую тарелку. Ульрика ставит тарелку в микроволновку и устанавливает таймер на две минуты. Микроволновка начинает тихо жужжать, и по квартире медленно разносится запах рыбы. Пока подогревается еда, Ульрика берется за вещи Дорис: складывает газеты и стикеры неопрятной стопкой, достает из посудомоечной машины тарелки.
– На улице холодно? – Дорис снова смотрит в окно на сильную морось. Она уже и не помнит, когда в последний раз выходила за дверь. Было лето. А может, и весна.
– Да, уф, скоро здесь будет зима. Капли дождя сегодня похожи на кусочки льда. Я рада, что купила машину и теперь мне не надо ходить пешком. Я нашла место на вашей улице, прямо у двери. В пригороде, где я живу, найти парковку гораздо проще. Здесь же, в городе, это гиблое дело, но иногда везет. – Слова мелодично льются из уст сиделки, превращаясь в тихое напевание. В популярную песню, которую Дорис слышала по радио.
Ульрика уносится прочь. Убирается в спальне. Дорис слышит грохот и надеется, что та не столкнула вазу, расписанную вручную и столь любимую.
Возвращается Ульрика с перекинутым через руку платьем. Бордового цвета, шерстяным, с катышками на рукавах и свисающей с подола ниткой. Дорис пыталась оторвать ее, когда в последний раз надевала это платье, но из-за боли в спине не удалось дотянуться ниже колен. Она протягивает руку и старается поймать ее сейчас, но ловит лишь воздух, поскольку Ульрика вдруг резко поворачивается и вешает платье на спинку стула. Сиделка возвращается и начинает развязывать ночную сорочку Дорис. Аккуратно вытаскивает ее руки, и Дорис тихонько постанывает – от спины боль ударяет в плечи. Ей всегда больно, днем и ночью. Этакое напоминание о стареющем теле.
– Теперь вам нужно встать. Я подниму вас на счет «три», хорошо?
Ульрика обхватывает ее рукой, помогая подняться, и стягивает сорочку. Дорис остается стоять на кухне, в холодном свете дня, в одном лишь нижнем белье. Его тоже надо бы сменить. Она прикрывается рукой, когда расстегивается лифчик. Ее груди свободно устремляются к животу.
– Ох, бедняжка, вы замерзаете! Давайте отведем вас в ванную.
Ульрика берет ее за руку, и Дорис следует за ней осторожными, неуверенными шагами. Она чувствует, как покачиваются ее груди, и прижимает их одной рукой. В ванной теплее благодаря обогреву пола, спрятанному под плитками. Она скидывает тапки и наслаждается теплом под ступнями.
– Так, давайте наденем на вас это платье. Поднимите руки.
Она делает, как ей сказали, но может поднять руки лишь до груди. Ульрика борется с тканью и умудряется натянуть платье через голову. Когда Дорис снова может видеть ее, та улыбается:
– Ку-ку! Какой хороший цвет, он вам подходит. Не хотите еще накрасить губы? Может, добавить немного румян?
Косметика разложена на маленьком столике у раковины. Ульрика берет помаду, но Дорис качает головой и отворачивается.
– Когда будет готова еда? – спрашивает она по пути на кухню.
– Еда! Ах! Какая я идиотка, совсем о ней забыла. Придется снова разогревать.
Ульрика спешит к микроволновке, открывает дверцу, затем снова ее захлопывает, устанавливает таймер на одну минуту и нажимает старт. После чего наливает в стакан брусничный сок и ставит тарелку на стол. Дорис морщится, когда видит месиво, но голод заставляет ее поднести вилку ко рту.
Ульрика садится напротив с чашкой в руке. Хрупкий фарфор расписан вручную розовыми цветами. Дорис никогда ей не пользуется из страха разбить.
– Кофе – золото дня. – Ульрика улыбается. – Верно?
Дорис кивает, сосредоточив взгляд на чашке:
– Не урони ее.
– Наелись? – спрашивает Ульрика, после того как они какое-то время сидят в тишине.
Дорис кивает, и Ульрика поднимается, чтобы убрать тарелку. Затем возвращается с еще одной дымящейся чашкой кофе. В этот раз темно-синей, из Хёганеса.
– Вот и все. Теперь можем передохнуть, да? – Ульрика улыбается и снова садится. – Не погода, а один сплошной дождь. Кажется, он никогда не закончится. – Дорис только собирается ответить, как Ульрика продолжает: – Интересно, передавала ли я в ясли сменные колготки? Сегодня малыши наверняка промокнут. Не беда, у них, наверное, есть запасные, которые можно одолжить. Иначе я заберу угрюмого ребенка с голыми ногами. Всегда столько волнений из-за детей. Но, полагаю, вы знаете, каково это. Сколько у вас детей?
Дорис качает головой.
– О, совсем никого? Бедняжка, так к вам никто не ходит? Вы были замужем?
Напористость сиделки удивляет ее. Обычно они не задают ей таких вопросов – по крайней мере, не так бестактно.
– Но у вас же есть друзья? Которые иногда вас навещают? Во всяком случае, она выглядит довольно объемной. – Девушка указывает на записную книжку, лежащую на столе.
Дорис не отвечает. Она смотрит на фотографию Дженни в коридоре, которую сиделка ни разу не заметила. Дженни, которая так далеко от нее, но при этом всегда так близко в ее мыслях.
– Слушайте, – продолжает Ульрика, – мне нужно бежать. Можем поговорить об этом в следующий раз.
Ульрика загружает чашки в посудомоечную машину, даже ту, что расписана вручную. Затем в последний раз протирает стойку тряпкой, включает машину, и не успевает Дорис и глазом моргнуть, как та выбегает за дверь. Дорис наблюдает в окно, как Ульрика на ходу надевает пальто, а потом садится в маленькую красную машину с эмблемой местного муниципалитета на двери. Дорис шаркает до посудомоечной машины и ставит ее на паузу. Достает расписную чашку, осторожно ополаскивает ее по краном и прячет в самую глубь шкафа, позади креманок. Проверяет с разных углов – ее больше не видно. С удовлетворением садится обратно за стол и разглаживает скатерть. Все тщательно раскладывает. Таблетница, леденцы для горла, пластиковый футляр, лупа и телефон вернулись на свои законные места. Когда она тянется к записной книжке, ее рука замирает на мгновение. Она уже давно ее не открывала, но теперь, раскрыв, встречается взглядом со списком имен на первой странице. Все они зачеркнуты. На полях несколько раз помечено – «МЕРТВ».
А. Альм, Эрик
В течение всей жизни мы встречаем множество имен. Ты думала об этом, Дженни? Обо всех именах, которые появляются и исчезают. Которые разрывают наши сердца на куски и заставляют проливать слезы. Которые становятся любимыми или ненавистными. Я иногда пролистываю свою адресную книгу. Она стала чем-то вроде карты моей жизни, и я хочу рассказать тебе немного об этом. Чтобы ты – единственная, кто будет помнить меня, – запомнила еще и мою жизнь. Это что-то вроде завещания. Я передам тебе свои воспоминания. Они – самое прекрасное, что у меня есть.
Тысяча девятьсот двадцать восьмой год. Был мой день рождения, мне только что исполнилось десять. Едва увидев сверток, я поняла, что в нем лежит что-то особенное. Я поняла это по блеску в папиных глазах. Его темные глаза, обычно обращенные на что-то другое, внимательно следили за моей реакцией. Подарок был упакован в тонкую, красивую оберточную бумагу. Я провела по ней пальцами. Изящная поверхность, волокна переплетаются в причудливом узоре. И ленточка – плотная красная шелковая ленточка. Никогда прежде не видела такой красивой ленточки.
– Открывай, открывай! – Моя двухлетняя сестра Агнес в нетерпении нависла над столом, упираясь руками в скатерть, чем слегка раздосадовала нашу маму.
– Да, открой его сейчас! – Даже папа торопил меня.
Я погладила ленточку большим пальцем, а потом потянула за оба конца и развязала бант. Внутри оказалась записная книжка в блестящей красной коже, от которой резко пахло свежей краской.
– Ты можешь собрать здесь всех своих друзей, – папа улыбнулся, – всех, кого встретишь в жизни. Изо всех захватывающих мест, что ты посетишь. Чтобы никого не забыть.
Он взял у меня книгу и открыл ее. Под первой буквой алфавита он уже написал свое имя. Эрик Альм. А еще адрес и номер телефона своей мастерской. Номер, который недавно подключили и которым он так гордился. У нас дома до сих пор не было телефона.
Он был большим человеком, мой папа. Я имею в виду не физически. Совсем нет. Но казалось, для его таланта дом всегда был тесен, он словно постоянно уносился во внешний мир, к неизведанным местам. Мне часто казалось, что он не хотел находиться там, дома с нами. Он не находил радости в бытовых мелочах, не наслаждался повседневной жизнью. Он жаждал знаний и заполнил наш дом книгами. Не помню, чтобы он особо много разговаривал, даже с моей мамой. Просто сидел со своими книгами. Иногда я забиралась к нему на колени, когда он сидел в кресле. Он не возражал, лишь сдвигал меня в сторону, чтобы я не заслоняла слова и картинки, так захватывавшие его. От отца сладко пахло древесиной, а его волосы всегда были покрыты тонким слоем опилок, от чего казались седыми. Его руки были грубыми и потрескавшимися. Каждый вечер он смазывал их вазелином, а потом ложился спать в хлопковых перчатках.
Мои руки. Я с осторожностью держалась ими за его шею. Мы сидели там в нашем собственном мирке. Я следовала за его мысленным путешествием, когда он переворачивал страницу. Он читал о разных странах и культурах, втыкал булавки в огромную карту мира, которую прибил к стене. Словно бывал в этих местах. Когда-нибудь, говорил он, когда-нибудь он увидит большой мир. А затем он добавил номера к булавкам. Единицы, двойки и тройки. Определяя приоритет посещения различных мест. Наверное, ему больше подошла бы жизнь исследователя.
Если бы не мастерская его отца. Наследство, за которым нужно присматривать. Долг, который нужно выполнять. Он покорно шел в мастерскую каждое утро, даже после смерти дедушки, и вставал рядом со своим учеником в этом не менявшимся с годами помещении, вдоль стен которого тянулись штабеля досок, резко пахнувшие скипидаром и растворителем для лака. Нам, детям, обычно не разрешалось туда входить – мы лишь наблюдали с порога. Снаружи по темно-коричневым деревянным стенам вились белые розы. Когда лепестки опадали на землю, мы собирали их и окунали в миску с водой, так мы изготавливали собственные духи, которыми потом брызгали на шеи.
Я помню груды наполовину завершенных столов и стульев, опилки и древесную стружку повсюду. Крючки с инструментами на стене: зубилами, пилами, плотницкими ножами, молотками. Все находилось на своем месте. И мой папа рассматривал это все, стоя за столярным столом. Карандаш заткнут за ухо, на нем плотный фартук из потрескавшейся коричневой кожи. Он всегда работал дотемна – и зимой, и летом. А после возвращался домой. Домой, к своему креслу.
Папа. Его душа все еще здесь, во мне. Под кучей газет на стуле, что сделал он, с сиденьем, обитым моей мамой. Ему лишь хотелось увидеть мир. А получилось только оставить свой след в четырех стенах нашего дома. Сделанные вручную статуэтки, кресло-качалка с изысканной резьбой, которое он сделал для мамы. Деревянные украшения, которые он кропотливо вырезал сам. Полка, на которой до сих пор стоит несколько его книг. Мой папа.
Глава вторая
Даже незначительные движения теперь требуют столько же энергии, сколько нужно для физических нагрузок. Она передвигает ноги вперед на несколько миллиметров и делает паузу. Кладет руки на подлокотники. Сначала одну, потом вторую. Пауза. Опирается на пятки. Хватается за подлокотник одной рукой, а другую кладет на кухонный стол. Раскачивается, чтобы поймать определенный момент. У стула, на котором она сидит, высокая мягкая поддержка для спины, а на его ножках – пластиковые накладки, приподнимающие его на несколько сантиметров. Но все равно ей требуется много времени, чтобы встать на ноги. Удается лишь с третьей попытки. После этого приходится постоять пару секунд, опустив голову и опираясь обеими руками на стол, чтобы перестала кружиться голова.
Такие упражнения случаются каждый день. Прогулка по маленькой квартире. По коридору из кухни, вокруг дивана в гостиной с остановкой у окна, чтобы собрать опавшие с красной бегонии листья. Затем в спальню, к писательскому уголку. К компьютеру, который стал для нее так важен. Она осторожно садится на еще один стул с пластиковыми подножками. Благодаря им стул такой высокий, что ей едва удается протиснуться между сиденьем и столешницей. Она поднимает крышку ноутбука и слышит тихое знакомое урчание оживающего жесткого диска. Щелкает по иконке Internet Explorer на экране, и ее взору открывается интернет-версия газеты. Каждый день она не устает восхищаться тем, что в этом маленьком устройстве существует целый мир. Что она, одинокая женщина из Стокгольма, если захочет, может поддерживать связь с людьми из разных стран. Ее дни наполнены технологиями. Благодаря этому ожидание смерти становится чуть более терпимым. Она сидит здесь каждый день, временами даже ранним утром или поздней ночью, когда совсем не может уснуть. Ее предыдущая сиделка, Мария, показала ей, как все это работает. Скайп, Фейсбук, электронная почта. Она говорила, что никогда не поздно научиться чему-то новому. Дорис согласилась с этим и добавила, что никогда не поздно реализовать свои мечты. Вскоре после этого Мария предупредила о своем уходе и желании вернуться к учебе.
Ульрику, кажется, это не интересует. Она ни словом не обмолвилась про компьютер и никогда не спрашивала, чем занимается Дорис. Просто мимоходом стирает с него пыль, пока бегает по комнате, мысленно прокручивая список дел. Но, может, она есть в Фейсбуке? Похоже, там можно найти многих. Даже у Дорис есть аккаунт, его создала Мария. А еще у нее три друга. Мария – одна из них. А также замечательная племянница Дженни из Сан-Франциско и ее старший сын Джек. Она периодически проверяет, как они живут, просматривает фотографии и события из другого мира. Иногда даже знакомится с жизнью их друзей. У которых открыты профили.
С пальцами у нее пока нет проблем. Да, они реагируют медленнее, чем раньше, и иногда начинают болеть, вынуждая ее взять передышку. Она пишет, чтобы собрать воедино свои воспоминания. Чтобы составить общее представление о прожитой ею жизни. Она надеется, что именно Дженни найдет это все потом, когда Дорис умрет. Что именно она прочитает и с улыбкой посмотрит на фотографии. Что Дженни унаследует все ее красивые вещи: мебель, картины, расписанную вручную чашку. Их же не выкинут? Она вздрагивает от этой мысли, подносит пальцы к клавиатуре и начинает писать, чтобы отвлечься. Сегодня она пишет: «Снаружи по темно-коричневым деревянным стенам вились белые розы». Одно предложение. А потом появляется чувство покоя, и она окунается в свои воспоминания.
А. Альм, Эрик МЕРТВ
Дженни, ты хоть раз слышала полный отчаяния вой? Вопль, рожденный из безысходности? Крик из самого сердца, который пробирает каждую клеточку, который никого не оставляет равнодушным? Я за всю свою жизнь немало их слышала, но каждый напоминал мне о самом первом и самом ужасном.
Он донесся с внутреннего дворика. Там стоял он. Папа. Его крик отражался от каменных стен, с его руки лилась кровь, окрашивая красным заиндевевшую траву. В его запястье застряло сверло. Его крик стих, и он повалился на землю. Мы сбежали по ступенькам и высыпали во дворик, к нему, нас было много. Мама обвязала его запястье передником и подняла его руку вверх. А когда она звала на помощь, ее крик был таким же громким, как и его. Папино лицо было пугающе белым, губы посинели. Дальше все происходило как в тумане. Мужчины вынесли его на улицу. Машина забрала его и увезла.
На деревянной стене осталась одна высохшая белая роза, скованная морозом. Когда все разошлись, я осталась сидеть на земле и смотрела на нее. Эта роза выжила. И я молилась Богу, чтобы выжил и папа.
Последовали дни томительного ожидания. Мама каждый день собирала остатки завтрака – кашу, молоко и хлеб – и направлялась в больницу. Часто она возвращалась домой с нетронутым пайком.
Однажды она пришла, а его одежда свисала из корзинки, все еще полной еды. Ее глаза были опухшими и красными от слез. Такими же красными, как папина зараженная кровь.
Все остановилось. Жизнь подошла к концу. Не только для папы, но и для всех нас. Его полный отчаяния крик, раздавшийся тем морозным ноябрьским утром, положил жестокий конец моему детству.
С. Серафин, Доминик
Слезы по ночам были моими, но настолько ранили мою душу, что иногда я просыпалась с чувством, что проплакала всю ночь. Как только мы ложились спать, мама садилась в кресло-качалку на кухне, и я привыкла засыпать под ее рыдания. Она шила и плакала; звуки ее рыданий накатывали как волны, разносились по комнате, проникали сквозь стены и потолок к нам, детям. Она думала, что мы спали.
Но это не так. Я слышала, как она всхлипывала, шмыгала носом и глотала слезы. Чувствовала ее отчаяние из-за того, что она осталась одна и больше не могла жить спокойно в папиной тени.
Я тоже по нему скучала. Он больше никогда не сядет в свое кресло, не погрузится в книгу. Я не смогу забраться на его колени и последовать за ним в его мир. Из моего детства я помню лишь папины объятия – и ничьи больше.
Эти месяцы были сложными. Каша на завтрак и обед становилась все более водянистой. Ягоды, что мы собирали в лесу и сушили, начали заканчиваться. Однажды мама застрелила папиным ружьем голубя. Его хватило на жаркое, и мы впервые после папиной смерти наелись, наши щеки впервые раскраснелись от сытости, и мы впервые смеялись. Но этот смех вскоре прекратится.
– Ты старшая и теперь сама должна о себе заботиться, – сказала мама, вкладывая клочок бумаги в мою руку.
Я заметила блеснувшие в ее зеленых глазах слезы, но потом она отвернулась и принялась лихорадочно протирать мокрой тряпкой тарелки, из которых мы только что ели. Кухня, в которой мы тогда стояли, стала неким музеем воспоминаний о моем детстве. Я помню все, каждую деталь. Синюю юбку, которую она шила, повешенную на стул. Жаркое и пену, которая убегала во время готовки и засыхала на боку кастрюли. Одинокую свечу, тускло освещавшую комнату. Мамины движения между раковиной и столом. Ее платье, колыхающееся между ног, когда она двигалась.
– Что ты имеешь в виду? – выдавила я. Она замерла, но не повернулась. – Ты меня выгоняешь? – продолжила я.
Нет ответа.
– Скажи что-нибудь! Ты меня выгоняешь?
Она посмотрела на раковину:
– Ты уже выросла, Дорис, и должна понять. Я нашла тебе хорошую работу. И, как видишь, недалеко отсюда. Мы все еще сможем видеться.
– А как же школа?
Мама подняла голову и посмотрела вперед.
– Папа никогда не позволил бы тебе забрать меня из школы. Не сейчас! Я не хочу! – прокричала я ей.
Агнес беспокойно скулила в своем стульчике.
Я рухнула за стол и разразилась слезами. Мама села рядом и положила ладонь, все еще холодную и мокрую после мытья посуды, на мой лоб.
– Пожалуйста, не плачь, моя милая, – прошептала она, прижимаясь головой ко мне.
Было так тихо, что я почти что слышала, как огромные слезы катились по ее щекам и смешивались с моими.
– Ты можешь каждое воскресенье возвращаться домой, это твой выходной.
Ее успокаивающий шепот превратился в тихое бормотание. И я заснула в ее руках.
На следующее утро я осознала жестокую и неопровержимую истину: меня выгоняли из собственного дома и безопасного мира в неизвестность. Я без протеста взяла мешок с одеждой, протянутый мне мамой, но не смогла посмотреть в ее глаза, когда мы прощались. Обняла свою младшую сестренку и ушла, не произнеся ни слова. В одной руке я несла мешок, а во второй – три папины книги, перевязанные бечевкой. На клочке бумаги, лежащем в кармане пальто, маминым витиеватым почерком было написано имя: Доминик Серафин. Далее несколько четких указаний: Безупречный реверанс. Говори правильно. Я медленно брела по улицам Сёдермальма в сторону адреса, указанного под именем: Бастугатан, 5. Именно там я найду свой новый дом.
Дойдя до места, я ненадолго замерла у современного здания. Большие красивые окна в красных оконных рамах. Фасад сделан из камня, а во двор даже вела асфальтовая дорожка. Этот дом очень сильно отличался от простого, видавшего виды деревянного дома, в котором я жила до этого момента.
На пороге показалась женщина. В блестящих кожаных туфлях и ослепительно-белом платье без выраженной талии. Бежевая шляпа-колокол была натянута на уши, а с руки свисала небольшая кожаная сумочка такого же оттенка. Я стыдливо пригладила собственную поношенную шерстяную юбку длиной до колен и задумалась, кто же откроет мне дверь, когда я постучу. Доминик – это мужчина или женщина? Откуда мне знать, ведь я никогда раньше не слышала этого имени.
Я медленно шла вперед, останавливаясь на каждой отполированной мраморной ступеньке. Поднялась на два этажа. Двойные двери из темного дуба были выше любых виденных мной ранее дверей. Я шагнула вперед и подняла дверной молоток – голову льва. Стук прозвучал тихо, и я посмотрела прямо в глаза льва. Дверь открыла женщина в черном и присела в реверансе. Я принялась разворачивать записку, но не успела – появилась другая женщина. Дама в черном отступила и с прямой спиной встала у стены.
Темно-рыжие волосы второй женщины были заплетены в две длинные косы, убранные в большой пучок на затылке. На шее бусы из белого неоднородного жемчуга. Ее платье было сшито из блестящего изумрудно-зеленого шелка, с рукавами в три четверти и плиссированной юбкой, которая шелестела при движении. Я сразу поняла, что она богата. Женщина оглядела меня с головы до ног, затянулась сигаретой в длинном черном мундштуке и выпустила дымок в потолок.
– Так, и что тут у нас? – сказала она с сильным французским акцентом и хриплым от курения голосом. – Какая прелестная девушка. Можешь остаться. Проходи, проходи.
После чего развернулась и исчезла в квартире. Я осталась стоять на коврике в коридоре, с мешком передо мной. Женщина в черном кивнула, чтобы я следовала за ней. Она провела меня через кухню в смежную комнату прислуги, где рядом с двумя другими стояла хлипкая кровать, которая станет моей. Я положила мешок на кровать. Без подсказки взяла лежащее на ней платье и надела его. Тогда я не знала, что буду самой младшей из трех служанок и мне отдадут всю ту работу, от которой отказывались другие.
Я присела на краешек кровати и ждала. Ноги вместе, руки крепко сжаты на коленях. Все еще помню то чувство одиночества, что охватило меня в той комнате, – я не понимала, где оказалась или что меня ожидало. Стены были пустыми, с пожелтевшими обоями. Рядом с каждой кроватью стояла небольшая тумбочка со свечой в подсвечнике. Две наполовину прогоревшие, одна новая с восковым фитилем.
Очень скоро я услышала громкие шаги и шуршание юбки. Мое сердце колотилось. Она остановилась у порога, а я даже не посмела взглянуть на нее.
– Вставай, когда я вхожу в комнату. Вот так. Спину прямо.
Я поднялась, и она сразу потянулась к моим волосам. Ее тонкие холодные пальцы задвигались по моей голове; она вытянула шею и подошла ближе, просматривая каждый миллиметр моей кожи:
– Красивая и чистая. Это хорошо. У тебя же нет вшей?
Я покачала головой. Она продолжила обследовать меня, прядь за прядью поднимая волосы.
Ее пальцы сместились за мое ухо, и я почувствовала, как ее длинные ногти царапают кожу.
– Вот здесь они обычно живут, за ухом. Ненавижу мерзких ползучих тварей, – пробормотала она и вздрогнула всем телом.
Луч солнечного света пробился в окно, ярко освещая добротный пушок на ее лице, покрытом слоем светлой пудры.
Квартира была большой и полной произведений искусства, скульптур и красивой мебели из темного дерева. Пахло сигаретным дымом и чем-то еще, что я не смогла определить. Днем всегда было тихо и спокойно. Жизнь была добра к ней, и ей не пришлось работать – денег и так хватало. Я не знала, откуда она брала деньги, но иногда представляла себе ее мужа, которого она держала взаперти где-то на чердаке.
По вечерам часто приходили гости. Женщины в красивых платьях и бриллиантах. Мужчины в костюмах и шляпах. Они заходили прямо в обуви и разгуливали по гостиной, словно по ресторану. Воздух наполнялся дымом и разговорами на английском, французском и шведском.
Эти вечера открыли мне то, что я прежде не знала. Равная оплата труда женщин, право на образование. Философия, искусство и литература. И новые нормы поведения. Громкий смех, яростные споры и целующиеся прилюдно у эркерных окон и в углах парочки. Разительная перемена.
Я, сгорбившись, ходила по комнате, собирая бокалы и вытирая разлитое вино. Ноги на высоких каблуках нетвердо перемещались по комнатам; блестки и павлиньи перья опадали на пол и застревали между широкими деревянными панелями. Приходилось лежать на них до раннего утра, отскабливая маленьким кухонным ножом все до последнего следы празднества. К пробуждению мадам все должно быть в идеальном порядке. Мы усердно работали, она каждое утро ожидала увидеть свежевыглаженные скатерти. Столы должны сверкать, а бокалы быть чистыми от следов пальцев многочисленных гостей. Мадам всегда спала до позднего утра, но когда выходила из своей спальни, то совершала обход квартиры, поочередно проверяя каждую комнату. И если что-то находила, именно меня во всем обвиняли. Всегда самую младшую. Я быстро поняла, что она отмечала, и до ее пробуждения совершала дополнительный круг по квартире, исправляя то, что другие сделали неправильно.
Нескольких часов сна на твердом матрасе из конского волоса всегда оказывалось недостаточно. Мое тело постоянно уставало от долгих дней, проведенных в черной униформе, швы которой раздражали кожу. И от иерархии и пощечин. И мужчин, которые приставали ко мне.
Н. Нильссон, Йёста
Я привыкла, что время от времени кто-то засыпал, выпив лишнего. Моя работа – разбудить и отправить восвояси. Но этот мужчина не спал. Он смотрел прямо перед собой. Слезы медленно стекали по его щекам, одна за другой, а взгляд сосредоточился на кресле, в котором спал другой мужчина – молодой, с ореолом золотисто-каштановых волос. Рубашка молодого мужчины была расстегнута, открывая взору пожелтевшую майку. На его загорелой груди я увидела неровный рисунок якоря, выполненный зеленовато-черными чернилами.
– Вы расстроены, извините, я…
Он отвернулся и, опустив плечо на кожаный подлокотник, теперь почти распластался поперек кресла.
– Любовь невозможна, – проговорил несвязно он, обводя взглядом пустую комнату.
– Вы пьяны. Пожалуйста, сэр, поднимайтесь, вам нужно уйти до пробуждения мадам.
Я пыталась говорить твердым голосом. Он схватил меня за руку, когда я попробовала его поднять:
– Вы разве не видите, мисс?
– Не вижу чего?
– Что я страдаю!
– Да, я вижу это. Идите домой и отоспитесь, тогда вам станет немного легче.
– Позвольте посидеть здесь и посмотреть на это совершенство. Позвольте насладиться этой пагубной связью.
Он совсем запутался в своих словах, пытаясь передать свое настроение. Я покачала головой.
Это была первая встреча с этим деликатным мужчиной, но определенно не последняя. Когда в квартире становилось пусто и новый день опускался на крыши Сёдермальма, он часто задерживался, блуждая в своих мыслях. Его звали Йёста. Йёста Нильссон. Он жил дальше по улице, в доме 25.
– Ночью можно мыслить ясно, юная Дорис, – говорил он, когда я просила его уйти.
А потом он, пошатываясь, выходил в ночь, сутулясь и опустив голову. Его головной убор всегда сидел криво, а драное старое пальто было настолько большим, что свисало с одного бока, словно у него кривая спина. Он был красив. Лицо часто загорелое, классические черты – прямой нос и тонкие губы. Его глаза были полны доброты, но он, как правило, грустил. Его страсть к жизни иссякла.
И лишь через несколько месяцев я узнала, что он – художник, которого боготворила мадам. Его картины висели на стенах ее спальни, огромные полотна пестрели ярко раскрашенными квадратами и треугольниками. Без какой-либо тематики, только хаос цветов и размеров. Как будто ребенок играл с кисточкой и краской. Мне они не понравились. Совсем. Но мадам все покупала их и покупала. Потому что так делал принц Ойген. И из-за того, что в этой сюрреалистической современности наблюдалась безудержная энергия, которую больше никто не понимал. Она ценила, что он, как и она, был белой вороной в этом обществе.
Именно мадам научила меня тому, что люди имеют различные формы. Что то, чего ожидают от нас, не всегда верно, что в путешествии к смерти существует множество путей. Что мы можем оказаться на сложном перепутье, но дорога все равно может выправиться. И что повороты совсем не опасны.
Йёста всегда задавал много вопросов.
– Предпочитаете красный или синий?
– Какую страну вы бы выбрали при возможности поехать куда угодно?
– Сколько конфет ценой в один эре можно купить на одну крону?
После этого последнего вопроса он всегда кидал мне крону. Подбрасывал ее в воздух большим пальцем, и я с улыбкой ловила ее.
– Потрать ее на что-нибудь сладкое, обещай мне.
Он видел, что я маленькая. Что все еще ребенок. И никогда не тянулся к моему телу, как это делали другие мужчины. Никогда не комментировал мои губы или растущую грудь. Иногда даже тайком помогал мне: собирал бокалы и относил их в коридор между столовой и кухней. Когда это замечала мадам, я всегда получала пощечину. Ее широкое золотое кольцо оставляло на моих щеках красные царапины. Я скрывала их щепоткой муки.
Глава третья
– Привет, тетя Дорис!
Ребенок улыбается и бойко машет, да так близко к экрану, что видны лишь кончики его пальцев и глаза.
– Привет, Дэвид!
Она машет в ответ, а потом подносит руку ко рту, чтобы отправить воздушный поцелуй. В этот самый момент камера смещается вбок, и ее поцелуй ловит мама ребенка. Дорис улыбается, заслышав смех Дженни. Он заразителен.
– Дорис! Как ты? Тебе одиноко?
Дженни склоняет голову и придвигается настолько близко к камере, что видны лишь глаза.
Дорис смеется:
– Нет, нет, не волнуйся за меня. – Она качает головой. – У меня же есть вы. И девочки, которые приходят каждый день. Лучше и быть не может.
– Это действительно так? – Дженни смотрит на нее с подозрением.
– Истинная правда! А теперь давай поговорим о тебе. Чем занимаешься? Как дела с книгой?
– Ох, нет, не начинай об этом сейчас. У меня нет времени писать, уж дети об этом позаботились. Не понимаю, почему ты всегда заводишь об этом разговор. Почему это так важно?
– Потому что ты этого хочешь, ты всегда хотела писать. Меня не обдуришь. Попытайся найти время.
– Да, возможно, однажды. Но сейчас дети важнее всего. Слушай, давай я тебе кое-что покажу. Тайра вчера сделала свои первые шаги, посмотри, какая она милая.
Дженни поворачивает камеру на младшую дочь, которая пожевывает уголок журнала, сидя на полу. Она хнычет, когда Дженни поднимает ее. Отказывается стоять и плюхается на попу, как только ее ноги касаются пола.
– Ну же, Тайра, пожалуйста, иди. Покажи тете Дорис. – Она пытается снова, в этот раз на шведском. – Вставай, покажи, что ты умеешь.
– Отстань ты от нее. Когда тебе год, журналы намного интереснее старушки на другом конце света. – Дорис улыбается.
Дженни вздыхает. Перемещается на кухню с ноутбуком в руках.
– Ты сделала ремонт?
– Да, я разве не рассказывала? Хорошо смотрится, правда?
Она крутится на месте с ноутбуком, отчего мебель расплывается, превращаясь в одни лишь смазанные линии.
Дорис взглядом следит за комнатой:
– Очень мило. Ты разбираешься в интерьере, так было всегда.
– Ох, я даже не знаю. Вилли думает, что много зеленого.
– А ты думаешь..?
– А мне нравится. Нравится бледно-зеленый. Такого же цвета была мамина кухня, помнишь? В той маленькой квартирке в Нью-Йорке.
– Это же было не в Нью-Йорке?
– Там, в кирпичном доме, помнишь? Где в малюсеньком саду росла слива.
– Ты имеешь в виду Бруклин? Да, помню. А большой обеденный стол совсем туда не вписывался.
– Да, точно! Я совершенно об этом забыла. Мама отказывалась отдавать его при разводе с тем юристом, поэтому пришлось распилить его пополам, чтобы вместить в комнату. Он стоял очень близко к стене, и мне приходилось втягивать живот, чтобы сесть.
– Да, ну и ну, тот дом был полон безумия. – Дорис улыбается при этом воспоминании.
– Жаль, ты не сможешь приехать на Рождество.
– Да, мне тоже. Прошло столько времени. Но моя спина совсем плоха. И сердце тоже. Вероятно, моим путешествиям пришел конец.
– Я все равно продолжу надеяться. Скучаю по тебе. – Дженни поворачивает ноутбук к стойке и встает спиной к Дорис. – Извини, но мне нужно быстренько приготовить.
Она достает хлеб и масло, поднимает хнычущую Тайру и опирает ее о бедро.
Дорис терпеливо ждет, пока она намазывает масло на хлеб.
– Ты кажешься уставшей. Вилли тебе помогает? – спрашивает она, когда Дженни возвращается к экрану.
Тайра теперь сидит на ее коленях и прижимает к лицу бутерброд. Масло размазывается по ее щекам, и она тянется к нему языком. Дженни поддерживает дочь одной рукой, а второй отпивает большой глоток из стакана с водой.
– Он очень старается. Но, знаешь, у него сейчас много работы. Времени совершенно нет.
– А как дела у вас двоих, есть время друг на друга?
Дженни пожимает плечами:
– Почти никогда. Но становится лучше. Просто надо пережить эти детские годы. Он молодец, многое берет на себя. Нелегко содержать целую семью.
– Попроси у него помощи. Чтобы самой немного отдохнуть.
Дженни кивает. Целует Тайру в голову. И меняет тему разговора:
– Я действительно не хочу, чтобы ты одна праздновала Рождество. Кто-нибудь может отметить с тобой? – Дженни улыбается.
– Не волнуйся за меня, я часто встречаю Рождество одна. Тебе и так есть о чем думать. Главное, постарайся, чтобы дети хорошо провели Рождество, и я буду счастлива. Это же детский праздник. Погоди, я поздоровалась с Дэвидом и Тайрой, а где Джек?
– Джек! – громко кричит Дженни, но никто не отвечает.
Она разворачивается, и бутерброд Тайры падает на пол. Малышка начинает плакать.
– ДЖЕК!
У нее краснеет лицо. Она качает головой и поднимает бутерброд с пола. Дует на него и отдает Тайре.
– Он безнадежен. Он наверху, но… Я не понимаю его. ДЖЕК!!!
– Он растет. А ты сама-то себя помнишь подростком?
– Помню ли я? Нет, не помню. – Дженни смеется и прикрывает руками глаза.
– Ох да, ты была диким ребенком. Но посмотри, какой выросла. С Джеком тоже все будет хорошо.
– Надеюсь, ты права. Иногда быть родителем совсем не весело.
– Все приходит с опытом, Дженни. Так и должно быть.
Дженни разглаживает свою белую кофту, замечает пятно от масла и пытается оттереть его:
– Уф, это единственная чистая кофта. И что мне теперь надеть?
– Его даже не видно. Эта кофта тебе идет. Ты всегда такая красивая!
– У меня сейчас вообще нет времени наряжаться. Не знаю, как это делают наши соседки. У них тоже есть дети, но они все равно выглядят идеально. Помада, завитые волосы, каблуки. Если бы я все это использовала, то к концу дня выглядела бы как дешевая проститутка.
– Дженни! Ты плохо о себе думаешь. Когда я смотрю на тебя, то вижу естественную красоту. Ты получила ее от мамы. А она от моей сестры.
– Ты единственная в свое время была настоящей красоткой.
– В один момент времени, возможно. Мы обе должны быть счастливы, не думаешь?
– Когда я прилечу в следующий раз, ты должна мне снова показать фотографии. Мне никогда не надоест смотреть на тебя и бабушку, когда вы были молоды.
– Если доживу.
– Нет, прекрати! Ты не умрешь. Ты должна быть здесь, моя дорогая Дорис, должна быть…
– Ты уже большая, чтобы понимать, что все крутится вокруг смерти, разве не так, моя любимая? Мы все умрем, уж в этом можно быть совершенно уверенным.
– Уф. Пожалуйста, прекрати. Я должна идти, у Джека тренировка. Если подождешь, сможешь поговорить с ним, когда он спустится. Пообщаемся на следующей неделе. Береги себя.
Дженни переносит ноутбук на скамейку в коридоре и снова зовет Джека. В этот раз он спускается после ее первой попытки. На нем футбольная форма, плечи широкие, как дверной проем. Он сбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, не отрывая взгляда от пола.
– Поздоровайся с тетей Дорис, – твердым голосом произносит Дженни.
Джек поднимает голову и кивает в сторону маленького экрана, откуда с любопытством смотрит Дорис.
Она машет:
– Привет, Джек, как ты?
– Ja, я в порядке, – отвечает он на смеси шведского и английского. – Пора идти. Hej då1, Дорис!
Она подносит руку ко рту, чтобы отправить воздушный поцелуй, но Дженни уже отключилась.
Яркий день Сан-Франциско, полный болтовни, детей, смеха и криков, сменяется темнотой и одиночеством.
И молчанием.
Дорис закрывает ноутбук. Смотрит с прищуром на часы над диваном, маятник которых с глухим тиканьем покачивается из стороны в сторону. Она раскачивается вперед-назад вместе с маятником. Встать не получается, поэтому она остается сидеть, чтобы собраться с силами. Кладет обе руки на край стола и готовится к следующей попытке. В этот раз ноги подчиняются, и она делает пару шагов. И в этот момент слышит грохот входной двери.
– Ах, Дорис, делаете упражнения? Приятно видеть. Но здесь так темно!
Сиделка вбегает в квартиру. Включает везде свет, поднимает вещи, грохочет, разговаривает. Дорис шаркает на кухню и садится на ближайший к окну стул. Не спеша выравнивает вещи на столе. Передвигает, чтобы солонка оказалась за телефоном.
Н. Нильссон, Йёста
Йёста был очень противоречивым человеком. Ночью и в ранние утренние часы – хрупким, полным слез и сомнений. Но по вечерам, предшествующим этим моментам, он отчаянно нуждался во внимании. Он жил за счет него. Ему нужно было выделяться. Он забирался на стол и начинал петь. Смеялся громче остальных. Кричал, когда разнились мнения о политике. Он с радостью говорил о безработице и избирательном праве для женщин. Но чаще всего говорил об искусстве. О божественной сути процесса Сотворения. Чего никогда не поймут ненастоящие художники. Я однажды спросила его, откуда ему известно, что он сам – настоящий художник. Откуда ему известно, что все не иначе? Он больно ущипнул меня за бок и подверг долгой тираде о кубизме, футуризме и экспрессионизме. Мой непонимающий взгляд вызвал у него звонкий смех.
– Ты однажды поймешь, юная леди. Форма, линия, цвет. С их помощью можно создавать новые миры, разве это не божественный удел?
Думаю, ему нравилось, что я не понимала. Со мной было проще, ведь я не воспринимала его всерьез и не могла возразить ему, как другие. Мы словно делили один секрет на двоих. Могли ходить бок о бок по квартире, он следовал за мной и порой ускорял шаг, чтобы не отставать. Потом шептал: «У юной леди, без сомнений, самые зеленые глаза и самая потрясающая улыбка, что я когда-либо видел», и у меня всегда краснело лицо. Он всегда хотел сделать мне приятно. В этом чужом мире он стал моей поддержкой. Заменой мамы и папы, по которым я так сильно скучала. Он всегда искал мой взгляд, как только входил, словно хотел проверить, в порядке ли я. И задавал вопросы. Это так странно – некоторые чувствуют особое притяжение друг к другу. Именно так было у нас с Йёстой. Со временем он стал мне другом, и я всегда с нетерпением ждала его визитов. Он будто мог слышать мои мысли.
Изредка он приходил с компанией. Чаще всего это был какой-то молодой, крепкий, загорелый мужчина, далекий в плане стиля и такта от культурной элиты, что обычно посещала вечеринки мадам. Эти мужчины обычно сидели молча в своих креслах и ждали, пока Йёста бокал за бокалом поглощал красное вино. Они всегда внимательно вслушивались в разговоры, но никогда не присоединялись.
Однажды я увидела их вместе. Была поздняя ночь, и я вошла в комнату мадам, чтобы взбить ее подушки перед тем, как она отправится спать. Мужчины стояли близко друг к другу, лицом к лицу, перед картиной Йёсты, приставленной к кровати мадам. Рука Йёсты лежала на бедре молодого мужчины. Но при виде меня он отдернул ее, словно обжегся. Никто ничего не сказал, но Йёста поднес палец ко рту и посмотрел мне прямо в глаза. Я взбила подушки одной рукой, а потом вышла из комнаты. Друг Йёсты вскоре исчез в коридоре и ушел. Он так и не вернулся.
Сейчас говорят, безумие и творчество идут рука об руку. Что самые талантливые из нас – те, кто находится на краю депрессии или потери рассудка. Тогда никто так не считал. Тогда считалось дурным тоном грустить без причины. Об этом не говорили. И все были счастливы. Даже мадам с ее безупречным макияжем, гладкими волосами и сверкающими драгоценностями. Никто не слышал ее отчаянные крики по ночам, раздававшиеся, как только в квартире становилось тихо и она оставалась наедине со своими мыслями. Возможно, она закатывала вечеринки, чтобы отгонять эти мысли.
Йёста посещал их по той же причине. Одиночество выгоняло его из квартиры, в которой нераспроданные полотна громоздились у стен как навязчивое напоминание о его нищете. Он часто предавался трезвой меланхолии, которую я заприметила в нашу первую встречу. Когда это случалось, он не двигался с места, пока я не выгоняла его. Он всегда хотел вернуться в свой Париж. К хорошей жизни, которую он так сильно любил. К своим друзьям, искусству, вдохновению. Но у него не было денег. Мадам обеспечивала его дозой французскости, необходимой для выживания. Небольшими порциями за раз.
– Я больше не могу рисовать, – вздохнул он однажды вечером.
Я не знала, как отреагировать на его угрюмое состояние.
– Почему вы так говорите?
– Я двигаюсь в никуда. Больше не вижу картины. Не вижу жизнь в четких цветах. Не так, как раньше.
– Я ничего не понимаю. – Я выдавила улыбку. И потерла рукой его плечо.
Что я понимала? Тринадцатилетняя девочка? Ничего. Я ничего не знала о мире. Ничего об искусстве. Я считала картину красивой, если она изображала реальность, как она есть. А не через искаженные разноцветные квадраты, которые, в свою очередь, образовывали такие же искаженные фигуры. Я сочла истинным везением, что он больше не мог создавать эти ужасные картины, которые мадам складывала в своем гардеробе, чтобы он заработал на кусок хлеба. Но позже обнаружила, что останавливаюсь у его картин с метелкой из перьев в руках. Смешению цветов и мазков кисти периодически удавалось привлечь мое воображение, расшевелить его. Я всегда видела что-то новое. А со временем научилась любить это чувство.
С. Серафин, Доминик
Она была неугомонной. Я слышала это от других девочек. Вечеринки отвлекали ее от каждодневной жизни, бурная деятельность не давала заскучать. Перемены в ее жизни всегда были неожиданными, непредсказуемыми. И для них всегда находилась причина. Она нашла новую квартиру – больше по размеру, лучше и в районе с более высоким статусом.
Почти через год после нашего первого знакомства она вошла на кухню. Прислонилась бедром и плечом к кирпичной кладке дровяной печи. Одной рукой она поигрывала то с полями шляпы, то с ремешком под подбородком, то с бусами или кольцами. Нервно, словно это она горничная, а мы ее хозяйки. Словно была ребенком, который собирался попросить у взрослого печенье. Мадам, которая обычно стояла прямо, высоко подняв голову. Мы присели в реверансе, и, вероятно, все подумали об одном и том же: что потеряем свою работу. Нищета нас пугала. Благодаря мадам еда у нас была в избытке, и наша жизнь, несмотря на тяжелые рабочие дни, была хорошей. Мы стояли молча, сложив руки на передниках и тайком бросая на нее взгляды.
Она колебалась. Смотрела на нас по очереди, будто должна была принять решение, которое принимать не хотела.
– Париж! – в итоге воскликнула она, раскинув руки в стороны.
Небольшая ваза с каминной полки пала жертвой ее внезапной эйфории. Маленькие осколки рассыпались по полу. Я сразу же нагнулась.
Комната погрузилась в тишину. Я почувствовала на себе ее взгляд и подняла голову.
– Дорис. Пакуй вещи, мы уезжаем завтра. Остальные могут отправляться по домам, я в вас больше не нуждаюсь.
Она ждала нашей реакции. Увидела стоящие в глазах других девушек слезы. В моих уловила тревогу.
Никто не произнес ни слова, поэтому она развернулась, замерла на мгновение, а потом быстро покинула комнату. И прокричала из коридора:
– Поезд в семь. До этого времени ты свободна!
И следующим утром я оказалась в трясущемся вагоне третьего класса на пути к южной границе Швеции. Окружающие меня незнакомцы вертелись на твердых деревянных скамьях, обшарпанные сиденья которых вонзали занозы в мои ягодицы. В вагоне стоял спертый запах пота и мокрой псины, и все прочищали горло и сморкались. На каждой станции одни люди выходили, а другие садились. Время от времени появлялся кто-то, перевозящий из одного округа в другой клетку с курами или утками. Птичий помет едко пах, а их пронзительные крики заполняли весь вагон.
Позже в моей жизни было еще несколько моментов, когда я ощущала себя настолько же одиноко, как в этом поезде. Хотя я направлялась к папиной мечте, которую он показывал мне в книгах, в этот момент мечта больше казалась кошмаром. Всего несколько часов назад я бежала по улицам Сёдермальма, насколько быстро позволяли ноги, отчаянно желая вовремя добраться до маминого дома, обнять ее и попрощаться. Она улыбнулась так, как это свойственно мамам, проглотила свою грусть и крепко меня обняла. Я всем телом почувствовала, как сильно и быстро билось ее сердце. Ее руки и лоб были влажными от пота. Из-за заложенного носа я не узнала ее голоса.
– Я желаю тебе достаточно всего, – прошептала она мне в ухо. – Достаточно солнца, чтобы освещать твои дни, достаточно дождя, чтобы ты ценила солнце. Достаточно радости, чтобы укрепить твою душу, достаточно боли, чтобы ты научилась ценить маленькие моменты счастья. И достаточно встреч, чтобы время от времени прощаться.
Она с трудом говорила то, что хотела сказать, но больше не могла сдерживать слезы. Наконец она отпустила меня и пошла в дом. Я услышала ее бормотание, но не поняла, к кому были обращены ее слова – ко мне или к ней самой.
– Будь сильной, будь сильной, будь сильной, – повторяла она.
– Я тоже желаю тебе достаточно всего, мама! – прокричала я ей.
Агнес осталась снаружи, во дворе. И вцепилась в меня, когда я попыталась уйти.
Я попросила ее отпустить, но она отказалась. В итоге мне пришлось отодрать ее пухленькие маленькие пальчики от юбки и бежать как можно быстрее, чтобы она не догнала. Я помню грязь под ее ногтями и что ее серая вязаная шапка была украшена маленькими вышитыми красными цветами. Она громко заплакала, когда я ушла, но вскоре стало тихо. Наверное, мама вышла на улицу, чтобы забрать ее. Даже сейчас я жалею, что не обернулась. Жалею, что не воспользовалась возможностью им помахать.
Мамины слова стали путеводной звездой моей жизни, и воспоминания о них придавали столь необходимую мне силу. Достаточную, чтобы преодолеть трудности. Которые случаются на пути каждого человека.
С. Серафин, Доминик
Я помню луну – тонкое серебро на бледно-синем фоне. Крыши прямо под ней и сохнущие вещи на балконах. Запах угольного дыма из сотен труб. Ритмичный грохот поездов, который стал частью моего тела во время этого долгого путешествия. Только начало светать, когда мы после долгих часов в дороге и нескольких пересадок доехали до Северного вокзала. Я поднялась и высунулась в окно. Вдохнула весенний аромат и помахала бездомным детям, босиком бегающим вдоль рельсов и протягивающих руки. Кто-то кинул им монетку, и они резко остановились. Сбились вокруг маленького сокровища и начали бороться за него.
Я тщательно берегла свои деньги. Они лежали в небольшом плоском кожаном кошельке, привязанном белой веревкой к поясу моей юбки. Я периодически проверяла, на месте ли он. Проводила рукой по мягким уголкам, ощущаемым под тканью. Мама вложила его в мои руки как раз перед моим уходом, и в нем лежали все сэкономленные ею деньги, которыми она пользовалась только при особых обстоятельствах.
Вероятно, она меня все-таки любила? Я так злилась на нее, часто думала, что больше никогда не захочу ее видеть. Но в то же время немыслимо скучала по ней. Ни дня не проходило без того, чтобы я не думала о ней и Агнес.
Этот кошелек был единственным источником утешения, пока я мчалась под стук колес навстречу новой жизни. Его увесистость успокаивала меня. Поезд громко заскрипел, останавливаясь, и я закрыла уши руками, отчего сидящий напротив мужчина улыбнулся. Я не улыбнулась в ответ, просто поспешила выйти из поезда.
Носильщик поднимал багаж мадам на черную железную тележку. Я стояла рядом с растущей горой, зажав свой мешок между ног. Молодой носильщик бегал туда-обратно. Его лицо блестело от пота, а когда он рукавом рубашки вытер свою бровь, тот окрасился в коричневый от пыли цвет. Сумки, чемоданы, круглые шляпные коробки, стулья и картины громоздились друг на друге на этой быстро загружаемой тележке.
Мимо нас проталкивались люди. Длинные грязные юбки бедных пассажирок соседствовали с блестящей обувью и хорошо отглаженными брюками мужчин из высшего сословия. Их элегантные дамы ждали. Только когда платформа опустела, а пассажиры второго и третьего класса разошлись, они медленно спустились из вагонов на своих высоких каблуках по трем железным ступенькам.
По лицу мадам расползлась улыбка, когда она заметила меня. Но первыми словами было отнюдь не приветствие. Она сокрушалась о длинной дороге и скучных спутниках. О больной спине и некомфортной жаре. Она смешивала французский и шведский, и я быстро потеряла нить разговора, хотя ее, казалось, не беспокоило отсутствие моих ответов. Она развернулась на каблуках и направилась к зданию вокзала. Мы с носильщиком последовали за ней. Он толкал перед собой тележку, бедром помогая себе справиться с ее весом. Я ухватилась за металлическую перекладину впереди и помогала тянуть. Мой мешок все еще был в моих руках. Платье намокло от пота, и я с каждым шагом вдыхала этот резкий запах.
Зал прибытия, с прекрасными медно-зелеными столбами, был переполнен людьми, которые двигались по каменному полу в разных направлениях. Их шаги раздавались громким эхом. Нас начал преследовать маленький мальчик в бледно-голубой рубашке и черных шортах, который помахивал розой. Его длинная челка лезла в ярко-синие глаза, умоляюще смотрящие на меня. Я покачала головой, но он был упрямым, протягивал цветок и кивал. Его рука просила денег. За ним шла девочка с двумя толстыми каштановыми косами и в коричневом платье, которое было слишком большим для нее. Она продавала хлеб, и ее платье было усеяно мукой. Она протянула мне кусок хлеба и помахала им, чтобы я почувствовала его аромат. Я снова покачала головой и ускорила шаг, но дети поспешили за мной. Идущий передо мной мужчина в костюме выпустил в воздух огромное облако дыма. Я громко закашлялась, и мадам засмеялась:
– Ты в шоке, моя дорогая? – Она остановилась. – Здесь совсем не как в Стокгольме. Ох, Париж, я так по тебе скучала! – продолжила она, широко улыбаясь, а потом разразилась длинной тирадой на французском.
Она повернулась к детям и что-то строго сказала им. Они посмотрели на нее, сделали реверанс и поклонились, а потом убежали, топая ногами.
У здания вокзала нас поджидал шофер. Он стоял рядом с высокой черной машиной и открыл дверь на заднее сиденье. Я впервые ехала в машине. Сиденья были сделаны из мягчайшей кожи, и, когда я села, ее запах поднялся, и я глубоко вдохнула его. Он напомнил мне о папе.
По полу машины были расстелены маленькие персидские ковры: красные, черные и белые. Я постаралась поставить ноги по краям, чтобы не запачкать их.
Йёста рассказывал мне об улицах, музыке и ароматах. О полуразвалившихся зданиях на Монмартре. Я бесцельно смотрела в окно и видела проносящиеся мимо красиво украшенные белые фасады. Там, в этих великолепных районах, мадам хорошо бы смотрелась. Она была бы похожа на других элегантных леди. Красивые платья и дорогие драгоценности. Но мы остановились не там. Она не хотела вписываться. Хотела контрастировать с окружением. Быть той, кто вызовет у других реакцию. Она считала ненормальность нормой. Вот почему собирала художников, авторов и философов.
И именно с этой целью она привезла меня на Монмартр. Мы медленно взбирались по крутым склонам и наконец подъехали к небольшому зданию с облупившейся лепниной и красной деревянной дверью. Мадам была в восторге, ее смех заполнял всю машину. Нетерпеливо зазывая меня внутрь, в затхлые комнаты, она лучилась энергией. Некоторые предметы мебели были укрыты простынями, и мадам прошлась по комнатам, снимая их. Являя взору красочные ткани и темное дерево. Стиль дома сильно напоминал мне ее квартиру в Сёдермальме. Здесь тоже имелись картины, много картин – они висели на стенах двойными рядами. Смешение тем, разнообразие стилей. Чудесная мешанина современного и классического. И повсюду книги. Только в одной гостиной три высоких книжных шкафа, встроенных в стену, много рядов красивых книг в кожаном переплете. Возле одного из шкафов стояла лестница на колесиках, благодаря которой можно было дотянуться до верхних полок.
Как только мадам вышла из комнаты, я встала у шкафа и просматривала имена знакомых авторов в поисках знакомых мне. Джонатан Свифт, Руссо, Гёте, Вольтер, Достоевский, Артур Конан Дойл. Имена, о которых я лишь слышала, все они были здесь. Книги, полные идей, о которых я слышала, но которые не понимала. Я достала с полки одну из них и увидела, что она на французском. Они все на французском. Я изможденно рухнула в кресло и пробормотала несколько известных мне слов. Bonjour, au revoir, pardon, oui. Я устала от поездки и всего, что видела. У меня слипались глаза.
Я проснулась, когда мадам накрыла меня вязаным покрывалом. Я закуталась в него. В одно из окон задувал ветер, и я поднялась, чтобы закрыть его. А потом села писать письмо Йёсте, ведь дала себе обещание сделать это, как только приеду. Я собрала все свои первые впечатления и кратко записала их, насколько позволил скудный язык тринадцатилетней девочки. Звук моих шагов по перрону, окружавшие меня запахи, дети с хлебом и цветами, уличные музыканты во время поездки на машине, Монмартр. Все.
Я знала, что он захотел бы об этом услышать.
Глава четвертая
– На следующей неделе у вас новенькая. Временная сотрудница. – Ульрика отчетливо произносит каждое слово, слишком громко. – Я уезжаю на Канарские острова. – Она пытается отодвинуться, но Ульрика не отстает и говорит еще громче: – Так здорово просто сбежать на некоторое время и отдохнуть. Для детей есть детский клуб, поэтому мы сможем расслабиться под солнцем, лежа на шезлонгах. Солнце и тепло. Представьте это, Дорис. Весь путь до Канарских островов. Вы же там никогда не бывали?
Дорис наблюдает за ней.
Ульрика небрежно и наспех складывает постиранные вещи, сминая рукава ее кофт. Складывает все стопкой. Стопка растет, а слова все льются из ее рта:
– Место называется Маспаломас. Может, и популярно среди туристов, но отель очень хороший. И недорогой. Всего на тысячу крон дороже того, что был куда хуже. Детишки смогут весь день играть в бассейне. И на пляже. Там очень хороший большой пляж, с огромными песчаными дюнами. Песок доносит ветром с самой Африки.
Дорис отворачивается и выглядывает в окно. Берет лупу и ищет глазами белку.
– Вы, старики, считаете нас сумасшедшими, постоянно куда-то летающими. Моя бабушка всегда интересуется, зачем я уезжаю, когда и дома так хорошо. Но это весело. И детям полезно повидать мир. Не так ли, Дорис? Вещи сложены. Пора принимать душ. Готовы?
Она натянуто улыбается Ульрике, опускает лупу и кладет ее на стол, на свое выделенное место, и слегка поворачивает, чтобы та легла под правильным углом. Белка так и не вернулась. Интересно, где она? Что, если ее переехала машина? Она всегда бегает туда-сюда по дороге. Дорис подпрыгивает, почувствовав впившиеся в подмышку пальцы Ульрики.
– Один, два и три-и-и!
Ульрика быстро помогает ей подняться и некоторое время держит ее за руки, пока не пройдет головокружение.
– Сообщите, когда будете готовы, и мы медленно направимся в ваше собственное спа.
Дорис бессильно кивает.
– Представьте, если бы у вас дома было настоящее спа. С джакузи, массажем и косметическими процедурами. Это было бы нечто, да? – Ульрика тихо посмеивается над своей фантазией. – Я куплю вам на отдыхе маску для лица, а когда вернусь, немного поухаживаю за вами. Будет весело.
Дорис кивает и с улыбкой слушает болтовню Ульрики, воздержавшись от комментария по поводу грубого прикосновения.
Когда они доходят до ванной, она поднимает руки и позволяет Ульрике снять с нее кофту и брюки, обнажить ее тело. Осторожно заходит в душевую кабинку. Присаживается на краешек высокого белого стула с перфорированным сиденьем, который она получила от медицинской компании. Она подносит лейку душа ближе к телу и поливает себя теплой водой. Закрывает глаза и наслаждается ощущением. Ульрика уходит на кухню. Она увеличивает температуру и сутулится. Бегущая вода всегда оказывала на нее успокаивающее воздействие.
С. Серафин, ДоминикМЕРТВА
Я нашла особенное место. Открытую площадь недалеко от дома. На площади Эмиля Гудо стояли скамейка и симпатичный фонтан: четыре женщины держат над головами свод. Фонтан излучал силу, и мне нравилось слушать, как вода с журчанием стекала по длинным до лодыжек платьям. Это напоминало мне о Стокгольме и его близости к воде. В Париже единственная река – Сена, но она находилась на расстоянии от Монмартра, и до нее было сложно добраться в связи с тем, что работа в квартире мадам для меня всегда находилась. Вот почему фонтан в центре площади стал моим пристанищем.
Иногда я ходила туда днем, пока мадам спала, и писала письма Йёсте. Мы часто отправляли друг другу письма. Я кратко описывала ему все, по чему он скучал. Люди, еда, культура, места, пейзажи. Его приятели-художники. Он в ответ описывал мне Стокгольм. То, по чему скучала я.
Дорогая Дорис!
Написанные тобой истории стали для меня эликсиром жизни. Они придают мне смелости и сил создавать. Я теперь рисую, как никогда раньше. Постоянный поток образов в твоих словах позволил мне увидеть окружающую меня красоту. Вода. Здания. Моряки на причале. Я так по этому скучал.
Ты так хорошо пишешь, мой друг. Возможно, однажды станешь писателем. Продолжай этим заниматься. Если хоть чуточку почувствуешь, что это твое призвание, никогда не отказывайся от этого. Мы рождены для творчества. Нам выпала честь быть наделенными этой высшей силой. Я верю в тебя, Дорис. Верю, что в тебе таится способность создавать.
Сегодня льет дождь, который так сильно стучит по брусчатке, что даже здесь, на третьем этаже, я слышу этот грохот. Небо здесь такое серое и тяжелое, что я боюсь, как бы оно не поглотило мою голову, если я выйду на улицу. Поэтому остаюсь в квартире. Рисую. Думаю. Читаю.
Иногда я вижусь с другом. Он приходит ко мне. Я боюсь погрузиться в бездонную депрессию, что сопровождает позднюю шведскую осень. Темнота никогда не влияла на меня так сильно, как сейчас. Часто представляю себе красивую парижскую осень. Теплые дни. Яркие цвета.
Используй свое время разумно. Знаю, что ты скучаешь по дому. Пусть ты никогда не упоминала об этом, я чувствую твою тревогу. Наслаждайся моментами, которые тебя окружают. У твоей мамы и сестры все хорошо, так что не волнуйся за них. Надо мне будет сходить к ним, чтобы в этом убедиться.
Спасибо за ту силу, что дают мне твои письма. Спасибо, милая Дорис. Пиши еще.
Я сохранила все его письма. Они лежат в маленькой железной коробке под кроватью и следуют за мной всю жизнь. Я иногда перечитываю их. Думаю о том, как он спасал меня в течение первых месяцев в Париже. Как придавал мне смелости находить положительное в этом новом городе, который так был не похож на мой дом. Как заставил замечать все, происходящее вокруг меня.
Я не знаю, что он сделал с моими письмами, возможно, сжег в камине, перед которым часто сидел, но я помню, что писала. Все еще помню детали парижских образов, что подмечала для него. Желтые листья, опадающие на уличные мостовые. Холодный ветер, задувающий в трещины вокруг окон и пробуждающий меня ночью.
Мадам и ее вечеринки, на которых присутствовали такие художники, как Леже, Архипенко и Розенберг. Дом 86 по улице Нотр-Дам в Монпарнасе, где когда-то жил сам Йёста. Я прокралась внутрь, чтобы посмотреть, на что похож лестничный пролет, и описала ему каждую деталь. Написала все имена на дверях. Ему это понравилось. Он все еще знал многих, кто жил в этом здании, и скучал по ним. Я написала про мадам, что она уже не закатывала столько вечеринок, как в Стокгольме, и предпочитала бродить по ночам по Парижу, выискивая, чтобы соблазнить, новых художников и писателей. Что по утрам она спала дольше, вследствие чего я успевала почитать.
Я выучила французский благодаря словарю и книгам на ее полках. Начала с самых тонких и переходила с романа на роман. Все эти чудесные книги столько рассказали мне о жизни и мире. Все собралось на ее деревянных полках. Европа, Африка, Азия, Америка. Страны, ароматы, атмосфера, культура. И люди. Они жили в абсолютно разных мирах и по-прежнему были такими похожими. Полными тревог, сомнений, ненависти и любви. Как и все мы. Как Йёста. Как я.
Я могла бы остаться там навсегда. Мое место было среди книг, где я ощущала безопасность. Но, к сожалению, это продлилось недолго.
Однажды по пути домой от мясника с корзинкой свеженарезанной мясной закуски меня остановили на улице. По одной причине. Сегодня, когда мое сгорбленное тело и морщины на лице скрывают все следы красоты, приятно это признать: когда-то я была очень красивой.
Из машины, что остановилась посреди интенсивного движения, выбежал мужчина в черном костюме. Он обхватил руками мою голову и посмотрел прямо мне в глаза. Мой французский был далек от идеала, и он говорил слишком быстро, чтобы я что-то поняла. Что-то вроде того, как он хотел меня. Я испугалась и вырвалась из его хватки. Побежала как можно быстрее, но он последовал за мной на машине. Она медленно ехала прямо у меня за спиной. Оказавшись у дома мадам, я вбежала внутрь и захлопнула за собой дверь. Защелкнула каждый замок.
Мужчина стал стучать в дверь. Стучал и стучал, пока сама мадам не подошла открыть. Она выругалась на меня по-французски.
В тот самый момент, как она открыла дверь, ее тон изменился, и она тут же пригласила его войти. Смерила меня взглядом и жестом попросила исчезнуть. Она выпрямилась и расхаживала вокруг него, словно он королевских кровей. Я ничего не понимала. Они прошли в гостиную, но через несколько минут она выбежала ко мне на кухню:
– Умойся, выпрямись! Сними этот фартук. Mon dieu, месье хочет тебя видеть.
Она обхватила мое лицо, положив на одну щеку большой палец, на другую – указательный. Сильно пощипала несколько раз, чтобы кожа раскраснелась.
– Вот так. Улыбайся, моя девочка. Улыбайся! – прошептала она, толкая меня перед собой.
Я заставила себя улыбнуться мужчине в кресле, и он сразу поднялся. Изучил меня с головы до ног. Посмотрел в глаза. Провел пальцем по коже.
Проверил наличие жира на стройной талии. Со вздохом проверил мочки ушей и слегка ударил по ним пальцами. Он изучал меня молча. А потом попятился и снова сел. Я не знала, что мне делать, поэтому стояла и смотрела в пол.
– Oui! – наконец сказал он, поднеся руки к лицу. Опять поднялся и покрутил меня. – Oui! – повторил он, как только я остановилась.
Мадам радостно захихикала. А потом произошло кое-что странное. Она пригласила меня сесть. На диван. В гостиной. Вместе с ними. Улыбнулась, заметив мои огромные глаза, и уверенно махнула на диван, словно демонстрируя, что она говорила серьезно. Я присела на самый краешек, колени вместе, спина прямая. Разгладила ткань черного платья, которая помялась в том месте, где был повязан фартук, и внимательно вслушивалась в быстрый обмен на французском. Те немногие слова, что я поняла, никак не объяснили ситуацию. Я все еще не знала ни кто сидел в кресле напротив меня, ни почему он был таким важным.
– Это Жан Понсард, моя девочка, – вдруг сказала мадам на шведском с примесью французского. Как будто я должна знать, кто он. – Он – знаменитый модельер, очень известный. Он хочет, чтобы ты работала манекенщицей для его одежды.
Я удивленно вскинула брови. Манекенщица? Я? Я едва знала, что это за слово. Мадам посмотрела на меня с горящим в ее зеленых глазах ожиданием.
Ее рот был слегка приоткрыт, будто она хотела ответить за меня.
– Ты разве не понимаешь? Ты будешь знаменитой. Это мечта любой девочки. Улыбайся!
Ее раздражение из-за моего молчания было настолько осязаемым, что я вздрогнула. Она покачала головой и фыркнула. А потом приказала мне собирать вещи.
Час спустя я сидела на заднем сиденье машины месье Понсарда. В мешке, закинутом в багажник, лежала лишь одежда. Никаких книг. Я оставила их у мадам.
Тогда я в последний раз видела ее. Намного позже я узнала, что она спилась до смерти. Ее обнаружили в ванне. Утонувшей.
Глава пятая
– Потому что она веселая и добрая девчонка, и так говорим мы все… – Дорис умолкает посреди песни. – Точнее, и так говорю я! С днем рождения, дорогая Дженни!
Она продолжает петь, глядя на экран и на улыбающуюся женщину. Как только песня заканчивается, дети Дженни хлопают.
– Чудесная Дорис! Большое спасибо! Поверить не могу, что ты всегда помнишь.
– Как я могла забыть?
– Вот я и думаю, как ты могла? Просто подумай… Когда я появилась в твоей жизни, все круто изменилось, верно?
– Нет, моя дорогая, моя жизнь тогда стала богаче. Какой ты была милой! Послушная, смеялась в своем манеже.
– Думаю, у тебя неправильные воспоминания, Дорис. Я не была послушной. Все дети трудные. Даже я.
– Не ты. Ты родилась маленьким ангелом. На твоем лбу было написано «послушная», это я точно помню.
Она подносит руку к губам и посылает воздушный поцелуй, и Дженни со смехом притворяется, что ловит его:
– Наверное, я была очень милой, когда ты приходила, ты была мне нужна.
– Да, полагаю, так и было. И ты была мне нужна. Мы обе нуждались друг в друге.
– И сейчас нуждаемся, к твоему сведению. Ты можешь запрыгнуть в самолет и прилететь?
– Уф, глупышка, конечно же не могу. У тебя уже был торт?
– Нет пока. Вечером. Как только дети вернутся с факультативов. За полчаса до сна. Вот тогда мы его и съедим.
Дженни усмехается:
– Тебе точно надо поесть. Исхудала. Ты правильно питаешься?
– Дорис, я искренне считаю, что с твоими глазами что-то не так. Ты разве не замечаешь мой спасательный круг?
Она гладит себя по животу и охватывает пальцами жировую складку.
– Я вижу перед собой худенькую красивую маму троих детей. Не надо сейчас еще ко всему прочему садиться на диету. Ты идеальна. Немного тортика не повредит.
– Ты всегда умела врать. Помнишь, я ходила на танцы и мое платье было слишком маленьким? Оно так обтягивало, что разошлись швы. Но ты сразу нашла решение проблемы – повязала вокруг талии тот красивый шелковый шарфик.
Глаза Дорис сияют.
– Да, я отлично это помню. Но тогда ты действительно была немного пухлой. Это было, когда этот темненький и красивый парень… Как его звали? Морган? Майкл?
– Маркус. Маркус, моя первая любовь.
– Да, ты так грустила, когда он с тобой расстался. И ела на завтрак шоколадное печенье.
– На завтрак? Я постоянно его ела. Весь день! Прятала его по всей своей комнате. Как алкоголик. Шокоголик. Господи, мне было так грустно. И я стала такой толстой!
– К счастью, потом ты познакомилась с Вилли. Он привел тебя в порядок.
– Не уверена насчет порядка. – Она показывает на кухонный стол и кучи газет, грязных стаканов и игрушек.
– Ну, ты хотя бы не толстая, – улыбается Дорис.
– Да, ладно, я знаю, к чему ты клонишь, – смеется Дженни. – Я не толстая. Не настолько.
– Нет, на самом деле. Так звучит лучше. Где Тайра? Спит?
– Спит? Нет, этот ребенок не спит. Она здесь.
Дженни наклоняет экран, чтобы Дорис увидела малышку. Ее пристальным вниманием завладела ярко раскрашенная кастрюля, с которой она играет.
– Привет, Тайра, – улыбается Дорис. – Чем занимаешься? Играешь? Какая у тебя хорошая кастрюля!
Девочка улыбается и трясет кастрюлей в воздухе, отчего ее содержимое громко грохочет.
– Так она немного понимает по-шведски?
– Да, конечно. Я с ней разговариваю только на шведском. Почти. И она смотрит шведские детские шоу в Интернете.
– Это хорошо. А как насчет остальных?
– Средне. Я говорю им на шведском, а они отвечают на английском. Не знаю, сколько шведского они запоминают. Я сама начала забывать некоторые слова. Это нелегко.
– Ты делаешь все возможное, моя дорогая. Получила мое письмо?
– Да, спасибо! Приехало вовремя. И деньги. Я куплю на них что-нибудь миленькое.
– Только что-то для себя.
– Да, или для нас.
– Нет, ты знаешь правила. Это должно быть то, чего хочешь лишь ты. Не дети и не Вилли. Ты периодически заслуживаешь немного роскоши. Хорошенькую кофточку. Или косметику. Или сертификат в спа, куда сейчас все ходят. Или… ох, не знаю… поужинать с подругой и весело провести вечер.
– Да, да, посмотрим. Я бы хотела сводить тебя на ужин и посмеяться над воспоминаниями. Клянусь, мы приедем следующим летом. Вся семья. Ты должна…
Дорис хмурится:
– Должна что? Дожить до этого?
– Нет! Я не это имела в виду. Точнее, да, конечно, ты должна дожить. Ты должна жить вечно!
– Боже мой, я старая карга, Дженни. И скоро не смогу сама подниматься. Естественно, лучше умереть, нет? – Она серьезно рассматривает Дженни, но потом оживляется и восклицает: – Но я не планирую умирать, пока не потреплю эти сладкие щечки! Верно, Тайра? Нам с тобой нужно встретиться. Не так ли?
Тайра поднимает руку и машет, а Дженни с обеих рук посылает воздушный поцелуй, машет на прощание и выключает камеру. Окно, недавно наполненное жизнью и любовью, становится черным. И как тишина может быть такой невыносимой?
П. Понсард, Жан
Это все равно что быть проданной. Хотя у меня не оставалось другого выбора, кроме как сесть на заднее сиденье той машины и уехать в неизвестность. Помахать на прощание безопасной жизни за красной дверью мадам. Мадам, которая говорила на моем языке. Которая гуляла по моим улицам.
Пусть мы сидели рядом на заднем сиденье, но месье Понсард молчал. Всю поездку. Просто смотрел в окно. Колеса машины подскакивали на камнях, пока мы спускались по холму, и я вцепилась в край сиденья, чтобы удержаться.
Он был очень привлекательным. Я рассматривала волосы на его голове, серые пряди красиво смешивались с черными. Ровно уложены. Ткань его костюма переливалась в свете солнца. Его перчатки были сшиты из тонкой белой кожи, идеальные, без единого пятнышка. Его ботинки были черными и отполированными до блеска. Я посмотрела на свое платье. Черная ткань выглядела грязной на солнечном свету, проникавшем в окно машины. Я провела рукой по подолу. Скинула несколько пылинок, отскребла кусочек теста. Это тесто, наверное, до сих пор поднималось в доме мадам.
Он не задал мне ни одного личного вопроса. Не думаю, что даже знал, из какой я страны. Его не интересовало, что творилось в моей голове.
Нет ничего более унизительного, чем наплевательски относиться к разуму человека. Его интересовала лишь оболочка. И он быстро указал на все мои недостатки. Волосы слишком сухие и кудрявые. Кожа слишком загорелая. Уши торчали, когда я убирала волосы. Ступни чересчур большие. Бедра слишком узкие или широкие, в зависимости от примеряемого платья.
Мой мешок стал моим шкафом. Никогда не думала, что останусь там надолго. Я вытаскивала и убирала его под кровать в квартире, которую делила с четырьмя другими манекенщицами. Мы все были равно молодыми, равно потерянными.
За нами следила женщина со строгим взглядом и сжатыми губами. Постоянное присутствие неодобрения в выражении ее лица даже сформировало морщинки. Они уходили вниз, от уголков рта к подбородку. Образовали каналы мрачности. А над верхней губой сложились резкие глубокие линии, отчего она выглядела рассерженной, даже когда засыпала в кресле в гостиной. Ее явная ненависть к нам, красивым девочкам, с которыми ее заставили жить, проявлялась во многих аспектах, а не только в маниакальном контроле нашего рациона питания. Никакой еды после шести вечера. Если кто-то приезжал домой позже, отправлялся спать голодным. Еще она не разрешала выходить после семи вечера. Ее работа – удостовериться, что мы спали.
Она никогда с нами не разговаривала. А когда выдавалась свободная минутка, она занимала стул на кухне и вязала крошечные детские свитера. Мне всегда было интересно, кто же эти дети. И когда она проводит с ними время. И ее ли они.
Мы усердно трудились в течение дня. Бесконечные дни. Одевались в красивые платья, которые показывали в универмагах и временами в витринах. Выпрямив спины. Старые леди щипали нас то тут, то там, щупали ткань, изучали стежки и жаловались на мелочи, чтобы сбить цену. Иногда приходилось позировать на камеру час за часом. Немного поворачивали головы, руки и ноги, чтобы найти лучший угол. И замирали, пока фотограф нажимал на кнопку. Вот что значило быть манекенщицей.
Со временем я выучила, как выглядело мое лицо с каждого угла камеры. Знала, что взгляд изменится, если прищурюсь – не сильно, чтобы кожа под глазами не сморщилась, но достаточно, чтобы взгляд стал более пристальным и слегка загадочным. С помощью простого наклона бедра я могла контролировать форму своего тела.
Месье Понсард все внимательно контролировал. Если мы выглядели слишком бледными, он подходил и сам щипал нас за щеки. И всегда сосредоточивал взгляд на том, чего не видели мы. Его тонкие пальцы с хорошим маникюром щипали сильно, и он радостно кивал, завидев распространяющуюся по щекам красноту. Мы смаргивали слезы.
Глава шестая
– Вы плачете?
Временная сиделка походит к столу, за которым она сидит, упираясь локтями в стол и обхватив голову руками. Она вздрагивает и быстро вытирает слезы.
– Нет, нет, – отвечает она, но дрожь в голосе выдает ее. Она отодвигает несколько черно-белых фотографий, переворачивает изображением вниз.
– Можно посмотреть?
Сара, так ее зовут, приходила к ней уже несколько раз.
Дорис качает головой:
– В них нет ничего особенного. Всего лишь старые фотографии. Старых друзей больше нет с нами. Все умирают. Люди пытаются жить как можно дольше, но знаете, что? Быть старым невесело. Нет смысла жить. Когда все остальные мертвы.
– Не хотите показать мне? Тех людей, которые что-то для вас значили?
Ее пальцы касаются стопки фотографий. А потом ее рука замирает.
– Может, у вас есть фотография вашей мамы? – пытается вызнать Сара.
Дорис достает из стопки фотографию. С мгновение рассматривает ее:
– Я не очень хорошо ее знала. Только первые тринадцать лет.
– А что потом случилось? Она умерла?
– Нет, но это долгая история. Слишком долгая, чтобы быть интересной.
– Вы можете не рассказывать мне, если не хотите. Выберите кого-нибудь другого вместо нее.
Дорис переворачивает фотографию молодого мужчины. Он прислоняется к дереву, ноги скрещены, рука убрана в карман. Он улыбается, белые зубы озаряют все его лицо. Она снова быстро переворачивает ее:
– Красивый. Кто он? Ваш муж?
– Нет. Просто друг.
– Он все еще жив?
– Вообще-то не знаю. Не думаю. Много времени прошло с нашей последней встречи. Но было бы замечательно, будь он жив.
Дорис проницательно улыбается и гладит пальцем фотографию.
Сара кладет руку на плечо Дорис и ничего не говорит. Она отличается от Ульрики. Намного мягче и добрее.
– Вы больше не будете приходить, когда вернется Ульрика? Не можете остаться подольше?
– К сожалению, не могу. Как только Ульрика вернется, мы вернемся к обычному расписанию. Но до этого момента мы, без сомнения, хорошо проведем время, вы и я. Есть хотите?
Дорис кивает. Сара достает контейнер из фольги и выкладывает еду на тарелку. Аккуратно разделяет овощи, мясо и пюре, разглаживая его ложкой. Когда еда нагревается, она нарезает помидор и выкладывает кусочки полумесяцем.
– Ну вот. Хорошо выглядит, правда? – радостно восклицает она, ставя тарелку на стол.
– Спасибо, очень приятно, что вы так все подаете. Сара замирает и вопросительно смотрит на нее:
– Что вы имеете в виду?
– Вот так красиво. А не все смешанное.
– Ваша еда обычно смешана? Это не очень хорошо. – Она морщит нос. – Придется это изменить.
Дорис осторожно улыбается и пробует еду. Сегодня она очень вкусная.
– Фотографии – земельная тренировка для памяти. – Сара кивает на стопку фотографий, лежащую возле двух пустых жестяных коробок. – Они помогают нам помнить все, что мы, возможно, могли бы забыть.
– И все, что мы давно должны были забыть.
– Вы поэтому грустили, когда я приехала к вам?
Она кивает. Руки лежат на кухонном столе. Она соединяет их и переплетает пальцы. Они сухие и в морщинах, а темно-синие вены как будто расположены на верхнем слое кожи. Она достает для Сары фотографию, с женщиной и маленьким ребенком.
– Моя мама и сестра, – говорит она со вздохом, вытирая еще одну слезу.
Сара берет фотографию и рассматривает две фигуры.
– Вы похожи на маму – тот же блеск в глазах. Нет ничего более красивого, чем видеть жизнь в глазах людей.
Дорис кивает:
– Но теперь они все мертвы. И так далеко. Это причиняет боль.
– Может, тогда рассортировать фотографии в две стопки? Одну для фотографий, которые доставляют радость, а вторую – для тех, что навевают тоску.
Сара поднимается и принимается рыться в кухонных ящиках.
– Вот! – кричит она, когда находит, что ищет: толстый рулон скотча. – Мы положим все грустные фотографии в одну коробку. А потом обмотаем ее скотчем, пока он не закончится.
– Вы полны идей! – хихикает Дорис.
– Давайте сделаем это! – смеется Сара.
Когда Дорис доедает, она берет в руки стопку фотографий. Показывает их по очереди, и Дорис решает, в какой коробке они должны оказаться. Сара не задает никаких вопросов, хоть ей и интересны все эти люди и места из прошлого. Она спокойно складывает фотографии в коробки изображением вниз, чтобы Дорис не пришлось на них смотреть. Значительная часть старых, черно-белых снимков оказывается в «грустной» коробке. Более современные цветные фотографии, с изображением милых хихикающих детей, в другой. Сара изучает лицо Дорис, пока та принимает решения, и нежно гладит по спине.
Фотографии рассортированы. Сара обматывает коробку. Потом снова роется в ящиках и находит еще рулон скотча. Она продолжает обматывать коричневым скотчем, а когда он заканчивается, наматывает несколько слоев серебристого. И довольно хихикает, когда кладет коробку перед Дорис:
– А теперь попробуйте пробраться!
Сара широко улыбается, и она стучит костяшками по коробке.
Н. Нильссон, Йёста
Листок бумаги передо мной был пустым. Я устала. Нет слов. Нет радости. Я сидела на матрасе, свернувшись в клубок у стены, под спиной подушка. Комната была зеленой, и от этого цвета мне становилось тошно. Мне хотелось выбраться из этого симметричного узора из листьев и цветов. Цветы были большими и пышными, чуть светлее темно-зеленого фона, вокруг них вились стебли и листья. Я каждый раз вспоминала о проведенных в этой комнате ночах, когда видела похожие обои. О безделье, усталости, вынужденной вежливости между девочками. О болях в теле и скуке в душе.
Мне хотелось написать Йёсте. Хотелось рассказать ему все, чего он хотел услышать. Но я не могла. Не могла выдавить даже пары хороших слов о городе, который возненавидела. Последние золотистые лучи солнца пробрались через окно, отчего обои стали еще более тошнотворными. Я медленно повернула ручку, чтобы свечение от блестящей стали отразилось на противоположной стене. Тонкая полоска света затанцевала, пока я прокручивала в голове все, что недавно произошло. Я отчаянно пыталась превратить свои впечатления в нечто положительное.
Заболела голова, и я поправила волосы, чтобы ослабить боль, прядь повисла перед лицом. Тяжелые зубчатые бигуди, на которые мне каждое утро накручивали волосы, оставляли на коже красные отметины, иногда даже маленькие ранки. Парикмахеры могли быть грубыми, они тянули и дергали за волосы, чтобы добиться идеальной прически. Все ради того, чтобы выглядеть как можно более идеально для предстоящей фотосессии или показа. Но и на следующий день, и через день я должна была выглядеть столь же красиво. Я не могла позволить каким-то царапинам на голове или сыпи на коже стать препятствием, испортить впечатление от молодой женщины. Женщины, которой хотят быть все.
Моя внешность была моим единственным достоянием, и я жертвовала всем ради нее. Садилась на диеты. Надевала тесные корсеты и пояса. По вечерам накладывала маски на лицо, приготовленные из молока и меда. Втирала в ноги лошадиную мазь, чтобы усилить циркуляцию. Никакого счастья, всегда в погоне за красотой.
Совершенно впустую.
Я была красивой. Большие глаза без приспущенных век. Цвет моих щек был красивым и ровным, до того как вмешались солнечные лучи и испортили пигментацию. Кожа вокруг шеи идеальна. Но не было никакого средства для того, чтобы я была уверена в своей красоте. Что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Полагаю, я слишком погрузилась в свое несчастье, чтобы писать Йёсте. Окружение, в котором я жила, находилось далеко от того, что Йёста ассоциировал с Парижем. Что написать? Что мне хотелось вернуться домой и я плакала перед сном каждую ночь? Что ненавидела дорожный гул, запахи, людей, язык, шум и суету? Все, что любил Йёста. В Париже он ощущал себя свободным, а меня держали пленницей. Я прижала ручку к листку и написала несколько слов. О погоде. По крайней мере, я смогла описать ее. Упрямое солнце, что день ото дня продолжало светить. Липкую жару на своем лице. Но разве для него это важно? Я разорвала листок и выкинула. Обрывки опустились в корзину к другим письмам, что я так и не отправила.
Здания вокруг универмага были красивыми, красиво отделанными, но я видела лишь землю. Долгие тяжелые дни не позволяли мне оценить это, изучить окрестности. Лучше всего я помню запахи, встречавшиеся мне на пути домой. Проходя мимо мусороприемника, я до сих пор вспоминаю свою жизнь в Париже. Улицы были очень грязными, в водостоках полно нечистот. В порядке вещей увидеть кучи рыбных потрохов, мяса и сгнивших овощей у дверей в кухни ресторанов.
Вокруг универмага все было симпатичным и чистым, посыльные в твидовых шапках, белых рубашках и жилетах тщательно мели метлами. Блестящие машины, управляемые шоферами в черных костюмах, веером парковались вокруг магазина передней частью к тротуару. Меня очаровывали элегантные леди, которые грациозно бежали вприпрыжку по улицам и проходили в огромные двери. Они стали нашими зрителями. И никогда с нами не разговаривали. Ни единого слова. Просто осматривали нас. С головы до ног и обратно.
Вечером я часто погружала ноги в ведро с ледяной водой. Так они переставали разбухать после долгого дня на каблуках. Туфли, которые я носила, часто были слишком маленькими. У скандинавских девушек большие ноги, но никто никогда не обращал на это внимания. Туфли должны подходить всем. Они были 37-го размера или, если мне везло, 38-го. Но у меня-то 39-й размер.
Проходили недели. День ото дня одна и та же рутина. Долгие дни, требовательные парикмахеры, саднящие опухшие ноги, макияж, что впитывался в поры и обжигал кожу. Я оттирала его с помощью масла и листка бумаги. Масло попадало в глаза, все становилось размытым, и я почти всегда слезящимися глазами читала письма, периодически приходящие от Йёсты.
Дорогая Дорис!
Что случилось? Мне нехорошо от беспокойства. Каждый день, когда почтальон не приносит от тебя ни слова, разочарование для меня.
Пожалуйста, сообщи, что ты жива и в порядке. Дай мне знак. Твой Йёста.
Его беспокойство стало моей безопасностью. Я опиралась на него. Играла с ним, словно мы были парой растерянных любовников без надежды на будущее. Я даже поставила на свою тумбочку его фотографию. Она была из газетной вырезки, которую я сохранила в своем дневнике. Я поместила ее в небольшую золотистую рамку, найденную на блошином рынке. Овальное отверстие было таким маленьким, что едва хватало места для его подбородка, и мне пришлось отрезать его волосы, отчего он получился с практически плоским черепом. Я каждый вечер перед сном смотрела на фотографию с улыбкой. Он выглядел глупо. Но глаза заглядывали прямо в мои. Это странно. Я скучала по нему больше, чем по маме с сестрой.
Вообще-то, я думаю, что была слегка влюблена в него. Хотя и знала, что он не рассматривал меня в таком плане, что его не интересовали женщины. Но у нас было нечто другое, нечто особенное. Связь между нашими сердцами, сверкающая радуга, блеск которой появлялся и исчезал с годами. Но всегда присутствовал.
Глава седьмая
Она опускает руку на стопку отпечатанных листов, медленно поглаживает поверхность. Измеряет с помощью пальцев. Стопка тянется от кончиков пальцев до второй костяшки указательного. То, что должно было стать обычным письмом Дженни, стало намного большим.
Здесь столько воспоминаний.
Она принимается сортировать листы бумаги. Раскладывает по именам. Именам людей, которых больше нет. Открывает адресную книгу. Их имена – единственный след тех, кто когда-то смеялся и плакал. В памяти усопшие становятся другими. Она пытается представить их лица, пытается вспомнить, какими они были.
Слеза стекает по ее щеке и тяжело падает. Приземляется в правом углу, где она только что написала слово МЕРТВ. Бумага впитывает жидкость, и чернила начинают растекаться. Маленькими кружащимися ручейками печали.
В пустом доме так тихо, что даже самые тихие звуки становятся громче. Тик. Тик. Тик. Она прислушивается к белому будильнику с большими, как монеты, цифрами. Следит, как красная секундная стрелка обгоняет минутную. Трясет будильник и подносит к глазам, чтобы лучше рассмотреть цифры. Два часа, так ведь? Не час? Она подносит будильник к уху и слушает, как он продолжает тикать. Никаких сомнений в стараниях секундной стрелки. Она чувствует, как урчит в животе: время обеда давно прошло. За кухонным окном непрерывно падает снег. Она ничего не может разглядеть, лишь пытающуюся взобраться на холм одинокую машину. Как только она исчезает из виду, в квартире снова становится тихо.
Часы оповещают о половине третьего. Три часа. Половина четвертого. Четыре. Когда часовая стрелка доходит до пяти, Дорис начинает покачиваться на стуле. Она ничего не ела с самого завтрака, с безвкусного бутерброда с сыром, завернутого в целлофан. Который остался в холодильнике после вчерашнего последнего визита. Она опирается на кухонный стол и встает. Ей нужно добраться до кладовки. В ней все еще лежит коробка конфет, подаренная Марией перед уходом. Большая красивая коробка с изображением наследной принцессы и ее мужа. Она сразу ее убрала – жаль было есть такую красоту. Но сейчас она слишком голодна. Из-за легкой степени диабета и своего возраста она крайне чутко реагирует на низкий уровень сахара в крови.
Ее взгляд устремлен в пол. Она делает несколько неуверенных шагов, но приходится остановиться, когда перед глазами появляются яркие вспышки света. Белые звездочки прокладывают свой путь в поле зрения, отчего комната кружится. Она тянется, пытается нащупать стойку, но ловит лишь воздух и падает. Затылок с глухим стуком ударяется о деревянный пол, как и плечо, а бедром она сильно задевает угол одного из кухонных шкафчиков. Боль быстро распространяется по ее телу, пока она лежит спиной на твердом полу и тяжело дышит. Потолок и стены становятся все более и более расплывчатыми и наконец превращаются в полную темноту.
Когда она приходит в себя, рядом с ней на корточках сидит Сара, положив руку на ее щеку. Она прижимает к уху телефон:
– Она очнулась. Что мне делать?
Дорис пытается открыть глаза, но веки не подчиняются. Ее тело лежит на полу мертвым грузом. Неровные доски впиваются в основание позвоночника.
Бедро смотрит в сторону, а нога как будто согнута под неестественным углом. Дорис осторожно прикасается к поврежденной ноге и громко стонет от боли.
– Бедняжка, похоже, она сломана. Я вызвала «скорую», они скоро будут. – Сара старается скрыть беспокойство и успокаивающе гладит пальцем щеку Дорис. – Что произошло? Закружилась голова? Это все моя вина. Развозящий еду грузовик попал в аварию, и доставка была задержана. Я не знала, что делать, поэтому ждала ее. А еще стольких надо было повидать. Надо было сразу прийти сюда, ведь у вас диабет и все такое… Я такая дура! Дорис, мне очень жаль!
Дорис пытается улыбнуться, но едва может двигать губами, а еще меньше рукой, чтобы похлопать Сару по щеке.
– Шоколад, – тихо шепчет она.
Сара смотрит на кладовку:
– Шоколад, вы хотите шоколада?
Сара бежит и роется между банок и пакетов с мукой. В самой глубине находит коробку с конфетами, срывает тонкую обертку и открывает крышку. Осторожно вынимает конфету и подносит ее ко рту Дорис. Та отворачивается.
– Вы не хотите?
Она вздыхает, но ничего не может сказать.
– Вы пытались добраться до конфет? Шли за ними?
Дорис пытается кивнуть, но позвоночник пронзает волна боли, и она крепко сжимает глаза. Сара все еще держит в руке конфету. Та уже старая, поверхность стала серо-белой. Вероятно, она берегла ее до особого случая. Возможно, такой хороший подарок слишком жалко открывать.
Сара отламывает кусочек и протягивает его Дорис:
– Вот, все равно возьмите немного, это придаст вам сил. Вы, похоже, проголодались.
Дорис позволяет шоколаду медленно таять на языке. Когда приезжает «скорая», конфета все еще у нее во рту. Она закрывает глаза и сосредоточивается на разливающейся по рту сладости, пока медики холодными руками исследуют ее тело. Расстегивают блузку и прицепляют к груди электроды. Подключают ее к аппаратам, измеряющим сердечный ритм и кровяное давление. Кажется, они разговаривают с ней, но она не может разобрать их слов. Нет сил ответить. Нет сил слушать. Она не открывает глаза и мечтает оказаться в каком-нибудь безопасном месте. И дергается, когда они вкалывают обезболивающее.
Она тихонько хнычет и крепко сжимает кулаки, когда они пытаются выправить ногу. А когда они наконец поднимает ее носилки, она больше не может выносить боль, кричит и бьет медика. Глаза наливаются слезами, которые медленно стекают по виску, образовывая возле уха маленькую лужицу.
Глава восьмая
Комната вся белая. Простыни, стены, занавеска вокруг кровати, потолок. Не такая белая, как яичная скорлупа, а ослепительно-белая. Она смотрит на потолочный светильник, стараясь бодрствовать, но сил нет и хочется спать. Она щурится. Здесь только пол не белый. Неровная полоса между грязно-желтым и белым подсказывает ей, что она не мертва. Пока что. Светильник, на который она смотрит, не райское свечение.
Подушка под ее плечами комковатая, маленькие комки синтетической набивки впиваются в спину. Она медленно поворачивается, но движение посылает волну боли по тазовой области, и она морщится. Теперь она лежит в позе эмбриона и чувствует, как напряжен ее бок, но не осмеливается лечь обратно, опасаясь новой волны боли. Безболезненно шевелить она может лишь глазами и пальцами. Она отбивает медленную мелодию указательным и средним пальцами. Тихонько подпевает знакомой песне: «А за окном… кружатся листья…»
– Вот она. Никаких посетителей, никаких родных в Швеции. Ей очень больно.
Дорис бросает взгляд на дверь. Видит медсестру, а рядом с ней – мужчину в черном костюме. Они шепчутся, но она слышит каждое слово, будто они стоят возле нее. Они разговаривают о ней так, будто она скоро умрет. Мужчина кивает и поворачивается к ней. Его белый воротничок священника светится на фоне окружающей его черноты. Она сжимает глаза. Хочет, чтобы она не была такой одинокой, хочет, чтобы Дженни была здесь, держала ее за руку.
«Если Бог существует, пусть священник уйдет», – думает она.
– Здравствуйте, Дорис, как себя чувствуете?
Он придвигает стул и садится у ее кровати. Говорит громко и отчетливо. Когда она вздыхает, он накрывает ее руку своей. Она теплая и кажется тяжелой на ее холодной коже. Она смотрит на нее. Его вены кружат по морщинистой коже, словно черви. Как и ее. Но у него рука загорелая и с веснушками. И выглядит моложе. Интересно, куда он ездил и снимал ли на пляже воротничок. Она поднимает на него взгляд, проверяет, не видно ли белой полоски на шее. Но не может разглядеть.
– Сестра говорит, вам очень больно. Как ужасно, что вы так упали.
– Да, – шепчет она, но ее голос все еще срывается от усилий. Она пытается прочистить горло, но чувствует вибрацию в области таза и скулит.
– Все будет хорошо, вот увидите. Уверен, вы уже скоро встанете на ноги и сможете ходить.
– Я тогда-то не могла ходить, так что…
– Мы позаботимся, чтобы вы встали на ноги. Разве не так? Вам нужна какая-то помощь? Сестра сказала, у вас не было посетителей.
– Мой компьютер. Мне нужен компьютер, он в моей квартире. Вы поможете мне с этим?
– Ваш компьютер? Да, я могу это устроить. Если вы дадите мне ключи. Слышал, у вас в Швеции нет семьи. Есть кто-нибудь еще? Кому я могу позвонить?
Она фыркает и смотрит на него:
– Вы разве не видите, какая я старая? Мои друзья уже давно все умерли. Вы поймете, когда достигните моего возраста. Они все умирают, один за одним.
– Мне жаль это слышать.
Священник сочувственно кивает и смотрит прямо ей в глаза.
– Я несколько лет ходила на одни лишь похороны. Но теперь больше не хожу. Наверное, стоит задуматься о своих собственных.
– Мы все однажды умрем. Никто не сможет этого избежать.
Дорис молчит.
– И что вы думаете о своих похоронах?
– Что думаю? Думаю о музыке, наверное. И о том, кто будет. Если кто-то придет.
– Какую музыку вы хотите?
– Джаз. Мне нравится джаз, – улыбается она. – Будет здорово, если они сыграют жизнерадостный джаз. Чтобы все знали, что старая карга веселится на небесах со своими старыми приятелями.
Ее смех превращается в кашель. И в большое количество боли. Священник взволнованно смотрит на нее.
– Не волнуйтесь, – выдавливает она между приступами кашля, – я не боюсь. Если тот рай, о котором говорите вы, священники, действительно существует, будет здорово попасть туда и всех увидеть.
– Тех, по кому скучаете?
– И других…
– Кого вы больше всего хотите увидеть?
– Почему я должна выбирать?
– Нет, конечно же не должны. У каждого свое место в наших сердцах. Это глупый вопрос.
Она старается бодрствовать, но священник становится все более и более размытым, а его слова смешиваются воедино. В итоге она сдается. Голова заваливается набок. Он остается сидеть и рассматривает ее худое немощное тело. Ее седые локоны выпрямились после проведенных в кровати дней. Кожа между ними синевато-белая и сморщенная.
Глава девятая
В больнице никогда не бывает темно. Свет от дверей, окон, читальных ламп из коридоров всегда предательски пробирается под веки. Как бы крепко она ни зажмуривалась, темнее не становится, хотя от этого напряжения век все равно невозможно уснуть. Тревожная кнопка находится возле правой руки. Она проводит по ней большим пальцем, но не нажимает. Стул, на котором сидел священник, теперь пуст. Она снова закрывает глаза. Пытается заснуть, но дело не в свете, а в шуме. Раздаются гудки, когда пациенты нажимают на кнопки. В ее палате кто-то храпит. Где-то вдали открывается и закрывается дверь. В коридоре кто-то ходит. Некоторые звуки кажутся ей интересными, пробуждают в ней любопытство. Например, лязг стали или звук пришедшего сообщения. От других крутит живот. Старики кричат, плюются и справляют естественные надобности. Она с тоской ждет утра, когда дневной свет и рабочая суета в отделении как будто поглощают самые худшие звуки. Она каждый день забывает попросить беруши, но не хочет беспокоить ночную смену.
Бессонница делает боль острее, несмотря на лекарства. Она изливается прямо в ее ноги. Через несколько дней назначена операция. Ей нужен новый тазобедренный сустав – ее собственный поврежден во время падения. Она ужаснулась, когда медсестра показала ей размер штифта, который введут в ее кость, чтобы вернуть возможность ходить. До тех пор она должна лежать неподвижно, хотя к ней каждый день приходит физиотерапевт и мучает ее незначительными движениями, которые невыносимо больно выполнить. Скорее бы вернулся священник с ее ноутбуком. Она не смеет надеяться – вероятно, он уже об этом забыл. Ее мысли замедляются, она наконец начинает дремать.
Когда она просыпается, за окном светло. На оконном сливе сидит птица. Серая, с оттенками желтого. Возможно, большая синица? Или обычный воробей. Она не может вспомнить, кто из них желтый. Птичка распушила перья и активно роется в них клювом, охотясь на раздражающих маленьких насекомых. Она следит за ее движениями. И вспоминает о белке.
П. Пестова, Элеонора
Нора. Давно я о ней не думала. Она была словно из сказки, самое красивое создание на свете. На которое все смотрели, которым хотели быть все. Даже я. Она была сильной.
Я все еще страдала от ужасной ностальгии. Конечно, не я одна. Часто по ночам из девичьих кроватей в квартире на рю Пуссен доносились рыдания, но наступало утро, и мы упорно поднимались и прикладывали к векам холодные стеклянные банки из холодильника, чтобы уменьшить отек. Затем нас красили, и мы целый день стояли в универмаге и натянуто улыбались богатым дамам. Улыбались так много, что к вечеру начинало сводить щеки.
Когда человек долго тоскует, в нем как будто что-то ломается. Медленно тухнет взгляд, и он теряет способность видеть красоту в своем окружении, в своей повседневной жизни. Я могла лишь оглядываться в прошлое. Приукрашая все, частью чего больше не могла быть.
Но мы терпели – мы были бедными, и только наша красота давала нам надежду на возможное светлое будущее. Мы не жаловались. Мирились с булавками, царапающими спины, и причиняющими боль прическами. Но не Нора. Она всегда улыбалась. Возможно, это не так уж странно – она пользовалась огромным спросом. Все хотели с ней работать. Пока остальные позировали и улыбались в универмагах, ее фотографировали для Chanel и Vogue.
Элеонора Пестова – у нее даже имя красивое – приехала из Чехословакии. Ее коротко стриженные волосы были каштановыми, а глаза – кристально-голубыми. Когда она красила губы красной помадой, то становилась похожей на Белоснежку. Благодаря жесткому корсету, туго обхватывающему верхнюю часть ее тела и попу, она представляла собой идеал мальчишеских пропорций, к которому мы все стремились в начале тридцатых годов. Тогда платья были прямыми, а юбки короткими, хотя начали потихоньку намечаться более женственные формы. В наши дни подростки стремятся быть модными, тогда модно было быть подростком.
Пока остальные из нас ходили пешком и сами подправляли себе макияж и прически, Нору везде возили. Мы зарабатывали достаточно, чтобы выживать, но она получала гораздо больше. Она покупала себе симпатичные сумки и одежду, но казалось, ее совершенно не впечатляла роскошь. Каждый вечер она устраивалась на кровати с книгой. На тумбочке, что мы делили на двоих, моя фотография Йёсты соседствовала рядом с растущей стопкой ее книг. Книги помогали ей отвлечься от реальности, как было со мной, когда я жила у мадам, и однажды, обнаружив, что я разделяла ее интерес, она разрешила мне взять несколько книг. Я читала их, а потом мы сидели вечерами на французском балконе, говорили о книгах и курили. Как минимум десять сигарет за вечер – такова часть предписанной нам диеты. Толстые девушки остаются без работы, а сигареты – тогда их называли диетическими – были чудодейственным лекарством. Никотин кружил нам голову, мы хихикали над тем, что было вовсе не смешно. Когда сигареты перестали действовать, мы начали пить вино. Разливали его по высоким чашкам, чтобы наша надзирательница не узнала, что мы задумали.
Благодаря Норе и этим счастливым вечерам Париж наконец начал обретать цвет. Я снова принялась писать Йёсте. Мне больше не нужно было врать, я просто описывала все, что меня окружало. А еще заимствовала у многих прочитанных мною авторов, наполняла свои письма их представлениями о городе. На выходных мы посещали те места, о которых они писали. Рисовали в фантазиях девятнадцатый век, женщин в длинных и пышных юбках, уличную жизнь, музыку, любовь, романтику. Жизнь до депрессии, которая теперь повисла над миром.
Это Нора добилась моей первой съемки для Vogue. Она притворилась больной и отправила меня вместо себя. Когда машина остановилась у нашей двери, она с улыбкой запихнула меня в нее:
– Стой прямо. Улыбайся. Они никакой разницы не заметят. Они ждут красивую женщину и именно ее и получат.
Машина довезла меня к большому промышленному зданию на окраине города. На двери висела небольшая металлическая табличка. Даже сейчас я помню ничем не примечательные угловатые буквы, складывающиеся в имя фотографа. Клод Леви. Все прошло, как говорила Нора. Он кивнул мне и показал на стул, на который я присела в ожидании.
Я наблюдала за ассистентами, приносящими одежду, которую надевали на деревянных манекенов. Клод несколько раз подходил к ним и рассматривал одежду вместе с редактором Vogue. Они выбрали четыре платья, все в розовых тонах. Ассистенты принесли ожерелья – длинные, красные, из стеклянных бус. Они повернулись ко мне. Рассмотрели с головы до ног.
– Она выглядит по-другому.
– Разве она не брюнетка?
– Она симпатичная, с блондинкой получится лучше, – сказал редактор, одобрительно кивнув.
Затем они отвернулись от меня. Словно меня, живого и дышащего человека, не было здесь с ними в этой комнате. Словно я была всего лишь одним из деревянных манекенов.
Я сидела, пока кто-то не попросил меня пересесть на другой стул. Там мои ногти накрасили красным лаком, нанесли макияж, волосы завили и сбрызнули сахарным раствором. Прическа стала жесткой и тяжелой, поэтому я сидела с прямой шеей и не шевелила головой. Нельзя испортить идеально уложенные пряди волос.
Камера стояла посреди комнаты, на деревянной треноге. Небольшая черная коробка с выдвижным объективом, обтянутая гофрированной кожей. Клод обогнул ее, сдвинул на несколько сантиметров назад, вперед, в одну сторону. Искал правильные углы. Я сидела откинувшись в кресле, положив одну руку на спинку. По моему телу шуровали руки. Разглаживали ткань, выравнивали ожерелья, припудривали нос.
Клод резко отдавал команды:
– Не крути головой! Сдвинь руку на миллиметр вправо! Платье помято!
Когда он наконец был готов фотографировать, мне пришлось сидеть неподвижно, пока не закрылись створки.
Все могло бы закончиться на этом. На красивой обложке с блондинкой в розовом платье. Но не закончилось.
Когда мы закончили съемку для журнала, Клод Леви подошел ко мне. Он попросил меня попозировать для другой фотографии. Это будет художественный образ, сказал он. Визажисты собрали свою косметику, парикмахеры – свои расчески и бутылочки, стилист – одежду, а редактор – свои вещи. Осталась только я в розовом платье. В комнате стало пусто, когда он наконец попросил меня лечь на пол. Расправил мои волосы веером и с помощью шпилек закрепил на них листья березы. Лежа на полу, я ощущала гордость. Гордость, что он попросил меня. Признал. Он навис надо мной, поставил треногу под углом и взял сам фотоаппарат в руки. Попросил меня приоткрыть рот. Я подчинилась. Сказал смотреть в объектив с желанием в глазах. Я подчинилась. Сказал коснуться верхней губы кончиком языка. Я замешкалась.
Затем он переместил фотоаппарат в одну руку, другой взял меня за запястья и завел их за голову. Слишком решительно. Его лицо приблизилось к моему, и он поцеловал меня. Просунув свой язык между моих зубов. Я стиснула зубы и стала пинаться, чтобы освободиться. Но волосы были прикованы к полу: шпильки надежно их удерживали. Я закрыла глаза, приготовилась к боли и вырвалась. Наши головы столкнулись, и он, чертыхаясь, схватил себя за лоб. Я воспользовалась этой возможностью, прошмыгнула мимо него и пустилась бегом. Я выбежала на улицу. Босоногая, без своих вещей и одежды. В том платье, в котором меня фотографировали. Он кричал мне в спину: «Putain!», и его слова эхом отдавались между зданиями. Шлюха!
Я бежала и бежала. Прямо по промышленной зоне, босиком. Конечно, я порезалась об осколки стекол. Ступни кровоточили, но я не могла остановиться. Адреналин гнал меня вперед, пока я не почувствовала, что мне ничего не угрожает.
Остановившись, я поняла, что не знаю, где нахожусь. Я присела на каменное заграждение. Розовое платье намокло от пота, и ткань холодила кожу. Когда мимо проходили хорошо одетые парижане, я прятала босые ноги, прижимая их к стене. Никто не остановился. Никто не спросил, нужна ли мне помощь.
День перешел в вечер, а я все сидела на одном месте. Вечер сменился ночью, а я все не могла пошевелиться.
Разодранные ступни перестали кровить, когда я наконец очень медленно прихромала в незнакомый дворик и украла велосипед. Не пристегнутый ржавый мужской велосипед. Последний раз я каталась на велосипеде в детстве в Стокгольме, и даже тогда не особо часто. Только когда почтальон заканчивал свой маршрут и разрешал детям покататься на своем велосипеде. Я ехала, вихляя, по улицам. Увидела, как встает солнце и просыпаются люди.
Уловила запах хлебных печей и зажженных дровяных. Ощутила вкус своих слез. Улицы казались все более знакомыми, и я наконец увидела Нору, которая вскочила со скамейки у станции метро Рю-д’Отёй, увидев меня. Она вскрикнула и побежала ко мне. Я тряслась от усталости.
Мы сели на тротуар, близко друг к другу, как и всегда. Она достала из кармана сигарету и терпеливо слушала, как я, тяжело дыша, рассказывала ей, что случилось.
– Мы больше не работаем с Клодом. Обещаю, – сказала она и прислонилась головой к моей.
– Мы больше не работаем с ним, – шмыгнула я. – И не важно, что это для Vogue.
– Да, не важно, что это для Vogue.
Но это было важно. Нора не в последний раз работала на Клода. И я тоже. Вот что значит жизнь манекенщицы. Мы не жаловались. Когда предлагали хорошую работу, нельзя было сказать «нет». Но я сделала все возможное, чтобы никогда не оставаться с ним наедине.
Н. Нильссон, Йёста
Я была прикована к кровати несколько недель, ноги плотно обмотаны бинтами. В комнате витал отвратительный запах гноя и болезни. Месье Понсард был в ярости, потому что меня было некем заменить в универмаге. Он каждый день приходил ко мне и что-то бормотал, замечая отсутствие прогресса. Я так и не осмелилась рассказать ему, что произошло. В те времена было принято молчать.
Однажды я получила письмо от Йёсты. В нем была всего одна строчка, написанная посреди листка растянутыми прописными буквами:
СКОРО ПРИЕДУ!
Скоро, когда это скоро? Мысль о возможной встрече с ним наполнила меня предвкушением, и я надеялась, что наконец прогуляюсь с ним по городу, который стала называть домом. Увижу его Париж, покажу ему свой. Я ждала его каждый день, но он так и не приезжал. И я не получила ни одного письма с объяснением или датой его приезда.
Мои ноги зажили достаточно быстро, и я снова могла ходить. Но Йёста продолжал молчать. Каждый день, возвращаясь домой, я с нетерпением спрашивала гувернантку, не было ли посетителей, звонков или писем. Но ответ всегда был отрицательный. До сих пор помню ее язвительную кривую ухмылку, когда она сообщала мне безрадостные новости. Меня часто огорчала ее полная неспособность сочувствовать.
Мы с Норой испытывали неприязнь к ней, как и она к нам. Оглянувшись назад, я даже не могу вспомнить ее имя. Интересно, знала ли я его вообще. Для нас она была всего лишь гувернанткой. А когда не слышала нас – vinaigre2.
Следующее письмо от Йёсты пришло только через несколько месяцев.
Дорогая Дорис!
В Стокгольме сейчас тяжелые времена. Наверное, то же можно сказать и о моем любимом Париже?
Уровень безработицы высок, и люди экономят деньги, а не покупают предметы искусства. У меня нет денег даже купить молока. Последние три картины я обменял на еду. Билет в Париж сейчас остается для меня недостижимой мечтой. Моя дорогая маленькая Дорис, я снова не могу к тебе приехать. Должен остаться здесь. В доме 25 по улице Бастугатан. Интересно, смогу ли когда-нибудь уехать отсюда? Продолжаю мечтать о том дне, когда опять увижу тебя.
Живи! Поражай мир. Я горжусь тобой. Твой друг,
Йёста.
Сейчас я сижу с этим письмом в руке, оно до сих пор сохранилось. Пожалуйста, Дженни, не выбрасывай мои письма. Если тебе не нужна жестяная коробка, похорони ее со мной.
Моя тоска по Йёсте становилась все сильнее и сильнее. Закрывая глаза, я видела его лицо, слышала его голос. Как он разговаривал со мной, пока я ночью убиралась в квартире мадам. Как задавал так много вопросов, чтобы заинтересовать меня.
Постепенно этот замечательный человек, со странными картинами и мужчинами, которых пытался спрятать от всего мира, стал казаться мне вымышленным. Воспоминанием о моей прежней жизни. Смутным ощущением, что когда-то был тот, кто заботился обо мне.
Его письма приходили все реже. И я писала все меньше и меньше. Мы с Норой обменяли одинокие вечера в компании книг на роскошные вечеринки в шикарных домах. Где богатые молодые мужчины были готовы сделать все, чтобы заполучить нас.
П. Пестова, Элеонора
Мы каждый день становились свидетелями перевоплощения, когда наши лица красили, а волосы завивали. Когда наши тела наряжали в красивые платья. Макияж тогда совершенно отличался от нынешнего. Пудру наносили густым слоем и вбивали в нашу кожу, глаза подводили широкими черными мазками. Форма наших лиц менялась, сглаживались все естественные линии и углы. Глаза становились больше и блестели.
Красота – самая влиятельная сила, и мы быстро стали ей пользоваться. С макияжем и в красивых платьях, мы стояли прямо и наслаждались силой своей красоты. Красивого человека слушают, им восхищаются. Я особенно остро ощутила это позже, когда моя кожа потеряла эластичность, а волосы начали седеть. Когда я перестала притягивать взгляды людей. Этот день настанет. Для всех.
Но тогда в Париже именно моя внешность помогала мне выжить. Когда мы стали старше и работа начала приносить больше денег, мы научились осознанно использовать свою силу. Стали уверенными, взрослыми и по-прежнему красивыми. Мы были независимы, могли содержать себя и даже позволить себе немного роскоши. Нам нравилось выходить из квартиры по вечерам и погружаться в ночную жизнь Парижа, где интеллигенция и богачи отдавались ритмам джаза. И мы тоже развлекались.
Нас везде принимали охотно, но Нору соблазняло не светское общество – ее больше интересовало шампанское. Мы никогда не оставались в одиночестве и без бокала с шипучкой в руке. Приезжали вместе, но вскоре после этого обычно расходились. Нора задерживалась у бара, а я предпочитала танцевать. Она выбирала для интеллектуальных бесед мужчин, готовых предложить ей напитки. Она была начитанной, могла рассуждать об искусстве и книгах, о политике. Если мужчины переставали покупать коктейли, она замолкала. А затем отыскивала меня, дергала за платье, и мы уходили с высоко поднятыми головами, пока бармен не успел понять, что никто не планирует оплачивать выпитое.
Гувернантка давно исчезла. К тому времени мы стали молодыми женщинами и могли сами о себе позаботиться. Должны были о себе заботиться. Соседи часто смотрели на нас пренебрежительно, когда мы возвращались поздно и иногда в компании с одним-двумя кавалерами. Мы были молоды и свободны, но искали настоящих мужчин. В те времена все именно этим и занимались. Мужчин добрых, красивых и богатых, как говорила Нора. Которые могли спасти нас от окружающего иллюзорного мира. Которые могли дать нам безопасность. И кандидатов было много. Мужчины приходили к нам в квартиру, держа шляпы в руках и спрятав за спиной розы. Приглашали на кофе в многочисленные кафе Парижа. Некоторые даже опускались на колено и делали предложение. Но мы всегда отказывали. Что-то всегда было не так. Может, то, как они говорили, их одежда, улыбка или запах. Нора больше искала роскошь, чем любовь. И занимала твердую позицию по этому вопросу. Она не хотела возвращаться в нищету, в какой выросла в Чехословакии. Но я знала, что там остался человек, влюбленный в нее с детства. Все его письма она добавляла к стопке нераспечатанных конвертов, запрятанной в глубь шкафа, как будто хотела вычеркнуть эту связь из своей жизни, но не могла решиться.
Когда звонил звонок, Нора всегда просила открывать дверь кого-то другого, чтобы в случае, если пришли к ней, она могла решить, хочет ли видеть этого человека. Если кто-то ее искал, а она не показывалась, мы должны были сказать, что ее нет. Однажды вечером дверь открыла я. У стоящего передо мной мужчины были добрые орехово-коричневые глаза, короткая черная бородка и свободно сидящий костюм. Он снял шляпу и, проведя пальцами по коротко стриженным волосам, едва заметно кивнул. Он был похож на фермера, который случайно забрел в город. В руке он держал белый пион. Он назвал ее имя. Я покачала головой:
– Боюсь, ее нет дома.
Но мужчина не ответил. Его взгляд сосредоточился на чем-то за моей спиной. Я повернулась. Элеонора. Я буквально физически ощутила связь между ними. Они заговорили на языке, которого я не понимала.
В итоге она со слезами на глазах бросилась в его объятия.
На следующий день они ушли.
П. Пестова, Элеонора МЕРТВА
Без Норы я снова ощутила пустоту и одиночество. Не с кем было посмеяться, никто не вытаскивал меня в парижскую ночь. И снова книги стали моими друзьями, хотя теперь я не могла себе позволить покупать новые. На выходных я ходила в парк и читала, греясь на солнце. Гертруда Стайн, Эрнест Хемингуэй, Эзра Паунд и Фрэнсис Скотт Фицджеральд постепенно отдаляли меня от гламурной жизни, которой мы привыкли жить мы с Норой. И я была куда счастливее среди книг, деревьев и птиц, все стало спокойнее.
Иногда я брала с собой пакетик с хлебными крошками и рассыпала их на скамейке, на которой сидела. Подлетающие птички составляли мне компанию. А некоторые настолько приручились, что ели прямо с ладони.
Перед отъездом Нора оставила мне почтовый адрес. Сначала я писала ей длинные письма. Но ответа не получала. Я представляла себе, чем она занималась, на что были похожи ее дни, мужчину с орехово-карими глазами и их жизнь вместе. Гадала, была ли ее любовь к нему достаточно сильной, чтобы компенсировать жизнь, полную роскоши и поклонников, к которой она так привыкла.
Однажды ночью раздался стук в дверь. Открыв ее, я едва узнала Нору. Ее лицо было непривычно загорелым, волосы – жидкими. Она лишь покачала головой на мой озабоченный взгляд и, оттолкнув меня, прошла внутрь. Ответом на вопрос, который я так и не задала, был шепот:
– Не хочу об этом.
Я обняла ее. Мне многое хотелось знать. Прелестные черты лица Норы скрылись за распухшими щеками. Точеная фигурка пряталась под объемной шалью:
– У тебя будет ребенок!
Я отступила на шаг и положила руки на ее живот.
Она вздрогнула и скинула их. Покачала головой и плотнее обернулась шалью.
– Мне надо начать работать, нам нужны деньги. Урожай в этом году не удался, а на последние гроши я купила билет на поезд.
– Но ты не можешь работать, ты беременна! Месье Понсард разозлится, когда увидит тебя, – сказала я.
– Пожалуйста, не рассказывай ему, – тихо прошептала она.
– Мне и не придется, дорогая моя. Это так очевидно, нет смысла прятаться.
– Мне не стоило ехать с ним домой!
Она начала плакать.
– Ты его любишь?
Она замолчала, а потом кивнула.
– Я помогу тебе, обещаю. Можешь остаться здесь на несколько дней, затем я позабочусь, чтобы ты уехала домой, – сказала я. – Вернись к нему.
– Жизнь там намного сложнее, – всхлипывала она.
– Ты всегда можешь вернуться, как только родишь. Универмаги и журналы никуда не денутся! И у тебя останется твоя красота, ты снова сможешь работать.
– Я должна снова работать, – прошептала она.
Той ночью она заснула на моей кровати. Мы спали рядышком, и я чувствовала в ее дыхании легкий запах алкоголя. Я тихо выбралась из кровати и бессовестно порылась в ее сумке. Нашла на дне фляжку, открутила крышку и принюхалась. Шампанское сменил дешевый спирт. Нора продолжила пить, даже когда перестала ходить на вечеринки.
Она избегала встреч с месье Понсардом. Мы старались как можно больше провести времени вместе. За разговорами по душам и долгими прогулками по Парижу. Неделю спустя она вернулась домой. Я погладила ее круглый живот, провожая ее на вокзале. Сильная и красивая Нора за несколько коротких месяцев превратилась в тень себя прежней. Перед отправлением поезда она высунулась в окно и вложила в мою ладонь небольшого золотистого фарфорового ангела. Она ничего не сказала, просто помахала на прощание. Я побежала за поездом, но он набирал скорость, и я отстала. Я кричала, просила ее писать мне и сообщать о ребенке. Она услышала, и в моем почтовом ящике периодически появлялось письмо от нее. Она рассказала мне о дочке Маргарите и тяжелой работе на ферме, о том, что скучает по Парижу и жизни, которую оставила позади. Но годы шли, письма приходили все реже и реже, и однажды я получила письмо от другого отправителя. В нем коротко и с ошибками сообщалось на французском: Eleonora et maintnant mort (Элеонора недавно умерла).
Я так и не узнала, почему она умерла. Возможно, ее убил алкоголь. Или рождение второго ребенка. Возможно, она больше не могла бороться.
Но с того дня, видя ангела, я всегда думала о ней. Все ангелы напоминали мне того золотистого, которого она вложила в мою ладонь на прощание. Я медленно зачеркнула ее имя в своей записной книжке и золотистыми чернилами написала слово: МЕРТВА. Золотистыми, как солнце, как золото.
С. Смит, Аллан
Дженни, помнишь мужчину в моем медальоне? В том, что ты нашла в ящике в последнюю нашу встречу?
Однажды он появился в парке. Я сидела на скамейке под липой. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь листья и ветви, освещая страницы моей книги. Вдруг на меня упала тень, и я, подняв голову, встретилась взглядом с мужчиной, внимательно смотревшим на меня. Его глаза блестели, будто он смеялся. Даже сейчас я помню, во что он был одет: белая мятая рубашка, красный свитер из овечьей шерсти, бежевые брюки. Никакого костюма, никакого жесткого воротничка, никакого ремня с золотой пряжкой. Никаких внешних признаков большого достатка. Но у него была шелковая гладкая кожа и такие соблазнительные губы, что мне сразу захотелось податься вперед и поцеловать его. Это было странное чувство. Он бросил вопросительный взгляд на пустое место возле меня, и я кивнула. Я пыталась продолжить чтение, но мое внимание было приковано к нему и удивительному ощущению от энергии, словно пульсирующей между нами. От него восхитительно пахло, и мне казалось, этот запах пробрался прямо ко мне в душу.
– Я планировал прогуляться. – Он поднял обе ноги в воздух и показал изношенные парусиновые туфли, словно оправдывая свой вид.
Я улыбнулась. Ветер играл с макушками деревьев, раздавался щебет птиц. Я чувствовала его взгляд.
– Леди случайно не хочет ненадолго присоединиться ко мне?
Немного подумав, я согласилась, и мы гуляли, пока солнце не скрылось за деревьями. Как только мы сделали наши первые шаги, мир перестал существовать и все вокруг перестало иметь значение. У двери он поцеловал меня на прощание.
Обхватил мою голову руками и подошел так близко, что казалось, будто мы слились друг с другом и стали чем-то едиными. Его губы были мягкие, теплые. Он крепко обнимал меня. Долго. И прошептал мне на ухо:
– Встретимся завтра в то же время и в том же месте.
А затем быстро отступил, осмотрел меня с головы до ног, послал воздушный поцелуй и растворился в теплой ночи.
Его звали Аллан Смит, и он был американцем, но в Париже жили его близкие родственники, которых он приехал навестить. Он был полон энтузиазма и стоил грандиозные планы: учился на архитектора и мечтал изменить мир, изменив облик городов.
– Париж превращается в один большой музей. Нам необходимо вдохнуть в него жизнь, добавив что-то современное и функциональное.
Я с восхищением слушала его, прикасаясь к миру, о котором никогда не знала. Он говорил о зданиях, о новых интересных материалах и их применении, а еще о том, как живут люди и как будут жить в будущем. В мире, где и мужчины, и женщины работают, где домашнее хозяйство можно вести без горничных. Он рассуждал об этом со страстью, запрыгивал на скамейки в парке и рьяно жестикулировал, желая продемонстрировать определенную точку зрения. Я про себя думала, что он, похоже, сумасшедший, но восхищалась его энергией. А потом он обхватывал мое лицо и прижимался своими губами к моим. На вкус он был словно солнечный свет. Тепло его губ распространялось на мои и охватывало все тело. Я заметила, что с ним дышу спокойнее и даже книги, казалось, ничего не весят. Мне хотелось навсегда остаться с ним. В его руках.
В тот момент – теплым весенним днем, когда я согласилась прогуляться по парку с мужчиной в порванной спортивной обуви, – деньги, статус и благополучное будущее потеряли для меня всякий смысл.
Глава десятая
– Ужасно видеть тебя прикованной к кровати! Все еще болит? Мне прилететь?
– Нет, Дженни, что это даст? Что тебе делать со старой каргой? Ты молода, должна веселиться, а не присматривать за калекой. – Она разворачивает ноутбук, который ей принес священник, и машет заправляющей кровать медсестре: – Сестра, подойдите и поздоровайтесь с моей Дженни.
Медсестра подходит и с любопытством рассматривает единственного посетителя Дорис:
– О, скайп? Новые технологии вас не пугают?
– Нет, это не про Дорис, она всегда первая, когда дело касается новинок. Более волевой старушки не найдете, – смеется Дженни. – Но вы же присматриваете за ней? С ногой все будет в порядке?
– Конечно же присматриваем. Мы оказываем ей лучший уход из возможных, но я не могу сказать, как у нее дела. Хотите поговорить с ее лечащим врачом? Если да, я могу организовать вам звонок.
– Конечно. Если ты не против, Дорис?
– Не против, ты все равно никогда не верила тому, что я тебе говорю, – улыбается Дорис. – Но если он скажет, что я скоро умру, ты должна ответить ему, что я уже знаю об этом.
– Прекрати так говорить! Ты не умрешь. Мы уже это решили.
– Ты всегда была наивной, моя дорогая Дженни. Но ты же видишь, как я выгляжу? Смерть ждет меня в каждой морщинке, устроившейся на моей теле. Скоро она сломит меня. Это не изменить. И знаешь, что? Это будет просто прекрасно.
Дженни и медсестра обмениваются взглядами, одна выгибает бровь, вторая раздувает щеки, словно медленно вздыхает. Медсестра расправляет подушку Дорис и исчезает за дверью.
– Дорис, ты должна прекратить разговоры о смерти. Я даже не хочу слышать эти глупости. – Дженни вдруг переключается на английский. – Джек! Иди сюда и поздоровайся с тетушкой, она сильно пострадала и лежит в больнице.
К компьютеру подходит долговязый подросток. Он машет и улыбается. Его быстрая улыбка вспыхивает серебристыми брекетами, но потом он смущается и закрывает рот.
– Смотрите, – говорит он ей на шведском, а потом переключается на английский: – Зацените.
Он разворачивает компьютер к коридору. Затем встает на скейтборд, широко расставив ноги. Отводит одну ногу, подбрасывая доску, и приземляется обратно.
Дорис аплодирует и кричит:
– Браво!
– Я же говорила, никакого скейтборда в доме! – шипит Дженни. И поворачивается к Дорис: – Он совершенно зациклился на этой штуке. Что с ним такое? Кусок дерева на колесах занимает весь его день. А если не колеса, которые нужно подкручивать или менять, то трюки, в которых нужно упражняться. Видела бы ты его колени, шрамы, с которыми ему придется жить до конца своей жизни.
– Отстань ты от него, Дженни. Можно же купить ему наколенники?
– Наколенники? На подростка? Нет, я пыталась, но он отказывается. А я вряд ли смогу закрепить их скобами на его коже. Видите ли, это не круто.
Она закатывает глаза и вздыхает.
– Он молод, позволь ему быть молодым. Несколько шрамов не убьют его. Лучше пусть они будут снаружи, чем внутри, на его душе. Он кажется счастливым.
– Да, он всегда счастливый. Наверное, мне повезло. У меня хорошие дети.
– У тебя замечательные дети. Жаль, я не могу прилететь к вам и обнять всю вашу компанию. Как замечательно, что мы можем так общаться. Раньше было трудно оставаться на связи. Я когда-нибудь рассказывала тебе, какой была молодой, когда в последний раз видела свою маму?
– Да, рассказывала. Знаю, тебе было сложно. Но ты хотела вернуться в Швецию – и вернулась.
– Да, вернулась. Иногда я задумываюсь, не лучше бы мне было остаться с тобой, с тобой и твоей мамой.
– Нет, уф, не говори так. Не начинай о чем-то сожалеть, тебе есть о чем сейчас переживать. Если напала ностальгия, думай о хорошем, – улыбается Дженни. – Хочешь приехать сюда? Мне найти в Сан-Франциско интернат?
– Ты самый прелестный человек на свете, как я рада, что у меня есть ты, Дженни. Но нет, спасибо, я останусь здесь, как и планировала. Нет сил ни на что другое… Кстати о силах, мне пора отдыхать. Обнимаю тебя, любимая. Передавай привет Вилли. Скоро увидимся?
– Обнимаю тебя, Дорис! Да, через неделю в то же время. Тебе как раз сделают операцию…
– Да, – вздыхает Дорис. – Сделают.
– Не волнуйся, все будет хорошо. Ты в два счета встанешь на ноги, вот увидишь, – кивает Дженни, распахнув глаза.
– Через неделю в то же время, – бормочет Дорис и посылает обязательный воздушный поцелуй.
Она торопится отключиться от Дженни и ее энтузиазма, но тишина падает на нее, как тяжелое сырое одеяло. Она смотрит на темный экран. У нее не остается сил, чтобы двигать руками и завершить записи, как она планировала. Дышать тяжело, и во рту появляется горький вкус желчи. Болеутоляющее расстроило ее желудок, он раздулся и болит.
Она передвигает все еще теплый ноутбук на живот, закрывает глаза и позволяет теплу подействовать.
В палату заходит медсестра. Она убирает ноутбук на нижнюю полку тумбочки. Затем натягивает одеяло на спящую Дорис и выключает свет.
С. Смит, Аллан
По моим венам словно разлился углекислый газ. Той ночью я не могла заснуть, а весь следующий день словно парила в небесах. После работы я выбежала из универмага, перепрыгивая через две ступеньки за раз. К тому времени, как я добралась до парка, он уже ждал меня на скамейке. С альбомом в руке. Он сосредоточенно рисовал карандашом. Обнаженную женщину с ниспадающими по телу волосами, частично прикрывающими грудь. Меня это смутило. Он перевернул альбом, когда заметил мои покрасневшие щеки. И робко улыбнулся.
– Я просто пытался по памяти запечатлеть твою красоту, – пробормотал он.
Я села рядом с ним, и он пролистал свой альбом, показывая мне другие рисунки, в основном здания и сады. Он хорошо рисовал, решительными линиями улавливал детали и углы. На одной странице он зарисовал магнолию, ее толстые ветви сплошь покрыты изящными нежными цветками.
– Какой твой любимый цветок? – спросил он, продолжая рассеянно рисовать.
Я задумалась и вспомнила цветы дома, в Швеции, по которым так сильно скучала. В итоге я назвала розы и рассказала ему о тех белых, которые росли снаружи папиной мастерской. Рассказала, как скучала по нему, про его смерть и как это случилось. Он обнял меня и прижал к себе, чтобы я положила голову к нему на грудь. Он медленно гладил мои волосы.
В тот момент я наконец перестала чувствовать себя одинокой.
Вскоре парк и скамейка, на которой мы сидели, погрузились в темноту. Я помню сладкий запах жасмина в воздухе, затихших птиц и включенные фонари, отбрасывающие тусклый свет на гравийную дорожку.
– Ты это чувствуешь? – вдруг спросил он, расстегивая две верхние пуговицы на своей рубашке. – Чувствуешь тепло?
Я кивнула, и он взял меня за руку и прижал ее к своему лбу. На линии роста волос блестели капельки пота, он был мокрый.
– У тебя такая холодная рука, любимая моя. – Он обхватил ее руками и поцеловал. – Как ты можешь быть такой холодной, когда жара настолько невыносима?
Его лицо озарилось. Так происходило всегда, когда ему в голову приходила какая-то идея. Словно он забавлялся своим воображением. Он поднял меня со скамейки и, крепко прижимая меня к себе, закружился.
– Идем, я хочу показать тебе одно тайное место, – прошептал он, прижавшись щекой к моей.
Мы медленно брели по городу, словно времени не существовало. С Алланом было легко. Я делилась с ним своими мыслями. Рассказывала о своей тоске. О своем горе. Он слушал. Он понимал.
Наконец мы увидели Отёйский мост-виадук. Двухуровневый мост, который давал железной дороге возможность пересекать широкую реку. Мы спустились по лестнице на несколько пролетов к пляжу, где оставляли на ночь речные катера.
– Куда ты меня ведешь? Что это за тайное место?
Я замешкалась, остановилась на полпути. Аллан подбежал, чтобы забрать меня. С нетерпением.
– Ну же, ты не считаешься парижанкой, пока не искупаешься в Сене.
Я уставилась на него. Искупаться? Как вообще можно такое предлагать?
– Ты с ума сошел? Я не стану перед тобой раздеваться. Ты же не думаешь, что стану?
Я отшатнулась от него, но он крепко держал мою руку и был таким неотразимым в своем безумии.
– Я закрою глаза, – прошептал он. – Не буду смотреть, обещаю.
Мы перелезли через три катера. Они были пришвартованы в один ряд. У самого последнего имелась на корме лестница. Аллан снял рубашку и брюки и идеальным прыжком погрузился в воду. Меня окутала тишина, рябь на поверхности черной воды сгладилась. Я позвала его по имени. Он вдруг показался возле катера. Ухватился за борт и повис на руках. С его темных волос стекала вода. Улыбнулся широкой белоснежной улыбкой.
– Я держался в стороне, чтобы леди нырнула незамеченной. Давай поторопись, – засмеялся он и снова исчез.
Я умела плавать, научилась в Стокгольме. Но было очень темно, и я помню, как мое сердце колотилось от волнения. В итоге я скинула туфли и позволила платью упасть на пол. Под ним прятался корсет, в то время они были обычным явлением. Из плотного шелка, под цвет кожи и с жесткими чашками, поддерживающими грудь. Я не стала его снимать. Когда я занесла ногу над поверхностью воды, Аллан схватил за нее. Я громко закричала и с всплеском упала в его объятия. Его смех эхом разнесся под арками моста.
С. Смит, Аллан
Аллан веселил меня. Переворачивал мой мир с ног на голову, и я все еще думала, что он слегка сумасшедший. Но только сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что он понимал людей и знал, куда движется этот мир. Когда я смотрю на современные молодые семьи, то вижу людей, о которых он так давно говорил.
– Твой дом – это твой собственный маленький мир, – говорил он. – Твоя собственная держава. Вот почему дом следует адаптировать для той жизни, какой ты живешь. Кухня должна соответствовать еде, которую на ней готовят, людям, которые живут в этом доме. Кто знает, может, в будущем в наших домах совсем не будет кухонь. Зачем они нам нужны, если есть рестораны, которые готовят еду куда лучше нас?
Меня сильно забавляли его слова про дома без кухонь, ведь тогда как раз стали доступными первые холодильники и бытовая техника. Все стремились набить свои кухни всевозможными современными удобствами, различной техникой.
– Может, в будущем наши кухни будут похожи на ресторанные? – засмеялась я. – А может, иметь собственного повара и одну-две официантки станет нормой?
Он всегда игнорировал сарказм в моих комментариях и оставался серьезным.
– Я имею в виду, что все меняется. Старые здания сносят, возводятся новые. Декоративная отделка сменяется функциональной. В результате и комнаты обретут новое значение.
Я покачала головой, не уверенная, шутил он или говорил серьезно. Мне нравилась его способность использовать воображение, создавать невероятные абстрактные рисунки, такие же сюрреалистические, как и некоторые картины, выставляемые в то время в Париже. Аллан считал архитектуру основой всех человеческих отношений и, следовательно, решением всех жизненных проблем. Он жил материалами, углами, фасадами, стенами и закоулками. Когда мы шли прогуляться, он мог внезапно остановиться и смотреть на здание, пока я не кидалась в него шарфом или перчаткой. Тогда он всегда поднимал меня на руки. И кружил, как ребенка. Мне нравилось, что он вел себя так, как будто я всецело принадлежала ему, нравилось, что он осмеливался целовать меня посреди парижских оживленных улиц.
Иногда он садился и ждал меня у студии, в которой я работала. Когда я выходила в конце дня, полностью накрашенная, он с гордостью приобнимал меня и сопровождал в какой-нибудь ресторан. Странно, но нам с Алланом всегда было что рассказать друг другу, и никогда неловкое молчание не омрачало наших встреч. Мы гуляли по Парижу и не обращали внимания на бурлящую вокруг жизнь, полностью отдаваясь друг другу.
Денег у него было немного. А еще он понятия не имел, как вести себя в высшем свете. Никогда даже не ходил в престижные места, потому что его единственный комплект одежды был безнадежно большим и старомодным. Он выглядел как подросток, надевший папин костюм. На самом деле, не будь он таким обаятельным тогда в парке, я, наверное, даже не заговорила бы с ним. Воспоминание о нашей первой встрече научило меня быть непритязательной к внешнему виду людей.
Иногда совсем необязательно иметь одинаковые интересы или стиль, Дженни. Достаточно веселить друг друга.
С. Смит, Аллан
Я продолжала усердно работать. Улыбалась кроваво-красными губами, позировала, как говорили, завлекала светских дам и склоняла голову для квадратной коробки фотографа. Но моя голова была забита любовью и тоской. Когда мы были не вместе, я постоянно думала об Аллане. Я привыкла сидеть с ним в парке на скамейке. Он рисовал линии в своем альбоме – линии, которые превращались в здания. В этом его маленьком альбоме находился целый город, и мы часто представляли себе, в каком из домов жили бы.
Нередко мне приходилось из-за работы уезжать из Парижа. Мы с Алланом ненавидели это. Однажды он приехал забрать меня из моей квартиры на чужой машине – я помню даже сегодня, что это был черный «Ситроен Траксьон Аван». Он сказал, что довезет меня до замка в Провансе, где я демонстрировала платья и драгоценности. Он был неопытным водителем, возможно, даже впервые сел за руль. Дорога была ухабистой, и машина все время глохла. Я чуть не умерла со смеху.
– Мы никогда не доберемся, если продолжишь так подпрыгивать!
– Моя дорогая, если бы пришлось, я отвез бы тебя на велосипеде до луны и обратно. Конечно, мы доберемся. А теперь держись, я разгоняюсь!
После этого он вжал педаль в пол, и мы рванули вперед в облаке черного дыма. Когда мы через несколько часов наконец свернули на дорогу к замку, я вся была покрыта пылью и потом. Мы все еще сидели в машине и целовались, когда месье Понсард вдруг распахнул дверь. Он уставился на Аллана. То, что я целовала мужчину, за которым не была замужем, считалось позорным, и он дал Аллану это понять. Аллану пришлось удрать по гравийной дороге, чтобы его не побили.
Несмотря на всю серьезность ситуации, я почти не могла перестать смеяться. Аллан развернулся и издалека послал мне воздушный поцелуй.
Когда показ закончился, я улизнула и нашла Ал-лана спящим на траве возле замка. Я дотащила его до машины, и мы уехали, пока месье Понсард не увидел нас снова. Той ночью мы спали на теплом воздухе под звездами, крепко прижавшись друг к другу. Считали падающие звезды и представляли их своими детьми, которые однажды появятся у нас.
– Смотри, мальчик, – сказала Аллан, показывая на первую.
– И девочка, – добавила я восторженно, когда появилась следующая.
– Еще один мальчик, – засмеялся Аллан.
Когда упала седьмая звезда, он поцеловал меня и сказал, что детей достаточно. Я нежно гладила его шею, зарывалась пальцами в его волосы, вдыхала его запах и позволяла ему стать частью меня.
С. Смит, Аллан
Мы были знакомы всего четыре месяца, когда он вдруг неожиданно исчез из моей жизни. Просто пропал. Больше никто не стучался в мою дверь. Никто не ждал меня после работы с поцелуями и улыбками. Я не знала, где он жил, не знала его родственников, не знала, с кем связаться, чтобы выяснить, что произошло. В последнее время я замечала, что он стал тревожным, перестал быть веселым и жизнерадостным и одевался куда скромнее. Я предположила, что он потратил все деньги на куртку и какие-то блестящие кожаные ботинки, чтобы нравиться мне. Но возможно, по другой причине? Чувство волнения и отчаяния росло с каждым днем.
Я приходила на скамейку в парк, на которой он обычно сидел и рисовал свои здания, ожидая меня. Там было пусто, за исключением одноногого голубя, прыгающего туда-обратно в надежде отыскать крошку-другую. Я продолжала туда приходить, сидела там по несколько часов в день, но он так и не вернулся. Сидя там, я практически чувствовала его присутствие, он словно был рядом со мной.
Проходили дни. Я гуляла по нашему обычному маршруту, надеясь его увидеть. Надеясь, что все это лишь дурной сон. Воспоминания о нем начали казаться мне несбыточной мечтой. Я ругала себя за то, что была такой наивной и сосредоточилась на своей страстной влюбленности. Что задавала слишком мало вопросов, не требовала рассказать о себе.
Куда он пропал? Почему бросил меня? Мы должны были всегда быть вместе.
А. Альм, Агнес
После внезапного исчезновения Аллана я была похожа на приведение. Под глазами пролегли темные круги, а кожа стала бледной и сухой после бессонных ночей и соленых слез. Я не могла есть и стала слабой и худой. Каждая минута, в сознании и без, была занята мыслями о нем.
Дженни, в мире нет ничего хуже разлуки. Даже сейчас я не люблю прощаться. А расставание с дорогим тебе человеком отзывается в душе поистине физической болью.
Признаться, и эти раны через какое-то время заживают. Не настолько, чтобы совсем стерлись воспоминания о боли. Не настолько, чтобы люди, причинившие ее, перестали что-либо значить. Но эта первоначальная, паническая тревога притупляется и в итоге сменяется чем-то более нейтральным. С чем можно жить. Ты стараешься не вспоминать о тех, кто исчез, чтобы снова не вызвать это чувство. А если они сами напоминают о себе, то эта связь скорее тяготит, заставляя снова и снова бередить затянувшуюся рану. Ты оставляешь без ответа их письма, потому что забыть оказывается проще, чем победить боль.
После нескольких прожитых в Париже лет исчезло даже воспоминание о моей маме. Воспоминание о том, как она однажды отказалась от меня, вышвырнула во взрослый мир, о котором я ничего не знала, а сестре позволила остаться… И это единственное мое воспоминание. Для меня она стала той, кто выбирала между двумя детьми. Я иногда думала о ней, правда. Но моя тоска постепенно пропала.
Воспоминание об Аллане не исчезло, нисколько. Он почти всегда занимал мои мысли. Боль слегка утихла, но не любовь. Это было невыносимо.
Я искала в себе дефекты, причины того, почему он бросил меня. В итоге я зациклилась на выщипывании бровей и втягивании живота, вместо того чтобы думать о будущем. Прошло семь лет с тех пор, как я уехала из Швеции. У меня имелись деньги, я была независимой, в то время немногие женщины могли этим похвастаться. Моя жизнь состояла в выборе одежды и макияжа, которые превращали меня в другого человека, которым восхищались. Который был бы достаточно хорошим для всех. Я заполняла свои дни погоней за совершенством.
В тот день, когда в мою квартиру прибыла злосчастная телеграмма, я посвятила свое время покупке кожаных туфель такого же оттенка красного, что и мое новое платье. Я ходила по магазинам, сравнивала их с тканью и просила владельцев начистить кожу до блеска, но через секунду забраковывала их из-за некрасивой пряжки. Я жила беззаботно, и сейчас мне стыдно за это. Превратить молодых женщин в эгоцентричных, самовлюбленных ведьм легко. Так было тогда, и так есть сейчас. Блеск золота привлекает многих, но лишь некоторые задумываются о чем-то, кроме этого. Многие манекенщицы того времени происходили из богатых аристократических семей. Именно благодаря им эта работа стала престижной.
В любом случае, вернемся к телеграмме. Она пришла от маминой соседки и решительно положила конец моей пагубной жизни.
Дорогая Дорис!
С большой печалью сообщаю, что твоя мама скончалась после длительной болезни.
Мы вместе с ее друзьями и коллегами по работе наскребли достаточно денег на билет для Агнес. Она приедет в Париж поездом 23 апреля в час дня. Я передаю ее на твое попечение. Вещи твоей мамы сложены на одном из чердаков.
Надеюсь, удача придет к вам обеим. С любовью,
Анна Кристина.
Моя мать умерла, но воспоминания в моей душе умерли еще раньше. Младшая сестра врывалась в мой мир, словно отправленная не по тому адресу посылка. Когда мы виделись в последний раз, ей было семь. Теперь она стала долговязым подростком, рассеянно бродившим по платформе. В одной руке она несла видавший виды чемодан, перевязанный широким кожаным ремнем. Он был похож на папин старый ремень, испачканный белой краской. Ее глаза рассматривали толпу, искали меня, ее сестру.
Заметив меня, она остановилась и не сводила взгляда, а люди продолжали обходить ее. Они толкали ее туда-сюда, но она не отрывала взгляда от меня.
– Агнес? – Спрашивать было излишне, потому что она была в точности как я в том возрасте. Только чуть потяжелее и с более темными волосами. Она смотрела на меня, рот полуоткрыт, глаза распахнуты. Словно я была привидением. – Это я, твоя сестра. Ты меня не узнаешь?
Я протянула руку, и она взяла ее. Она вдруг вся задрожала и уронила чемодан. Отпустила мою руку и обхватила себя руками.
Она втянула голову в плечи.
– Пойдем, малышка. – Я приобняла ее и почувствовала, как ее дрожь передалась мне.
Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, и ощутила ее запах, он казался знакомым.
– Ты очень напугана? – прошептала я. – И грустишь? Я понимаю. Должно быть, тебе было сложно, когда она умерла.
– Ты похожа на нее. Ты очень похожа на нее, – пробормотала она, уткнувшись лицом в мое плечо.
– Правда? Столько времени прошло, что я почти не помню. У меня даже нет ее фотографии. А у тебя есть?
Я медленно гладила ее по спине, пока ее дыхание не стало ровным. Она отпустила меня и отступила на несколько шагов. Достала из кармана замусоленную фотографию и протянула мне. Мама сидела на вращающемся табурете в своем длинном голубом платье. В том, что она надевала на вечеринки.
– Когда сфотографировали?
Агнес не ответила – возможно, не знала. Мамины глаза были полны жизни.
И только в тот момент я поняла, что она действительно умерла, что я больше никогда ее не увижу. На меня нахлынула тревога. Она умерла, считая, что я наплевала на нее. И я уже никогда не смогу доказать ей, что это не так.
– Может, встретимся с ней в раю, – предположила я, но Агнес заплакала после этих слов.
Я сдерживала свои слезы. Почувствовала, как стало холодно в груди, и меня затрясло.
– Тс… не плачь, Агнес. – Я прижала ее к себе и впервые заметила, какая она уставшая: веки опухли, под глазами синяки. – Ты знала, что самый лучший шоколад в мире продается здесь, в Париже?
Агнес вытерла слезы.
– А ты знала, что шоколад – лучшее лекарство от слез? Так получилось, что самое замечательное кафе прямо здесь, за углом, – продолжила я. – Пойдем?
Я взяла ее за руку, и мы медленно пошли по платформе. Все напоминало мне о том, как я шла здесь с мадам семь лет назад. Тогда я не плакала. Но моя сестра плакала. Моя младшая сестра, которую, как и меня, непреднамеренно выбросили в огромный мир. Заботиться о ней – моя работа. И это пугало меня.
Агнес перевернула мою жизнь с ног на голову. Мне предстояло заботиться о ней, и меня сразу же охватило волнение. Ей нужна хорошая школа, чтобы выучить французский. Она не должна убираться или работать горничной. И я никогда не позволю ей стоять перед камерой и сверкать фальшивой улыбкой. У Агнес будет все, о чем всегда мечтала я: образование, возможности и, что важнее всего, детство, которое продлится дольше моего.
На следующий день я сообщила об Агнес своим двум соседям. Просмотрела заказы. У меня была фиксированная работа. Показы в универмагах. Фотосъемки для Lanvin и Chanel. То, что в начале меня пугало и отталкивало, стало моей повседневной жизнью.
Поклонники продолжали виться вокруг меня. Я встречалась с ними, когда выдавалась возможность, принимала купленные ими подарки и недолго разговаривала. Но никто из них не мог занять место Аллана в моем сердце. Никто никогда не смотрел на меня так, как он. Никто не внушал то чувство безопасности.
Или место Агнес. С тех пор как она переехала, я старалась как можно быстрее продать их подарки и на эти деньги покупала ей учебники. Я больше не тратила время на поиски туфель, которые подходили к ткани моего платья.
Глава одиннадцатая
– Надеюсь, вы понимаете?
Она отворачивается, смотрит в окно. Ветерок гоняет облака по небу, заставляя маленькие белые клубочки двигаться с разной скоростью: верхний слой неподвижен, но те, что находятся ниже, быстро проносятся мимо окна и исчезают из виду.
Сидящий возле нее мужчина откашливается и зовет ее по имени. Она поворачивается к нему.
– Вам нельзя жить одной, вы едва можете ходить. Вы не сможете даже сходить в туалет без помощи. Дорис, поверьте мне. Вам будет лучше в интернате. Это ненадолго, и вы сможете взять с собой что-то из своей мебели.
Социальный работник со своими бумагами уже в третий раз приходит к ней. Третий раз она выслушивает его доводы о том, ей нужно продать свою квартиру и поместить на склад мебель и вещи и отправиться доживать свой век в интернат. Ей пришлось три раза побороть желание ударить его по голове чем-то тяжелым. Она никогда не съедет с улицы Бастугатан. И он в третий раз уйдет из палаты без ее подписи.
Но он не спешит уходить. Нервно барабанит пальцами по стопке бумаг, и этот звук отдается эхом в ее голове.
– Только через мой труп, – шипит она. – И не мечтайте, что я поставлю под этим подпись, я это уже говорила, ничего не изменилось с тех пор.
Он глубоко вздыхает и в сердцах бросает папку с бумагами на тумбочку:
– Но как вы собираетесь справляться одна, Дорис? Расскажите.
Она смотрит на него:
– Я до этого замечательно справлялась. Вот и продолжу в том же духе. Всего лишь сломано бедро. Я не калека! И не мертва. Пока что. А когда умру, это случится не здесь и не в «Блубелл». Кстати, вы бы лучше пожелали мне скорейшего выздоровления, чем тратили наше с вами время. Дайте мне несколько недель, и увидите, что я снова буду ходить. Сомневаюсь, что вы расписались бы в собственном бессилии после перелома бедра и операции на суставе. Так почему я должна это делать?
– Есть места и похуже «Блубелл». Мне пришлось уговорить руководителя интерната, чтобы вас туда взяли, обычно они не берут пациентов в вашем состоянии. Воспользуйтесь этой возможностью, Дорис. Если с вами снова что-то случится, когда вы будете одна, вы окажитесь в доме престарелых.
– Угрозы не действуют на стариков, уж вы-то должны об этом знать, судя по вашей работе. А если не знаете, то сегодня вы усвоили кое-что новое. А теперь можете идти и беспокоить кого-то другого. Я хочу спать.
– Вы думаете мне нравится докучать вам ненужными вопросами? – Его брови сошлись на переносице, рот вытянулся в тонкую линию. – Вообще-то, я пытаюсь вам помочь. Вы должны понять, что это ради вашего же блага. Что вы не можете жить одна. Вам некому помочь.
Когда он наконец уходит из палаты, слезы текут по морщинистым щекам Дорис в сухой старческий рот. Сердце все еще раздраженно колотится. Она поднимает руку, которая украшена синяками от катетера, и вытирает щеку. Упирается взглядом в стену и упрямо двигает правой ногой, назад-вперед, и так десять раз. Как показывал физиотерапевт. Потом пытается на несколько миллиметров приподнять левую. Смотрит на бедро, представляет зависшую в воздухе пятку. Секунда, и она снова опускает ногу на подушку. Это движение отняло у нее все силы. Она разрешает себе немного отдохнуть и переходит к третьему упражнению.
Под конец она напрягает ягодицы, приподнимая бедра на несколько миллиметров. Чувствует боль в месте операции, но движение бедром становится все менее болезненным.
– Как дела, Дорис? Как ваша нога?
Медсестра садится на край кровати и берет ее за руку.
– Все хорошо. Не болит, – врет она. – Я хочу завтра подняться и походить… или хотя бы попытаться. Я думаю, что смогу сделать несколько шагов.
– Вот это настрой. – Медсестра похлопывает ее по щеке. Дорис отстраняется от прикосновения. – Я запишу это в вашей карте, чтобы утренняя смена знала об этом.
И снова Дорис остается одна. Кровати напротив нее сегодня пустуют. Интересно, кого могут завтра привезти. Будет понедельник. Понедельник, вторник, среда. Она считает на пальцах. Три дня, и она снова сможет поговорить с Дженни.
А. Альм, Агнес
Квартира возле Ле-Аль. Комната с кухонькой. Вода и туалет во дворе. Не самый лучший район, но квартира была нашей, и мы могли быть сами по себе. Я и Агнес. Мы спали вместе на маленькой кровати. Скрип при каждом нашем движении в итоге стал мелодией. До сих пор слышу его, когда закрываю глаза. Ржавые пружины и кривой железный каркас покачивались даже от самых незначительных движений. Иногда я действительно беспокоилась, что все может рухнуть.
Агнес была такой милой. Именно это слово описывает ее лучше всего. Всегда помогала и понимала. Порой затихала и впадала в меланхолию. Во сне она вертелась и скулила, а по ее щекам текли слезы. Тогда она просто прижималась ко мне. Если я отодвигалась, она следовала за мной, пока я не оказывалась прямо на краю.
Однажды утром, когда мы лежали, свернувшись калачиком, с чашками чая, Агнес начала говорить. Сказанное ей заставило меня все понять, частично, по крайней мере. Она приехала из ужасной жизни. Жизни, которая могла быть моей. Они были настолько бедны, что еды едва хватало. Она не могла ходить в школу. Их выкинули из квартиры, и последние несколько месяцев они провели у Анны Кристины.
– У мамы был ужасный кашель, – сказала она так тихо, что едва можно было расслышать. – На ее руках была кровь, темно-красная и густая, как мокрота. Мы вместе спали на кухне на кушетке, и я чувствовала, как при каждом кашле ее тело тряслось от боли.
– Ты была рядом, когда она умерла? – спросила я, и она кивнула. – Что она сказала? И говорила ли что-нибудь?
– Желаю тебе достаточно… – Агнес умолкла. Я взяла ее за руку. Переплела наши пальцы.
– Хватит с нас этого. Достаточно дерьма. Ты не думаешь?
Мы могли смеяться над этим. Были близки, насколько только сестры могут быть. Несмотря на то, что почти друг друга не знали.
Никогда не забуду то первое лето с Агнес. Если действительно хочешь узнать человека, Дженни, раздели с ним кровать. Ничто не обезоруживает так, как поздно вечером свернуться вместе калачиком. В этот момент ты – это ты, никаких отговорок, никаких оправданий. Я благодарю эту ржавую железную кровать за то, что снова сделала нас сестрами. Сестрами, которые делились всем.
Когда я не работала, мы бродили по улицам Парижа, обе в шляпах и перчатках, чтобы укрыться от солнца. Разговаривали друг с другом на французском. Каждое выученное ею слово мы находили прямо там, на улицах. Машина, велосипед, шляпа, брусчатка, книга, кафе. Это стало игрой. Я на что-то показывала и произносила это слово на французском, а она повторяла. Мы везде искали слова. Она быстро училась и с нетерпением ждала начала учебного года. И мне удалось ненадолго попасть в детство, которое я слишком рано потеряла.
А потом появились волнения. Слухи о войне, которыми шепотом обменивались в каждом кафе, подтвердились и к сентябрю 1939 года стали реальностью. Ужасная Вторая мировая война. Жара тяжело висела над улицами Парижа, как и страх того, что ждет нас впереди. Францию до настоящего момента не трогали, и жизнь в Париже протекала как обычно, но кто-то словно украл улыбки с лиц людей. Мы с Агнес нашли на улице новые слова – солдат и винтовка. Я вдруг стала меньше работать. Дома мод берегли деньги, что означало для нас финансовую катастрофу. Даже универмаги перестали нанимать манекенщиц. Агнес каждый день продолжала ходить в школу, а я сидела у телефона и ждала, что он снова зазвонит, что я снова буду работать. В итоге я поспрашивала насчет других работ, но никто не осмеливался кого-то брать. Ни мясник, ни пекарь, ни аристократические семьи. У меня еще оставались сбережения, но их становилось все меньше и меньше.
В нашей квартире стояло старое хриплое радио – из темного дерева, с пожелтевшей тканью и золотистой ручкой. Мы каждый вечер слушали его. Не могли удержаться. Радиовещание становилось все более пугающим, а количество умерших высчитывалось десятками, а потом сотнями. Война была так близко, но при этом казалась так далеко и с трудом поддавалась пониманию. Агнес обычно прикрывала уши, но я заставляла ее слушать ради общих знаний.
– Прекрати, пожалуйста, прекрати, Дорис. В моей голове всплывают ужасные картинки, – сказала она.
Однажды она выбежала из комнаты и из квартиры. Тогда диктор объявил, что немцы оккупировали Варшаву, а польское движение Сопротивления было подавлено.
Я нашла ее на заднем дворе, она свернулась на поленнице. Она крепко обнимала ноги и безучастно смотрела куда-то вперед. С крыш доносилось тихое воркование голубей. Они были повсюду, и их помет украшал мостовую.
– Может, для тебя это просто числа, – прошипела она мне, – но они говорят о людях. Людях, которые были живы, а теперь мертвы. Ты это понимаешь?
Эти последние слова она прокричала осуждающе, словно я не понимала значение слова «мертвы». Я присела рядышком с ней.
– Я не хочу умирать, – заплакала она и опустила голову на мое плечо. – Я не хочу умирать. Не хочу, чтобы сюда пришли немцы.
С. Смит, Аллан
Однажды Агнес вернулась домой с конвертом. Уверена, когда-то он был белым, но теперь стал пожелтевшим, грязным и с кучей марок, штампов, остатков клея и многократно перечеркнутыми адресами. В нем лежало письмо из Америки.
Больше года прошло с тех пор, как он вдруг исчез. И теперь, посреди огромной тревоги из-за войны, наконец написал мне письмо. Будто почувствовал мое бесконечное горе из-за его потери. В конверте лежала брошюра с поездками до Нью-Йорка и сверток долларов. Эти несколько строчек навечно запечатлелись в моей памяти:
Дорогая Дорис, моя самая красивая роза. Мне пришлось спешно покинуть Париж, и я не смог попрощаться. Прости меня. Мой отец приехал меня забрать, я нужен своей маме. У меня не было выбора.
Приезжай ко мне. Ты мне нужна. Пересекай Атлантический океан, чтобы я снова мог тебя обнимать. Я всегда буду тебя любить. Приезжай как можно быстрее. Здесь все, что может тебе понадобиться для путешествия. Я позабочусь о тебе, когда ты приедешь.
Мы скоро увидимся, я так по тебе скучаю.
Отправителем был Аллан Смит. Мой Аллан.
Я снова и снова читала это письмо. Сначала разозлилась. Что он так долго ждал, чтобы связаться со мной, и что написал так мало. Но потом место злости заняла радость. Я словно опять начала жить, как будто паралич от горя медленно сошел на нет. Он по-прежнему существовал, со мной все в порядке, он любил меня.
Я прочитала письмо Агнес.
– Мы поедем! – воскликнула она, в ее глазах отражалась серьезность, а лоб нахмурен. – Зачем оставаться здесь, если впереди нет ничего, кроме войны?
Ходили слухи, что немцы брали в плен жителей. Вывозили их из своих домов, забирали самое ценное. Мы не знали, что потом случалось с ними, но Агнес боялась. Боялась всех ужасных историй, что слышала в школе, где все искажали и делали еще хуже.
Вечерами мы сидели на кухне и разговаривали о поездке. Агнес была так уверена. Она хотела уехать. Не могла больше терпеть этот страх. Вскоре мы все решили. Мы обе хотели уехать. Но меня гнала вперед тоска, а не страх. Я продала большую часть своей одежды, шляпы и туфли, а еще нашу мебель и картины. Все, что осталось, мы упаковали в два больших чемодана, куда положили письма, фотографии и драгоценности. Я сняла все деньги со счета и сложила крупные купюры в старую железную коробку от конфет, которую когда-то дал мне Аллан. Закрыла ее и убрала в свою сумку.
И опять вся моя жизнь упакована, только в этот раз я была взрослой. Я чувствовала себя в безопасности и полной надежды. Моя семья была со мной, и мы с Алланом будем вместе.
Д. Дженнинг, Элейн
Это был серый дождливый ноябрьский день 1939 года. Я одета в красное пальто из мягкого кашемира. Оно выделялось среди других – черных, серых и коричневых. Я повязала вокруг головы серый шарф и, пройдя по трапу, оставила позади Францию и свою карьеру. Я все еще была Дорис, манекенщицей. На причале было много народу с билетами и без. Одни узнавали меня благодаря цветным снимкам в журналах, шептались и показывали пальцем. Другие полностью погрузились в слезные прощания с любимыми. На полпути по трапу я повернулась и помахала миру, словно я кинозвезда. Никто не помахал мне в ответ. Агнес не повернулась. Для нее Париж был лишь эпизодом, который скоро пропадет в смутных воспоминаниях, но для меня Париж представлял собой время, которое я всегда буду высоко ценить. Когда корабль, один из последних, которому разрешалось выходить из бухты, выплыл в сторону Генуэзского порта, я с грустью наблюдала в круглое окно нашей каюты, как исчезала береговая линия.
SS George Washington был длинным и красивым кораблем. Нам предоставили большую каюту с гостиной и двойной кроватью. Кровать не скрипела, а матрас не прогибался в середине, что означало, мы могли лежать отдельно друг от друга. Той первой ночью мы обе не спали.
– Скажи мне, что он красивый. И богатый. Расскажи мне все! Господи, это так романтично… – прошептала Агнес.
Я не знала, что сказать. Закрывая глаза, я видела его лицо, помнила тот запах, что вдыхала так часто во время наших объятий. Но в действительности я почти ничего не знала о нем. Слишком много времени прошло.
– Он архитектор и мечтатель. А еще у него много идей, но он понравится тебе, потому что много смеется.
– Но он красивый? – Агнес хихикает, и я бью ее подушкой по лицу. Она без остановки задает вопросы. Я рассказала ей все, что могла вспомнить. То, как мы познакомились, о его импульсивности, радости и страсти. О его зеленых глазах. Его улыбке.
Я задавалась вопросом, почему он наконец написал мне. Почему сейчас, а не раньше? Из-за слухов о войне, что дошли до него? Пусть его исчезновение принесло мне много слез, но сейчас, когда знала, что он все еще думал обо мне, я все так же любила его. Вся моя душа была заполнена сильным желанием.
Прежде чем мы сели на корабль, я отправила два письма. В одном попрощалась с Йёстой. Наш обмен корреспонденцией за несколько лет почти сошел на нет, но я хотела, чтобы он знал, где я. Я отправила ему последнее яркое описание Парижа. Второе письмо было для Аллана. В нем указывались подробности нашего прибытия и короткое сообщение, настолько же короткое, как и то, что он отправил мне. Мы скоро снова увидимся. Я так и представляла себе эту сцену, как из захватывающего фильма. Он будет стоять на палубе, ждать нашего прибытия, в своем неподходящем по размеру костюме и с развевающимися на ветру лохматыми волосами. Я в своем элегантном красном пальто. Увидев меня, он улыбнется и помашет. Я побегу к нему, кинусь в его объятия и поцелую его. Во время этих бурных ночей моя фантазия становилась дикой. Как и нервы.
Наши проведенные в море дни были полны активности, до последней детали распланированы замечательной командой: стрельба по тарелочкам, игра в шары, танцы, викторины. Мы познакомились с новыми людьми. До нашего отъезда я даже не думала об английском языке; мое импульсивное решение было принято исходя из любви, а не языка. Я знала на английском лишь несколько слов, а Агнес ни одного. Но, к счастью, мы познакомились с Элейн Дженнинг, старушкой американкой, которая говорила на французском, и она стала нашим ангелом-хранителем. Она каждый день в столовой учила нас языку. Мы с Элейн играли в ту же игру, что я играла с Агнес на улицах Парижа. Мы показывали на предметы, она называла их на английском, и мы повторяли. Вскоре мы могли назвать на английском все предметы на борту корабля. Элейн была рада научить нас своему родному языку, взвешивала каждое слово и отчетливо произносила его, чтобы нам было легче повторить.
Элейн недавно стала вдовой. Ее муж был продавцом, и они пожили по всему миру, а последние десять лет во Франции. Она, как и я, имела опыт хорошей жизни в Париже. Все ее платья сделаны на заказ, и она носила на шее несколько ниток жемчуга. Иногда я представляла себе, что видела ее в универмаге, что она была одной из тех дам, что дергали меня за одежду в поисках чего-то элегантного. Когда она потела, белая пудра на ее лице забивалась в морщины, и она стирала ее с помощью платка с вышивкой – а значит, на ее лице постоянно красовались полосы. Ее волосы были аккуратно убраны в гладкий серебристо-серый пучок на затылке. Временами она тянулась и поправляла шпильку, которая не устояла под весом ее волос. Нам нравилось проводить с ней время. Здесь, в море, в пути к неизведанному, она была нашей большой поддержкой.
Многие люди на этом корабле уплывали от чего-то, но Элейн направлялась домой. К жизни, от которой уехала более тридцати лет назад.
С. Смит, Аллан
Мы с Агнес стояли на палубе под черным зонтиком и изумленно смотрели на небоскребы, устремившиеся к серому небу. Было туманно, капли воды, маленькие и частые, с помощью ветра оказывались под зонтом. Я закуталась в пальто, спрятала подбородок в шаль. Слегка наклонила зонтик, чтобы закрыть нас, но Агнес снова выпрямила его. Мы не могли упустить ни единой детали по пути к пирсу. Она завизжала, когда увидела статую Свободы, подарок от Франции. Статуя смотрела на нас, подняв факел, и именно в тот момент я почувствовала уверенность, что наша жизнь в Америке будет хорошей. Несмотря на это, мне пришлось несколько раз сходить в туалет. Агнес засмеялась, когда я вернулась после четвертого раза.
– Нервничаешь? – улыбнулась она, вся еще глядя на сушу.
От ее слов мне нисколько не стало легче, и я фыркнула:
– Конечно, нервничаю, я так давно его не видела. Что, если я его не узнаю?
– Просто иди медленно. И улыбайся. Сделай вид, что ты знаешь, куда идешь. Все получится.
– В смысле медленно идти и улыбаться? Так сказала бы мама. Она изобиловала странными идеями.
Агнес засмеялась:
– Да, это так. Она сказала тебе «быть сильной»? Это ее любимое.
Я кивнула и засмеялась, эти слова были такими знакомыми. И когда мы наконец сошли с корабля, я сделала именно то, что она сказала. Мы попрощались с Элейн, обнялись.
Она вложила в мою руку кусочек бумаги. На нем был витиевато записан адрес.
– Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти, – прошептала она.
Расцеловав в щеки других пассажиров, с которыми мы познакомились, я медленно спустилась по узкому трапу в своем красном пальто. Он сразу меня заметит. Я улыбнулась, осознавая, что за мной наблюдали.
Мы остановились, пройдя паспортный контроль. В зале ожидания было много людей. Следующие минуты показались часами. Вокруг нас летали слова и фразы на едва знакомом нам языке. Мы сели на чемоданы, которые спустил с корабля носильщик. Ледяной ветер взобрался по моим ногам в чулках и прямо под юбку. Я задрожала. Агнес внимательно смотрела на всех проходящих мимо. В ее глазах горела надежда. А в моих – слезы. Аллана не было.
Прошел почти час прежде, чем к нам подошел мужчина в черном костюме. Он снял фуражку и заговорил с нами.
– Мисс Альм? Мисс Дорис? – спросил он.
Я вскочила с чемодана.
– Да, да, – ответила я на английском. Я протянула единственную фотографию Аллана, которую прятала в старинном медальоне. Я часто носила его на шее, но никогда не открывала. Агнес с любопытством подалась вперед.
– Почему ты не рассказала мне про фотографию?! Но это не Аллан… – Она показала на мужчину. – Кто он?
Он пробормотал что-то на английском. Из внутреннего кармана пиджака достал конверт, которые впихнул в мои руки.
Мои глаза забегали по нескольким строчкам, написанным на французском:
Дорогая Дорис!
Получив твое письмо, я ощутил смятение. Не знаю, что привело тебя сюда, через год. Дорис, любовь моя, почему ты приехала сейчас? Я ждал тебя несколько месяцев. Впустую. Мне пришлось остаться здесь, моя мама была ужасно больна, и я не мог оставить ее.
В итоге я больше не мог ждать и надеяться. Я думал, ты забыла обо мне. Я двинулся дальше. Теперь я женат и, к сожалению, не могу увидеть тебя. Водитель отвезет тебя в отель, где ты можешь получить забронированный на твое имя номер. Можешь остаться в нем на две недели за мой счет. Мы не можем встретиться.
Мне ужасно жаль.
А.
Я потеряла сознание.
Агнес хлопала меня по щекам.
– Дорис, ты должна взять себя в руки! Он нам не нужен. Мы справлялись прежде, и ты все эти годы справлялась сама. Забудь о мечтах и вставай.
Я не могла дышать, чувствовала что-то тяжелое на своей груди. Вот и все; кем он теперь был для меня? Мечтой? Агнес помогла мне подняться. Ей пришлось довести меня до машины. Я ничего не помню с той поездки. Ни улиц, ни людей, ни запахов, ни слов. Прошел целый год с тех пор, как он отправил свое письмо. Мне стоило догадаться, когда я увидела пожелтевший конверт и перечеркнутые адреса. Приплыви я вовремя, это я была бы его женой. Никакой другой женщины рядом с ним. От этой мысли мой живот свело. Меня затошнило.
Мы с Агнес клубочком свернулись на кровати, мягкой кровати отеля, прячась от пугающего мира снаружи. Мы впервые в своей жизни оказались в другой стране, на языке которой не говорили. Без планов и почти без денег. Но мы не могли вернуться. Мы оставили позади Европу, которая воевала.
За окном, всего в тридцати сантиметрах, находилась кирпичная стена соседнего здания. Я смотрела на нее, пока ряды кирпичей не начали расплываться. На четвертый день я встала. Помылась и припудрила лицо, нанесла немного красной помады и надела самое красивое платье. Затем вышла на улицы города, наполненные жизнью и голосами. Я прошлась по ним, но оказалось, что в Америке другие манекенщицы. Они вели себя как хозяйки, разговаривали с покупательницами, показывали им ассортимент. В Париже нам ничего не надо было говорить. На самом деле нам запрещали разговаривать. Но здесь, показывая одежду, они должны были продавать.
Побродив по улицам, мне наконец удалось найти тестовое рабочее место в универмаге Bloomingdale, хотя бы на один день. Я буду работать на складе. Знаменитая манекенщица из Парижа, с тонкими пальцами и красными ногтями, будет распаковывать вещи и гладить платья. Но я намеревалась выполнить задание и сохранить работу. Тогда лишь останется найти, где жить.
Глава двенадцатая
Мужчина снова сидит рядом, а она упрямо отвернулась к стене, как и прежде.
– Вы не можете здесь остаться. И не можете пойти домой. Вот почему вам надо переехать в интернат. Скажем, на время, если хотите, но при нынешнем положении дел вы сами не справитесь. Медсестра сказала, вы сегодня попытались ходить и у вас не получилось. Как вы сможете жить одна в своей квартире, если так и будет?
Она продолжает молча смотреть на стену. Единственные звуки – едва слышимый писк сигнализации в коридоре и тихие шаги медсестер.
– Будет гораздо лучше, если мы поговорим об этом, Дорис. Если вы попытаетесь понять. Знаю, вы привыкли справляться сами, но ваше тело сдалось. Это сложно, я понимаю.
Она медленно поворачивает голову и прожигает его взглядом:
– Вы понимаете? Что именно вы понимаете? Насколько унизительно лежать здесь, на этой кровати? Как отчаянно хочется домой? Как сильно болит бедро? Или, может, понимаете, чего я хочу или не хочу? Думаю, будет гораздо лучше, если вы уйдете. Просто уходите. Уф! – Она сердито фыркает. Его губы поджаты, она чувствует, как напряжена кожа ее подбородка. Больничное одеяло прикрывает ее наполовину, и она пытается натянуть его на ноги, но боль мешает.
Мужчина поднимается и с мгновение стоит, молча наблюдая за ней. Она чувствует на себе его взгляд и знает, о чем он думает. Что она упрямая старушка, которая больше никогда не сможет справляться сама. Ну, пусть думает, что хочет. Но он не сможет заставить ее что-то сделать, и они оба понимают это. Ей хочется, чтобы он просто ушел, и он, словно прочитав ее мысли, делает два шага назад и разворачивается, чтобы уйти, не говоря ни слова. Она слышит, как рвется бумага. И снова форма из-за явного раздражения оказывается в мусорной корзине. Она улыбается. Как минимум четвертая маленькая победа.
С. Смит, Аллан
Сегодня наш пятый день в Нью-Йорке. Нам нужно было начать думать о будущем, но мы почти не понимали, как выжить в новой стране. Обе страдали от ужасной тоски по дому. Я тосковала по знакомым улицам Парижа, Агнес – по улицам Стокгольма. Мы скучали по всему, что оставили позади. Я написала Йесте. Пожаловалась. Попросила у него помощи, хотя знала, что он никогда не сможет нам помочь.
Я отправилась в Bloomingdale’s и на первый рабочий день на складе. Я была готова к разительному контрасту с моей трудовой карьерой в Париже, понимала, что улыбка мне здесь не поможет. Оставляя Агнес в нашем маленьком номере, я дала ей указания: не выходить из комнаты, не открывать дверь, ни с кем не разговаривать.
Меня окружал шум. И незнакомые слова. Люди кричали, машины гудели. Здесь было больше машин, чем в Париже. Я прошла несколько кварталов до склада, из решеток на улицах валил пар. Я обошла их, не осмеливаясь наступать на них.
Руководитель, который встретил меня, разговаривал быстро. Он тыкал, показывал, кивал, улыбался, снова говорил. И нахмурился, когда наконец осознал, что я ничего не поняла. Его произношение не имело ничего общего с четкой артикуляцией Элейн.
Отсутствие возможности разговаривать помещает тебя на самую нижнюю ступеньку иерархии, и именно на ней я обнаружила себя в свой первый рабочий день. Я извинилась за свое невежество, склонив голову.
После первой смены я была полна сил и надежд, но проходили дни, ноги отяжелели, боль в плечах от постоянного поднимания усилилась. Мне разрешили поработать еще несколько дней, но потом руководитель покачал головой и протянул мне мое жалованье. Слишком много языковых проблем, я не выполняла задания должным образом. Я заспорила, но он лишь покачал головой и указал на дверь. И что теперь нам делать? У нас осталось всего две ночи в отеле. По пути домой я все больше приходила в замешательство, все больше волновалась. Где мы будем жить, как нам удастся войти в колею, жить в этой новой стране?
Я издалека узнала лохматые каштановые волосы. Остановилась и смотрела, позволяя людям проходить мимо меня. Он тоже замер, несмотря на то что заметил меня. Связь между нами была настолько сильной, что нас словно магнитом притягивало друг к другу.
Когда он поднялся со ступенек отеля, я побежала. Бросилась в его руки и заплакала, как брошенный ребенок. Он ответил на мои объятия и сцеловывал мои слезы. Но это сильное чувство радости быстро сменилось злостью, и я начала колотить кулаками по его груди:
– Где ты был?! Почему бросил меня?! Почему ушел?!
Он схватил меня за запястья:
– Успокойся. – Его французский был музыкой для моих ушей. – Успокойся, ma chérie3. Моя мама болела, как я и писал, – прошептал он мне в волосы. – Я должен был быть с ней. Я написал тебе письмо в ту минуту, как вернулся. Почему тебя не было так долго?
Он крепко меня обнял.
– Мне так жаль. Ох, мне так жаль, Аллан… Дорогой… Я только недавно получила твое письмо. И сразу приехала.
Он гладил меня по голове, чтобы успокоить. Я уткнулась лицом в его пиджак и вдохнула его запах. Он был совершенно таким, каким я его помнила. Так много воспоминаний. Так много комфорта.
Он был одет не так, как одевался обычно. Его костюм в тонкую полоску был двубортным и сидел на нем идеально. Не как в Париже. Я провела рукой по пиджаку.
– Отведи меня в твой номер, – прошептал он.
– Не могу, со мной моя сестра. Она приехала ко мне в Париж после твоего отъезда и теперь здесь со мной.
– Мы возьмем другой номер. Идем!
Он взял меня за руку и потянул внутрь. Администратор узнал нас и кивнул, затем внимательно выслушал Аллана. Дал ему ключ, и мы ввалились в лифт. Когда двери закрылись, он обхватил мою голову своими теплыми руками, и наши губы встретились. Этот поцелуй был похож на те, во время которых время замирает. Хотя в этом вопросе я неопытна. Когда мы дошли до номера, он понес меня на кровать, медленно опустился сверху и прижался ко мне. Расстегнул мою блузку и ласково погладил мою обнаженную кожу, поцеловал меня. Мы занимались любовью и в этот момент будто стали единым целым.
После этого мы молча лежали и синхронно дышали. Мы были так близко. Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент и свои чувства, мое сердце бьется быстрее.
Я была так счастлива, когда заснула в его руках.
Когда я наконец проснулась, была ночь. Он лежал рядом и не спал, сложив руки под головой. Я придвинулась к нему и положила голову на его грудь.
– Завтра утром я уезжаю в Европу, – прошептал он, медленно гладя меня по спине и нежно целуя в лоб.
Я включила настольную лампу и посмотрела ему в глаза:
– Извини, что ты сказал? Европа? Но ты не можешь – там война. Ты не знал?
– Именно из-за войны я и возвращаюсь. Я гражданин Франции, и моя обязанность быть там. Моя мама была француженкой, я там родился, и там мои корни. Я не могу предать свою семью, свою кровь. Они рассчитывают на меня.
Он мрачно смотрел на стену. Пристальный взгляд, к которому я привыкла, потускнел, и теперь я видела лишь печаль. Следующие слова я прошептала:
– Но я люблю тебя.
Он глубоко вздохнул и, присев на край кровати, поставил локти на колени и уткнулся лбом в руки. Я подползла к нему сзади и поцеловала его в шею. Обхватила его ногами.
– Тебе придется справляться без меня, Дорис. Когда я вернусь, я все еще буду женат.
Я прижалась головой к его спине. Поцеловала его теплую кожу:
– Но я люблю тебя, ты меня слышал? Я приехала сюда ради тебя. Я приехала бы раньше, но твое письмо пришло слишком поздно. Я думала, ты написал из-за войны. Мы с Агнес приехали, как только смогли.
Он отстранился от меня, поднялся и начал застегивать рубашку. Я потянулась к нему и попросила вернуться. Он наклонился и поцеловал меня, и я увидела, что его глаза полны слез. Затем он отпустил меня и надел остальную одежду.
– Ты всегда будешь в моем сердце, моя дорогая Дорис. Жаль, я не написал еще раз, когда не получил от тебя ответ, но я думал, ты забыла про меня.
Я поднялась с кровати, попыталась удержать его. Я была совершенно голая и помню, что он поцеловал меня сначала в одну грудь, потом во вторую и резко отвернулся. Затем достал из кошелька пачку купюр.
Я шокированно затрясла головой:
– Ты с ума сошел? Мне не нужны твои деньги. Я хочу тебя!
– Возьми деньги, они тебе понадобятся. – Он говорил твердым голосом, но я слышала, как он боролся со слезами.
– Когда ты должен уехать?
– Сейчас. Мне пора уходить. Береги себя, дорогая. Моя самая красивая роза. Никогда не позволяй жизни или обстоятельствам сломить тебя. Ты сильная. Будь храброй и гордой.
– Мы же еще увидимся? Пожалуйста, обещай, что я тебя еще увижу.
Он не ответил на мой вопрос, и я всегда, все эти прожитые годы, гадала, о чем он думал. Как мог быть таким холодным. Как мог уйти. Как смог закрыть дверь.
Меня бросили. Я сидела на незаправленной кровати, от которой пахло потом и любовью.
Д. Дженнинг, Элейн
Все испытывают трудности в жизни. Они нас меняют. Иногда мы замечаем их, иногда все происходит без нашего ведома. Но боль, она все время на месте, накапливается в наших сердцах, словно сжатые кулаки, готовые освободиться. В виде слез и злости. Или, в худших случаях, в виде равнодушия и сосредоточенности на самом себе.
Даже сейчас, когда смотрю по телевизору передачу или слышу чей-то разговор про Вторую мировую войну, я представляю себе, как он умер. Я видела, как его изрешетили пули, как его кровь брызгала в разные стороны, а лицо кричало в отчаянии и ужасе. Видела, как он бежал по полям, спасался от танка, который в итоге застрелил его и оставил лежать искалеченным, лицом в грязь. Я видела, как его скинули за борт и он утонул. Видела, как он замерз до смерти, одинокий и испуганный, на дне траншеи. Видела, как его зарезали в темном переулке эсэсовцы. Понимаю, это довольно необычная привычка, но картинки продолжают всплывать в моей голове. Ничего не могу с этим поделать. Его тень следовала за мной всю жизнь.
Та ночь навсегда запечатлелась в моей памяти.
Моя любовь… Мы были предназначены друг другу и все же не были. Эта мысль до сих пор сбивает меня с толку.
После ухода Аллана я долго сидела на полу, прижавшись спиной к краю кровати и с разбросанными вокруг меня потрепанными долларами. Я не могла подняться. Не могла плакать. И не могла заставить себя поверить, что он в последний раз держал меня в своих руках. В итоге солнце пробралось сквозь занавески и вырвало меня из моих мыслей. Я оставила запах Аллана, наш запах за дверью с золотыми цифрами: 225. Пока он на корабле направлялся на войну, я отчаянно пыталась похоронить воспоминание о нем в этом номере отеля.
Когда я пришла, Агнес на меня накричала. Она была бледной и уставшей, измученной после неспокойной бессонной ночи в чужой стране.
– Где ты была? Отвечай мне! Что случилось?
Я не могла найти слов для ответа, и она продолжила кричать.
Я не могла объяснить то, что сама считала сложным для понимания. Вместо этого я рылась в нашем багаже в поисках клочка бумаги, где написала фамилию той женщины с корабля – Элейн.
Я разбросала вещи по полу и кровати, но, несмотря на то что вывернула каждый карман и вытряхнула все, что у меня имелось, найти его не удалось.
– Что ты ищешь? Отвечай мне! – Голос Агнес стал громче, словно мое чувство паники переместилось и на нее. Наконец она схватила меня за руку и затащила на кровать. – Что случилось? Где ты была? – спокойно спросила она.
Я покачала головой, глаза наполнились слезами. Она села и нежно меня обняла:
– Расскажи мне, пожалуйста, расскажи, что случилось. Ты вынуждаешь меня беспокоиться.
Я повернулась к ней, но смогла произнести лишь одно единственное слово. Его имя.
– А… Аллан… Аллан.
– Дорис, тебе нужно его отпустить…
– Я была с ним. Все ночь, здесь, в отеле. Прости меня, я не думала… Я забыла… Но он пришел ко мне.
Агнес обняла меня еще крепче. Я опустила голову на ее плечо, такую тяжелую от слез.
– Где он сейчас?
Ее свитер промок от моих слез.
– Он ушел… Снова меня бросил. Он отправляется в Европу. На войну.
Я бесконтрольно рыдала. Агнес крепко обнимала меня, и какое-то время мы с ней молчали. Наконец я подняла голову и посмотрела ей в глаза. Они меня успокоили, и мне удалось снова заговорить.
– Это наша последняя ночь в отеле, – тихо сказала я. – У нас достаточно денег на еще несколько ночей, но это все. Нам нужно где-то жить. У меня был клочок бумаги с фамилией Элейн и ее адресом, но я не могу его найти.
– Я помню ее. Ее фамилия Дженнинг.
Я сидела молча, пытаясь что-то приказать своим крутящимся в голове мыслям.
– Она говорила, где живет?
– Нет. Но ее сын был рыбаком и жил где-то на берегу. Думаю, на полуострове. Она сказала, он жил прямо на краю, с видом на море.
– Господи, это может быть где угодно. Америка – большая страна, здесь, наверное, сотни полуостровов! Где этот клочок?!
Агнес смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Мы не разговаривали. Рылись в сумках и карманах.
Вдруг моя сестра воскликнула:
– Подожди! Когда мы с ней прощались, она сказала, что с нетерпением ждет, когда окажется дома, что ей ехать всего пару часов… Это должно означать, что она живет недалеко от Нью-Йорка.
Я молчала, в голове появилось полно тревожных мыслей. Но Агнес не сдавалась.
Она спросила меня, как на английском слово «рыба».
Я вспомнила, как Элейн называла на корабле все типы продуктов.
– Fish.
Агнес выбежала из номера. А через несколько минут вернулась с картой. Она нетерпеливо протянула ее мне. Кто-то обвел три участка у моря.
– Смотри, она может быть здесь! Администратор обвел несколько мест, но только этот на полуострове. Прямо на краю, сказала она! А значит, это здесь, в Монтоке.
В тот момент у меня не оставалось выбора, кроме как послушаться свою младшую сестру и позволить ее энтузиазму заглушить мою тревогу. Мы собрали вещи, составили чемоданы у двери и провели последнюю ночь в отеле. Я все еще помню трещины на потолке, как я прослеживала их глазами, выискивала новые маршруты на коричневато-сером небе, под которым лежала.
Позже Агнес призналась мне, что тоже не спала. Мы смеялись, что не заговорили друг с другом, что обе пытались лежать как можно спокойнее, чтобы не разбудить друг друга. Возможно, разговор сделал бы наши тревоги и одиночество куда менее ощутимыми.
Юбка, которую я надела на следующее утро, свободно сидела на моей талии. Помню, как дважды загнула блузку, чтобы не позволить ей сползать, но не помогло. Она все время съезжала на бедра. Жизнь в Америке сказалась на мне не самым лучшим образом.
Мы вместе несли наши вещи. Каждая сжимала ручку очень тяжелого чемодана. Мы по очереди менялись друг с другом: сначала я, потом она. Наши руки и плечи болели, но какой у нас оставался выбор? Нам как-то удалось добраться до Центрального вокзала, огромного вокзала Нью-Йорка, построенного из пожелтевшего белого камня. С помощью карты и языка жестов Агнес купили билеты до Монтока. Мы понятия не имели, что делать, если Элейн там не окажется, даже не осмеливались думать об этом. Когда автобус выехал с вокзала, мы сидели на разных сиденьях и смотрели в окна. Восхищались высокими зданиями, верхушки которых почти не видели, уличными фонарями и линиями электропередач, натянутыми вдоль дорог, суетой людей и машин.
Глава тринадцатая
Ноутбук лежит на ее животе и сдвигается с каждым ее вдохом. Он балансировал так все утро, которое она провела в полудреме. Она устает от болеутоляющих, но старается не закрывать глаза. Ведь если заснет, ночка выдастся беспокойная. Большую часть экрана занимает открытый документ Word, хотя в правом верхнем углу она оставила немного места для Скайпа. Она ждет Дженни, считает бесконечные часы, оставшиеся до окончания ночи в Сан-Франциско.
Она пишет несколько слов, перебирает новые воспоминания и задается вопросом, в верном ли порядке их записала или уже написала их в другой части. Так много событий нужно отследить, так много теперь мертвых людей, которые много для нее значили. Она снова дает жизнь этим именам в ее записной книжке, этим людям, которые прошли сквозь ее жизнь и произвели на нее неизгладимое впечатление. Лишь некоторым из них удалось оставаться в живых столько же, сколько и ей. По телу пробегает дрожь, и ее одиночество в этой холодной палате становится куда более ощутимым.
Завтрак все еще стоит на подносе возле кровати. Она тянется к наполовину полному стакану с коричневым больничным яблочным соком. Она откусила лишь кусочек от бутерброда с сыром, что лежит на тарелке рядом с соком. Хлеб по вкусу напоминает резину. Она так и не привыкла к шведскому хлебу: он не крошится, не хрустит и на вкус совсем не напоминает хлеб. Ее язык шершавый и сухой, и она несколько раз прикасается им к нёбу, потом подносит стакан к губам и позволяет каплям сока сбежать вниз по ее горлу. Она чувствует, как волна жидкости разливается по ее груди, глушит жажду. Она жадно делает еще один глоток, затем еще один. Смотрит на время. В Калифорнии почти утро, и Дженни с детьми скоро проснутся. Они набьются в светло-зеленую кухню, заглотят завтрак и унесутся навстречу приключениям, которые им подготовил день. Дорис знает, что Дженни всегда включает Скайп, когда остается одна с малышкой. Осталось всего несколько минут.
– Пора отдохнуть, Дорис. Можете ненадолго отложить ноутбук. – Медсестра строго смотрит на нее и закрывает крышку ноутбука.
Дорис протестует и открывает его:
– Нет, я не могу. Оставьте его в покое, я кое-кого жду. – Ее пальцы касаются Wi-Fi-модема, торчащего из USB-порта. – Это важно.
– Нет, вам нужно отдохнуть. Вы так никогда не отдохнете, если всегда будете в компьютере. И вы правда выглядите очень уставшей. Вашему телу нужно как можно больше отдыхать, если хотите пойти на поправку и встать на ноги. Тогда у вас появится энергия, чтобы снова начать ходить.
Трудно быть старой и нездоровой, неспособной самой решить, когда ты отдохнувшая, уставшая или где-то посередине и стоит или не стоит с этим что-то делать. Дорис сдается и отпускает ноутбук, и медсестра кладет его на тумбочку. Но она все равно на него показывает:
– Не выключайте его, пусть он будет открыт. Чтобы я видела, если кто-то попытается связаться со мной.
– Да, хорошо. – Медсестра наклоняет экран, чтобы Дорис его видела, и протягивает ей стаканчик с таблетками: – Вот, вам нужно принять таблетки, пока вы не заснули.
Дорис послушно смывает их остатками яблочного сока.
– Вот, теперь довольны? – Она улыбается медсестре.
– Вам очень больно? – ласково спрашивает медсестра.
– Все в порядке, – отвечает Дорис, махнув рукой. Морщится, борется с седативным эффектом лекарства.
– А теперь поспите. Вам это необходимо.
Она кивает и поворачивает голову вбок, подбородок касается костлявого плеча. Ее взгляд сосредоточен на экране ноутбука, но все со временем становится размытым. Она втягивает свой запах. Пахнет больницей. Не стиральным порошком, не духами. Лишь легкий запах дешевого моющего средства и ее пота. Она закрывает глаза. Последнее, что она видит, – это колыхающаяся оранжевая занавеска.
Д. Дженнинг, Элейн
Круглое окно в задней части автобуса скрывалось за короткой занавеской, сделанной из плотной оранжевой ткани. Она колыхалась туда-сюда, когда автобус подпрыгивал на неровной дороге. Я смотрела в окно и все еще не могла перестать думать о том, что мы оставили позади. Высокие здания манхэттенских высоток. Машины. Пригороды и красивые дома в них. Бушующее море. Я ненадолго задремала.
Остановкой, на которой мы вышли через несколько часов, оказался обычный знак на краю проселочной дороги, возле потрепанной погодой скамейки. В воздухе сильно пахло солью и водорослями. Сильный ветер нес за собой песчинки, которые кололи наши щеки, словно маленькие острые иголки. Мы сгорбились и медленно пошли вдоль пустынной дороги, сопровождаемые разбивающимися о пляж волнами. Ветер был таким жестоким, что нам пришлось нагибаться вправо, чтобы устоять на ногах.
– Это точно то место? – прошептала Агнес, будто не осмеливалась произнести эти слова громко.
Я покачала головой и пожала плечами, мне хотелось упрекнуть ее, но я не стала этого делать. Наша ситуация нисколько не изменилась, пыталась уговорить я себя, ни лучше ни хуже – мы все еще блуждаем по странной стране и отчаянно нуждаемся в помощи. Нам были нужны крыша над головой и какой-то доход. Жестяная банка в моем чемодане была пустой, а те деньги, что у нас остались, я свернула в трубочку и убрала в лифчик. Так безопаснее. К нашим последним нескольким долларам присоединились деньги из кошелька Аллана. Так у нас получилась хорошая пачка наличных, вес которой я постоянно ощущала на своей груди. Если мы не найдем Элейн, придется найти, где жить, и тогда сможем оплатить еще несколько ночей.
И все-таки мы заблудились. Мы поняли это, когда начали проходить мимо домов с заколоченными окнами вдоль дороги. Деревянные дома возвышались, словно пустые тени, лишенные отдыхающих, смеха и жизни.
– Здесь никого. Это город-призрак, – пробормотала Агнес и остановилась.
Я тоже замерла, и мы сели на чемодан и прижались друг к другу. Я подняла с дороги гравий, пропустила его между пальцами. После процветающей карьеры в качестве модели в Париже, на каблуках и с вереницей платьев в моем шкафу, я перешла к мозолям и потной блузке на проселочной дороге в Америке. Всего за несколько коротких недель. Эти мысли вызывали слезы, которые я уже не сдерживала. Они свободно текли по моим напудренным щекам, словно наводнение в дельте реки.
– Давай вернемся в Манхэттен. Ты можешь поискать работу. Я тоже могу работать.
Агнес прижалась лицом к моему плечу и глубоко вздохнула.
– Нет, давай пройдем чуть подальше. – Я почувствовала, как вернулись силы, и вытерла рукавом пальто сопли и слезы. – Здесь ездят автобусы, значит, что-то есть. Кто-то должен здесь жить. Если Элейн здесь, мы ее найдем.
Наш чемодан раскачивался, когда мы продолжили идти. Нижний уголок больно ударял меня по голени, когда мы теряли равновесие, но мы продолжали идти по дороге. Я чувствовала гравий под подошвами туфель, и во многих смыслах это было так же больно, как ходить босой. Но в итоге, слава богу, количество домов увеличилось, а гравий под нашими ногами сменился на асфальт. Мы заметили, что по тротуарам ходят, опустив головы, люди, одетые в плотные шерстяные пальто и вязаные шапки.
– Останься здесь и присмотри за вещами, – сказала я Агнес, когда мы дошли, по всей видимости, до центра.
На скамейке сидели мужчины. Когда я с улыбкой подошла к ним, меня встретили длинной тирадой слов, которую я не поняла. У говорившего мужчины была густая седая борода и глаза, которые как будто улыбались благодаря окружавшим их маленьким морщинам. Я ответила на шведском, но он покачал головой. Я опомнилась и переключилась на ломаный английский:
– Знаете Элейн Дженнинг? – Он уставился на меня. – Ищу Элейн Дженнинг, – продолжила я.
– А, вы ищете Элейн Дженнинг? – спросил он и сказал что-то еще, чего я не поняла.
Я смущенно улыбнулась ему.
Он умолк, взял меня за руку и показал.
– Там. Элейн Дженнинг живет там, – медленно и чересчур четко произнес он, показывая на один из домов дальше по улице. На белое деревянное здание с васильковой дверью.
Дом был узким, с круглой башенкой с одного края, чем напоминал мне больше лодку, чем дом. Краска с торца облупилась, отчего фасад казался пятнистым. Белые ставни защищали окна от сильного ветра. Я кивнула и присела в реверансе, затем отступила на несколько шагов и побежала к Агнес.
– Там! – крикнула я ей, показывая на дом. – Она живет там! Элейн живет там!
Французские слова, которые полились изо рта Элейн, когда она открыла дверь и увидела нас, показались нам теплыми приветственными объятиями. Она загнала нас в дом, дала одеяла и чай и позволила спокойно рассказать все, что случилось, когда наши пути разошлись на пирсе. Про Аллана. Про письмо, которое приехало слишком поздно. Про наши дни в отеле в Манхэттене. Она вздохнула и помычала, но ничего не сказала.
– Мы можем остаться здесь на несколько недель? Чтобы выучить английский?
Элейн поднялась и начала убирать чашки. Я ждала ее ответа.
– Нам нужно как-то прижиться в Америке, и я не знаю как, – через мгновение продолжила я.
Она кивнула и сложила скатерть:
– Я попробую вам помочь. Сначала язык, потом работа, потом жилье. Можете остаться здесь, но придется быть осторожными. Мой сын может быть немного придирчивым.
– Мы не хотим доставить вам неприятности.
– Ему не нравятся незнакомцы. Вам придется прятаться, если останетесь здесь. Иначе ничего не получится.
На комнату опустилась тишина. Мы нашли помощь, но, возможно, совсем не такую, какую ожидали.
Внезапно Элейн поднялась и принесла прямоугольную коробку, которую поставила на стол.
– Сейчас давайте отодвинем всю эту серьезность. Сыграем в Монополию? – воскликнула она. – Вы когда-нибудь играли? Нет способа справиться со скорбью и печалью лучше, чем хорошая игра в Монополию. Это подарок одной из моих соседок, когда я приехала сюда.
Ее руки тряслись, когда она развернула поле, разложила фигурки и схватила маленькую хрустальную бутылку с темной красной жидкостью.
Она протянула Агнес нечто похожее на маленькую собаку:
– Эта подойдет тебе, Агнес? На английском мы называем ее «dog».
Агнес повторила слово и взяла фигурку, рассматривая маленькую оловянную статуэтку. Элейн одобрительно кивнула.
После секундного колебания я подняла свою фигурку.
– Boot4, – сказала Элейн, но я потерялась в мыслях. – Повтори за мной: «boot».
Я подскочила:
– Элейн, я не хочу играть в игры! – Я уронила свой «boot», и он стукнулся о доску и упал на пол. – Я хочу удостовериться, что мы можем остаться. Что значит прятаться? Где мы должны прятаться? Почему?
– Пф, возможно, нам понадобится немного хереса. – Она натянуто улыбнулась нам и поднялась.
Мы сидели молча и наблюдали за ее движениями в маленькой кухне.
– На чердаке есть комната, можете остаться там. Вам нельзя спускаться, если мой сын дома, только в течение дня. Он просто стесняется, вот и все.
Она поднялась с нами на чердак. У одной из стен стоял узкий матрас, и она опрокинула его. Мы стояли и наблюдали за водоворотом пыли, а она принесла одеяла и подушки. Мы помогли друг другу занести чемоданы. Как только все было готово, она дала нам судно и заперла дверь.
– Увидимся утром. Постарайтесь не шуметь, – сказала она перед тем, как закрыть дверь.
Той ночью мы спали валетом под толстыми шерстяными одеялами. За окном завывал ветер. Порывы ледяного воздуха пробивались через трещины, отчего мы закутывались в одеяла по уши, затем по нос и в итоге с головой.
Н. Нильссон, Йёста
Мы быстро приспособились в этом маленьком белом доме у моря. Каждый день был похож на предыдущие. Когда утром сын Элейн закрывал за собой входную дверь, она тут же поднималась на чердак и отпирала нашу дверь. Мы выливали содержимое судна в туалет во дворе, а потом садились за кухонный стол, где нам выдавали по чашке горячего чая и куску хлеба. После этого начинался урок английского. Элейн показывала на предметы и называла их, когда мы помогали ей по дому. Мы убирались, пекли, шили, штопали носки и проветривали коврики. Элейн болтала, а мы все повторяли. К концу второй недели она вообще перестала говорить на французском. Мы внимательно придерживались нюансов ее языка и произношения отдельных слов, складывали их в простые предложения. Она просила нас принести какие-то вещи или сделать что-то по дому. Иногда мы не понимали, что она говорила, но она не сдавалась. Временами она все упрощала, использовала меньше слов, показывала или разыгрывала, пока мы не начинали смеяться. Только тогда она объясняла, что имела в виду. Наши уроки с Элейн были желанным отрывом от реальности.
Когда солнце садилось, она прогоняла нас на чердак. Мы слышали дребезжание ключа в двери, сопровождаемое ее шагами по лестнице. Она всегда, несмотря на погоду, выходила на крыльцо, чтобы дождаться своего сына Роберта. Мы видели ее в окно чердака, через дыру в тонкой кружевной занавеске. Она всегда поднималась и тепло улыбалась, но Роберт не говорил ей ни слова, просто угрюмо проходил мимо, уставившись в землю. День за днем мы наблюдали, как он наказывал ее молчанием, ночь за ночью видели, как он игнорировал ее.
В итоге Агнес не утерпела:
– Вы никогда не разговариваете? Элейн грустно покачала головой:
– Я бросила его. Мой новый муж получил работу в Европе, и я не могла не последовать за ним. Роберт так и не простил меня за это. Я вернулась, как только подвернулся шанс, но прошло слишком много лет. Теперь слишком поздно. Он ненавидит меня.
Он вымещал на ней злость. Мы слышали, как он кричал, когда что-то шло не так. Слышали, как она мирилась с этим, извинялась то за одно, то за другое. Клялась в любви и просила прощения у сына, которого давно потеряла. Она была в той же самой ситуации, что и мы. Одна прибыла в страну, которую больше не знала, жила с человеком, который не хотел иметь с ней ничего общего.
Часы, проведенные на чердаке, всегда проходили медленнее, чем наше время в компании с Элейн. Я до сих пор помню мысли, возникающие здесь из-за затхлого воздуха.
Печаль и тоска по Аллану. Он, как всегда, постоянно присутствовал в моих мыслях. Я не могла понять, как он мог снова меня бросить. Как мог так быстро переключиться на другую женщину, как мог жениться. Я думала о том, кто она такая и замирало ли время, когда они были вместе.
Казалось, в этом стиснутом пространстве брала верх тревога, и я пыталась отвлечься от нее, налаживая связь с Йестой. Я каждый вечер при свете небольшой керосиновой лампы писала ему длинные письма, рассказывала о нашем новом доме. О море и песке, которые могли видеть из дома, о ветре, который трепал мое лицо, когда я выходила в сад подышать. Об английском языке и как он звучал для моих ушей, как смешивался и становился шумом, когда люди говорили слишком быстро, что, казалось, свойственно американцам. Я испытала то же самое с французским, когда приехала в Париж. Я рассказала ему про Элейн и ее странного сына. Она отправляла мои письма каждый день, и я терпеливо ждала его ответа. Но он молчал, и во мне рос страх, что с ним что-то случилось. Я знала, что в Европе до сих пор бушевала война, но разузнать большее было сложно. В Америке жизнь продолжалась, словно ничего не произошло, словно Европа не горела.
И вот однажды оно приехало. В конверте лежали написанное от руки письмо, состоящее из нескольких строчек, и вырванная из газеты страница. Статья про Йесту и его картины. Она носила критикующий характер, и текст заканчивался строчкой, что это, возможно, была последняя выставка этого художника. Я никогда не понимала картины Йесты, поэтому совсем не удивилась отрицательному отзыву.
Для меня они представляли собой абстрактные, запутанные взрывы цвета, сюрреалистические в своем геометрическом совершенстве. Но статья объясняла его молчание, и несколько строчек от самого Йесты раскрыли его расположение духа. Я понимала, почему он написал лишь одну вежливую фразу, в которой спросил, как у нас дела, почему кратко добавил, что он рад, что мы живы.
Помню, как тогда посочувствовала ему. Он намеревался зацепиться за то, в чем ему явно не хватало таланта, отчего становился несчастным. Я скучала по нему больше, чем прежде. Скучала по нашим разговорам. Прошло девять лет с тех пор, как я видела его в последний раз. В статье была его фотография, и я выдрала ее и приколола возле кровати. Он смотрел на меня с серьезным выражением лица и грустными глазами. Каждый вечер, задувая свет керосиновой лампы, я гадала, увижу ли его снова. Увижу ли Швецию.
Д. Дженнинг, Элейн МЕРТВА
Наше тайное существование на чердаке всегда должно было открыться, вероятно, мы все это время знали об этом. И конечно, однажды рано утром нас обнаружили. Агнес оставила на стуле в гостиной свой кардиган, и мы услышали его крик:
– Чей это кардиган? Кто здесь был?!
– Подруга, она забежала вчера днем на чай, – тихо ответила Элейн.
– Я же говорил, что никого нельзя впускать в этот дом! Ни единая душа не должна пересекать этот порог! Ты это понимаешь?
Агнес подползла ко мне, но доски заскрипели из-за ее движения. Голоса тут же затихли. Раздались громкие шаги по лестнице, и дверь распахнулась с одного удара. Его глаза, когда он увидел нас внутри на матрасе, могли убить. Мы быстро подскочили и в темноте на ощупь нашли одежду. Наполовину одетые, мы пробежали мимо него и выбежали на улицу. Он последовал за нами, выкидывая наши чемоданы. Замок на самом большом сломался, и крышка заскользила по дороге. Следом вылетела одежда. Красивые парижские платья кучей вывалились в грязь. Мы схватили их и рассовали по сумкам. Но больше всего я помню, несмотря ни на что, как быстро билось мое сердце. Из-за новой кружевной занавески, которую Агнес вязала во время нашего сидения на чердаке, выглядывала Элейн. Она подняла руку, но не помахала. Она и так нам многое дала. Не только язык. Это был самый лучший подарок. Ее напуганные глаза за кружевной занавеской были последним, что я видела. Роберт стоял на крыльце, уперев руки в бока, пока мы собирали вещи и покидали его территорию. Только когда на остановку чуть дальше по улице подъехал автобус, он развернулся и вошел в дом.
Бок автобуса цвета стали отражал первые лучи солнца, ослепляя нас, когда мы сели в него. Красные и белые виниловые сиденья уже нагрелись. Мы сели назад и смотрели в окно, когда автобус медленно поехал дальше. Сидя там, мы понятия не имели, что творится в маленьком белом доме. Несмотря ни на что, мы чувствовали облегчение. Язык, на котором переговаривались другие пассажиры, больше не был незнакомым: мы смогли поговорить с водителем, рассказали ему, куда ехали. Обратно в Манхэттен. Эти месяцы в доме в Монтоке закалили нас и подготовили к свободной жизни. Агнес даже начала смеяться. Смех вдруг перекинулся на меня, как волна из какого-то безграничного океана, и я заразилась им.
– Над чем мы вообще смеемся?
Мне наконец удалось успокоиться. Агнес снова стала серьезной.
– Мы как будто только что сбежали из тюрьмы.
– Да, на этом чердаке я чувствовала себя взаперти. Может, оно и к лучшему, что все закончилось, кто знает?
Было уже утро. К тому времени, как мы доехали до Манхэттена, почти настал вечер, и нам было некуда пойти. Когда автобус заехал на Центральный вокзал, Агнес крепко спала на моем плече. Мы собрали вещи, вышли из автобуса и пошли в сторону яркого зала прибытия. Когда мы сложили вещи в угол, Агнес покорно спросила:
– И куда мы теперь? Где будем спать?
– Придется ночью не спать, если не найдем, где остановиться. Ты смотри за сумками, а я пойду и поищу дешевый отель.
Агнес села и прислонилась к стене.
Вдруг перед нами вырос мужчина со светлыми волосами:
– Простите, но вы, случайно, не шведки?
Я узнала его, он ехал в автобусе. Он был одет в простой черный костюм с белой рубашкой. Агнес ответила на шведском, но он покачал головой и ответил на английском. Он был не из Швеции, а вот его мама оттуда. Мы недолго поговорили, и он предложил нам помочь, дать крышу над головой, пока мы не найдем свою.
– Уверен, мама будет рада поговорить на шведском, – сказал он.
Мы неуверенно обменялись взглядами. Поехать в дом этого странного мужчины не лучшее решение. Но он выглядел добрым и казался честным. В итоге Агнес кивнула, и я поблагодарила его за предложение. Мужчина поднял наш самый тяжелый чемодан, и мы вышли за ним с вокзала.
О том, что произошло с Элейн после нашего отъезда из Монтока, мы узнали лишь позже, когда вернулись ее навестить. Дом был заколочен, и нам пришлось задать вопрос соседке. Вскоре после того, как мы покинули этот дом, сердце Элейн вдруг сдалось, прямо посреди ссоры с Робертом. Он был подавлен. Впервые в жизни он наконец мог выразить свое соболезнование в связи с потерей матери. Соседка сказала, он вышел из дома и на той же неделе отправился в море.
Больше его никто не видел.
Глава четырнадцатая
По другую сторону шторы лежит женщина, которая всю ночь кашляла. Этот звук эхом отдается от стен. У нее пневмония, и ее вообще не должно быть здесь, но они не могли положить ее в инфекционное отделение из-за пролежня. Когда она кашляет, кажется, что содержимое ее желудка вот-вот появится на свет. Дорис вздрагивает и прикрывает руками уши.
– Можно мне взять ноутбук?
Дорис кричит в пустоту палаты. Повторяет едва слышимым голосом. В горле сухо, а значит, звук скрипит и трещит о небо. В холодной больничной палате тихо, никто из медсестер не спешит помочь.
– Нажмите кнопку, – предлагает, задыхаясь, женщина с кашлем, когда Дорис просит о помощи в третий раз.
– Спасибо, но это не настолько важно.
– Очевидно, это достаточно важно, раз вы лежите и кричите. Нажмите кнопку, – раздраженно рявкает женщина.
Дорис не отвечает. Когда ей не нужна помощь, медсестры вечно изводят ее, но теперь же, когда они ей так нужны, их нигде не видно. А что, если она попытается взять его сама? Она видит ноутбук на столе, где его оставила медсестра, крышка теперь опущена. Она просила оставить его открытым, так почему они не сделали, как она просила? Конечно, ей удастся дойти туда и взять его самой. Это не так уж далеко. Если она хочет вернуться домой, ей придется тренироваться. Она поднимает пульт от кровати и нажимает на одну из кнопок. Кровать дергается, и изножье начинает подниматься. Она пытается остановить его, нажав одновременно на все кнопки. Теперь начинает двигаться изголовье, а низ под коленями начинает подниматься. Она в панике нажимает красную тревожную кнопку, а сама трясет пульт и продолжает нажимать все кнопки. В итоге кровать замирает.
– Боже мой, что здесь происходит?
Прибежавшая медсестра смеется. Дорис сидит вертикально, как карманный нож, ноги подняты. Но ей совсем не смешно, она смаргивает слезы боли.
– Ноутбук там, я хотела забрать его. – Она показывает на него, пока ее ноги медленно опускаются, боль в спине постепенно уменьшается.
– Почему вы не нажали кнопку? Мы придем к вам как можно скорее, если нажмете на нее. Дорис, вы же это знаете.
– Я хотела попытаться походить. Хочу убраться отсюда. Одной физиотерапии недостаточно, все продвигается слишком медленно.
– Терпение, Дорис. Вам нужно принять ваши ограничения. Вам девяносто шесть, и вы больше не девочка. – Медсестра говорит медленно и слишком громко.
– Терпение и упорство, – бормочет она. – Знали бы вы, какая я упорная.
– Я слышала. Тогда попытаемся?
Дорис кивает, и медсестра медленно перекидывает ее ноги через край кровати и поднимает верхнюю часть тела в сидячее положение. Дорис зажмуривается.
– Слишком быстро? Закружилась голова?
Медсестра смотрит на нее с сочувствием и нежно гладит по волосам. Дорис качает головой.
– Терпение и упорство, – говорит она, опираясь руками о мягкий матрас.
– Один, два, три – и встаем, – говорит медсестра и поднимает Дорис, поддерживая под мышками. Она чувствует укол боли в бедре, которая устремляется вниз по ноге. – Шаг за шагом, хорошо?
Дорис ничего не говорит, просто передвигает на несколько миллиметров вперед больную ногу. Затем вторую, тоже на несколько миллиметров. Ноутбук почти рядом, практически в пределах досягаемости. Ее взгляд сосредоточен на черном чехле. Он всего в двух метрах от нее, но в этот самый момент мог с таким же успехом оказаться на другой стороне пропасти.
– Вам нужно отдохнуть? Присядем на минутку? Медсестра подцепляет стул ногой и придвигает к ним, но Дорис качает головой и кропотливо передвигается миллиметр за миллиметром к столу. Дойдя наконец до него, она кладет обе руки на ноутбук и выдыхает, голова падает на грудь.
– Боже, вы и правда упорная.
Медсестра улыбается и кладет руку на ее плечи. Дорис тяжело дышит. Она больше не чувствует ног, двигает пальцами в попытке пробудить их. Поднимает голову и встречается глазами с медсестрой. А потом падает.
А. Андерссон, Карл
Карл вывел нас с вокзала на улицу, безостановочно болтая. Мы несли чемодан поменьше, а он самый большой. Он сказал, что слышал наш разговор в автобусе, что понял несколько слов на шведском. У вокзала выстроились желтые такси, но он прошел мимо них, игнорируя кричащих водителей. Он шел быстро, длинными шагами, и всегда опережал нас.
– Что, если он обманывает нас? Что, если он опасен? – прошептала Агнес и дернула за чемодан, чтобы я остановилась.
Я подошла к ней, посмотрела ей в глаза и кивнула, чтобы она следовала за мной. Она поворчала, но нехотя пошла. Мы шли следом за светлой головой, которая была как минимум на десять сантиметров выше остальных на улице. Он был похож на шведа, и благодаря этому я, возможно, решила ему довериться.
Мы шли и шли. Временами Карл поворачивался, словно проверяя, на месте ли мы. К тому времени, как мы наконец остановились у узкого кирпичного здания, мои руки покрылись волдырями. У красной входной двери стояли два железных горшка с нарциссами. Карл кивнул нам.
– Вот мы и пришли. Она совсем плоха, – объяснил он перед тем, как открыть дверь.
Дом был трехэтажным, с комнатой на каждом этаже. Мы сразу вошли на кухню. Внутри в кресле-качалке сидела старушка. Ее руки лежали на коленях, и она смотрела куда-то вперед.
– Мам, посмотри, кого я привел. Эти две девушки из Швеции.
Он показал на нас.
Она не подняла голову и, казалось, даже не заметила, что кто-то вошел.
– Мам, они могут поговорить с тобой на шведском.
Он погладил ее по щеке. Ее голубые глаза казались остекленевшими, зрачки маленькими. Волосы лежали на плечах, и несколько выбившихся прядей прикрывали один глаз. На ее плечи была накинута плотная вязаная шаль, которая не выглядела чистой.
– Ее зовут Кристина. Она не говорила с тех пор, как исчез мой отец. Иногда она произносит несколько слов на шведском, и я подумал, что… – Он повернулся к нам спиной, чтобы скрыть свою печаль, прочистил горло и продолжил: – Я подумал, что вы сможете ее разговорить. К тому же мне нужна помощь по дому.
– Давайте попробую.
Агнес осторожно подошла к креслу. Села на пол спиной к женщине.
– Я просто посижу здесь, – сказала она на шведском. – Если придется, я могу сидеть здесь всю ночь. Если захотите что-то рассказать, я слушаю.
Женщина не ответила. Но через некоторое время кресло начало покачиваться. Я тоже села. На дом опустилась тишина, лишь кресло скрипело да с улицы доносился шум. Мы согласились остаться на несколько дней, и Карл подготовил нам кровать в гостиной на втором этаже. Даже достал матрас для Кристины и положил ее на него. Она была слишком тяжелой, чтобы нести ее два лестничных пролета до спальни.
Карл часто поднимался в гостиную, чтобы поговорить с нами. Но никогда не заводил разговор о Кристине. Он рассказывал нам о том, чем занимался в тот день, о банке, в котором работал. О Европе и о войне. За те месяцы, что мы провели у Элейн, ситуация ухудшилась, и Карл постоянно сообщал новые известия, но не мог сказать, затронуло Швецию или нет. Люди в Америке говорили о Европе так, будто это одна большая страна.
Сначала мы не хотели расспрашивать его про отца, но чем больше узнавали его, тем более личными становились разговоры. И через несколько недель мы наконец набрались смелости. Ответ нисколько не удивил.
Все произошло очень внезапно. Однажды, когда они пришли домой, его отец стоял с упакованными вещами. Он произнес несколько слов и просто ушел. Оставил их без денег, но в доме, в котором они могли жить.
– Он бросил маму ради кого-то. Когда он исчез, что-то внутри нее умерло. Она всегда чувствовала себя потерянной в Нью-Йорке, но он был ее убежищем. Присматривал за всем, даже разговаривал за нее. – Мы молча слушали. – Прошло три года с тех пор, как он ушел. Я не скучаю по нему. Не скучаю по его настроению или доминирующему отношению. Без него нам даже лучше, жаль только, что мама не видела этого. Но она постепенно все больше погружалась в депрессию. Перестала видеться со всеми, следить за домом и своей внешностью. В итоге она села в кресло-качалку и с тех пор не вставала, практически не говорила.
Мы по очереди сидели с Кристиной, разговаривали с ней. Ей не нравилось вставать с кресла, и я иногда беспокоилась, что она превратится в камень. Как долго может человек сидеть вот так, ничего не говоря и в одной позе? Проходили дни, недели. Карл настоял, чтобы мы остались, сказал, что мы хорошо влияем на Кристину. И он был прав. Однажды рано утром, когда мы грели воду для ее чая, это наконец произошло.
– Расскажите мне про Швецию, – тихо сказала она.
Как потрясающе было услышать эти слова на шведском.
Мы поспешили к ней, устроились по бокам и начали рассказывать. О сугробах, в которых играли. О картошке и селедке. О запахе весеннего дождя. О первой мать-и-мачехе. О прыгающих по густой зеленой лужайке Юргордена, острова в центре Стокгольма, барашках. О велосипедах, проносящихся по набережной Страндвэген яркими летними ночами. Ее глаза разгорались с каждым образом. Она больше ничего не сказала, но все чаще начала на нас посматривать. Если мы замолкали, она выгибала бровь и кивала, чтобы мы продолжали.
Проходили дни, и мы продолжали бороться, чтобы сделать Кристину счастливой. Однажды, когда Карл вернулся домой, его встретило пустое кресло-качалка.
– Оно пустое. – Он посмотрел на нас. – Оно пустое! Где она? Где моя мама?
Мы засмеялись и показали на раковину. Она стояла и мыла тарелки после обеда. Была бледной и худой, но стояла на своих двух, и ее руки все еще работали. Когда Карл к ней подошел, она ласково улыбнулась. Он крепко обнял ее. Оглянулся на нас с полными слез глазами.
Мы разыскивали информацию про Швецию, но никто не мог сказать нам ничего хорошего. В новостях говорили про Гитлера и его наступления, про французских мужчин и женщин, которые плакали, когда немецкие солдаты вошли в Париж и заняли город. Мы смотрели на черно-белые изображения; было сложно понять, что творилось в городе, который я любила и по которому скучала. Все казалось другим, чем когда мы уехали, все изменилось. Я написала несколько строчек Йесте, но, как бывало прежде, ничего не получила от него в ответ.
Мы все еще жили с Карлом и Кристиной. Не платили арендную плату, но помогали с готовкой и уборкой. Таким образом Карл благодарил нас. Когда он был на работе, мы разговаривали с Кристиной. Она не могла объяснить, почему так долго молчала, сказала, что как будто спала несколько месяцев. Но проходили дни, ей становилось все лучше, и я снова начала думать о будущем. Нам нужно было найти работу и собственный дом. Нужно было выйти в люди, проведя почти год в изгнании.
Агнес совсем не интересовали мои планы, и я часто расстраивалась из-за этого. Она перестала со мной общаться и, когда я что-то говорила, казалась рассеянной и печальной. Она начала отвечать на английском, даже когда я говорила с ней на шведском. Через какое-то время я заметила, что она обращалась к Карлу, а не ко мне. Вечерами они сидели на диване на кухне, ночами шептались. Как когда-то и мы с Алланом.
Это произошло одним вечером. Кристина шила скатерть, сидя в кресле-качалке.
Я читала газеты, выискивая, как и всегда, новости о войне. Видела Аллана в каждом умершем солдате, про которого шла речь. Я настолько погрузилась в чтение, что даже не заметила, как они встали передо мной, держась за руки. Агнес пришлось повторить свои слова:
– Мы с Карлом женимся.
Я уставилась на нее. Уставилась на него. Ничего не понимала. Она была такой молодой, слишком молодой, чтобы выходить замуж. И за Карла?
– Ты не рада? – воскликнула Агнес и протянула руку, чтобы показать гладкое золотое кольцо. – Ты же рада за нас? Это так романтично! Мы хотим пожениться весной в шведской церкви. И ты будешь моей подружкой невесты.
Все так и прошло. Вишня только зацвела, и букет Агнес был такого же цвета, веселый, разнообразный, из розовых роз, плюща и белой мимозы. Я крепко сжимала его в руках, когда Карл надел еще одно гладкое позолоченное кольцо на ее левую руку. Оно застряло на костяшке, но он, покрутив, надел его до конца. Агнес была одета в мое белое платье от Chanel, которое я часто носила в Париже. Оно словно было сшито на нее, и она была красива, как никогда. Золотистые волосы длиной по плечи завиты крупными локонами, половина из которых подколота заколкой с белыми жемчужинами.
Мне стоило порадоваться за нее, но я лишь чувствовала, как сильно скучала по Аллану. Уверена, ты подумаешь, что я без умолку говорю о нем, Дженни. Но это сложно. Определенные воспоминания нельзя просто так забыть. Они вцепляются в тебя, как гнойный фурункул, временами вскрывающийся и причиняющий боль, ужасную боль.
А. Андерссон, Карл
Шли месяцы, и стало понятно, кто из нас новая жена в доме. Агнес взяла на себя ответственность, ожидая от меня согласия с ее идеями и что я буду делать все, что она сказала. Напоминала мне ребенка, играющего во взрослого. И меня это злило.
Однажды утром я расхаживала по коридору. Толстые деревянные планки скрипели в двух местах, и я переступала их, чтобы не шуметь, но продолжала ходить туда-сюда. Было почти восемь часов, и Карл вот-вот уйдет на работу. Когда он вышел из комнаты, я замерла и кивнула ему на прощание. Внутрь ворвались звуки улицы, когда он открыл дверь и вышел, но скоро в доме снова стало тихо, и я опять начала ходить. Я так сильно обкусала ногти на правой руке, что почувствовала острую боль, но ничего не могла с собой поделать.
Я вошла на кухню:
– Я больше здесь не останусь. Не хочу быть до конца своей жизни твоей служанкой.
Агнес уставилась на меня, когда французские слова, наполненные злостью, вылетели из моего рта. Этот язык понимала лишь она одна, поэтому я часто на нем говорила. Я повторяла это снова и снова, пока она не кивнула и не попыталась успокоить меня. Но я уже собрала вещи в огромный чемодан, с которым мы приехали из Парижа, и сменила платье-рубашку на что-то более сдержанное.
Мои волосы были убраны, а губы красными. Я была готова столкнуться с внешним миром, снова занять свое место в иерархии. В качестве манекенщицы, которая знаменита. Которая слишком долго держалась в тени.
– Но куда ты пойдешь? Где будешь жить? Разве не лучше, чтобы мы сначала организовали что-то для тебя?
Я фыркнула.
– Опусти чемодан. Не глупи.
Агнес разговаривала тихо. Провела рукой по платью, которое недавно дал ей Карл. Он покупал ей одежду, делал ее своей собственностью.
– Останься еще на пару дней. Пожалуйста. У Карла есть связи, он может тебе помочь.
– Карл, Карл, Карл. Ты только о нем и думаешь. Ты серьезно считаешь, что он – решение всех проблем? Я отлично справилась в Париже без тебя и него. Справлюсь и в Нью-Йорке!
– Карл, Карл, Карл. Я слышал свое имя? О чем говорите? Что-то случилось?
Он вернулся, чтобы взять зонтик, приобнял Агнес и поцеловал ее в щеку.
– Ничего не случилось, – пробормотала она.
Он посмотрел на меня, выгнув бровь.
– Pas de problème, – сказала я и повернулась, чтобы уйти; Агнес побежала за мной.
– Пожалуйста, не бросай меня, – умоляла она. – Мы сестры. Мы принадлежим друг другу. Твой дом здесь, с нами. Ты нужна нам. Хотя бы подожди, пока не найдешь работу и дом. Карл, он и я, мы можем тебе помочь.
Она отнесла чемодан к моей кровати, а у меня не осталось сил выразить протест. Позже тем вечером я рассматривала свое лицо в треснувшем грязном зеркале ванной. Путешествие в Америку и наше время здесь оставили свой след. Когда-то гладкая кожа вокруг глаз отекла, стала мягкой и серой. Я медленно подняла брови к линии волос. Когда я так делала, мои глаза светились, и я выглядела как в былые времена. Моложе, красивее. Как все еще должна была выглядеть. Я улыбнулась своему отражению, но улыбка, которой я раньше гордилась, пропала. Я покачала головой, и мой рот вытянулся в привычную тонкую линию.
Привезенная из Парижа косметика фактически оставалась нетронутой. Я открутила крышку пудреницы и прошлась по лицу кисточкой. Красные пятна на моем лице исчезли под толстым белым слоем, веснушки стерлись. Далее я нарисовала щеки; еле заметный румянец на скулах превратился в большие круги светло-красного цвета. Я не могла остановиться. Обвела черным карандашом глаза, до самых висков. Сделала брови такими широкими, как куски угля. Покрыла половину век темно-серыми тенями.
Губы накрасила красным так широко, что они вдвое увеличились в размере. Я смотрела на свое несуразное отражение. Слезы стекали по моим щекам, и я перекрестила себя в зеркале.
П. Пауэрс, Джон Роберт
Я осталась, но атмосфера в этом маленьком доме начала вызывать у меня клаустрофобию. В этот раз я получше спланировала свой уход. Когда я взяла свои вещи и ушла, Карл уже был на работе, а Кристина спала. Я думала, так будет лучше. Чтобы мы с сестрой нормально попрощались. Агнес плакала и отдала мне свои деньги.
– Мы скоро увидимся, обещаю, – прошептала я, когда мы обнялись.
Я оттолкнула ее и ушла, не оборачиваясь: слишком больно было видеть ее слезы. Следующие несколько ночей я провела в небольшом отеле на Седьмой улице. В номере едва хватало места, чтобы стоять, так как все свободное пространство занимали кровать и небольшой пристенный стол. В один из первых дней я села написать письмо Йесте. Честно рассказала ему о своих чувствах и обо всех событиях. В этот раз его ответ пришел уже через две недели с указанием «До востребования» в почтовое отделение у Центрального вокзала. Я безуспешно ходила туда каждый день, поэтому, когда сотрудник наконец отдал мне письмо, я так обрадовалась, что тут же его открыла. Оно было написано тонким неразборчивым почерком, и я улыбнулась. Я надеялась обнаружить внутри билет до Стокгольма или хотя бы деньги, но нашла лишь слова. Он писал, что у него нет денег, что жизнь в Стокгольме тяжела. Война влияла на всех. Ему удавалось выжить только благодаря обмену картин на еду и вино.
Если бы я мог, дорогая Дорис, то отправил бы за тобой лодку. Лодку, которая пересекла бы с тобой океан прямо до красивой пристани Стокгольма. Я бы сидел у окна с биноклем и наблюдал, как моряки швартуют ее. А когда увидел бы тебя, то побежал бы к воде и стоял там, встречая тебя с распростертыми объятиями. Это, моя дорогая Дорис, было бы замечательно. Увидеть родного друга после стольких лет разлуки! Тебе здесь всегда рады. Ты это знаешь. Моя дверь всегда открыта. Я никогда не забуду милую девочку, что подавала мне вино в доме номер пять по Бастугатан.
Твой Йеста.
Письмо было украшено красивыми красными, фиолетовыми и зелеными цветами. Они извивались по правому краю листа, огибали угол и обнимали слова. Я осторожно провела указательным пальцем по красивым цветам, которые демонстрировали любовь Йесты к молодой горничной, которую он когда-то знал. Краска была густой, и я чувствовала каждый мазок на грубой бумаге. Эти цветы были куда более красивыми, чем те странные картины, что он рисовал в прошлом.
Дженни, я до сих пор храню это письмо среди других в маленькой жестяной коробке. Возможно, оно сейчас даже чего-то стоит, если учесть, что он получил известность. Спустя значительное время после своей смерти.
Я некоторое время стояла на почте с письмом в одной руке и конвертом – в другой. Мой последний спасательный круг как будто лопнул, и мир вокруг меня окрасился в черное и белое. Наконец я медленно сложила листок и засунула его в лифчик, поближе к сердцу. Мое подавленное настроение сменилось сильным желанием как можно быстрее вернуться в Стокгольм. Я побежала в туалет. Внутри пощипала себя за щеки, пока они не раскраснелись, и накрасила губы красным. Разгладила бежевый строгий пиджак и подтянула юбку, которая до сих пор свободно висела на бедрах. После этого направилась в модельное агентство Джона Роберта Пауэрса. Карл сказал мне, что это агентство занималось красивыми девушками. Именно так они получали работу в Нью-Йорке, не через универмаги или Дома моды, как в Париже. Мое сердце колотилось, когда я положила руку на ручку двери. Я понятия не имела, чем занималось модельное агентство, но хотела попробовать. Моя красота была моим единственным доходом.
– Здравствуйте, – тихо сказала я, стоя у огромного стола, за которым сидела хрупкая женщина.
Она была одета в черно-красное платье в клетку. Она осмотрела меня с головы до ног поверх очков, устроившихся на кончике ее носа.
– Я пришла встретиться с Джоном Робертом Пауэрсом, – произнесла я, запинаясь, на английском.
– Вам назначено?
Я покачала головой и увидела высокомерную улыбку.
– Мисс, это модельное агентство Джона Роберта Пауэрса. Нельзя просто так войти сюда и решить, что вы попадете к нему.
– Я подумала, что он, возможно, захочет встретиться со мной. Я приехала из Парижа, где работала с некоторыми крупными европейскими Домами моды. Например, с Chanel. Вы знаете Chanel?
– Chanel? – Она поднялась и показала на один из темно-серых стульев, выстроившихся вдоль стены: – Присядьте. Я сейчас вернусь.
Я сидела там как будто вечность. Наконец она вернулась в компании невысокого мужчины. Он был одет в серый костюм. Я заметила под ним жилет, а из одного кармана свисала тонкая золотая цепочка. Он, как и администратор, осмотрел меня с головы до ног, а потом заговорил:
– Так вы работали для Chanel?
Его взгляд устремился вверх от моих ног. Он избегал смотреть мне в глаза.
– Повернитесь.
Он подчеркнул это слово, подняв руку и изобразив вращение.
Я повернулась к нему спиной и оглянулась.
– Должно быть, это было довольно давно, – фыркнул он, развернулся и ушел.
Я смотрела на администратора, не понимая, что происходит.
– Это значит, вы можете идти. – Она кивнула в сторону двери.
– Но вы не хотите примерить на меня одежду?
– Мисс, уверена, когда-то вы были симпатичной моделью, но эти дни закончились. У нас есть место только для молодых девушек.
Она выглядела довольной. Возможно, считала каждую отвергнутую мистером Пауэрсом девушку своей личной победой.
Я провела рукой по щеке. Она все еще была мягкой. Такой же мягкой, как у ребенка. Я прочистила горло.
– Вероятно, я могла бы записаться на встречу? В день, когда у мистера Пауэрса больше времени?
Она решительно покачала головой:
– Боюсь, нет смысла. Вам лучше поискать другую работу.
Глава пятнадцатая
– Что случилось с твоим лицом? – Дженни придвигается к экрану и показывает. На щеке Дорис большой кусок белого пластыря.
– Ничего. Упала и ударилась, но не стоит беспокоиться. Всего лишь царапина.
– Но как это случилось? Разве тебе не помогают, когда ты встаешь походить?
– Уф, это было так глупо. Я перестаралась, и медсестра не смогла меня удержать. Я должна пытаться ходить, иначе меня отправят в дом престарелых.
– В дом престарелых? Кто это сказал?
– Социальный работник. Я не хотела тебе ничего говорить, но он иногда приходит ко мне с формой. Хочет, чтобы я подписала ее и добровольно отправилась туда.
– И что ты думаешь по этому поводу?
– Я лучше умру.
– Тогда мы должны убедиться, что ты туда не отправишься. Когда придет в следующий раз, позвони мне.
– И что ты скажешь, моя дорогая? Что я могу жить дома? Потому что не могу. Не сейчас. В этом смысле он прав. Сейчас все не особо хорошо. Но я не собираюсь доставлять ему удовольствие, признавшись в этом.
– Я поговорю с ним, – спокойно говорит Дженни. – Но как ты проводишь время? У тебя есть что почитать? Мне отправить тебе несколько новых книг?
– Спасибо, но у меня еще остались те, что ты отправила мне в прошлый раз. Мне очень понравился Дон Делилло, книга про одиннадцатое сентября.
– «Падающий». Мне тоже понравилась. Посмотрим, смогу ли я отправить тебе… Дорис! Дорис! Алло!
Лицо Дорис застыло от боли. Она прижимает правую руку к груди, а левой быстро машет.
– Дорис! – кричит через небольшой экран Дженни. – Дорис, что происходит? Скажи мне, что происходит?!
Она слышит тихое шипение. Дорис обреченно смотрит на нее, лицо становится серым. Дженни кричит изо всех сил:
– Медсестра! Эй! Эй! Медсестра!
А потом она рычит, из ее рта исходят невнятные звуки. Дорис уменьшила громкость на ноутбуке, чтобы не беспокоить других пациентов, но женщина на соседней кровати слышит, что что-то случилось. Она свешивается с кровати и видит вроде бы спящую Дорис. Нажимает кнопку. Дженни кричит.
Наконец появляется медсестра и спрашивает, чем помочь. Женщина показывает на кровать Дорис. Медсестра поднимает ноутбук с живота Дорис и кладет его на тумбочку.
– У нее сердечный приступ! – кричит Дженни, отчего медсестра подпрыгивает.
– Господи, вы меня напугали!
– Посмотрите Дорис! У нее начались судороги, и она держала руку на груди. А потом потеряла сознание!
– О чем вы говорите?
Медсестра хватает тревожную кнопку, пытается нащупать пульс на запястье Дорис. А когда не находит, тут же начинает делать искусственное дыхание. В передышке между вдохами она зовет на помощь. Дженни наблюдает за этой сценой из своей светло-зеленой кухни в Калифорнии. Прибегают еще три сотрудника, доктор и две медсестры. Доктор включает дефибриллятор и прижимает два электрода к груди Дорис. Ее тело от тока поднимается и падает на кровать. Он снова заряжает их и прижимает во второй раз.
– Есть пульс! – кричит медсестра, ее указательный и средний пальцы прижаты к запястью Дорис.
– Она жива? – орет Дженни. – Скажите, она жива?
Доктор удивленно поворачивается, выгибает бровь. Дженни слышит его бормотание:
– Почему никто не выключил компьютер? – Он смотрит обратно на нее и кивает. – Извините, что вам пришлось это увидеть. Вы родственница?
Дженни кивает, тяжело дыша:
– Я ее единственная родственница. Как она?
– Она стара и слаба. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить ей жизнь, но сердце не может справляться, ведь оно такое же старое, как Дорис. У нее прежде случались сердечные приступы?
Дженни качает головой:
– Может, я о них не знаю. Она всегда была сильной и здоровой. Пожалуйста, помогите ей, я не представляю свою жизнь без нее.
– Понимаю. Ее сердце сейчас бьется. Мы поднимем ее в палату интенсивной терапии, и она проведет там ночь. Вы не против, если мы сейчас вас отключим?
– А я не могу пойти с ней?
– Думаю, вам лучше отвлечься.
Он кивает на Тайру, которая хнычет за ее спиной. Дженни тянется и усаживает ее к себе на колено. Успокаивает ребенка.
– Все нормально. Я хочу ненадолго остаться с Дорис, если вы не против.
Доктор качает головой:
– Извините. В интенсивной терапии запрещены компьютеры. Они создают помехи для аппаратуры. Оставайтесь здесь, медсестра запишет ваши данные. Мы обеспечим вас информацией о том, как у нее дела. До свидания.
– Нет, подождите, я должна спросить…
Но доктор и две медсестры исчезают с экрана.
Глава шестнадцатая
Шум волн, разбивающихся о берег, заглушается постоянным гулом машин на дороге. Из окон дома открывается красивый вид, но они не задумывались об автомобильном трафике, когда заехали сюда. Никто не сидел на выкрашенном в белый цвет крыльце, глядя на море.
До этого дня.
Придя с работы домой, Вилли первым делом видит Дженни. Она сидит с Тайрой на коленях в гамаке, который они повесили много лет назад, когда были безумно влюблены и хотели каждую минуту быть рядом друг с другом. Гамак медленно качается, цепи в крюках тихо скрипят.
– Почему вы сидите здесь, среди этого шума и пыли? Это плохо для малышки.
Он улыбается, но Дженни серьезна:
– Обязательно называть ее малышкой? Ей почти два.
– Ей полтора, и она только начала ходить.
– Ей двадцать месяцев две недели и три дня. Почти два.
– Ладно. Ладно. Тогда буду называть ее Тайрой. Вилли пожимает плечами и открывает дверь в дом.
– Я подумываю поехать в Швецию.
Дверь с грохотом захлопывается. Тайра хнычет.
– Что? В Швецию? Что случилось?
– У Дорис сегодня был сердечный приступ. Она умирает.
– Сердечный приступ? Я думал, она сломала ногу.
– Ей становится хуже. Я должна быть рядом. Я не дам ей умереть в одиночестве. Мне нужно уехать на время… пока я буду ей нужна.
– И как ты собираешься это осуществить? Кто будет заботиться о детях? Мы без тебя не справимся.
– И это все, что ты скажешь?
– Мне жаль Дорис, она старая. Но жизнь продолжается, и ты нужна нам здесь.
– Я могу взять Тайру с тобой. Мальчики весь день в школе, ты справишься.
– Ты не можешь нас бросить.
– Я не бросаю вас. Вот ты как думаешь?
Вилли глубоко вздыхает и отворачивается от Дженни.
Она кладет руку на его плечо:
– Все будет хорошо. Ты справишься.
– Я знаю, что она для тебя важна, но неужели она важнее твоей собственной семьи? Ты не можешь бросить нас. Мне надо работать. Я содержу нас всех. Я не смогу быть дома, когда мальчики будут возвращаться из школы. Кто будет следить за ними?
– Должен быть какой-то способ. Придется нанять няню.
Вилли не отвечает. Его губы вытягиваются в тонкую линию, и он заходит в дом, дверь захлопывается так громко, что Тайра снова подскакивает. Дженни ложится на гамак, поправляет подушку под головой и кладет ребенка сверху, животом к животу. Но Тайра не хочет так лежать, тут же поднимается и недовольно ворчит.
– Тс… давай ложись. Поспи, – успокаивает она ее, притягивая девочку к себе.
Вилли просовывает голову в дверь:
– Пожалуйста, скажи, что ты шутишь.
Дженни качает головой, и он раздраженно закатывает глаза.
Она смотрит прямо на него, брови сошлись на переносице, в глазах слезы.
– Она умирает, ты разве не понимаешь?!
– Понимаю, и это ужасно. Но я боюсь, мы без тебя не справимся. У меня не получится заботиться о детях и делать все по дому, при этом продолжая работать в привычном режиме.
Дженни садится и усаживает Тайру на другой конец гамака.
Вилли выходит, прислоняется к стене и нежно гладит ее по щеке:
– Мне жаль… Расскажи, что случилось?
– Мы сегодня разговаривали. Все сначала было нормально. Она была нормальной. Она упала, и на ее щеке был пластырь, но она отшучивалась. Ты знаешь, какая Дорис. Но потом она вдруг начала хвататься за грудь, не смогла дышать. Это было как по телевизору, как какой-то эпизод «Анатомии страсти». Я закричала очень громко, изо всех сил. Наконец прибежали врачи с этим аппаратом с электродами.
Вилли садится рядом и берет ее за руку:
– Так это действительно был сердечный приступ?
– Да. Доктор сказал, что она слабеет. Сломанная кость и операция, похоже, лишили ее сил. Медсестра сказала мне после этого, что им пришлось сделать ей пластическую операцию на сосудах.
– Она может жить еще очень долго, детка, ты же не знаешь. И что ты там будешь делать? Просто сидеть и ждать, когда она умрет? Не думаю, что тебе это пойдет на пользу.
Он гладит ее по руке, но Дженни отстраняется и отталкивает его:
– Ты не думаешь, что это пойдет на пользу? Мне? Ты думаешь только о себе! Тебе удобнее, если я останусь, вот в чем все дело. Но знаешь, что? Она – все, что у меня осталось, моя единственная связь со Швецией. Моя последняя ниточка к маме и бабушке.
Вилли почти удается скрыть вздох:
– Хотя бы подумай хорошенько. Ладно, детка? Знаю, сегодняшний день был трудным для тебя, но ты можешь подождать, чтобы понять, как у нее дела. Возможно, она поправится.
Он притягивает ее к себе, и ее напряженное тело расслабляется. Она прислоняется головой к его груди и вдыхает знакомый успокаивающий запах. Его рубашка мокрая, и она расстегивает пару пуговиц и сдвигает ткань в сторону, чтобы прижаться щекой к коже.
– Почему мы здесь больше не сидим? – шепчет она, закрыв глаза, когда морской ветерок обдувает ее лицо.
Мимо с ревом проносится грузовик, и они смеются.
– Вот почему, – шепчет Вилли и целует ее в макушку.
Глава семнадцатая
– Доброе утро, Дорис.
Медсестра склоняется над кроватью и улыбается.
– Где я? Я умерла?
– Вы живы. Вы в отделении интенсивной терапии. Вчера у вас были небольшие проблемы с сердцем, сердечный приступ.
– Я думала, что умерла.
– Нет, нет, вы не умерли. Ваше сердце снова стабильно работает. Доктору удалось убрать тромб. Вы помните это? Как вас повезли на операцию?
Дорис слабо и неуверенно кивает.
– Как себя чувствуете?
– Пить хочется.
– Хотите воды?
Дорис удается изобразить улыбку на бледном лице:
– Апельсиновый сок, если есть.
– Сейчас принесу вам. Постарайтесь отдохнуть, вы скоро почувствуете себя лучше.
Медсестра направляется к выходу.
– Все не так уж радужно для старой карги.
Она оборачивается:
– Что вы сказали?
– Не так уж радужно для старой карги.
Медсестра взрывается смехом, но замолкает, когда видит серьезное лицо Дорис.
– Может, сейчас вы чувствуете себя не лучшим образом, но у вас все будет хорошо. Это всего лишь небольшой сердечный приступ, вам повезло.
– Мне уже за девяносто шесть. И запас везения ограничен.
– Вот, точно, вам еще нужно дожить до ста лет!
Медсестра подмигивает и сжимает руку Дорис.
– Смерть, смерть, смерть, – тихо бормочет она, оставшись одна в палате.
У изголовья кровати стоит какой-то аппарат, она поворачивается и с интересом рассматривает цифры и линии. Пульс, прыгающий вверх-вниз у отметки в восемьдесят, зигзагообразная линия электрокардиограммы, уровень кислорода.
А. Альм, Агнес МЕРТВА
Мой мир рушился. Прямо там, на улице у модельного агентства. Работы нет. Жить негде. Друзей нет. Лишь замужняя сестра в нескольких кварталах отсюда. Помню, как стояла там некоторое время и смотрела на бесконечный поток машин. Я не могла решить, куда пойти, но, Дженни, мне не нужно говорить, куда я хотела пойти. Йёста однажды заставил меня пообещать, что я буду честна с собой и не позволю жизненным обстоятельствам решать за меня. Временами я нарушала это обещание. У сейчас у меня не было выбора. И я побрела обратно к дому, из которого недавно ушла.
Карл еще не вернулся с работы. Агнес шила, сидя рядом с Кристиной. Они обе подняли головы, когда я вошла. Агнес вскочила:
– Ты вернулась! Я это знала!
Она крепко меня обняла.
– Но я не останусь здесь надолго, – пробормотала я.
– Нет, ты останешься. Вы с Кристиной можете занять кровати наверху. – Она кивнула на лестницу. – Мы с Карлом будем спать здесь, на раскладном диване.
Я покачала головой в знак протеста.
– Мы уже это обсудили. Надеялись, что ты вернешься. Здесь для тебя достаточно места. Можешь помогать мне с работой по дому.
Она снова меня обняла, и я почувствовала, как ее живот прижался к моему.
– Ты нужна мне.
Она взяла меня за руки и положила их на свой живот. Я выгнула бровь и открыла рот, внезапно поняв смысл ее слов.
– Ты в положении? Почему раньше мне не сказала? У тебя будет ребенок!
Она радостно кивнула. Ее губы растянулись в улыбке, она захихикала и всплеснула руками.
– Разве это не здорово! – закричала она. – В доме появится ребенок!
Она развернула свое шитье. Это было светло-желтое детское одеяло. Я почувствовала укол в сердце при мысли обо всех детях, о которых мы с Алланом когда-то говорили, но отмахнулась от нее. Это был ребенок Агнес, жизнь Агнес. Я широко улыбнулась.
Я не могла не оставаться надолго. И с нетерпением ждала этого рождения. Все мы, Карл и Агнес, Кристина и я. Странная семья с нетерпением ожидала рождения новой жизни. Элизы, твоей мамы.
Агнес каждое утро вставала в профиль напротив зеркала на кухне и гладила живот. И каждое утро он становился все больше. Это было настоящее чудо, и она разрешала мне сколько угодно прикасаться к ее животу и гладить его. Внутри нее рос ребенок, и к концу срока я, кажется, видела очертания ножки, когда ребенок пинался. Я пыталась ухватить ее, но Агнес сбрасывала мою руку и кричала, что ей щекотно.
Теперь, когда я чувствовала себя нужной, дни проходили быстро. Я помогала Агнес ходить за покупками и готовить, убиралась и мыла. Ей стало тяжело передвигаться, малыш рос, но лицо похудело. Ее живот казался воздушным шариком в сравнении с щуплым телом. Я снова и снова спрашивала, хорошо ли она себя чувствует, но она отмахивалась и говорила, что просто устала. Она же беременна.
– Все будет хорошо, когда родится ребенок и я снова стану собой, – довольно часто вздыхала она.
Однажды, когда я спустилась со второго этажа, она безжизненно сидела на диване в кухне, ее губы посинели. Кожа была в пятнах. Глаза широко раскрыты, дыхание затруднено. Об этом моменте я предпочла бы забыть. Как и тот день, когда я увидела нашего бледного и окровавленного отца во дворе дома. Я закричала, как тогда кричала мама.
Им удалось достать маленькую Элизу до того, как твоя бабушка умерла. При родах, как говорили в то время. Беременность ослабила ее тело и стала причиной отказа внутренних органов. Она умирала день ото дня. Мы остались с крошечным свертком, который не прекращал плакать. Будто малышка знала, что ее лишили матери.
Я каждый день держала на руках твою маму, почти постоянно. Успокаивала ее и пыталась любить. Мы кормили ее обычным коровьим молоком, нагретым до температуры тела, но из-за него у нее так болел живот, что она все время кричала. Помню, как, положив руку на ее животик, я почувствовала в нем бурление, словно внутри тоже кто-то жил. Кристина иногда сменяла меня, пыталась утешить нас обеих, но она была слишком стара и слаба.
Карл не мог терпеть этот истошный плач и горе от потери жены. Он начал реже бывать дома. Только когда ему удалось найти кормилицу, женщину с ребенком, которая была готова поделиться молоком с другим ребенком, в этот маленький дом вернулось подобие спокойствия.
Жизнь медленно начала налаживаться. Элиза росла и подарила нам первый булькающий смех. Я очень сильно скучала по Агнес, но пыталась держаться ради этой девочки.
Однажды я вышла из дома. Планировала прогуляться, купить мясо и овощи. Но ноги понесли меня в почтовое отделение, где я давно не бывала. Мне вдруг стало любопытно, не написал ли мне Йёста. Не написал, но меня ожидало другое письмо, до востребования. Из Франции.
Дорис!
Как сильно я скучаю по тебе, не описать словами. Война ужасна. Ужаснее, чем ты могла бы представить. Я каждый день молюсь, чтобы выжить. Чтобы снова увидеть тебя. У меня есть твоя фотография. Лежит в кармане. Ты та же прекрасная роза, которую я встретил в Париже. Я храню твою фотографию около сердца и надеюсь, ты сможешь почувствовать мою любовь через океан.
Навечно твой, Аллан.
Я была здесь, в Нью-Йорке, где должен был быть и он. Где мы бы наконец-то могли быть вместе. Но он был во Франции. Следующие недели я провела в тумане, думая только о нем. О нас.
Каждый вечер, когда я укладывала Элизу спать и видела, как она засыпает, я оставляла мысли бежать из этой страны. Она была такой беспомощной, такой маленькой и милой. Она нуждалась во мне. Но я все равно начала откладывать деньги, которые Карл давал мне на еду.
Я больше не могла ждать. В один из дней собрала вещи и просто ушла. Не попрощалась с Кристиной, хотя она видела, как я ухожу. Я не оставила Карлу записку. Не поцеловала Элизу – просто не смогла. Закрыв за собой дверь, я на несколько секунд зажмурилась, а потом отправилась на пристань. Хватит с меня Америки. Я собиралась вернуться в Европу. Мне нужно быть там, где Аллан. Там, где моя любовь.
Глава восемнадцатая
Доктор сосредоточенно изучал бумаги в темно-синей папке.
– Ваши показатели улучшились. – Он перелистывает первые три листа, читает анамнез и результаты анализов. Наконец снимает очки, убирает в нагрудный карман белого халата и впервые с тех пор, как вошел в палату, смотрит ей в глаза: – Как себя чувствуете?
Она слегка качает головой.
– Уставшей. Тяжесть в груди, – шепчет она.
– Да, проблемы с сердцем высасывают из нас все силы. Но я думаю, вам не понадобится серьезная операция. Вы отлично справились, операция на сосудах прошла успешно. Вы переживете.
Он тянется и гладит ее по голове, как ребенка.
Дорис стряхивает его руку:
– Сильная? Неужели я сейчас кажусь вам сильной?
Она медленно поднимает руку, в которую вставлен катетер. Под пластырем расцвел синяк, а кожа вокруг иголки натягивается, когда она двигает рукой.
– Да, для вашего возраста – несомненно. Всем бы в ваши годы иметь такую динамику. Просто вам нужно немного отдохнуть, вот и все.
С этими словами он разворачивается и уходит.
Ни на секунду не задерживается.
Она мелко дрожит, подтягивает одеяло до подбородка. Ее пальцы холодные и непослушные, она подносит их ко рту и дышит на ладони. Слабым теплым воздухом. Она слышит, как в коридоре доктор разговаривает с одной из медсестер. Он шепчет, но недостаточно тихо:
– Поднимите ее обратно в общее отделение, ей больше не нужно здесь оставаться.
– Разве она достаточно стабильна?
– Ей девяносто шесть. Трудно сказать, сколько ей осталось, но еще одну операцию она точно не переживет.
Не переживет еще одну операцию. Медсестра заходит в палату, чтобы собрать ее вещи с тумбочки, и Дорис прикусывает язык, когда холодный воздух проникает к ее ногам.
– Вы вернетесь в общее отделение, это хорошие новости, не так ли? Давайте сниму эти электроды.
Медсестра осторожно сдвигает рубашку Дорис и отлепляет кружочки. Обнаженное тело дрожит, отчего все тело начинает болеть.
– Бедняжка, вам холодно? Минутку, я дам вам еще одно одеяло.
Медсестра исчезает, но быстро возвращается с толстым бело-зеленым одеялом, которое расправляет на кровати.
Дорис благодарно улыбается.
– И я хотела бы получить свой ноутбук.
– У вас был ноутбук? Я его не видела, должно быть, он остался в палате. Мы найдем его, когда поднимемся туда. Не беспокойтесь.
– Спасибо. Как думаете, моя внучатая племянница может поговорить с доктором? Я знаю, что она хотела.
– Уверена, мы сможем это устроить. Я поговорю с вашим доктором. Итак, идем, готовы?
Кровать дергается, когда медсестра отпускает тормоз и выкатывает ее из комнаты. Поворачивает в нужную сторону, и они медленно двигаются по пустому коридору в сторону лифта. Медсестра болтает, но Дорис не слушает. Слова доктора все еще эхом отдаются в ее голове, заглушают ее мысли. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Будь сильной. Последнее, что она слышит, – это звуковой сигнал лифта.
– Кому мы можем позвонить, Дорис? Семье? Близким друзьям?
Возле ее кровати на стуле сидит новая медсестра. Ее вернули в общую палату. В новую, с новыми пациентами. Ноутбук в черном чехле лежит на тумбочке.
– Дженни, моей внучатой племяннице. Она хотела поговорить с доктором. Который час? – спрашивает она.
– Уже пять вечера. Вы спали с тех пор, как вернулись сюда из интенсивной терапии.
– Замечательно, – говорит она, показывая на ноутбук. – Пожалуйста, вы не могли бы передать мне его? Я позвоню Дженни. У меня для этого есть специальная программа.
Медсестра достает ноутбук из чехла и передает ей. Дорис находит имя Дженни в Скайпе, но видит, что ее нет в сети, никто не отвечает, когда она, несмотря на красный символ, пытается ей позвонить. Странно. В Калифорнии утро, и у Дженни всегда включен компьютер. Если ничего не случилось. Она не умрет до того, как попрощается с Дженни. Она сдвигает ноутбук, но не закрывает Скайп.
– Дайте знать, если я могу еще с кем-то связаться. Вам здесь не помешает друг.
Дорис кивает, голова заваливается набок. Подушка кажется ей каменной, когда она прижимается к ней щекой, а одеяла – тяжелыми.
– Можете немного отодвинуть одеяла? – шепчет она, но медсестра уже исчезла.
Она вертится, чтобы одеяло слегка приподнялось, впуская воздух. Экран ноутбука теперь прямо напротив нее, и она смотрит на аватар Дженни, ждет, когда он станет зеленым. В итоге ее веки опускаются, и она засыпает.
Глава девятнадцатая
Ключ с зеленой металлической лягушкой годами висит на связке рядом с остальными. Маркером на гладкой спине лягушки написано: ДОРИС. Одинокий серебристый ключ. Она разрешает Тайре поиграть с ним в самолете. Малышка ударяет по нему пухлыми ручками, отчего ключ вращается. Снова и снова. А потом она смеется, очень громко. Они только что проснулись после нескольких прерывистых и неудобных часов сна. Со своего места у окна Дженни видит густые леса и темно-зеленые поля, когда самолет садится. Она поднимает Тайру, чтобы та тоже посмотрела:
– Смотри, Тайра, Sverige! Швеция. Смотри.
Она показывает вниз, но девочку больше интересует лягушка. Она тянется к ней и громко хнычет, когда не может взять ее в руки. Из-за долгого путешествия и отсутствия сна она стала более раздражительной, чем обычно. Дженни отдает ей лягушку и строго цыкает. Тайра засовывает брелок в рот.
– Не в рот, Тайра, опасно.
Девочка громко кричит, когда Дженни забирает у нее брелок, и пассажиры на соседних сиденьях раздраженно смотрят на них. Дженни роется в сумке, стоящей на полу, и умудряется найти упаковку с мармеладом. Дает их Тайре по одной, и девочка успокаивается, радостно посасывая сладости, пока самолет не приземляется с глухим стуком. Они наконец на территории Швеции. Пока они идут по залу прибытия, Дженни впитывает окруживший ее шведский язык. Она может говорить на нем и понимает, но очень давно не слышала его.
– Бастугатан, двадцать пять, пожалуйста.
Она старается замаскировать американский акцент, когда говорит с водителем такси, но слышит, что произношение далеко от идеала. Впрочем, какая разница, когда таксист тоже разговаривает с акцентом.
– Хорошо долетели? – спрашивает он, и Дженни улыбается. Радуясь, что может заметить его грамматические ошибки.
Машина едет по дождливой местности. Щетки работают на износ и скрипят, смахивая потоки воды со стекла.
Она заводит беседу, чтобы убить время:
– Какая ужасная погода.
Она забыла, как по-шведски «погода», поэтому приходится сказать на английском. Остаток пути до дома он говорил уже только на английском. Она расплачивается картой и выбирается на улицу с Тайрой на руках. Поднимает голову, окна на втором этаже в квартире Дорис плотно занавешены. Водитель любезно достает из багажника коляску и два чемодана, но, забравшись в машину и рванув с места, окатывает водой брюки Дженни.
– Стокгольм так похож на Нью-Йорк, все торопятся, – бормочет она, пытаясь разложить коляску, удерживая Тайру на руках.
Малышка поднимает руки, пытаясь поймать капли дождя.
– Не шевелись, Тайра, спокойно. Мамочке нужно разложить коляску.
Она упирается коленом в сиденье, и ей наконец удается выровнять коляску. Тайра не протестует, когда Дженни усаживает ее. Пристегнув ребенка, она пытается подталкивать коляску бедром, пока сама тащит за собой два чемодана. Не получается. Колеса коляски разъезжаются в разные стороны, и она становится неустойчивой. Дженни ставит чемоданы на землю и быстро заносит коляску по лестнице в дом. Опускает, успокаивает Тайру, бежит обратно и забирает чемоданы. К тому времени, как она поднимает в квартиру чемоданы, коляску, ребенка и все остальное, ее футболка становится мокрой от пота.
Когда она открывает дверь, ее сбивает с ног затхлый запах. Она нащупывает в темноте выключатель, а потом завозит внутрь коляску. Тайра пытается подняться, рвется встать на ноги и громко напряженно кашляет. Дженни подносит ладонь к ее лбу, но он прохладный, просто она устала или немного простудилась. Она опускает Тайру на пол кухни, затем открывает все занавески и окна. Когда свет наполняет квартиру, Дженни замечает, что Тайра сидит возле красного засохшего пятна на деревянном полу. Присаживается на корточки рядом, а Тайра водит по пятну руками. Похоже, здесь упала Дорис. Она быстро поднимает малышку с пола. Они идут в гостиную. Комната выглядит именно так, как Дженни ее помнит. Темно-фиолетовый вельветовый диван, серо-синие и коричневые подушки, столик из тика 60-х годов, письменный стол у стены, фарфоровые фигурки ангелов. Дорис коллекционировала ангелов, сколько Дженни себя помнила. Восемь маленьких крылатых статуэток только в гостиной. Две из них ей подарила Дженни. Нужно отнести несколько из них завтра в больницу. Она берет в руки одну из фигурок – это маленький золотистый ангелок из керамики – и подносит к щеке.
– Дорис и ее ангелы, – шепчет она, на глаза набегают слезы.
Она осторожно возвращает фигурку на место. Ее взгляд падает на стопку бумаг на столе. Она берет верхний лист и начинает читать.
Глава двадцатая
С улицы доносится гудок. Это такси, которое вызвала Дженни. Ее одолевает непонятное волнение, кажется, что нужно ехать сразу в больницу и это не ждет до завтра. Она кладет стопку бумаг на стол и поглаживает ее рукой. Дорис так много написала. Дженни берет несколько верхних страниц, складывает их пополам и засовывает в сумку. Ей слишком любопытно, чтобы остановиться.
Она едет в такси к больнице с Тайрой на руках. На улице стемнело. Она зевает и нехотя делает звонок:
– Привет. Я в Швеции, все в порядке.
Дженни держит телефон на небольшом расстоянии от уха, готовясь к воплю с другой стороны Атлантического океана. Но вместо этого ее встречает тишина. Она слышит в трубке шорох, как будто ее передают из рук в руки. Первым говорит Джек:
– Как ты могла уехать, мам? Не сказав мне? Кто теперь будет готовить обед? Когда ты вернешься?
– Я нужна Дорис. У нее больше никого нет. Никто не должен умирать в одиночестве.
– А что насчет нас? Мы не важны? Нам тоже некому помочь.
Он громко кричит, выказывая свой непоколебимый подростковый эгоцентризм.
– Джек…
– Просто уехать, бросить нас! Как ты могла?
– Джек, послушай меня.
– Возвращайся, если хочешь со мной поговорить.
– Джек, а теперь послушай меня! – Она повышает голос, что делает лишь тогда, когда действительно злится. Встречается со взглядом таксиста в зеркале заднего вида. – Уверена, ты сам можешь несколько недель готовить себе сэндвичи. Речь о сэндвичах, это не вопрос жизни и смерти. Попытайся подумать о Дорис, а не о себе.
Он отдает телефон Вилли, не произнося ни слова.
– Как ты могла вот так уехать, оставив только записку в качестве объяснения? Я беспокоюсь, мальчики в истерике. Уезжая на несколько недель, нужно было все спланировать. Спланировать! Нам нужна няня. Как ты планировала разбираться с этим?
– Мы договорились, что я поеду. И я взяла с собой Тайру, как и обещала. Не нужно все усложнять, Вилли. Мальчики уже большие. Приготовь им утром пару сэндвичей, положи в коробки для ланча и убедись, что они возьмут их в школу. Это не запуск ракеты.
– А кто будет следить за ними, когда они придут домой из школы? Кто поможет с домашним заданием? Я работаю, и ты это знаешь. Господи, Дженни, это ребячество!
– Что ты называешь ребячеством? Мы обсуждали мой отъезд, и ты был не против. Дорис – тоже моя семья, как и вы! Она заботилась обо мне в детстве, а теперь умирает, и я хочу быть рядом с ней! Что именно тебе кажется ребячеством?
Он фыркает, что-то бормочет, прощаясь, и кладет трубку. Дженни натянуто улыбается Тайре, которая внимательно смотрит на нее.
– Это был папочка, – говорит она, придвигает девочку ближе и целует в маленькие круглые щечки.
Наконец они приезжают в больницу. Дженни следует по указателям от главного входа к лифтам и нажимает кнопку. Ожидание тревожит ее. Она переживает, что Дорис ее не вспомнит. Один из лифтов издает звуковой сигнал.
В отделении резко пахнет средствами дезинфекции, раздаются механические звуки медицинских приборов, вздохи пациентов. Медсестра останавливается, когда замечает ее:
– Вы кого-то ищете?
– Да, я ищу Дорис Альм. Она здесь?
– Дорис, да, она здесь. – Медсестра показывает на палату. – Но вы пропустили время для посещений, поэтому, боюсь, вы сейчас не сможете ее увидеть.
– Я только что прилетела из Сан-Франциско! Мы приземлились несколько часов назад. Пожалуйста, вы должны разрешить мне ее увидеть.
Медсестра быстро оглядывается по сторонам, но потом кивает и ведет ее в палату:
– Просто не шумите и не оставайтесь надолго. Пациентам нужно отдыхать.
Дженни кивает и подходит к кровати Дорис. Она стала худая и маленькая, совсем не такой ее помнит Дженни. Глаза закрыты. Дженни садится на стул для посетителей. Придвигает к себе коляску с Тайрой и достает из сумки страницы, взятые со стола Дорис. Все слова адресованы ей. Интересно, о чем она так много написала? Все начинается с истории о записной книжке, о папе Дорис и его мастерской.
Из одеял слышится стон. Дженни поднимается и склоняется над кроватью.
– Дорис, – шепчет она, гладя ее волосы. – Досси, я здесь.
Дорис открывает глаза, снова и снова моргает. Долгое время рассматривает посетительницу.
– Дженни, – наконец говорит она. – Ох, Дженни, это действительно ты?
– Да, это я. Я здесь. Я буду рядом с тобой.
П. Паркер, Майк
Майк Паркер. Он был тем, кто научил меня, не все дети рождаются в любви. Что любовь вообще не является обязательной. И что она не всегда красива.
Я встретила его одним дождливым днем, и в моей памяти он его образ до сих пор ассоциируется с непогодой.
В начале лета 1941 года никто не хотел ехать в Европу. Гражданские корабли давно перестали ходить в этом направлении; океанские просторы рассекали лишь грузовые суда, поставляющие ракеты и истребители. Я это знала. Но решила не покидать пристань, пока не окажусь на борту корабля. Если мне удастся добраться хотя бы до Англии или Испании, то я уже буду ближе к Аллану. И Йёсте.
Я прогуливалась по причалу и смотрела на пришвартованные лодки. Я босиком ступала между мусором и лужами, вскрикивая от боли, когда маленькие острые камни впивались в стопы. Туфли я убрала в сумку. Не хотела испортить последнюю хорошую пару. С собой я взяла лишь небольшой чемодан с минимумом одежды. Мой любимый медальон болтался на шее. Остальные вещи остались в сундуке на чердаке у Карла. Я надеялась, что когда-нибудь еще их заберу.
– Мисс! Мисс! Вы кого-то ищете?
Ко мне сзади подбежал мужчина, и я вздрогнула от неожиданности. Он был чуть ниже меня, но его тонкая белая куртка промокла и не скрывала сильных плеч и мускулистых рук. Одежда, лицо и руки незнакомца были испачканы машинным маслом. Он улыбнулся и в вежливом приветствии снял шапку. Затем потянулся к моему чемодану. Я схватила его обеими руками. Дождь усиливался.
– Давайте мне ваш чемодан. Вы потерялись? Сейчас отсюда не отправляются пассажирские корабли.
– Мне нужно в Европу. Я должна туда поехать. Это очень важно, – ответила я, отступив на шаг назад.
– В Европу? Зачем вам туда? Вы разве не знаете, что там война?
– Там мой дом. И люди, которые нуждаются во мне. В которых нуждаюсь я. Я не уйду, пока не окажусь на борту.
– Ну, единственный способ добраться туда сейчас – найти работу на одном из грузовых судов. Но вам придется сменить это платье. – Он кивнул на мою красную юбку. – У вас в чемодане есть брюки?
Я покачала головой. Я видела женщин в современных длинных брюках, но у меня таких не было.
Он улыбнулся:
– Ладно, это поправимо. Возможно, я смогу вам помочь. Я Майк. Майк Паркер. Завтра утром отсюда отправляется судно. На нем полно оружия для британской армии. Нам нужен повар – мужчина, который должен был плыть с нами, заболел. Вы умеете готовить, мисс?
Я кивнула. Опустила чемодан на причал.
– Работа тяжелая, вам нужно быть к этому готовой. И мне придется попросить вас обрезать волосы. Эта работа не для леди.
Я покачала головой, широко раскрыв глаза. Нет, только не мои волосы…
– Вы хотите в Европу или нет?
– Я должна.
– Они на за что не возьмут на корабль женщину. Вот почему вам нужно обрезать волосы и одеться как парень. Придется найти вам кое-какую одежду. Брюки и рубашку.
Я замешкалась. Но какой у меня был выбор, когда мне нужно покинуть эту страну? Я последовала за ним в небольшое помещение между бараками и надела одежду, которую он мне дал: коричневые брюки из какой-то плотной шерстяной ткани и светлую рубашку с засохшими пятнами пота под мышками. Все было слишком большим и ужасно пахло. Я закатала рукава и подвернула штанины. Майк неожиданно подкрался ко мне и срезал широкую прядь волос. Я закричала.
– Вы плывете или нет?
Он с улыбкой пощелкал ножницами.
Я прикусила губу, кивнула и зажмурилась. Мои красивые блестящие волосы рассыпались по деревянном полу.
– Все будет хорошо, – сказал он, улыбаясь.
Я не была в этом так уверена.
Он переложил содержимое моего чемодана в джутовый мешок и кинул его мне:
– Возвращайтесь завтра в семь. Мы поплывем к кораблю на лодке.
Он показал на одно из небольших гребных суденышек, подпрыгивающих на волнах у причала.
– Я могу остаться здесь? Мне некуда пойти.
– Без проблем.
Он пожал плечами и ушел, даже не попрощавшись со мной.
Ночью на пристани раздается очень много звуков. По полу бежит мышка, ветер играет дверьми и окнами, под доком шипит водосточная труба. Я лежала на мешке с вещами, укрывшись своим красным пальто, в котором была, когда мы с Агнес впервые ступили на американский берег. Тогда оно было новым, но теперь износилось в клочья. Если бы я тогда знала, как все обернется! В мешке под моей головой лежали скомканные остатки гламурной парижской жизни. Я думала о Йёсте – находился ли он в безопасности в своей кровати в Стокгольме? И об Алла-не – жив ли он? Воспоминание о нашей любви заставило меня на мгновение забыть про страх неизвестности. Вдали, покачиваясь на ветру, скрипела дверь. И я наконец заснула.
П. Паркер, Майк МЕРТВ
Когда рассвело, пристань погрузилась в густой туман. Розоватые солнечные блики плясали на серой поверхности воды, которую до белой пены рассекал корпус лодки. Майк энергично работал веслами. Я провожала взглядом Манхэттен, острый шпиль Эмпайр-стейт-билдинг, устремившийся в небо. Мы приближались к судну, на носу которого устало повис американский флаг. Майк вдруг перестал грести и посмотрел на меня:
– Опусти голову, когда будешь подниматься на борт. Никому не смотри в глаза. Я скажу им, что ты не говоришь на английском. Если они узнают, что ты женщина, тут же снимут.
Майк опустил весла, подошел ко мне и прижал руки к моей груди.
Я ахнула от неожиданности.
– Снимай рубашку. Нам нужно их спрятать.
Я начала расстегивать пуговицы, но он зашипел, что мы торопимся, и рванул рубашку, выставив напоказ мою грудь и живот. От прохладного утреннего воздуха тело покрылось мурашками. Майк порылся в аптечке и нашел перевязочный бинт. Крепко обмотал им мое тело поверх лифчика. Исчез последний признак моей женственности. Он натянул шапку на мои обрезанные волосы и направил нос лодки к судну:
– Помни, что я сказал. Смотри вниз. Все время. Ты ни слова не знаешь по-английски. Ни с кем не разговаривай.
Я кивнула, а когда мы поднялись на судно по веревочной лестнице, болтавшейся вдоль корпуса, попыталась ходить, как мужчина, расставив ноги. На спине висел мой мешок с одеждой, его ремень пересекал грудную клетку и болезненно натирал мою обвязанную грудь. Майк представил меня экипажу и сказал, что со мной бессмысленно говорить, я ничего не пойму. Затем показал мне кухню и оставил меня одну распаковывать коробки с едой.
В полной темноте первой ночи я узнала подлинные мотивы Майка. Он совсем не хотел мне помочь. Он обхватил мои запястья одной рукой, прижал их к изголовью кровати и прошептал мне на ухо:
– Одно слово, и ты за бортом. Клянусь тебе. Хоть раз пикнешь – и опустишься на дно моря, как камень.
Другой рукой он развел мои ноги. Мне пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. Слезы боли, страха и унижения текли по моим щекам, а голова билась о край кровати одновременно с его грубыми рывками.
Это повторялось почти каждую ночь. Я лежала тихо, не двигаясь, чтобы как можно скорее с этим покончить. Пыталась привыкнуть к его учащенному дыханию в мое ухо, его рукам, бродившим по моему телу.
В течение дня я молча работала на кухне. Варила рис и нарезала консервированное мясо. Мыла посуду. Экипаж приходил и уходил. Я встречала их взгляды, но не осмеливалась заговорить с ними. Майк держал меня под контролем, и страх того, что может произойти, если я попытаюсь сбежать, был слишком сильным.
Однажды вечером, когда я мыла посуду, я услышала крик капитана на мостике. Мужчины забегали. Мы были в нескольких часах от земли. Над водой эхом разнеслись выстрелы. На судне было полно оружия и патронов, капитан в отчаянии закричал:
– Задний ход! Задний ход! Разворачиваемся! Немцы! Это немцы! Мы взлетим на воздух, если попадем под обстрел!
Двигатели дали задний ход, все вокруг затряслось. Я оставалась в безопасности камбуза, но знала, что нужно подняться ближе к палубе на случай взрыва в трюме. Попытавшись открыть дверь, я обнаружила, что она закрыта. Либо Майк запер меня, либо это произошло из-за резкой смены курса. Я должна была выбраться. Выстрелы приближались, громыхали, как фейерверки. В конце кухни находилось небольшое круглое окно в кают-компанию. Я сковородкой разбила стекло и пролезла через него ногами вперед. Осколки стекла раздирали мои ноги и предплечья. Судно все еще давало задний ход, и двигатели громко гудели. Я прокралась наверх на корму. На ощупь нашла сундук со спасательными жилетами. Натянула один и села ждать, прислонившись к холодной стене.
Немецкий корабль нагнал нас. Мужчины на палубе включили прожектора и энергично стреляли. Несколько пуль попало в металл прямо над моей головой, и я пригнулась, испугавшись рикошета. Я прижалась к полу, как вдруг меня схватила чья-то рука.
Он собрался перелезть через перила в дальнем углу палубы и жестом показал мне следовать за ним. Я подготовилась и пробежала несколько метров до места, где стоял он, прикрывая голову руками. Я не знала, куда он направлялся, но побежала за ним и быстро спустилась по веревочной лестнице. В конце моя нога за что-то зацепилась. Он схватил меня за лодыжку и потянул меня на дно небольшой спасательной шлюпки. Потом оттолкнул нас от судна, и мы медленно отплыли. Пули свистели над нашими головами, а волны относили нас ближе к вражескому кораблю.
Мы легли, засунув головы под лавки и прижав руки к ушам. Из-за воды, окружавшей шлюпку, рев выстрелов звучал по-другому. Как глухое курлыканье голубей. Я мысленно повторяла все молитвы, что когда-то учила в школе, но к которым ни разу не обращалась.
Минуты казались часами.
А потом на корабле, который мы только что покинули, вдруг раздался ужасный взрыв. Горячая взрывная волна перевернула нашу шлюпку, и мы оба упали в воду. Я слышала, как мой спаситель зовет на помощь, но волны относили его все дальше от меня, заглушали его голос, пока он совсем не смолк.
Я барахталась в ледяной воде, окруженная обгоревшими обломками. Смотрела, как огромное судно опрокинулось и медленно начало погружаться в воду, как пылающий факел. Мой спасательный жилет удерживал меня на плаву, и мне удалось вернуться к спасательной шлюпке. Она перевернулась, но я забралась на нее сверху и обхватила ее ногами. Немцы развернулись и уплыли, и море снова стало спокойным. Никаких выстрелов, никаких криков.
Когда рассвело, я была одна в окружении обугленных обломков. И тел. Одних застрелили, другие утонули. Я так и не узнала, кто из них спас мою жизнь.
Мимо проплыло тело Майка, я проводила его взглядом. Аккуратную бородку покрывал толстый слой темной крови. Его застрелили в голову.
Я почувствовала облегчение.
Глава двадцать первая
Когда они наконец возвращаются в квартиру на Бастугатан, в Сан-Франциско уже поздняя ночь. Усталость практически парализует. Дженни готовит кашу, а Тайра сидит на полу у ее ног и играет с кастрюлями. Малышка вытаскивает их из шкафа и радостно повизгивает. Ей так нравится сидеть на полу, что Дженни просто ставит перед ней миску с кашей и сдвигает коврик, чтобы не испачкался.
Дженни открывает и закрывает коробки и шкафчики, роется в вещах Дорис, пока Тайра размазывает кашу по полу. На кухонном столе лежат какие-то предметы, они аккуратно выровненны на голубой скатерти. Она поднимает и рассматривает их по очереди. Лупа покрыта пылью и жирными пятнами, измятая кружевная тесемка растрепалась с одного конца. Она смотрит на оставшиеся предметы через грязное стекло. Картинка расплывается. Она протирает лупу начисто уголком скатерти. Бледно-голубая ткань мнется, а когда она пытается ее разгладить, получается лишь частично.
В таблетнице все еще лежат таблетки на три дня. Пятница, суббота и воскресенье. Значит, Дорис, наверное, упала в четверг. Дженни старается вспомнить, когда состоялся их первый разговор. Мальчики были в школе, значит, наверное, в пятницу. Интересно, что это за таблетки? Были ли у Дорис и прежде проблемы с сердцем? Знали ли о них доктора? Возможно, недавний сердечный приступ случился из-за того, что она не приняла свое лекарство? Она засовывает таблетницу в карман сумки, чтобы завтра спросить об этом у доктора.
Тайра прокидывает миску и начинает громко плакать.
– Пора спать, милая, – бормочет она.
Поднимает дочку, быстро вытирает пол, очищает лицо Тайры влажной салфеткой и засовывает ей в рот соску.
Вскоре она слышит тихое кряхтение, которое всегда издает Тайра перед тем, как заснуть. Дженни забирается на кровать, ложится рядом с девочкой и утыкается носом в ее шею. Закрывает глаза. Она чувствует исходящий от подушки успокаивающий запах Дорис.
Сейчас шесть часов вечера. Тайра тянет ее за волосы, тыкает в глаз и ноет. Дженни, щурясь, смотрит на светящиеся стрелки часов и пытается понять, сколько времени в Сан-Франциско. Десять. Именно в это время Тайра просыпается после ночного сна. Дженни пытается убаюкать ее, от усталости кружится голова, но ее усилия оказываются напрасными. Девочка проснулась.
От лампы на столе поднимается столб пыли, когда она включает ее. В квартире холодно, и она, накинув на себя одеяло, идет на кухню, понимая, что Тайра скоро начнет плакать от голода. Роется в сумке для детских принадлежностей в поисках чего-то съестного. На самом дне находит парочку сломанных крекеров и пакетик с фруктовым пюре, который она открывает и дает Тайре. Девочка радостно высасывает его, но потом откидывает пакетик и обращает свое внимание на крекеры. Она кладет их в одну из кастрюль на полу. Несколько раз хлопает крышкой, затем засовывает в кастрюлю пухлые ручки и достает сначала один крекер, потом второй, которые кидает через плечо.
– Печеньки, печеньки, – довольно смеется она.
– Ты должна была их съесть, дорогая, – сначала пытается Дженни на шведском, а потом с улыбкой переключается на английский: – Ешь крекеры.
У нее все еще кружится голова. Снаружи небо темное, свет в здании напротив не горит. Лишь темные пустые окна, стекла которых отражают желтое свечение уличных фонарей. Золотистые вспышки в ночи.
Стопка страниц, напечатанных Дорис, лежит на кухонном столе. Она снова берет их и перелистывает. Читает первые строки:
В течение всей жизни мы встречаем множество имен. Ты думала об этом, Дженни? Обо всех именах, которые появляются и исчезают. Которые разрывают наши сердца на куски и заставляют проливать слезы. Которые становятся любимыми или ненавистными. Я иногда пролистываю свою адресную книгу.
Записная книжка. Дженни ищет ее среди предметов на столе. Поднимает потрепанную старую красную кожаную книгу и пролистывает ее пожелтевшие страницы. Должно быть, про нее пишет Дорис. Она начинает читать. Почти все имена вычеркнуты. После каждого из них Дорис написала: МЕРТВ, МЕРТВ, МЕРТВА, МЕРТВ. Дженни отбрасывает книгу, словно обжегшись. Боль от одиночества, в котором существовала Дорис, пронзает ее насквозь. Живи она чуть ближе… Интересно, сколько дней Дорис уже одна? Сколько лет? Без друзей и семьи. Один на один со своими воспоминаниями. Прекрасными. И недостижимыми.
А теперь сама Дорис может стать воспоминанием. Одним из утраченных имен. МЕРТВА.
Д. Джонс, Пол
Я много раз в ту ночь прокляла себя за то, что покинула безопасные берега Америки. Ради чего? Ради войны в Европе. Ради надежды снова встретить Аллана. Наивной мечты, которая никогда не сбудется. Я была уверена, что это конец, раскачиваясь на перевернутой шлюпке в ледяных волнах океана. Когда рассвело, я представляла себе его лицо. Чувствовала холодное прикосновение металла от медальона на моей груди, но не могла его открыть. Я закрыла глаза и попыталась восстановить в памяти его образ. И он казался таким настоящим, что угрожающее море отошло на второй план. Он разговаривал со мной. Смеялся громко и пронзительно, как и всегда, когда рассказывал мне смешную историю. Я всегда заражалась его смехом. Он танцевал вокруг меня и вдруг, поцеловав меня, исчез. Его глаза светились страстной жаждой жизни.
Вода была черной, пенистые гребни вздымались и сверкали в предрассветном солнечном свете, как ножи. Было тихо, если не считать свист ветра. Корпус шлюпки был теплым, и я просунула пальцы между деревянными досками, чтобы получше ухватиться, но силы покинули меня, и руки безвольно упали по бокам. Плотная ткань спасательного жилета впивалась в живот. Я невольно сползала ближе к воде, не будучи способной остановиться, но отлично понимая, что произойдет. Смерть ждала меня, приняла к себе со всплеском, когда я наконец упала. Я погружалась в воду и чувствовала ее вес, не оставлявший мне шансов на спасение.
Я услышала треск, почувствовала запах дерева и тепло, разливавшееся по телу. Я была укутана в плотное шерстяное одеяло так крепко, что не могла пошевелить руками. Я моргнула. Так вот, что значит быть мертвым? В помещении горел тусклый свет. Посередине комнаты – огромный камин, труба которого исчезает высоко за деревянными балками потолка. Справа я разглядела небольшую кладовую, а слева – коридор и окно. Снаружи было темно. Я не знала, что это за место и сколько я здесь нахожусь. Странные инструменты и веревки висели на крючках в коридоре, куски бумаги были засунуты в трещины в деревянных стенах. Мне не было страшно. Я даже чувствовала себя в безопасности и снова задремала. Мне казалось, что я продолжаю мягко покачиваться на волнах.
Я проснулась окончательно, когда с окон начали снимать ставни. Яркий солнечный свет заполнил комнаты. Собака понюхала мое лицо, лизнула щеку своим влажным языком. Я фыркнула, чтобы она ушла, потрясла головой.
– Доброе утро, – услышала я голос мужчины и почувствовала руку на плече. – Вы проснулись?
Я снова и снова моргала, пытаясь сфокусироваться на человеке, что стоял передо мной. Это был худой старик со сморщенными щеками, который с любопытством рассматривал меня.
– Вы были на волоске от смерти. Я вытащил вас из воды. Не думал, что вы живы, но когда поднял вас – вы закашлялись. Столько других погибло. Повсюду тела. Эта война… Она для всех нас закончится смертью.
– Я не умерла? – Когда я говорила, горло болело. – Где я?
– Нет, вам повезло намного больше, чем другим. Как вас зовут?
– Дорис.
Он подскочил, и на его лице отразилось недоумение.
– Дорис? Вы женщина?
Я кивнула. И вспомнила о своих коротких волосах.
– Иначе я не могла сесть на корабль в Америке.
– Вы и меня обвели вокруг пальца. Ну, мужчина или женщина – разницы никакой. Можете остаться здесь, пока не наберетесь сил, чтобы двигаться дальше.
– Где я? – снова спросила я.
– Вы в Англии. В Санкриде. Я нашел вас, когда вышел в море рыбачить.
– А здесь нет войны?
– Война везде, – он опустил глаза в пол, – но здесь, в сельской местности, она не так заметна. Неприятели сосредоточились на Лондоне – его постоянно бомбят. Мы ночью выключаем весь свет. И у нас не так много еды, как раньше. Но в остальном жизнь здесь идет своим чередом. Я вышел собрать сети, когда нашел вас. Выкинул рыбу, которую удалось поймать. Не хотел ее есть, когда там повсюду плавали мертвые тела.
Мужчина ослабил одеяло, чтобы я могла двигать руками. Я осторожно потянулась. Ноги болели, но я могла ими двигать. Прибежала собака. Она была серая и лохматая и ткнула меня своим носом.
– Это Рокс, простите его за навязчивость. Меня зовут Пол. Дом небольшой, но вы можете спать на матрасе. Просто, но тепло и удобно. Куда вы направлялись? Вы не британка, я слышу.
Я задумалась. В какой из двух городов я направлялась? Я не знала. Стокгольм казался мне далеким воспоминанием, Париж – утопией, которая лишь разочарует.
– В Швеции идет война?
Пол покачал головой:
– Нет, насколько я знаю.
– Тогда я направляюсь туда. В Стокгольм. Вы знаете, как туда добраться? Знаете кого-нибудь, кто может мне помочь?
Он грустно улыбнулся и покачал головой. Я осталась с ним еще надолго. Думаю, он знал, что так и будет.
Д. Джонс, Пол
В этом маленьком доме имелся чердак. Крутая лестница возле камина вела к заколоченному проходу в потолке, и Пол взялся за клещи и вытащил гвозди. Мы вместе поднялись внутрь. Стены чердака под углом поднимались к толстой деревянной балке, и свободно стоять можно было лишь в центре. Вокруг валялся всякий хлам. Стопки старых газет и книг. Коробки с рыболовными сетями, от которых пахло водорослями. Большой черный чемодан. Маленькая лошадка-качалка, которая поскрипывала от движения. И повсюду плотная паутина.
Пол извинился, сдул паутину и поднял в воздух огромное серое облако пыли, расставляя коробки и книги стопкой вдоль стены. Я открыла окно в форме месяца, чтобы впустить солнечный свет. Затем отскребла пол и стены мыльной водой.
Тонкий матрас из конского волоса стал моей кроватью. Шерстяное покрывало – моим одеялом. Ночью я часами лежала без сна, прислушивалась к звукам пролетающих в отдалении самолетов. Я боялась еще одного взрыва. Я снова и снова прокручивала в голове последние минуты на корабле. Горящий факел, уходящий под воду. Взлетающие в воздух тела. В моих лихорадочных снах вода окрашивалась в темно-красный. Я видела Майка, смотрящего на меня мертвыми глазами. Человека, который использовал меня.
Пол был прав, война была далеко от ежедневной жизни сельчан, но я была не единственным гостем здесь. У некоторых соседей прятались маленькие бледные дети, которые засыпали с плачем, тосковали по мамам и папам, находящимся в сотнях миль от них. Их эвакуировали из Лондона. Я видела, как они, в лохмотьях и босые, распутывали рыболовные сети, чистили ковры в такой ледяной воде, что их руки становились потрескавшимися и красными, несли на слабых спинах тяжелые предметы. В обмен на приют от них ожидали выполнения тяжелых работ.
Мне тоже пришлось работать. Пол научил меня потрошить пойманную им рыбу, делая надрез над жабрами с помощью острого ножа. Я стояла в самом конце причала, рядом с ветхим столом из серого дерева, доставала рыбу из коробок, которые Пол приносил мне, отрезала головы и доставала внутренности, которые кидала чайкам. Вскоре из-за острой чешуи кончики моих пальцев стерлись до крови и стали сухими. Но Пол не чувствовал жалости ко мне.
– Они скоро затвердеют. Просто нужно время, чтобы твои городские руки привыкли к тяжелой работе.
Я вся была в рыбьих потрохах. Это постоянно напоминало мне о смерти и вызывало тошноту. Но я молчала.
Однажды вечером мы ужинали при свете единственной свечи. Пол почти не разговаривал за столом. Он был добрым, но не особо общительным. Но вдруг он сам завел разговор:
– Ты единственная полнеешь от этой еды. – Он задумчиво поднял ложку, и водянистый бульон полился обратно в его миску.
– Что вы имеете в виду?
– Ты поправляешься. Ты где-то прячешь еду, о которой я не знаю?
– Конечно нет!
Я провела рукой по животу. Он был прав. Я набрала вес. Мой живот надулся, как парус на ветру.
– Ты же не беременна?
Я медленно покачала головой.
– Потому что нам нечем кормить еще один рот.
Той ночью мои руки гладили округлившийся живот, который не выравнивался, даже когда я лежала на спине. Я была такой дурой. Тошнота, которую я чувствовала, когда потрошила рыбу, никак не была связана с кровью. Я вспомнила, как страдала Агнес, когда была беременна. И вдруг заметила все признаки, которые прежде игнорировала. От осознания, что я вынашиваю ребенка Майка, меня стошнило прямо на пол. Зло пустило во мне свои корни.
Глава двадцать вторая
Стопка бумаги, страница за страницей, перемещается слева направо. Тайра лежит рядом с Дженни на кровати, спит глубоким сном, засунув в рот большой палец. Время от времени она издает чмокающие звуки. Дженни осторожно вытаскивает палец и заменяет его соской, но девочка тут же выплевывает ее и снова подносит руку ко рту. Она вздыхает и возвращается к чтению. Так много слов, так много воспоминаний, о которых она понятия не имела. Она засыпает с включенной лампой и прижатой к груди наполовину прочитанной страницей.
Больница огромная и серая. Кусок бетона в пригороде, с аквамариновыми и красно-коричневыми деталями. Большие белые буквы на крыше как будто висят в воздухе: Danderyds sjukhus5. Она толкает коляску с Тайрой ко входу, мимо застекленной будки, в которой теснятся, курят и дрожат одетые в халаты пациенты. Внутри бетонного здания она видит еще пациентов, все одеты в белое, по рукам некоторых змеятся вниз капельницы. Они бледные, как будто никогда не видели лета. Сан-Франциско отсюда кажется таким далеким. Дом, море, уличное движение. Джек и его угрюмое подростковое настроение, Дэвид, Вилли. Стирка, уборка и готовка. Теперь есть только она и Тайра. Одна коляска, за которой нужно следить, один ребенок. По ее телу распространяется ощущение свободы, и она, глубоко вдохнув, направляется по коридору к палате Дорис.
– Она сейчас куда бодрее, сможете с ней поговорить. Но ей все еще нужно отдыхать, поэтому, пожалуйста, постарайтесь не оставаться здесь долго. И боюсь, никаких цветов. – Медсестра качает головой и показывает на букет в руках Дженни. – Аллергия.
Дженни нехотя откладывает цветы и завозит коляску в палату Дорис. И замирает, когда видит ее на кровати. Она такая маленькая и худая, что кажется, вот-вот исчезнет. Ее белые волосы обрамляют серое лицо словно нимб.
Губы бледно-голубые. Дженни оставляет коляску на месте и бежит, чтобы осторожно ее обнять.
– Ох, моя дорогая, – хрипло шепчет Дорис, похлопывая ее по спине. В одной из крупных вен на тыльной стороне ее ладони вставлен катетер. – И кто это у нас здесь? – Дорис показывает на коляску, в которой, распахнув глаза и приоткрыв рот, сидит Тайра.
– Ах да, она как раз проснулась.
Дженни достает Тайру из коляски и присаживается на край кровати, усадив дочку на колени. Она общается с малышкой, смешивая шведский и английский:
– Тайра, это тетушка Дорис. Тетушка из компьютера, помнишь? Скажи привет.
– Малыш паучок ползет по трубе, – напевает Дорис.
Дженни притоптывает ногой в такт, отчего Тайра подпрыгивает на ее коленях. Заспанное лицо ребенка озаряет улыбка. Она громко гулит, когда Дженни качает ногами из стороны в сторону.
– Она совсем как ты, – говорит Дорис и тянется рукой к пухлым ножкам. – В ее возрасте у тебя тоже были толстые бедрышки.
Дженни подмигивает и улыбается:
– Приятно видеть, что ты не утратила своего чувства юмора.
– Да, старушка пока не померла.
– Уф, не говори так. Ты не можешь умереть, Досси, просто не можешь.
– Но я должна, любимая моя. Пришло мое время, с меня хватит. Ты разве не видишь, какая я дряхлая?
– Пожалуйста, не говори так… – Дженни зажмуривается. – Я вчера немного почитала. Те страницы, что ты написала для меня. Я заплакала, когда увидела все, что ты хотела мне рассказать. Это вся твоя жизнь. Я очень многого не знала.
– И как много ты осилила?
– Ох, я так устала, заснула на твоем приезде в Париж. Ты, наверное, так боялась в этом поезде. Была такой молодой. Как Джек сейчас. Это невероятно.
– Да, конечно, я боялась. И до сих пор это помню. Это странно. Когда становишься старше, воспоминания о том, что произошло недавно, исчезают, а то, что случилось многие годы назад, становится таким ярким, как будто это только что произошло. Я даже помню, чем пахло в тот день, когда поезд прибыл на станцию.
– Правда? И чем пахло?
– Густым дымом из дровяной печи, свежеиспеченным хлебом, цветущим миндалем и мускусом от всех богатых мужчин на платформе.
– Мускус, что это такое?
– Запах, который тогда был в моде. Пахнет хорошо, но очень сильно.
– Ты помнишь, что чувствовала, когда впервые оказалась в Париже?
– Я была такой молодой. Когда ты молод, важно только «здесь и сейчас». Очень редко кто задумывается о том, что будет дальше. Но моя мама давно меня отпустила, поэтому я совсем по ней не скучала. Я только вспоминала, как она напевала по вечерам, думая, что мы спим. Но мне было вполне комфортно с мадам. По крайней мере, я так помню.
– Какие песни она напевала? Те же, что ты пела мне, когда я была ребенком?
– Да, возможно, я пела тебе те же песни. Ей нравились гимны, она часто пела «Дети Отца Небесного». И «Изо дня в день». Но, как я сказала, она просто напевала, никогда не пела слова.
– Звучит так мило. Подожди, я могу включить их для тебя.
Она достает телефон, нажимает «Воспроизвести» и показывает Дорис видео из Ютьюб; та, щурясь, смотрит на маленький экран. Детский хор поет «Дети Отца Небесного» звонкими молодыми голосами. Они стараются достать самые высокие ноты.
– Именно так и звучало, когда мама напевала, она, словно напуганный ребенок, старалась петь повыше, но срывалась. Ей всегда приходилось начинать сначала, – смеется Дорис.
– Мне всегда нравилось, когда ты ее пела для меня, когда я сидела на твоем колене и ты трясла меня туда-сюда. Что это была за песня?
– «Маленькая ворона священника»… – Дорис поет первую строчку старой шведской детской песенки, а потом напевает остальное.
– Да, это она! О, мы должны спеть ее Тайре.
Дорис улыбается и, вытянув руки, кладет их на пухлые ножки Тайры. Они вместе поют. Дженни спотыкается на словах, невнятно бормочет, но они всплывают в памяти, когда она слушает хриплый голос Дорис. Она обвивает Тайру рукой и покачивает ее туда-сюда. Металлический поручень на краю кровати впивается ей в ноги, но ей слишком хорошо, чтобы останавливаться. Тайра хихикает. Она поскользнулась здесь, она поскользнулась там…
– Все всегда было так хорошо, когда ты приезжала к нам. Досси, я так по тебе скучала!
Дженни поворачивается к Дорис со слезами на глазах. Она лежит с закрытыми глазами, рот приоткрыт. Дженни резко тянется к ней и чувствует слабое дыхание. Выдох. Досси просто спит.
Глава двадцать третья
Ей стыдно, но она не может остановиться. Каждая коробка, каждая полка, каждый шкаф, каждый укромный уголок и трещинка. Она ищет везде. Находит фотографии, драгоценности, сувениры, иностранные монеты, чеки, записки на листках бумаги. Она внимательно все изучает. Складывает в кучки, сортирует по местам, где бывала Дорис. Многое из найденного она видит впервые.
Она замечает на стуле серый с узорами кардиган, он принадлежит Дорис и чуточку пахнет лавандой. Дженни укутывается в него и садится на край кровати. Тайра лежит на спине, спит, подняв руки над головой. На ней лишь памперс, и ее круглый животик поднимается и опускается, когда она дышит. Ее рот приоткрыт, а горло немного хрипит. Кажется, простуда не хочет отпускать ее, к прохладному воздуху Швеции всегда сложно приспособиться.
– Сладкая моя, – шепчет она и целует ее в лоб. Вдыхает сладкий запах кожи малышки, когда накрывает ее одеялом.
Дженни устала, и ей самой не помешало бы поспать, но найденные вещи Дорис раззадорили ее любопытство. Она опускается на холодный пол, изучает старые чеки, некоторые из них исписаны затейливым почерком. Один, из «La Coupole», засунут в замусоленный конверт, на уголке которого черными зацветшими чернилами нарисовано сердце. Бутылка шампанского и устрицы. Роскошно. Она ищет ресторан в Гугле и обнаруживает, что он все еще существует на Монпарнасе.
Она сходит туда однажды и испытает то же самое, что чувствовала Дорис. Интересно, с кем она ходила и почему на конверте нарисовано сердце.
Дженни открывает потрепанную деревянную коробку. Внутри лежат несколько французских монет и шелковый платок в клетку. Большой серебристый медальон отражает свет. Дженни аккуратно открывает его. Она видела его и прежде, поэтому знает, чего ожидать. Ей улыбается черно-белое лицо. Она прищуривается, чтобы получше рассмотреть маленькое изображение, но оно выцвело, черты лица мужчины кажутся плоскими. У него короткие темные волосы, зачесанные на одну сторону. Когда Дженни спросила, кто это, Дорис не ответила. Она осторожно вытаскивает фотографию из медальона. На оборотной стороне нет никакой записи.
Воспоминания Дорис лежат бумажной стопкой на кровати. Почти полночь, но Дженни не может остановиться. Берет в руки еще одну страницу и продолжает читать. Ей кажется, что Дорис будто рассказывает ей все вслух.
Глава двадцать четвертая
На следующее утро, не успев обнять Дорис, Дженни достает из сумки медальон и задает терзавший ее всю ночь вопрос:
– Кто это?
Дорис таинственно улыбается, щурится, но не отвечает.
– Ну же, ответь мне. Ты всегда молчишь об этом, но теперь-то можно рассказать. Кто это?
– Кое-кто из прошлого.
– Это Аллан, верно? Скажи, что это он.
Дорис качает головой, но улыбка и блеск в глазах тут же выдают ее.
– Он красивый.
– Конечно, каким еще он мог быть?
Дорис тянется за медальоном.
– Искупаться в Сене… Ох, это, наверное, так романтично.
– Посмотрим. – Дорис дрожащими пальцами открывает медальон и смотрит, щурясь, на фотографию. – Я теперь ничего не вижу.
Дженни подает Дорис лупу с тумбочки.
Дорис смеется:
– Представь, если бы Аллан знал, что через семьдесят лет я буду лежать здесь и с тоской смотреть на него в лупу. Это бы его позабавило!
Дженни улыбается:
– Дорис, что с ним случилось?
Дорис качает головой:
– Что случилось? Я не знаю. Понятия не имею.
– Он умер?
– Я не знаю. Он исчез. Мы познакомились в Париже и влюбились. Он бросил меня, но потом прислал письмо из США, в котором просил меня приехать к нему. Я получила его лишь год спустя, поэтому, когда я приехала в Нью-Йорк, он уже был женат на другой женщине. Подумал, что я не захотела приезжать и забыла его. Фатальное заблуждение, в котором он убедился, встретив меня случайно на улице Нью-Йорка. А потом он уехал во Францию, чтобы воевать за свою страну. Его мама была француженкой. Оттуда он написал мне письмо, в котором винил себя в собственной глупости и клялся в любви. Но, вероятно, он так и не вернулся домой, иначе после войны я бы получила от него весточку. Осталась только память о нас, о той ночи, когда мы вместе окунулись в Сену. Немцы взорвали мост, под которым мы купались тогда. Не осталось ничего. Лишь руины. Возможно, та же судьба постигла и моего Аллана.
Дженни некоторое время молчит.
– Но… но где ты была после войны? Он мог знать это? Может, пытался тебя найти?
– Дженни, дорогая, любовь всегда найдет путь. Нас ведет судьба, я всегда в это верила. Его, наверное, уже нет, но мне, как ни странно, никогда не казалось, что он погиб на войне. Всю жизнь я чувствовала, что он рядом со мной.
– Но что, если это не так, если он все еще жив? Если все еще любит тебя? Тебе разве не интересно, кем он стал, как выглядит?
– Полагаю, лысый и в морщинах.
Дженни смеется над быстрым ответом Дорис. Тайра, которая спала в коляске, подпрыгивает, ее голубые глаза распахиваются.
– Привет, милая. – Дженни кладет руку на ее лоб. – Спи дальше.
Она неторопливо качает коляску, надеясь, что малышка снова заснет.
– Если он все еще жив, мы должны его найти.
– Уф, что за глупости? Я сама еле жива. Никого не осталось в живых. Все умерли.
– Никто не умер! Конечно, он еще может быть живым. Вы же были одного возраста? Ты все еще жива!
– Едва.
– Нечего прикидываться умирающей, тебя выдает твое чувство юмора. Не забывай, что несколько недель назад ты была здорова, жила дома и не думала о том, чтобы прощаться с нами.
– Не переживай об Аллане. Слишком много времени прошло. Со всеми случается такая любовь, которую невозможно забыть, Дженни. Это нормально.
– Как это невозможно забыть?
– Неужели с тобой такого не было? Нет человека, мысли о котором не оставляют тебя ни на минуту?
– У меня?
– У тебя, конечно. – Дорис улыбается, и щеки Дженни вспыхивают. – Безумная любовь, которая не завершилась счастливым концом. У всех есть такой человек. Кто-то, кто навсегда остался в твоем сердце и…
– И кто с годами кажется тебе лучше, чем был прежде.
– Конечно. И это тоже. Нет ничего прекраснее утраченной любви.
Глаза Дорис блестят. Дженни сидит молча. Ее щеки снова вспыхивают.
– Ты права. Маркус.
Дорис смеется, и Дженни подносит палец ко рту, успокаивая ее, и смотрит на коляску.
– Маркус, да.
– Ты его помнишь?
– Да, конечно. Маркус. Образцовый мальчик со следами автозагара на лбу.
Дженни удивленно выгибает бровь:
– Автозагар? Не припомню.
– Ты была слишком влюблена, чтобы это заметить. А еще он носил рваные джинсы, помнишь?
– О господи, точно! – Дженни сгибается в три погибели, подавляя смех. – Но он был красивым. И веселым. Он смешил меня и учил танцевать.
– Танцевать?
– Да, он всегда говорил, что мне нужно раскрепоститься. Было весело.
Они понимающе обмениваются улыбками.
– Иногда я занимаю себя игрой в «что, если», – говорит Дорис. Дженни вопросительно смотрит на нее. – Ну, знаешь, что, если… Что, если бы ты выбрала Маркуса в качестве партнера по жизни? Какими тогда были бы твои дети? Где бы вы жили? Остались бы вместе на всю жизнь?
– Мм… ужасные мысли. Тогда я не встретила бы Вилли и у нас не появились наши дети. Мы с Марку-сом точно расстались бы. Он бы ни за что не смог заботиться о детях. Даже Вилли едва справляется, а он нормальный. Маркус был слишком зациклен на модных джинсах. Я даже не могу представить его с детской отрыжкой на рубашке.
– Не знаешь, как у него сейчас дела?
– Нет, без понятия. Ничего не слышала о нем. Пыталась недавно найти его в Фейсбуке, но его, кажется, там нет.
– Может, он тоже мертв?
Дженни сосредоточивает свой взгляд на Дорис:
– Ты не можешь знать наверняка, что Аллана больше нет.
– Я ни слова не слышала о нем после Второй мировой войны. Ты понимаешь, как давно это было? Шансы совсем невелики.
Дорис фыркает и раскрывает медальон. Ее пальцы трясутся, когда она рассматривает в лупу улыбающегося мужчину. Слеза стекает по ее щеке.
– Эта утраченная любовь, она такая замечательная, – бормочет она.
Дженни сжимает ее руку.
Д. Джонс, Пол
Шли месяцы, а я была полна отвращения к растущей внутри меня новой жизни. Плод насилия и жестокости, с которыми я не хотела иметь ничего общего. Но нежданный ребенок каждый день напоминал мне о моем унижении. Будет ли он похож на моего мучителя? Смогу ли я полюбить его? Ночами, когда я чувствовала шевеление ребенка, я била себя по животу, чтобы это прекратить. Мне было больно, и я надеялась, что ребенку тоже.
Мы с Полом никогда не обсуждали ребенка. Или что будет, когда он родится. Пол был затворником и продолжал жить своей жизнью.
Денег на одежду у меня не было, но Пол поделился со мной своей, когда моя стала мне мала. К концу срока я обматывала ноги и живот шерстяным одеялом, которое подвязывала под грудью с помощью рыболовной лески. На еду тоже не было денег. Мы ели рыбу и молодую ботву репы, которую выращивали. Или хлеб из воды, муки и мелко дробленной коры деревьев. Я проживала дни, словно в трансе. Из дома на пляж. С пляжа за стол. Из-за стола на чердак.
Живот рос, и мне становилось все сложнее выполнять повседневные обязанности. Спина болела, а живот мешал доставать рыбу из коробок. Я приседала, чтобы ее достать, но скользкие тушки постоянно выскальзывали из рук. Рекс почти не отходил от меня, но у меня обычно не хватало сил заботиться о бедной собаке.
Америка стала казаться мне бесконечно далекой, Париж – миражом в пустыне, а Стокгольм я почти не помнила. Я отсчитывала прожитые с Полом дни, царапая черточки на комоде, стоящем возле кровати. Проходили месяцы, количество отметок увеличивалось. Черточка за черточкой. Даже не знаю, зачем я это делала, потому что никогда не считала их, не хотела знать, сколько прошло, и думать о том, что впереди. Но иначе я теряла связь с реальностью.
Летняя жара сменилась промозглым ветром. Солнце – непрерывным дождем. Цветущие зеленые поля стали топкой грязью.
Однажды вечером мы сидели за обеденным столом, как вдруг все мое тело пронзила резкая боль. Я хватала ртом воздух, чувствуя в равной степени боль и страх.
Посмотрела на Пола, который сидел напротив и прихлебывал водянистый рыбный суп.
– Что будем делать, когда все начнется?
Он поднял голову. Его лицо скрывала густая седая борода, в которой частенько оказывались остатки еды.
– Ты хочешь сказать, пришло время? – пробормотал он, глядя куда-то за мое плечо.
– Не знаю. Мне так кажется. Что нам делать?
– Позволь телу самому с этим разобраться. Я принял много телят, смогу и тебе помочь. Иди и ложись.
Он кивнул на лестницу на чердак.
Телят. Я недоуменно уставилась на него, но рухнула на стол от следующей волны боли. Я вцепилась в стол, не чувствуя ног и основания позвоночника от боли.
– Я не смогу подняться, – в ужасе простонала я.
Пол кивнул, поднялся и сходил наверх за одеялом, которое постелил перед огнем.
Вечер сменился ночью, ночь днем, и снова наступила ночь. Я потела, стонала, кричала, но ребенок никак не хотел выходить. В конце концов боль исчезла, и в доме стало тихо. Пол, все это время сидящий возле меня в кресле-качалке, нахмурился. Он казался мне размытым, находился где-то вдали. И вдруг оказался рядом со мной. Его лицо было перекошенным, словно отражение в наполированном термосе: нос торчал, а щеки впали.
– Дорис! Эй, Дорис!
Я не могла ничего ответить.
Он открыл дверь и выбежал прямо в темную ночь. Внутрь ворвался холодный воздух, и я помню, как он приятно обдувал мое измученное тело.
Я наконец потеряла сознание.
Очнулась я на кровати на чердаке. В комнате было тихо и темно. Я не чувствовала боли, но мой живот был замотан вниз от пупка. Я провела пальцами по перевязке и почувствовала под ней стежки. На тумбочке горела свеча, а Пол сидел у кровати на стуле. Он был один. Ребенка не было видно.
– Привет. – Он посмотрел на меня так, как не смотрел прежде. Я не сразу поняла, что он был напуган. – Я думал, что ты умрешь.
– Я снова жива?
Он кивнул.
– Хочешь воды?
– Что со мной произошло?
Пол покачал головой, сжал губы в тонкую линию. Я положила руки на живот и закрыла глаза. Мое тело снова стало моим. И я никогда не увижу ту жизнь, которая зародилась во мне при худших возможных обстоятельствах. Я облегченно выдохнула.
– Я побежал за врачом, но он ничего не смог сделать. Было слишком поздно.
– Он спас мне жизнь.
– Да, но только твою. Что ты хочешь сделать с ребенком?
– Не хочу его видеть.
– Ты хочешь знать, кто это был?
Я покачала головой:
– То, что находилось внутри меня, не было ребенком. У меня не было ребенка.
Когда Пол поднялся, чтобы уйти вниз, меня затрясло. Дрожь взяла начало в опустошенном животе и распространилась по всему телу. Мое тело как будто изгоняло зло. Пол оставил меня одну. Он понял.
Глава двадцать пятая
Медсестра останавливается, когда замечает Дженни и коляску в коридоре:
– Она спит.
– Давно?
– Почти все утро. Она сегодня кажется очень уставшей.
– Ей хуже?
Сестра с сожалением качает головой:
– Она очень стара, трудно сказать, сколько еще продержится.
– Мы можем с ней посидеть?
– Конечно, но старайтесь ее не беспокоить. Она вчера из-за чего-то расстроилась. Плакала, когда вы ушли.
– Она умирает… конечно, она плачет. Я бы тоже плакала.
Медсестра натянуто улыбается и уходит, не говоря ни слова.
Дженни вздыхает. Почему-то от людей ждут, что они умрут без слез. По крайней мере, в этой стране. Борись всю жизнь, будь как остальные, а потом умри, не проронив ни слезинки. Но глубоко внутри она, кажется, знает истинную причину слез Дорис. Понуро достает из сумки телефон.
– Алло? – отвечает заспанный голос по другую сторону Атлантического океана.
– Привет, это я.
– Дженни, ты знаешь, сколько времени?
– Знаю. Извини. Просто хотела услышать твой голос. Тайра сейчас по ночам больше тебя не будит, поэтому можешь разок позволить мне тебя разбудить. Я скучаю по тебе, и мне жаль, что пришлось уехать вот так.
– Конечно, милая. Я тоже по тебе скучаю. Что-то случилось?
– Она умрет.
– Мы давно это знали, детка. Пришло ее время. Так в жизни и бывает.
– Сейчас утро, но она крепко спит. Медсестра сказала, что она устала, что вчера много плакала.
– Но ей легче от того, что вы с Тайрой там?
– Да, наверное.
Они замолкают. Дженни слышит, как он зевает. И переходит к самому важному:
– Любимый, ты можешь мне помочь? Мне нужно найти человека по имени Аллан Смит. Он, вероятно, родился в то же время, что и Дорис, где-то в начале 1920-х, а потом, возможно, жил в Нью-Йорке или рядом, в пригороде. Или во Франции. Его мама была француженкой, а отец – американцем. Это все, что я знаю.
Вилли какое-то время молчит, даже не зевает. А когда наконец находит слова, Дженни слышит именно то, что и ожидала:
– Извини, что ты сказала? Кто? Аллан Смит?
– Да. Это его имя.
– Ты, наверное, шутишь. Аллан Смит, которой родился после двадцатого года… Это же иголка в стоге сена! Как я должен его найти? Людей с таким именем, наверное, сотни!
Дженни усмехается, но осторожно, чтобы он не услышал.
– Как насчет твоего друга Стэна, он работает в полиции Нью-Йорка. Я подумала, ты мог бы созвониться с ним и попросить проверить. Если Аллан живет где-то недалеко от Нью-Йорка, это должно сработать. Скажи Стэну, это важно.
– Важно в сравнении с чем… с убийствами в Манхэттене?
– Прекрати. Нет, конечно нет. Но это важно для нас, для меня.
– Ты хотя бы уверена, что он все еще жив?
– Нет, не совсем… – Она игнорирует фырканье Вилли, хотя оно такое громкое, что его невозможно не услышать. – Но я так думаю. Он очень важен для Дорис, а значит, и для меня. Очень важен. Пожалуйста, узнай это. Ради меня.
– Ты хочешь, чтобы я нашел мужчину, которому почти сто лет, который, возможно, жив и, вероятно, живет в Нью-Йорке или пригороде?
– Именно. Это все, что мне нужно.
Она улыбается.
– Не понимаю тебя. Ты не можешь просто вернуться домой? Мы скучаем по тебе, ты нам нужна.
– Я вернусь, как будет возможно, и скорее, если ты мне поможешь. Но сейчас я больше нужна Досси здесь, чем вам. И нам нужно выяснить, что случилось с Алланом Смитом.
– Ладно, но у тебя есть больше информации? Старый адрес? Фотография? Чем он занимался?
– Думаю, он был архитектором. По крайней мере, до войны.
– До войны? О какой войне мы тут разговариваем? Не о Второй мировой же? Пожалуйста, скажи, что она общалась с ним после.
– Не совсем.
– Дженни… Не совсем или совсем нет?
– Совсем нет.
– Ты знаешь, насколько малы шансы, что мы его найдем?
– Да, но…
– Стэн будет смеяться до слез от этих вводных! Я должен позвонить ему и попросить найти мужчину, след которого теряется во время Второй мировой?
– Ты не понимаешь, он не исчез. Просто она не связывалась с ним. Вероятно, он вернулся домой, завел парочку детишек, жил долго и счастливо, а сейчас отдыхает в кресле-качалке на крыльце дома и ждет смерти. Как и Дорис. И думает о ней.
Вилли дышит в трубку. И сдается:
– Аллан Смит, говоришь?
– Аллан Смит. Да.
– Я сделаю все возможное. Но не питай иллюзий.
– Я люблю тебя.
– Я тоже тебя люблю. Какие могут быть сомнения…
Она начинает тосковать по дому, услышав его теплый смех.
– Как мальчишки?
– Не волнуйся. Всегда есть фастфуд. Господи, храни Рональда Макдональда.
– Я вернусь домой, как только смогу. Я люблю вас.
– Приезжай скорее. Без тебя тут все из рук валится. И я люблю тебя. Передавай привет Досси.
Дженни заглядывает в палату, где лежит Дорис, и видит, как та шевелится под одеялом.
– Кажется она проснулась, я пойду.
Она кладет трубку, попрощавшись со своей любовью, и переступает порог палаты, полной томительного ожидания неминуемой смерти.
Д. Джонс, Пол МЕРТВ
Я лежала на чердаке несколько дней, возможно, даже недель. Просто смотрела на потолок и ощущала, как меняется мое тело: пришло молоко, матка медленно сокращалась. В конце концов я устала от своего бездействия. Я не стала сразу спускаться вниз, к Полу, а начала исследовать чердак, изучать запрятанные в коробки и шкафы вещи. Комод был заперт, но я решила когда-нибудь сломать его замок. Я нашла коробку с яркими игрушечными машинками. Внутри шкафа обнаружились нарисованные красным мелом линии, петляющие вперед и назад, вверх и вниз, и путаница из знаков, которую мог оставить лишь маленький ребенок. Машинки были помяты, краска облезала. Я покрутила каждую в руках, расставила на полу в ряд и представила себе гонки, которые когда-то устраивал ребенок на этом деревянном полу. Где он сейчас? Я порылась в сундуках. В одном из них нашла несколько сложенных и перевязанных грубой зеленой леской платьев. Интересно, чьи они? Что случилось с женщиной, которая их носила, и с ребенком?
Любопытство заставило меня спуститься вниз. Я чувствовала, как напрягается израненный живот от движения. Он все еще оставался большим, а спина болела, как и в последние недели беременности. Пол улыбнулся, увидев меня, и даже сказал, что скучал. Он заставил меня сесть за стол, подогрел немного супа и протянул кусок засохшего хлеба. Но когда я начала разговор о машинках и платьях, он напрягся и стал привычно молчалив. Не хотел говорить об этом. А может, не мог. Кто знает, какие человек носит в себе печали? Я больше не спрашивала его и вместо этого начала рисовать в воображении эту женщину и ребенка. Дала им имена и представила, как они выглядят. В старой тетради я записывала короткие рассказы про них и их приключения. А когда стала разговаривать с ними по ночам, поняла – мне пора двигаться дальше.
Я написала Йёсте, это был крик о помощи. Его ответ прибыл в почтовое отделение две недели спустя. Он волновался, писал и задавался вопросом, почему я не выходила на связь. В конверте лежали его адрес и имя. Знакомый его друга взял с него картину взамен на то, что доставит меня домой на грузовом судне. Через несколько дней я покинула дом Пола. В его глазах стояли слезы, и даже сквозь густую бороду я видела, как дрожал его подбородок. Думаю, именно в этот момент я по-настоящему узнала Пола. За два года он почти не смотрел мне в глаза. И тогда я поняла почему. Я была для него единственной отдушиной, робким напоминанием о том, что хранилось на чердаке, о его прошлой, неодинокой жизни.
Мы с Полом несколько лет обменивались письмами. Я не переставала заботиться о нем издалека. О Поле, затворнике, который жил в своем храме воспоминаний. Когда он умер, я приехала в Англию, чтобы похоронить его рядом с Рексом, его любимым псом, что умер за несколько лет до своего хозяина. На его похороны пришло всего три человека. Священник, самый близкий сосед и я.
Н. Нильссон, Йёста
Наше воссоединение произошло именно так, как рисовал в своих письмах Йёста. Моряки бросили канаты на берег, докеры схватили их и обмотали вокруг столбов на причале. На неровный асфальт выкатили железный трап. Шел небольшой дождь, и Йёста стоял на причале и ждал меня под большим черным зонтом. Я по трапу сбежала к нему. Я больше не была симпатичной молодой девчонкой, какой он меня помнил. У меня не осталось ни единого целого платья, ни одной хорошей пары туфель. Волосы стали тусклыми, а на коже, грубой и серой, стали видны прожитые годы. Он протянул ко мне руки, и я упала в столь долгожданные объятия.
– Ох, Дорис! Ты наконец-то здесь! – прошептал он, не веря тому, что случилось.
– Да, столько времени прошло, – шмыгнула я в ответ.
Он засмеялся. Отступил на шаг и положил руки на мои плечи:
– Дай посмотрю на тебя.
Я вытерла слезы и неуверенно встретилась с ним взглядом. Как будто бы не было всех этих лет в разлуке. Я вдруг снова стала тринадцатилетней девочкой. А он – печальным художником.
– У тебя морщины, – засмеялся он и провел пальцем по коже у моих глаз.
– А вы вообще старик, – засмеялась я в ответ и потрепала его по плечу.
Он улыбнулся:
– Мне нужна хорошая домработница.
– А мне нужна работа.
Я все еще сжимала в руках свой мешок, в котором лежали мои немногочисленные пожитки.
– Когда сможешь приступить?
Я подняла голову и улыбнулась:
– Как насчет прямо сейчас?
– Прямо сейчас – это хорошо.
И мы снова обнялись, в этот раз закрепляя сделку. А потом пошли вместе по холмам Седермальма до улицы Бастугатан. Увидев дальше по улице дом мадам, я ощутила жжение в груди. Медленно подошла к нему и остановилась, чтобы прочитать имена на двери.
– Там сейчас живет молодая семья. У них четверо детей, которые орут и топают, беспокоя Йерана из нижней квартиры. Он говорит, это сводит его с ума.
Я кивнула, но не ответила и потянулась к ручке, которую так часто поворачивала. Подумать только, моя рука лежала на ней в тот самый первый день, когда я ушла из дома моего отца навсегда…
– Пойдем домой, тебе нужно поесть.
Йёста положил руку на мое плечо. Я кивнула.
В коридоре пахло скипидаром и пылью. Его картины выстроились вдоль стен. Сосновый пол заляпан пятнами краски, а мебель в гостиной укрыта белыми простынями. В кухне полно грязных тарелок и кружащих мух.
– Вам нужна домработница.
– Я же говорил.
– Тогда она у вас есть.
– Ты знаешь, что это непросто. Я не всегда в хорошем настроении.
– Знаю.
– И никто не должен знать про мои…
– Я не стану лезть в вашу личную жизнь.
– Хорошо.
– У вас есть деньги?
– Не особо много.
– Где мне спать?
Он показал мне комнату горничной. Небольшую, с кроватью, столом и гардеробной. В ней лежали женские журналы и другие женские мелочи. Я повернулась и вопросительно посмотрела на него.
– Они всегда уходят, когда узнают…
Он никогда не называл себя гомосексуалистом. Мы вообще никогда об этом не говорили. Когда к нему приходили ночные гости, я затыкала уши ватой, чтобы не слышать их стоны. Днем он был Йёстой, моим другом. Я занималась своими делами, он своими, а вечером мы вместе ужинали. Если у него было хорошее настроение, мы разговаривали. Иногда об искусстве. Иногда о политике. Наши отношения никогда не походили на отношения горничной и хозяина. Для него я была другом, который отсутствовал много лет и наконец вернулся в его жизнь.
Однажды вечером я показала ему рассказы, которые писала в доме Пола. О женщине и ребенке. Он внимательно их прочитал, перечитывая дважды некоторые страницы.
А когда наконец заговорил, в его голосе слышалось удивление.
– Это ты написала?
– Да. Так плохо?
– Дорис, ты талантлива. У тебя дар красноречия, я всегда это говорил. Тебе нужно использовать это.
Йёста принес мне тетрадь, и я начала писать в ней каждый день. Короткие рассказы. Это был мой жанр, так как у меня не хватало сил на что-то длиннее. Мои истории стали для нас дополнительным заработком. Я продавала их в женские журналы; женщины покупали все, в чем можно было найти любовь и страсть. Вот что тогда продавалось. Любовь. Романтика. Счастливый конец. Мы сидели на темно-синем вельветовом диване Йёсты и смеялись над моими немудреными рассказами. Мы, потрепанные судьбой, смеялись над всеми, кто верил в счастливый конец.
Глава двадцать шестая
– Можешь подать мне воды? – Дорис тянется к столу, на котором стоит стакан.
Дженни берет его, а Дорис кладет руку на ее запястье, чтобы поднести стакан к губам.
– Хочешь что-нибудь еще? Кока-колу? Лимонад? Сок?
– Вино. – Дорис озорно прищуривается.
– Вино? Ты хочешь вина?
Дорис кивает. Дженни улыбается:
– Ну, конечно, можно и вино. Белое или красное?
– Розовое. Охлажденное.
– Хорошо, я этим займусь. Меня не будет какое-то время, и ты как раз сможешь отдохнуть.
– И клубнику.
– Клубнику. Что-то еще? Шоколад?
Дорис кивает и пытается улыбнуться, но ее губы не слушаются. Улыбка напоминает гримасу. Ее дыхание затруднено, каждый вздох дребезжит в груди. Она кажется более уставшей, чем вчера. Дженни наклоняется и прижимается щекой к щеке Дорис.
– Я скоро вернусь, – шепчет она и думает: «Не умирай, пока меня нет. Пожалуйста, не умирай».
Она спешит, следуя знакам, до коричневого здания возле метро «Мербю сентрум», под ногами хлюпает осенняя слякоть. Тайра гукает и восторженно наблюдает за водой, вылетающей из-под колес коляски, когда они бегут по лужам. Дженни чувствует, как промокают ее кожаные ботинки. Они слишком тонкие для шведской погоды. Она забыла обработать их средством, а значит, ботинки придется выбросить.
В супермаркете она узнает, что алкоголь можно купить только в Systembolaget, государственном винном магазине. Она ругается и спешит туда. Она питает нежные чувства к Швеции, где выросли ее бабушка и прабабушка, но она явно провела слишком мало времени в стране, чтобы понять, как в ней живется на самом деле. Она вздыхает и садится возле стойки информации в Systembolaget. Через пять минут к ней подходит мужчина в зеленой клетчатой рубашке:
– Здравствуйте! Вам помочь?
– Здравствуйте, да, мне нужны две бутылки розового вина, какого-нибудь хорошего, – говорит она.
Он кивает и подводит ее к полке справа. Закидывает ее предложениями, спрашивает, к какой еде будет подано вино.
– Никакой еды, лишь шоколад и клубника, – устало говорит она.
– Ага, в таком случае, может, возьмете что-нибудь игристое? Или…
– Нет, мне нужно розовое вино, – перебивает она его. – Посоветуйте то, что взяли бы сами.
Ей хочется закричать: просто дай мне скорее чертово розовое вино! Но она сдерживается и вежливо улыбается, когда он протягивает две бутылки. Как только он уходит, она меняет бутылки на те, что стоят на полке: этикетка кажется ей симпатичнее.
– У вас продаются бокалы? – спрашивает она женщину за кассой, протягивая американский паспорт.
Женщина качает головой.
– Зайдите в супермаркет, уверена, у них есть пластиковые.
Дженни вздыхает и идет обратно в «Мербю сентрум». Как все неудобно.
По пути в больницу коляска трижды буксует в грязи, и, когда она вталкивает ее в палату, ей настолько жарко, что раскраснелись щеки. Тайра спит. Дженни снимает пальто и вешает на ручку, от этого движения бутылки в пакете задорно позвякивают. Дорис не спит и улыбается, услышав звук. Ее рот изгибается во что-то больше похожее на улыбку, чем раньше.
– Фух, пока ходила, вся взмокла. – Дженни берет газету и обмахивается. – Выглядишь бодрее!
– Морфин, – медленно отвечает Дорис и смеется. – Они дают мне его, когда боль становится невыносимой.
Дженни хмурится:
– Тебе больно? Где?
– Здесь и тут. Везде. В бедре, в ноге, в животе. В месте, где поставили штифт. Боль как будто расходится изнутри. Словно весь мой скелет набит тысячами острых булавок.
– Ох, Досси, звучит ужасно! Жаль, я ничего не могу поделать!
– Можешь, – понимающе хмыкает Дорис.
– Хочешь немного? Тебе можно, учитывая морфин?
Дорис кивает, и Дженни достает из пакета две бутылки. Ставит на стол и сминает пакет.
– Нет никакой разницы, я все равно умру.
– Я не хочу об этом слышать.
Дженни прикусывает губу, чтобы сдержать слезы.
– Дорогая моя, я никогда не встану с этой кровати. И ты это знаешь. Ты понимаешь?
Дженни отрешенно кивает и садится на край кровати. Прямо рядом с Дорис, которая тоже придвигается ближе. И слегка корчится, когда перемещает ногу.
– Все еще больно? Даже с морфином?
– Только когда двигаюсь. Но сейчас давай поговорим о чем-то другом. Я устала от страданий. Расскажи мне про Вилли. И про Дэвида с Джеком. И про дом.
– С радостью. Но сначала тост.
Она разливает розовую жидкость в два пластиковых стакана – больше ничего похожего на бокалы она в супермаркете не смогла найти. Затем нажимает кнопку, чтобы приподнять изголовье Дорис. Она немного сползает, и Дженни приподнимает ее повыше, подложив руку под шею, прислоняет стакан к губам. Дорис шумно делает несколько глотков.
– Как летний вечер в Провансе, – шепчет она, закрыв глаза.
– Прованс? Ты там бывала?
– Много раз. Я часто туда ездила, когда жила в Париже. Там, на виноградниках, проводили вечеринки.
Дженни дает ей большую клубнику:
– Там красиво?
Дорис вздыхает:
– Там замечательно.
– Я вчера читала про твою жизнь в Париже. Ты действительно писала все это для меня?
– Да, не хотела, чтобы все это осталось лишь в моей голове. Слишком больно думать, что все мои воспоминания исчезнут вместе со мной.
– Как тогда было в Провансе? На тех вечеринках? С кем ты там бывала?
– Ох, было восхитительно. Там были многие из великих. Писатели, художники, дизайнеры. Одежда была настолько красивой, что ты себе представить не можешь. Тогда были отличные ткани. Высокого качества, сейчас таких не делают. Мы были в сельской местности, но были одеты так, как будто собирались на церемонию вручения Нобелевской премии. Высокие каблуки, жемчужные ожерелья и бриллиантовые серьги. Шелковые платья.
Дженни улыбается:
– Ты ведь была манекенщицей! Ты такое повидала! Вот почему моя работа тебя никогда не впечатляла. Но почему ты не рассказывала об этом, Досси? Не припомню, чтобы ты упоминала об этом!
– Да, возможно, не упоминала. Но я записала все это, чтобы ты знала. Ух, это был ничтожно короткий период моей очень долгой жизни. Когда ты рассказываешь об этом в старости, всегда видишь удивленные лица. Кто поверит в прошлое манекенщицы, глядя на старую каргу? Тем более что в итоге я оказалась там, откуда начала. Обычной горничной. Только и всего.
– Расскажи мне больше, я хочу услышать все. Что ты надевала на те вечеринки?
– Это было всегда что-то необычное, дизайнерские вещи. Я ездила туда, чтобы показывать платья парижских кутюрье. Поражать общество.
– Господи, как захватывающе! Дорис, жаль я не знала этого прежде. Я всегда восхищалась твоей красотой, поэтому не особо удивлена твоим прошлым. Когда я была маленькой, всегда хотела быть похожей на тебя, помнишь это?
Дорис улыбается, нежно похлопывает ее по щеке. Затем глубоко вздыхает:
– Да, жизнь до войны была легче. Всегда легче, когда ты молода и красива. Многое достается даром.
– Я понимаю. – Дженни громко смеется и показывает кожу на своей шее. – Как это произошло? Когда у меня появились морщины? Когда я стала женщиной средних лет?
– Пф, глупенькая. Не хочу, чтобы ты так про себя говорила. Ты все еще молодая и красивая. И у тебя впереди еще, как минимум, полжизни.
Дженни задумчиво смотрит на нее:
– У тебя есть фотографии тех времен?
– Всего несколько, мне не удалось взять с собой много из Парижа. Те, что остались, лежат в паре жестяных коробок в шкафу.
– Точно?
– Да, должны лежать где-то под одеждой. Потрепанные, ржавые, старые жестяные коробки. Они объездили полмира, и это видно. Одна из них когда-то была коробкой шоколадных конфет. Ее мне подарил Аллан, поэтому я не хотела выкидывать. Благодаря ему мне нравится хранить воспоминания в жестяных коробках.
– Я сегодня их поищу. Как интересно! Если найду фотографии, то завтра их принесу, чтобы ты рассказала мне о каждом человеке. Хочешь еще клубнику?
Тайра хнычет и машет руками. Ее хныканье вскоре превращается в полноценную истерику. Дженни поднимает ее и прижимает маленькое тело к себе, целует ее в щеку и несколько раз подкидывает, чтобы успокоить.
– Она, наверное, проголодалась, придется сходить с ней в столовую. Мы скоро вернемся. А ты немного отдохни, чтобы позже еще рассказать о Париже.
Дорис кивает, но взгляд у нее уставший, а веки опускаются еще до того, как Дженни отворачивается, чтобы уйти. Она рассматривает ее, держа Тайру на руке. Дорис в бледно-желтом больничном одеяле выглядит крошечной, как птенец. Ее седые волосы совсем редкие, между прядями проглядывает и блестит кожа головы. От былой красоты не осталось и следа.
Дженни подавляет порыв обнять ее и быстро спускается в столовую. «Не умирай, пожалуйста, не умирай, пока меня нет», – снова думает она.
Н. Нильссон, Йёста
Он был перфекционистом до мозга костей и обладал энергией, с которой я никогда не сталкивалась, граничащей с безумием. Он мог неделями работать над одной картиной. И в это время мир для него не существовал.
Он не ел и ни с кем не разговаривал. Направлял всю свою энергию во множество цветов и форм. Это была страсть, которая захватывала его тело и сознание. Он ничего не мог с этим поделать и всегда стремился дать волю чувствам и позволить картине обрести форму.
– Это не я рисую. Всегда удивляюсь, когда вижу завершенную работу. Когда я пишу, мне кажется, словно кто-то захватил надо мной власть, – говорил он каждый раз.
Я часто наблюдала за ним издалека. Поражалась тому, как ему удалось сохранить свою творческую энергию, несмотря на острую критику, не единожды звучавшую в его адрес. Но были и те, которые клялись, что понимают его картины, и они спасали его от голода, покупая его картины. Люди с кучей денег и интересом к искусству.
Наши мечты о Париже висели в воздухе той квартиры на улице Бастугатан. На стенах висели изображения нашего любимого города.
Картины, которые Йёста нарисовал сам, фотографии, вырезанные из газет, почтовые открытки, которые я когда-то прислала ему. Мы часто говорили о городе, по которому тосковали, и он все еще мечтал туда вернуться. Мы представляли себе, как однажды это случится.
Когда в 1945 году закончилась война, мы оба отправились на улицу Кунгсгатан, чтобы отпраздновать с остальными. Йёста не любил находиться в толпе, но не хотел упустить этот момент. Он пошел с французским флагом в руке, я – со шведским. Люди находились в такой эйфории от окончания войны, что это ощущалось физически. Они смеялись, пели, кричали и бросали конфетти.
– Дорис, ты понимаешь, что это означает? Мы можем поехать, мы наконец-то можем поехать.
Йёста смеялся громче обычного и размахивал в воздухе французским триколором. Он, который всегда говорил о будущем с горечью и подозрением, как будто наконец обрел надежду.
– Вдохновение, дорогая, мне нужно снова найти вдохновение. Оно там, не здесь.
Его взгляд становился безумным при мысли, что он снова увидит своих друзей с Монмартра.
Но у нас никогда не было столько денег. Не говоря уже о смелости просто сорваться с места и уехать, которой мы обладали в юности. Париж остался мечтой. Как и утраченная любовь, все, что становится возможным только в мечтах, в итоге там и остается. Отчасти я рада, что ему так и не удалось вернуться в Париж. Вероятно, он не смог бы справиться с разочарованием, поняв, что его вдохновение никак не связано с одним определенным местом, как он считал. Оно всегда было внутри него, и он каждый раз возрождал его в муках. Снова и снова.
Этот город навис над нами, как тень прошлой жизни, когда все было намного лучше. По правде говоря, до сих пор висит. В мебели, во французских книгах, в картинах на стенах коридора. Париж – это город, который пленил наши души.
Когда Йёста был в хорошем настроении, я часто разговаривала с ним на французском. Он понимал не все, поэтому я пыталась научить его. И ему это нравилось.
– Однажды мы поедем, Дорис. Ты и я, – повторял он, даже после того, как понял, что этого никогда не будет.
Я всегда кивала. Кивала и улыбалась:
– Да, однажды, Йёста. Однажды.
Глава двадцать седьмая
Дженни кормит малышку из стеклянной баночки с яркой этикеткой: тушеное мясо и картофель. Органика. Соус размазывается вокруг рта Тайры, Дженни собирает его ложкой в процессе еды и отправляет ребенку в рот. Малышка шумно чавкает. Показывает на ложку и хватает рукой воздух. Дженни качает головой и начинает игру.
– Я сама покормлю тебя, нам нужно торопиться, дорогая. Сейчас в ротик залетит самолетик… Быстрей, быстрей, – произносит она детским голоском и делает характерные движения ложкой, приближая ее ко рту девочки.
Тайра открывает рот для самолета, но тут же закрывает и пытается схватить ложку, громко протестуя. Люди за соседним столом сердито смотрят на них, когда хныканье переходит в пронзительный крик. Дженни сдается и отдает Тайре ложку. Девочка тут же замолкает и начинает лупить ложкой по столу, отчего соус разбрызгивается в разные стороны. Люди вокруг снова сердито оборачиваются. «По крайней мере, она не плачет», – думает Дженни, протирая стол салфеткой, ликвидируя беспорядок.
– Мамочка вернется через минуту.
Она поднимается и бежит к стойке, где покупает сэндвич. Постоянно оглядывается на девочку, сидящую в высоком стульчике.
Перед тем как вернуться за стол, она дважды откусывает от сухого хлеба. Останавливается и наслаждением смакует шведскую ветчину. В голове всплывают воспоминания: такие сэндвичи готовила ей в школу Дорис и укладывала в аккуратный ланчбокс. А еще крекеры или печенье либо пару яблок.
Дженни хорошо помнит их первую встречу. Она испуганно прижималась к спинке красного дивана, крепко укутавшись в одеяло, и смотрела на мерцающий экран телевизора. Ей было четыре. Нежданная гостья без стука вошла в дом, полный хаоса. В дом, где на кухонном коврике неспокойным сном спала мама Дженни. Ее юбка едва прикрывала бедра, а колготки были порваны прямо под коленями. Маленькая Дженни видела, как она упала. Струйка засохшей крови на полу говорила о том, что мама обо что-то порезалась.
От нахлынувших воспоминаний Дженни передергивает. Страх. Неизвестная пожилая женщина появилась в комнате в ту ночь и заговорила с Дженни на английском с акцентом. Тогда она решила, что Дорис из социальной службы и пришла ее забрать, чем ей часто грозила мама. Она натянула одеяло выше, так что видны были только глаза. От ее частого дыхания одеяло становилось влажным. А потом Дорис заметила Элизу. Она перевернула ее на бок и вызвала «скорую». Гладила Дженни по голове, пока они ждали приезда помощи. Когда два мускулистых медика вынесли Элизу в холодную ночь, Дорис села рядом с Дженни на диван. Дженни чувствовала, как быстро бьется ее сердце. Дорис заплакала и из-за этого перестала казаться такой пугающей. Дженни смотрела перед собой и дрожала так, что зуб на зуб не попадал. Дорис осторожно обхватила своей теплой рукой ее подбородок, а второй погладила по спине. «Вот так, вот так, тс…» – говорила она, и эти слова стали мелодией, наполнившей тихую комнату. Они просидели так почти всю ночь. Дорис ни о чем не спрашивала и никуда не пыталась ее забрать.
Не тот раз. Дженни уснула у нее на коленях, прижимаясь щекой к теплой руке.
Громкий стук вырывает Дженни из ее мыслей. Тайра скинула банку на пол и размазала содержимое по лицу и одежде. Дженни снимает с нее футболку и вытирает лицо чистой стороной, затем достает из сумки чистую. Тайра уже умудрилась распределить остатки детского питания со своих ладошек по животу и довольно любуется результатом.
– Ох, Тайра. Нам нужно торопиться, не время для игр.
Она вытирает животик, шею, лицо и руки малышки влажной салфеткой, затем усаживает ее в коляску. Сбоку кладет чистую футболку. Не убрав со стола, Дженни быстро толкает коляску к выходу. Ей нужно вернуться к Дорис, нужно успеть узнать больше. Нужно услышать все до того, как она умрет. Она почти бежит по коридору, чуть ли не пробегает мимо палаты.
– Откуда ты тогда узнала, что нужно прийти?
Дорис удивленно открывает глаза, пробуждаясь от дремоты. Протирает глаза. Тайра чихает и громко стонет. Дженни пытается натянуть на нее чистую футболку, не сводя глаз с Дорис.
– Кто тебе позвонил? Ты спасла маме жизнь в тот вечер, когда я впервые увидела тебя. Откуда ты знала?
– Это была… – Ее голос садится, она не может произнести ни слова.
Дженни берет с тумбочки стакан с водой и помогает ей отпить.
– Она позвонила, – продолжает Дорис.
– Мама?
– Да, я не видела ее несколько лет, ни разу с тех пор, как ты родилась. Она иногда писала, и я временами звонила ей. Тогда было дорого звонить, и она не всегда брала трубку.
– Что она сказала тебе? Что заставило тебя приехать в Америку?
– Дорогая…
– Ты можешь рассказать мне все. Ее больше нет, а я хочу знать правду.
– Она сказала, что собирается тебя отдать.
– Отдать? Кому?
– Кому угодно. Сказала, что поедет в Нью-Джерси и оставит тебя на улице в богатом районе. Что так будет лучше для тебя.
– Возможно, тогда этой был лучший выход. Меня воспитывала ее зависимость, а не она сама. Оказаться на улице было не так страшно, как жить с ней.
– Я тем же вечером села в самолет и вылетела из Швеции в США.
– А если бы она тогда умерла?.. У меня была бы другая жизнь.
– Я думаю, она и пыталась это сделать. Элиза больше не хотела так жить.
– Но ты спасла ее.
– Все мы рано или поздно умрем.
Дорис нежно сжимает ее руку.
– Я буду весь вечер играть во «что, если».
– Что, если бы мы никогда с тобой не встретились?
– Нет, этого я не могу даже представить этого. Ты должна быть, Дорис. Я не знаю, справлюсь ли без тебя. – Она начинает плакать. – Ты и меня спасла!
– Ты справишься, Дженни. Ты сильная. И всегда была такой.
– В тот день, когда тебе приходилось держать меня за подбородок, чтобы зубы не стучали, я не была сильной.
– Милая, тебе тогда было четыре. Но даже тогда ты была сильная. И храбрая. Это так. Тебе выпало трудное детство, но, несмотря на это, ты стала именно такой, какой я тебя вижу сегодня.
– Но кто я? Потрепанная мама троих детей, у которой даже нет работы.
– Зачем ты так говоришь? Почему считаешь себя потрепанной? Ты прекрасно выглядишь. Ты это знаешь. Ты ведь тоже была моделью. И про учебу не забывала.
– У меня лицо, как чистый лист, рисуй на нем что хочешь. И длинное худое тело. Это разве красота? Нет. Это человек, который может быть кем угодно. Человек, который может соответствовать тому, что сегодня модно. Вот что значит быть моделью. К тому же я так и не закончила учиться. Встретила Вилли. И стала мамой.
– Прекрати принижать себя. Никогда не поздно начать делать то, что действительно хочешь.
Дорис строго смотрит на нее.
– Откуда ты знаешь, что не поздно? Ты сама сказала, что молодым и красивым проще устроиться в жизни.
– Ты красивая. Ты талантливая. Этого достаточно. Сосредоточься на своих достоинствах, вместо того чтобы всю жизнь думать, что недостаточно хороша для лучшей жизни. Начни снова писать, займись тем, что тебе интересно. В конце концов, только это важно. Делай то, к чему лежит твоя душа.
Дженни фыркает:
– Писать. Ты всегда об этом говорила.
– Когда ты наконец поймешь, что талантлива? Ты выиграла конкурс в колледже. Помнишь?
– Да, наверное, я могла бы выиграть и в других. Но о чем я буду писать? Не о чем. Ничего не происходит. В моей жизни нет ничего выдающегося. Возможно, она кажется идеальной со стороны, но в ней ничего необычного. Никакой страсти. Никаких приключений. Мы с Вилли как два друга, ведущих совместный бизнес, коим является наша семья. Ни больше ни меньше.
– Тогда придумай.
– Придумать?
– Да, нарисуй жизнь, которую хотела бы прожить. И запиши… – Она замолкает, ловит ртом воздух, а потом продолжает шепотом: – Все. Не упусти этот шанс. И ради бога, не закапывай землю свой талант!
– А ты закопала?
– Да.
– И жалеешь об этом?
– Да.
Вдруг Дорис вздрагивает всем телом, подбородок падает ей на грудь. Ее рот скривился, глаза крепко зажмурены. Дженни зовет на помощь, в палату вбегает медсестра. Она нажимает тревожную кнопку, и вскоре к Дорис сбегаются еще три женщины в белых халатах.
Дженни выглядывает из-за их спин:
– Что происходит? Она в порядке?
Выражение лица Дорис пришло в норму, рот расслабился. Но кожа приобрела синевато-фиолетовый оттенок.
– Нам нужно вернуть ее в реанимацию.
Медсестра отталкивает Дженни в сторону и снимает с кровати тормоза.
– А я могу пойти?
Другая медсестра, с темными волосами и невысокая, качает головой:
– Ей нужна помощь. Мы будем держать вас в курсе.
– Но я хочу быть там, если… когда… если она…
– Мы будем держать вас в курсе, – повторила она. – Сейчас она стабильна, но сердечный ритм нарушен. Это нормально. Поймите, организм перестает бороться.
Она сочувственно улыбается, а потом присоединяется к остальным, которые уже катят кровать по коридору. Дженни смотрит вслед удаляющимся фигурам, ее сердце колотится. Она не видит Дорис из-за высокой спинки кровати. Сжимает кулаки и обхватывает себя.
Глава двадцать восьмая
Она находит жестяные коробки с фотографиями у задней стенки шкафа. Одна обмотана толстым слоем скотча, другая без него. Она срезает скотч кухонным ножом, затем открывает обе коробки и раскладывает фотографии дугой на кухонном столе. Смешивает воспоминания из Парижа с воспоминаниями из Нью-Йорка.
В одной из кучек она замечает свое фото. Маленькая кудрявая девочка в пышной юбке кружится в танце. Она улыбается и откладывает фотографию в сторону – покажет позже Вилли. Одну из немногих фотографий из ее детства. Другие снимки были сделаны гораздо раньше. На одном из них Дорис прислонилась к стене и придерживает рукой шляпку. Ее голова повернута в профиль, и она смотрит прямо на Эйфелеву башню. На ней темная плиссированная юбка и вроде как подходящая блузка с белым воротником и тканевыми пуговицами. Лицо обрамляют мягкие локоны. Другое фото – крупным планом. Брови Дорис тонкие и четко прорисованы карандашом. Кожа густо припудрена, а губы блестят от помады. Задумчивый взгляд из-под длинных накрашенных ресниц, словно она мечтает о какой-то другой жизни. Дженни поднимает к глазам черно-белую фотографию и внимательно рассматривает. Кожа Дорис очень гладкая, без единого следа морщин или пигментных пятен. Нос изящный и прямой, глаза большие, а щеки нежные, как у подростка. Она молода и невероятно красива.
Дженни изучает снимки и как будто окунается в разные моменты жизни Дорис. Ее записи, адресованные Дорис, теперь обретают реальные очертания. На одном из фото Дорис позирует, слегка отставив руку в сторону. Она на высоких каблуках и в платье с юбкой-колоколом и широким отворотом на груди.
Ее подбородок гордо поднят, на лице отражается решимость, а взгляд направлен не в камеру. Еще на ней круглая шляпка, плотно сидящая по голове. Это совсем не похоже на восьмидесятые, когда Дженни сама позировала на камеру. Тогда надо было дуть губы и пикантно приоткрывать рот. Взгляд в камеру должен был быть полным желания и страсти. Грудь всегда подчеркивалась глубоким декольте и блестящим маслом. С помощью огромных вентиляторов ассистенты фотографов заставляли волосы модели развеваться, как будто на ветру, но это не всегда выходило красиво: пряди попадали на лицо и в глаза, смешно взлетали над головой. Если что в восьмидесятых и раздражало, так это вентиляторы. Она улыбается, вспомнив об этом. Однажды она покажет детям фотографии, сложенные в папках-портфолио на чердаке. Когда-то она повсюду носила их с собой, показывая фотографам и рекламным агентствам, чтобы найти работу. Вилли видел эти фотографии, но не дети, они ничего не знают об ее модельном прошлом. Лучше они сама расскажет им. Чтобы это не было для них неожиданностью, как признания Дорис для нее самой.
Звонит телефон, и она бросается к нему, чтобы не разбудить Тайру:
– Привет, милый!
– Знаешь, что я хочу сказать? Приезжай. Домой!
Дженни сбита с толку такой внезапной вспышкой ярости. Идет на кухню, оставив приоткрытой дверь комнаты, чтобы в случае чего услышать Тайру.
– Что происходит?
– Тебя здесь нет – вот что происходит. Приезжай домой.
– Нет. Мы это уже обсуждали. Я останусь здесь, пока она жива! – шипит она в трубку.
– Ты понимаешь, через что я прохожу? Если так пойдет дальше, я потеряю работу.
– Что происходит?
– Кошмар!
– Мальчики ссорятся?
– Они постоянно дерутся. Я не могу работать, заботиться о них и присматривать за домом одновременно. Это невозможно. Я не знаю, как тебе это вообще удавалось!
– Пожалуйста, успокойся, ничего страшного. Тебе просто нужна помощь.
– Сколько ей осталось?
Дженни чувствует, как внутри что-то оборвалось от этих слов:
– Сколько осталось? Подожди, дай спрошу у смерти, она как раз стоит здесь, чувствую, как дышит в спину. Как я, черт побери, могу это знать? Но спасибо, что наконец поинтересовался, как у нее дела. Не очень – вот ответ. Ей осталось немного. И я тут тоже не веселюсь, на случай, если тебе интересно. Я люблю ее. Она моя единственная бабушка. Нет, даже больше, она мне как мама! Она спасла мою жизнь, и я не позволю ей умереть в одиночестве. Как ты вообще можешь задавать такие вопросы?..
Вилли некоторое время молчит, пораженный ее внезапной тирадой.
– Извини, родная. Извини. Я не то имел в виду. Но я тут совсем отчаялся. Я серьезно – как ты справляешься в течение дня? Это ужасно.
– Я справляюсь, потому что люблю вас. Мне не проще и не сложнее.
Она слышит, как он улыбается. Ждет, когда он что-нибудь скажет.
– Как звали ту девушку, которая недавно помогала нам?
– Та, что живет на Паркуэй-драйв? Софи.
– Как думаешь, она сможет приготовить ребятам обед и посидеть с ними после школы?
– Возможно. Позвони ей и спроси. Я могу отправить тебе ее номер.
– Спасибо. Я говорил, что поражен тем, как тебе это все удается?
– Нет. Вообще-то ты впервые это сказал.
– Извини. Я эгоист.
– Невероятно.
– Но я же все равно тебе нравлюсь?
Она задумывается на секунду, придерживая ответ:
– Да. Иногда. В тебе есть хорошие стороны.
– Я скучаю по тебе.
– А я по тебе не скучаю. По такому тебе. Ты должен понять, как мне важно находиться здесь. И что это непросто.
– Извини. Мне стыдно.
– Хорошо.
– Извини, извини, извини.
– Я подумаю об этом. Как там дела с Алланом?
– Что? С кем?
– С Алланом Смитом. Ты собирался связаться со Стэном. Не говори мне, что забыл! Мы должны его найти!
– Черт! Проклятие! Я так закрутился, милая, что совсем забыл.
– Как ты мог забыть? Это же так важно для меня и Дорис.
– Прости! Я ужасный человек. Позвоню ему прямо сейчас. Прямо сейчас! Люблю тебя, до связи!
А. Андерссон, Элиза
Маленькое красное платье с пышной юбкой. Светлые локоны, завивающиеся на висках. Поднятые в воздух руки. Ты всегда танцевала, Дженни. Кружилась вокруг моих ног. Я попыталась тебя поймать, а ты засмеялась. Затем я схватила тебя за руку, притянула к себе, и мы вместе засмеялись. Я прижимала к себе тебя, маленькую и теплую. Ты хватала меня за уши, крутила мочки между указательным и большим пальцами. Мне было больно, но я не просила тебя остановиться. Боялась оттолкнуть, когда ты так приблизилась ко мне.
Эти моменты были самыми лучшими в моей жизни. Я так и не испытала радости материнства. Возможно, это и к лучшему. Но у меня была ты. Я смогла стать частью твоей жизни. И подарить тебе бескорыстную любовь. Я была рядом, когда твоя мама не могла быть с тобой. И я так рада этому. Что смогла тебе помочь. Для меня это было подарком, и даже сейчас мне очень стыдно, что я с облегчением вздыхала, когда она исчезала. Когда я упаковывала твой обед, отводила тебя в школу, целовала на прощание. Когда помогала тебе с домашним заданием. Когда водила тебя в зоопарк, пела про всех животных и покупала тебе мороженое.
После зоопарка ты отказывалась от мяса. Просто сидела на стуле и сжимала губы, когда я пыталась дать тебе ветчину или цыпленка.
– Цыпленок живет и радуется, – решительно говорила ты. – Я хочу, чтобы он жил дальше. Животных нельзя убивать, чтобы есть!
Поэтому мы несколько недель питались рисом и картошкой, пока ты, как и все дети, не забывала о страданиях животных и не начинала снова их есть. У тебя всегда было доброе сердце, дорогая Дженни. Ты со всеми дружила. Даже со своей мамой, которая снова и снова тебя подводила. Ее так часто не было. Элиза никогда не понимала, как нужна тебе.
Ее жизнь не была простой, как и жизнь всякого, кто оказывался рядом с ней. Как и твоя.
Она отправляла тебе из лечебницы подарки. Шикарные игрушки, которые нам приходилось забирать на почте. Детская палатка, кукольный дом, огромные плюшевые мишки с тебя ростом. Помнишь? Ты с нетерпением ждала подарков. Больше, чем встречи с ней. Мы часами играли в эти игрушки. Тогда были только ты и я. Ты, я и наши игры. И нам было хорошо.
Глава двадцать девятая
На самом дне жестяных коробок Дженни находит несколько писем. На тонких конвертах указан адрес Дорис и приклеены американские марки. Она смотрит на даты и почерк отправителя. И тут же отбрасывает письма. Смотрит, как они, кружась, опускаются на пол.
Она идет в душ и встает под горячую воду, но дрожь не отпускает ее. Она садится в уголок душевой кабины, зажав лейку между ног. Смотрит на свое отражение в отполированном металле. Глаза такие уставшие, в гусиных лапках вокруг. Ей надо поспать, лечь рядышком с Тайрой. Но она выходит из душа, укутавшись в розовый халат Дорис, и возвращается к письмам. Найдет ли она то, в котором мать хочет отказаться от нее?
Наконец она набирается смелости. Вытаскивает письма из конвертов.
Привет, Дорис, мне нужны деньги. Можешь отправить еще?
Одно за другим. В этих письмах нет ни одного вопроса о самочувствии или делах Дорис.
Отправленные тобой книги пришли. Спасибо. Школьные учебники – это хорошо, но мне нужны деньги. Деньги на еду и новую одежду для малышки. Спасибо за понимание.
Дженни сортирует конверты по датам на конвертах. Раскладывает их по порядку.
Сначала речь в них идет о деньгах. Но потом тон сменяется.
Дорис, я не могу видеть ее дома. Ты знаешь, как я забеременела? Я тебе никогда этого не рассказывала. Была под кайфом. Как обычно. Я даже не знаю, как он выглядел. Он просто напал на меня и не отпускал всю ночь. Я вся была в синяках. Какой ребенок может появиться на свет после такого? Когда я рожала, то снова была в дурмане, и мне кажется, что она тоже. Кричала, кричала, кричала. Пожалуйста, вернись и помоги мне.
Дженни продолжает читать.
Она не может уснуть с тех пор, как ты уехала. Плачет, пока просто не отключится от усталости. Каждую ночь. Я не могу так больше. Завтра же отдам первому встречному. Я не хотела ее.
– Алло. Алло, кто это?
Дженни сидит с телефоном в руке и смотрит на фотографию Вилли на экране.
– Дженни? Дженни, это ты? Что-то случилось? Дорис умерла?
– Она никогда меня не любила.
– Кто? Дорис? Конечно любила. Конечно любила, детка!
– Мама.
– Что ты имеешь в виду? Тебе что-то сказала Дорис?
– Она ничего не говорила. Я нашла письма. Письма, в которых моя мама писала, что ненавидит меня.
– Но ты ведь это уже знала?
– Ее изнасиловали. Вот как я появилась.
– О, милая…
– Жаль, что я открыла эти конверты.
– Детка… – Его дыхание кажется тяжелым. – Ты знала, что они от нее, прежде чем открыла?
– Я узнала почерк. И не могла остановиться. – Она теряет контроль и начинает кричать: – Чертово дерьмовое детство! Чертова жизнь!
– Детка, все изменилось. Ты выросла, у тебя все хорошо. У тебя есть я. И дети. Они любят тебя. И я люблю тебя больше всего на свете.
Она шмыгает носом, трет глаза. Запускает руку в волосы:
– Да, у меня есть ты. И дети.
– И у тебя всю жизнь была Дорис. Представь, если бы ее не было.
– Мама, наверное, выбросила бы меня на улицу.
– Твоя мама была больна. Уверен, что, когда она писала эти письма, она была не в себе. Телефонные звонки тогда были дорогими. Она писала их и отправляла, не думая о том, что пишет. Дорис не стоило их хранить. В твоей жизни были моменты, которые нужно помнить, но это не они.
– Тебе-то откуда знать?
– Не кричи, я просто хочу успокоить тебя. И я знаю. Ты сама мне говорила.
– Что, если я все выдумала? Чтобы казаться нормальной.
– А ты выдумала?
– Возможно, немного. Я не помню.
– Выброси эти письма. Это забытая история. Сейчас это не имеет никакого значения. Попытайся немного поспать, если сможешь.
– Нет, имеет! Я всю свою жизнь надеялась…
– На что?
– Что она все-таки меня любила.
– Любила. Она не была собой, когда все это писала. И ты любима. Я тебя люблю. Люблю больше всего на свете. И дети. Ты для многих очень много значишь. Не забывай об этом. В том, что случилось с твоей матерью, нет твоей вины.
– Есть.
– Нет, это не твоя вина. Ребенок не виноват в проблемах своих родителей. Это все наркотики.
– Ее изнасиловали.
– Ты здесь ни при чем. Тебе было суждено родиться, чтобы стать моей женой и замечательной мамой нашим детям.
Слезы снова текут по ее щекам.
– Дорис скоро умрет.
– Я знаю, тебе тяжело. Извини, что думал только о себе, требуя твоего возвращения.
– Ты не думаешь, что я должна вернуться?
– Нет. Я скучаю по тебе, люблю тебя, ты мне нужна, но я тебя понимаю. Жаль, что не могу быть рядом, чтобы поцеловать тебя на ночь.
– И обнять.
– Да, и обнять. А теперь попытайся поспать. Все хорошо. Я люблю тебя. Больше всего на свете.
Дженни кладет трубку и продолжает смотреть на конверты. Она не должна этого делать, но не может остановиться. Снова и снова перечитывает. Слова врезаются в мозг. Слова от мамы, которой не было рядом. Которая не была мамой.
Глава тридцатая
Это не боль. Не отвращение. Не тоска. Это воспоминания. Давно забытые, спрятанные глубоко внутри, они посещают ее одно за другим. Она не может уснуть тихой стокгольмской ночью. Мысли переполняют ее, она оставляет спящую Тайру и, закутавшись в одеяло, садится за кухонный стол, подтянув колени к подбородку. Перед ней бумаги Дорис. История ее жизни. Она начинает читать, чтобы отвлечься от своей. Но не может сосредоточиться, слова сливаются воедино. Она вдруг не может понять ни слова по-шведски.
Все ее худшие воспоминания связаны с английским языком. Все они родом из Америки. Шведский означает безопасность. Дорис – любовь. Она появилась тогда, когда была так нужна, и осталась настолько, насколько было необходимо. Пришлось бы – осталась бы и дольше. Даже когда Элизу выпускали из лечебницы, Дорис оставалась самым адекватным человеком в окружении Дженни. Для ребенка, который никогда не видел нормальной жизни и мог судить о ней лишь по рассказам друзей, это время было бесценным подарком. Сэндвичи в коробках, напоминания о спортивной форме и домашнем задании, подписанные документы, которые надо вернуть учителю, две косы из длинных волос, чистая одежда и горячая еда не из одноразовой посуды.
Когда они с мамой оставались одни, она ходила в школу в потрепанной обуви. С огромными дырками в подошве. Она даже выработала особый шаг, чтобы друзья не заметили этого и не смеялись над ней. Иногда она и сейчас так ходит.
Те вечера, когда Дорис сообщала, что мама возвращается домой, были самыми сложными для Дженни, она начинала с тревогой ждать отъезда Дорис. Та всегда обещала остаться еще на какое-то время и всегда сдерживала слово. Дорис всегда делала, что обещала. Замечательная, умиротворяющая Досси.
Она возвращается в кровать и ложится рядом с мягкой, теплой Тайрой. Гладит ее светлые волосы, вытирает соплю с носа. Малышка не может дышать через нос, он заложен и распух. Нужны капли в нос, думает Дженни и поднимается, чтобы сходить в ванную. Роется в вещах Дорис.
Находит лак для волос, масло для укладки волос, маски. Она знает, что Дорис всегда дорожила волосами, каждый день она проходилась расческой по волосам, наверное, сотню раз. Когда Дженни только познакомилась с ней, волосы Дорис были длинными и густыми, всего с несколькими седыми волосками среди темно-русых. Она никогда не красила волосы. Теперь они совсем седые и очень тонкие. Коротко пострижены, и Дженни уверена, что ей это совершенно не нравится. Она совсем забыла о каплях в нос и берет масло, бигуди и маску для волос. Складывает их в сумку с детскими вещами.
Дорис не должна умирать некрасивой. Она всегда была настоящей красавицей. Дженни роется в косметичке. Находит тени, коралловые румяна и остатки пудры. Помаду. Она тут же оживляется и идет изучать платья в шкафу. Дорис не может умереть в больничной сорочке, которая сползает с нее, обнажая морщинистую бледную кожу. Но и мешковатые ежедневные платья тоже не пойдут. На вешалках слишком много черных и серых вещей и совсем нет ярких. Она купит ей новое. Современное, стильное. Желтое, или зеленое, или розовое. Симпатичное и удобное.
Платье.
Она пишет слово на бумажке и кладет в сумку сверху.
И только в четыре утра она наконец забирается в кровать. Свет уличных фонарей узкими полосками проникает в зазор между занавеской и окном. Она закрывает глаза и мысленно переносится обратно в Нью-Йорк во времена своей молодости. Ей начинает казаться, что рядом не малышка Тайра, а Дорис, которая успокаивает ее, гладит по волосам, когда страшно. Помогает уснуть, тихо напевая мелодию. Любит ее. Дженни тихонько мурлычет под нос старую песенку, которую ей пела Дорис.
Летняя пора и жизнь легка. Рыбка плещется и вырос хлопок…Нелюбимая. Она глубоко вздыхает.
Нет. Любимая. Дорис любила ее. Она всегда была рядом. Только это имеет значение. Мелодия затихает, и она проваливается в сон.
А. Андерссон, Элиза
Каждый раз, как она возвращалась из лечебницы, на ее щеках появлялся румянец, а волосы становились блестящими, были подстрижены и окрашены. Она приезжала с подарками, игрушками, одеждой, но ты даже не хотела смотреть на нее. Пряталась за мои ноги и не отходила. Она тогда не могла наладить с тобой отношения и не собиралась. Вы все больше отдалялись друг от друга. Ты становилась старше, чаще закрывалась в своей комнате и проводила время с друзьями вне дома. Но она пыталась, и я надеюсь, ты помнишь эти счастливые моменты. Когда она внезапно посреди недели готовила ужин из трех блюд и приглашала в гости твоих близких друзей. Или когда целую ночь шила тебе костюм для Хеллоуина – оранжевого краба с набивными клешнями. Ты гордо шествовала по району с маленьким ведерком конфет, несмотря на то что едва могла ходить: костюм был таким тяжелым, что ты теряла равновесие и несколько раз падала. Если бы я тебя тогда сфотографировала, представь, как смеялись бы сейчас твои дети.
Элиза была ни на кого не похожа. Ни на мою маму, ни на твою бабушку Агнес. Возможно, она унаследовала свое нестабильное душевное состояние от матери ее отца. Кристину всю жизнь преследовал патологический страх, она долгое время была в депрессии. Я никогда не понимала этого в Элизе и постоянно говорила ей, чтобы она взяла себя в руки. Я часто злилась на нее.
Особенно когда ей в голову приходили откровенно глупые идеи – например, начать торговать своим телом, чтобы зарабатывать больше денег, или отдать тебя на удочерение. Она писала об этом всякий раз, когда ей не хватало денег, которые я присылала, и заговаривала об этом, пытаясь заставить меня остаться с вами подольше. Это всегда срабатывало, и я оставалась. Ради тебя. Помнишь то лето, когда она решила сбрить свои волосы, чтобы оставить прошлое в прошлом? И она сделала это, несмотря на наши протесты. А было время, когда она ходила по дому голой, чтобы ты росла раскрепощенным человеком. У нее было полно странных идей!
Когда она знакомилась с мужчиной, то отдавалась ему всей душой. Если он был музыкантом, она становилась одержима музыкой; если адвокатом, она вдруг начинала строить из себя благопристойную леди. Она верила в Иисуса, Будду или того, кого считала правильным в тот момент.
Ты помнишь об этом, Дженни? Это все происходило у тебя на глазах. Мы не знали ее. Ни ты. Ни я. Вероятно, даже она сама не знала себя.
Глава тридцать первая
– Смотри, что у меня есть. – Дженни улыбается уставшей Дорис и достает вещи из сумки. – Готова к косметическим процедурам?
Дорис осторожно качает головой.
– Ты с ума сошла, – шепчет она.
– Моя двоюродная бабушка не ляжет в гроб непричесанной, – шутит Дженни, но прикусывает губу, когда замечает панику в глазах Дорис. – Извини, я не хотела… нет… это была глупая шутка. Очень глупая.
– Боже, что у меня на голове?! Я не смотрелась в зеркало с тех пор, как упала.
Дженни смеется, когда понимает, что так напугало Дорис в ее словах.
– Все в порядке… но могло быть и лучше. Сейчас я поколдую.
Она аккуратно причесывает тонкие серебристые пряди волос. Несколько волосинок застревают между красными зубцами расчески.
– Больно?
Дорис качает головой:
– Все хорошо, продолжай.
Дженни осторожно приподнимает голову Дорис, чтобы дотянуться до затылка, и медленно проводит расческой по всей длине волос. Затем накручивает их на бигуди, прядь за прядью. Уходит всего семь штук. Волосы Дорис такие тонкие и редкие, что в некоторых местах проглядывает кожа головы. Она сбрызгивает бигуди маслом и накрывает голову Дорис красно-белым кухонным полотенцем в клетку. В уголке на нем вышита буква А.
– Это еще моей мамы полотенце. Представляешь, какое качество! Я привезла это и кое-что из мебели, когда вернулась из Англии, – объясняет Дорис.
– Из Англии? Когда ты ездила туда?
– Ты прочтешь об этом в моих записях.
Дорис зевает и откидывается на подушку.
– То, что ты пишешь, это невероятно. Я каждый вечер читаю понемногу. Я так многого не знала.
– Я хочу передать тебе свои воспоминания. Чтобы они не исчезли.
– Ты так много помнишь, так много подробностей.
– Надо просто закрыть глаза и перенестись в тот момент. Когда у тебя много свободного времени, понимаешь, что твоя память почти безгранична.
– Интересно, что буду вспоминать я. Моя жизнь не была такой захватывающей, как твоя. Даже близко.
– Она не захватывающая, потому что ты на полпути своей жизни. Ты много не замечаешь сейчас, потому что занята тем, что живешь. Нюансы становятся заметными лишь намного позже. – Дорис вздыхает. – Я так устала, – продолжает она шепотом. – Думаю, мне надо немного отдохнуть.
– Чего-нибудь хочешь?
– Шоколад, немного молочного шоколада.
Дженни роется в сумке с детскими вещами. Вспоминает про шоколадку, которую ела тайком, пока Тайра спала, но находит лишь пустую обертку и несколько крошек. Поворачивается к Дорис, но ее глаза закрыты. Дженни быстро подносит палец к ее рту. И расслабляется, почувствовав слабое теплое дыхание.
– Идем, Тайра, давай пойдем в магазин.
Она выходит в коридор, достает девочку из коляски и разрешает ей походить. Играет с ней, щекочет, заставляя смеяться. Контраст между этой новой жизнью, полной радости познания мира, и доживающей свой век Дорис на больничной кровати весьма разительный. Она поднимает Тайру и качает из стороны в сторону.
– Маленькая ворона священника… – громко поет она, отчего проходящая мимо медсестра улыбается.
Тайра смеется и обхватывает ее шею своими маленькими пухлыми ручками.
– Мамочка! – кричит она и утыкается лицом в ее шею.
Дженни чувствует как Тайра склоняется к ее плечу, отстраняет ребенка, чтобы вытереть сопли.
– Мамочка, мамочка, – начинает кричать малышка, размахивая руками. Словно только что потеряла самое ценное, что у нее было. Она хочет вернуться на свое место, к маминой шее. Где тепло и безопасно.
Дженни быстро прижимает ее к себе, крепко обнимает и гладит по спине.
– Мамочка здесь, мамочка здесь, – шепчет она и целует ее в голову.
Интересно, скучают ли мальчишки по ней так же, как эта кроха?
Они проходят последние несколько метров до киоска с шоколадом, Тайра все еще цепляется за ее шею.
Когда они возвращаются, Дженни ласково гладит Дорис по щеке. Та все еще крепко спит. Тайра ударяет Дорис по руке, и только Дженни собирается предотвратить второй подход, как Дорис распахивает глаза.
– Это ты, Элиза? – шепчет она. Кажется, она не может сфокусировать взгляд.
– Это я, Дженни, не Элиза. Как ты себя чувствуешь? Голова кружится? – Она высматривает медсестру. – Потерпи, я сейчас кого-нибудь позову.
Она усаживает Тайру в коляску и выбегает в коридор. Там никого нет. На посту замечает трех медсестер, пьющих кофе.
Она бежит к ним:
– Что-то не так. Она, кажется, не в порядке.
Она слышит, как плачет Тайра, и бежит впереди медсестер. Вернувшись в палату, видит, что Дорис, превозмогая слабость, пытается успокоить малышку. Она старается петь, но не попадает в ноты, отчего Тайра кричит еще громче.
– Мамочка! – Лицо Тайры стало красным от слез.
Дженни берет девочку на руки.
Дорис шепчет, ее слабый голос полон отчаяния:
– Извини, я пыталась…
Ей хочется обнять их обеих сразу. Дать одной силы и энергию, а другой – стойкость и смелость. Медсестра осматривает Дорис: накачивает тонометр, нацепляет на указательный палец оксиметр, к груди прикладывает стетоскоп.
– Она слаба. Вероятно, просто закружилась голова.
Медсестры забирают свои приборы и выходят из палаты.
Вероятно, просто закружилась голова. Дженни чувствует, как закипает от этих слов.
– Ну что, снимем бигуди? – спрашивает она, показывая на голову Дорис.
Дорис кивает.
– Чтобы ты выглядела невероятно милой.
Дорис слабо улыбается. Дженни никак не может сдержать слезы, они катятся по щекам. Осторожно по очереди снимает бигуди.
– Я слышала, что соленая вода очень полезна для волос, – шепчет дребезжащим голосом Дорис.
Дженни улыбается сквозь слезы:
– Я правда буду по тебе скучать. Люблю тебя невероятно сильно.
– Я тоже тебя люблю, мой самый дорогой ребенок. И тебя. – Она кивает на Тайру, которая успокоилась и теперь выкидывает из коляски на пол различные предметы.
Дженни сажает ее на край кровати, чтобы Дорис смогла с ней поговорить, но Тайра протестует. Она капризно спрыгивает с кровати и падает в надежные мамины руки.
Дорис кивает на коляску:
– Усади малышку, Дженни. Наблюдать, как старушка умирает, невесело.
Оказавшись на полу, Тайра хватает детскую книгу из коляски и начинает швырять ее об кровать так сильно, что отрывается часть обложки. Дженни не ругает ее. Пока девочка занята и не плачет, все хорошо. Она причесывает и сбрызгивает волосы Дорис. Тонкие пряди держат объем и теперь прикрывают голые участки головы. Дженни удовлетворенно оценивает работу, а затем переключается на лицо Дорис. Осторожно припудривает морщинистые щеки, круговыми движениями наносит на кожу розовые румяна, красит губы. Макияж оживляет бледное лицо Дорис. Она делает фотографию на телефон и показывает Дорис, которая радостно кивает.
– Глаза тоже, – шепчет она.
Дженни наклоняется и наносит светлые тени. Веки Дорис тяжелые, нависают над глазами, отчего видно лишь половину зрачка. Пигмент попадает в складки и ложится неровно, но ей все равно.
– Я купила тебе платье. Удобное, если хочешь, можешь в нем спать.
Она выуживает из сетки коляски пакет и достает платье. Оно однотонное, темно-розовое, из мягкого трикотажа. Рукава длинные, ворот круглый, а ткань на груди плиссирована.
– Красивый цвет, – шепчет Дорис и щупает пальцами ткань, чтобы оценить качество.
– Да, я вспомнила, что тебе нравился розовый. Ты всегда покупала мне розовые платья. Маме это очень не нравилось.
– Хиппи.
После этого одного слова Дорис заходится кашлем.
– Да. Это правда. Она была настоящей хиппи. И это несколько раз чуть не стоило ей жизни. – Дженни вздыхает. – Хотя, наверное, в конце концов стоило.
– Наркотики сгубили ее, – шепчет Дорис.
Дженни не отвечает. Помогает Дорис не спеша надеть платье.
– Что ты знаешь про моего отца? – спрашивает она.
Дорис смотрит на нее и качает головой.
– Ничего?
– Нет.
– Совсем ничего?
– Мы это уже обсуждали, дорогая моя.
– Мне кажется, ты знаешь больше. Я нашла мамины письма. Они лежали в коробке вместе с фотографиями. Она писала, что ненавидит меня.
Дорис качает головой:
– Нет, дорогая, не думай так. Она не ненавидела. Она была зависима, и эти письма продиктованы ее зависимостью. Я не знаю, зачем их сохранила. Как глупо.
– Ты меня любила – вот что я знаю. Я чувствую это.
– Элиза тоже любила тебя.
– Когда? Пока убивала себя наркотиками? Или когда после валялась без сознания на кухне? А может, когда хотела отдать меня первому встречному?
– Это была не она, а наркотики, – слабо возражает Дорис.
– Она всегда говорила, что бросит.
– Она пыталась. Но не смогла.
– Вот почему ты меня любила? Потому что больше некому было?
Глаза Дорис снова начинают закатываться. Дженни бросается к ней:
– Извини, не стоило заводить этот разговор. Ты была для меня всем.
– Я всегда приезжала, когда была нужна тебе, – шепчет Дорис, и Дженни кивает. Целует ее в лоб. – И я любила тебя, потому что любила.
– Не надо больше разговаривать, Досси, отдохни. Я останусь здесь и буду держать тебя за руку.
– Где Йёста? Он выпил свой кофе?
– Ты запуталась, Дорис. Йёста мертв. Он умер еще до моего рождения. Помнишь это?
Воспоминания догоняют ее, и она кивает:
– Все мертвы.
– Нет, не все мертвы. Ничего подобного.
– Все, кто что-то для меня значил. Все, кроме тебя.
Дженни медленно гладит ее по руке, по темно-розовой ткани нового платья.
– Не бойся, – шепчет она, но не получает ответа.
Дорис снова заснула. При каждом вздохе ее грудь поднимается, из легких вылетает слабый хрип.
Заходит медсестра и поднимает на кровати поручни.
– Думаю, Дорис сейчас лучше поспать. И вам с малышкой тоже, – говорит она и машет Тайре.
Дженни вытирает слезы:
– Я не хочу оставлять Дорис. Можно мне здесь остаться?
Медсестра качает головой:
– Идите. Мы всегда знаем, когда конец близок. Она переживет эту ночь, а если станет хуже, мы позвоним.
– Но пообещайте, что позвоните сразу же при малейшем изменении. Малейшем!
Медсестра терпеливо кивает:
– Обещаю.
Дженни нехотя выходит из отделения и идет к лифтам. Тайра крутится в коляске, ей хочется подняться и походить. От этих долгих часов сидения в палате Дорис у нее портится настроение. Дженни достает ее из коляски и позволяет пойти рядом. Держась пухлой ручкой за коляску, малышка ковыляет вперед. Дженни проверяет телефон. Десять пропущенных, все от Вилли. И короткое сообщение: «Ты не поверишь. Аллан Смит жив».
Глава тридцать вторая
– Это правда?
– Он жив. Если это тот самый Аллан Смит.
– Отправляйся туда!
– Ты с ума сошла? Я не могу просто так поехать в Нью-Йорк. Кто присмотрит за ребятами?
– Возьми их с собой! Езжай сейчас же!
– Дженни, я начинаю думать, что ты совсем тронулась.
– Ты должен поехать. Дорис всю жизнь была одна. Всю свою жизнь. Если не считать тех лет, что она провела, работая на художника-гея. Она всю жизнь любила одного человека. По-настоящему любила. И это был Аллан Смит. Ты понимаешь? Она должна увидеть его, пока не умерла. Отправляйся туда! Возьми с собой ноутбук, чтобы созвониться по Скайпу. И позвони мне, когда будешь там.
– Но мы даже не знаем, тот ли это Аллан Смит. Что, если это совершенно другой человек?
– Сколько ему?
– Родился в тысяча девятьсот девятнадцатом году.
– Вроде все верно.
– Он живет на Лонг-Айленде. Последние двадцать лет вдовец.
– Может быть, это так. Аллан был женат.
– Судя по письму Стэна, он жил во Франции с сорокового по семьдесят шестой. Заведовал одной из фабрик и сколотил состояние на сумках.
– Дорис говорила мне, что он отправился во Францию во время войны.
– Его мама была француженкой, в его паспорте две фамилии: Аллан Лессер Смит.
– Это должен быть он. Собирайся!
– Дженни, ты безумная. Мальчикам нужно ходить в школу, а мне работать.
– К черту школу! – Она едва может себя контролировать. – Какая разница, если они пропустят несколько дней? Это сейчас важнее всего другого. Дорис осталось немного, и ей нужно увидеть его в последний раз перед смертью. Возможно, речь идет о нескольких часах. Сейчас же собирайся! Сделай ради меня. Умоляю!
– Ты клянешься, что вернешься домой, если я это сделаю?
– Да, конечно, я вернусь, как только со всем разберусь.
– Тогда ради тебя, ради тебя… Господи, поверить не могу, что делаю это…
– Заскочи в школу за мальчиками, и садитесь на первый самолет до Нью-Йорка. Если миссис Берг поднимет шумиху, скажи, что болеет близкий родственник. Это весомый аргумент, если я правильно помню.
– Аргумент?
– Да, знаешь, есть правила, которые разрешают детям не ходить в школу. Одни обстоятельства важны, другие нет. Но сейчас забудь об этом, просто поезжай. И не забудь лекарство от астмы для Дэвида.
– И что мне делать, когда я доберусь туда?
– Поговори с ним. Убедись, что это тот Аллан, помнит ли он Дорис. А потом сразу позвони мне.
– Но слушай, что хорошего в том, если она узнает, что он жив? Что был жив все эти годы? Она умрет несчастной. Разве не лучше ей будет думать, что он умер много лет назад?
– Не пытайся меня разубедить. Отправляйся туда сейчас же! Я брошу трубку.
– Ладно, я поеду, хотя все еще не понимаю зачем. Не будь так самонадеянна – вдруг это другой Аллан?
– Да, я знаю. Но я прошу тебя полететь туда сейчас. Поверь мне, это правильное решение. А теперь я кладу трубку. Извини, но мне правда пора.
Она отсоединяется, пока он не ответил, включает беззвучный режим и кидает телефон в сумку. Тайра сидит на полу у лифтов, роется в вещах, которые были сложены в сетке коляски, а теперь раскиданы вокруг нее. Банан, книга, несколько чистых памперсов, какие-то запачканные колготки, рисовые лепешки. Она быстро собирает вещи и, извиняясь, кивает проходящим мимо. Тайра пытается ускользнуть дальше по коридору, но Дженни догоняет ее и берет на руки. Она усаживает хнычущую малышку в коляску и надевает на себя пальто:
– Теперь мы пойдем домой. Домой покушать. Тс…
Но грядущий плач никак не заглушить, Тайра хватает ртом воздух, готовясь разразиться слезами. Но Дженни не реагирует. В ее голове слишком много мыслей. Она быстро толкает коляску и надеется, что Тайре надоест причитать раньше, чем прохожие начнут оборачиваться на них на улице.
С. Смит, Аллан
Говорят, что человек никогда не забывает свою первую настоящую любовь. Что она врастает в его память, занимает непреложное место в сердце. Воспоминания об Аллане навсегда остались частью меня. Может, он погиб во Второй мировой или мирно скончался в глубокой старости, но он все еще жив внутри меня. И когда я отправлюсь в могилу, захвачу его с собой, надеясь, что там, в раю, мы снова встретимся. Останься он рядом со мной, я бы следовала за ним по жизни, я в этом уверена.
Он всегда говорил, что у него французское сердце, американское тело и интернациональный разум. Что он скорее француз, чем американец. Хотя он говорил по-французски с типичным американским акцентом. Я смеялась над его произношением, когда он кружил со мной по Парижу. Этот смех до сих пор отдается в моем сердце и стал символом счастья – счастья, которое я никогда больше не испытаю. Он был проницательным и беззаботным. Рассудительным, но при этом беспечным, был неугомонным весельчаком, но серьезным.
Он учился на архитектора, поэтому, находя в журналах проекты новых зданий, я всегда внимательно читала текст, надеясь увидеть его имя. И до сих пор так делаю. Сейчас я могла бы найти его с помощью Интернета, но тогда все было намного сложнее. Возможно, я не так уж сильно старалась. Но я посылала письма, кучу писем до востребования, так как понятия не имела, где он живет и даже в какой части света может находиться. Отправляла их в почтовые отделения Манхэттена, Парижа. Он так и не ответил. Вместо этого стал призраком прошлого, с которым я разговаривала по ночам. Воспоминанием, хранившимся в моем медальоне. Моей единственной настоящей любовью.
Йёста в обмен на две картины купил нам диван. Большой мягкий диван, обшитый темно-фиолетовым вельветом. Мы сидели на нем по вечерам, пили вино и делились своими надеждами и мечтами. А их было довольно много и самых разных. Это заставляло нас смеяться и плакать.
Йёста часто спрашивал меня про мужчин. Он был открытым человеком, легко задавал интимные вопросы. Только он знал про Аллана, но не понимал меня, считая сумасшедшей. Он старался сделать все, чтобы я отказалась от своей безответной любви на расстоянии. Чтобы посмотрела на других. Мужчин или женщин. Для Йёсты разницы не было.
– Важен человек, Дорис, а не его пол. Когда встречаются родственные души, возникает притяжение, и они становятся единым целым. Для любви не имеет значение пол, и людям он тоже не должен быть важен, – обычно говорил он.
Величайшее удовольствие от жизни получаешь тогда, когда можешь свободно выражать свое мнение и получать в ответ любовь, даже если она не соответствует чьим-то ожиданиям и представлениям о норме. Вот почему мне было приятно жить с таким толерантным человеком, как Йёста. Нам было удивительно комфортно вместе. Но мы не были предназначены друг другу для любви. Однажды он даже попытался меня поцеловать. Но мы лишь расхохотались после этого.
– Нет, это было не очень, – смеялся он, высовывая язык.
Больше в наших отношениях не было никаких романтических моментов.
Я прожила свою жизнь не одна. Йёста был моей семьей. И ты, Дженни, ты – моя семья. Моя жизнь была хорошей и приятной, это так. К сожалению, Аллан так и оставался недостижимой мечтой, но у меня была хорошая жизнь.
Я часто думала о нем, когда оставалась одна дома. И чем старше становилась, тем больше думала. Не могла понять, как человек может настолько прочно войти в твою жизнь, как это сделал Аллан. Я бы очень хотела знать, что с ним случилось после нашей последней встречи. Умер ли он на поле боя или прожил долгую жить? Если состарился, как он выглядел? Его волосы стали седыми или он лыс? Он толстый или худой? Построил ли он все те здания, о каких мечтал? Думал ли обо мне? Чувствовал ли со своей женой такую же страсть, какую чувствовал со мной? Любил ли ее так, как любил меня?
Эти вопросы постоянно возникают в моей голове. И так будет до самой моей смерти. Возможно, мы однажды встретимся в раю. Возможно, я наконец смогу расслабиться в его объятиях. Я мечтаю снова увидеть его, хотя бы на небесах, и потому моя вера в Бога того стоит. Если он существует, я бы ему сказала:
«Привет, Бог. Теперь моя очередь. Моя очередь любить и быть любимой».
Глава тридцать третья
Непрочитанных страниц оставалось еще много. Много слов. Возможно, на ноутбуке, который лежит в больнице на тумбочке, сохранились еще воспоминания. Дженни перебирает страницы, как мозаику складывая историю каждого человека из жизни Дорис. Читает по порядку про Элейн и Агнес, про Майка и Йёсту. Всего в нескольких страницах таятся целые жизни.
Так много воспоминаний. Так много тех, кого уже нет. Какие секреты они унесли с собой в могилу? Она идет за записной книжкой и листает ее. Ей любопытно знать обо всех, о ком Дорис упомянула. Кто такая Керстин Ларссон? Она записывает ее имя большими буквами в найденном возле кровати блокноте.
Завтра спросит про нее. Как Керстин умерла. Какой след оставила в жизни Дорис.
Она водит по строчкам указательным пальцем. Ее имя тоже здесь есть. Одно из нескольких не зачеркнутых. Но адрес неверный, ее старого дома. Студенческой квартирки, в которой она жила во время короткой попытки получить образование. До Вилли. До детей. Была ли она тогда более счастливой? Ее пробирает дрожь, и она закутывается в кардиган Дорис. Возможно. Она вычеркивает адрес и аккуратно вписывает новый. Адрес, где живет ее семья, где должно жить счастье. Где его нужно искать.
Это Дорис оплатила ее курсы литературного творчества. Шесть месяцев сочинения, чтения написанного вслух и обсуждения. Писать было интересно, а вот читать – ужасно. Она не очень любила критику. А потом вдруг появился Вилли. Сильный, красивый и безопасный. Он заставил ее забыть о том, что ее печалило, они хорошо проводили время вместе: занимались сёрфингом, ездили на велосипедах, играли в теннис. И она сдалась, бросила курсы и устроилась официанткой в ресторан. Что, если бы она не познакомилась с ним? Продолжила бы писать? Дорис до сих пор журит ее за то, что она бросила учебу. Спрашивает, как продвигается книга, словно она продолжила писать. Правда в том, что с тех пор она почти ничего не написала. Но еще правда в том, что желание писать живет внутри нее до сих пор. Она знает, что может этим заниматься. Знает, что у нее есть талант. Чувствует это глубоко внутри. Но кто же тогда будет заботиться о детях? Кто будет готовить им еду и убираться в доме? К тому же даже попытаться слишком трудно. Всего один процент рукописей, предложенных издательствам, становится книгами. Один мизерный процент. Шансы слишком малы. Почему это должна быть именно ее рукопись? Что, если она недостаточно талантлива? Что, если у нее не получится?
Дженни отгоняет эти мысли и, достав телефон, ищет имя Вилли в недавних звонках.
– Привет, дорогой. Как дела, ты уже улетел?
– Нет, мы еще не улетели.
Она вздыхает:
– Пожалуйста, Вилли…
– Я полечу. Я купил билет на утро. Дэвид останется у Дилана, а Джек сам может о себе позаботиться, пока я не вернусь.
– Спасибо. – Она выдыхает, на глаза наворачиваются слезы. – Ох, Вилли, спасибо!
– Я надеюсь, это того стоит. – Он говорит напряженно.
– Что ты имеешь в виду?
– Я понимаю, что ты делаешь, но не понимаю, зачем подвергать ее этому.
– Но… Чего ты не понимаешь? Она умирает. Он был любовью всей ее жизни. Что именно тебе здесь не понять? Это же очевидно. Или ты никогда не был влюблен?
– Дженни! Не начинай! Конечно был. Я люблю тебя, надеюсь, ты не сомневаешься.
– Ладно.
– Хорошо. Не грусти, я лечу завтра к Алану Смиту.
– Ладно.
– Я люблю тебя. А теперь мне пора.
– Ладно. Пока.
Она сбрасывает вызов, вытирает упрямую слезу. Делает несколько глубоких вдохов.
Они познакомились пятнадцать лет назад. Тогда они целыми днями не вылезали из постели. Это была любовь, не так ли? Но это было так давно. Она задумывается.
Наверное, они занимались любовью лишь раз после того, как родилась Тайра. Сейчас, после рождения троих детей, она, наверное, уже не так привлекает его. Она хмурится.
Точно, всего раз после того, как родилась Тайра. Невероятно.
Она забирается на кровать и ложится рядом с Тайрой. А когда-то лежала с Вилли. Очень близко, уткнувшись носом в его шею. Волосы на затылке Тайры намокли и кучерявятся. Как и у Вилли. Она очень похожа на него.
Она перезванивает ему.
– Да? – резко отвечает он.
– Я тоже тебя люблю.
– Я знаю. У нас настоящая любовь. Я никогда не чувствовал ничего другого.
– И мы же все еще влюблены, да?
– Да, конечно же влюблены.
– Хорошо.
– А теперь немного поспи. Отдохни.
– Ладно, посплю.
– Я позвоню, как только узнаю, тот ли это Ал-лан.
– Спасибо!
– Я делаю это ради тебя. Сделаю что угодно ради тебя. Помни это.
– Это любовь.
– Да, именно об этом я и говорю.
Глава тридцать четвертая
В нос ударяет сильный запах мочи, когда она открывает дверь палаты Дорис. Дорис лежит на кровати на боку, а медсестры сменяют ей простыни.
– Они уронили пакет, – объясняет Дорис и морщит из-за запаха нос.
– Вы разлили на ее кровать мочу? – шипит Дженни медсестрам.
– Да, это было… это произошло случайно. Мы все поменяем.
– А разве она не примет душ?
Волосы Дорис снова примялись. Розовое платье промокло и кучей валяется на полу. Пока она ждет стандартную белую больничную сорочку, ее тело прикрыли слишком маленьким полотенцем.
– По расписанию прием душа у нее завтра.
– Но она вся в моче!
– Мы протрем ее влажными салфетками. Если ей нужен душ, для этого потребуется больше персонала.
– Мне плевать, что для этого потребуется! Если вы разливаете на пациента мочу, будьте добры проигнорировать расписание!
Медсестры продолжают протирать Дорис влажными салфетками, смущенно молча. Но одна из них останавливается:
– Извините. Вы абсолютно правы, конечно, ей нужно принять душ. Как думаете, вы сможете нам помочь?
Дженни кивает и ставит к стене коляску со спящей Тайрой.
Они вместе усаживают Дорис на инвалидное кресло и везут в ванную. Ее голова безжизненно повисает, у нее не осталось сил сидеть прямо. Дженни аккуратно моет ее мылом:
– Мы исправим твои волосы.
– Не лягу в гроб непричесанной, – шепчет Дорис.
– Да, не ляжешь. Обещаю. Ты самый красивый человек из всех, кого я знаю.
– Неправда. Это ты.
Она засыпает, как только они укладывают ее на кровать.
Дженни кладет руку на ее лоб:
– Как она?
– Пульс слабый. Сердце все еще работает, но надолго его может не хватить. Возможно, мы сейчас говорим о днях.
Дженни наклоняется и прижимается к щеке Дорис. Как она делала в детстве, когда они сидели на диване в Нью-Йорке. Она вдруг снова стала той маленькой девочкой. Никому не нужной, напуганной. А Дорис ее спасательный круг, благодаря которому она держится на плаву.
– Пожалуйста, ты не можешь меня бросить, – шепчет она и целует ее в лоб.
Дорис продолжает спать и хрипло дышит через раз. В коляске просыпается Тайра и начинает хныкать. Дженни берет ее на руки, но девочка вертится и хочет вниз. Она опускает ее. Ложится на бок рядом с Дорис. Близко, близко. Дышит вместе с ней.
– Вам нужно следить за дочкой, в больнице полно опасных мест и предметов. – Медсестра заходит в палату с Тайрой на руках.
Дженни кивает и виновато улыбается. Берет девочку и дает ей пакетик с конфетами.
Тайра радостно причмокивает. Дженни возвращает ее в коляску и застегивает ремень вокруг ее пухленького тела:
– Посиди немного здесь, пожалуйста. Посиди. Я должна…
– Не может усидеть на месте? – почти неслышно шепчет Дорис.
– Ой, ты проснулась? Как себя чувствуешь? Ты заснула сразу после душа.
– Я очень устала.
– Мы можем не разговаривать, если у тебя нет сил.
– Я хочу тебе рассказать. Все, что не успела записать. И ответить на твои вопросы.
– Ой, их так много, не знаю, с чего начать. Ты так мало написала о прожитых с Йёстой годах.
– Двадцать лет.
– Да, вы так долго жили вместе. Он заботился о тебе? Был добрым? Ты его любила?
– Да, как папу.
– Ты, наверное, так грустила, когда он умер.
– Да. – Дорис кивает и закрывает глаза. – Это как потерять руку.
– От чего он умер?
– От старости. Он умер давно, в шестидесятых.
– Когда родилась я?
– Незадолго до этого. Когда умирает кто-то любимый, рождается другой.
– И ты унаследовала все его вещи?
– Да. Его квартиру, немного мебели и картин. Я продала большие, они оказались неожиданно дорогими.
– Сегодня они продаются за миллионы.
– Только представь, если бы об этом знал Йёста.
– Он был бы рад. Горд. – Дженни улыбается сквозь слезы.
– Не знаю, его не интересовали деньги. Но он мог бы вернуться в Париж, если бы картины начали продаваться раньше. Мы могли бы поехать вместе.
– Ты этого хотела?
– Да.
– Он, наверное, знает, что обрел успех. Возможно, стал ангелом, и вы скоро увидитесь.
Она берет с тумбочки одного из фарфоровых ангелов и протягивает его ей.
– Он так боялся умирать. Тогда говорили, что гомосексуалисты не попадают в рай. Он в это верил.
– Он был религиозным?
– Не публично. Наедине с самим собой. Как и все мы.
– Если рай существует, то там тебя будет ждать Йёста.
– Сможем устроить вечеринку.
Дорис ловит ртом воздух, пытаясь рассмеяться.
– Ты такая замечательная. Так чудесно слышать твой смех. Он заставляет меня идти вперед. Я всегда вспоминаю, как ты смеешься, когда мне трудно.
– Зефирная война.
– Да, ты помнишь! – Дженни смеется при этом воспоминании. – На той кухне, где из-за стола не хватало места. Ты, я и мама. Мы так много смеялись. И ели зефир. У меня весь вечер болел живот.
– Немного глупости никогда не помешает.
Дженни кивает и гладит волосы Дорис. Тонкие пряди мягкие, как у ребенка.
– Давай приведем твои волосы в порядок.
Дорис засыпает, когда она накручивает тонкие волосы на бигуди. У нее тяжелое дыхание. Тайра доела все конфеты, но Дженни не обращает внимание на ее нытье в коляске. Продолжает причесывать и накручивать. И только когда медсестра обращает ее внимание на плачущего ребенка, она наконец берет ее на руки.
Глава тридцать пятая
Звонит телефон.
Дженни нащупывает его в темноте. Тайра хнычет во сне.
– Алло? – сонно шепчет она, опасаясь, что это звонок из больницы.
– Дженни, включи Скайп!
– Что?
– Я сижу здесь с Алланом. Это тот самый Аллан. Он старый и больной, как и Дорис. Но он помнит ее. Он заплакал, когда я сказал ему, что она еще жива.
Дженни мгновенно просыпается и садится, сердце стучит, а в ушах звенит. Аллан!
– Ты нашел его?!
– Да! Ты с Дорис? Если нет, езжай к ней сейчас же!
– Сейчас середина ночи, но это не может ждать.
– Возьми такси, поторопись.
– Хорошо, я позвоню тебе, как окажусь там.
Она соскакивает с кровати и бежит в ванную. Ополаскивает лицо холодной водой, надевает вчерашнюю одежду и вызывает такси. Кидает ноутбук в сумку с детской одеждой и закутывает Тайру в одеяло. Девочка бормочет, когда ее перекладывают в коляску, но не просыпается. Даже когда Дженни спускает коляску по лестнице. Такси ждет ее на улице. Она переносит Тайру в машину, а водитель в это время складывает коляску и убирает ее в багажник. Они молча едут по стокгольмской ночи. По радио играют старые лиричные песни. Purple Rain, она знает слова наизусть и улыбается при воспоминаниях. Было время, когда они с Вилли медленно танцевали на кухне и он напевал эту песню ей на ухо. Они прижимались друг к другу, и не было никого в мире, кроме них. Это было до детей, до того, как быт поглотил их. Вернувшись домой, она отблагодарит его. И они потанцуют.
– Малышка заболела? – нарушает тишину водитель, сворачивая с главной дороги.
– Нет, мы кое-кого навещаем. Вы не могли бы подъехать к главному входу?
Он кивает и мягко нажимает на тормоз. К тому времени, как она выбирается из машины с Тайрой на руках, он уже достал коляску из багажника и разложил ее.
– Надеюсь, все в порядке.
Она быстро расплачивается, но слишком взволнованна, чтобы ответить улыбкой на его учтивость.
Когда Дженни вбегает в палату, Дорис не спит, ее глаза ясные, а лицо не такое бледное, как прежде. К счастью, она не столкнулась с медсестрами по пути сюда.
– Ты не спишь! – шепчет Дженни, чтобы не разбудить других.
– Да. – Она широко улыбается ей.
– У меня для тебя сюрприз. Нам нужно одеть тебя в платье и вытащить в коридор.
Она снимает кровать с тормоза и катит ее к двери. Появляется медсестра с широко распахнутыми глазами:
– Что вы тут творите?!
Дженни шикает на нее и продолжает двигать кровать. Медсестра идет за ними, она явно встревожена.
– Что вы делаете? Вам нельзя просто так… Вы знаете, который час?
– Просто разрешите нам побыть здесь какое-то время. Это очень важно. И не может подождать. Я знаю, что другие пациенты спят, но мы будем вести себя тихо.
Она ставит кровать в угол комнаты отдыха и умоляюще улыбается медсестре. Та качает головой и уходит, не говоря ни слова. Дженни достает из сумки платье. Оно чуть влажное после недавней ручной стирки.
– Что ты делаешь, Дженни? Мы идем на вечеринку?
Дженни смеется:
– Я же сказала, что это сюрприз. Но да, можно сказать и так.
Она осторожно причесывает волосы Дорис и слегка проходится румянами по щекам.
– Губы тоже. – Дорис выпячивает губы.
Дженни смешивает розовый и бежевый, пока не находит любимый оттенок Дорис, затем проводит кисточкой по ее тонким сухим губам. Садится на край кровати и устраивает на коленях ноутбук. Она больше не может молчать:
– Досси, он жив!
– Что? Кто жив? О чем ты говоришь?
– Мы нашли, точнее, Вилли нашел… Мы нашли Аллана.
Дорис подскакивает и смотрит на нее.
– Аллана! – повторяет она испуганно.
– Он хочет увидеть тебя, поговорить с тобой по Скайпу. Вилли сейчас с ним, мне просто нужно позвонить ему.
Она открывает крышку ноутбука.
– Нет! Нельзя, чтобы он увидел меня такой.
Ее взгляд нервно мечется, щеки раскраснелись и без румян. Аллан…
– Он тоже стар и умирает. Это твой последний шанс. Ты должна быть сильной и сделать это.
– Но что, если…
– Что, если что?
– Что, если он не такой, каким я его помню? Что, если разочаруюсь? Или он разочаруется?
– Есть только один способ это выяснить.
Дорис подтягивает одеяло до подбородка.
Дженни тянет его обратно:
– Ты красивая. Поверь мне.
Она щелкает по имени Вилли, и он тут же отвечает:
– Дженни, Дорис, привет. – Вилли улыбается. Темные круги под глазами говорят о том, как мало он спал в последнее время. – Вы готовы?
Дженни кивает. Вилли поворачивает ноутбук к мужчине, сидящему в темно-коричневом вельветовом кресле. Дорис смотрит на экран. Его руки сцеплены на коленях, а ноги, с накинутым на них красным одеялом, вытянуты на подножку кресла. У него морщинистое лицо, а щеки впали. Куртка висит на его тонких плечах.
Как тогда в Париже. Рубашка застегнута на все пуговицы. Он улыбается и машет узловатой рукой, смотрит, прищурившись, на экран. Вилли подается вперед.
– Включи камеру, Дженни, – говорит он и кладет ноутбук на колени старика.
Дженни смотрит на Дорис. Та, приоткрыв рот, смотрит прямо в глаза Аллану. А когда Дженни спрашивает ее, готова ли она, охотно кивает.
Аллан подпрыгивает, когда видит худую женщину на больничной кровати.
– Ох, Дорис, – ахает он, его голос наполнен сожалением. Он протягивает к экрану дрожащую руку, словно хочет коснуться ее.
Они некоторое время сидят в тишине. Дженни нетерпеливо кивает на экран и машет рукой, чтобы Дорис говорила.
Тишину нарушает Аллан:
– Я никогда тебя не забывал, Дорис.
Слезы катятся по его морщинистым щекам.
Дорис тянется к медальону, который Дженни повесила ей на шею. Пытается его открыть, но ее дрожащие пальцы не слушаются. Дженни помогает ей, и Дорис показывает Аллану фотографию. Он щурится, а потом громко смеется.
– Париж, – бормочет он.
– Эти было лучшее время в моей жизни, – шепчет она, и глаза наполняются слезами. – Я никогда тебя не забывала.
– Ты все еще невероятно красивая.
– Это было лучшее время в моей жизни. Ты… – Ее голос срывается на последнем слове. Взгляд расфокусирован, глаза закатываются вбок.
Дженни кладет руку на ее запястье, чтобы проверить пульс. Он слабый. Лицо Дорис снова бледное.
– Я искала тебя, – после секундной паузы еле слышно шепчет она.
– Я тоже тебя искал. Писал.
– Что случилось? Где ты был?
– После войны остался в Париже. На несколько лет.
Дорис смахивает слезы:
– А твоя жена?
– Она умерла во время родов. И ребенок тоже. Я снова женился, но лишь через много лет. Везде тебя искал, ездил в Нью-Йорк, писал письма. Пока не закончились места, где я мог тебя искать. Куда ты отправилась, где была все эти годы?
– Я уехала из Нью-Йорка, отправилась в Европу за тобой. Когда я приехала, во Франции все еще шла война, времена были тяжелыми. И я оказалась в Швеции, в Стокгольме.
– Я не переставал о тебе думать. Никогда не переставал думать о нас… Помнишь, как мы ездили на машине в Прованс?
Дорис молчит и улыбается при воспоминаниях. Глаза Дженни наполняются слезами, когда она видит, что в ее глаза наконец вернулась жизнь.
Дорис посылает Аллану поцелуй и продолжает:
– Та ночь под звездами, ты помнишь ее? Какая замечательная ночь!
– Когда я похитил тебя с показа мод?
– Ну-ну, ты не похищал. Ты уснул на траве у замка, ожидая меня. Помнишь?
– Помню. Я помню каждую минуту рядом с тобой. Это было самое счастливое время.
Голос Дорис снова становится слабым, грустным:
– Почему ты разбил мое сердце, раз так сильно меня любил?
– У меня не было другого выбора, любимая. Я отправился на войну из-за тебя.
– Что ты имеешь в виду? Ты бросил меня!
– Я сбежал. Не смог смотреть жене в глаза, когда узнал, что ты приехала. Не мог перестать о тебе думать. И сбежал, оставив вас обеих.
Они молча смотрят друг на друга. На заднем плане покашливает Вилли. Дженни подается вперед проверить, есть ли он на экране, но там лишь Аллан. Она достает телефон и отправляет ему красное сердечко.
– Ты все еще жив, поверить не могу…
Дорис улыбается и подносит пальцы к экрану. По другую сторону океана он повторяет ее движение.
– Любимая… – бормочет он.
– Ты так далеко, почему ты так далеко? – Дорис шмыгает носом. – Как бы мне хотелось в последний раз оказаться в твоих объятиях.
– Поверить не могу, что ты все эти годы носила мою фотографию в медальоне. Если бы я только знал… Мы должны были… Ох, Дорис… Все дети, которых мы могли родить. Жизнь, какой могли бы жить. – Он опускает лицо в ладони, но затем поднимает голову. Пытается улыбнуться сквозь слезы: – Мы встретимся в раю, моя любимая. Я там позабочусь о тебе. Я люблю тебя, Дорис. Любил каждый день с тех пор, как впервые увидел тебя.
Слова Аллана эхом звучат в пустом больничном коридоре. Дорис устало опустила голову на подушку, но старается не закрывать глаза. Пытается заговорить, но выходит только хрип.
Дженни вытирает слезы, сидя за экраном. Подается вперед:
– Здравствуйте, Аллан. Извините, она очень слаба. Мне кажется, она больше не может справляться.
– Я справлюсь.
Дорис наконец находит голос, шепчет эти слова.
– Спи, моя любовь, я останусь здесь и буду наблюдать за твоим сном. Ты все еще такая красивая. Как я помню. Самая красивая.
– И ты все такой же болтун, – слабо улыбается Дорис.
– Когда речь идет о тебе, это сущая правда. Нет некого красивее тебя. Никогда не было.
– Я всегда любила тебя, Аллан. Всегда. Каждый час, каждый день, каждый год. Только тебя.
– И я всегда тебя любил. И всегда буду.
Дорис улыбается, а когда засыпает, улыбка застывает на ее губах. Аллан молча смотрит на нее. По его щекам бегут слезы, и он больше не вытирает их.
– Уверена, вы сможете завтра еще поговорить.
Дженни тянется, чтобы завершить звонок.
– Нет, нет, пожалуйста, не выключайте. Умоляю вас. Мне нужно еще посмотреть на нее.
Дженни едва сдерживает слезы:
– Я оставлю ноутбук включенным. Я понимаю.
Глава тридцать шестая
Она рассматривает спящую Дорис и смотрит на Аллана на экране. Он сидит в кресле с закрытыми глазами, скоро тоже заснет. В ее кармане гудит телефон. Она улыбается, когда видит на экране лицо Вилли.
– Я понимаю, – говорит он теплым голосом. – Я понимаю, почему ты так этого хотела.
– Да… Любовь. Дорис не должна умирать в безответной любви.
– Ты права. Слушай, я так люблю тебя. Ты удивительная. Я так благодарен, что не потерял тебя. Что мы вместе. Прости, что иногда веду себя как идиот.
– Рада, что ты это признал.
– Что? Что я идиот или что люблю тебя?
– И то и другое, – смеется она.
– Жаль, что ты далеко. Хочу обнять тебя. Знаю, что тебе тяжело. И снова извини. Я не хотел быть таким бездушным.
– Знаю. И мне тоже хочется, чтобы ты был здесь. Чтобы попрощался с ней. – Дорис стонет, и Дженни шепчет в трубку: – Мне пора, люблю тебя, пока.
Наклоняется к Дорис. Аллан, кажется, тоже спит, и она закрывает крышку ноутбука. Присаживается на край кровати и прижимает руку ко лбу Дорис. Ее кожа очень холодная, лоб покрылся испариной. Глаза Дорис беспорядочно бегают. Дженни спешит за медсестрой.
– Аллан, – кричит Дорис. – Аллан!
Медсестра подбегает к ней, сдвигает ворот платья и слушает сердце:
– Ритм нарушен, я позову доктора.
– Мы позвонили ее старому другу. Возможно, не стоило это делать, не сейчас, посреди ночи.
Дженни плачет.
– Милая, она все равно умрет, не важно, что вы делаете. Она очень стара.
Медсестра подходит к Дженни, гладит по спине, пытаясь успокоить ее.
– Дорис! Дорис, пожалуйста, очнись! Пожалуйста, поговори со мной…
Дорис удается открыть лишь один глаз. Она смотрит на Дженни. Ее губы синеют.
– Я… желаю тебе… достаточно… – шепчет она устало, а потом закрывает глаз. – Достаточно солнца, чтобы освещать твои дни, достаточно дождя, чтобы ты ценила солнце. Достаточно радости, чтобы укрепить твою душу, достаточно боли, чтобы ты научилась ценить маленькие моменты счастья, достаточно встреч, чтобы… время от времени прощаться…
Дрожащими губами Дженни повторяет слова, которые так часто говорила Дорис. Всю свою жизнь.
Хриплое дыхание сменяется громким кашлем, от которого Дженни и медсестра испуганно вздрагивают. Веки Дорис распахиваются, и она ясными глазами смотрит на Дженни.
Дорис Альм. Мертва.
Глава тридцать седьмая
Она достает ручку и медленно зачеркивает имя Дорис на обложке. Рядом пишет слово: МЕРТВА. Пишет его во второй раз, в третий, в четвертый. В итоге вся обложка исписана им.
На столе перед ней лежат вещи, которые ей дали в больнице. Какие-то украшения. Медальон. Розовое платье. Одежда, в которой ее туда привезли, – темно-синяя туника с рукавами в катышках и серые шерстяные брюки. Сумка, в которой лежат ее кошелек и все еще включенный телефон. Ее ноутбук. Что ей с этим делать? Она не может все это выкинуть. В квартире ничего не должно измениться. По крайней мере, на некоторое время.
Она осматривается и проводит рукой по шероховатой поверхности стола. Того стола, который всегда принадлежал Дорис. В этой квартире ничего не изменилось за много лет.
Вдруг она вспоминает, что Дорис упоминала про письма. Должны быть еще коробки, кроме тех двух, что она уже нашла. Она бежит в спальню и встает у кровати на четвереньки. Под ней, в самом дальнем углу, видит ржавую жестяную коробку. Она достает ее и сдувает плотный слой пыли. Открывает ее и ахает. Так много писем. Она все их сегодня прочтет.
Тайра на кухне играет с кастрюлями и сковородками, смеется от производимого шума. Дженни садится спиной к малышке, чтобы она не видела ее слез. Бедной Тайре в последние дни не хватало внимания, но она, к счастью, этого не вспомнит. К счастью, она слишком маленькая.
Дженни устала. Провела ночь, утро и день без сна, а теперь на подходе вечер. Она трет отекшее лицо, опирается подбородком на поставленные на стол руки. Маленькая девочка внутри нее потеряла свой спасательный круг. Она не хочет быть мамой. Не хочет быть взрослой. Она хочет лежать и плакать, пока не закончатся слезы.
Пока не вернется Дорис и не обнимет ее. Она снова чувствует подступающие слезы, шмыгание носом переходит в рыдание, которое она не может сдерживать.
– Мамочке грустно.
Тайра стучит ее по ноге и тянет за майку. Дженни поднимает девочку и крепко прижимает к себе. Пухлые ручки малышки обхватывают ее за шею.
– М… мамочка очень скучает по Досси, детка, – шепчет она и целует ее в щеку.
– Боница, – говорит Тайра, желая вернуться на пол.
Бежит к коляске, но Дженни качает головой:
– Нет, не сейчас, Тайра, поиграй немного с этим. – Она дает ей свой телефон. – Мы туда больше не пойдем, – шепчет она тихо.
Она включает ноутбук Дорис. На рабочем столе две папки. Первая называется «Дженни», вторая «Заметки». Она щелкает на папку со своим именем и просматривает документы. Она уже прочитала большую часть из них, они распечатаны, но внутри этой папки есть еще одна, которая называется «Мертва». Она вздрагивает от этого слова. Замирает на мгновение, затем щелкает на нее. Внутри два документа, один из них – завещание. Оно короткое. Все, что было у Дорис, она оставила Дженни, распечатанная и заверенная копия лежит в столе. Она хочет, чтобы на ее похоронах были джаз и красные розы.
На второй странице несколько строк:
Не бойся жизни, Дженни. Живи. Наслаждайся. Радуйся. Жизнь не для того, чтобы развлекать тебя, это ты должна развлекать жизнь. Не бойся использовать возможности, когда они появляются перед тобой, и преврати их во что-то хорошее.
Я люблю тебя больше всех и всегда любила, никогда этого не забывай, моя дорогая Дженни.
P. S. Пиши! Это твой талант. А таланты нужно использовать.
Дженни улыбается сквозь слезы. Дорис сама прекрасно писала, и теперь она это знает, прочитав столько ее воспоминаний. Дорис всегда мечтала писать. И она тоже. Она наконец признается себе в этом.
Она открывает второй документ и начинает читать. Последнее слово Дорис.
Н. Нильссон, Йёста МЕРТВ
Теперь практически все умерли. Все люди, про которых я тебе рассказала. Все, кто что-то значил для меня. Йёста умер в кровати, я сидела рядом с ним. Держала его за руку. Она была теплой, а потом становилась холоднее и холоднее. Я не отпускала его, пока не поняла, что жизнь полностью покинула его, оставив только оболочку. Он умер от старости. Он был второй большой любовью моей жизни. Платонической. Другом, на которого я могла положиться. Мужчиной, который узнал меня юной девочкой, когда я прислуживала мадам, и который продолжал видеть во мне ребенка даже тогда, когда поседели мои волосы.
Теперь я открою тебе секрет Йёсты. Я обещала ему, что ничего не расскажу, пока он жив, и я сдержала слово. Но я не хочу унести секреты с собой в могилу, поэтому передам их тебе.
В моей квартире есть потайная комната. Два на два метра, за шкафом в комнате горничной. Можешь попасть туда, отодвинув стенную панель.
Там Йёста спрятал свои картины с изображением Парижа, свое сокровище.
Они лежат там и по сей день. Картины, на которых запечатлен самый дорогой ему город. Город Йёсты.
Эти картины – твои. Если захочешь выставить их, пусть это будет в музее Парижа. Он бы этим безумно гордился.
А. Андерссон, Элиза МЕРТВА
Это самая последняя история. О твоей маме. Ее нелегкая судьба оставила отпечаток на всей твоей жизни. Ничто из написанного мной не изменит твои чувства к маме, как ничего не изменили ее попытки что-то исправить. Ничто из написанного мной не повернет время вспять и не изменит того выбора, который она сделала в своей жизни.
Но я хочу, чтобы ты знала правду. То, что я так и не осмелилась сказать вслух. Что мучило меня все эти годы. Надеюсь, я буду уже мертва, когда ты прочтешь это. А если нет, умоляю тебя ни о чем не спрашивать. Потому что я не знаю, что отвечать.
Это была моя вина. Я бросила Элизу, когда была нужна ей больше всего. И не один раз, а несколько. Первый раз, когда я вышла из дома моей сестры в Нью-Йорке и оставила плачущего ребенка с немощной старушкой. Когда уехала во Францию. К Аллану. Элиза плакала, когда я вышла из дома, но я просто закрыла за собой дверь. Была поглощена собой и надеждами на счастливое будущее. Ты всегда видела во мне отзывчивого человека, который всегда готов помочь. Но так было не всегда. Тогда я могла думать лишь о себе, о своем будущем. Мое будущее казалось мне куда важнее будущего Элизы. Каждое письмо Карла, твоего деда, в котором он умолял меня вернуться, отправлялось в мусорку. Я присылала ей подарки на день рождения, и только. Дорогого плюшевого мишку или красивое платье. Словно подарки могли заполнить для нее отсутствие матери.
Не наркотики были настоящей проблемой. А то, как началась ее жизнь. У нее не было крепкой основы, которую могла бы дать ей мать. И должна была дать я. Наркотики помогали ей сбежать от страхов. Если бы не это, она была бы для тебя хорошей мамой.
Я часто пыталась с ней поговорить. Пыталась заставить ее увидеть в этой жизни хорошее. Но она только качала головой. Однажды сказала мне, что наркотики делают ее счастливой, с ним ее проблемы исчезают.
Когда Карл позвонил и сказал, что родилась ты, я впервые вернулась в Нью-Йорк. Йёста недавно умер, и я осталась одна. Это была любовь с первого взгляда. Я сидела, зажав в своей руке твою ножку, и просто смотрела на тебя. В следующий раз я приехала, когда тебе исполнился год, потом четыре, пять, шесть, и возвращалась после этого, приезжала каждый год до твоего поступления в колледж.
Я однажды потеряла ребенка. Ребенка, которого не хотела, которого даже не считала ребенком. Но все равно ощущала пустоту после этой потери. Ты заполнила ее. Ты дала мне шанс все исправить, и я пообещала себе, что с тобой никогда не случится ничего плохого. Что помогу тебе во всем, в чем возможно в этой жизни.
Потому что это сложно, Дженни. Жить сложно.
Пообещай мне, что больше не будешь винить свою маму в том, в чем она не была виновата. Я знаю, Элиза любила тебя. Прости ее.
Эпилог
Они сидят на полу на кухне Дженни, сортируют письма по датам на марках. Вскрывают заклеенные конверты. Мари, внучатая племянница Аллана, сидит рядом с Дженни. Она позвонила сказать, что Аллан умер. Не прожил и двое суток после смерти Дорис. И что она тоже нашла письма.
На письмах из обеих стопок штамп «Адресат неизвестен». Все они вернулись к своим отправителям.
7 ноября 1944 г.
До востребования
Аллан Смит, Париж
Дорогой Аллан!
Меня очень беспокоит, как у тебя дела. Не проходит и дня, чтобы я не думала о тебе. Я ищу твое имя в новостях, рассматриваю лица солдат. Надеюсь, тебе удалось покинуть Париж целым и невредимым и ты вернулся в Нью-Йорк. Я сейчас в Швеции, в Стокгольме.
Твоя Дорис
20 мая 1945 г.
До востребования
Дорис Альм, Нью-Йорк
Дорис, я жив. Война наконец закончилась, и я думаю о тебе каждый день. Где ты? Как вы живете с сестрой, как у вас дела? Напиши мне. Я останусь здесь, в Париже. Если ты это читаешь, возвращайся.
Твой Аллан
30 августа 1945 г.
До востребования
Дорис Альм, Нью-Йорк
Дорогая Дорис!
Я очень надеюсь, что однажды ты зайдешь в почтовое отделение на вокзале и получишь мои письма. Я чувствую, что ты жива, ты всегда в моих мыслях. Я мечтаю о нашей встрече. Я все еще в Париже.
Твой Аллан
15 июня 1946 г.
До востребования
Аллан Смит, Нью-Йорк
Иногда я задаюсь вопросом, не был ли ты только плодом моего воображения. Я думаю о тебе как минимум раз в день. Пожалуйста, дорогой Аллан, дай мне знак. Всего одну строчку. Я все еще в Стокгольме. Я люблю тебя.
Твоя Дорис
1946-й, 1947-й, 1950-й, 1953-й, 1955-й, 1960-й, 1970-й… Они любили друг друга всю жизнь.
Примечания
1
Hej då (швед.) – до свидания.
(обратно)2
Vinaigre (фр.) – уксус.
(обратно)3
Ma chérie (фр.) – моя дорогая.
(обратно)4
Boot (англ.) – ботинок.
(обратно)5
Danderyds sjukhus (шв.) – больница Дандерюдс шукхус.
(обратно)






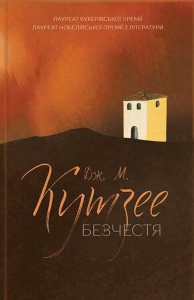


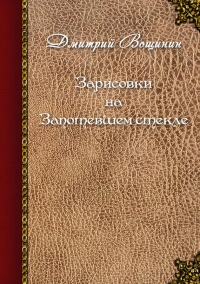


Комментарии к книге «Маленькая красная записная книжка», София Лундберг
Всего 0 комментариев