Рене Баржавель, Оленка де Веер Дни мира
Роман
Les jours du monde (Dames à la Licorne #2) (1977) René Barjavel, Olenka de Veer
Перевод с французского Игоря Найденкова
От переводчика
Первый роман дилогии Рене Баржавеля и Оленки де Веер «Девушки и единорог» — это семейная сага, история пяти девушек, дочерей Джона Грина, родившихся и выросших в Ирландии, на затерявшемся между землей и океаном островке, клочке земли, овеваемом всеми ветрами Атлантики и омываемом Гольфстримом. Они разные, и их ждет разная судьба…
Их история началась почти тысячу лет назад, когда граф Фульк Рыжий взял в жены девушку-единорога, и потомками от этого брака стали, наряду с властителями Европы и многими знаменитостями, и дочери Джона Грина.
Действие романа, в котором перемешаны исторические реалии и ирландские легенды, охватывает один из периодов борьбы ирландцев против английского господства, борьбы, в которой союзницей вождя фениев, потомка ирландских королей О’Фаррана становится Гризельда, самая мечтательная, самая отважная из пяти сестер. И О’Фарран, превратившийся в Шауна, становится прекрасным принцем, увозящим Гризельду на волшебном корабле за океан.
В продолжении романа «Девушки и единорог», романе «Дни мира», две девушки из пяти — Гризельда и Элен — и их сыновья переживают переломные моменты истории человеческой цивилизации, когда наряду с быстро развивающейся техникой (электричество, автомобили, самолеты…) чудовищно разрастаются арсеналы, которые политики собираются использовать в надвигающейся мировой войне. Героев романа захватывает вихрь событий, переносящий их из Парижа в Пекин, затем в пустыню Гоби, в Россию, в Бангкок, в небольшой курортный городок Трувиль… Дети двадцатого века, они остаются воинами и художниками, стремящимися реализовать свое предназначение несмотря ни на что…
Игорь Найденков
Предисловие
Остров существовал отдельно от мира. Узкая дамба, связывавшая остров с Ирландией, на самом деле ни с чем его не связывала. Пять дочерей сэра Джона Грина выросли среди цветов, в обители света, в компании с невидимым единорогом, белохвостым лисом, героями гэльских легенд и табличками легендарной шумерской цивилизации, в которых их отец каждый день отыскивал все новый и новый смысл. Все это было для девушек единственной реальностью. На другом конце дамбы начиналась неведомая вселенная, огромная, полная тайн. Она не привлекала их, потому что они были счастливы на своем острове.
И это продолжалось до того неизбежно наступающего момента, когда у девушек возникает необходимость стать женщинами. Они преодолели жалкий мостик, связывавший остров с миром, а одна из них уплыла в океан. Они отправились на встречу с любовью, с Богом, с приключением, уверенные, что найдут в тысячу раз больше того, что имели на острове Сент-Альбан.
Но дни мира не похожи на утро острова…
Часть первая
Ротационные машины газеты «Матэн» остановились. Свежий номер был отпечатан. На нем стояла дата: 31 января 1907 года. На первой полосе эта крупная парижская газета опубликовала в трех колонках материалы о том, что она называла «великим вызовом»:
«Найдется ли лицо или группа лиц, которые решатся проехать этим летом на автомобиле по маршруту Пекин — Париж?»
Печатники в плащах и котелках разъезжались по домам на велосипедах по ночным улицам. Шеф отдела клише с больными ушами надел шерстяной шлем. Осень была очень холодной.
Томас спал на верхнем этаже круглого дома в Пасси. Он был сыном Элен, дочери сэра Джона Грина. Томасу исполнилось шестнадцать лет.
Над Трокадеро взошло солнце. Большой белый ворон, давно кружившийся над домом, заложил крутой вираж, спикировал и уселся на отливе окна, выходившего на восточную сторону.
Затем он отряхнулся и позвал:
— Томас!.. Томас!.. Ворон плохо произносил согласные. Томас услышал: «Ко-а!.. Ко-а!..» Он чихнул и пошарил под подушкой, пытаясь нащупать носовой платок. Его уложил в постель грипп.
Ворон принялся стучать клювом по стеклу. Томас крикнул:
— Шама, дуралей, прекрати! Я сейчас подойду! Он подбежал к окну. В камине угольные брикеты превратились в груду пепла. Солнечные лучи бросали на тюлевые занавески легкие тени цветов, нарисованных инеем на стеклах. Томас приоткрыл створку окна, впустил ворона и тут же закрыл ее, после чего поспешно вернулся в теплую постель.
Шама опустился на пол перед камином, посмотрел на сгоревшие брикеты и недовольно пробурчал:
— Кррроааа! У него хорошо получались «р» и «а». Это был белый как снег ворон с хитрыми черными глазами. Он не был альбиносом, так как для альбиносов характерны красные глаза; он был настоящим белым вороном, одной из звезд среди воспитанников Леона Альтенциммера, белоснежным шедевром наследственности, ухитрившейся наряду с десятками тысяч черных воронов создать одного белого. Точно так же у обычной пятнистой пантеры среди выводка рыжих детенышей внезапно рождается один черный.
В этом доме нередко появлялись редкие птицы и невиданные животные вроде броненосцев или утконосов; обычными считались лошади, на широкой спине которых танцевали наездники или сидели меланхоличные львы, вылизывавшие, зажмурившись, лапы.
Животные появлялись и исчезали, а Шама оставался. Леон всегда отказывался продавать его, хотя время от времени соглашался одолжить птицу какому-нибудь цирковому артисту. Ворон умел вытаскивать нужную карту из колоды и наигрывать клювом на серебряных колокольчиках мелодию «Голубого Дуная». Он опускался на плечо самой красивой зрительнице и нашептывал ей на ушко гусарские комплименты, вызывавшие у нее краску на щеках. Именно Леон научил Шаму многим словам, и так удачно, что тот говорил на французском со швейцарским акцентом, добавлявшимся к его вороньему акценту.
Одним взмахом крыльев Шама перебрался на кушетку и улегся на нее, несколькими движениями тела создав в покрывале мягкое углубление, похожее на гнездо. Потом он произнес «Крррум!», что отражало абсолютное блаженство. Ему было жарко; распушившись, он слился с белым кружевным покрывалом. Его клюв, словно магнитная стрелка компаса, указывал на входную дверь; он знал, что к комнате приближается Элен, несущая поднос с соблазнительно пахнущими тарелочками: яичница-глазунья из двух яиц, овсянка, большой чайник, пар из носика которого крутился, словно смерч, когда она вошла в комнату. Кроме того, на подносе стоял флакончик с йодом, десять капель которого она добавила в чашку с горячим молоком, и комната внезапно заполнилась запахом моря. Томас ничего не почувствовал. Он безропотно выпил розоватое молоко с йодом. Элен узнала об этом целительном средстве от княгини Кольчинской, сыну которого она давала уроки английского. Княгиня утверждала, что именно этим лекарством был вылечен Лев Толстой, заболевший гриппом в ледяной России в возрасте ста лет. Шама подковылял к Томасу. На каждом шагу его лапы с растопыренными звездочкой пальцами погружались в пышную ткань. Приблизившись к подносу, он, совсем по-собачьи, сел на свой широко расправленный хвост, распахнув при этом клюв, в котором, казалось, мог поместиться чайник. Томас опустил ему в клюв кусочек хлеба. Мгновенно проглотив его, Шама снова открыл клюв.
Элен сгребла в кучку золу в камине. На решетке оказалось несколько еще тлеющих кусков угольных брикетов. Она быстро завалила их новой порцией брикетов, после чего из их кучки потянулись струйки желтого дыма. Тяга в камине была хорошей.
Стройная, в черном костюме, с волосами, спрятанными под строгой черной шляпкой, Элен собиралась отправиться на уроки. Один из них она давала в квартире на площади Соединенных Штатов, другой — в доме на улице Галилея. Ее высоко ценили родители учеников, значительно меньше — сами ученики, которым она преподавала английский, латынь и греческий. Она была очень строгой учительницей.
Огонь, распространившийся полукругом, медленно разгорался. В комнате пахло угольным дымом, яичницей, йодом и лавандовой водой. На шторах, свисавших по сторонам окна, покачивались изображения двух ангелочков: один из них играл на арфе, другой — на бубне. Свет, проходивший сквозь них, приобретал розовый оттенок, что говорило об устойчивой холодной погоде. Фонтаны на площади Конкорд украсились ледяными свечами. В Сааре взрыв метана на одном из рудников привел к смерти двухсот шахтеров. Вся парижская пресса бойко обсуждала сообщение о намерении короля Англии Эдуарда VII и королевы Александры посетить Францию инкогнито.
В конце марта Томасу должно было исполниться семнадцать лет. Он походил на Давида Микеланджело, но казался более красивым благодаря своей улыбке и более изящной юной фигуре. Его возраст давал знать о себе слегка впалыми щеками, но он должен был вскоре немного пополнеть, так как занимался спортом в гимназии Леона: кольца, перекладина, французский бокс, прыжки; он часто ездил верхом без седла, словно в цирке, галопируя в парке на круглой площадке между тремя большими, вероятно, столетними, платанами, посаженными в ознаменование рождения короля Италии. Из черт Давида у Томаса проявлялись уравновешенность и осанка, свидетельствовавшая о победоносном характере. Рыжеватые волосы и черные глаза дополняли его облик. Элен иногда пыталась понять, от какого предка он унаследовал все это. У всех членов семейства Гринов глаза были зелеными или голубыми, а глаза ее мужа…
Она вздрогнула, выпрямилась и опустила лопатку в ведро с углем. Она предпочитала не думать об этом времени своей жизни и не хотела вспоминать то, что привело к рождению сына. Почему она не могла родить ребенка без этого? Без отца, без мужчины?..
Однажды она взяла ребенка на руки, ему тогда был год и два месяца, она в то время уже ушла от мужа. Немного позже ей пришлось бежать из Англии на континент, потому что в этой стране к женщине, ушедшей от мужа, относились не лучше, чем к воровке или проститутке. В Париже никто не лез в ее жизнь, но она сама относилась к себе, как к женщине, в чем-то провинившейся, постоянно ощущая груз своей ошибки. Она выглядела старше своих тридцати шести лет, но кожа ее тонкого лица оставалась гладкой и почти не менялась с возрастом.
Настоящее имя Томаса было Джон. Парижские торговцы, к которым она заходила за покупками, когда сын был совсем маленьким и совершенно очаровательным, не переставали восхищаться: «Какая прелесть этот малыш Джон!» В соответствии с их произношением имя Джон звучало как «желтый». Ей это не нравилось настолько, что она поменяла его имя. Томас даже не помнил, что его когда-то называли иначе.
Ее муж Амбруаз без труда добился развода в свою пользу. Он не стал требовать сына. Его ничуть не волновало, что с ним будет потом. Этот брак нарушил мирное течение его жизни. После развода Элен успокоилась. Муж был гораздо старше ее, и, возможно, теперь его уже не было в живых.
* * *
Элен подошла к окну, подозвав к себе Шаму.
— Ну, давай же, Шама! Лети! Ворон запротестовал: — Кроа! Кроа! Он наклонил голову и посмотрел на Элен левым глазом. Потом встряхнулся всем телом, словно вышедший из воды пес. Это должно было означать: «Нет!»
— Шама! — раздраженно воскликнула Элен. — Оставь, я потом выпущу его, — сказал Томас. — Еще бы, выпустишь! И подхватишь воспаление легких! Я же сказала, чтобы ты не вставал! Ты же знаешь, что это опасно! Неужели ты думаешь, что я могу чувствовать себя спокойно, когда меня нет рядом с тобой? Я всегда боюсь, что ты совершишь какую-нибудь глупость! Дальше она заговорила по-английски. Думает ли он хоть немного о своей матери, о том, как ей приходится заботиться о сыне? Беспокоится ли он о своей матери? Ему нельзя вставать, он знает это и должен обещать, что не будет вставать…
Он пообещал, и она замолчала.
Потом Томас подтолкнул ворона кончиком пальца:
— Ну же, Шама, ты должен слушаться маму… Ворон посмотрел на него, глянул на пустой поднос и спрыгнул на пол. Потом пошагал к окну, ничуть не спеша. Сев на подоконник, он бросил на Элен взгляд снизу, показывая таким образом, что подчиняется только для того, чтобы доставить ей удовольствие. Она поспешно открыла створку. Одним прыжком ворон оказался за окном, превратившись на солнце в розовый планер. Несколько взмахов крыльев, и он взлетел на вершину тополя. Он соорудил там гнездо, используя его время от времени как наблюдательный пункт, реже — как жилье. Шама предпочитал ночевать на конюшне, среди лошадей, хорошо согревавших воздух дыханием, словно большие живые печки. Эта птица была очень чувствительна к холоду.
Томас слышал, как шаги Элен удаляются от его комнаты. Потом хлопнула дверь квартиры, и под ногами матери загудели черные металлические ступеньки лестницы. Мраморные ступеньки начинались только восемью метрами ниже.
Их ультрасовременное здание находилось в нижней части улицы Рэйнуар, в парке, спускавшемся к набережной Пасси. Господин Эйфель создал его металлический скелет, вокруг которого архитектор построил здание, слагавшееся из трех поставленных друг на друга пузырей или сфер, что делало его немного похожим на русские церкви или на двойное заварное пирожное. Наружную оболочку нижнего пузыря создавала мозаика небольших квадратиков с рисунками лиловых цветов ириса на бледно-зеленом или белом фоне; на поверхности второй сферы среди облаков кружились ибисы; третья сфера, самая маленькая, вся сплошь небесно-голубого цвета, была пронизана многочисленными отверстиями — она служила голубятней.
Комнаты нижней сферы соединялись изгибавшимися коридорами, проходами, переходами и подмостками; собственно, этажи в здании отсутствовали, заменяясь помещениями на разных уровнях — не было ни одной пары комнат, находящихся на одном уровне. Всегда нужно было или подниматься, или спускаться, кружиться между сходящими под углом стенами и снова подниматься, чтобы очутиться в овальной комнате, в шарообразном будуаре, большом восьмиугольном зале или ванной комнате с зеркальными стенами со всех сторон.
Банкир Эдуард Лабассьер построил это фантастическое сооружение для Ирен, девушки, которую он любил. Он разместил во втором снизу пузыре прислугу, а в третьем — голубей. Привел Ирен в дом весенним утром, подъехав к нему со стороны набережной Пасси в коляске, легкой как ветер. Ирен немного поворчала, когда они пересекали парк, так как нашла, что местность выглядит деревней. Но когда после последнего поворота она увидела дом, сверкающий на солнце, похожий на улыбающегося толстяка, вставшего на колени, чтобы приветствовать ее с протянутым букетом, она вскочила на ноги и закричала от радости, прижав руку к сердцу. Почувствовав под рукой корсет, она выругалась; конечно, корсет обеспечивал ей талию ребенка, но при этом заставлял желудок подниматься кверху, почти до груди, а живот выпячивался назад, увеличивая ягодицы. Это орудие пытки обладало единственным преимуществом: когда она раздевалась, то процедура превращалась в фантастическое наслаждение. Ее тело, освободившееся от корсета за несколько секунд, расслаблялось, все органы занимали положенное им место, кровь приливала к коже вплоть до самых тайных уголков. Охваченная свободой, девушка вздыхала от счастья, чувствуя себя цветком, раскрывающимся навстречу наслаждению.
Ирен потребовала, чтобы ей позволили войти в дом без сопровождающих. Оставшийся снаружи Эдуард Лабассьер долго слушал ее восклицания, полные восторженного удивления.
Всю среднюю часть нижней сферы занимал круглый салон. В нем, в трех каминах, пылал огонь. Белоснежная мраморная лестница начиналась в центре холла и, описав несколько витков в пространстве, скрывалась в потолке.
Тяжелые бархатные шторы персикового цвета, перетянутые в талии, словно девушки, закрывали пять окон, превращая грубый дневной свет в интимный полумрак. Повсюду были расставлены диваны, диванчики, низкие столики, синие вазы с большими букетами цветов, небрежно разбросаны ковры и подушки. Бронзовая нимфа с высокой прической грациозно поднимала кувшин, из которого стеклянные струи вытекали в яшмовый бассейн. Рядом с нимфой находилось обтянутое венецианским бархатом кресло из красного дерева, обрамленное низкой решеткой из позолоченного металла. Ирен открыла решетку кончиком своего зонтика, уселась в кресло и нажала на кнопку. Дом глубоко вздохнул; кресло, нимфа и решетка начали медленно подниматься, унося с собой Ирен. Это был лифт последней, наиболее совершенной модели.
Ирен, охваченная безумной радостью, закричала:
— Эдуард! Идите сюда! Вошедший в холл Эдуард увидел Ирен и бронзовую нимфу высоко под потолком, в котором раскрылось прямоугольное отверстие, обрамленное пышными волнами шелка. Ирен исчезла в нем, и отверстие закрыла нижняя панель огромного поршня.
Эдуард нашел девушку примерно через полчаса. Он стал подниматься по лестнице, услышав, как она позвала его, сначала взволнованно, затем удивленно и, наконец, с ужасом. Он никак не мог застать ее в том месте, откуда долетел ее зов, так как она постоянно оказывалась то выше, то ниже этого места. Наконец он обнаружил ее снаружи, висящей между небом и землей там, где белоснежная лестница переходила в металлический мостик длиной тридцать семь метров, связывавший служебный этаж с улицей Рэйнуар. Он походил на мостик из лиан над горным потоком в Гималаях. Легкий и прочный, он раскачивался на ветру, играл роль черного хода.
Ирен, авантюристка по характеру, ступила на колеблющийся под ногами мостик, оказавшись в пространстве над деревьями с еще не распустившейся листвой. Поднялся ветер, мостик закачался сильнее, у нее закружилась голова. Девушка уцепилась за перила и закричала, что сейчас упадет. Голуби кружились вокруг нее, она выронила раскрывшийся в воздухе зонтик, опустившийся, словно парашют, на вишню.
Прожив три месяца в этом доме, она заявила, что больше не может выдержать, что он находится слишком далеко, Пасси — это уже провинция, настоящая Камчатка. Ее подруги перестали посещать ее; когда она бывала в театре или в кафе, ей казалось, что она появлялась из Нарбонна. Она хотела вернуться в Трокадеро и снова жить в Париже.
Послушный Эдуард Лабассьер приобрел для нее особняк на улице Боэти, в двух шагах от Елисейских Полей. Это было весьма удачное вложение денег. Ирен нашла дом несколько устаревшим и слишком строгим, но Эдуард сообщил, что он когда-то принадлежал племяннику Наполеона. Это понравилось Ирен, и она быстро вернулась к светской жизни.
Банкир не представлял, что делать с шарообразным домом. Настали времена, не подходящие для торговли недвижимостью. Началась массовая застройка района Пасси. Стоимость участков резко возросла. Банкир решил сдать здание в аренду, но его ультрасовременный облик отпугивал умеренных покупателей, тогда как аренда оказалась слишком малодоступной для людей искусства. Ему пришлось снизить цену. В конце концов он нашел квартиросъемщика для нижнего пузыря и парка — это был швейцарский дрессировщик, несколько экстравагантный, державший деньги в банке Лабассьера. Денег у него хватало. Это был Леон Альтенциммер.
На следующий день после отъезда Ирен голуби дружно взлетели и долго кружились над голубятней. Потом они поднялись белым облаком высоко в небо и устремились на запад, к Булонскому лесу. Хотя, вполне возможно, их привлекли Атлантический океан и находившаяся еще дальше Америка. Во всяком случае, они никогда не вернулись в родную голубятню. Там их быстро заменили воробьи.
* * *
Перед тем как выйти на улицу, Элен отнесла Томасу альбом для рисования и карандаши. Услышав, как закрылась металлическая дверь на мостик, он встал и принялся искать флакон с тушью и кисточки. Он не любил карандаши. Работа с ними казалась ему слишком медленной. Карандаш плохо подчинялся глазам. Кисточка отзывалась мгновенно. С хорошим или плохим результатом, но сразу. Конечно, Элен опасалась, что он заляпает тушью простыни. Пятна от туши выводились с большим трудом, даже жавелевой водой.
Не желая расстраивать мать, он не вернулся в постель — пятно на постельном белье — более серьезный проступок, чем грипп. Он устроился перед камином, закутавшись в желтое покрывало, накинутое на спинку стула, на котором он сидел. Босые ноги опустил на горячие плитки, рядом поставил флакон с тушью, альбом примостил на коленях. Фыркая и чихая, вытирая нос рукавом, он принялся рисовать по памяти недовольного Шаму перед потухшим камином, Шаму с открытым клювом возле подноса, Шаму, смотрящего снизу вверх на Элен… У него имелось множество альбомов с рисунками животных Леона. Он замечательно рисовал их, улавливая движение животного, даже если оно казалось неподвижным, и передавал движение непрерывной жирной гибкой линией. Две или три длинные линии, потом еще одна короткая, и на рисунке появлялся Шама, летящий, сидящий, сердитый или веселый. Или это была лама с глазом, похожим на озеро Титикака, или верблюд, выглядевший, как старая дева с вставной челюстью. Или Элен вечером, сидящая возле лампы, чтобы хорошо видеть свою работу, с небольшой грудью, четко выделяющейся на белой бумаге.
Вздрогнув, он захлопнул альбом и оделся, не глядя, что натягивает на себя. Потом нахлобучил шапочку, связанную тетушкой Китти из грубой шерсти овец с острова Аран. Эта шерсть была способна не только противостоять всем бурям Атлантики, но и защищать уши от труб Страшного суда. На ее макушке гордо распушился помпон, наклонявшийся в разные стороны в соответствии с движениями головы.
Затем он спустился вниз, чтобы повидать Леона. Он не видел его уже целую неделю.
— А, это ты! — проворчал Леон. — Я тут подумал, что тебя уже нет в живых. Его голос, казалось, выходил из пещеры. Огненная борода расползалась буквой дельта на груди, а по сторонам лица поднималась до шевелюры. Этим рыжим зарослям, скрывавшим глаза и уши, не удавалось прятать ослепительное сияние его улыбки. Он был одет в бархатные штаны цвета ржавчины и зеленую футболку, грубо связанную им самим из толстой шерсти.
Томас спустился вниз по мраморной лестнице в центр прежнего салона. Леон приветствовал его с лошади, трусившей рысцой вдоль круглой стены. Это был араб цвета горного меда, изящный, словно девушка, носивший имя Тридцать первый. Его нервные ноги гулко ступали по паркету, уложенному розеткой и устланному свежей соломой.
Все, что оставалось в холле из мебели, было сгружено вокруг лестницы — два кресла, рояль, китайский столик с причудливо изогнутыми ножками, очень похожий на таксу. Лифт навсегда заклинился в попытке преодолеть потолок; в поле зрения оставался только начавший зеленеть зад бронзовой нимфы.
Леон остановил Тридцать первого возле Томаса и спрыгнул с него. Спина лошади вновь стала горизонтальной.
— Тебе нельзя садиться на лошадь, — сказал Томас. — когда-нибудь ты сломаешь ей позвоночник. — Никакого риска! У нее стальные кости… И потом, ей нравится возить меня — она любит меня… Давай пройдем сюда… Он подтолкнул Томаса к западной стороне холла, к камину, в котором горели большие поленья. Придерживая юношу огромной рукой, полностью скрывавшей его плечо, он направлял Томаса перед собой. Выше Томаса на голову с лишком и гораздо массивнее его, он полностью заслонял юношу. Впрочем, он мог заслонить кого угодно. Он, конечно, не был гигантом, так как всего на треть превосходил обычного человека.
Леон отодвинул корзины, стоявшие перед камином, в которых под шерстяными тряпками дремали змеи. В обитом медью сундучке с поднятой крышкой виднелись извивы тела удава. Его голова выглядывала из складок одеяла.
В большой корзине, выложенной соломой, спала обнаженная девочка. Она лежала на боку, повернув лицо к огню и подогнув ноги. Одна ее рука, сжатая в кулачок, пряталась под подбородком, вторая лежала на краю корзинки. Томас с удивлением посмотрел на нее. Судя по всему, ей было лет десять-одиннадцать. Бросались в глаза светло-коричневая кожа, светлые с золотистым оттенком слабо волнистые волосы, коротко обрезанные до одинаковой длины вокруг головы. Ее плечи и бедра отличались хрупкостью округлых форм. На еще плоской груди небольшими пятнышками выделялись соски, похожие на зерна пшеницы.
— Это Далла, — сообщил Леон. — Она наездница, приехала из Венгрии. Родители оставили ее мне, чтобы девочка совершенствовалась в своем номере, пока они выступают в Лондоне. Они антиподисты. Ты знаешь, что это такое? — Да, конечно… А ей не холодно лежать вот так? — Она привыкла… не любит носить одежду. Когда она выступает, родители надевают на нее какието золотые полоски, и, едва закончив выступление, она тут же срывает все с себя… Это удивительное существо!.. Присядь-ка здесь… Я сейчас вылечу твой грипп… В большой медной кастрюле с черным дном, водруженной на треногу над грудой пылающих углей, слегка колебалось озеро красного вина на грани кипения. Томас увидел, как поднимающиеся пузырьки выносят на поверхность листья, кусочки кожуры и дольки лимона, окрашенные вином в фиолетовый цвет, веточки какого-то разваренного растения, круглые и овальные зерна, кубик чего-то, может быть, даже мяса…
Леон схватил кастрюлю за ручку, обжегся, выругался, обернул ручку тряпкой, выхваченной из корзинки со змеей в черных и зеленых пятнах, поднял кастрюлю обеими руками и вылил содержимое в эмалированный тазик.
Потом добавил в тазик пять столовых ложек горчицы и литр уксуса, перемешал все поварешкой и сунул в полученную микстуру толстый, похожий на сардельку палец. Лизнув его, он добавил в варево горчицы, очевидно, для повышения эффективности, а также немного холодного вина для получения нужной температуры.
— Опусти ноги в таз… — Что? Да у меня сразу же слезет вся кожа с ног! — Ничего у тебя не слезет! Делай что я говорю, юный осел! Ты должен подчиняться мне — я знаю все, а ты не знаешь ничего… — Вообще-то, это так, — согласился Томас. Чтобы спуститься к Леону, он натянул на ноги носки из той же грубой шерсти, что и шапочка. Теперь он снял их и попытался закатать штанины, но они оказались слишком узкими.
— Помоги мне стащить их, — обратился он к Леону. Он тут же остался без штанов, отшвырнутых в сторону Леоном и упавших на клетку с Флорой, синей попугаихой. Она возмущенно заорала; издаваемые птицей звуки напоминали грохот металлической банки, катящейся вниз по металлической же лестнице. Попугаиха была занята высиживанием яйца. Она сносила по одному яйцу ежегодно. После продолжительного высиживания, когда становилось ясно, что у нее ничего не получается, она с отчаянием обращалась к Леону:
— В чем тут дело? В чем тут дело? Ничего другого она говорить не умела. — Тебе нужен муженек, моя бедная Флора, — отвечал Леон. Леон однажды даже нашел ей мужа, но тот не понравился Флоре, и она прогнала его, перед этим выдрав у него все перья из хвоста. Томас опустил левую ногу в тазик и сразу же громко заорал. Потом опустил в него вторую ногу и закричал во второй раз. Далла подпрыгнула в своей корзинке, открыла небесно-голубые глаза, посмотрела в пространство и сразу же снова закрыла их. Поерзав, она зарылась в солому, погрузившись в нее с головой. Ее волосы смешались с золотистой соломой.
Тридцать первый опустил морду к креслу фиалкового цвета и подобрал пучок сена, специально положенный туда для него.
Томас почувствовал, как десять тысяч муравьев впились в каждый квадратный сантиметр кожи его ног. От опущенных в кошмарный бульон ног вверх поднималось восхитительное тепло. Леон заставил его выпить все, что оставалось в кастрюле, перед этим добавив в нее полбутылки белого рома. Он знал, что Томас никогда не пил ничего крепче чистой воды. Томас почувствовал, как у него в груди возник второй очаг тепла, тут же начавший спускаться навстречу первому, уже добравшемуся до коленей. Соединившись, оба очага тепла устремились вверх, дохнув огнем в его нос и уши. Почувствовав опасность, Томас хотел встать, но не смог. Он понимал, что его ноги превратились в два воздушных шара, и если он вытащит их из красного моря, они поднимут его в воздух, головой вниз. В его внезапно очистившиеся ноздри вливался запах кипящего вина, трав Прованса и семян Востока. Его легкие заполнились воздухом, глаза раскрылись. Он увидел Леона, усевшегося за рояль и заигравшего какую-то цирковую мелодию. Его толстые пальцы ударяли сразу по двум соседним клавишам, они разбивали клавиши и нарушали все законы музыки. Томас слышал музыку глазами, ее цвета менялись от низких звуков до высоких, рояль стал ярко-красным с нечеткими полосками индиго. Тридцать первый стал лимонно-желтым, кресло — зеленым, а сено — ярко-красным. Далла открыла глаза, подняла голову, посмотрела на Томаса и улыбнулась ему. У нее на лице оказались две улыбки — одна голубая, а другая — цвета лютика. Она встала, и красные стебли соломы рассыпалась вокруг нее. Она хлопнула в ладоши; раздавшийся грохот имел запах рома и ванили. Тридцать первый повернулся и перекрасился в алый цвет. Потом он двинулся рысцой по устланной соломой дорожке. Далла подбежала к месту, где он должен был оказаться через несколько секунд, оттолкнулась обеими ногами от паркета, взлетела в воздух с диким криком и приземлилась на спину лошади, оставшись на ногах.
Восхищенный Томас встал, опрокинул тазик и упал. На четвереньках, оставляя за собой след гигантской маринованной улитки, он направился к стеклянной двери салона, сквозь которую в помещение вливалось пенящееся солнце. Он уцепился за ручку, поднялся на ноги и распахнул обе створки, наполняя грудь потоками света и открыв рот, чтобы напиться светом и захлебнуться в нем.
Он успел охватить взглядом множество почек каштана, протыкающих своими фиолетовыми стрелками оранжевое небо. Потом на него с головы до ног обрушился холод, швырнувший его в комнату. Юноша упал под ноги Тридцать первому, успевшему перепрыгнуть через него. Леон поднял Томаса, вскинул себе на плечо и поднялся наверх в свою комнату, где и уложил его в постель. В комнате стояли, между ящиками и чемоданами, две лишние кровати, предназначавшиеся для приезжих гостей.
Когда вернувшаяся Элен нашла комнату Томаса пустой, она бросилась, словно фурия, искать сына. Прежде всего накинулась на Леона, который, как она была уверена, не мог не оказаться участником исчезновения юноши. Тем более что соответствующих примеров было более чем достаточно! Она с радостью оставила бы этот дом со всеми его невероятными обитателями, но плата за квартиру была такой скромной, да и большой парк вокруг дома… Расставшись с островом, она долго страдала от отсутствия рядом деревьев. Здесь у нее не было времени, чтобы гулять по парку, но она ощущала дружеское присутствие деревьев, благотворное, несмотря на то, что у нее не было лишней минуты, чтобы взглянуть на них. Ночами, какими бы они ни были холодными, она оставляла окно приоткрытым, чтобы впускать в комнату их запахи и шум листвы. Когда ветер дул с запада, перескакивая с одного дерева на другое, ей чудилось, что она слышит, как голос леса на острове Сент-Альбан откликается на бесконечное бормотание океана.
Леон показал ей Томаса на медной кровати, на которой тот спал, обняв мешок с овсом. Он накрыл его роскошной белой шкурой Жан-Жана, своего белого медведя, умершего прошлой осенью. Между краем медвежьей шкуры и шапочкой из аранской шерсти, натянутой Томасу до самых глаз, можно было увидеть только его красный нос и часть щеки с выступившими каплями пота.
Элен простонала:
— Боже! Что вы с ним сделали? Что с ним? — С ним все в порядке, — с гордостью заявил Леон. — Он здоров. Томас не совсем спал и не совсем проснулся. Он пытался вспомнить точное количество почек на каштане. У него получалось плохо. Он считал: «Одна, две, три…сто…тысяча…» Но это явно был плохой метод. Когда он недавно просто глянул на дерево, сразу узнал, сколько почек на его ветвях. И ему не нужно было считать их по одной. Но он больше не умел действовать таким образом. Эта замечательная способность пропала.
— Что здесь происходит? Палец Элен остановился на бугорке, образованном медвежьей шкурой рядом с телом Томаса.
— Ничего особенного, — ответил Леон.
Элен приподняла шкуру и обнаружила совершенно голую Даллу, спавшую, прижавшись к Томасу.
Задохнувшись от неожиданности, Элен несколько секунд соображала, какого пола существо, спавшее рядом с ее сыном. Потом воскликнула:
— Это же девочка! — Да нет же, — сказал Леон. — Ничего особенного, это же Далла… Она всегда забирается для сна в самое теплое место… Совсем как кошка… Если она не носится, она спит… Его большая ладонь осторожно похлопала маленький зад коричневого цвета. Далла открыла голубые глаза, села и улыбнулась.
— Иди к лошадям, — сказал Леон. Потом он повторил эту фразу на цыганском языке. Далла спрыгнула с постели и выскочила из комнаты.
— Томас! — крикнула Элен. — Томас! Немедленно поднимись к себе! Томас немного сморщил нос и пошевелил губами, но не открыл глаза.
— Он спит и не слышит вас, — сказал Леон. — Оставьте его. Ему нужно еще немного пропотеть. После этого я подниму его наверх. Лекарство, которое я ему приготовил, очищает кровь по меньшей мере на полгода…
* * *
На площади Сен-Мишель была выкопана огромная яма. В ней мог скрыться до половины высоты собор Нотр-Дам, а если на него немного надавить, то он поместился бы и целиком.
Под слоем наносов выработка на глубине в 20 метров вошла в белую плоть основания Парижа, в чистый известняк, состоящий из множества скелетов микроскопических существ, когда-то населявших простиравшееся на этом месте древнее море. Тысяча этих малюток не смогли бы заполнить и глаз блохи.
Гигантский металлический параллелепипед с каждым днем все ниже и ниже уходил в дыру. В нем помещалась станция метро, получившая позднее название «Сен-Мишель». От него отходил туннель, который должен был пройти под Сеной.
Точно такой же туннель собирались пробить и под горой Монблан, чтобы уложить в нем рельсы железной дороги. Говорили даже, что еще один туннель должен был пройти под Ламаншем, чтобы связать французский Кале с английским Дувром. Никто не верил возможности реализовать этот проект, хотя англичане и говорили «да». Было хорошо известно, что на деле это означало «нет».
* * *
Когда Элен перебралась из Англии в Париж, она сняла комнату в отеле неподалеку от вокзала Сен-Лазар. Опасаясь континентальных жуликов, она хотела немедленно положить в банк имевшиеся у нее небольшие деньги. Вместе с сыном она приехала в фиакре к заведению под названием «Бритиш Банк», адрес которого ей дал консьерж отеля. Это было небольшое отделение лондонского банка, но клиенты у него имелись весьма солидные. Элен, еще не оформившая к этому времени развод, узнала, что она не может стать клиентом банка без согласия мужа.
Директором отделения был тогда мистер Уиндон, англичанин с достаточно широкими взглядами; он случайно оказался компаньоном принца Уэльского, будущего Эдуарда VII, во время его парижских похождений. Он считал себя обязанным помогать соотечественникам, рискнувшим перебраться во Францию. Потому лично принял Элен, просмотрел ее документы и удивленно воскликнул, узнав, что она была дочерью сэра Джона Грина. Уиндон прекрасно знал его! Ему приходилось иметь с ним дело, когда тот держал деньги в лондонском «Бритиш Банке»!
Он поинтересовался новостями о ее родителях и сестрах. Элен довольно сухо ответила, что у нее исключительно прекрасные новости. Мистер Уиндон не стал уточнять, хотя у него имелись для этого основания.
Он сразу же нашел выход из сложившейся ситуации, ловко обойдя существующие правила. Разрешил Элен получить абонемент на отделение в банковском сейфе и вручил ей ключ со всеми полномочиями.
Успокоившись, Элен попросила у него совет, так как хотела снять приличное жилье как можно дешевле и ее интересовала возможность устроиться на работу. Она неплохо знала французский и очень хорошо — латинский и греческий языки, а также археологию Шумера.
— Да, да… Конечно, Шумер… Это очень интересно, — пробормотал мистер Уиндон. Сидя за своим столом из красного дерева, доставленным из Лондона, он внимательно смотрел на Элен, поглаживая гладко выбритый подбородок и аккуратно подстриженные по последней французской моде усы. Для него было очевидно, что ему стоит поддерживать отношения с дочерью сэра Джона Грина. Он покрутил ручку телефона и связался со своим приятелем, господином Лабассьером.
Элен, напряженная словно струна, сидела на краешке стула. Томас, который пока еще был Джоном, устал, хотел есть и спать. Стоя рядом с матерью и опустив голову ей на колени, он слегка хныкал, посасывая свой палец. На нем был костюмчик из белой стеганой ткани. Ему на этот момент исполнилось полтора года. Мать время от времени заставляла его выпрямиться, говоря «Keep straight», и вынимала палец у него изо рта. Он немедленно снова совал его в рот.
Мистер Уиндон быстро дозвонился до господина Лабассьера. Телефонная связь между банками была хорошей. Мистер Уиндон сказал господину Лабассьеру, что вспомнил о его забавном доме, кажется, где-то в районе Пасси, с которым тот не знал что делать. Может быть, его можно было сдать?
Держа трубку в левой руке, он правой пометил в записной книжке: «Ир. шок.», что означало: послать шоколад Ирен, чтобы отблагодарить Лабассьера.
Таким образом, Элен обосновалась сначала в двух, а затем в трех комнатах для прислуги, которые она успешно превратила в приличную квартиру. Заодно именно господа Уиндон и Лабассьер нашли для нее первых учеников.
Мистер Уиндон продолжал поддерживать с Элен весьма сердечные отношения. И не только дружеские.
* * *
Томас спал, обливаясь потом, еще пять часов. Элен спускалась к нему несколько раз, все сильнее и сильнее беспокоясь за него. В четвертый раз она осталась с ним. Сидела на мешке с овсом, лежавшем возле постели, не сводя с Томаса глаз. Проснувшись и увидев ее, он пробормотал: «Мама…» Она зарыдала, словно ему удалось избежать смерти.
Несмотря на протесты Элен, Леон раздел Томаса догола и обтер его, словно лошадь, жгутом из соломы. Томас смеялся и орал, как будто Леон сдирал с него шкуру. Элен тоже кричала что-то по-английски. Леон смеялся и продолжал обрабатывать Томаса пучком соломы. Потом он завернул юношу в медвежью шкуру и на руках перенес наверх.
Томас действительно выздоровел, но лечение вымотало его. Мать завершила лечение, заставив его выпить настойку из трав, присланных из Ирландии ее сестрой Элис, ставшей монашенкой монастыря Mary-ofthe- Holy-Spirit. Травы приносили в монастырь крестьяне из Коннемары, собиравшие их при необходимом положении Луны на западных склонах холмов, где они росли, овеваемые морскими ветрами. Они, к сожалению, давно утратили первоначальную свежесть, сохранив от множества ароматов только передавшийся настойке рыбный запах.
Оставшееся время Томас провел в дремоте, переваривая спиртное, пряности и травы. Ночью он проснулся, кинулся на кухню и уничтожил там все, что нашел из съестного.
Утром, с первыми лучами солнца, Элен услышала, как он напевает что-то, и у нее сразу полегчало на сердце. Она занялась завтраком. Наступила пятница, первый день февраля. «Матэн» опубликовал письмо маркиза де Диона, известного конструктора автомобилей.
«Я прочитал в „Матэн“ о грандиозном проекте маршрута Пекин— Париж. Дороги, по которым должны пройти машины, отвратительны и нередко существуют только на картах… Но я считаю, что если автомобиль может, в принципе, проехать, машина фирмы „Де Дион-Бутон“ пройдет обязательно!
Это проект в стиле Жюля Верна или Майн-Рида, но мы осуществим его…»
Дверь, выходящая на мостик, хлопнула. Элен ушла на утренние занятия. Томас слышал, как под ее легкими ногами загремели металлические ступеньки. Дверь комнаты отворилась, и на пороге возникла совершенно обнаженная Далла. Закрыв дверь за собой, она улыбнулась Томасу. Улыбка ее на этот раз показалась ему несколько натянутой. Она подбежала к постели, поднялась на кончиках пальцев и поцеловала Томаса в губы, словно клюнула его, как птичка. В следующее мгновение она скользнула под одеяло и заснула, прижавшись к нему. У него не губах остались ее запахи: запах кофе, который она только что выпила, запах тартинки с медом, съеденной ею, запах ее волос, неотличимый от запаха свежего сена. Она лежала на боку, плотно прижавшись к нему. Одной рукой она обхватила его за грудь, вторая осталась согнутой у нее под подбородком. Он ощущал тепло и нежность ее кожи, несмотря на одетую на нем рубашку. Он не осмеливался пошевелиться. Тонкая рука, лежавшая на нем, потрясла его. Ему казалось, что к нему внезапно прилетела синичка или жаворонок, чтобы доверчиво заснуть в его руках.
Томас вспомнил то, что видел вчера. Он увидел Даллу, спящую в своей корзинке. Потом увидел, как она вскакивает и бежит; потом ее голубая фигурка взлетела на алую лошадь. Последовала серия цветных образов, и он понял, что произошло чудо: он увидел мир в красках, в подлинных красках и в истинном свете, скрывающихся под покровом повседневности, которые могут увидеть только глаза, умеющие смотреть.
— Ко-а! Ко-а! — каркнул Шама. Он уселся за окном и принялся стучать клювом по стеклу. Далла проснулась, села и засмеялась. Потом подбежала к окну и распахнула его. Шама влетел в комнату, направляясь к камину, но тут же заметил Даллу, повернул к ней и опустился ей на голову. Потом он поинтересовался: — Ку-а?.. Ку-а?.. Это означало: что ты здесь делаешь? Она ответила ему по-венгерски. Ворон понял ее. Она вернулась в постель, легла и тут же заснула. Шама продавил своим животом впадину в пуховике, сделав таким образом гнездо. Клюнув, он подобрал крошку, запутавшуюся в кружевах. Это было все, что осталось от завтрака.
Томас улыбнулся, и кончик его носа немного отклонился влево. Когда ему было четырнадцать лет, он боксировал с Леоном и заработал сломанный нос ударом французского бокса, на который неосмотрительно нарвался. Леон вскрикнул, как будто удар достался ему. Он принялся лечить Томаса натертым луком. Томас заорал, отшвырнул лепешку из тертого лука и взлетел по лестнице к себе. Когда Элен увидела сына, пропахшего луком, с распухшим кровоточащим носом и подбитым глазом, она едва не упала в обморок. Потом схватила первое подвернувшееся под руку оружие, которым оказался молоток, скатилась вниз по лестнице и кинулась на Леона, намереваясь убить его. Леон грустно сказал:
— Вы совершенно правы, убейте меня! Она ударила его молотком в грудь, но это было все равно, как если бы она ударила стенку. Она в слезах поднялась наверх. Томас! Ее Томас! Ее любимое дитя, такое прекрасное! Его искалечило это чудовище!
Леон последовал за ней. Он заменил лук настойкой из цветов календулы, настоянными в сливовой водке, и все уладилось. Сломанный нос был почти не заметен, он всего лишь слегка утратил прямолинейность, которая могла показаться безвкусной. С тех пор, когда Томас улыбался, нос тоже немного улыбался вместе с глазами, а когда он приходил в бешенство, что случалось редко, но выглядело ужасно, его лицо становилось похожим на физиономию свирепого варвара, готового убивать.
* * *
К концу недели редакция «Матэн» получила более двух десятков заявок на участие в пробеге Пекин — Париж. Маркиз де Дион предложил две своих автомашины, конструктор Конталь — три легких трехколесных машины марки «Мототри».
«Матэн» сравнивала трудности предприятия с завоеванием полюса. Действительно, значительная часть пробега была путешествием в неизвестное. Его организаторы встретились с конструкторами-конкурентами, прибывшими в Париж, чтобы обсудить регламент пробега. Чем больше они спорили, тем больше понимали, что не только разработка правил, но и сам пробег был неосуществим. Невозможно было определить маршрут, потому что никто не знал, имеются ли — пусть не дороги, а хотя бы тропы на значительной части территории Китая и России. Наверняка никаких дорог не было через пустыню Гоби и через Уральские горы.
В конце концов, был опубликован крайне упрощенный регламент — нечто уникальное в истории автомобилизма. Фактически, не было разработано никаких правил, никаких требований. Конкурентам всего лишь нужно было выехать на автомобилях из Пекина и приехать в Париж.
Организаторы пробега потребовали от участников взнос в две тысячи франков. Эта значительная сумма была установлена исключительно с целью отсечь всех, кто записался для участия в мероприятии только для того, чтобы о них заговорили, тогда как они на деле не собирались участвовать в пробеге. Эта мера оказалась весьма действенной. Количество участников уменьшилось до пяти. Шестой участник появился за три недели до отправки автомобилей в Китай. Он прибыл из Индии и собирался проехать по маршруту под флагом махараджи Марабанипура. Это был американец по имени Клайд Шеридан. Его сопровождали жена и двенадцатилетний сын. В команде принимали участие также механик и его жена.
Махараджа открыл щедрое финансирование Шеридана в «Бритиш Банке» Лондона, который перевел деньги махараджи в свое парижское отделение. Команда устроилась в отеле неподалеку от Оперы. Выяснилось, что жена Шеридана — настоящая красавица. «Матэн» и «Иллюстрасьон» опубликовали ее фотографии — сидящей рядом с мужем в одеянии индуса за рулем «Камберленда», на котором Шеридан собирался принять участие в пробеге и который он получил из Лондона, — последняя модель этой марки, усовершенствованная и самая мощная, получившая название «Золотой призрак». Золотой потому, что таким был цвет кузова и медных деталей, а призраком он был из-за того, что автомобиль, по словам конструкторов, мчался с такой скоростью, что не успевал появиться, как уже исчезал вдали.
Элен не читала французские газеты, а поэтому не видела фотографий Шеридана и его жены. Но второго апреля в три часа, когда она зашла в банк, чтобы положить на свой счет небольшую сумму, получившуюся в результате экономии, она оказалась лицом к лицу со знаменитой парой.
Американец был в европейском костюме, но с тюрбаном снежной белизны, украшенном спереди огромным рубином, явно фальшивым. Он был с небольшой квадратной бородкой благородного оттенка, почти седой. Его жена успела перенять, отважно, но с достаточным вкусом, последнюю парижскую моду. На платье зеленого и палевого цвета с широкими вертикальными полосами было надето широкое верхнее платье из меха опоссума; ее руки скрывались в муфте из меха этого же животного. На голове у нее была необыкновенная шляпка — настоящий шторм зеленого бархата, на волнах которого взмахивали раскинутыми крыльями две чайки.
Госпожа Шеридан ошеломленно уставилась на Элен. Она не верила своим глазам. Элен смотрела на нее с болезненной смесью радости и растерянности, так как в ней вспыхнула память о счастливых днях юности, захлестнувшая сердце. Она задрожала, негромко вскрикнула, стиснула руки в черных перчатках и произнесла: «Гризельда!..»
Она с первого взгляда узнала сестру. Гризельда! Самая красивая из сестер! Самая свободная! Покинувшая остров, чтобы исчезнуть в океанских туманах, о которой потом никто никогда ничего не слышал…
А в ее муже, считающемся американцем, она сразу же узнала, несмотря на бородку и тюрбан, Шауна Аррана, шофера тетушки Августы, раненого героя-мятежника, открывшего объятья для Гризельды и увлекшего ее далеко от родных, от острова и от Ирландии.
* * *
Мистер Уиндон, директор отделения «Бритиш Банка» в Париже, был прежде всего англичанином. И в дополнение к деятельности банкира, он добровольно выполнял функции осведомителя Foreign Office, сообщая ему все, что узнавал о происходящем во французской столице, так или иначе способном затронуть интересы британской империи. Он был весьма ценным осведомителем и при этом любил Париж; в связи с этим его много лет оставляли на работе в банке, и он ничего не имел против, хотя и мог претендовать на более блестящую карьеру, если бы перебрался в Лондон.
Одним из лиц, на которые начальство обратило его внимание, поскольку это лицо могло оказаться в Париже, был человек по имени Рок О’Фарран, известный также как Шаун Арран. Он бежал из Ирландии вместе с одной из пяти дочерей сэра Джона Грина и постоянно отправлял из-за границы инструкции и деньги мятежникам. За несколько лет он превратился в опасного врага Короны, но до сих пор ни одному из агентов Форин Оффис не удалось выяснить его нынешнее имя и установить место проживания.
Господин Уиндон, хотя и без особой надежды, допускал возможность того, что Элен, которой он оказал услугу, когда-либо сможет, пусть даже и не догадываясь об этом, дать ему какую-либо информацию. Он не упускал ни одной возможности побеседовать с ней и всегда интересовался новостями о ее семье. Сотрудники должны были всегда предупреждать его, когда Элен появлялась в банке.
Уиндон знал, что сбежавшую дочь почтенного лендлорда звали Гризельдой. В тот момент, когда он открывал дверь своего кабинета, услышал, как Элен произнесла это имя. Он осторожно прикрыл дверь, оставив достаточно большую щель, чтобы увидеть, как господин Шеридан прижал палец к губам и как Элен с удивлением посмотрела на него.
Когда три интересовавших его человека выходили, господин Уиндон заметил, что «американец» слегка прихрамывает. В досье на Рока О’Фаррана отмечалось, что вождь мятежников мог получить рану во время схватки с констеблями.
Этим же вечером он отправил сообщение своему начальству в Лондоне. Через пару недель банкир получил письмо с рядом вопросов. От него требовали информацию о Шеридане-Арране-О’Фарране, которой он не обладал. К тому же, Шеридан на днях сел в Марселе на корабль, отправлявшийся в Китай, вместе с другими участниками пробега и их автомобилями. Чтобы продолжать слежку за ним, достаточно было читать газеты.
В очередном сообщении, отправленном в Лондон, господин Уиндон уточнил, что госпожа Шеридан, оставшаяся в Париже, продолжала жить в том же отеле, что и раньше. В беседе с Уиндоном она сказала, что будет дожидаться возвращения мужа, разумеется, возвращения с победой.
В этом же донесении господин Уиндон сообщал, что во время своего пребывания в Париже Шеридан не только не брал деньги из банка, но и вносил на свой счет значительные суммы. Банкир позволил себе высказать предположение, что Шеридан, вернувшийся из Индии, мог привезти с собой большое количество драгоценных камней, которые постепенно продавал в Париже. Махараджа Марабанипура был известен своими огромными сокровищами, основной объем которых был представлен жемчугом и драгоценными камнями. Вряд ли ирландцу удалось украсть часть этих сокровищ. Скорее следовало предполагать, что два этих человека заключили союз для борьбы против господства Англии. Достаточно было вспомнить, что район Марабанипура на протяжении ряда лет был центром выступлений против англичан. На самого махараджу до сих пор не пало никаких подозрений, но не исключено, что это было связано всего лишь с плохой работой осведомителей… Мистер Уиндон осмелился высказать подобные предположения, хотя отнюдь не считался специалистом по Индии. Он добавил, что накануне своего отъезда Шеридан снял все имевшиеся на его счету деньги. Что он собирался делать с ними в Пекине?
Сразу скажем, что господин Уиндон ошибался, рассуждая о том, как Шеридан хотел использовать фунты стерлингов, которые получил в его банке. Он взял с собой в Пекин всего лишь деньги, необходимые для расходов во время пробега. Основная сумма осталась у Гризельды, хорошо представлявшей, что делать с этими деньгами.
* * *
Далла приходила к Томасу каждое утро. Она всегда спала рядом с ним, полностью расслабившись, вытянувшись вдоль его левого бока и положив руку на грудь юноши. Ее рука казалась Томасу почти невесомой, словно это была тонкая веточка. При этом она так плотно прижималась к нему, что почти лежала на нем. Перед тем как скользнуть к нему под одеяло, она целовала его в губы, и поцелуй этот всегда был легким, словно взмах крыльев пчелы, с ароматом кофе и меда. Иногда Далла целовала его уходя. Она всегда мгновенно просыпалась, как и засыпала, и на ее губах постоянно играла улыбка. Проснувшись, она или сразу же убегала, или садилась возле Томаса и рассказывала ему, сопровождая свой рассказ выразительными жестами, какую-нибудь историю на венгерском языке. Иногда эти истории были серьезными, иногда забавными, и она смеялась.
Однажды утром Далла сказала Томасу что-то показавшееся ему очень важным, но он понял ее слова не лучше, чем все остальное. Она несколько раз повторила свою фразу с раздраженным видом, так как считала, что он обязательно должен понимать ее. Ведь это было так просто! Наконец она отказалась от дальнейших объяснений, покачав головой, что должно было означать: «Какой же ты глупый!» Потом рассмеялась, поцеловала его и убежала. Шаги ее маленьких ног прозвучали на металлической лестнице так, словно по ней торопливо пробежала небольшая собака.
На следующее утро она не пришла. Томас сначала удивился, напрасно прождав ее, потом почувствовал себя несчастным. Его рука то и дело наталкивалась на пустоту там, где должна была находиться Далла. И эта пустота оказывалась для него невыносимо тяжелым грузом.
Прождав целый час, он натянул брюки и накинул на себя плащ, после чего с грохотом скатился вниз по лестнице. В салоне никого не было.
— В чем тут дело? В чем тут дело? — заинтересовалась заволновавшаяся синяя попугаиха Флора. Он крикнул:
— Где Далла? Стоявшая перед камином большая корзина опустела. Сверху в нее опустилось синее перышко, и его тут же подхватил поток воздуха, уносившегося в камин. Томас выскочил на улицу. Под каштаном Леон в очередной раз старался научить боксировать Талко, бурого медведя. Он уже несколько месяцев пытался сделать номер с кулачным боем между человеком и медведем. Но Талко отказывался надевать перчатки. Он сразу же отшвыривал их в сторону и отрицательно мотал головой. Леон с бесконечным терпением начинал снова и снова, соблазняя медведя кусочками сахара.
— Где Далла? — крикнул Томас. — Она заболела? — Она никогда не болеет, — пожал плечами Леон. — Тебе ее не хватает? — Да, конечно! Над остроконечными почками каштана простиралось синее небо с белыми облаками. Сильно пахло дымом от горящих дров.
— Она там, — сказал Леон. Обернувшись, он протянул руку к небольшой конюшне. Томас подбежал к ней и открыл створку в верхней части двери. В лицо ему ударила волна теплого воздуха с сильным запахом стойла. Он сразу же увидел ту, которую искал. У Вероники, кобылы в яблоках, вчера родился жеребенок. Обнаженная Далла спала у нее под ногами, рядом с жеребенком серебристого цвета.
* * *
1 марта в Пекине Вай Ву Пу, главный советник империи, провел заседание Совета с целью изучить проект пробега Пекин — Париж. В китайской столице знали, что такое автомобиль. Во многих иностранных посольствах имелась хотя бы одна автомашина. Простые китайцы давно перестали пугаться машин и со смехом провожали проезжающие мимо машины с их вонючим дымом и грохотом двигателя, похожие на дракона на поводке. Но грамотная часть населения не была уверена, что эти железные звери не являлись замаскированными демонами, которые, постепенно размножаясь, могут причинить людям огромный вред. На Совете раздавались голоса, отражавшие опасение, что автопробег был всего лишь способом открыть новый путь для вторжения европейцев в империю, уже наметившийся с разных направлений благодаря агрессивности Запада. Но небольшое количество отобранных для участия в пробеге автомобилей успокоило большинство советников. Кроме того, все они были уверены, что ни одна машина не сможет пройти даже половину маршрута. Через несколько дней император Тзе-хи, основываясь на выводах Совета, дал разрешение на проведение автопробега.
В Париже зима постепенно отступала. В парке, окружавшем круглое здание, на деревьях начали распускаться почки. Повсюду на кустах появились желтые и красные цветы, названия которых Томас не знал. Листья на каштане увеличивались с удивительной быстротой, тогда как на платанах еще не осмеливались проклюнуться почки. Когда Томас поднимал голову, чтобы проследить за поведением листвы, он видел светящееся небо сквозь миллионы миниатюрных крылышек.
Далла больше не приходила к нему по утрам, чтобы спать рядом с ним. Леон заставлял ее работать с первыми лучами зари, снаружи, когда стояла хорошая погода, и в салоне, если шел дождь. После того как уходила на занятия Элен, наметившая Томасу программу занятий на весь день, он спускался вниз с книгой под мышкой. Томас забросил свои альбомы для рисования. Ему больше не хотелось копировать то, что он видел. Но его попрежнему ослепляли красота деревьев и животных, а также Далла, превосходившая все остальное своей красотой.
Чтобы приучить девочку к рабочей одежде, Леон надевал на нее закрепленную на талии резинкой короткую юбочку из нескольких полос цветной ткани. Выглядела она забавно и достаточно нелепо. Далла запрыгивала на спину Веронике, совершала опасный обратный переворот, вставала на ноги у лошади на спине, потом хваталась за сбрую и делала стойку на руках, прямая, словно восклицательный знак. Юбочка падала вниз, открывая ей попку. Вероника трусила рысцой, перемещаясь из тени на солнце и с солнца в тень. Далла спрыгивала с лошади, приземляясь то на руки, то на ноги, на газон, по которому описывала круги Вероника, и в конце концов срывала с себя жалкие тряпицы, чтобы открыть четкую грациозность тела, гладкого, словно галька, извлеченная из бурного потока. Она видела перед собой только Веронику, продолжавшую равномерно описывать круги, вокруг которой она кружилась, словно огонек Луны вокруг серебряной массы Земли. А вокруг этой пары кружились деревья вместе с распевающими весенние песни птицами и вся вселенная. Леон, бородатое божество, бурчал по-венгерски: «Быстрее… Так, хорошо… Сейчас выше… Теперь повтори…» И она повторяла все с самого начала. Ее подгоняли дружеские щелчки бича. Томас улавливал на вершине очередного кульбита вспышку синих глаз. Наконец Вероника останавливалась, мотала головой и подходила за положенным ей кусочком сахара. Далла спрыгивала на землю, кидалась поцеловать Томаса, потом кидалась поцеловать Леона, с трудом разбираясь в зарослях его бороды, целовала Веронику, после чего исчезала в цветущих кустах, среди которых несколько мгновений развевались ее золотые волосы. Через некоторое время Томас обнаруживал ее спящей, свернувшейся клубком в кольце солнечных лучей.
Однажды вечером в небольшом павильоне, в котором жили сторожа со своими семьями, отмечалось какое-то событие с песнями на венгерском языке и цыганскими плясками. Оказалось, что из Лондона вернулись родители Даллы. Томас только на следующий день узнал, что она уехала со своими родителями и братьями.
Леон прекрасно понимал глубину переживаний Томаса. Он как мог не позволял ему погрузиться в тоску. Гонял его на гимнастических снарядах, занимал боксом и бегом. Надев перчатки, Томас бросался на него и наносил бесчисленные удары своей неизлечимой печали. В тот момент, когда она, казалось, становилась сильнее его, Леон мощным ударом своей огромной лапы отправлял его в нокаут. Гнев поднимал юношу на ноги и спасал его от тоски.
Томас не мог забыть то, что нельзя забыть. Но Леон нашел утешившие его слова:
— Тебе невероятно повезло, что ты смог увидеть ангела. И удача не изменила тебе, когда он исчез. Скоро этот ребенок, этот ангел станет девушкой. А девушка — это уже не ангел…
* * *
Отряд гусаров в небесно-голубых доломанах и красных панталонах выезжал с площади Военной школы на авеню Мотте-Пике. Блестящие, словно оводы, они ехали на рыжих лошадях, направляясь в сторону Дома инвалидов. Копыта лошадей с новыми подковами звенели на сухих булыжниках мостовой. Огромная телега, груженная бочками с вином и запряженная четырьмя тяжеловозами, белыми, словно для новобрачных, создававшая адский грохот своими обитыми железом колесами, появилась с авеню Боске. Возчик в коричневой куртке шагал, слегка раскачиваясь, как моряк, рядом с первой парой, положив кнут на плечо, и что-то говорил лошадям.
Элен в черном костюме на черном велосипеде проскользнула между телегой, фиакром и развозившим почту трехколесным мотороллером и пристроилась за отрядом гусаров. Вечернее солнце бросало яркие блики на крупы лошадей, заставляло сверкать рукоятки сабель и медные пуговицы мундиров. Стайка воробьев опустилась на кучку свежего, еще дымящегося навоза и принялась копаться в нем.
Сестры, встретившиеся в банке, договорились о встрече послезавтра в Дворце инвалидов. Гризельда попросила Элен не приходить к ним в отель. С блестящими от волнения глазами она сильно стиснула руку сестры, но не стала ее обнимать. Они с Шауном тут же ушли из банка.
Элен, не имевшая представления о тайнах, окружавших сестру с мужем, на всякий случай не стала рассказывать Томасу о неожиданной встрече. Она хотела сперва побольше разузнать от сестры.
С прической, представлявшей целую клумбу лилий, над которой порхала белая цапля, в шубке из меха выдры, Гризельда, прислонившись к балюстраде, рассматривала установленный внутри склепа громадный саркофаг из розового порфира, в котором, лицом к алтарю, покоился император в мундире офицера конных стрелков, ожидая, когда настанет день и Господь возьмет императора за превратившуюся в пепел руку, чтобы опустить его на весы.
Гризельда, дочь внучатой племянницы герцога Веллингтона, победителя в битве при Ватерлоо, часто слышала, что о Наполеоне говорили как о враге рода человеческого, к счастью, побежденном семейным героем. Но Шаун научил ее воспринимать Наполеона иначе. Она попыталась представить жалкие останки, несколько костей внутри мундира, все, что осталось от военного гения и его мечты, погубленной упорством англичан. Она неожиданно почувствовала близость к невысокому погибшему титану, потому что вела такую же борьбу с тем же противником, не имея никакой надежды на победу. Но она была уверена, что настанет день, когда Ирландия станет свободной.
Несмотря на свое рождение в английской семье, Гризельда ощущала себя такой же уроженкой Ирландии, как Шаун, возможно, даже больше, чем он, потому что она должна была отвечать за поступки своих соплеменников, а Ирландией для нее был остров Сент-Альбан; ее Ирландию можно было обнять и прижать к сердцу.
Воспоминания об острове заставили ее прослезиться. Она приподняла край своей вуалетки и осторожно промокнула глаза, после чего спрятала платок в муфту.
Появилась Элен, вся в черном, и Гризельде, смотревшей, как она приближалась, показалось, что фигура ее сестры с времен их юности заметно уменьшилась. Она стала ниже, тоньше и теперь занимала гораздо меньше места в пространстве; казалось, ее тело непонятным образом сжималось. Гризельда даже испугалась, что если этот процесс не остановится, то сестра когда-нибудь просто исчезнет.
Элен остановилась перед ней, какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Потом обнялись. Гризельда заполняла пространство вокруг себя ароматом редких духов и запахом дорогих мехов; она показалась Элен нежной и теплой, тогда как Гризельда восприняла сестру напряженной и холодной; она пахла ношеной одеждой и лавандовой водой для мужчин.
— Ты попрежнему удивительно красива! — сказала Элен. — О, я никогда не была красавицей, — отозвалась Гризельда. Но, разумеется, думала она иначе… Они засыпали друг друга вопросами и рассказами. Гризельда ничего не знала об Элен, о других сестрах и о родителях. Элен ничего не знала о Гризельде. Разговаривая, они медленно ходили по кругу, в центре которого лежал Император. Высокие белые колонны вокруг них устремлялись к куполу. Редкие солнечные лучи, пробивавшиеся сверху, играли на золотых деталях алтаря. Из расположенной рядом капеллы донеслись звуки органа. Затем послышались женские голоса. Звучал хорал.
Элен сказала:
— Первым скончался отец. Это было в сентябре… Ах, какого года? Я уже не помню… Моя память… Я постоянно чувствую себя такой уставшей… Мне написала об отце Китти… Подожди, у меня с собой ее письмо. Перед тем как взять странички толстой серой бумаги, Гризельда сняла перчатки и сунула их в муфту. В часовне к женским голосам добавились голоса детей, чистые, словно небесная синева. Гризельда прочитала:
«…позавтракал, как всегда, с аппетитом, но потом не перешел, как обычно, в свой кабинет, а уселся в салоне в кресло, и Огонек, рыжий кот, которого мы захватили с собой, уезжая с Сент-Альбана, устроился у него на коленях. Когда я говорю Огонек, имея в виду его окраску, то забываю, что он давно уже не рыжий, так как стал почти белым от старости…»
— Огонек? — переспросила Гризельда. — Это ведь был кот Эми? — Да, конечно, — ответила Элен. — Но это невозможно! Еще до моего ухода он уже был стар как мир! — Для животных Эми возраста не существует, ты же хорошо знаешь это… — А Эми? Что с ней? — Она ушла… Они все ушли… Гризельда облокотилась на балюстраду и стала читать дальше. Солнечный свет, отраженный от алтаря, падал на письмо, и она хорошо видела текст, написанный Китти.
«…он ничего не говорил, а просто смотрел на окно напротив. Казалось, он прислушивается к чему-то. Я забеспокоилась и спросила, не болит ли что-нибудь у него. Он произнес в ответ фразу, которую я не поняла, и продолжал смотреть на окно.
Тогда Огонек зашипел и спрыгнул с его коленей на пол, взъерошенный, напряженный, похожий на маленького тигра. Он зарычал на окно, словно увидел за ним огромного пса, пытавшегося проникнуть в комнату. Отец встал, подошел к окну и произнес только одно слово: „Буря!..“
За окном ничего не было видно, кроме тумана. Ни малейшего движения воздуха, все застыло, словно оцепенев. Но отец, как мне показалось, что-то слышал. Тогда и я услышала, клянусь тебе, услышала все более и более отчетливо грохот океанских волн, разбивающихся о скалы, словно мы находились на острове, на берегу. И я почувствовала, как дом дрожит под ударами волн, и услышала рев воды, вырывающейся из подводных пещер, и рычание ветра, глухое, словно доносящееся из-под воды. Дом покачнулся, и я ухватилась за спинку стула. Отец раскинул руки, словно поскользнулся и пытался удержаться на ногах. Потом он покачнулся и медленно осел, как будто его что-то схватило за ноги и повлекло куда-то вниз, в глубину…»
Орган гремел на всех регистрах заглушая голоса хора и сотрясая стены. Гризельда и Элен, стоявшие прижавшись друг к другу, увидели, как буря снесла стены, и волны затопили склеп, Император в своем красном корабле вырвался на океанский простор.
Орган и поющие голоса внезапно смолкли. К Гризельде, переставшей дышать и не заметившей этого, вернулось дыхание, и она медленно сложила письмо.
— Мама пережила его только на три недели, — негромко произнесла Элен. Потом, немного помолчав, продолжала: — Китти осталась в Лондоне одна. Часто пишет мне. Она заботится о бедняках, ты же ее знаешь… Но ты… Чем ты занималась все эти годы? Где жила?
Гризельда неопределенным жестом отмела сразу все вопросы.
— О, ты же знаешь, я умею находить проблемы… Она надела перчатки, натянув тонкую кожу на свои длинные нервные пальцы. Потом спросила:
— А Джейн? Где она сейчас? — Она в Шотландии. Вышла замуж за констебля Эда Лейна. Помнишь его? — За Эда Лейна? Это невероятно! — Но это так, увы!.. Он увез ее к себе и сделал ей пятерых детей. Они разводят овец. Эд пьет, он оказался скупым, они живут очень бедно, он бьет ее и изменяет ей с официантками из местного кабака… — Бедная, бедная Джейн! Как только ей в голову пришла мысль выйти замуж за констебля? — Ты тоже вышла замуж за слугу, — ядовитым тоном сказала Элен. — Элен! — Ох, прости меня! — За слугу! Он никогда не был слугой!.. Просто переоделся, чтобы иметь возможность бороться с… Кроме того, он сын короля! — Я знаю… Прошу тебя, прости. У меня иногда проявляется горечь, вопреки моему желанию… Здесь так трудно жить… Если бы у меня не было Томаса… Но почему ты ни разу мне не написала? Хотя бы несколько слов… — Я не могла! Никто не должен знать, где находится Шаун… Английская полиция продолжает охотиться за ним… Ты должна поклясться мне, что никогда никому ничего не скажешь про него!.. В особенности членам своей семьи!.. — Даже Томасу? — Томасу? Кто это? — Это Джон!.. Мой сын!.. Я так хочу, чтобы ты увидела его!.. Он такой красивый!.. Он похож на деда Джонатана, портрет которого висел в салоне!.. Так ты придешь взглянуть на него? Лицо Гризельды посуровело.
— У тебя ведь муж англичанин!.. Что вы делаете в Париже? — Ничего… То есть… Мы просто живем… Я даю уроки… Он сейчас не с нами… Я ушла от него… В общем, мы развелись… — Почему? Что случилось? — Ничего… Ничего не случилось… Замужество, это… Мы перестали понимать друг друга, вот и все… Так ты придешь посмотреть на Томаса, скажи, ты придешь? — Конечно, приду… — О, это замечательно!.. Мы стали такими далекими друг для друга!.. Элис монашенка, Китти старая дева, я осталась одна с Томасом, Джейн избивает полицейский, ты скрываешься. Мы невероятно далеки друг от друга, и мы все такие несчастные! Почему только мы покинули остров? Нам ни в коем случае нельзя было уезжать с острова!.. Она сжала себе кончик носа двумя пальцами в черных перчатках, стараясь не расплакаться. Гризельда негромко сказала ей:
— Но я не несчастна, Элен… Я счастлива, действительно счастлива…
* * *
Элен направилась по улице Мот-Пике в обратную сторону. Она собиралась остановиться на улице Клер, чтобы купить немного картошки, за которую там просили меньше, чем в Пасси. Крутя педали, она не переставала думать. Похоже, что Гризельда разбогатела. Элен видела ее дважды, и каждый раз она была одета по-другому, но всегда во что-нибудь очень дорогое. Гризельда остановилась в одном из самых больших отелей Парижа. Происхождение ее денег казалось Элен загадочным. Она почти ничего не рассказала Элен о своей жизни с Шауном; пожалуй, только то, что они очень недолго оставались в Соединенных Штатах. Махараджа Марабанипура приобрел автомобиль, построенный Шауном. Шаун приехал с автомобилем в Индию, чтобы передать его радже, и они остались в Индии. Он участвовал в гонках, много путешествовал, посещал Америку и Европу, и она постоянно сопровождала его…
Махараджи в Индии обладают сказочными богатствами, это всем известно, но почему махараджа Маба… Мараба… Господи, как он там называется?.. Почему он заплатил такие огромные деньги Шауну? Можно не сомневаться, что Шаун не перестал сражаться за Ирландию. Поскольку Гризельда ничего не стала говорить об этом, Элен не решилась расспрашивать ее. Гризельда сказала, что она счастлива… Господи, хочется надеяться, что это правда… Боже, сделай так, чтобы это было правдой!.. Чтобы хоть одна из них была счастлива!.. Она красива, просто расцвела, как бывает с растением, растущим на подходящей ему почве… Когда женщина несчастлива, у нее не может быть такой лучистой улыбки, она становится серой…
Элен оказалась на улице Клер одновременно с дождем. Она укрылась под навесом торговца красками, прислонив велосипед к трубке для подачи газа, идущего на освещение. Небольшие группы образовались перед лавкой, торговавшей кожевенными товарами, и возле мясной лавки; казалось, улицу охватило необычное возбуждение, несмотря на сыпавшиеся сквозь солнечные лучи дождевые капли. Известно, что в лавке кожевника продаются товары для сапожников — кожа, гвозди, вар, дратва, инструменты. Это выгодная торговля, позволяющая неплохо зарабатывать, так что в ее кассе всегда имеются деньги: в Париже живет три миллиона пешеходов, изнашивающих шесть миллионов подметок.
Продавщицу кожевенной лавки нашли лежавшей без сознания за прилавком, касса оказалась пустой. Преступник действовал очень быстро, и никто не заметил, как он вошел в лавку и вышел из нее. Из комиссариата на улице Амели прибежали два полицейских, промокших под дождем. Они зашли в лавку. Почти сразу подошли еще двое полицейских, начавшие разгонять толпу любопытных.
Солнце, наконец, справилось с дождем. Продавщица картофеля, маленькая, круглая, красная, сдернула кусок старого брезента, которым накрывала небольшую тележку со своим товаром, и принялась расхваливать его.
— Посмотрите, какая замечательная картошка, прекрасная дешевая картошка! Она стояла в галошах на доске, защищавшей ее ноги от холодной земли. Кроме того, доска позволяла держать весы выше. Элен попросила у нее пять фунтов.
— Конечно, милочка… Вы не хотите взять еще один фунт? Тогда будет ровно три килограмма, и я сброшу вам пару су… — Конечно, конечно, — согласилась Элен, которая никак не могла привыкнуть к килограммам вместо фунтов. — Ну и правильно, моя красавица… Вот и все… Вот вам моя замечательная картошка! Прекрасная картошка с севера… Давайте сюда вашу сумку, мой цыпленок, держите ее открытой… Вот в эту большую я положу сверх трех килограммов… У меня отличный товар, это удачная покупка!
В добавок к картошке она протянула Элен пучок петрушки.
Потом Элен купила немного копченой грудинки и бараньей шеи, чтобы сделать немного баранины по-ирландски.
Продавщица кожевенных товаров пришла в себя и сейчас сидела на стуле в задней комнате. Полицейский заставил ее хлебнуть немного виноградной водки, и она начала отвечать на его вопросы. Да, она видела его… Это был совершенно обыкновенный человек… Довольно молодой… Симпатичный… В серой каскетке, с усами в стиле «коровий хвост». Она никогда его раньше не видела.
Она узнала его через пять лет, когда в газетах появилась фотография и фамилия Бонне…
* * *
— Конечно, она опаздывает, — сказала Элен. — Может быть, она не смогла найти двери, — предположил Томас. — Глупости! Она всегда опаздывает, иначе не может… На Сент-Альбане она всегда приходила к столу последней… Отец мог сколько угодно изображать, что сердится… Но он был таким добрым… Иногда она даже забывала поесть, когда сидела на своей скале, глядя на океан и, как всегда, погрузившись в мечты… Господи, я тоже опоздаю… Я больше не могу ждать ее… Когда ты услышишь, как она идет по мостику, спустись вниз, чтобы открыть ей… Я вернусь примерно часа через два, мне еще нужно время на обратную дорогу!.. Томас услышал шаги матери, удалявшейся по мостику, потом еще шаги кого-то, кто шел ей навстречу. Они встретились; через несколько секунд тишины можно было услышать, как они расходились.
Томас вихрем слетел по лестнице и распахнул металлические створки. Гризельда увидела его в дверях на темном фоне лестничной площадки, освещенного наружным светом с блестевшими от любопытства глазами, со слегка приоткрытым ртом и непослушными кудрями, окружавшими лицо.
Своими широко открытыми глазами Томас увидел стройный силуэт во всем сером, с лицом, скрытым тонкой серой вуалеткой, словно лондонским туманом.
Из уст серого призрака прозвучала фраза, ошеломившая его:
— Действительно, ты очень красив!.. Он сделал шаг назад, пробормотав неразборчивую смесь английских и французских слов; она двинулась к нему, ничего не ответив. Он стал подниматься по лестнице, то и дело оборачиваясь, чтобы посмотреть на нее. На третьей ступеньке она сбросила туфли, чтобы почувствовать себя удобнее.
Томас отстранился, чтобы позволить ей войти в небольшую комнату, одновременно столовую, гостиную и кабинет. Она сразу же подошла к столу, поставила на него свои лодочки, легкие, словно листья, положила муфту, перчатки, длинные булавки, удерживавшие шляпку на голове и, наконец, саму шляпу с туманной вуалеткой.
Стоявший возле камина Томас завороженно открывал для себя гостью, по мере того как она избавлялась от своих принадлежностей. Ее трансформация, одновременно естественная и волшебная, напоминала процесс освобождения каштана от колючей кожуры, когда в узких трещинах начинает проглядывать его круглое с теплым блеском тело.
Ее волосы, собранные в сложную структуру, которую пыталась навязать им хозяйка, рассыпались во все стороны. Она подняла руки, извлекла из волос новую порцию булавок, длинных, средних, коротких и двойных, и встряхнула головой. Масса ее волос упала тяжелой волной темного золота до пояса.
Она вздохнула с облегчением.
— Ах, как приятно почувствовать себя свободной от всего этого! Так трудно придерживаться парижской моды, в особенности для волос! В Марабанипуре я сплетаю их и укладываю вокруг головы, вот так… Или распределяю волосы по бокам, вот так… Там нет никакой обязательной моды… Ничего, кроме обязанностей и запретов. Выглядит это достаточно жутко, но, по сути, сильно облегчает жизнь… Она улыбнулась и добавила:
— Все это не имеет никакого значения… Но женщина вынуждена соблюдать эти правила! Гризельда сняла шелковую накидку и бросила ее на стол. Подойдя к окну, она открыла его и посмотрела на парк и небо, по которому бежали вереницей апрельские облака. Пробормотав «весна… весна…», она закрыла окно и упала в кресло из переплетенных ивовых прутьев, окружившее ее завитками и спиралями. Потом подняла лицо к Томасу:
— Расскажи мне о себе… Сколько тебе лет? Томас сглотнул и сказал: — Семнадцать лет… Вот уже три недели… — Весна… весна… — снова сказала Гризельда. Поднявшись с кресла, она обошла комнату, останавливаясь перед фотографиями и портретами в больших и маленьких рамках, повсюду развешанными Элен и почти полностью закрывавшими обои гранатового цвета. Обломки прошлого, которым находилось при переездах место в багаже, или присланные сестрами. Элен тесно расположила их на стенах, пытаясь таким образом восстановить мозаику прежней жизни. Гризельда в двенадцать лет… Гризельда в четырнадцать лет… Задержавшись перед миниатюрой, она воскликнула:
— Мама! Какая ты была красивая!.. Странно, но она не испытывала печали; казалось, она радовалась возвращенному прошлому. На мгновение замерла перед акварелью, на которой Элен по памяти нарисовала пейзаж острова с белым домом. Потом подняла левую руку, коснулась тонкими пальцами изображения и легким движением погладила его. На ее указательном пальце был перстень, переплетение золотых нитей которого окружало большой изумруд. Томас не представлял цену драгоценных камней, но фантастическая стоимость перстня не вызывала у него сомнения. Он даже подумал, что изумруд может быть фальшивым и перстень — это просто игрушка для фей, и стоит ему закрыть и снова открыть глаза, как перстень исчезнет, а с ним, вполне возможно, исчезнет и Гризельда.
Он подумал, что Гризельду не интересуют картинки на стенах; ее взгляд блуждал где-то у горизонта. Безграничное пространство вошло вместе с ней в небольшой салон, стены которого исчезли. Она была кораблем с наполненными ветром и солнцем парусами или королевой огромных птиц с голубыми глазами, о которых ему рассказывал Леон. Она живет в джунглях Амазонки, и перед ней расступаются деревья, когда она идет.
Гризельда повернулась, чтобы взглянуть на Томаса.
— Действительно, ты очень похож на Джонатана… Но… Повернись… Так… Посмотри на окно… Хотела бы я знать… Хотела бы я знать, не на Фулька ли ты походишь? На Фулька, основателя… Первого графа Анжу… Того, кто взял в жены единорога… Мать рассказывала тебе о нем? — Рассказывала, — ответил Томас.
— Точно никто не знает, как он выглядел… Его портрета не существует… Ни одной резной геммы… Только воспоминания. То, что его дочери рассказали своим дочерям, а те передали эти рассказы дальше, и они повторялись на протяжении тысячи лет… Пятьдесят поколений женщин, обожавших своего создателя, постепенно изменяя со временем его облик… Я знаю, как он выглядел… Вот то, что я знаю… Он выше ростом, чем все мужчины не только той эпохи, но и нашего времени … У него широкие массивные плечи, круглая голова с шапкой рыжих волос… Его даже называли Рыжим… У тебя более светлые волосы… Его также называли Львом… У тебя же пока облик львенка… Если у тебя такое же, как у него, сердце, ты тоже можешь встретить единорога… Его не видел никто из его потомков… Только Джонатан в день своей кончины увидел его в образе девушки. Но он не узнал единорога, его жизнь оборвалась раньше. Запомни, львенок, что если ты встретишь девушкуединорога, то сразу узнаешь потому, что она свободна… И запомни также ошибку Фулька: ты не должен позволить ей убежать, как бы быстро она ни бежала…
Внезапно образ Даллы разорвал сердце Томаса. Ведь он позволил ей убежать… Нет… Она не была единорогом… Она была ангелом, как говорил Леон… Но, возможно, это одно и то же… Нет, она все равно исчезла бы, даже оставшись… Детство не продолжается бесконечно…
— Ты хотел бы сказать мне что-нибудь? — спросила Гризельда. — Нет… Да… Возможно, я… Кажется, я встретил ребенка-единорога. Бывают ли дети-единороги? — Единорог вечно юн, — сказала Гризельда, — но он никогда не бывает ребенком… Ребенок нуждается в заботе взрослых, единорогу никто не нужен…
* * *
— И тогда, — продолжала Гризельда, — машину водрузили на спину слона. Дороги дальше не было, исчезла даже тропа, а до дворца оставалось еще миль пятьдесят. Проблема была очень серьезной — как затащить машину на спину животного? Шаун сказал: «Нужно сделать наклонную платформу из досок». Но где взять доски в джунглях? В Индии существует привычка — перевозить самые разные грузы на спине слона; для этого существует большая сеть из толстых веревок. Такую сеть разложили на земле, на нее закатили автомобиль, а затем связали в узел четыре угла сети. Слон поднял сеть с автомобилем и положил ее на спину другого слона, опустившегося на колени. Шаун очень волновался, опасаясь за сохранность машины, но индусы только смеялись. Они надежно примотали сеть с машиной к спине слона, сами забрались туда же вместе с нами и бодро двинулись через джунгли. Стая обезьян мчалась за нами, перепрыгивая с дерева на дерево и испуская пронзительные крики.
Томас, сидевший на пуфе неподвижно, словно зачарованный, не отрывал взгляд от Гризельды, слушая ее рассказ. Она непрерывно говорила, то переходя от двери к окну, то обходя вокруг стола, помогая себе жестами и создавая вокруг себя образы Индии.
— Мы прошли через лес и увидели перед собой дворец. Он возвышался на противоположном берегу большого озера с зеркальной поверхностью застывшей воды. Приближался вечер; вода приобрела фиолетовый оттенок, такой же, как у неба. С другой стороны воды и неба, на линии, по которой они соединялись, находился казавшийся миниатюрным дворец с множеством колонн, на таком расстоянии выглядевших тонкими, словно спички. Над колоннами возвышались остроконечные крыши и купола из бронзы и золота. Дворец отражался в воде, отражавшей небо. Дворец на берегу и его отражение в воде соприкасались. За ними ничего не было, кроме переплетения чудес, отраженных небом сверху и небом снизу. Сопровождавшие нас индусы спрыгнули со слонов, опустились на колени и потом распростерлись, преклонившись перед дворцом. Не знаю, чему они поклонялись, но я повторила их молитвенные позы, потому что перед нами была такая красота, что любая благодарность не казалась чрезмерной.
Слонов быстро разгрузили, и они отправились купаться вместе со служителями, разбив фиолетовое зеркало озера на куски и волны. Вода стала пурпурной, затем потемнела. Мы устроились на ночь в больших палатках вместе с миллионами комаров. Но индусы зажгли в палатках какието травы, и комары тут же попадали. Всю ночь поблизости кричали обезьяны и рычали тигры; звуки также издавали какието другие животные, которых никогда не удается увидеть; известно только, что они существуют, судя по раздающимся ночью голосам. Неизвестно даже, ходят они по земле или летают.
На следующее утро озеро оказалось голубым; небо тоже было голубым, а находившийся между ними дворец был белым, словно сотканным из кружев.
Над Пасси и над Парижем опускался вечер. Небо, бывшее нежного серо-голубого цвета, стало слегка розоватым. По нему плыли толстощекие облака, и с одной стороны их щеки были розовыми, с другой — пепельными. Они передвигались медленно, почти незаметно, и скоро растворились в сумерках.
Мы заметили на озере три лодки, которые должны забрать нас. Высокие, с двумя рядами весел с каждой стороны, они были раскрашены фантастическими красками; на них изображались растения, люди и животные. Они отражались в зеркале воды и походили на плавающие цветочные клумбы…
В очередной раз весна заворожила Шаму, отдав ему невыполнимый приказ. Он рассердился, так как знал, что не сможет выполнить его, но так или иначе, он должен построить гнездо. Новое гнездо. На самом высоком месте. А самым высоким местом была верхушка круглого дома. И верхушка круглого дома тоже была круглой. На этой верхушке ничто не могло удержаться, с нее все сразу же соскальзывало. Он уже пытался построить на ней гнездо прошлой весной и многими веснами до этого, но безуспешно. И теперь опять решил заняться строительством с самого утра. Каждый раз, когда он собирался бросить это занятие, потому что понимал, какой это идиотизм, весна посылала ему в вены горячую, едва ли не кипящую кровь, и он снова брался за работу.
Шама прилетел, держа в клюве за середину веточку платана длиной около половины метра и слегка изогнутую. Он спланировал над домом и сел на его вершину, выложенную керамической плиткой. Посмотрев по сторонам со свирепым видом, чтобы всем стало ясно, что не стоит и пытаться отобрать у птицы эту веточку, он аккуратно положил ее на крышу. Порыв теплого ветра сдвинул ее, и веточка заскользила по куполу. Следующий порыв ветра подхватил ее и унес. Шама кинулся вслед за ней, испустив отчаянный вопль, и поймал ее на уровне окон гостиной. Сев на отлив, он забил крыльями, чтобы Томас понял, как он расстроен и как ему требуется поддержка.
— Это кто такой? — спросила Гризельда. — Это Шама…
Томас открыл окно, и большой белый ворон перебрался на подоконник. Гризельда подошла к окну, и Шама от неожиданности выпустил веточку из клюва.
— Он умеет говорить, — сказал Томас. — Как дела у тебя сегодня, Шама? Все в порядке? Шама не ответил. Он присматривался к Гризельде.
— Какой ты красивый, — сказала Гризельда. — Круаааах! — согласился ворон. Ему внезапно захотелось заворковать. Он перелетел на стол и, наклонив голову набок, принялся рассматривать множество незнакомых предметов.
Он сразу же обнаружил предмет, прекрасно подходивший для гнезда, — это была вуалетка.
Он радостно каркнул: «Кроа!» — схватил вуалетку и устремился к окну. Но не понял, что вуалетка соединяется со шляпкой, тяжесть которой задержала его, и ворон едва не упал на пол. Он выпустил добычу и вылетел в окно, проклиная апрель, весну и все на свете.
Гризельда засмеялась.
— Я нарисовал его, — сказал Томас. Он достал свои рисунки и показал их Гризельде. Она нашла их весьма удачными, умными, точными и выразительными.
— Ты хочешь стать художником? — Не знаю. Я рисую, потому что мне нравится рисовать… Мама хочет, чтобы я работал в банке, чтобы стал дельцом и заработал много денег, чтобы выкупить остров… — Она сошла с ума!.. В нашем роду никогда не было мужчины, способного зарабатывать деньги! Они всегда были способны только тратить их! Но иногда им удавалось завоевать деньги. Если ты станешь львом, ты не позволишь запереть себя в стенах банка. Ты уйдешь, как я… Мостик закачался и заскрипел. Возвращалась Элен — с осунувшимся от усталости и забот лицом.
Мать сразу же заворчала на Томаса за то, что он не предложил тетке чаю, и быстро занялась им. Конечно, время для чая уже прошло, но выпить его никогда не бывает поздно.
Пока грелась вода, она убрала все, что Гризельда побросала на стол, зажгла висячую керосиновую лампу, задернула шторы, открыла какие-то коробки, расставила чашки, разложила серебряные ложечки, и через несколько минут все они оказались вокруг стола с настоящим английским чаем, с вареньем и разными пирожными в конусе теплого золотистого света, падавшего из-под опалового абажура. Свет падал и на собравшихся на стенах вокруг них членов семейства, сидевших или стоявших в своих рамках; иногда они были видны только до пояса, словно они, любопытные и внимательные, находились за окном.
— Почему ты не пришла с сыном? — спросила Элен. — Мы были бы рады познакомиться с Джонатаном. — Мне пришлось бы многое объяснять ему, рассказывать про вас… Он слишком маленький, может проговориться, даже не желая этого, а это опасно… Он ничего не знает о себе, о нашей семье… Он уверен, что его фамилия Шеридан… Когда он станет взрослым, мы скажем, как его зовут в действительности, что он носит имя короля Ирландии, и тогда он будет готовиться к борьбе… К войне за Ирландию… Гризельда повернулась к Томасу.
— А ты? Ты скоро станешь мужчиной… Ты собираешься спокойно оставаться здесь, не думая о своей стране, которую англичане топчут вот уже восемь столетий? Элен решительно оборвала ее.
— Оставь его! Он не должен вмешиваться в эти дела!.. У него отец англичанин!.. И ты забыла, что мы тоже англичане!.. Мы совершенно случайно оказались в Ирландии!.. — Это не совсем так, — негромко сказала Гризельда. — Ведь мы родились в Ирландии… Мы играли детьми на ее земле, мы выросли в Ирландии, мы ее дети! Мы пили ее молоко, дышали ее воздухом, мы жили под солнцем Ирландии!.. От нашего английского происхождения у нас не осталось ничего, кроме стыда… — Мне нечего стыдиться! Томасу нечего стыдиться! Мы не отвечаем за историю!.. Впрочем, ты как раз родилась не в Ирландии… Опираясь на стол сжатыми кулаками, Элен с яростью набросилась на тень опасности, которая могла угрожать ее сыну.
— Я хотел бы познакомиться с Ирландией… — задумчиво произнес Томас. — Тебе не нужно для этого сражаться! Ты выкупишь остров, и мы будем жить на нем! Волнение перехватило ее горло, она замолчала и потом тихо добавила:
— Это настоящий рай… — Да, — согласилась Гризельда. — Да, ты права…
* * *
Гризельда еще дважды приходила в круглый дом, но… одна. Она не решалась захватить с собой Джонатана.
— Это очень печально! — сказала Элен. — Удивительная случайность, что я встретила тебя, когда твой сын находился в двух шагах от меня. Это единственный из моих племянников, которого я, возможно, никогда не смогу увидеть, потому что ты этого не хочешь. — Случайность! — воскликнула Гризельда. — Ты нашла выход! Я пойду гулять с сыном, ты с Томасом придешь туда же, и мы встретимся благодаря случайности!.. Я представлю вас как моих американских друзей, с которыми не виделась много лет, и мы… — Мне это не нравится, — оборвала ее Элен. — Это ложь, а ничто не может быть хуже, чем ложь. Томас на умеет лгать… — Ему достаточно будет молчать!.. Но будет так, как ты захочешь, — или все, или ничего… К тому же, придется найти место, достаточно пустынное, но такое, чтобы в нашем появлении там не было ничего необычного… — Может быть, музей? — предложил Томас. — Я ненавижу музеи, — поежилась Гризельда. — А ты часто посещаешь музеи? — Когда как… Обычно каждый раз другой… — Очень хорошо! Мы не должны быть жестко привязаны к какому-нибудь из них… Я плохо знаю музеи!.. Как-то зашла в один, это было в Риме, где я сопровождала Шауна. Он должен был купить для махараджи новый автомобиль, фиат с объемом двигателя в двенадцать литров. Время было послеобеденное, я зашла в музей одна и сразу почувствовала, что мне душно. Показалось, что очутилась в сушилке для белья. Повсюду на стенах висели картины, почти вплотную друг к другу, было очень жарко, на стуле дремал служитель, а в солнечном луче кружились четыре мухи. Да, именно четыре, потому что я сосчитала их. Мужчина в черном смокинге со складывающимся цилиндром в руке неподвижно стоял перед картиной. Я ждала, чтобы мухи сели на его голый череп, но они почему-то не захотели. Я начала задыхаться. Посмотрела несколько картин, не помню уже, каких, и мне показалось, что портреты или пейзажи, вся эта живопись представляли собой жизнь, порезанную на ломтики, затем положенные под пресс, удаливший из них все живое, после чего их повесили для просушки на стены, чтобы в них не осталось ни капли жизни… Я бросилась из музея едва ли не бегом! Мне казалось, что останься я в нем еще немного, меня тут же повесят на стенку в рамке, плоскую и засушенную!..
Томас смеялся. Глядя на Гризельду, он подумал, что такой результат показался бы ему весьма печальным. Даже Элен улыбалась, забыв свои возражения.
— Пусть это будет музей Виктора Гюго! — сказал Томас. — Там нет картин, хотя можно увидеть несколько фантастических рисунков. Я ходил туда, чтобы посмотреть на них. Музей размещен в доме, где он жил, на площади Вогез. В нем находятся только его мебель, рабочий стол, домашние предметы… — Понятно, — кивнула Гризельда. — Трубка мастера и его комнатные туфли… Может быть, даже кот, спящий на кресле?.. И призрак, прячущийся под столом, когда в музее есть посетители… Ладно, это мне подходит!.. — И там никогда никого нет! Иногда появляются школьники со своим учителем. Если мы будем говорить по-английски, нас никто не поймет… С некоторыми сложностями, учитывая часы работы Элен, сестры договорились о свидании в музее. Встречу назначили через четыре дня, в три часа.
Вернувшись в свой отель, Гризельда получила телеграмму от Шауна, отправленную из Бомбея во время стоянки в порту парохода «Туран», на котором он отправился в Китай вместе с другими участниками пробега и их автомобилями. Он коротко рассказывал о своем путешествии и сообщал, что у него все в порядке. Но телеграмма имела еще одно значение, и Гризельда знала, какое именно.
* * *
Элен и Томас сели в фиакр до площади Мадлен, где пересели на омнибус до площади Бастилии, с которого сошли на площади Вогез. Хотя это и не соответствовало их привычкам, Томас уговорил мать подняться на империал, на второй этаж омнибуса, чтобы лучше видеть Париж. Стояла прекрасная погода. Кафе на бульварах открыли свои террасы, и легкий аромат абсента в смеси с запахом двух першеронов, тащивших омнибус, достигал носа Томаса. Улицы были заполнены прохожими, и на них царило типичное воскресное оживление, хотя была всего лишь среда, и Элен пыталась понять, что происходит. Наверно, подумала она, был один из многочисленных французских праздников, о которых она никогда не помнила. Женщины в простых платьях вели за руку детей или держались за своих мужей. Несколько элегантных дам прятались от солнечного загара под яркими зонтиками. Фиакры и частные коляски пробирались сквозь толпу; казалось, никто никуда не торопится, наверное, под влиянием весны.
Когда омнибус останавливался, до пассажиров доносился похожий на рокот шум, с которым волны переносят с места на место гальку на морском берегу, бесконечный шум парижских улиц, создаваемый звоном подков на копытах тысяч лошадей, постоянно перемещающихся по городским улицам, и множества колес, катящихся со стуком по неровным булыжникам мостовой. Потом махина омнибуса с грохотом трогалась с места, сопровождаемая волной лошадиного запаха, и фасады выходящих на бульвар зданий за завесой ветвей платанов, усеянных молодыми листочками, медленно уходили назад. Томас смотрел на льющийся с неба свет и отражающую его листву, на пятна света на тротуарах и мостовой. Цветные пятна смешивались, мерцали справа и слева, снизу и сверху, заполняли его голову. Ослепленный, он почувствовал головокружение, ощущение от бокала теплого вина наложилось на цветной бульвар, текущий мимо него, словно река. Аромат пряностей возник в глубине горла и смешался с запахами абсента, пыли и лошадиного пота. Он закрыл глаза и увидел в желтом пламени платанов голубое тело обнаженной Даллы, танцующей на спине пурпурной лошади. Стук копыт проезжающей мимо кавалькады вернул его к действительности. Кавалеристы муниципальной гвардии в касках и кирасах двигались двойной цепочкой мимо омнибуса, направляясь к площади Республики. Прохожие поспешно разбегались в стороны перед передней лошадью. Худой мужчина, сидевший на скамье справа от Томаса, вскочил и, с яростью глядя на проезжающих мимо солдат, принялся осыпать их ругательствами. Одетый в длинное черное пальто, он был без головного убора, что выглядело почти так же неприлично, как если бы он был без штанов. Довольно молодой, со светлыми вьющимися волосами, с небольшой неухоженной острой бородкой. Он сел, снова встал, опять сел и опять встал, глядя в дальний конец бульвара, где происходило нечто необычное. Томас тоже встал и принялся смотреть в том же направлении. Омнибус затормозил, движение вокруг остановилось, прохожие застыли на месте. С площади Бастилии на бульвар, на всю его ширину, выливалась темная масса, сопровождаемая глухими ритмичными звуками, которые показались Томасу песней. Море темных одежд, плотная толпа простого народа в праздничных костюмах с целлулоидными воротничками и в котелках, над которыми развевалось несколько красных знамен и пара черных. Двойная цепь полицейских в пелеринах не позволяла демонстрантам выйти на тротуары и приблизиться к витринам. Группа полицейских перегородила бульвар метрах в двадцати перед толпой с целью остановить ее, не позволив пройти дальше. Гвардейцы муниципальных частей остановились, готовые вмешаться в происходящее.
Омнибус остановился. Все пассажиры второго этажа вскочили и смотрели, сгрудившись у поручней.
— Господи, — сказала Элен, — что здесь происходит? — Это демонстрация, — сказала пожилая женщина. — Сегодня первое мая! Я не должна была садиться в омнибус… У нее были небольшие гневно сверкавшие карие глаза. Седые, слегка пожелтевшие волосы прятались под черной кружевной шляпкой, державшейся на голове благодаря ленте под подбородком. Ее старые подагрические пальцы сжимали ручку большой плетеной корзинки, накрытой чистым хорошо отглаженным куском ткани.
— Вы знаете, чего они добиваются? Еженедельного отдыха! Они требуют один день отдыха в неделю! Можно подумать, что я отдохнула хотя бы один день за всю мою жизнь!.. Не стоит оставаться здесь… Нужно уходить… Идите за мной!.. Толкая перед собой корзину, прижатую к животу, она попыталась пробиться к лестнице. Но омнибус неожиданно двинулся вперед, прямо к демонстрантам.
Элен уцепилась за руку Томаса.
— Он сошел с ума! Этот кучер свихнулся! Нужно разворачиваться в обратную сторону!.. Но кучер работал на маршруте Мадлен — Бастилия. Он выехал с площади Мадлен и должен ехать к площади Бастилии. Это был его маршрут, и он должен ехать, пока для этого имелась возможность. Он въехал в плотную массу полицейских и граждан в таких же котелках, как у демонстрантов. Сержант-полицейский схватил одну из лошадей за уздечку и остановил омнибус. Он крикнул кучеру:
— Ты что, ненормальный? Куда ты собираешься проехать? Толпа демонстрантов остановилась в десяти метрах от полицейских. Наступила тишина, без единого возгласа, без шума хотя бы одной шагнувшей ноги. Единственным шумом был негромкий рокот тысяч дыханий и звуки негромких слов, сказанных соседу. Потом в плотной людской массе родилась песня, сначала вдали, очень тихая, но быстро приблизившаяся, словно бегущее по сухой траве пламя, подгоняемое ветром; она расширилась, поднялась, заполнила бульвар, ударилась о фасады зданий и, отразившись, упала в толпу красными волнами.
«Это наш после-е-е-дний бой…» «…соединяйтесь, а затем…»
— Хулиганы, безобразники, — простонала старая гладильщица. «С интер-на-цио-на-а-а-лом…» Под напором скопившейся сзади массы первые ряды демонстрантов ринулись к строю полицейских.
Офицер, командовавший муниципальными гвардейцами, привстал на стременах и крикнул: «Вперед!», сопроводив свой возглас взмахом руки. Лошади врезались грудью в толпу. Полицейские работали дубинками, котелки разлетались во все стороны; с площади Республики продолжалось давление массы демонстрантов; люди, находившиеся в первых рядах, падали с криками; разлетелась вдребезги витрина, стекло посыпалось со звоном. С улицы Ланкри на бульвар высыпала с криками группа нападавших, смела столики террасы кафе «Двух морей», принялась забрасывать полицейских бутылками и керамическими кружками, а затем пустила в ход металлические стулья. Откуда-то примчалась еще одна команда конных полицейских. Из окон, с балконов на полицейских и на демонстрантов посыпалось множество предметов: цветочные горшки, кастрюли, поленья; на толпу упала зажженная лампа, вспыхнувшая прямо в воздухе; дождем падали дырявые сапоги, вазы с цветами, пустые банки, какието овощи… Схватка захватила омнибус, и дерущиеся закружились вокруг него, словно бурные волны вокруг скалы. Взъерошенный рыжий кот с воплями рухнул на империал, высоко подпрыгнул, свалился на кучера, спрыгнул с него на лошадь, затем на землю и исчез. Томас изо всех сил прижимал к себе мать, чувствуя, как у его широкой груди дрожит ее хрупкая спина. Смотрел на происходящее с любопытством и отвращением. Он ничего не понимал, происходящее казалось ему сплошной нелепостью. Блондин метался по империалу, бегал то вдоль него, то поперек, то по диагонали, бешено жестикулировал и что-то кричал на совершенно диком языке. Остановившись возле перил, он заорал еще громче, вытащил из кармана кокой-то черный предмет и направил его на конного полицейского. Раздалось несколько выстрелов: два, три, пять, шесть. В воздух с тротуаров, карнизов и крыш поднялась стая голубей и воробьев, до сих пор почти не обращавших внимания на суматоху на улицах. Полицейский и лошадь упали. До Томаса долетело облачко синего дыма, пахнувшее порохом. Полицейские кинулись к омнибусу, образовав пробку на узкой лестнице, стрелявший орал на них и бил их ногами по головам. Один из полицейских схватил его за ногу и стащил на пол. Полицейские ворвались на империал, схватили блондина, оглушили его несколькими ударами и сбросили на землю. Он рухнул на мостовую, его тут же схватили и куда-то потащили, продолжая избивать. Полиция, получившая подкрепление, начала одерживать верх. Демонстранты в беспорядке отступали к площади Республики. Кучер омнибуса медленно двинулся по своему маршруту.
— Я обещала принести белье господину Бретону в четыре часа, — сказала старая гладильщица. — Но я никогда не доберусь до него с этими анархистами!.. Когда Элен и Томас добрались до площади Вогез, музей оказался закрытым. Гризельду они не увидели.
* * *
Гризельда уже исчезла из Парижа. Элен и Томас узнали об этом из записки, доставленной почтальоном. Гризельда прислала короткую записку для Элен и небольшую металлическую трубочку, на которой была наклеена этикетка с текстом:
ЗИДАЛЬ
Если рядом с вами находится больной, страдающий от неврастении, анемии, диабета, альбуминурии, ревматизма, истощения, связанного с отрицательными эмоциями, неумеренностью в еде и питье или сильной усталостью, или же человек с больным желудком, почками или нервами, он должен немедленно принять это удивительное лекарство:
ЗИДАЛЬ
Это лекарство излечивает от всех болезней. Помните: только это лекарство способно вылечить вас от любой болезни.
Элен с недоумением прочитала текст на трубочке и открыла ее. Она была заполнена ватой. Вата окутывала пакетик из бумаги, в которую было завернуто что-то, разбрасывающее зеленые и золотистые отблески. Это оказался перстень; Элен видела его на пальце Гризельды во время ее первого визита в круглый дом. Лежащий на столе на белой упаковке, окруженный сложным переплетением нитей из индийского золота, изумруд впитывал солнце, врывавшееся через окно, и превращал его в живое пламя, цветом напоминавшее лес или глубокое море. Лежавший на столе камень казался больше, чем на пальце Гризельды.
На бумаге, в которую был завернут камень, оказалось несколько строчек:
«Я уезжаю. Должна встретиться с Шауном. Мне нужно будет дождаться его в Москве. Потом я, возможно, вернусь вместе с ним в Париж, если не выберу другую дорогу. Не знаю, когда я вернусь, если так решит Господь. Надеюсь, он будет охранять вас обоих. Этот перстень немного поддержит вас. Я предпочла бы оставить вам денег, но деньги, которые есть у меня, мне не принадлежат. Не продавай перстень кому попало, тебя наверняка обманут. Постарайся найти честного ювелира. Камень прекрасен, и он настоящий. Твой Томас — красивый юноша. Он скоро станет взрослым. Говорят, что царь устроит большой бал в честь участников пробега. Вряд ли им захочется танцевать… А я потанцевала бы с огромным удовольствием…
До свидания, хотя, может быть, прощай…»
Томас положил на ладонь камень, вспыхнувший, словно луч солнца, пробившийся через листву. Изумруд был круглым, выпуклым, ограненным в виде купола так искусно, что вместо того, чтобы выступать над оправой, он казался углубленным в нее; перстень выглядел, словно небольшой сосуд, заполненный до краев ликером зеленого цвета, который неудержимо хотелось попробовать…
Он пробормотал:
— Интересно, сколько он стоит… — Даже не представляю, — отозвалась Элен. — Если ты продашь его, тебе, наверное, больше не нужно будет работать… — Продать его? Ты сошел с ума! Она поспешно и даже резко схватила перстень, светившийся на ладони Томаса, словно что-то угрожало этому сокровищу. Несколько мгновений Элен держала перстень двумя слегка дрожавшими пальцами и смотрела на него. Круглый и зеленый, словно остров… Но полученных за него денег будет недостаточно, чтобы выкупить остров. Да, конечно, их не хватит… Но это будет началом необходимой суммы… Кажется, ее мечты начинают, наконец, превращаться в надежду…
Она сказала:
— Зачем его продавать? Тебе чего-нибудь сейчас не хватает? Да и я умерла бы со скуки, перестань работать… К тому же, ты тоже скоро начнешь работать… Настало время для тебя избрать карьеру! Она завернула перстень в бумагу, получившийся пакетик завернула в вату и положила его в металлический цилиндрик. После этого вышла из комнаты. Томас слышал, как она ходила по кухне, явно отыскивая надежное место, чтобы спрятать перстень. Вернулась мать с чашкой чаю на подносе. Цилиндрика у нее уже не было. Она улыбалась, довольная, словно кошка, налакавшаяся молока из блюдца и уверенная, что уж теперь-то никто не сможет ее опередить.
На следующее утро, когда мать уехала, Томас наткнулся на цилиндрик, даже не пытавшись найти его. Он просто лежал на выступе кухонной трубы, между коробкой с солью и банкой с мукой. Томас улыбнулся, подумав, что мать наверняка читала «Украденное письмо» Эдгара По. Чтобы надежно спрятать какой-либо предмет, его нужно оставить на виду. Он взял цилиндрик, чтобы еще немного насладиться зелеными лучами. Но в вату и бумагу был завернут орех.
* * *
Гризельда сошла с поезда в Берлине с сыном, служанкой и всем багажом. Служанка по имени Бетти в действительности была ее давнишней горничной Молли, покинувшей Сент-Альбан вместе с ней; с тех пор они не расставались. Горничная, подруга, едва ли не сестра, Молли была на несколько лет моложе Гризельды. Она начала служить хозяевам Белого дома на острове с радостью, будучи еще подростком; их совместные приключения начались после сражения 1892 года, когда едва не погибли Шаун и Аран Ферган, двое мужчин, которых они любили. Сейчас Ферган, ставший механиком, сопровождал Шауна, отправившись вместе с ним в Пекин. Из пяти существ, покинувших Сент-Альбан и устремившихся в океанские туманы, сейчас отсутствовал только Ардан, колли Гризельды. Вместе с двумя парами он проделал путешествие в Америку, а потом из Америки в Индию, климат которой ему не подходил. Он лишился легкости и живости, медленно бродил по комнате и то и дело забирался в тень, чтобы заснуть.
Он сам почти превратился в тень, стал воспоминанием. Несмотря на климат, или вопреки ему, он все же прожил долгую собачью жизнь. Он умер, оставаясь гордостью четырех стихий.
* * *
Фантастическое нагромождение облаков медленно выползало из-за горизонта вместе с восходящим солнцем. Это было признаком приближающегося с востока муссона. Прибыть он должен был через несколько часов, верный ежегодному свиданию, назначавшемуся ему махараджей. Все необходимое для жертвенной процессии было готово. Все обитатели дворца, как и окрестное население, уже несколько недель трудились над подготовкой. Накануне, посмотрев на солнце, махараджа сказал: «Завтра». И всю ночь в залах дворца, в стойлах слонов, в хижинах трех ближайших к дворцу деревень их обитатели с привычной медленной и спокойной радостью укладывали на землю цветы, обновляли рисунки на стенах, краску на животных и на лицах. Утром медленно кипящие облака заполонили небо от горизонта и до макушек деревьев.
Шаун поспешно переоделся и отправился осматривать автомобили. Он провел множество часов, наводя на них лоск с помощью Фергана и местных помощников. Гризельда сидела перед украшенным цветами зеркалом в своей комнате с сине-зелеными мозаичными стенами. Молли закончила причесывать ее, затем помогла облачиться в шелковое сари соломенного цвета, расшитое золотыми нитями, и надеть на голову вуаль с вышитыми на ней золотом квадратами, ромбами, розетками и множеством миниатюрных цветов лотоса. Обнаженный мальчик, загорелый до черноты, с огромными глазами и ослепительной улыбкой, дергал за веревку большого опахала, перемешивавшего горячий воздух. Закончив помогать хозяйке, Молли бросилась переодеваться.
— Идем, Ардан, — обратилась Гризельда к собаке, направляясь к дверям. Но Ардан даже не пошевелился. Он лежал на белом ковре, положив большую голову между вытянутых вперед лап и подняв на Гризельду взгляд, полный любви и сожаления. Сидевший возле него Рам негромко твердил что-то очень печальное. Рам — это белая обезьянка ростом не выше сапога, легкая как перышко, с момента их приезда в Индию подружившаяся с Арданом. Едва пес вставал, чтобы пройти хотя бы несколько шагов, Рам вспрыгивал ему на спину, чтобы прокатиться. Когда Ардан ложился, Рам сначала с возмущением крутился вокруг него, потом садился рядом и начинал искать несуществующих блох. Он оставлял собаку только на пару минут, когда отбегал к столу, чтобы проверить, какие фрукты появились в вазе. Потом возвращался к Ардану и обязательно делился добычей с другом. Ардан, получивший кусочек апельсина, делал вид, что жует его, исключительно для того, чтобы сделать Раму приятное.
Гризельда опустилась возле Ардана на колени. Большой пес попытался вильнуть хвостом, но у него даже на это не хватило сил. И Гризельда сразу же поняла, что все кончено, что это последний день Ардана, что сегодня он умрет. Она никогда не хотела думать, что этот день рано или поздно наступит; Ардан давно стал частью ее самой. Ей казалось, что он всегда был рядом, что родился одновременно с ней. И что он сознательным усилием продлил свою жизнь только для того, чтобы не расставаться с ней. Но сегодня никак не мог удержаться на берегу, он должен уйти. Для него все было кончено.
Она почувствовала необычную тоску. Огорченная, она обратилась к Ардану:
— Ах, Ардан!.. Это невозможно!.. Он печально посмотрел на хозяйку. Пес не очень хорошо понимал, что происходит с ним, но чувствовал, что оказался в чем-то виноватым Он должен был участвовать вместе с хозяйкой в торжественной процессии, но был не в силах встать на ноги. Возможно, он смог бы встать, если бы очень захотел, но у него не было сил захотеть.
Гризельда негромко сказала:
— Ты все же будешь рядом со мной… Наклонившись, она взяла его на руки. Рам запрыгнул ей на плечо. Гризельда выпрямилась, подумав с удивлением, что Ардан стал невероятно легким, словно лишился всей своей материальной субстанции. Она вышла с двумя животными — одним на руках, другим на плече, — чтобы принять участие в торжественной встрече воды.
Слуги закрыли западные ворота, выходившие к озеру, и открыли восточные ворота, постоянно остававшиеся закрытыми, за исключением сегодняшнего дня. Прогремел гигантский бронзовый гонг, заставивший взлететь тучи птиц с крыши дворца. Из дворца вышла стража махараджи, наряженная в шотландскую униформу — мохнатые шапки, красные куртки и чулки, килт в зеленых квадратах, белые гетры. За ними появился первый слон в окружении музыкантов с бубнами, с обнаженными торсами и в бледно-голубых индийских юбочках. Первым был самый большой слон махараджи, невероятно старый и умный, как гуру. Его голову от макушки до конца хобота закрывала вышитая золотом парчовая маска с цветами лотоса, изображенными с помощью мелких жемчужин; на уши опускались кружева, вышитые серебром. Овальные отверстия в маске оставляли открытыми глаза, обведенные черной краской. Над правым ухом находилось изображение солнца, а над левым — сердце Иисуса и крест. Между глазами плясал серебряный Вишну, создававший своими движениями три направления в пространстве.
Большой слон размеренно шагал, своими плавными покачиваниями отражая движение нашего мира. В тот момент, когда его огромные бивни показались из ворот, на дворец обрушились первые раскаты грома и тысячи серебряных колокольчиков зазвенели, откликнувшись на гром. Дувший с озера ветер внезапно затих, но в это же время подул ветер из леса, принесший ароматы бесконечного зеленого пространства.
Толпа, издававшая радостные крики, бросала букеты цветов и пригоршни риса под ноги слону, величаво шагавшему в пурпурной попоне. На спине у него находился первый в этих краях автомобиль. Это был даймлер мощностью в 24 лошадиных силы, собранный в Америке Шауном, с деревянными колесами, резиновыми шинами и с наружной цепной передачей. Его полностью, включая шины, покрывала золотая ткань. За рулем сидел Шаун в кожаной куртке, каскетке и больших очках. Позади Шауна сидел махараджа на резном троне из слоновой кости, инкрустированном семью тысячами триста тринадцатью бриллиантами, похожими на дождевые капли. Его белые одежды и белый тюрбан были усеяны жемчужинами, и седая борода казалась белее его одежд. Он дважды нажал на грушу, и большая труба испустила два звонких крика.
Толпа заревела от восторга. Загремели бубны, десятки разновидностей духовых инструментов взвыли одновременно, создавая жуткую какофонию. Появился второй слон в красной с желтым попоне. На нем сын махараджи, черноволосый юноша в фиолетовых с красным одеждах, сидел за рулем синего одноцилиндрового автомобиля фирмы «Де Дион-Бутон» мощностью 6 лошадиных сил. За ним шел третий слон, укрытый зеленой с желтым попоной с голубым олдсмобилем на спине. В нем сидели Гризельда и Молли с Арданом на коленях; вокруг них прыгал верещавший Рам, то и дело дергавший Ардана за хвост, чтобы заставить его пошевелиться.
Затем появились и другие слоны с другими автомобилями на спине и с седоками, представленными местной знатью.
Каждый год у махараджи появлялись один или два новых автомобиля, за которыми он отправлял Шауна в Европу или Америку. Из-за отсутствия автомобильных дорог вся эта техника могла передвигаться только на спине у слонов.
Вместе со слонами в процессии участвовали сооружения из цветов и зеленых ветвей, увешанные фруктами и усыпанные рисом, статуи богов, сундуки с сокровищами махараджи, группы танцоров, танцовщиц и обнаженных детей, священные коровы, обезьяны… Завершал процессию слон с тигром на спине. Это был очень старый тигр с позолоченными клыками. Он сидел в клетке из брусьев сандалового дерева, покрытых искусной резьбой.
Эти сокровища и произведения искусства были выставлены на дождь, чтобы выразить ему благодарность за возвращение, и в надежде, что он подарит им свое расположение и обеспечит животным и людям плодовитость.
Торжественный кортеж, сопровождаемый кричащей, поющей и танцующей толпой, проследовал через три деревни, после чего вернулся к дворцу. На всем пути его сопровождали тучи. Теперь они затянули половину неба, тогда как вторая половина оставалась чистой. Тучи непрерывно пронизывали красные, розовые и белые вспышки молний. Гром гремел сильнее, чем сто тысяч барабанов и пушечных залпов; в краткие моменты затишья можно было услышать шум ливня, падавшего на лес.
Ардан на руках у Гризельды дышал с трудом. Она тихо беседовала с ним, и он слышал ее, несмотря на гром небесных фанфар. Гризельда говорила:
— Не горюй, Ардан, мы расстаемся ненадолго… Ты попадешь в рай, а для тех, кто находится там, время не имеет значения… Там есть остров… Это Сент-Альбан, с белым домом и цветущими круглый год рододендронами… Там ты подождешь меня. Может быть, ты встретишь там Эми и своего приятеля, белохвостого лиса Уагу. Когда я присоединюсь к вам, мы снова станем резвиться под небом Ирландии, таким ясным и нежным… И Шаун приедет за нами на своей машине, и мы увидим, как мелькнет белый хвост Уагу в зарослях азалий… Ах, Ардан, не нужно горевать, не нужно… Муссон добрался до дворца одновременно с процессией. Пучок молний обрушился на крышу. По путям из сплетений серебра небесное пламя достигло земли и укоренилось в ней. И вода рухнула на землю, словно сверху обрушилось море. Золотой колокол без языка, образованный спиралями змей времени с сидящим на нем Вишну, зазвенел, и все колонны, все своды дворца ответили ему. Десница бури нанесла удар по олдсмобилю, превратившемуся в шлюпку, подгоняемую волнами. Чудовищные удары грома и огромные массы воды обрушились на землю. Мокрая до последней нитки Гризельда прижимала к сердцу пустоту. Ардан, не сделавший выбора между двумя половинками неба — синей и черной, — устремился к острову под изумрудным небом Ирландии.
* * *
Гризельда провела в Берлине три дня в отеле, где у нее был забронирован номер. Днем она гуляла по городу вместе с сыном, а в первую же ночь ее посетили двое мужчин, остановившихся в этой же гостинице. Следующей ночью с ней встретились двое других мужчин. Когда она села в поезд, идущий в Москву, у нее с собой уже не было денег, оставленных Шауном. Через несколько дней из порта Гамбурга вышел пароход с грузом оружия для тайной ирландской армии.
Элен отнесла перстень с изумрудом, подаренный Гризельдой, в сейф «Бритиш Банка», потом, охваченная тревогой, забрала его. Она чуть ли не ежедневно перепрятывала его, сообщая Томасу в записке на клочке бумаги, куда она спрятала его, — на случай своей неожиданной смерти. Ее характер резко изменился. Короткие минуты хорошего настроения сменялись часами тревоги. У нее появилась надежда приобрести остров, пусть и очень нескоро. Если бы только Томас начал зарабатывать деньги, чтобы быстрее набралась требуемая сумма… Тогда она позовет Китти в белый дом, а может быть, и Джейн с ее детьми… Почему бы ей не оставить своего жуткого Эда Лейна? Не исключено, что когда-нибудь и Гризельда… Не станет же она проводить годы под чужой фамилией… Не исключено, что Шаун когда-нибудь оставит ее одну — ведь он гораздо старше ее…
Тревоги Элен были вызваны боязнью потерять камень… И его ведь могли украсть…
Она посетила банк, чтобы узнать у директора, не сможет ли он взять Томаса на работу. Перечислила его достоинства: знание английского и французского языков, его общий культурный уровень, достойный студентатретьекурсника Оксфорда. В этом нельзя было не увидеть и ее влияние… Мистер Виндон не нуждался в уговорах и просьбах. Он был бесконечно рад. Теперь ему будет гораздо проще следить за наивным юношей, чем за полной подозрений женщиной. И он сказал Элен, что может принять Томаса на работу немедленно.
Элен, охваченная радостью, вернулась домой. Она уже видела Томаса начальником отдела, потом руководителем отделения «Бритиш Банка» в Ирландии, желательно в Донеголе. Им не придется ждать, когда он станет директором, чтобы вернуть остров…
Томас начал работать 3 июня, так как 1 июня пришлось на субботу. «Бритиш Банк» в своем расписании применял «английскую неделю».
* * *
Саид, живший в Ботаническом саду слон, умер. В приступе бешенства он убил своего сторожа, старшего капрала Нефа. Потом он пытался повсюду найти его, отказываясь от пиши. В итоге умер от тоски.
Звуковой кинематограф, находившийся на бульваре Страсбург, объявил о своей новой семейной программе по утрам в четверг и в воскресенье.
Решительные возражения вызвал правительственный проект Жоржа Клемансо ввести налог на прибыль.
В Соединенных Штатах на выставке в шахте погибло сто человек.
В России граф Алексей Игнатьев был убит анархистом. Убийца покончил с собой. Еще один революционер, аристократ по происхождению, убил генерала Павлова. Суд приговорил его к повешению.
В Гренобле, в доме бакалейщика, появился призрак, сильно шумевший по ночам. Он тряс двери, стучал по перегородкам, швырял на пол кастрюли. Допрошенный комиссаром полиции, призрак ответил с помощью азбуки Морзе, что он был артиллеристом.
После ряда происшествий на китайских железных дорогах участники пробега Пекин — Париж наконец прибыли со своими автомобилями в Пекин. Пока они не смогли выяснить, удастся ли им реализовать свой проект. Высший советник империи Вэй Ву Пу отказался выдать им паспорта, позволяющие проехать через Маньчжурию. Он считал, что Маньчжурия населена варварами и бандитами, способными убить кого угодно. В связи с этим посол Франции в Китае прислал телеграмму в МИД Франции. Он считал, что решение Вэй Ву Пу является для коренных китайцев всего лишь способом показать свое отношение к императрице Тсу Хи, родившейся в Маньчжурии. Посол считал, что проблема будет решена после того, как императрица примет участие в праздновании дня Пахаря, на который она пригласила все противодействующие стороны.
Что касается сведений о бандитах в Маньчжурии, у посла не было точной информации, хотя в целом он придерживался взглядов Вэй Ву Пу. Правда, он считал, что никакие бандиты не смогут помешать отважным автомобилистам. Гораздо существенней были сведения о полном отсутствии дорог как между Пекином и Маньчжурией, так и на территории последней.
* * *
Шаун и его соперники по пробегу Пекин — Париж, смешавшиеся с приглашенными к императрице, толпились на террасах, возвышавшихся над Полем Вспашки, поблизости от замка первых Пахарей. Поле для вспашки было квадратной формы, как и город возле него. Город, основанный за две тысячи лет до Рождества Христова, на протяжении столетий неоднократно разрушавшийся, сносившийся с лица земли, сжигавшийся, каждый раз восстанавливался, сохраняя все те же квадратные очертания, потому что он находился в центре Срединной империи, находящейся в центре Земли, имеющей квадратную форму.
Наступил первый день второго периода весны, и желтый ветер носившийся над Китаем с начала времен, приносил на западные равнины огромное количество мельчайшей пыли. Она покрывала площадь, на которой происходила церемония, холм и храм сухим туманом, набивалась в глаза, проникала в легкие, накапливалась в карманах; она закрывала солнце, походившее на бледный блин. Шаун жевал эту пыль подобно лошади, грызущей удила, и она постоянно скрипела у него на зубах.
Он гораздо меньше, чем в Европе, опасался, что его опознают, а поэтому отбросил свой поддельный индусский облик и сбрил неприятную ему бороду, рассчитывая, что у нее будет достаточно времени, чтобы отрасти во время пробега. На нем были костюм кремового цвета и мягкая соломенная шляпа. Его лицо, изменившееся под лучами южного солнца Индии, походило на тропическую древесину, а годы опасностей оставили на нем резкие морщины. Его светлые глаза казались окнами в тайну под защитой черных ресниц.
В толпе раздались крики, и одновременно заиграла пронзительная гремящая музыка, сопровождаемая таким же пронзительным пением. Императрица в желтом вышла из храма и двинулась по полю вслед за желтым быком, тянувшим желтый плуг, за рукоятки которого она ухватилась.
Ее сопровождали девять принцев, один из них держал в руках бич, второй нес зерно, а третий сыпал зерно в борозду.
— Как вы думаете, что они решили посеять? — спросил у Шауна находившийся рядом человек. Это оказался атташе британского посольства, представившийся как Эдвард Лайонс. Высокий, толстый, широкоплечий, он говорил, как чистокровный француз, и потел, как немец, выпивший по меньшей мере три литра пива.
— Вы не думаете, что это их кошмарная соя? Шаун ответил неразборчивым ворчаньем. Мужчина не отставал от него ни на шаг. Шаун пытался избавиться от него, переходя от одной группы зрителей к другой, но этот атташе тут же появлялся рядом и начинал говорить. Его белый костюм пожелтел под мышками и на спине. Штанины его брюк казались широкими, словно мешки. Он не походил ни на английского дипломата, ни вообще на англичанина, если не считать рыжих усов и прекрасного произношения, хотя иногда он старался так, что подбородок почти опускался на грудь. Пыль пользовалась этой возможностью, чтобы забраться ему в горло. Он кашлял, вытирал платком пот, смеялся и продолжал говорить.
— Впрочем, я ничего не понимаю в сельском хозяйстве!.. Когда впервые увидел козу, я решил, что это осел!.. Ха-ха-ха! По периметру террас на холме были расставлены скульптуры тигров и разнообразные каменные стелы. Синие и белые павлины, а также редкие королевские павлины с желтым оперением лениво бродили среди приглашенных. В толпе преобладали западные дипломаты и военные с иконостасом орденов и медалей на груди; встречались также мандарины в роскошных одеяниях, часто сидевшие на стуле под зонтиком в руках кого-нибудь из слуг, якобы защищавшим их от пыли, вельможи, начальники провинций, вожди внешних племен и генералы в сопровождении вооруженной охраны.
Генерал, командовавший французским гарнизоном, беседовал с принцем Боргезе, водителем принадлежавшей ему итальянской машины. Ему пришлось немного посторониться чтобы синий павлин смог пройти между ним и сидевшим на стуле мандарином. Из рукава мандарина высунулась голова собачонки, яростно залаявшей на эту громадную курицу. Павлин остановился, повернулся к собачке и прокричал трубным голосом:
— Хе-хон! Все павлины, находившиеся на восьми террасах холма, остановились и дружно провозгласили:
— Хе-хон! Звуки фанфар их голосов раскатились по окрестностям, заставив завихриться продолжавшую сыпаться с неба пыль. Пожилая императрица с раскрашенным лицом без единой морщины под своей шапочкой-короной, с которой вдоль ушей стекали струйки из больших жемчужин, продолжала продвигаться вперед по борозде, такой же прямой, как и ее стан.
Месяц назад она получила поздравления и подарки в связи с днем рождения. Ей исполнилось семьдесят три года.
— Посмотрите на нее! — сказал Лайонс. — Она добралась уже до середины участка! Если бы могла, она начала бы подгонять быка, который идет слишком медленно для нее!.. Она способна шагать гораздо быстрее, ведь у нее такие большие ноги! Она родом из Маньчжурии!.. Вы знаете, что изуродованные маленькие ножки китаянок с большим пальцем, подвернутым под ступню, считаются эротическим символом для их мужей? Не знаете? Ах, эта ужасная пыль… Скажите, сколько воды вы возьмете с собой, если собираетесь пересечь пустыню?
Шаун чувствовал, как в нем растут одновременно гнев и тревога. Сначала он подумал, что толстяк всего лишь глупый болтун, но потом решил, что Лайонс старается разговорить его. Ему нужно было соблюдать осторожность. Он слишком мало времени провел в Соединенных Штатах, чтобы сойти за коренного американца, хотя бы и давно живущего в Индии. Стоит ему произнести несколько фраз, и любой человек сразу поймет, что имеет дело с ирландцем.
— А вы знаете, почему бык и плуг желтые? И почему императрица и ее окружение одеты в желтое? Потому что это цвет солнца!.. Мне кажется, вы сомневаетесь? Ха-ха-ха! Пожилая дама ведет свою борозду с востока на запад, в соответствии с движением солнца! Она играет роль солнца, когда оно оплодотворяет Землю, она напоминает Земле о ее обязанностях! Она является оплодотворительницей! Ха-ха-ха! Старый дракон-самка! Она была наложницей императора в семнадцать лет, оказалась у власти в тридцать пять, стала отравительницей в сорок шесть, императрицей в сорок семь, оказалась в тюрьме в шестьдесят четыре… Проведя в тюрьме всего три месяца, она ухитрилась вернуться на трон… Это умное, безжалостное существо… Империя держится только ее усилиями… Когда она умрет, все рухнет на ее труп… А этот французский автомобиль на трех колесах, как он называется? Кажется, «Мототри»? Нет? Разве это не безумие? Нет? Или это гениальная придумка… Она пройдет там, где вы не сможете проехать, но разве она сможет забрать с собой нужное количество бензина, воды, продовольствия? Куда все это поместится? Что вы об этом думаете? Это похоже на самоубийство! Шаун был уверен, что мужчина пытается получить сведения о нем. Он что-то подозревает? Какое подтверждение требуется ему?
— Вы победите! — уверенно заявил Лайонс. — У вас лучшая машина!.. Я обязательно буду в Париже, когда вы окажетесь в двух шагах от финишной ленточки… Буду крайне рад приветствовать вас… Я могу узнать, в каком отеле вы собираетесь остановиться? Шауну очень хотелось ответить ему по-ирландски — хорошим ударом кулака по физиономии, ударом, способным отправить его кувыркаться среди павлинов и мандаринов. Но он не мог доставить себе подобное удовольствие. Ему пришлось сказать: «Не знаю!», причем таким резким тоном, что в этой фразе пропал любой акцент и малейшая вежливость. Лайонс помолчал несколько секунд, глядя на Шауна с легкой улыбкой, затем сказал:
— Вы мне очень симпатичны… Покачав головой, он повернулся к Шауну спиной и удалился. На следующее утро, на заре, небольшая группа татарских всадников в красных халатах и черных шапках, предводитель которых присутствовал на церемонии вспашки, покинула Пекин через северные ворота. Все ворота города открывались на север, юг, восток и запад, потому что четыре стороны света являются главными направлениями, по которым можно попасть из Срединной империи в другие земные государства.
Татары ехали на небольших быстрых лошадях с длинными хвостами. Члены племени кочевников, они не только занимались разведением лошадей, но были также воинами и разбойниками. У их предводителя на шапке можно было разглядеть золотые буквы. Ночью у него в квартале, где обосновались дипломатические миссии, состоялась встреча с Эдвардом Лайонсом, передавшим ему сделанную накануне фотографию «Золотого призрака». Вместе с фотографией предводитель татар получил два кошелька; в одном из них находились золотые китайские монеты, а в другом — небольшие кусочки серебра, отрезанные ножом от большой серебряной пластинки, используемые, после взвешивания при купле-продаже, как деньги у монголов. Китайские монеты были круглыми, с квадратным отверстием в центре. Они символизировали квадратную Землю, окруженную небом, которое, как известно, имеет круглую форму.
* * *
Как и предполагал посол Франции, Вэй Ву Пу в конце концов передал участникам пробега паспорта с написанными кисточкой китайскими иероглифами на бумаге из бамбука. Конечно, маньчжуры и монголы не умеют читать по-китайски, но можно было надеяться, что императорская печать внушит им уважение.
Старт пробега состоялся 10 июня. Теплый ясный день оказался праздничным для жителей столицы. Кортеж, возглавляемый оркестром, выехал из квартала дипломатических представительств и покинул город через северные ворота. За музыкантами, игравшими бравурную мелодию, ехал генерал, командующий французским гарнизоном, за ним следовали четыре колониальных стрелка, возглавляемые гигантом-сержантом, над которым развевалось трехцветное знамя. За ними тянулись автомобили в дыму и грохоте двигателей. Машины расположились в порядке, соответствовавшем очередности их занесения в перечень участников соревнования, что позволило поставить французов первыми. Поэтому в начале колонны оказались два «Де Дион-Бутона», за ними двигались «Мототри», голландский «Спайкер» и «Итала» принца Боргезе. «Золотой призрак», записавшийся последним, замыкал колонну. Таким образом, Шауну и Фергану доставался выхлопной газ, выбрасываемый всеми прочими автомобилями колонны. Но для них запах бензина и сгоревшего моторного масла был мужественным запахом действия и приключения. В багажнике «Золотого призрака» помещались три бочки с 200 литрами воды в одной из них и 400 литрами бензина в остальных, палатка, одеяла, продовольствие, покрышки, запасные части, веревки, цепи, инструменты, домкрат, доски для подкладывания под колеса при опасности увязнуть в песке или грязи и множество других предметов, которые Шаун посчитал необходимыми, в том числе два американских автоматических ружья, два револьвера с патронами и несколько шашек взрывчатки. С этим грузом Шаун должен был подняться на 1000 метров, чтобы преодолеть горный хребет с Великой Китайской стеной. Это была единственная машина с правым расположением руля.
Главный мандарин Пекина крайне предусмотрительно обеспечил поливкой улицы, по которым должны были проехать автомобили. Без этого по городу прокатилось бы огромное желтое облако пыли, так как проезжая часть на улицах Пекина была завалена пылью, падавшей с неба добрую сотню тысяч лет.
Конь генерала, нервный жеребец белой масти, напуганный шумом моторов, танцевал, едва подчиняясь уздечке. Всадник с трудом удерживался в седле, не позволяя коню сорваться в галоп, с ним или без него.
— Ты видел лошадь? — крикнул Шаун Фергану. — Это ирландец из Галвея! Бедняга! Что он делает в Китае? — А мы? — крикнул в ответ Ферган. Они рассмеялись. Толпы китайцев заполнили улицы; они обменивались впечатлениями, смеялись, кричали, качали головами, что заставляло болтаться у них на спине длинным лошадиным хвостам. Их очень забавляла борьба генерала со своим конем, тогда как автомобили никого не удивляли. Они воспринимали машины как драконов, а грохот моторов — как непрерывные взрывы петард, всегда применяющихся на всех праздниках и на похоронах.
Министр провинций отправил курьеров всем мандаринам городов и деревень, через которые должны были проезжать участники пробега, с предупреждением, что они увидят появление повозок без лошадей с сильным грохотом и дымом в сопровождении сильного отвратительного запаха. Никто не должен был пугаться этих повозок, так как они никому не причиняли вреда.
После нескольких узких улочек процессия подошла к еще более узкой улочке, проходившей между крашеными фасадами домов с лавками на первых этажах. Шум двигателей заметно усилился благодаря отражению от стен домов. Объявления торговцев на полосах шелка скрылись в поднявшихся над улицей облаках пыли и синего дыма.
Со стен посыпались куски побелки и краски. Конь генерала встал на дыбы и прыжком взвился в воздух. Китайцы хохотали как сумасшедшие и затыкали уши. Оркестр играл «Проезжая по Лотарингии».
Генерал воспользовался моментом, когда его конь опустился всеми четырьмя копытами на землю, и постарался спрыгнуть с него. Конь помчался галопом, брыкаясь через каждые десять метров. Генерал запрыгнул в передовой «Де Дион-Бутон», но в нем не нашлось свободного сиденья, и он стал первым в мировой военной истории генералом, проехавшим в торжественной обстановке, стоя в автомобиле.
Колонна выбралась из Пекина в девять утра через ворота Тен-ЧенМен. Отряд колониальной кавалерии с всадниками в белых шлемах ожидал здесь участников пробега, чтобы сопровождать их до Великой стены. Возле них в закрытом фиакре европейского типа сидел толстяк. Это был британский атташе Эдвард Лайонс. Он дружелюбно приветствовал всех участников пробега, уделив особенно пристальное внимание Шауну. Толстяк уже обливался потом, хотя утро не было жарким. Дул восточный ветер, подгонявший тяжелые серые тучи, собиравшиеся пролиться дождем над ближайшими горами.
Появление британского дипломата испортило Шауну настроение. Если выяснится, что английская полиция обнаружила его, ему придется покинуть Марабанипур и, по-видимому, вернуться в Америку. Или же отправиться в Ирландию, чтобы вступить в ряды тайных борцов против англичан, поскольку ему давно хотелось поступить таким образом. Этот вариант показался ему предпочтительным, и его настроение улучшилось. Он сейчас хотел бы надавить на педаль газа и помчаться на большой скорости, чтобы успокоить нервы, но такой возможности у него не имелось. Дорога была усеяна камнями, постоянно встречались рытвины и ямы. Водителю то и дело приходилось объезжать препятствия, тормозить, снова набирать скорость, карабкаться на бугор, огибать похожую на айсберг каменную глыбу, торчащую посреди дороги. В итоге скорость автомобиля вряд ли намного превышала скорость пешехода.
Вскоре повстречалось и первое серьезное препятствие в виде моста через ручей, раздувшийся после дождя. Замечательный мостик, построенный около двух тысяч лет назад, настоящее произведение искусства из мрамора, со статуями людей и животных, похожих на львов. Даже проезжая часть моста была выложена мраморными плитами. Но с каждой стороны мост возвышался на метр над подходящей к нему дорогой. Большая толпа кули ожидала подъезжающие машины. Они рассчитывали за хорошую плату выручить погонщиков повозок без лошади, сначала подняв машины на мост, а затем спустив их с моста на другой стороне с помощью веревок, цепей, талей и досок. На всю операцию требовалось каких-то три-четыре часа.
Подобная странная методика строительства мостов была связана с мудростью одного из первых китайских императоров, управлявшего страной вскоре после изобретения колеса. Как только появилось колесо, как началось строительство колесных повозок, на которых предприимчивые горожане отправлялись в деревню, где скупали дешевое зерно, потом продававшееся в городе по высокой цене. Мудрый император приказал снести обычные мосты и заменить их мостами, недоступными для повозки на колесах. Одновременно он приказал построить на городских перекрестках и улицах в местах, где их невозможно было объехать, мраморные лестницы, уставленные скульптурами драконов и великих людей. В результате китайцы были вынуждены отказаться от транспортировки грузов на повозках и возобновили перетаскивание грузов на спине. А так как на спине много не перенесешь, сама собой прекратилась скупка зерна в сельской местности и спекулятивная его продажа в городах.
Первый этап закончился в городе Нан-ку. Водители и механики переночевали в корчме, в обшей комнате. Постели и изголовья были сложены из кирпичей, о подушках, матрасах или тюфяках здесь никто не слышал, но зато насекомые присутствовали в изобилии. Шаун и Ферган предпочли дремать, сидя в «Золотом призраке», поставленном во дворе рядом с остальными машинами. Выспаться им не удалось и здесь, так как двор был заполнен верблюдами и их погонщиками. Если погонщики спали мертвецким сном, не обращая ни на что внимания, то Шауну и Фергану всю ночь мешали верблюды, то и дело испускавшие апокалиптические вопли, а в промежутках между криками дышавшие ненамного тише.
После Нан-ку использование двигателей оказалось невозможным из-за гористой местности. Дорога походила на русло горного потока, заполненное щебнем, валунами и грязью. Кули обвязали машины веревками и тянули их с песнями, смехом и криками до следующего города. Ночь в Чао-тао оказалась такой же жуткой, как и предыдущая; утром офицер, командовавший кавалерийским отрядом, распрощался с участниками пробега и вернулся в Пекин. Перед автомобилистами распахнулись ворота Па-та-ли, через которые вот уже двадцать три столетия желающие могли выйти на другую сторону Великой стены. Шел бесконечный дождь. Кули протащили автомобили через ворота по колено в грязи.
Сама гонка, если считать таковой соперничество между автомобилями, еще не началась. Шаун спокойно держался в хвосте колонны, стараясь передвигаться в полном одиночестве. Его добровольная изоляция облегчалась тем, что только принц Боргезе знал английский язык, но он, как и Шаун, не спешил вырываться вперед. Боргезе с уважением и тревогой относился к «Золотому призраку», поскольку видел, что только он может оказаться серьезным конкурентом его «Итале». Он не мог догадаться, что Шаун, несмотря на свой боевой характер, не собирался привлечь к себе внимание, первым закончив пробег в Париже.
После спуска с холмов, на котором машины приходилось не тянуть, а спускать на веревках, кули тоже оставили караван и вернулись в Пекин. Впереди простиралась плоская равнина, на которой машины могли начать соревнование в резвости. Теперь, чтобы добраться до Европы, достаточно было пересечь всего лишь пустыню Гоби, Сибирь и Урал.
* * *
Томас сидел за выделенным ему небольшим столом, застеленным темно-зеленым молескином. Началась вторая неделя его работы в банке. Он только что осознал весь ужас рабочего понедельника.
Накануне Леон предупредил его:
— Понедельник — проклятый день. Это день Луны, тогда как воскресенье — праздник, потому что это день Солнца. — Но сейчас идет дождь! — Ну и что? Конечно, можно думать, что по воскресеньям дождь не должен идти. И это правильно; но раз дождь все же идет, то это доказывает, что что-то нарушилось в нашей Вселенной после того, как Бог выгнал нас из Рая. Разумеется, это случилось в понедельник… Именно в этот день Господь сказал человеку: «Ты будешь в поте лица добывать хлеб свой», и именно с этого дня во всем мире мужчины потеют по понедельникам, где бы они ни находились, в школе или на кладбище… — Ты веришь этому? Рай, дерево со змеем? — Разумеется, я верю… И ты тоже должен верить в эту историю… Как и во все древние истории, даже если не понимаешь, что они означают. В начале каждой из них было нечто реальное, но со временем оно забылось. Представь, что ты вышел из кухни; до тебя доносится только запах отбивной; ты не видишь ее, ты не можешь дотронуться до нее, но отбивная существует, и ее запах пробуждает в тебе чувство голода. И ты можешь попытаться вернуться на кухню. В большинстве случаев человек умирает, прежде чем вернется на кухню и попробует отбивную, но ты все равно можешь попытаться найти ее… А по дороге не исключено, что ты наткнешься на листик салата или на ягоду малины. Они не избавят тебя от голода, скорее наоборот, но тебе будет приятно… Например, воскресный дождь меня часто заставлял задуматься. Ведь это день Бога, день Солнца. По логике вещей Бог должен дать нам в этот день Солнце. Ладно, он позволяет идти дождю, когда дети находятся в школе, а их родители на работе, но почему дождь идет в воскресенье? Ты не знаешь, почему? — Просто так! Он идет, вот и все! — Нет, не просто так! Ничего не бывает просто так… Все, что существует, существует для чего-то. Так и воскресный дождь… Он продолжает… Смелые рабочие с их забастовками и демонстрациями в конце концов добьются воскресного отдыха, но не воскресного Солнца, — как бы не так! — Они никогда и не станут требовать его! — Кто знает?.. Они сидели в гостиной на первом этаже. Леон в фиолетовом кресле вязал наколенники из желтой шерсти для Камиллы, жирафы, страдавшей от артрита. Хозяин назвал ее женским именем потому, что это животное хотя и было самцом, но все равно оставалось жирафой, то есть как бы существом женского пола.
Томас устроился с баночкой гуаши на ящике с удавом, который он предусмотрительно закрыл. Он спустился вниз, пока мать зашивала простыню с тщательностью паука-ткача. Сделанные матерью заплатки, четкие и даже красивые, похожие на вышивку, постепенно покрывали небольшой запас белья, захваченного из Англии, но чинить его было бесполезно, когда оно становилось прозрачным от многолетнего использования.
Держа на коленях большой альбом, Томас рисовал бороду Леона, залившую фиолетовое кресло, попугаиху Флору, затаившуюся в клетке, в лесу из толстых прутьев, коня Тридцать первого, дремлющего, словно сонное озеро.
— Однажды, — сказал Леон, — я все понял. Наверное, я был идиотом, если не смог понять этого раньше… Когда в воскресенье идет дождь, то это делается для того, чтобы люди поняли: не только Солнце считается праздником, но и дождь!.. А также ветер, буря, холод, жара… Короче, все! Это праздник мира, праздник жизни!.. Если ты понимаешь это, ты будешь радоваться, а не хныкать, ты всегда будешь счастлив! Когда это дошло до меня, я понял, что все дни для тебя могут стать воскресными, если ты будешь любить их, даже самые несчастливые. — Сходи завтра в банк вместо меня, — сказал Томас. — И ты сразу поймешь, как сильно ты любишь понедельник, вторник и все остальные дни недели! Из ящика под ним послышался шум. Извивы тела удава пришли в движение, сопровождавшееся шелковым шорохом чешуек, а его голова скребла крышку ящика. Он вскочил, указав пальцем на свое сиденье.
— Там внутри что-то шевелится! — Он проголодался. Последний раз перекусил в День всех святых… Я выпущу его на конюшне. Туда забегают крысы, питающиеся оставшимся у лошадей овсом. Когда он проглотит нескольких крыс, напугает остальных, и те убегут. Леон положил на кресло вязанье, снял с ящика крышку и наклонился над ним.
— Вылезай, Сифон, вылезай, мой красавчик… Он выпрямился, держа в руках несколько витков тела змеи. Распределив их по плечам и груди, он снова наклонился, чтобы извлечь остальное, обмотав на этот раз удава вокруг бедер. Потом наклонился в третий раз, и последняя порция удава обвилась вокруг него, а его голова с правого плеча, сделав несколько витков вокруг руки, протянулась к ладони. Напрягая все мышцы, Леон тяжело зашагал к двери.
— Ты останешься в банке, если создан для него… Но ты должен понять, хочешь ли свить свое счастливое гнездо в клетке, как Флора, или на вершине тополя, как Шама… — Да, — сказал Томас, — Шама вьет гнездо наверху, но спит он внизу, где теплее! — Это то, что называют компромиссом. Так поступает художник, когда ему не удается… Он толкнул двустворчатую дверь, и запах мокрой зелени ворвался в гостиную; в нем преобладали ароматы туи и дрока.
— Этот дождь прекрасен! Нарисуй дождь! Томас опустился на колени перед открытой дверью и положил альбом на пол перед собой. Несколькими быстрыми штрихами он нарисовал человека с грузом змеи на плечах, удалявшегося сквозь струи желтого дождя.
Сегодня он весь понедельник был заперт за столиком, плоским, пустым и зеленым, словно ночная темнота в глубине трясины, и даже не представлял погоду снаружи, потому что сидел спиной к окну, лицом к помещению банка, одинаково залитому электрическим светом, какой бы ни была погода.
Он извлек из ящика стола несколько пачек бланков и водрузил их высокой стопкой перед собой. Потом на столе появились два резиновых штампа и пахнущая чернилами плоская коробочка, которую он открыл. Бумаги перед ним были бланками чеков с напечатанным в верхней части листа лондонским адресом банка.
Томас взял самый верхний бланк, положил его на стол, придерживая левой рукой, схватил правой рукой первый штамп, смочил его в чернилах, приложив его к коробочке, а потом опустил на бланк, напечатав на нем таким образом адрес парижского отделения банка. Отложив первый штамп, он схватил второй, снова обмакнул его в чернила и напечатал на бланке справа сверху, затушевав слово «Лондон», слово «Париж» с длинной цепочкой точек, над которыми при заполнении бланка должна была появиться рукописная дата.
Он положил штамп, схватил бланк, положил его справа на стол, взял второй бланк, прижал его к столу левой рукой, схватил первый штамп…
Томас уловил, что у него за спиной остановился господин Паризо, заведующий отделом.
Он смочил первый штамп в чернилах, прижал его к бланку, положил его, схватил другой штамп, поставил его на бланк, положил, схватил бланк…
— Стоп, стоп, стоп! — произнес господин Паризо. Томас задержал движение руки, собиравшейся снять третий бланк со стопки.
— Я уже говорил, чтобы вы не действовали таким образом, господин Анжье… Ваш способ не рационален… Вы теряете много времени… Поставьте сначала первый штамп на все бланки, потом точно так же поставьте на все бланки второй штамп. Таким образом, вам не понадобится каждый раз брать по очереди оба штампа. И не делайте стопку бланков такой высокой… Работайте с небольшой стопкой… И не стоит лизать кончики пальцев, чтобы взять бланк со стопки… Это негигиенично как для наших клиентов, так и для ваших коллег, которым придется работать с этими бланками… Господин Паризо склонился над столом. Невысокий человечек лет пятидесяти, в серых брюках и черном пиджаке, с однотонным серым галстуком — все совершенно безупречно. Его усы и приглаженные волосы с пробором цветом соответствовали галстуку. Он протянул к лежавшему на столе бланку мертвенно-бледную пухлую руку.
— Вот видите, — произнес он. Кончиком пальца он постучал по слову «Париж» с точками после него.
— Вы держали штамп криво, поэтому слово и точки перекосились, получилось очень неаккуратно… Кроме того, парижский адрес должен находиться точно над лондонским адресом на расстоянии в пять миллиметров и идти параллельно ему, а не наискосок!.. Будьте внимательны, господин Анжье, небрежно оформленные бланки могут вызвать у клиентов недоверие к нашей фирме и повредить ее репутации… Господин Паризо был парижанином. Он обращался к Томасу как к «господину Анжье». Томас не привык к тому, чтобы к нему обращались по фамилии. А произношение его начальника делало обращение к нему еще более странным. Ему казалось, что обращаются к кому-то другому, к незнакомому ему юноше, сидящему за зеленым столиком под электрической лампочкой и занимающемуся чем-то крайне нелепым: штамп, бланк, смочить штамп, приложить к бланку, убрать бланк, взять другой, смочить штамп, приложить штамп к бланку, действовать правой рукой, действовать левой рукой, действовать правой рукой, приложить штамп к бланку… Работа не столько для человека, сколько для механического манекена, к которому обращался другой манекен с фонографом, спрятанным за его галстуком… И все происходило в странных декорациях у стены, обклеенной обоями; манекен, фонограф, картон, электрический свет, приложить штамп, лизнуть, приклеить, смочить штамп, приложить штамп… Господин Анжье… Господин Анжье…
— Я знаю, господин Анжье, что поступить на работу в банк в вашем возрасте можно только с надеждой вскоре стать крупным банкиром… Но, поверьте мне, господин Анжье, вы никогда не станете крупным финансистом, не зная основ этой профессии, не освоив умения правильно ставить штамп на бланк… Томас штамповал бланки на протяжении десяти часов в понедельник, во вторник, в среду… Он занимался этой деятельностью всю предыдущую неделю. Начиная с этого четверга его движения стали автоматическими, и отштампованные бланки выглядели идеально. Они уже заполнили половину металлического шкафа. Их никто не собирался использовать, так как у каждого сотрудника банка уже имелись бланки, отпечатанные на французском языке. Но господин Паризо, как заведующий отделом, был счастлив, создавая дополнительный резерв бланков, никому не нужный, но существующий. В субботу он сообщил Томасу:
— В понедельник я переведу вас на работу с финансами. Желаю вам хорошо отдохнуть в воскресенье, господин Анжье. Потом он нацепил металлические прищепки на свои брюки, сел на велосипед с рулем, напоминающим рога нормандской коровы, и устремился в сторону Клиши. Он жил в небольшом домике с миниатюрным огородом, в котором, начиная с полудня пятницы и все воскресенье, выращивал картофель, морковь и немного петрушки, а на деревьях у него созревали груши. Кроме того, на пятачке у дома цвели маргаритки и гладиолусы.
* * *
Пустыня напоминала громадную окаменевшую бурю. Застывшие волны красных скал высотой в сотни метров тянулись, сталкиваясь и разбиваясь, до самого горизонта, раскаленные и, как казалось, кипевшие на безжалостном солнце. Телеграфная линия на деревянных столбах, связывавшая Пекин с Россией, уходила вдаль, перепрыгивая с одной гряды на другую. Самым идеальным вариантом для участников пробега было следовать за ней, но для этого автомобили должны были превратиться в кузнечиков.
Служба, обеспечивающая создание в пустыне пунктов снабжения бензином, распределила бочки с горючим вдоль обычного пути передвижения, тысячелетней тропы, петлявшей от одного колодца к другому через бесконечное пространство скал и песка, не заботясь о необходимости придерживаться прямой линии. И автомобили были вынуждены придерживаться маршрута верблюдов.
С первых же километров мощность моторов обусловила существенные различия в положении машин. Шаун вышел на первое место, затем, с трудом сдерживая свой темперамент, пропустил вперед князя Боргезе. Правда, ему пришлось сразу же пожалеть об этом, так как пыльное облако за итальянской машиной долго висело в воздухе в промежутках между скальными волнами. Наконец дорога выбралась на голое плато, на котором пыльный след «Италы» протянулся до самого горизонта. Водителям, впечатленным окружавшей их бесконечностью, показалось смешным тупо следовать за идущей впереди машиной, ссылаясь на то, что она прошла какой-никакой, но все же дорогой. Шаун заметил, когда поднял на лоб свои автомобильные очки, далеко в стороне пунктир телеграфной линии и повернул машину в ту сторону. Имея с собой запас бензина на два дня, он мог позволить себе небольшое отклонение от традиционного маршрута.
Под тонким слоем пыли и песка находилось твердое основание. Шаун и Ферган, сменяя друг друга, поддерживали высокую скорость; однако незадолго до вечера машина остановилась. Бензобак оказался пустым, хотя горючего в нем должно было остаться не меньше трети объема. Очевидно, бензин быстро испарялся из-за сильной жары, чего никто не предусмотрел при подготовке автопробега. Шаун воспользовался имевшимся у него резервом и решил оставить телеграфную линию, чтобы вернуться на главную трассу.
Стемнело. Ферган установил палатку, и это был их первый ночлег в пустыне, под небом, усыпанным таким множеством звезд, что казалось странным, почему небо не рушится под весом звезд и их света.
Прежде чем уснуть, Ферган долго смотрел на небо. Лежа с полуоткрытым ртом, с блестящими в свете походного фонаря рыжими волосами, он выглядел наивным ребенком. Собственно говоря, он и оставался наивным человеком, несмотря на все приключения и схватки.
— Ах, Шаун, — прошептал он, — как это прекрасно!.. И звезд здесь в десять раз больше, чем у нас дома… — Их ничуть не больше, просто воздух здесь гораздо прозрачнее, и поэтому звезды видны лучше… — Как ты думаешь, их можно сосчитать? — Не знаю… — Их пришлось бы считать по ночам всю жизнь… Но с какой начинать? Ты наверняка вскоре забыл бы… — Да уж, можно не сомневаться… — Но сам Бог должен же знать, сколько у него звезд? Скажи, Шаун, он знает это? — Да, Ферган… — Конечно, ведь он невероятно велик, правда, Шаун? Они замолчали и вскоре уснули. Ночь была полна множеством звуков, едва слышных, близких и отдаленных. Потрескивал охлаждавшийся двигатель…
На заре первым проснулся Ферган, ему показалось, что он услышал крик петуха на ферме отца. Он сел, не сразу сообразив, что находится совсем не в Ирландии.
— Тише! — предупредил его Шаун. Ферган разглядел внутренности палатки и сразу же вернулся к реальности. Шаун стоял на коленях возле входа и всматривался наружу через узкую щель. Ферган прислушался. Снаружи доносились странные звуки, какие-то шорохи и как будто легкие шаги. Он заметил, что Шаун держит наготове свой револьвер. Упрекнул себя, что оставил свой револьвер в автомобиле. Бесшумно подобравшись к Шауну, он внезапно заметил, что тот негромко смеется. Выглянув наружу, он увидел «Золотой призрак», стоявший в нескольких метрах от палатки. Его медные детали сверкали в лучах восходящего солнца. Вокруг машины собралось несколько антилоп, напомнивших ему стайку любопытных девушек. Животные принюхивались к незнакомым запахам, царапали копытом потухшие угли костра, лизали кожаные чехлы. Одна из антилоп забралась в машину, где принялась жевать угол зеленой ткани.
— Это же моя рубашка! — заорал возмущенный Ферган и выскочил из палатки, осыпая антилоп гэльскими ругательствами. Антилопы сыпанули в стороны, словно испуганные блохи, и исчезли, оставив за собой облачко пыли. Шаун тоже выскочил из палатки и стоял в стороне, пока Ферган рассматривал свою рубашку, у которой не хватало почти половины полы.
— Мерзкие коровы! — сказал Ферган. — Ведь это моя рубашка из Донегола! Она всегда была со мной!
— Не жалуйся, — сказал Шаун. — У тебя все же осталось чем прикрыть задницу… Со всех сторон на каменистом плато возникали небольшие облака пыли, постепенно смещавшиеся в южную сторону. За ними в воздухе продолжало висеть немного пыли. Это были стада антилоп, охваченных общей тревогой.
— Никогда бы не поверил, что в Гоби столько зверья, — сказал Ферган, сворачивая все, что осталось от его рубашки. — Верить можно только тому, что ты видишь, — заметил Шаун. Он уже разглядел, что местами почву покрывала короткая колючая трава, пробивавшаяся сквозь пыль и песок. Ее было достаточно, чтобы служить кормом антилопам.
— Очевидно, неподалеку отсюда есть колодец или какой-нибудь другой источник воды… Они наткнулись на воду через пару часов. Это оказалось небольшое озерцо с прозрачной водой, образовавшееся в углублении, куда вода просачивалась из-под вертикальной скальной стенки.
Сюда подходила караванная тропа. В тени под скалой стояло пять бочек с бензином. Две из них уже были почти пустыми. Шаун и Ферган разглядели следы шин, оставленные «Италой» и двумя «Де Дион-Бутонами». Ферган заполнил все освободившиеся канистры, а Шаун решил захватить с собой одну полную бочку. Он не хотел оказаться привязанным к маршруту, которым передвигалась команда, обеспечивавшая снабжение гонщиков горючим. Предпочитал сам выбирать свою дорогу.
Погрузив бочку на машину и пополнив запас воды, они двинулись дальше и вскоре вернулись к телеграфной линии, ведущей в сердце Гоби. Это слово на маньчжурском языке означает «пустой, полый», что соответствует характеристике пустыни. Она возникла в депрессии, оставленной древним высохшим морем, и в ней царила страшная иссушающая жара, к которой не может приспособиться ни одно живое существо. На обочинах дороги постоянно встречались скелеты верблюдов, лошадей и быков. Только движение на большой скорости позволяло участникам гонки выдерживать жару. На гребнях скальных волн возвышались пирамиды из камней, воздвигнутые путниками, использовавшими эту дорогу на протяжении многих тысячелетий. Они завершались водруженными на макушку отбеленными солнцем черепами лошадей или быков с широко расставленными рогами. Вереница пирамид, казавшаяся бесконечной, уходила вдаль и терялась, не доходя до недостижимого горизонта. Караваны осмеливались проникать в эту смертоносную часть пустыни и передвигаться по ней исключительно ночью, стараясь преодолеть пекло в часы между сумерками и утренней зарей. Шаун и Ферган увидели во впадине, выстланной солью, блестевшей на солнце, словно зеркало, скелеты целого каравана, передвигавшегося недостаточно быстро.
Они молчали. Человеку нечего было сказать перед нечеловеческими размерами пустыни, перед могуществом природы. Солнце здесь уже не было творцом и защитником жизни; это было адское излучение, каждый день снова и снова поджаривавшее и убивавшее мир. Ощущения человека, пересекающего эту пустыню, были более чем волнующими, они находились на грани ужаса. Сердце Шауна, как казалось ему, раскалилось почти так же, как и пустыня.
Они очутились там, где линия телеграфных столбов продолжалась дальше по прямой, тогда как тропа отклонилась к северу и спустилась во впадину, заполненную солью. Казалось, воздух в ней был на точке кипения. Шаун решил следовать за телеграфной линией. В этом направлении не было никаких следов, но местность была совершенно ровной. Обогнув скалу, они въехали в песок, хорошо выдерживавший вес машины. Проехали в этом направлении несколько миль, стараясь не смотреть на мелькающие сбоку столбы и бесконечно ныряющие вниз и тут же снова поднимающиеся провода. Это проявление человеческой цивилизации, не складывающееся на абсолютную пустоту раскаленного мира, только увеличивало нереальность обстановки. Исчезли каменные пирамиды, перестали попадаться скелеты верблюдов, вообще исчезли все признаки не только человеческой деятельности, но и жизни вообще; только камни и красный песок продолжались в бесконечность, да еще тончайший волосок, прикрепленный к стоящим вертикально спичкам, исчезавший за горизонтом впереди и сзади…
Внезапно «Золотой призрак» резко клюнул носом и уткнулся в песок. Сидевший за рулем Ферган сразу же затормозил, включил заднюю передачу и попытался сдать назад. Однако колеса крутились вхолостую, а машина быстро погрузилась в текучий, словно вода, песок, сев на днище.
Шаун и Ферган, обливающиеся потом под палящим солнцем, принялись откапывать машину, используя подкладываемые под колеса доски, но им никак не удавалось выбраться из ловушки. Пытка солнцем была невыносима. Они чувствовали, как влага уходит из тела, и почти непрерывно пили воду, обливали себе голову и тело, но им не удавалось охладить себя, как невозможно охладить полено, сгорающее в печи, побрызгав на него водой. Они полностью разгрузили машину, чтобы облегчить ее, но, продвинувшись на несколько метров, снова увязли.
Солнце, похожее на раскаленное пушечное ядро, опустилось за горизонт, и жар доменной печи мгновенно сменился суровой прохладой. До предела измотанные путешественники уснули, завернувшись в одеяла и тесно прижавшись друг к другу. Проснувшись до рассвета, они позавтракали, воспользовавшись услугами полумесяца, заливавшего пустыню нереальным зеленым светом. Перекусив, продолжили схватку с песком. Им пришлось максимально облегчить машину, сняв с нее все, что удалось отсоединить. Когда от машины осталась только рама с двигателем, да еще колеса, Шаун сел за руль, Ферган принялся толкать сзади; только таким образом им удалось выбраться из трясины на твердую почву. Небо стало светлеть, когда они, разложив на одеяле все детали, что им пришлось снять с машины, начали чистить, смазывать и ставить их на место, заново собирая машину. Поднявшееся над горизонтом солнце снова принялось обжигать их, хотя воздух некоторое время оставался холодным. Приведя машину в порядок, они двинулись дальше, оставив все, кроме воды, бензина, продовольствия, оружия и нескольких одеял. Через час осторожной езды они добрались до идеально ровного каменистого плато. Мотор после вынужденной профилактики работал безупречно. Телеграфная линия походила на выпущенную из лука стрелу, вонзившуюся в горизонт. Солнце жгло им головы, проникая сквозь головные уборы. Шаун постепенно увеличивал скорость, и «Золотой призрак», легкий как ветер, мчался по твердой дороге сквозь горячий и совершенно сухой воздух. Стрелка спидометра сдвинулась с цифры 50 миль в час и быстро добралась до отметки в 80.
Одинокий в центре мира, пустого, плоского и круглого, как тарелка, далеко от конкурентов, судей и зрителей, отважный маленький автомобиль побивал все рекорды скорости, когда-либо достигнутые колесным механизмом с бензиновым двигателем.
— Ура! — заорал Ферган. — Подумать только, что это сокровище создали мерзавцы англичане! И он принялся распевать во все горло боевую песню, которую пели повстанцы Донегола. Шаун счастливо улыбался, несмотря на болевшую, в трещинах, кожу лица. Пустынный орел, поднявшийся так высоко, что его нельзя было увидеть, заинтересовался облачком пыли, пресекавшим его царство.
Вечером они наткнулись на дом.
Это был обыкновенный китайский дом с крышей из глазурованной черепицы, приподнятой по углам. Разумеется, дом был окружен квадратной оградой. Телеграфная линия подходила к дому, а затем выходила из него и продолжалась дальше. Это была промежуточная станция-ретранслятор. Внутри ограды находились колодец, цистерна для воды и небольшой огородик, защищенный от солнца решеткой из стеблей бамбука на четырех столбах. Под этой крышей росло даже сливовое деревце, на котором висела позолоченная клетка; в клетке сидела розовая птичка с синим горлышком.
В доме обитали китаец с женой и котом и стоял аппарат Морзе. Кот отличался густой шерстью, легкой, словно пух, цветом, близким к песочному с палевым оттенком. Морда и уши у кота были темно-коричневые, а глаза голубые, как небо пустыни на утренней заре.
Сюда поступали новости из Пекина, почти затухшие из-за большого расстояния, и аппаратура телеграфиста усиливала их и отправляла дальше в Россию. Точно так же он переправлял в Пекин новости со всего света, в том числе и из России. Два часа в сутки телеграфист крутил педали велосипеда, подключенного к динамо-машине, чтобы запасти необходимое количество электричества в своих аккумуляторах. Время от времени проходившие мимо караваны доставляли ему продовольствие; иногда его посещали кочевники-монголы. Он встретил иностранных гостей очень любезно, долго рассматривал повозку без лошадей и сообщил известные ему новости об автопробеге. Шаун и Ферган узнали, что два гонщика — на «Мототри» и «Спайкере» — сошли с маршрута.
Для работы на станции столичная администрация должна были найти человека не просто грамотного, но знающего несколько иностранных языков и разбирающегося в основных направлениях современной науки. Кроме того, человек должен был согласиться на продолжительное одиночество в пустыне.
Шаун отправил телеграмму Гризельде в московский отель «Метрополь». После этого телеграфист с поклоном поблагодарил его, так как это была первая телеграмма, отправленная с этого пункта за восемь лет его службы.
С наступлением ночи птичка в клетке принялась распевать. Ее песенка очень походила на соловьиную.
С зарей Шаун и Ферган двинулись дальше. По совету хозяина, они не стали придерживаться телеграфной линии, так как она должна была снова привести их к зыбучим пескам. Они направились точно на север, где надеялись снова выйти на основную трассу.
После многих часов монотонной езды по унылой равнине под палящим солнцем они достигли гигантского скального массива. Огромные скалы образовали кольцо, внутрь которого они проникли по узкому ущелью. Внутри кольца находился город.
Шаун остановил машину над обрывом. Под ними простиралось множество небольших белых зданий; в центре города располагалось четыре храма под коническими куполами, облицованнымих золотыми пластинами. Это оказался легендарный город, о котором им много рассказывали в Пекине. За все время его существования в город не входила ни одна женщина. Его обитателями были монахи-буддисты, и их жизнь была посвящена исключительно медитации. Город со стороны выглядел необитаемым. Шаун спустился в город и остановился в его центре, на большой квадратной площади. Из домов первыми выскочили с лаем собаки, потом появились монахи в желтых одеждах, с куском материи на голове для защиты от солнца. Они осторожно приблизились к машине с негромко ворчавшим двигателем. Их любопытство можно было сравнить со страхом перед повозкой без лошадей, поэтому на каждые два шага вперед приходился один шаг назад. Шаун и Ферган обратились к ним с дружелюбными жестами, заставившими окружение рассмеяться. Когда Ферган сел за руль и тронулся с места, монахи с криками разбежались, словно стая испуганных воробьев, но тут же остановились и вернулись на площадь. Ферган описал несколько кругов и восьмерок по площади, рыча мотором и выпуская из выхлопной трубы синий дым. Монахи смеялись и хлопали в ладоши. Один древний бонза с доброжелательной улыбкой на мудром морщинистом лице произнес непонятную фразу, тут же повторенную всеми присутствующими. После этого монахи перестали веселиться и молча покинули площадь. Через несколько минут город снова выглядел безлюдным. «Золотой призрак» двинулся дальше, проехал через ущелье и на полной скорости устремился на север.
Шаун не знал, с какими словами обратился к своим соотечественникам мудрый бонза. А его фраза вполне могла заинтересовать Шауна, знай он местный язык:
— Самый быстрый в мире конь, что найдешь ты в конце своего пути? Самого себя… Они вернулись на дорогу, где заправились из попавшихся им бочек. Самая трудный отрезок пути по пустыне остался позади. Теперь они двигались на северо-запад через саванну; из травы в небо то и дело взлетали жаворонки, распевающие песни. Они обогнули болото с дежурившими в воде цаплями и белыми фламинго. Перед машиной то и дело взлетали стайки красных куропаток. Равнина простиралась к горизонту, на котором появилась горная цепь, отмечавшая границу Монголии.
Вскоре они должны были повстречать ждущих их татарских всадников.
* * *
Утром в понедельник Томас появился в банке с веточкой дрока, сорванной накануне в парке. Он поставил ее на зеленом столике в чернильнице, сполоснутой и заполненной водой из умывальника. Веточка все еще сохраняла следы аромата и даже все оттенки цвета, несмотря на электрическое освещение.
Когда господин Паризо увидел эту легкомысленную вещь на столе в чернильнице, в серьезной рабочей обстановке, он сначала был поражен, но потом испугался. Эта золотистая веточка сыграла роль переключателя его убеждений, в чем-то исказив их. У него мгновенно сработал консервативный инстинкт, и он протянул к веточке руку с вытянутым указательным пальцем, словно готовое выстрелить ружье.
— Немедленно уберите это! Вы забыли, где находитесь? Томас вернулся от умывальника с пустыми руками, с раздражением и печалью в сердце. Он оставил на раковине чернильницу с веточкой дрока, и все сотрудники банка, заходившие сегодня утром в туалет, задавались вопросом, у кого могла возникнуть столь нелепая идея принести цветок в такое неподходящее место. Когда это увидел сам господин Паризо, он вылил воду из чернильницы, а веточку бросил в корзину для бумаг.
— Вы найдете бутыль с чернилами на третьей полке шкафа, находящегося за вашей спиной, — буркнул он, поставив мокрую чернильницу перед Томасом, продолжавшим штемпелевать бланки. — И вы можете оставить это занятие. Как я и обещал, сегодня перейдете в финансовый отдел. Точнее, в отдел текущих счетов. Вы очень быстро продвигаетесь, так как получили подобное повышение, проработав в нашем банке всего две недели. Это связано с интересом, проявленным к вам нашим директором. Надеюсь, вы оцените подобное отношение к себе… Он снял с соседнего стеллажа папку с корочками черного цвета, стоявшую первой в длинном ряду других таких же папок, на корешке которой была наклеена белая этикетка с буквами А-Ба, написанными от руки черными чернилами красивым шрифтом. На следующей папке были написаны буквы Би-Ва и так далее до букв Э-Я.
Господин Паризо положил папку на столик Томаса и открыл ее. На первой странице Томас увидел фамилию первого клиента банка (в алфавитном порядке): Аальто (Эдвард).
Ниже шла большая таблица высотой 49 сантиметров, заполненная от руки пером сержант-майор, и узкие колонки цифр: дебет, кредит, сальдо.
Томас должен был сложить все величины сначала в колонке «дебет», затем в колонке «кредит», произвести вычитание второй суммы из первой и проверить, совпадает ли полученный результат с последним числом в колонке «сальдо». Потом нужно было перенести числа из последней строки первой страницы таблицы на следующую страницу и продолжить аналогичные вычисления до листа с фамилией следующего клиента, таблицу с величинами «дебет, кредит, сальдо» которого он должен был обработать таким же образом. Процедура должна продолжаться до последней фамилии клиента банка в последней папке с буквами Э-Я на корешке.
— Вот вам новая ручка, — сказал господин Паризо. — И вот карандаш и резинка. Я советую вам разбить каждую колонку цифр на отрезки, показав конец каждого отрезка тонкой карандашной линией, которую потом аккуратно сотрете. Важно, чтобы вы не нажимали сильно на карандаш, когда будете проводить ограничительные линии! Проводите их как можно легче… Подсчитав суммы каждого отрезка колонки и сложив их, вы получите окончательный результат, который должны записать внизу таблицы чернилами наклонными цифрами и без исправлений. Промежуточные суммы для отрезков колонки нужно записывать на страничке в своем блокноте… Вы должны быть уверены в правильности полученных результатов, прежде чем запишете их в таблицу. Я ни в коем случае не хочу видеть исправления! Ни в коем случае!.. То, что господин Паризо назвал блокнотом, было стопкой испорченных Томасом в начале работы бланков, скрепленных металлической скобкой, на чистой стороне которых можно было записывать промежуточные суммы, делать подсчеты и так далее. В общем, это был рабочий черновик.
Томас взялся за первую страницу. Через час у него имелось два десятка разных сумм. Каждый раз, когда он начинал суммировать числа с начала, он получал другой результат, и суммы в разных колонках после последнего вычитания никак не хотели совпадать с итоговым результатом в колонке «сальдо». Задача казалась ему чудовищно сложной, и он потерял всякую надежду справиться с ней. Он мог выполнять подсчеты целую вечность, но был не в состоянии получить верный результат. Томас никогда не думал, что ему поручат заниматься работой, превышающей возможности нормального человека!
И вдруг случилось чудо! Разность между тридцать второй суммой в колонке «кредит» и сорок девятой суммой в колонке «дебет» дала значение в 13 745, 06, что прекрасно соответствовало значению, написанному внизу колонки «сальдо». Томас не мог поверить своим глазам. Он трижды повторил вычисления, даже начиная с конца колонок, и каждый раз получал то же самое значение: 13 745, 06!
Он почувствовал невероятное облегчение, словно вынырнул на поверхность из болота, в котором вот-вот должен был окончательно задохнуться. Полученное число 13 745, 06 было для него солнцем и синим небом, чистым воздухом, короче, жизнью…
Он вставил перышко сержант-майор в свою новую ручку, пососал его, чтобы удалить попавший на него жир с пальцев, обмакнул перо в чернильницу, потряс его над чернильницей, чтобы удалить излишки чернил, и своим великолепным почерком художника записал полученный им результат, первый замечательный результат, полученный им в первый день работы в новом отделе.
Ужас возобновился на следующей странице. В итоге, когда закончился рабочий день, он находился всего лишь на четвертой странице.
Он сел на велосипед, чтобы отправиться домой, в Пасси. Ехал в странном мире, в котором каждый штрих, каждый силуэт, все деревья, фиакры, омнибусы и дома состояли из множества мелких цифр, написанных разноцветными чернилами. Вся окружавшая его действительность была пожрана этими разноцветными муравьями, все вокруг него шевелилось, кишело, колебалось, искажалось. Ему пришлось остановиться, чтобы не упасть. Закрыв глаза, он глубоко дышал, поставив одну ногу на тротуар и оставив вторую на педали.
— С тобой все в порядке, красавчик? — раздался рядом с ним чей-то голос. Он открыл глаза. Ему улыбалась девушка без шляпки. Она была красной и целиком состояла из цифр.
* * *
По мере того как «Золотой призрак» мчался вперед, взлетавших на обочине дороги куропаток становилось все больше и больше. Скоро со всех сторон движущейся машины одновременно в воздух поднимались десятки птиц, сразу же садившихся после того, как машина проезжала мимо. Сидевшим в машине казалось, что они оставляют след в сплошном море куропаток. Ферган попытался подстрелить хоть одну куропатку, но так как ружье было заряжено только пулями, да и машина передвигалась по весьма неровной дороге, он каждый раз промахивался.
— Впереди нас видны впадина и овраг. Похоже, мы на правильном пути, — сказал Шаун. Машина спустилась в заполненную песком и лишенную растительности ложбину, обрамленную черными, сильно разрушенными скалами. Впереди возвышалась огромная песчаная дюна. Ее остроконечная вершина нависала над ложбиной, словно форштевень корабля над впадиной между двумя волнами. С дальней стороны впадины дорога, казалось, была перекрыта обвалившимися скалами. Об этом месте им рассказывал работник телеграфной станции. Им нужно было объехать ложбину по самому краю и затем отклониться к северу, чтобы снова выбраться на главную дорогу.
После каменистой саванны езда по гладкой песчаной равнине казалась удовольствием. Ферган наслаждался быстрой ездой. Неожиданно прогремел выстрел, и стаи птиц дружно поднялись в воздух.
— Господи! — удивился Ферган. — Какая странная пустыня! Здесь не только полно дичи, но даже встречаются охотники! Снова послышались выстрелы, и ветровое стекло автомобиля разлетелось вдребезги.
— Не радуйся! — крикнул Шаун. — На этот раз роль дичи досталась нам! Из-за скал впереди вылетела группа всадников в красных халатах, яростно подгонявших своих небольших черных лошадок; похоже, их целью была машина. Они размахивали длинными ружьями и непрерывно стреляли на скаку. Хотя их стрельба не отличалась точностью, пули жужжали вокруг машины, словно шершни.
— У них однозарядные ружья! — крикнул Шаун. — Мы не должны позволить им перезарядить свои самопалы! Стреляй скорее! Ферган вскочил на ноги и выпустил в нападавших всю обойму, то есть семь пуль. Из числа находившихся в первых рядах всадников семеро свалились с лошадей. Шаун утопил в пол педаль газа. Ревущая машина врезалась, словно болид, в атакующую группу. Испуганные лошади шарахнулись в стороны, вставая на дыбы и сбрасывая всадников на землю. Тем не менее, большинству нападавших удалось удержаться в седлах. Шаун быстро крутил руль, резко поворачивая машину, разгонял лошадей в стороны, догонял их, сбивая с ног; стоявший рядом с ним Ферган с удивительной меткостью непрерывно палил из двух револьверов, продолжая сеять панику среди нападавших. Схватка закончилась очень быстро. Когда через несколько десятков секунд три четверти бандитов были убиты, послышался пронзительный крик, и немногие уцелевшие кинулись в стороны, подхватывая по пути тех, кто оказался на земле.
— Ты заметил одного из них, в желтой шапке? — крикнул Шаун. Машина продолжала преследовать беглецов, и Ферган не переставал стрелять в мелькавших в облаке пыли бандитов.
— Я видел его в Пекине, на празднике вспашки!.. Я уверен, что его послал этот толстяк Лайонс… — Ах, свинья! Ну, мы с ним еще увидимся… По машине снова защелкали пули. Ферган выронил ружье и со стоном упал на капот автомобиля. За машиной, стреляя на скаку, мчались несколько всадников.
Шаун, державший руль одной рукой, другой подхватил Фергана, резко развернулся и устремился на атакующих, забросивших в это время ружья за спину и выхвативших сабли.
Шаун вскочил, прижав руль ногами, схватил ружье и начал стрелять. Всадники падали один за другим, словно сметенные ураганом. Бросив ружье, Шаун снова резко развернулся и помчался к дальнему краю ложбины. Он должен был выбраться из этой ловушки… Ему оставалось совсем немного до прохода между скалами, и он значительно опередил своих преследователей. Но в этот момент из ущелья впереди вырвалась новая группа красных всадников во главе с человеком в украшенной золотом шапке.
Шаун повернул вправо на девяносто градусов, удерживая руль коленями, разрядил в нападающих оба пистолета и ружье и пододвинул к себе ящик с динамитом. Оба атакующих отряда приближались к нему с двух сторон. Он на полной скорости помчался к тому, что был ближе. Ферган неподвижно лежал между сиденьями, словно груда одежды, и Шауну некогда было проверить, жив ли он. «Золотой призрак» с рычанием врезался в черно-красную массу. Одна из лошадей взлетела в воздух вместе с всадником. Остальные шарахнулись в стороны, словно вода, расступающаяся перед носом катера. При этом всадники успевали пустить в ход сабли, и на машину и водителя посыпались удары. Шаун стрелял из пистолета в правой руке, тогда как левой крутил руль то вправо, то влево, разгоняя нападавших. Сабля задела его плечо, и он выронил пистолет. Он не почувствовал другие доставшиеся ему удары. Машина продолжала беспорядочно вертеться, то и дело задевая лошадей и сбрасывая на землю всадников. Над схваткой висело плотное облако пыли, наполненное запахом пороха, бензина и крови.
Удар сабли рассек Шауну лоб, кровь залила ему глаза, и он почти ничего не видел. Он что-то кричал, выпуская неизвестно в кого последние пули из ружья. Попытался стереть кровь с лица и увидел, что машина немного оторвалась от толпы бандитов. Прибавил скорость, но свора не отставала от него.
Наклонившись, Шаун выхватил из ящика со взрывчаткой две шашки с коротким запальным шнуром и извлек из кармана зажигалку. Ему с трудом удалось зажечь сначала один, а затем и второй шнур руками в крови и пыли; потом он бросил оба заряда в ящик, с трудом поднял его, опустил на песок из притормозившей машины и, снова надавив на педаль газа, устремился к проходу между скалами, пока кровь не успела залить ему глаза.
Ферган застонал.
— Дружище, — бросил ему Шаун, — похоже, мы и на этот раз сможем унести отсюда ноги… Ящик, заполненный шашками динамита, взорвался в тот момент, когда мимо него проносилась вопящая и размахивающая саблями кавалькада. Казалось, огромная дюна взлетела в воздух вместе с всадниками и тут же рухнула на землю во вращающейся смерчем туче красной пыли, которую то и дело пронизывали вспышки от продолжающих взрываться зарядов динамита. Потом на землю посыпались куски человеческих и лошадиных тел.
Шаун пришел в себя, когда машина приближалась к ущелью. Они все же спаслись. Он осторожно съехал на равнину по круто спускавшейся вниз тропе. Далеко позади жалкие остатки татарского отряда уносились во все стороны от оставшейся на месте взрыва воронки. Но они могли и вернуться с новыми силами. Нужно быстрее оставить между машиной и противником расстояние как можно большее. Но прежде всего необходимо заняться Ферганом.
Он остановился, не заглушая мотор. Сойдя с машины, Шаун удивился, что у него подгибаются ноги. Чтобы не упасть, ему пришлось схватиться за раму выбитого ветрового стекла. Только теперь он разглядел, что теряет кровь, вытекающую из нескольких ран — сабельных на лбу, на плече и правом бедре и пулевой на груди.
Правда, рана на лбу почти не кровоточила, но когда он коснулся ее рукой, то понял, что рассечена кость черепа и почти вскрыта оболочка мозга. При мысли о столь близко пролетевшей мимо смерти, он содрогнулся. Шаун заговорил, обращаясь к Фергану:
— Ферган, тебе скоро придется сесть за руль, так как я не смогу долго оставаться в сознании… Ферган застонал и попытался, слегка приподнявшись, ответить другу, но тут же опустился без сил на траву. Склонившись над ним, Шаун понял, что дело плохо. Пуля вошла в спину и вышла через грудь на уровне подмышки, оставив выходную рану размером с монету в пять франков, из которой вытекала кровь. Лицо с правой стороны было обожжено, когда он упал на горячий капот.
Шаун сел возле друга и постарался успокоить дыхание. Он сплюнул, почувствовав вкус крови во рту.
— Ферган, братишка, — сказал он, — мы с тобой никогда не увидим зеленые луга Донегола… — Шаун… Мы умрем?.. — Да, Ферган… — Молли… Что будет с ней?.. — Не беспокойся, Гризельда позаботится о ней… «Гризельда, ах, Гризельда, я потеряю тебя, — подумал он, и сердце его сжалось от боли. — Не знаю, куда приведет меня рука Божья… Даже если он примет меня в раю, я буду страдать без тебя… Надеюсь, Господь позволит нам когда-нибудь встретиться… Как я хотел вернуться вместе с тобой в Ирландию… Я готов даже умереть, но только рядом с тобой… О, Гризельда, как мне тебя не хватает…»
Ферган застонал.
— Шаун!.. Мы умрем без исповеди!.. — Нет, Ферган… Любой христианин может выслушать другого… Исповедовать его… — Я не знал… Но, раз ты говоришь… Я верю тебе… — Ферган, я готов исповедовать тебя… Когда Шаун хотел встать на колени возле Фергана, ему показалось, что земля покачнулась, и он едва не упал на спину. Холодная боль, словно удар сабли, пронзила голову от одного виска к другому.
— Гризельда, Гризельда, помоги мне… — прошептал он. Ему удалось снова встать на колени. На том месте, где он сидел, остались капли крови. Он перекрестился.
— Говори со мной, Ферган… Сейчас Господь слушает тебя. — Я не знаю, что мне сказать… Помоги мне, Шаун… — Ты грешник, Ферган. Скажи: «Боже, я много грешил…» — Боже, я много грешил… — Ты раскаиваешься в содеянном, Ферган? — О, конечно… Я раскаиваюсь! Боже, прости меня, если можешь… Столько грехов… Наверное, каждый день… Шаун, мне страшно… Он не простит мне все мои грехи!.. Их много… как звезд на небе!.. — Нет, Ферган, он простит тебя… Если ты раскаиваешься… Если ты любил… Ты ведь любил, Ферган? — Да, Господи… Я любил… Любил Бога, своих родителей… Шауна и Гризельду… И Молли, мою жену… Больше всего я любил Ирландию… Я ненавидел англичан… за все зло, что они причиняют… и причиняли всегда… — Ты должен простить их, Ферган, за все, что они совершили… Если ты хочешь, чтобы простили тебя… — Я не могу… — Они тоже люди, такие же, как ты… Они не знают, что делают… — Это не люди… Это англичане… — Прости их, Ферган… И поторопись, ты можешь умереть в любой момент… — Шаун, спаси меня!.. — Прости их, Ферган, прости скорее!.. Прощение от всего сердца это… — Я… Я прощаю их… — Господь прощает тебя, ирландец Ферган Бонниган… Наступила необычная тишина, и Шаун вдруг услышал пение множества птиц, потому что заглох мотор. Машина перестала дрожать и затихла. Из пробоин, оставленных пулями и саблями, вытекали бензин и масло. От раскаленного двигателя поднимался легкий дымок.
Шаун огляделся. Он заметил зацепившееся за колючку куста небольшое перышко, белоснежное, легкое, невесомое, не больше ногтя мизинца. Он перекрестил его, осторожно снял с куста и повернулся к Фергану.
— Прими плоть господню, Ферган… Ферган приоткрыл рот, и Шаун положил перышко ему на язык. Ферган закрыл рот, улыбнулся счастливой улыбкой и умер… Только теперь Шаун почувствовал, как болят все его раны, как старые, так и только что приобретенные, и понял, что скоро умрет. Оставалось очень мало времени…
Склонившись над Ферганом, он обхватил его левой рукой и, выпрямляясь, смог поднять. Он не пытался сообразить, что ему по силам, а что нет; он должен был сделать то, что ему оставалось. Шагнув с Ферганом к машине, он бережно положил его на пол между сиденьями. Потом попытался запустить двигатель. Для его состояния задача была почти неразрешимой. Рукоятка вырывалась у него из рук, и с каждым ее оборотом, который ему удавалось сделать, кровь толчками била из всех его ран.
— Ну же, мой красавец, — прохрипел он, — ты тоже должен постараться… Помоги мне… Мотор чихнул раз, другой… Потом неожиданно заработал, сначала с перебоями, потом все уверенней и уверенней.
— Спасибо, — поблагодарил его Шаун. Он сел за руль, включил первую передачу и тронулся с места. Почти ничего не видел перед собой, все было в красном тумане. Угадав положение оврага справа от него на приличном расстоянии, он повернул руль, чтобы двигаться в этом направлении, потом бросил руль и лег рядом с Ферганом. «Золотой призрак» медленно двигался в нужную сторону. Искры из выхлопной трубы подожгли сухую траву, на которую попал бензин, вытекающий из поврежденной трубки, и пламя огненным полукругом двигалось за машиной, словно шлейф королевской мантии, поддерживаемый придворными.
На горизонте появилось облако пыли. Шауна догоняли получившие подкрепление татары.
— Ферган, дружище… Я принял твою исповедь… Теперь тебе придется выслушать мою… Слушай меня, Ферган, я исповедуюсь тебе… Господь мой, я иду к тебе со всеми моими грехами… У меня нет времени, чтобы вспомнить их… Господь мой, это я, Рок О’Фарран, и тоже я, Клайд Шеридан, ты же знаешь меня, Господи, для тебя не важно, какое у меня имя… Прими мою исповедь, Ферган… Я все прощаю всем своим врагам, но только не англичанам…
— Шаун Арран, прости их, если хочешь, чтобы простили тебя!.. — Я понимаю тебя, Господи, когда ты говоришь, что я должен простить англичан, если хочу, чтобы простили меня… Хорошо, я прощаю им все, что они сделали мне плохого… Но я не могу простить им то, что они сделали с моей страной… — Рок О’Фарран, король Донегола и Ферманага, прости их, если сам хочешь прощения… Прости их всем сердцем!.. Господи, делай со мной все что хочешь, но я не прощаю их…
Шаун закрыл глаза и замолчал. Машина в сопровождении огненного шлейфа приблизилась к вертикально обрывающейся стенке оврага. Двигатель машины работал спокойно, мягко и ровно. В тот момент, когда ее колеса преодолели край пропасти, Шаун перестал видеть и дышать.
Огромный гриб огня и дыма взвился над пустыней. Гром взрыва прокатился во все стороны по саванне. По мере того как он распространялся все дальше и дальше, миллионы вспугнутых грохотом птиц, жаворонков, куропаток, цапель, фламинго и скворцов взлетали из травы и болотных зарослей и кружились в невероятно синем небе, закрывая солнце живой тучей.
* * *
Затерявшийся в дебрях цифр и чисел Томас переводил дух только выйдя из банка и, сев на велосипед, устремлялся на нем в лабиринт парижских улиц, купающихся в вечернем летнем солнце. Его жизнь останавливалась каждый день за несколько минут до восьми часов утра, когда он перешагивал порог банка. За толстым стеклом дверей его встречал кошмар чисел, огромный паук с множеством расходящихся от него нитей, всегда один и тот же и каждый раз чем-то не похожий на вчерашнее чудовище, и он был его рабом и его пищей. Все радости жизни оставались во дворе здания банка, посаженные на цепь вместе с велосипедом, а он должен был погружаться в вязкое болото сложений и вычитаний…
…пятьдесят шесть — пятьдесят семь — шестьдесят — тринадцать — девять — двадцать два — двадцать четыре — шесть — девять — девяносто пять — и семь…
…И семь?
…Семь плюс пять будет двенадцать, плюс восемьдесят будет девяносто два…
…Нет, у меня же было уже девяносто пять!..
…Значит, девяносто пять плюс двенадцать…
— Нет! Не то… Придется начать сначала… Постепенно эти подсчеты становились автоматическими. Главное, отгонять любые мысли, не думать, позволять цифрам самим цепляться друг за друга. Какая-то часть мозга распределяла их по ячейкам невидимой сети, карандаш сам записывал полученный результат, и взгляд молнией взлетал к началу очередной колонки чисел…
Остальная часть мозга находилась в состоянии анестезии. Время от времени взгляд сам собой находил круглый циферблат настенных часов, невероятно медленно добавлявших минуту за минутой и почему-то почти никогда не показывавших часы… Через вечность каким-то чудом часы показывали половину двенадцатого, а еще через одну вечность — двенадцать…
Томас немедленно вставал и быстро выходил из зала, унося в забитой числами голове-улье гудящий рой цифр, и даже воздух снаружи не мог заставить их угомониться. Перерыв на обед был всего лишь временной передышкой, отнюдь не позволявшей зародиться надежде на спасение. Он шагал и ничего не видел перед собой, кроме цифр, слагавшихся в числа: …семь-восемь-пятнадцать-девять-двадцать три-восемь-тридцать один… Ресторан «У Андре» (…девяносто-один-шесть-семь-сто-пять-девяностотри-девять-сто-восемьдесят-двенадцать…) находился в сотне метров отбанка, на той же стороне улицы. Он спешил, чтобы занять привычное место за одним и тем же столиком.
Ресторан с жесткими ценами, франк пятьдесят за обед, включая кофе и вино. Когда он вошел в большой прямоугольный зал, его поразил сильный запах дежурного блюда, подействовав как стимулятор на его аппетит, мгновенно уничтожив жужжание цифр у него в голове.
Томас вдохнул запах пищи и улыбнулся, вновь почувствовав себя человеком.
Кухня в ресторане была достаточно простой, без изысков, но хорошей и обильной, подававшейся в тарелках из толстого — около половины сантиметра — фаянса, разбить которые было невозможно. За каждым столиком сидело по четыре клиента, обычно не знакомых друг с другом. В четверть первого зал был полон, и возгласы официантов, обращенные к поварам, сталкивались в воздухе над головами посетителей: «У меня лопатка, сегодня она получилась особенно удачно!.. Три пармезана!.. Пять тулуз!..» Полные тарелки с легким скрежетом двигались по оцинкованному прилавку от большого кухонного окна к официантам. В зале стояла тишина, нарушаемая только выкриками официантов и звоном ложек и ножей. Разговаривать было некогда.
Томас уселся у углового столика справа от входа, возле стены, спиной к окну. Он, как всегда, не стал ни с кем разговаривать. На столе перед собой, между бутылкой вина и горшочком с горчицей, он устраивал только что купленную книгу, Уэллса или Вальтера Скотта, испытывая двойное удовольствие от чтения и постепенного исчезновения чувства голода. Садившийся рядом с ним клиент иногда пытался завести разговор, но глянув на лежавшую перед соседом книгу на иностранном языке, замолкал с почтением и некоторым неудовольствием.
Десятого августа была суббота, благословенный день уикенда, как называют субботу англичане. В этот день недели банк закрывался в половине первого и оставался закрытым до утра в понедельник. Все парижские банки открывались в понедельник только после обеда, но обычно работали всю субботу и в воскресенье до полудня, рассчитывая на посетителей, вышедших из церкви после воскресной мессы.
В эту субботу десятого августа Томас решил пообедать в ресторане, как в другие дни недели, вместо того чтобы сразу вернуться в Пасси, потому что его матери, занятой с учениками с одиннадцати часов, некогда было приготовить обед.
Когда он заканчивал заказанное на десерт сливочное желе, услышал доносившийся с улицы гром фанфар, сопровождавшийся все усиливавшимся гомоном толпы. Он сразу понял, в чем дело. Утром, когда без десяти минут восемь спешил в банк, проходя бульваром Пуассоньер, Томас увидел здание редакции газеты «Матэн» расцвеченным французскими, китайскими и итальянскими флагами и натянутые через улицу транспаранты. Он быстро рассчитался, оставив официанту два су на чай, и поспешно вышел. Шел дождь. Совсем близкие трубы исполняли триумфальный марш из «Аиды». Париж встречал победителя ралли Пекин — Париж.
* * *
Как знали Томас и Элен, «Матэн» сообщила месяц назад, что новостей о «Золотом призраке» не было. От телеграфиста, работника станции в Гоби, стало известно, что команда этой машины предпочла маршрут, отличавшийся от маршрута, выбранного всеми остальными участниками пробега. Но после того как машина Шеридана покинула станцию в Гоби, никто ничего не знал ни о ней, ни о Шеридане и его механике. Судя по всему, они никогда не покидали пределы Гоби. Несколько поисковых групп, отправленных в пустыню, не нашли никаких следов «Золотого призрака». Пыльные бури уничтожили все следы на песке, а до сих пор продолжавшийся в саванне пожар не позволял исследовать значительную часть пустыни. Высказывалось предположение, что гонщики могли погибнуть в этом пожаре, и эту возможность нельзя было исключить. Кроме того, они могли сойти с маршрута всего лишь из-за нехватки бензина. Их поиски продолжались. То, что не были обнаружены ни машина, ни тела самих гонщиков, позволяло сохранять надежду, что они просто сбились с пути, оказавшись в каком-то совершенно неисследованном районе Гоби, этого самого загадочного места на Земле.
Для Томаса и Элен тревожное ожидание продолжалось; они не теряли надежды как на возможное появление оптимистических новостей в «Матэн», так и на радостное письмо от Гризельды. Но вот пробег закончился, а они попрежнему ничего не знали о судьбе Шауна.
Пока Томас бежал к бульвару Пуассоньер, он прокручивал в уме невероятные, нелепые картины: представил, что увидит Шауна и Гризельду, триумфаторов на машине-победительнице. Трубы сейчас исполняли Марсельезу, дождь припустивший с удвоенной энергией, барабанил по его шляпе, проникал сквозь куртку и рубашку, стекал по спине и груди. Томас врезался в плотную толпу, заполнившую тротуары; со всех сторон неслись выкрикиваемые сотнями глоток имена победителей. Машина, заполненная оркестрантами, с которых стекала дождевая вода, остановилась перед редакцией газеты «Матэн». Вода заливала трубы и тромбоны; старавшиеся изо всех сил музыканты фонтанами брызг выбрасывали ее из инструментов; вместо нот иногда раздавалось бульканье. Мокрые инструменты и лица музыкантов блестели, толпа орала: «Пекин! Итала! Да здравствует принц!»
Кинооператор, забравшийся на балкон, самозабвенно крутил ручку своего аппарата под брезентовым навесом. Ослепительно вспыхнул магний, оставив после себя облако белого дыма — это фотографу журнала «Иллюстрасьон» удалось зажечь магний под дождем.
Вслед за музыкантами появилась «Итала». За рулем сидел принц Боргезе, спокойный, слегка улыбающийся, хорошо выбритый и элегантно одетый. В машине с ним сидели механик и итальянский журналист Барзини с острым профилем и черными как смоль волосами.
Из толпы послышались крики: «Да здравствует принц!» и «Да здравствует Боргезе!» Затем толпа хлынула к машине и захлестнула ее. Группа полицейских бросилась оттеснять ликующую массу от автомобиля, но вторая волна любопытных затопила их. На тротуаре суетились продавцы открыток, кричавшие: «Принц! Кому нужен принц? Портрет принца за четыре су! Четыре су за принца!»
Со всех сторон любопытные устремились к «Итале»: с бульвара Себастополь, от Оперы, от Сены, от собора Сакре-Кер, из многочисленных боковых улочек. Они выскакивали из домов, прыгали с балконов — мужчины, женщины, дети, старики, спортсмены, инвалиды, с зонтиками, собаками корзинками, костылями. Они рвались к машине, стремясь коснуться ее или хотя бы увидеть вблизи. Они орали: «Пекин! Париж!» Задние карабкались на плечи передних, бежали по головам, теряли равновесие, падали, их толкали, сминали, затаптывали.
Толпа сплотилась вокруг машины, словно пчелы вокруг матки-королевы; она росла в вышину и скоро достигла уровня второго этажа. Фотограф второй раз зажег магний, и обрушившаяся на машину лавина заблестела под дождем. Послышался треск, раздались вопли. Человеческая гора начала оседать. Автомобиль, преодолевший столько препятствий, не выдержал успеха. Портье редакции «Матэн», великан в красном мундире, нырнул в магму, расшвыривая тела в стороны. Пробившись к принцу, он вскинул его на плечо, прорвался назад и скрылся со спасенным героем в подъезде.
Дождь превратился в ливень. Захлебнувшаяся толпа начала рассеиваться. Музыканты незаметно исчезли. Края шляпы на голове Томаса обвисли, шляпа мокрым комом съехала ему на глаза и уши. Он отшвырнул ее. Дождь ослепил. Прикрыв лицо руками, он посмотрел на восток, на дальний конец бульвара, и не увидел ничего. Ни одной машины не появилось следом за «Италой». Развевались флаги, болтались транспаранты, свисали мокрые гирлянды; по почти обезлюдевшему тротуару бегал продавец открыток, предлагавший редким любопытным: «Портрет принца за один су! Две открытки принца за один су!»
Развалившаяся на две части «Итала», сплющенная, ободранная, грудой металла лежала посреди улицы; множество мелких обломков усеивало мостовую вокруг нее. Останки победительницы пробега охранял полицейский. С его усов стекали две тонкие струйки воды.
* * *
Восемнадцатого августа газета «Матэн» опубликовала под броским заголовком сообщение о том, что мадам Шеридан, супруга пропавшего участника ралли, возглавила экспедицию, отправившуюся на поиски мужа. По Транссибирской железной дороге она добралась до Иркутска, откуда двинулась к Гоби во главе большого каравана. Она была уверена, что ее супруг вместе с механиком живы, и не сомневалась, что найдет их. Мероприятие финансировалось кузеном русского царя князем Александром, принявшим участие в экспедиции.
В воскресенье Томас поднялся на голубятню, где устроил свою мастерскую. Он протер рубашкой часть выпуклой стены и изобразил на ней караван Гризельды с помощью всех имевшихся у него красок и других материалов: масла, акварели, угля, карандаша. Во главе каравана ехала Гризельда на белом коне, нарисованном резкими штрихами. Она была изображена обнаженной. Но поскольку Томас никогда не видел обнаженной женщины, если не считать картин и скульптур, ему не понравилось то, что у него получилось. Поэтому он задрапировал Гризельду огненным плащом ее волос. Потом нарисовал исходящий из лошадиного лба луч света, сделав из коня единорога.
Через несколько дней появились два «Де Дион-Бутона». На этом ралли закончилось, и о нем перестали писать и говорить. Началось обсуждение ралли Нью-Йорк — Париж, намеченного на следующую зиму. Чтобы попасть из Азии в Северную Америку, предполагалось использовать льды Берингова пролива.
Прекратились разговоры о пропавшем автомобиле с водителем Шериданом, а также об отправившейся на его поиски экспедиции. Общество заинтересованно обсуждало появление кометы. Ее обнаружил американский астроном Даниель, когда та была жалким пятнышком на небе, но она стала очень быстро увеличиваться в размерах. Ее уже можно было увидеть в Париже перед рассветом, когда она начала появляться очень низко над горизонтом. Однажды, незадолго до восхода солнца, Томас долго всматривался в нее. Комета походила на белую розу, тащившую за собой кусок вуали новобрачной. Или впервые причащающейся девушки. Откуда она прилетела? Что это было? Она казалась удивительным воплощением тайны. Взволнованный Томас наблюдал за ней, пока она не исчезла за горизонтом. Потом он добавил ее к своей фреске при свете свечи. Белая, обрамленная красным и синим, комета гармонично сочеталась с лошадью-единорогом, находясь над правым плечом Гризельды.
Комета летела к Солнцу со скоростью двести тысяч километров в час. Она должна была обернуться вокруг него, чтобы набраться сил; затем, став ярче и быстрее, устремилась к холоду и мраку космического пространства. Комета собиралась вернуться через тысячу лет. Или через сто тысяч лет.
Часть вторая
Дата 28 декабря 1908 года пришлась на понедельник. Чуть позже четырех утра Томас был вырван из сна сильным стуком в окно. В комнату, непонятно почему, в такое раннее время, зачем-то рвался Шама. Неизвестно кем разбуженный до рассвета белый ворон стучал клювом по стеклу и кричал «Орр-кра! Орр-кра!», замолкая на несколько секунд для того, чтобы забарабанить по стеклу, и прекращая барабанить только для того, чтобы снова заорать.
Томас пошарил на ночном столике, чтобы найти спички, снял стекло с ночника, зажег его и бросился открывать окно. Шама ворвался в комнату с хриплым криком и уселся на спинку кровати. Он был взъерошен, словно кот, столкнувшийся нос к носу с собакой. Вертел головой и осматривался с таким видом, словно не узнавал хорошо знакомую обстановку. Огонек лампы отражался в его глазах загадочным отблеском.
Томас подошел к ворону и произнес какието ласковые слова, чтобы успокоить его, но когда он протянул руку, чтобы погладить птицу, Шама больно клюнул его в ладонь, взлетел с испуганным воплем и врезался в стекло закрытого окна.
Упав на землю, он огляделся с ошеломленным видом и кинулся под кровать, словно побитый пес. Томас присел на корточки и заговорил с ним:
— Что с тобой, Шама? Ты видел кошмарный сон? Он едва различал в темноте под кроватью светлый комок, из которого доносилось странное бурчание и как будто постукивание кастаньет. Ему так и не удалось добиться от ворона ничего определенного. Томас выпрямился, задрожав от холода, натянул на голые ноги шлепанцы, накинул пальто на плечи и подошел к окну, чтобы попытаться понять причину паники ручной птицы. Юноша увидел внизу раздетого Леона, бежавшего с фонарем в руках к конюшне. Из конюшни доносилось глухое ржанье и удары копыт по перегородке. Лошади тоже были перепуганы.
Первая мысль Томаса была о пожаре, но он не увидел ни пламени, ни вообще какого-нибудь необычного свечения. Он натянул брюки, нахлобучил свою ирландскую шапочку, схватил походную лампу и выбежал из комнаты. Когда оказался на лестнице, приоткрылась дверь в комнату матери. Элен выглянула на лестницу с головой в волне заплетенных на ночь волос.
— Ты куда, Томас? Что происходит? — Не знаю… Сейчас попробую разобраться… Спустившись в гостиную, он почувствовал себя в каком-то странном и чужом мире. Хорошо знакомые предметы выглядели не так, как всегда. Все замерло и в то же время все двигалось. Пол под его ногами был прочным и неподвижным, но по нему прокатывались медленные волны. Краем глаза он заметил поршень подъемника лифта, описывающий сложную кривую вроде спирали, словно штопор. Мелькнувшее возле его правой ноги движение многое объяснило: выбравшиеся на свободу змеи ползали по паркету во всех направлениях. Он никогда не представлял, что у Леона их так много. Сейчас они были повсюду, и из-под одеял, из корзинок и коробок появлялись все новые и новые рептилии. Они ползали неторопливо и безостановочно, словно подчиняясь, несмотря на застывшую благодаря осенним холодам кровь, какой-то команде, могущественному приказу, не позволявшему им оставаться на месте. Удав по кличке Сифон обвился вокруг поршня лифта, стараясь добраться до частично видимой статуи нимфы; он явно надеялся, что сможет устроиться у нее на плечах. Попугаиха Флора металась в клетке, превратившись в неясный голубой смерч и непрерывно выкрикивая вопрос, точно такой же, как и тот, что крутился в голове у Томаса:
— Что случилось?.. Что случилось?.. Что случилось?.. Томас застал Леона на конюшне вместе со сторожем и двумя его сыновьями. Они безуспешно пытались успокоить лошадей, с громким ржанием бивших копытами в перегородки. Леон схватил за ноздри Тридцать первого, вырывавшегося с вытаращенными глазами и пеной изо рта и пытавшегося укусить его. Леон вскочил лошади на спину и стиснул шенкелями. Сдерживаемый лонжей, придавленный грузом всадника, Тридцать первый продолжал биться, словно сражался со стаей волков.
— Что с ними? — крикнул Томас. — Что происходит? — Беда! — крикнул в ответ Леон. — Пришла большая беда! Господи, храни этот дом! Он молился, продолжая успокаивать лошадь. Его могучий голос перекрывал шум, заполняя конюшню.
— Господи, сбереги моих зверей и людей, которых я люблю!.. Защити невинных!.. Пожалей их и нас вместе с ними!.. Господи, смилуйся над нами!.. Он молился на немецком языке, и сторожа, швейцарцы из Оберланда, присоединили свои голоса к голосу Леона, продолжая сдерживать лошадей.
Для Томаса, не знавшего немецкого, эти голоса звучали как дикие фантастические молитвы. Большой фонарь, висевший на столбе, и походная лампа, которую он держал на уровне плеча, освещали желтым светом влажные бока лошадей, словно охваченных безумием, взбитую, как пена, солому, разбрасываемую в стороны копытами, рыжую бороду отчаянно сражавшегося с паникой Леона. Горячий, совершенно тропический воздух был наполнен запахами раздавленного помета, растоптанной соломы и пота взбесившихся лошадей.
Внезапно в соседнем строении раздался оглушительный рев сирены, одновременно низкий и высокий, сотрясающий стены. Это закричал Цезарь, удивительный слон с тремя бивнями, за которым Леон должен был ухаживать всю зиму.
Лошади ответили ему звонкими трубными голосами и мгновенно успокоились. Леон и сторожа замолчали. На втором этаже здания сидевший под кроватью Шама перестал каркать, встряхнулся и заснул. Змеи, заполнившие салон, замерли на месте, словно мгновенно впали в зимнюю спячку. Сифон спустился с лифтового поршня и свернулся кольцами у его основания. Флора упала на пол клетки и затихла с открытым клювом и свисавшим языком. Ее перышки, словно синий снег, неторопливо опускались на пол.
На следующий день Томас узнал, что вызвало такую панику у животных.
* * *
Мистер Уиндон получил из Лондона короткое письмо, в котором ему советовали закрыть досье номер шесть. Таким образом, он был единственным человеком в Париже, точно знавшим судьбу Клайда Шеридана, пропавшего участника ралли Пекин — Париж.
Возможно, чтобы успокоить и без того не слишком беспокоившую его совесть, он заинтересовался судьбой Томаса и почувствовал к нему симпатию. Уиндон решил, что образование юного джентльмена, хотя и проявлявшего иногда чрезмерную эмоциональность, позволяло банку более разумно использовать его, чем держать на обработке регистров, заполненных тысячами цифр. Он извлек его из отдела текущих счетов и решил испытать в качестве специалиста по внешним связям. Некоторые важные клиенты не любили отвлекаться, чтобы получить деньги, оставить их в банке или просто подписать какие-нибудь бумаги. А мистер Уиндон не любил отправлять к ним простого кассира. Ему нравилось поддерживать с ними общение на более высоком уровне. Обычно для этого использовался самый старый работник банка, человек с прекрасными манерами, но давно одряхлевший. Создавалось ощущение, что он запылился. Когда он считал банкноты, у него всегда дрожали руки. Мистер Уиндон решил, что его отныне будет сопровождать молодой сотрудник.
Перемена произошла весьма своевременно. Томас много раз был готов заставить своего непосредственного начальника господина Паризо проглотить перышко сержант-майор вместе с ручкой, чернильницей и всеми папками. Иногда он чувствовал себя тигром, готовым взбеситься. В нем волной поднималось жгучее стремление к свободе, и невозможность добиться ее превращала его в дикаря, готового взбунтоваться. Он готов был грызть, крошить зубами столик, за которым приходилось сидеть, вышвырнуть обломки в окно и с диким воплем выброситься вслед за ними.
Томас часто говорил матери, что такая жизнь не для него, что он не может продолжать, а если она будет настаивать, он или сойдет с ума, или заболеет и умрет. Элен умоляла потерпеть, убеждала, что скоро все изменится, что работа станет интересной, он начнет получать большое жалованье, займется важными делами…
Слушая эти уговоры, казавшиеся ему глупыми, Томас взрывался, и мать начинала плакать.
Тогда он бросался вниз по лестнице, выводил Тридцать первого из салона или из конюшни, вскакивал ему на спину и мчался под деревьями, перепрыгивая через кусты и упавшие ветки, издавая дикие вопли, словно индейский вождь на тропе войны. Или же скидывал на бегу с себя одежду и голым нырял в бассейн для морского льва.
Его спасло новое назначение, он подумал, что мать, в конце концов, оказалась права. Его зарплата заметно увеличилась, теперь он каждый месяц получал на пять франков больше, чем прежде. И почти все рабочее время проводил в разъездах по городу на фиакре, который оплачивал банк (он не думал, что на самом деле его поездки оплачивают клиенты банка). Прижавшись лицом к стеклу, он наслаждался движением и красками городских пейзажей. У него появилась привычка брать с собой в эти поездки свой альбом для рисования. Его потребность рисовать, почти угасшая, снова вспыхнула в нем. Теперь он посвящал рисованию все выходные дни; стал тратить на краски больше денег, чем на еду.
Во вторник 29 декабря, после обеда, господину Уиндону позвонил сэр Генри Ферре, английский дипломат из парижского посольства. Он должен был этим вечером сесть на поезд, идущий в Рим. И господин Уиндон отправил к нему Томаса с крупной суммой английских и итальянских денег.
Томасу показалось, что этого человека однажды упоминала его мать, когда рассказывала ему об Ирландии и острове. Но он знал, что эта фамилия весьма обычна для англичан.
Дипломат жил на первом этаже гостиницы на улице Сен-Гийом в пригороде Сен-Жермен. Чтобы попасть туда, Томасу нужно было пересечь Сите и Латинский квартал. Его фиакр был остановлен на перекрестке с улицей Сен-Мишель заслоном полицейских, пытавшихся разогнать демонстрацию усачей в серых плащах и шляпах-котелках. Порывистый ветер, швырявший пригоршни снега в лицо противников, заметно охлаждал их пыл.
Томас выглянул в окошко и принялся расспрашивать кучера, завернувшегося в меховую накидку. Чтобы защитить от холода уши, кучер обмотал голову под цилиндром толстым шарфом, оставлявшим открытыми только глаза и усы, а поэтому ничего не слышал. Томасу пришлось кричать, чтобы повторить свой вопрос. Кучер ответил, тоже очень громко:
— Это студенты-медики, мсье!.. Они сражаются уже три дня!.. — И почему? — Они протестуют, мсье… — Против чего они протестуют? — Говорят, что должна начаться реформа образования, и это дело им не нравится… Но они ничего не добьются, кроме бронхита… Лучше бы изучали, как его лечить!.. А я вот-вот подхвачу его, разъезжая по городу в такую погоду!.. Но, Базиль, трогай! Потянув за вожжи, он развернулся и двинулся к улице Сент-Андредез-Ар, по которой собирался объехать место военных действий. Но сразу же оказался в мешанине остановившихся повозок, вплотную к огромной телеге угольщика, в которую были запряжены сразу четыре лошади. Двое мужчин в блестящих черных плащах снимали с телеги мешки с угольными брикетами.
В конце концов фиакр должен был проехать сначала набережной, а затем улицей Сен-Пер. До улицы Сен-Гийом фиакр добрался вместе с опустившимися сумерками. Пока Томас звонил у входа в гостиницу, кучер стряхнул с себя снег и спустился с облучка, чтобы зажечь фонари.
* * *
Кабинет сэра Генри Ферре находился в комнате в виде ротонды, на одном уровне с небольшим садиком, освещенным меланхоличным фонарем, спрятанным в чудом уцелевшую листву. Через два доходивших до пола больших окна Томас разглядел жемчужные струи фонтана и белизну мраморной статуи, на которой лежал такой же белый снег.
В комнате теплый свет электрической люстры и нескольких бра заставлял сверкать золотые рамки картин и медные детали мебели, дружелюбно лаская розовые щеки сэра Генри Ферре, его шевелюру и аккуратно подстриженную светлую бородку, слегка тронутую сединой.
Дипломат, сидевший за письменным столом в стиле Людовика XVI, укладывал бумаги в небольшой чемоданчик. Он встретил Томаса любезной фразой.
Томас, которого слуга освободил от мокрых шляпы и плаща, неловко пытался найти место для своего также мокрого портфеля. Наконец он открыл его, держа на левом предплечье, и извлек из него две пачки банкнот, английских и итальянских. Но в этом положении он не мог пересчитать деньги.
Дипломат улыбнулся и указал ему на обитый тканью стул.
— Воспользуйтесь этим стулом… Томас смог пересчитать деньги, перекладывая их на стол; потом протянул расписку сэру Генри Ферре, чтобы тот подписал ее. Освобождая место для бумаги, ему пришлось немного отодвинуть в сторону фотографию в серебряной рамке, стоявшую рядом с чернильницей. Томас не смог удержаться, чтобы не взглянуть на снимок светло-коричневого цвета. На нем была изображена немолодая женщина с удлиненным лицом, сидевшая в позе амазонки на высокой светлой лошади.
Забирая расписку с подписью сэра Генри Ферре, Томас спросил его с тем спокойствием, которое может быть вызвано юностью или хорошим воспитанием человека, решившего проявить нескромность. Он задал вопрос на английском, что ему показалось более корректным в данной ситуации.
— Позвольте спросить вас, сэр, вы родом не из Донегола? — Да, это так, — с удивлением ответил дипломат. — И на этой фотографии можно видеть леди Августу Ферре? — Совершенно правильно!.. Вы поражаете меня… Откуда знаете ее? — У нас дома была такая же фотография, сэр. Леди Августа — это моя тетушка, или, скорее, моя двоюродная бабушка. — Это невероятно! Леди Августа — это моя мать!.. Значит, мы кузены? Но с какой стороны? По какой линии? — Моя мама — дочь сэра Джона Грина, сэр. Генри Ферре вскочил. Его розовая физиономия побледнела. Он вспомнил свою юность, и эти воспоминания потрясли его. Каникулы в Ирландии, остров, пять дочерей сэра Джона Грина…
— Значит, вы из семьи Гринов… Но я думал… Мне казалось, у меня нет кузенов, если не считать тех, кто живет в Шотландии… Вы будете… Вы можете быть… Вы сын Гризельды?.. — Нет, сэр… Мою маму зовут Элен. — Элен… Ах, да, Элен, конечно!.. Как ее здоровье? — С ней все хорошо, сэр… Элен? Кто же это? Он там никого не видел, кроме Гризельды… Ее сестры были всего лишь силуэтами на заднем плане, туманными призраками, неясно двигавшимися где-то там, в стороне…
— Как интересно, что мы встретились с вами! Вы живете в Париже? — Да, моя мама и я, мы живем в Париже, в Пасси. — Ах, Пасси… Вот как… Несколько далековато от центра, но это такое очаровательное место… Нам нужно будет встретиться… Оставьте мне ваш адрес… Пока Томас царапал адрес на клочке бумаги, сэр Генри затолкал деньги в портфель и затянул на нем ремни, попутно объясняя своему двоюродному брату причины столь поспешного расставания с ним. Он никогда на стал бы ничего объяснять простому сотруднику банка; в данном случае он хотел подчеркнуть, что относится к Томасу как к родственнику.
Благодаря этой встрече Томас узнал, что именно напугало животных Леона.
— В Италии мне нужно будет заняться организацией помощи, — сказал сэр Генри. — Английский флот отправляет два крейсера… Вы не в курсе? Вчера ночью было страшное землетрясение в Италии и на Сицилии. Палермо и Реджо полностью разрушены. Была ночь, и все жители спали у себя дома. Опасаются, что погибших окажется более ста тысяч. Есть данные, что землетрясение ощущалось по всей Европе. Даже в Париже, если верить данным Обсерватории, хотя оно устанавливалось только приборами… Это очень страшное явление, — добавил он спокойным тоном. Когда он провожал Томаса к выходу, тот остановился, пораженный картиной, которую до сих пор не заметил, так как стоял к ней спиной. На картине в позолоченной раме, висевшей отдельно на стене, на светло-зеленой ткани, в невероятном цветном тумане изображался английский парламент в Лондоне. Рыжее солнце и здания расплывались в удивительном облаке лилового света. Томас никогда не видел ничего похожего. Он ахнул и остановился, чтобы рассмотреть картину.
Лицо сэра Ферре засветилось.
— Вы интересуетесь современной живописью? — Ну, честно говоря… Я никогда не посещаю выставки… И я не очень разбираюсь в живописи… Но сам немного рисую… Когда есть время… — Это Моне, — с гордостью сказал сэр Ферре. — Нам обязательно надо будет встретиться в самое ближайшее время… Я сообщу вам, когда вернусь… Он энергично потряс руку Томасу и, позвонив слуге, добавил небрежным тоном:
— Разумеется, ваша… да, ваша тетушка Гризельда… Никто до сих пор не знает, что с ней? — Да, это так, — ответил Томас.
* * *
Газета «Матэн» в нескольких строчках сообщила, что спасательная экспедиция, организованная женой Шеридана, прибыла в Пекин после нескольких месяцев поисков, не найдя никаких следов ни машины, ни ее экипажа. К характеристике Гоби как пожирательницы человеческих жизней добавилась еще одна загадка. Элен и Томас напрасно ждали письма от Гризельды. Куда она отправилась из Пекина? Может быть, вернулась в Индию? Или обосновалась в каком-либо другом месте? Она могла задержаться как в России, так и в Китае, чтобы или терпеливо ждать, или продолжать поиски мужа. Имелись ли у нее средства для этого, или она истратила все, чем располагала? Но Гризельда не давала о себе знать, да и пресса перестала говорить о ней. К этому времени автомобиль сошел с первого места, пресса увлеклась фантастическим прогрессом авиации.
В январе 1908 года Фарман установил мировой рекорд, пролетев полтора километра, ни разу не коснувшись земли. Через год, 31 декабря, Уильбур Райт завоевал на соревнованиях кубок Мишлен, совершив потрясающий полет на расстояние в 124 километра.
«Что обещает нам 1909 год? — писал Бодри де Сонье. — Предсказания стали слишком легким занятием с тех пор, как человеческий гений реализовал самые фантастические идеи. Лучше молча восхищаться».
Что касается Элен, то она ждала от 1909 года, когда Томас, наконец, достигнет высоких сфер банковского дела. Его встреча с тем, кого она называла просто Генри, обрадовала ее. Сын Августы мог, если бы захотел, сделать очень многое для своего юного кузена. И она не стеснялась подталкивать его в этом направлении. Она помнила его как робкого студента, длинного и тощего, которого вид Гризельды повергал в состояние шока. Но с тех пор он сильно изменился, если верить описанию Томаса.
— По-моему, ему должно быть… Должно быть около… Боже! Ему сейчас сорок пять лет! Какую должность он занимает в посольстве? — Он поверенный в делах… — Что это значит? — Не знаю… Наверное, что-то важное… — Его отец давно скончался… Он унаследовал все состояние семейства Ферре: два замка и земли в Донеголе, а также особняк в Лондоне и другую недвижимость в Англии. Думаю, у него есть кое-что и во Франции. Это очень богатый человек, и он должен быть весьма влиятельным. — Он любит живопись, — сказал Томас.
* * *
Сэр Генри вспомнил о своих родственниках только в конце марта. Он прислал приглашение и очаровательное письмо, в котором приглашал Элен и ее сына на бал в память леди Элизабет Лэнгфорд, их общего предка, которая «…находясь проездом в Париже, оказала ему честь, согласившись провести некоторое время в его особняке, ожидая, пока ее портрет повесят в Тюильри на выставке „Сто портретов женщин XVIII века“. Она будет рада познакомиться с ними…»
— Это же бабушка Джонатана! — воскликнула Элен. — Ее портрет висел в салоне тетушки Августы. Ее написал сам Гинзбург. Он специально для этого приезжал в Гринхолл… На ней белое платье, волосы распущены, вот так… Ах, я буду так рада увидеть этот портрет!.. Внезапно она замолчала.
— Это невозможно… Мы не можем пойти туда… — Почему? — Тебе нужен фрак… А мне — платье!.. — Ты успеешь сшить его! Тебе хватит времени! Элен опустила голову и мысленно осмотрела себя. Она вздрогнула. Черное платье, в котором она сейчас ходила, она сшила по модели, приобретенной в галантерейном магазине после приезда в Париж. Именно так одевались няньки, ухаживавшие за детьми…
— Я буду выглядеть смешно… Платье… Я уже не знаю, что это такое… Впрочем, я никогда не знала, что такое настоящее платье… Я не отношусь к кокеткам… — Продай изумруд! И тогда ты сможешь сшить платье у самого шикарного портного!.. — Ты сошел с ума! Продать изумруд ради какого-то платья!.. — Нам будет больше пользы, если продадим изумруд, вместо того чтобы прятать его по темным углам… Я даже не знаю, где… Кстати, куда ты его спрятала? Ты в конце концов потеряешь его, и что тогда будет с нами? Ведь он мог бы обеспечить нам более легкую жизнь… И прежде всего тебе…
— Но ты же хорошо знаешь, что… — Я знаю, знаю!.. Выкупить остров!.. Но тебе стоит признать, что мы никогда не вернемся на остров! Элен с ужасом посмотрела на сына, словно он внезапно превратился в трехглавое чудовище. Она не верила своим ушам, так как не допускала, что он мог произнести такие ужасные слова. У нее подкосились ноги, и она неловко уселась на стул, держась за край стола.
— Этого не может быть… Ты не отдаешь себе отчет… Ты не понимаешь, что ты говоришь… Она тихо заплакала, негромко и отчаянно всхлипывая, застывшая, маленькая, съежившаяся на стуле, ничего не видя и на слыша… Томас опустился перед ней на колени, обнял ее, поцеловал мокрые от слез щеки и негромко заговорил с ней, словно с потерявшимся ребенком.
— Я ничего такого не сказал… Я так не думаю… Мы вернемся на остров, я обещаю тебе… Это будет очень скоро, не нужно плакать… У нас будет большая лодка, настоящая барка, и ты сядешь за руль… А я буду возле тебя, верхом на Тридцать первом… И ветер пригонит нас прямо к острову… У тебя на пальце будет перстень с изумрудом… Все небо над нами будет зеленым… Не надо больше плакать… Элен печально улыбнулась сквозь слезы, потом промокнула платочком глаза, высморкалась.
— Ты совсем еще ребенок… Настоящий ребенок… Ладно… Мы должны написать Генри, должны извиниться… Напишем, что мы будем заняты… Томас встал.
— Но я пойду к нему. Фрак можно взять напрокат… — Ты пойдешь один, без меня? — Может быть, я ребенок, но ведь не грудное дитя… Кстати, мне нужно научиться танцевать… Ты научишь меня? Танцевать вальс… Иди сюда, будем танцевать… Он поднял ее со стула и закружил вокруг круглого стола, имитируя танец, наталкиваясь на стулья, пуфы и табуреты. Он напевал совершенно фальшивым голосом несколько тактов из «Прекрасного голубого Дуная». Элен смеялась, вскрикивала, когда он наступал ей на ногу, восклицала: «Ты сошел с ума!.. Прекрати!.. Отпусти меня!.. Я сейчас упаду!.. Отпусти же…»
Ей никогда не приходилось танцевать таким образом, даже на собственной свадьбе…
* * *
Томас выпил шампанское и растерялся: что теперь делать с бокалом? Держать его в руке, надеясь, что его кто-нибудь снова наполнит, или поставить куда-нибудь… Но куда?
Он немного успокоился, когда понял, что никому из окружающих нет до него дела. Увидев офицера в парадном мундире, с бокалом в руке, разрезавшего, подобно красно-синему кораблю, волны обнаженных плеч и шиньонов, платьев и фраков, он рванулся следом и очень удачно поставил вместе с ним пустой бокал на поднос в руках у официанта. Взгляд офицера, скользнувший по руке Томаса, поднялся к лицу, на которое он уставился с таким удивлением, что вопрос, казалось, был произнесен вслух. Кто этот юноша? Знакомы ли они? В его взгляде колыхнулась тревога, уголок рта вздрогнул, но тут же все успокоилось. Рука, одним движением поправившая оба ответвления усов, стерла малейшее проявление интереса в его взгляде, и он отвернулся от Томаса.
В большом зале танцевали, в синем салоне собрались сплетницы, в курительной комнате и библиотеке дым стоял столбом, а в зимнем саду велись доверительные разговоры. Томас подхватил с подноса еще один бокал шампанского и обошел с ним все помещения, стараясь, как ему советовала мать, держаться очень прямо и не смотреть в глаза людям, которым его не представили. Поскольку сэр Генри, очень тепло встретивший его, никому не представил, взгляд Томаса упорно оставался на уровне подбородков и затылков. Ему казалось, что он стал прозрачным. Бюсты, бороды, плечи кружились вокруг него, лица улыбались, что-то говорили, скользили мимо него, даже не прилагая усилий, чтобы не задеть. Взгляды не задерживались на его лице, проходили сквозь него, словно он не существовал. Мелькнуло несколько заинтересованных женских взглядов, когда он находился в профиль по отношению к ним, но тут же становились безразличными, когда он поворачивался к ним лицом.
Сначала он чувствовал себя неловко, но после третьего бокала ему показалось забавным прогуливаться в этом необычном мире, расслабленным и жизнерадостным. Он никогда раньше не пил шампанское. Теперь ему казалось, что он неимоверно вырос и стал неуязвимым. Никто и ничто не могло причинить ему вред. Он видел жалких людишек где-то внизу, бултыхающихся в звуках оркестра и электрических огнях, как в воде аквариума со своими бородами, животами, лысинами и перьями в прическах; они путались в колеблющихся водорослях платьев и фраков, были смешными, неловкими, трогательными. Он был легким и подвижным, с проницательным взором и ясным сознанием.
Томас позволил музыке увлечь себя в большой салон. Оркестр, взгромоздившийся на эстраду в виде полумесяца, окруженную кадками с зелеными растениями, играл вальс. Пары медленно кружились на блестящем паркете. Дамы, подхватившие левой рукой просторные складки своих платьев пастельных тонов, черно-белые кавалеры, направлявшие дам рукой, лежащей над тонкой талией, и изображавшие пресыщенность и незаинтересованность в получаемом удовольствии. Драгоценные ароматы духов смешивались с запахом косметических жиров для усов и легким запахом сигар, доносившимся из курительной комнаты. Томас видел и ощущал окружающее с поразительной ясностью, создавая в уме картины происходящего и сразу же забывая их.
Уверенным шагом, с легкой улыбкой на губах, он спокойно направился к дальнему концу салона, чтобы оказать почтение королеве бала, леди Элизабет Лэнгфорд. Она висела на стене между двумя цветущими филодендронами, доставленными из Бразилии. Томас слегка склонил перед ней голову, потом выпрямился и всмотрелся в нее. Его улыбка сразу же поблекла: он оказался лицом к лицу с Гризельдой… Гризельдой такой, какой она была в молодости, с волной рыжих волос, расплескавшейся по плечам, зелеными глазами, лучившимися жаждой жизни, сверкающей кожей, умытой воздухом Ирландии, холмы и небо которой были видны на заднем плане.
— Что, Томас, вы потрясены нашей прародительницей?.. Согласитесь, ведь она удивительно прекрасна! Возле него оказался сэр Генри в компании пары гостей, которым он хотел показать портрет Элизабет. Томас ответил, не отводя глаз от портрета:
— Да… Она очень красива… Удивительно, как она похожа на Гризельду.
— На Гризельду? Удивленный, сэр Генри внимательно посмотрел на портрет. — Ну, может быть, волосы… И еще… Нет, у Гризельды они были длиннее… Они спускались до талии… И черты лица не совсем такие… У Гризельды они были тоньше… В ней одновременно чувствовалось больше … присутствия… и загадки… У нее был лучистый взгляд… Она… Он сообразил, что проявляет подозрительное красноречие, и замолчал. Подумав некоторое время, он продолжал:
— Но вы не знали ее!.. — Да, конечно! — спохватился Томас. Он тут же постарался исправить свою неосмотрительность: — Но у нас дома были ее фотографии… — Да, понятно… Вы позволите?.. Он обратился к сопровождавшему его мужчине: — Поль, это мой кузен Томас Онжье… Это Поль де Рим со своей очаровательной дочерью Полиной… Полина попыталась сделать реверанс, но тут же остановилась. Томас поклонился и пожал руку ее отцу, которого сэр Генри сразу же увлек к другим гостям.
— Оставим молодежь, пусть потанцуют… Томас смотрел на Полину, и Полина смотрела на Томаса. Она нашла его очень красивым, он же был удивлен ее юностью и хрупкостью, несмотря на серьезный взгляд, свидетельствовавший, что она не боится людей и событий. На ней было такое же белое платье, как на Элизабет, и тонкая ниточка жемчуга вокруг шеи, чуть более белая, чем сама шея. Очень светлые русые волосы, удерживаемые почти незаметными жемчужными гребнями, короной обвивали голову.
Томас подумал, что эта сияющая белизна была отражением портрета Элизабет, которая, в свою очередь, была отражением Гризельды. Девушка, польщенная таким молчаливым вниманием, решила, что оно несколько затянулось. Она спросила, улыбнувшись:
— Потанцуем? Томас снова услышал музыку, про которую совершенно забыл, прислушался и покачал головой.
— Нет… Я не умею танцевать… Если вальс, я рискнул бы попробовать… Но это — я даже не знаю, что это за танец… Она засмеялась.
— Это мазурка… Ему понравилось, как она смеется. Томас обратил внимание на ее небольшие белоснежные зубки и сказал:
— Бланш!.. Вас должны были назвать Бланш!.. Это имя очень подходит вам… Вы белоснежны, словно веточка цветущего боярышника… Сколько вам лет? Она легонько хлопнула его по плечу перламутровым веером.
— Об этом не принято спрашивать… Мне шестнадцать лет, а вам? — Девятнадцать! Мы такие старые… Я хотел бы немного поговорить с вами, если вы не возражаете… Я чувствую, что совершенно одинок в этих дебрях, я заблудился… Может быть, присядем ненадолго? Она кивнула в ответ, не переставая улыбаться. Юноша был высоким, красивым и очень забавным. Она часто бывала на приемах со своим отцом, но редко встречала таких забавных молодых людей. Проходя синим салоном, Томас снял с подноса оранжад для нее и еще один бокал шампанского для себя. Они нашли свободное место в зимнем саду в креслах, укрывшихся между гигантским фикусом, карликовой пальмой и апельсиновым деревом с плодами. Перед ними булькал невысокий фонтанчик в небольшой мраморной чаше. За стеклянным потолком виднелось нечеткое круглое пятно, очевидно, луна.
— Я никогда нигде вас не видела… Кто вы? — спросила Полина. Он принялся рассказывать, руководимый шампанским, о круглом доме, о матери, о животных, о Леоне, о банке, о потерянном острове, будущем острове, вновь найденном с помощью будущего богатства, о путешествиях… Но ничего не стал говорить о своих рисунках. Об этом не говорят, их показывают.
Она очень скупо рассказывала о себе. Жила с отцом, давно овдовевшим. Много путешествовала. Он иногда брал ее с собой, а иногда оставлял в Париже с гувернанткой.
— Что делает ваш отец? — Что вы имеете в виду? — Какая у него профессия? Чем он занимается? — Ну… Разумеется, ничем… В тени листвы она казалась бледной, словно луна. Томас хотел бы взять ее за руку, но не осмеливался. Она закончила свой оранжад и сказала:
— Мне нужно вернуться в салон, я обещала танцы… — Ведь мы не станем расставаться навсегда? Но я не бываю в светском обществе… Где мы могли бы встретиться? — В хорошую погоду я бываю в Лесу… Около полудня. На аллее акаций… Вы знаете, где это? — Знаю… Он не знал, но легко мог узнать. Она встала, и они рядом вышли из синего салона. Возле двери в большой салон группа мужчин окружила сидевшую в кресле смеющуюся даму. Когда они проходили мимо, дама окликнула девушку:
— Полина! Идите сюда со своим кавалером!.. Полина, представьте мне этого красивого юношу, которым вы завладели… Томас неотчетливо услышал свое имя, потом имя женщины, сидевшей в кресле, но не разобрал его. Она смотрела на него с нескрываемым интересом. Он взглянул на нее сверху, увидел великолепный бюст, сияющую грудь, которую незаметный корсет окружал кружевами и блеском драгоценных камней.
— До чего же скрытный человек этот Генри! Иметь таких кузенов и никого не познакомить с ними!.. Полковник, встаньте, пожалуйста! Отправляйтесь воевать! Вас ждут на границе! Небрежно подтолкнула гусара, сидевшего рядом с ней. Когда офицер встал, она указала на освободившееся место.
— Садитесь рядом со мной, Томас, мы должны познакомиться поближе… — Конечно, мадам… Буду очень рад… Но позвольте мне сначала немного потанцевать… Сейчас будет вальс, а я никаких других танцев не знаю… Он схватил Полину за руку и бросился очертя голову в приключение.
Все оказалось не таким страшным, как он думал. Оркестр играл «Когда умирает любовь». Полина была легкой, словно дыхание, и изящно и уверенно сопровождала все его достаточно неожиданные движения. Постепенно он уловил верный ритм и кружился, кружился, обнимая хрупкую птичку, которую ему доверили на некоторое время.
— Вы были слишком невежливы с Ирен, — сказала Полина. — Вы так думаете? Но я очень хотел танцевать с вами… — Дело в том, что она не простит вас… Вы получили в ее лице опасного врага…
— Мне это все равно, я никогда больше не увижу ее… Кто она такая? — Это Ирен Лабассьер, жена банкира. Она раньше была… Ну, в общем, она была актрисой и ухитрилась женить его на себе. Очень умная, одна из самых красивых женщин Парижа… — Вот как? — Вы не находите ее красивой? — Не знаю. Я видел только вас… Полина зажмурилась от удовольствия, и когда снова открыла глаза, он впервые увидел их настоящий цвет. Они оказались светло-серыми с каемкой голубоватого оттенка, окружавшей серое, что придавало глазам патетический вид ребенка, долго плакавшего из-за несправедливого наказания. Ей что-то угрожало, она была в беде, ее требовалось защищать неизвестно от чего. От всего на свете…
Она казалась нежной и теплой в его руках, от нее исходил легкий аромат вербены и слабый запах апельсинового дерева, явно оставшийся от зимнего сада. Он хотел прижать ее к груди, обнять, обхватить руками. Но так вести себя не полагалось. Тогда он увлек ее в круг танца, изолировавший их от окружающего мира.
Он кружился, кружился, плывя вместе с ней на корабле музыки, который кружился, кружился… Она была в его объятиях, и они кружились, кружились… Он все еще продолжал кружиться, когда вернулся в Пасси в два часа ночи. Железный мостик кружился вместе с ним под звездами, круглый дом и луна тоже кружились…
Элен ждала его. Она хотела все знать, все услышать, он должен был рассказать ей все-все.
Но он только пожелал матери доброй ночи, поцеловал и, раздевшись на три четверти, спрятался под одеялом. Полина была с ним в ночи, и они кружились, кружились…
* * *
Когда утром Томас рассказал матери про вечер, он ни словом не упомянул Полину. От нее в его сознании осталось навязчивое, но очень расплывчатое воспоминание. Он мог точно вспомнить только ее светлые глаза, казавшиеся ему иногда хрупкими, словно они отражались в воде, а иногда жесткими, словно серый мрамор под дождем.
Он наклеил новый слой бумаги на рисунки на стенах голубятни и попытался нарисовать Полину. Купол комнаты превратился в звездное небо, и вместо звезд на нем сияли ее глаза. Он безуспешно пытался придать им лицо и тело, но у него ничего не получалось, кроме неуверенных линий, становившихся контурами тумана. Он был точно так же околдован Полиной, как недавно увиденной кометой, когда часами любовался ее сияющим нарядом, скользившим по небосклону.
Комета скрылась во мраке пространства, но Полина была здесь, где-то в Париже, живая и доступная. Он обязательно должен был снова встретить ее, увидеть, снова прикоснуться к ней. Она не могла стать исчезнувшей звездой. Все было так легко: Булонский лес, аллея акаций, в полдень.
Нет, это было совсем нелегко. В полдень, когда его послали с заданием из банка, он находился на другом конце света от Булонского леса. Он вскочил на велосипед как бешеный, принялся крутить педали и оказался возле ворот Отейль совершенно мокрый. Он не нашел аллеи акаций и едва успел вернуться в банк к двум часам, задыхающийся и голодный.
Через неделю он воспользовался поездкой на Елисейские Поля, чтобы сесть на поезд на линии «А» метро и доехать до станции Порт Дофин.
Здесь ему осталось только следовать за потоком колясок и всадников, чтобы оказаться на таинственной аллее, заполненной, к его удивлению, толпой посетителей. Что все они здесь делали?
Это было место, где требовалось очутиться в хорошую погоду, если вы были известным лицом и собирались остаться таковым. Или вы еще только надеялись приобрести известность и оказались здесь для того, чтобы познакомиться, хотя бы издалека, с известными людьми. Здесь можно было похвастаться своей новой коляской, новой шляпой, модным платьем, красивым любовником или богатым мужем. Лошади, в упряжке или верховые, двигались шагом, седоки при встрече раскланивались или обменивались улыбками. Многие должны были увидеться вечером на варьете или на ужине у баронессы.
Томас с удивлением смотрел на светский парад и думал, будет Полина верхом или в одной из карет, изящной, словно кружева. Или в автомобиле, так как несколько экземпляров этих механических существ осмелились затесаться в лошадиную процессию.
Он помнил Полину в белом платье, а поэтому инстинктивно искал взглядом девушку в белом. Но не находил ни одной, ни на аллее, ни под деревьями, куда он проник, и где было еще больше публики. Здесь посетители прогуливались пешком или сидели на металлических стульях. Расслабленные, они предавались беспечной болтовне. Среди пятен тени и солнца платья создавали движущийся пестрый цветник. Мужчины были во фраках и цилиндрах или серых котелках. Единственная возможность разнообразить свой облик для них заключалась в оформлении жилетов. Томас, зачарованно смотревший по сторонам, едва не наступил на микроскопическую собачку размером не больше крысы, с мордочкой, похожей на голову дрозда, и блошиными лапками. Животное, которое он нечаянно поддал ногой, взвыло на невероятно высокой ноте и попыталось укусить его за лодыжку, но распахнутая пасть была способна цапнуть только тросточку, имейся она у Томаса. На ее миниатюрном теле находилась попонка с рисунком из розовых квадратов, а на шее виднелась тройная золотая цепочка. Хозяйка собачонки, в наряде с такими же розовыми квадратами и с такой же золотой цепочкой, наклонилась, чтобы подобрать бедняжку на руки, одновременно бросив на Томаса взгляд с нежным упреком. Ему пришлось пробормотать невнятное извинение и исчезнуть как можно быстрее.
Девочка, игравшая в странную игру дьябло, едва не попала ему в глаз своей вертушкой. Она была в том возрасте, когда еще не нужно прятать свои щиколотки, но уже носила шляпу в цветочках. Она коварно ухмыльнулась, подобрав свое смертельно опасное устройство. Томас с удовольствием отвесил бы ей оплеуху. Он был расстроен и рассержен. Ему нужно было возвращаться, так и не увидев Полину.
Но его увидела Полина. Увидела издалека, высокого, потерянного, расстроенного, смешного и очень красивого. Она оставила свою задремавшую на стуле старушку-гувернантку, подкралась к Томасу сзади и легко коснулась тонкими пальцами его руки.
Он обернулся, вздрогнув, словно его укусили, но узнал ее только через какую-то долю секунды. Она была в светло-сером костюме того же цвета, что и ее глаза; на голове у нее была фиолетовая шапочка с вышитыми не ней цветами лилии. Она улыбалась ему нежно и немного насмешливо. Томас не сразу догадался, что сказать, да ему сразу и не удалось бы это сделать, так как у него сильно дрожал подбородок. Он испытывал непреодолимое желание обнять ее и никогда больше не выпускать из рук. Он схватил обеими руками ее маленькую ладонь, на ней были перчатки из какой-то очень тонкой ткани, сквозь которую он чувствовал ее тепло и хрупкость. Наконец ему удалось сказать:
— Это вы! Она засмеялась: — Разумеется, это я!.. Вас это удивляет? Он ответил шепотом: — Конечно… Ему пора было возвращаться на работу. Он проклял банк, обстоятельства, заставлявшие их расставаться, проклял весь мир. Жизнь показалась ему нелепой. Зачем нужно было работать, устраивать демонстрации, потеть, кривляться? Для чего? Все это было всего лишь театром марионеток, все было пустотой. Пустотой!.. Во всем мире имелось единственное живое существо — Полина.
Полина… Где она находилась, что делала на протяжении этих бесконечных дней, отделенная от него половиной Парижа и миллионами условностей? Моментами он ощущал свое единство по духу с русскими студентами, бросавшими бомбы в царский кортеж. Он был готов взорвать все, что громоздилось между ними, что разделяло их.
Он видел ее только два раза — в белоснежном платье и в сером, цвета осеннего неба костюме. Как и впрошлый раз, он был в одном и том же коричневом костюме, с каждым днем становившимся для него все более тесным, и в черном котелке, напяленном, словно гасильник для свечей, на его буйную шевелюру. У него появилась привычка проводить пальцем по верхней губе с тонкими черными усиками. Ему было безразлично, во что он одет. Впрочем, ей тоже. Он был высоким, красивым, забавным…
Когда он уже был готов снова расстаться с ней, Полина предложила ему сопровождать ее послезавтра в Шател. Ее отец накануне уехал в Трувиль, а она получила два билета от постановщика балета Дягилева, с которым ее отец познакомился на приеме у Габриэля Астрюка. Томас не имел понятия ни о Дягилеве, ни об Астрюке, но слышал о чуде, всколыхнувшем весь Париж: русском танцоре Вацлаве Нижинском. Полина обязательно должна была увидеть его, но она не могла появиться в театре одна. Впрочем, вряд ли ее спутником мог быть Томас… Поэтому она собиралась сказать, что будет в театре с подругой.
Ее гувернантка вечером задремлет уже за столом и будет думать только о том, как добраться до постели. Он приедет за ней на фиакре, но должен будет остановиться немного в стороне от подъезда…
Он никогда не видел балета, ему было наплевать на Вацлава Нижинского, но мысли о перспективе провести вечер с Полиной, побыть вдвоем с ней в фиакре наполняли его безумной радостью. Томас подбросил в воздух свой котелок, споткнулся о клумбу, согнулся вдвое, попросив у нее прощения и вернулся в банк на велосипеде, у которого, похоже, появились крылья.
Он сказал матери, что ему придется работать ночью, готовить месячный отчет. Она поверила ему. Сентиментальное приключение не учитывалось в ее планах, разработанных для сына. Она не могла представить, что такое возможно. Но то, что банк достаточно доверял Томасу, чтобы поручить ему вечером проверять счета, только подтвердило ее надежды; она получила подтверждение его быстрому продвижению в иерархии работников банка.
Когда рабочий день закончился, он снова взял напрокат фрак со всеми аксессуарами. Ему нужен был также цилиндр, но подходящего размера не нашлось. Служащий с восхищением сообщил ему, что у него необычный размер головы; впрочем, это не имело значения, так как он мог держать цилиндр в руке.
Он переоделся в фиакре, сложив повседневную одежду в картонку, в которой находился фрак. Завязав кое-как галстук, он с ужасом почувствовал, что у него волосы торчат в разные стороны.
На улице Дю Буа, где в большой вилле под сенью густых деревьев жила Полина, он появился в восемь часов. Она посоветовала ему не выглядывать из фиакра, и он стал ждать. Прошла минута. Пять минут. Целая вечность. Наконец дверца фиакра распахнулась перед сияющим образом: заходящее солнце украсило розовым и золотым платье из белого муслина и улыбающееся лицо сказочной феи, в которой он не сразу узнал Полину. Свет зацепился за кончики ее ресниц, залил золотом несколько выбившихся из прически непослушных прядей и перо, придерживавшее прядки, остававшиеся послушными. Скромное декольте, завуалированное тюлем, позволяло догадываться, что где-то несколько ниже, в нежной тени, хранились юные сокровища. Мягкие лучи вечернего солнца бережно коснулись протянутой к Томасу нежной руки.
Он вспомнил, что ему нужно дышать, вдохнул воздух полной грудью и помог Полине подняться в фиакр. Дверца захлопнулась, кучер что-то буркнул, и фиакр, заскрипев, двинулся с места.
Томас много раз мечтал об этом мгновении, когда окажется впервые наедине с Полиной, когда сможет обнять ее… Но это оказалось невозможно… Сидя на банкетке напротив него, держа на коленях свою небольшую сумочку, хрупкая, изящная, безупречная, от туфелек до шляпки, она была недостижима. Она была белым цветком, перламутровой бабочкой, облачком муслина. Малейшее прикосновение к ней неизбежно должно нанести ущерб этому воздушному созданию.
Он смотрел на нее, забыв закрыть рот, с перекосившейся манишкой, съехавшим набок галстуком, взъерошенной шевелюрой… Она рассмеялась.
— Вы смотрели на себя в зеркало? Он отрицательно помотал головой. Она извлекла из сумочки зеркальце размером с большую монету и протянула ему. Но он смог разглядеть в зеркале сначала только прядь волос, потом одну пуговицу жилета. Тогда она, слегка нахмурившись и закусив губку, принялась приводить его в порядок. Поправила галстук, вернула на место манишку, подтянула жилет. Попытавшись причесать его миниатюрным гребнем, она сломала его, огорченно вскрикнула и все же закончила приглаживание шевелюры жалким обломком гребешка. Во время этой процедуры он закрыл от удовольствия глаза и только что не замурлыкал, как кот.
Подъехав к театру, он выбрался из фиакра с картонкой для одежды в одной руке и цилиндром в другой. Ему очень не хватало третьей руки, чтобы протянуть ее Полине, и четвертой, чтобы рассчитаться с кучером. Он бросил картонку на землю, попытался напялить цилиндр, но вовремя спохватился и поставил его на картонку, после чего смог, наконец, помочь Полине сойти с фиакра на землю. Он не заметил, что она почти перестала забавляться, почувствовав раздражение.
Избавившись от всего лишнего в гардеробе и обрадовавшись возвращенной свободе, Томас пригладил обеими руками шевелюру и одной правой рукой усы, после чего они с победоносным видом прошествовали в заполненное людьми фойе театра, шумное, как рынок в часы пик.
Русский балет демонстрировал свою вторую программу, и светское общество Парижа, очарованное талантом Нижинского во время исполнения его первой программы, собралось, чтобы он в очередной раз превзошел самого себя. Спектакль давался в пользу жертв еще сохранившегося в памяти обывателя землетрясения в Мессине. Это несчастье, как и сам балет, были основанием для дам нацепить как можно больше драгоценностей на свои платья, волосы, шею, уши и запястья. Партер и ложи сверкали тысячами отблесков на фоне обнаженных белоснежных плеч и эффектно подаваемых почти обнаженных бюстов. По рядам сидений волнами прокатывались разговоры, незнакомые лица изучались с помощью лорнетов, при появлении знакомых раздавались приветственные возгласы.
— Кто эта девочка вся в белом, словно новогодняя свечка? — Это… Ах, да, это же Полина! Она с мужчиной! — Полина де Рим? Она обручена? Кто этот молодой человек? — Не знаю… Он выглядит, словно празднично наряженный лев. — Он похож на деревенщину… — Он красив… — Для него она выглядит слишком юной… Ей явно все еще требуется бутылочка с соской… Перед тем как опуститься в кресло, Томас окинул взглядом зал. Поскольку он был высоким и его никто не знал, весь зал принялся рассматривать его. И очень многие женщины подумали, что рядом с ними он выглядел бы гораздо эффектнее, чем с этим ребенком. А мужчины подумали, что он выглядит в своем фраке не лучше, чем мешок с картошкой.
Томас гораздо отчетливее, чем на приеме, осознал, что находится в мире Полины и не только не является частью этого мира, но и не испытывает ни малейшего желания быть принятым в него. Он представил, что будет, если кто-нибудь из его друзей, из существ его мира, внезапно очутится здесь. Фыркающий Тридцать первый, жираф Камилла со своими наколенниками, слон Цезарь с тремя бивнями, все эти звери, возглавляемые громадным Леоном в зеленой шерстяной рубашке с синей попугаихой Флорой, цепляющейся за его бороду, достойную Юпитера, и вороном Шамой, восседающим у него на голове, хлопающим крыльями и громко орущим:
— Ко-а!.. Ко-а!.. Эта картина развеселила его, и он засмеялся. — Садитесь же! — раздраженно одернула его Полина. — На вас все смотрят… Почему вы смеетесь? — Мы с вами оказались в зверинце, — сказал он совершенно спокойно. — Но я пойду куда угодно, лишь бы быть рядом с вами. Он немного помолчал, потом наивно добавил:
— Я мог смотреть сколько угодно по сторонам, все равно вы здесь самая красивая… Действительно, вы очень, очень красивы… Она улыбнулась, мгновенно забыв о своем раздражении, и на какое-то мгновение слова Томаса оказались истиной, потому что женщина, которой говорят, что она красива, обязательно становится красавицей.
Представление не очень понравилось ему, за исключением сцен в русских или восточных костюмах. Ему показались смешными танцовщицы, семенившие по сцене на пуантах, и этот знаменитый танцор, подпрыгивавший так высоко, что во время полета успевал несколько раз дрыгнуть ногами. Но декорации показались ему ослепительными. Написанные необычно смелыми красками, они были картинами, в глубине которых перемещались персонажи в неожиданных костюмах, таких же смелых и гармоничных, как и декорации. В конце одного из па-де-труа Нижинский совершил такой невероятный прыжок, что едва не вылетел со сцены. Зал вскочил в едином порыве восторга, и аплодисменты продолжались до бесконечности. Бюсты трепетали, бриллианты сверкали, лица у черно-белых мужчин стали красными. Томас тоже встал вместе со всеми, но аплодировал он краскам декораций, роскошным синим, ярким фиолетовым, пурпурным, зеленым и оранжевым, фантастическим коричневым и золотым.
Полина увлекла его за кулисы, где добрая половина зрителей пыталась пообщаться с Нижинским, которого охранял громадный мужик с бритым черепом. Его борода явно не знала гребня с момента появления первого волоска.
Полина хотела увидеть не танцора, а Кользена, художника по декорациям, приславшего ей два билета. Они нашли его в стороне от общей суматохи, на которую он с иронией поглядывал. Он оказался таким же высоким, как Томас, и, как ни странно, очень походил на него чертами лица, общим видом и манерами. Только его шевелюра, такая же обильная и буйная, как у Томаса, оказалась светлой, а глаза голубыми. Россиянин, финн по происхождению, он был весьма богат и путешествовал с группой Дягилева исключительно для собственного удовольствия. Он называл себя декоратором потому, что подготовил два или три макета декораций, от которых Дягилев категорически отказался. Томас поздравил его с показавшейся ему наиболее удачной декорацией последней части балета.
— Действительно, она получилось чудесной! — сказал с восхищением Кользен. — Но ее автор не я. Ее подготовил Бакст. Он говорил проникновенным голосом, голосом оперного певца, и тот, кто слушал его, невольно вспоминал виденные им когда-то спектакли. Под жакетом, таким же голубым, как его глаза, у него был надет черный жилет с золотыми пуговицами; галстук у него был бледно-зеленым. Он походил на старшего брата Томаса, и по его поведению можно было подумать, что они встретились после долгой разлуки. Он выглядел парижанином более достоверно, чем любой настоящий парижанин, — пожалуй, самую малость утрированно. Но достаточно, чтобы оказаться на обычном уровне, характерном для парижан. Его место в театре казалось очевидным — но только за кулисами. И хотя приехал в Париж из Москвы, он и в Париже оказался на своем месте. Очутись он сейчас в Самарканде или в Жеримадете, он чувствовал бы себя как дома.
Полина молча слушала его, словно зачарованная. Он касался ее кончиками пальцев, словно клавишей рояля, его рука взлетала, потом снова опускалась на ее руку, на плечо. Он говорил, что она легка, как балерина, что она должна танцевать, что пусть зайдет к нему немного позже, и он тогда представит ее Дягилеву… Томас начал злиться. Проходившая мимо них группа молодых людей, говоривших по-русски и громко смеявшихся, окликнула Кользена. Он отвернулся, помахал знакомым, что-то сказал им и исчез.
В фиакре Полина, в восторге от вечера, громко вспоминала наиболее примечательные моменты балета, смеялась и даже пыталась снова аплодировать. Потом она забеспокоилась. Множество людей видело ее вместе с Томасом, отец рано или поздно узнает о ее походе в театр, ей придется что-то придумывать, что-то говорить ему, она скажет, что была с друзьями, а этот юноша… Какой юноша? Ах, этот… Это кузен Иветты, его мать была с нами. Впрочем, отец ничего не скажет, он совсем не такой строгий, как можно подумать, он доверяет ей, он всего лишь заботится, чтобы она не причиняла ему беспокойства… Томас слушал ее, ничего не понимая. Так он мог бы слушать, как поет соловей… Он пересел к ней, и Полина неожиданно замолчала, потому что он коснулся своими губами ее губ. Она задрожала, но он обнял ее, не заботясь о ее туалете; она тоже забыла обо всем…
Он первый раз в жизни целовал женщину, и этой женщиной оказалась Полина… Удивительный жар заставлял плавиться его сердце. Нежные губы под его губами были теплыми, мягкими и одновременно твердыми, влажными, свежими, живыми, словно… Он не знал, с чем их можно сравнить. Ничто в мире не выдерживало сравнения с ними. Целовать их было самым большим, самым волшебным чудом на свете.
Они надолго замерли, обнимая друг друга, прижавшись щекой к щеке, и молчали. Потом она повернулась к нему лицом, чтобы он еще раз поцеловал ее. Дыхание Полины участилось, ее небольшие руки сжали руки Томаса. Он чувствовал охватившее его волнение, и необычный порыв подтолкнул его к необычным поступкам. Его пальцы искали пуговицы, дергали кружева, открывая все новые участки пылающей жаром кожи. Она обхватила его за шею обеими руками, не отрываясь от его губ, и слабо стонала. Внезапно фиакр остановился. Они приехали.
Полина спустилась на землю, с растрепанными волосами, с беспорядочно расстегнутой одеждой, красная и задыхающаяся, и бросилась в сад. Он отъехал, продолжая пылать, словно факел. Ему пришлось снова переодеться, чтобы вернуть фрак, холодный воздух охладил его и привел в чувство.
Он вошел в дом со стороны парка, стараясь, чтобы мать не увидела картонку с фраком, которую он удачно спрятал внизу в салоне. Леон спал на соломе возле камина, и рядом с ним, прижавшись к нему, спала маленькая обезьянка. Он проснулся, посмотрел на проходившего мимо Томаса, подмигнул ему и снова заснул.
Элен не дождалась сына. Она оставила ему в столовой ужин: пару кусочков ветчины, сыр, сваренные вкрутую яйца, салат и хлеб. Томас мгновенно проглотил все, что было на столе, после чего забрался в буфет, где нашел остатки холодного рагу с картофелем. Рагу исчезло так же мгновенно.
* * *
Он увидел Полину только через шесть дней, снова в Булонском лесу, и она сообщила ему, что на следующий день уезжает к отцу в Трувиль вместе с гувернанткой. Там она должна провести все лето, и снова увидеться смогут только в сентябре.
Она сказала это с непринужденным видом, очень спокойно, словно забыла волнение, испытанное во время возвращения домой из театра. В то же время, Томас очень хорошо помнил все, и он только с большим трудом удержался, чтобы не обнять Полину.
— Я не смогу так долго не видеть вас, — сказал он. — Это невозможно. Я приеду к вам в Трувиль!.. — Замечательная идея! Мы будем купаться! — Купаться? — Конечно! У вас есть купальный костюм? — Нет… — Ну, купите в Трувиле… Мы займемся этой покупкой вместе… Я выберу его для вас… Это будет так забавно!.. — Конечно, мы так и сделаем, — неуверенно согласился он. Что-то покупать, брать напрокат, путешествовать, снова тратить деньги… Ему и так пришлось в конце месяца одолжить луидор у Леона, чтобы не вызывать опасные подозрения у матери… Как ему удастся съездить в Трувиль?
Он вспомнил невнятный намек на приглашение, сделанное ему кузеном Генри.
— Что вы делаете летом, мой дорогой Томас? — Ну… Я… — Приезжайте на несколько дней в Трувиль… Когда вам будет удобно, вам не нужно даже предупреждать меня, вилла большая, там всегда гостят друзья, они то появляются, то исчезают. Найти ее можно без труда, любой кучер привезет вас куда нужно… Она называется Гринхолл… — О, замечательно… Спасибо… Очень рад… Я, конечно… Летом они в банке работали, как все служащие… Но сообщив мистеру Уиндону о приглашении сэра Генри, он получил у доброжелательного начальства отпуск на два дня, понедельник и вторник 12 и 13 июля. С воскресеньем и праздничным днем 14 июля у него получилось 4 дня для посещения Трувиля, если сесть на поезд вечером в субботу.
Элен пришла в ужас при мысли, что Томас так долго будет находиться вдали от нее. Ведь до сих пор они не расставались. Правда, она понимала, что поддерживать отношения с Генри, то есть, с кузеном Томаса, было весьма важно для него. У него появится возможность встречаться у Генри с дипломатами, банкирами, деловыми людьми. Все известные люди Франции и Англии посещали Трувиль в июле и августе. Приглашенные к Генри Ферре не могли не обратить внимания на подающего надежды молодого человека.
Разлука тревожила и огорчала ее, но Элен была вынуждена согласиться.
* * *
Море!
Он распахнул ставни окна своей комнаты и покачнулся от волны света, хлынувшего на него из глубины неба.
Приехав в Трувиль ночью, Томас лег спать, не подходя к окну, и этим утром открыл ставни, не подозревая, какое зрелище ожидает его.
Море… Он совершил морское путешествие, когда был совсем ребенком, к тому же, тогда он спал всю дорогу. Потом никогда не вспоминал о море, никогда не мечтал увидеть его. Да и как можно представить все это?
Он раскинул руки, широко открыл глаза, вдохнул полной грудью… Вода, небо, свет, бесконечное множество красок и — море!
По телу прокатилась волна свежести и счастья. Он был обнажен, словно только что родившееся дитя, и перед ним не было никого, кроме моря и неба с большими белыми птицами. Вилла стояла на склоне холма, и его комната на верхнем этаже находилась между башенкой и миниатюрной колоколенкой. Он звонко рассмеялся — смехом, похожим на смех Леона, и принялся хлопать себя по груди, по бокам и по бедрам раскрытыми ладонями. Потом окунул лицо в тазик с водой, набросил на себя одежду, скатился по лестнице и помчался по камням, по песку, по водорослям и по раковинам, пока не оказался возле него, лицом к лицу, всего в нескольких сантиметрах…
Море отступило, но вернулось и лизнуло его подошву языком, круглым и плоским; затем сразу же втянуло язык, чтобы подумать, снова вытянуло его к нему, обхватило обе ноги легкой нежной пеной и тут же быстро отступило с легким бормотаньем. Томас шагнул за ним и наклонился, чтобы погладить. Оно коснулось его ладони холодным поцелуем с тонкими уколами песчинок, Томас погрузил в него вторую руку, потом выпрямился, прижал мокрые ладони к лицу и зажмурился. Свет проникал сквозь ладони и веки, чайки с криками носились над ним, море что-то напевало у его ног, он стоял в центре сияющей вселенной.
Только теперь Томас подумал о Полине.
Он встретил ее только в полдень на деревянном настиле перед Эдемом. Судьба решила помочь им. Сэр Генри и Поль де Рим с группой друзей, страстно увлеченных авиацией, уехали на автомобиле в Кале, чтобы наблюдать за полетом Латама, собиравшегося перелететь через Ла-Манш на своем моноплане «Антуанетта».
Латам и два его конкурента, Блерио и Ламбер, уже заняли позицию на краю скалы, обращенной к Англии, но успех полета полностью зависел от направления ветра. Они ждали благоприятного для полета направления, чтобы сорваться с места. Таким образом, молодая пара могла получить свободу на срок от нескольких часов до нескольких дней.
Поднявшись к себе в комнату, Томас обнаружил на постели костюм для купания, последнюю модель, нечто вроде борцовского трико. Цельная вещь цвета морской волны с волнистыми горизонтальными полосами, с короткими рукавами и штанинами до середины бедра. Слуга принес ему коробку с красками, два холста и мольберт. Метрдотель-англичанин пришел к нему и объяснил, что сэр Генри поручил ему передать все это господину, если он приедет.
Прилив закончился в три часа, Полина появилась только в пять. Он уже давно был в воде, где скорее барахтался, чем плавал. Леон немного научил его держаться на плаву, но он никогда не проплывал расстояние больше, чем длина бассейна для тюленей. Тем не менее, он считался одним из самых отважных пловцов, потому что не боялся с головой оказаться под водой.
Полина объяснила Томасу, где находится ее кабинка, и он старался не отходить от нее. Он увидел, как девушка вошла в кабинку в желтой юбке болеро, соломенном капоре с двумя желтыми розами и блузке, держа в руке кружевной зонтик. Вышла она в белом фланелевом купальном костюме из двух частей, с открытыми икрами, в туфельках с лентами и в большой розовой шляпке. Томас бросился к ней, размахивая руками, но тут же с ужасом осознал, что его намокший костюм выглядел совершенно непристойно. Он мгновенно отвернулся, хотя в этом не было особой необходимости, так как она смотрела только на воду, омывавшую множество бледных ног. Полина попробовала воду сначала одной ногой, потом ступила в нее обеими ногами, то и дело негромко вскрикивая. Сонная волна плеснула водой на колени, вызвав множество восторженных криков самых смелых купальщиц и бегство более робких. Полина двинулась вперед. Томас, лежавший в воде, ободрял ее. Незаметное углубление в песчаном дне заставило ее погрузиться до середины бедра. Она пронзительно закричала, споткнулась, едва не упала, тут же выскочила на песок и бросилась переодеваться.
Томас пригласил ее на обед. Денег у него было негусто. Им посоветовали заглянуть в небольшой ресторан на краю деревушки Довиль. Заведение оказалось заполненным молодыми парочками, сбежавшими от родителей. Им подали на мраморный столик с металлическими ножками и скатертью в цветных квадратах блюдо из креветок и мидий, и они запили его белым вином. Они смеялись каждому слову, счастливые, словно дети. Томас становился более серьезным только для того, чтобы любоваться девушкой, теряясь в ее светлых глазах, подчеркнутых слабой тенью. Он не уставал повторять, что она прекрасней, чем море и небо вместе взятые.
Потом он проводил Полину по променаду, уже опустевшему. Томас не мог решиться расстаться с ней. Море отступило далеко от берега, превратилось в светлую полоску в ночи под взглядом луны. Он взял руку Полины и сказал:
— Пойдем посмотрим на него… Они шагали молча. Слышно было только отделенное бормотание уснувшего моря и сухой хруст раковин у них под ногами. Добрались до скалы, силуэт которой напоминал огромного лежащего верблюда. Они попытались сесть между горбами, но тело верблюда оказалось усеянным твердыми острыми раковинами, и удобнее оказалось устроиться на песке. Полина сняла шляпку и повернулась к Томасу своим нежным и слегка печальным лицом. В лунном свете ее глаза казались влажными цветами. Он осторожно обнял ее и поцеловал. Юноша почувствовал аромат вербены, смешавшийся с запахом моря, и увидел в вырезе ее блузки округлую белизну, такую же округлую, как луна. Он расстегнул несколько пуговиц и положил руку на хрупкую грудь, нежную, словно лепесток. Потом прикоснулся к ней губами. Ему казалось, что кровь кипит у него в венах. Полина негромко застонала и подняла голову, чтобы поцеловать его губы. Рука Томаса опустилась куда-то вниз, нетерпеливо путаясь в непонятных препятствиях. Какая-то неведомая сила толкала его руку, и он не представлял, куда она направлена, но ничто не смогло бы остановить его. Эта же сила приковала Полину к песку, заставляла цепляться за плечи Томаса, раскрываться перед ним, призывать нечто непонятное, неотвратимо надвигающееся, пробуждающее одновременно и стремление к нему, и ужас. Она негромко вскрикнула раз, другой. Томас услышал ее, несмотря на рокот морских волн, грохотавших у него в голове. Он неудержимо погружался в пылающие недра Земли, проваливаясь все глубже и глубже, к огненному ядру, всеобщему началу и концу Вселенной. Он очутился в сердце пожара и растворился в нем. И все исчезло.
Лежа на спине, Томас бездумно смотрел на черное небо и луну, и в сердце его гнездилась печаль, черная, как ночь. Ничего, совершенно ничего не случилось… Все это было ничем… Полина была ничем… Море было не чем иным, как большой лужей соленой воды, и от водорослей несло гниющей рыбой. Ему захотелось поскорее уйти отсюда. Прижавшаяся к нему Полина тихо плакала.
Он встал и помог ей подняться. Она негромко попросила:
— Поцелуй меня… Он поспешно поцеловал. На ее сухих губах чувствовался привкус водорослей. Он быстро зашагал к берегу. Девушка окликнула его, и в ее голосе прозвучал ужас человека, брошенного на произвол судьбы.
— Томас!.. Он остановился, но не ответил. Полина отряхнула юбку, с которой посыпался песок, торопливо привела в порядок волосы, надела шляпку, схватила валявшийся рядом зонтик, бросилась к нему и ухватилась за руку, словно тонущий за якорь спасения. Он молча проводил ее до дома. Схватившись за дверную ручку, она негромко спросила:
— Завтра, на пляже? Томас не решился сказать нет. Но он не хотел и сказать да. Глухо пробурчал то, что могло означать и первое, и второе. Она пристально всмотрелась в него, хотела что-то сказать, но промолчала, отвернулась, открыла дверь и исчезла, захлопнув ее за собой. Вернувшись в свою комнату, Томас закрыл ставни, отвернулся от окна и сел за мольберт. Он покрывал холст в свете электрических лампочек крупными мазками, не смешивая краски. Темное небо; оранжевая луна заливает фиолетовым светом края рваных облаков над фиолетовым и черным морем, усеянным багровыми ранами. На поверхности моря вздымаются бугры — то ли громадные волны, то ли спины морских чудовищ, сплетающихся в страшной схватке.
Светало. Он сильно проголодался. Спустился вниз, нашел кухню, сел за стол. Испуганная повариха застала его в тот момент, когда он заканчивал пожирать бараний окорок; она собиралась накормить им в обед всю челядь.
Томас проснулся в час дня совершенно изменившимся. Он ничего не помнил о том, что случилось с ним после того, как они… А потом… Неужели так всегда бывает после того, как?.. Тоска, отвращение, черная ночь над миром… Какая нелепость…
Он увидел картину, над которой трудился ночью, и ему стало страшно. Полина, Полина… Он снова почувствовал к девушке восторг и нежность, к которым теперь прибавилась благодарность… С ее помощью он стал мужчиной. И он сделал ее женщиной! Его опять охватило желание. Он не хотел, чтобы она плакала; она должна была испытывать радость, как он, радость огромную, словно море! Этим вечером они снова пойдут к скале-верблюду…
Томас распахнул ставни. Море сверкало под солнцем. Чайки и паруса усеивали небо и поверхность моря. Он почувствовал себя сильным, жизнерадостным, настоящим победителем. Настоящим мужчиной. Он плотно позавтракал и спустился на пляж.
Полины на пляже не было. Томас напрасно прождал ее до вечера, когда пляж опустел. В отчаянии он поднялся к себе и улегся в постель, не поужинав. Он ранил ее, унизил, она больше не хотела его видеть. Это показалось ему невозможным; он не мог жить без нее… Внезапно юноша подумал, что мог вернуться ее отец, не разрешивший дочери купаться. Да, скорее всего, так оно и было… Эта мысль успокоила, и он заснул.
На следующее утро он увидел Полину на пляже, но она была с гувернанткой, державшей ее за руку и не оставлявшей ни на минуту. Выглядела она печальной, и тени под глазами заметно увеличились. Она взглянула на Томаса, когда он проходил мимо, но не подала никакого знака. Только ее пальцы, державшие зонтик за ручку, стиснули ее нервным движением. Купаться не стала, и скоро они с гувернанткой ушли с пляжа.
На третий день, 14 июля, в большой праздник, город заполнился трехцветными флагами и грохотом фанфар, но часы уныло проходили один за другим без Полины. Пляж заполнила приехавшая из Парижа на специальных поездах публика. Под толпами отдыхающих исчезли пляж и море. Томас устроился возле кабинки Полины, стараясь не сводить с нее глаз. Полина так и не появилась.
Его парижский поезд уходил в восемь часов.
Он добрался до вокзала с видом осужденного на казнь. Там узнал, что на Париж должны уйти два дополнительных поезда, один в десять вечера, другой в два часа ночи. Он сдал свою сумку в камеру хранения и вернулся на пляж, подгоняемый безумной надеждой. Вилла Полины стояла закрытая, без огней. Томас попытался увидеть ее через стекла витрин во всех ресторанах и даже подошел довольно близко к казино. Девушку он нигде не увидел.
Его привлекла громкая музыка. По улице проходило факельное шествие. Колонну возглавляли барабанщики и трубачи, за ними шествовали пожарные в сверкающих медных касках, потом дети с бумажными фонариками на длинных шестах. Плотная толпа любопытных заполнила тротуары. Томас, как ни метался в толпе, нигде не видел потерянную Полину. Ее не было нигде.
Почувствовав чье-то прикосновение к руке, он быстро обернулся и столкнулся взглядом с глазами Полины. Огромными глазами, полными печали и надежды. На голове у нее была прикрывавшая лицо золотистая вуаль, платье она надела самое простое, с желтыми полосками. Девушка выдернула его из массы зевак, и они спустились на пляж. Потом долго шли к уснувшему вдали морю, подальше от людей и городского шума, пока не оказались возле скалы с двумя горбами, где, наконец, обнялись и опустились на песок.
Томас с восторгом обнаружил, что у Полины ничего не было под платьем. Застонав от наслаждения, он провел рукой по такому теплому, такому нежному телу, цветку жизни, свежему и в то же время обжигающему, нежному, нежному, нежному… Когда они слились в одно целое, она не вскрикнула, а слабо застонала, и он почувствовал, как она постепенно поднимается к невероятной вершине, к которой он подталкивал, вел ее и которой она должна была, наконец, достичь…
БАХ! БАХ!!! В небе взорвались бомбы фейерверка. Грохот должен был долететь до Англии.
БАХ! Первый же ужасный взрыв прогремел в голове у Полины, убив ее восторг, словно заряд дроби птицу в полете. Она упала с невероятной высоты в ночь, на песок, раздавленная, разбитая. Она закричала от боли и отчаяния. БАХ! Она рыдала, пытаясь освободиться, достичь избавления. БАХ!
— Отпустите меня! Нет! Нет! Оставьте меня! Но Томас продолжал. БАХ! Он должен был продолжать, продолжать все быстрее, все дальше, до конца, он не мог остановиться. БАХ! БАХ! Треск взрывов в небе, вспышки красок. Свист, крики толпы. БАХ! Томас продолжал, все быстрее и быстрее, давя на нее бедрами, руками, всем телом. БАХ! Тысячи взрывов! Красных! Голубых! Серия разноцветных взрывов! Наконец он завершил и распластался на ней всей своей тяжестью. Она оттолкнула его обеими руками, поползла, скользнула, освободилась, сбросив его с себя. Полина задыхалась, ее слезы смешались с песком, забили рот. Вскочив, она побежала.
Томас вернулся в Париж в полночь, специальным поездом, праздничным поездом, простояв всю дорогу между сиденьями с детьми и их родителями. Дети спали или плакали на коленях у измотанных до предела мамаш, и потные от жары отцы храпели рядом в запахах водорослей и жареной картошки. Праздник… Море…
* * *
Элен была крайне разочарована, когда Томас рассказал, что не встречался ни с послом, ни с финансовым королем. Он не виделся даже со своим кузеном, уехавшим смотреть на полеты первых самолетов. Самолет Латама упал в воду, но Блерио удалось долететь до Англии. Это было величайшее достижение столетия.
— Что ты делал все это время? Он отсутствовал четыре дня. Для нее прошло сто лет. — Я купался… — Купался?.. В море? — Разумеется… — Ты сошел с ума!.. Неудивительно, что так плохо выглядишь! Ты наверняка простудился! Покажи язык!..
— Мама, послушай!.. — Покажи язык! — Ну, смотри! Э-э-э-э-э! — Он весь белый! Я уверена! Ты ничего не ешь, у тебя провалились глаза… О Боже! Я не должна была отпускать тебя одного! Ты ведь просто большой ребенок!.. Пей чай, пока не остыл! — Он слишком горячий! — Пей!.. Через несколько дней к нему вернулся аппетит, и Томас стал выглядеть как обычно. Последний вечер на пляже постепенно превращался в его памяти в фантастическое событие, в котором огни фейерверка, море и плоть смешивались и одновременно взрывались в апогее его страсти. Он изобразил бурю света и воды вокруг себя на стенах голубятни. Звезды падали в море, и его воды огненными волнами вздымались до самого неба. То тут, то там мелькало что-то вроде тела утопленницы, немого, безликого, то ли рыба, то ли сирена… Или это было уносимое ветром облако?
Он вспоминал Полину руками, продолжал ощущать ее своими ладонями, такую мягкую, нежную. Он вспоминал обжигающий огонь внутри ее тела, но это воспоминание не обладало тем же волшебством, что и ее нежность, которую запомнили его руки. Почему она вдруг начала кричать и плакать в такой потрясающий момент? Он не понимал. Это было слишком глупо. Конечно, этот грохот… Огонь в небе, огонь в их телах, слившихся в одно… Она стала плакать!..
Он сердился на нее за испорченный момент. Испорченный так нелепо. Может быть, она была совсем глупой? Возможно, таковы все женщины? И его мать?.. Но это его мать, он не имеет права судить ее… Гризельда? Нет! Гризельда не может быть глупой! Она слишком умна… Потрясающе умна… Но он никогда не смог бы с ней так…
Ему не стоит думать об этом.
Томас сердился на Полину, потому что ее не было с ним. В то же время он чувствовал облегчение. В его жизнь вернулись простота и порядок. Его поездки по городу, возвращение вечером в круглый дом. Леон, животные, разговоры с Шамой, картины… Как замечательно, что теперь ему не нужно придумывать сложные обоснования, чтобы пересекать в полдень весь Париж ради десятиминутной встречи в толпе. К нему вернулась привычка к обедам за угловым столиком в ресторане. Наступила дата 15 августа, когда кто-то дает команду парижанам, сосланным в Трувиль, вернуться в город. Потом наступил сентябрь. Томас не стал посещать Булонский лес. Деревья были обрезаны. Его руки забыли Полину.
Но его юное тело, познакомившееся с женским телом, не могло забыть его. Однажды, сославшись в очередной раз на вечернюю работу в банке, Томас посетил вместе со старшим коллегой, частенько с ухмылкой рассказывавшем ему об этом, «заведение» на улице Годо-де-Моруа, которое тот посещал каждый месяц.
Едва зайдя туда, юноша почувствовал желание уйти. Эти женщины без какой-либо тайны, уставшие от стольких клиентов, не старались ничего скрыть или показать, так как их тело было всего лишь рабочим инструментом; они вызывали у него желание переспать с ними ничуть не больше, чем со швейной машиной или банковской папкой.
Когда коллега исчез на лестнице вслед за полуобнаженной брюнеткой, по толстой заднице которой он не переставал все время похлопывать, Томас направился к выходу. Довольно красивая девушка, несколько полноватая блондинка, попыталась удержать его. Она была в черном с зеленым низким корсетом и в прозрачной рубашке без рукавов, развевавшейся вокруг тела.
Она собрала волосы в островерхий шиньон, наклоненный вперед, чтобы его не нужно было каждый раз восстанавливать заново.
— Ты уходишь, мой дорогой? Она обхватила Томаса за шею обеими руками. Ее левая грудь выскочила из корсета.
— Да, ухожу, — ответил он. — Ты такой милашка… Пойдем со мной, тебе понравится… Ее рисовая пудра отдавала пылью, а волосы — жирным бриллиантином.
— Вы весьма любезны… Извините, но мне пора… — Надо же, он обращается ко мне на вы, этот чудак!.. Идем же, цыпленок, не бросай меня… В ее голосе чувствовались печаль и призыв, но они пахли пылью, как и ее кожа. Томас сказал: «Нет, нет…», покачав головой. Девушка с сожалением пожала плечами, ей понравился красивый юноша. Она перестала обнимать его, а уселась на канапе, думая о чем-то своем в ожидании следующего клиента. Ждать, потом подниматься наверх, ложиться в постель, спускаться вниз, ждать, снова подниматься… Хорошо, хоть не нужно было каждый раз восстанавливать прическу и натягивать чулки… Милый юноша… О ком это она? Он уже исчез.
Томас двинулся к Пасси. Теплый вечер, неподвижный воздух… Он не мог избавиться от запаха бриллиантина и пыли. Черная печаль сжимала ему грудь. Женщины и мужчины были тупы и уродливы, их жизнь абсурдной. Зачем работать, крутить педали велосипеда, обедать, жить? Сидеть, есть, спать, вставать… Ждать, когда наступит ночь после дня и день после ночи? А в конце жизни умереть… Почему нужно умирать? И почему нужно жить? Сидеть, есть, спать, вставать, ждать ночь, ждать день… Для чего? Рисовать? Зачем? Срывать со стены, рвать в клочья, уничтожать все бесполезное…
Томас поднялся в голубятню, зажег свечи, разорвал бурю и все, что находилось ниже, порвал все в клочья, свалил обрывки в кучу. Ему хотелось сжечь все это. Но он таким образом сжег бы весь дом. Не стоило устраивать пожар. Он все же оставался рассудительным существом. И он лег спать.
Во вторник получил письмо от Полины. Она прислала его на адрес банка. Девушка хотела видеть его.
* * *
На опустевшую аллею акаций сыпался дождь. Томас вымок, пока ехал на велосипеде. Полина ждала его в фиакре с дремавшей гувернанткой. Он прислонился к фиакру, не слезая с велосипеда. Лицо Полины, смотревшей в окошко, казалось картиной в рамке. Оно было прикрыто вуалью, свисавшей с темной шляпки. Он с трудом различал ее черты. Полина выглядела больной. Показав ему знаком, чтобы приблизился, она немного выглянула из окна. Порыв ветра сорвал с ветки над ее головой красные листья и унес их в дождь. Несколько капель попали на вуаль. Полина говорила очень тихо. Он не сразу понял, о чем говорила, и спросил:
— Что вы хотите? Она опять показала жестом: «Ближе, еще ближе», и стала шептать ему на ухо. Ей не хотелось привлечь внимание гувернантки, разбудив ее. Девушка сказала:
— Мне кажется, я беременна…
* * *
Бракосочетание состоялось в церкви Отей. Томас относился к англиканской церкви. Несмотря на нежелание, ему пришлось, перед тем как стать католиком, чтобы иметь возможность жениться на Полине, пройти курс катехизиса, который ревностный викарий заставил его выучить наизусть. Элен, переставшая понимать хоть что-либо в происходящем, даже не смогла выразить протест в связи с этим обращением в иную веру. Но бракосочетание в церкви не могло состояться без этого. Не могло быть и речи, чтобы Полина де Ром, дочь Поля де Рома, сочеталась гражданским браком. Весь Париж тогда воспринял бы этот брак как сожительство. И сочетаться браком в протестантском храме тоже было невозможно. Конечно, велись разговоры то тут, то там, что она выходит за бедняка, но жених был кузеном сэра Генри Ферре и, через кровь Плантагенетов, родственником короля Англии и всех королей Европы. Он был высоким и красивым, а она красивой и хрупкой, и оба юны. Это в значительной мере оправдывало этот безумный союз, позволяя рассматривать его как одно из событий парижской жизни, не имеющее особенного значения, но все же вспыхнувшее ярким огнем в числе других происшествий сезона.
На небольшой центральной площади городка Отей и на соседних улицах припарковалось десятка два автомобилей. Их пассажиры приняли участие в церемонии. Стояла необычно холодная для ноября погода, и водители топтались на месте, чтобы согреться, обсуждая прихоти погоды, принявшегося за старое императора Гийома и суд, оправдавший мадам Штейнхейл. Никто не смог доказать, что она была невиновна или виновна, хотя можно было считать, что она способна совершить то, в чем ее обвиняли. Возможно, занималась проституцией, но такая красивая женщина не могла убить свою мать, а заодно и своего мужа.
Свидетелем со стороны Полины был сэр Генри Ферре, а со стороны Томаса — Леон. Он приехал на небольшой коляске, в которую был запряжен Тридцать первый, и заполнял все пространство в своем экипаже. Когда он в распахнутой медвежьей шубе, в огромном цилиндре на голове и с бородой, закрывавшей грудь, сошел на землю, потрясенные зеваки решили, что это русский боярин или, по меньшей мере, ближайший родственник болгарского царя. Он привязал Тридцать первого к газовому рожку, чмокнул его в морду и посоветовал стоять спокойно. Под шубой на нем был взятый напрокат костюм зеленого бархата, черные брюки и громадный красный галстук, полностью скрывшийся под бородой.
Праздничный обед состоялся в местном ресторане. Поль де Ром заказал великолепное меню, но для узкого круга приглашенных. Присутствовали кроме новобрачных их родители, оба свидетеля и два самых близких друга Поля де Рома и сэра Генри со своими женами, а также два банкира, Виндон и Лабассьер. Подавалось восемь блюд. Вначале — икра и балтийский лосось, а как финал — традиционный торт «Сент-оноре», то есть торт с кремом, украшенный флердоранжем и свежей земляникой, облитой карамелью. Для этого времени он выглядел необычно и весьма утонченно.
Небольшой круглый стол был накрыт в уютном салоне, из которого вынесли диван и частично прикрыли зеркала зелеными растениями. Ирен Лабассьер сидела между новобрачной и ее отцом. Томас не узнал ее, но она его не забыла. Она не затаила на него обиду за поведение на балу у сэра Генри. В своей жизни, до того, как стала супругой банкира, она встречалась с более серьезными проблемами. А этот юноша, как она поняла, был совсем невинным и все еще интересовал ее. Во время обеда ее нога, прикрытая шелковым платьем, несколько раз касалась ноги Томаса, но тот не знал о подобных методах общения и решил, что эти прикосновения были случайными. С другой стороны ее нога коснулась ноги Поля де Рома, и этот контакт не был отклонен. Они хорошо знали друг друга. Сэр Генри оказался рядом с Леоном, так как мужчин собралось за столом больше, чем женщин. Леон, чувствовавший себя весьма непринужденно, потребовал пива вместо шампанского, которое не любил. Выпив огромное количество пива, он принялся рассказывать о животных. Окружающие, и прежде всего женщины, старались не показать, что шокированы запахом лошади. В то же время, сэр Генри с удовольствием услышал, что Леон прекрасно знаком с пони из Коннемары. Леон даже выдал ему несколько практических советов, касающихся выращивания лошадей, и пригласил сэра Генри посетить круглый дом. Со своей стороны, сэр Генри пригласил Леона на рыбалку в Донеголе. Он был очарован необычным общением. Ему давно не встречался столь живописный и эффектный собеседник. Банкир Лабассьер дремал. Он все с большим и большим трудом воспринимал обильные застолья. Элен выглядела черной ледяной глыбой.
Она надела поверх своего самого нового платья гарнитур из кружев с мелкими точками, заказанный ее дедом Джонатаном для своей юной супруги в год ее переезда в Ирландию. Это было изделие из двух кружевных манжет и большого воротника, на изготовление которого ушло два с половиной года работы старой служанки, устраивавшейся или возле окна во время бесконечных белых ночей летом, или возле горевшего в печи торфа, или же возле свечи, осенними вечерами зажигавшейся почти сразу после полудня.
Элен прикрепила к корсажу большую эмалевую брошь с изображением белого единорога на синем фоне. Под вставшим на дыбы животным помещался семейный девиз: «Я ВЕРНУСЬ!», пронесший через века никогда не ослабевавшую надежду Фулька Рыжего после бегства его супруги-феи. Из поколения в поколение эти два слова поддерживали у его потомков неясную ностальгию, неопределенную надежду на возвращение чего-то иного, чего-то легендарного, что должно появиться однажды в волшебном свете Ирландии, спустившись с гор с вечно юным божеством Агнусом Огом; или же оно могло прибыть с моря на судне с разорванными парусами, пронизанными солнцем и туманом.
Для Элен этот девиз принял явный смысл, олицетворявший обещание, данное самой себе для себя и для ее сына: я вернусь на остров, Я ВЕРНУСЬ! Целеустремленность, с которой она добивалась выполнения этого обещания, позволяла надеяться, что никому и ничему не удастся отменить возвращение.
Она сразу же, за несколько жутких минут, поняла, что Томас предавался с этой девушкой акту, который не может оправдать даже замужество. Что девушка была беременна и что сын обязан жениться на ней. Томас! Ее малыш, такой прекрасный, такой чистый… В это невозможно поверить. Но это было правдой. Это не только казалось ей отвратительным, но самым серьезным образом мешало его будущему. Нельзя заводить семью в девятнадцать лет, если собираешься сделать карьеру. Это прекрасно понимал Генри, который до сих пор не женился. Сколько лет было ему? По меньшей мере, лет сорок, может быть, даже сорок пять… Конечно, он должен жениться в ближайшие годы, ведь он единственный сын в семье и обязан обеспечить наследование. Но он не торопился… И был совершенно прав… И Элен подумала о Томасе: «Он должен был подождать, пока я не умру…»
У нее мелькнул проблеск надежды, когда узнала имя девушки, завладевшей сыном, ее адрес и положение в обществе ее отца. Он должен был обладать солидным состоянием. С приданым можно надеяться… В конце концов, этот брак мог стать подарком судьбы, каким бы горьким ни оказался его вкус.
Но ее беседа с Полем де Ромом, вежливым и общительным, лишило Элен каких-либо иллюзий. У Полины не будет приданого. И не будет никакого наследства. У него не было недвижимости. Особняк на улице Дю Буа одолжил ему приятель-американец (она не знала, что это была приятельница), а вилла в Трувиле предоставлена в его распоряжение банкиром Лабассьером. У него не было денег даже на приобретение мебели. Полина смогла взять с собой в качестве приданого трюмо, один стул в стиле Второй империи из черного дерева, инкрустированного перламутром, да еще кровать Рекамье из красного дерева.
Господин Виндон сообщил Элен, что отец Полины был очаровательным джентльменом, со множеством достоинств, из блестящей семьи, но с очень небольшим доходом. Если бы друзья не приглашали так часто на обед, ему, возможно, пришлось бы устроиться на работу…
Поль де Ром чувствовал себя счастливым. Он сидел между Элен, замкнувшейся в молчании, и Ирен, пытавшейся разговорить новобрачного, и не пытался поддерживать разговор, размышляя о своем будущем, так как получил наконец-то свободу, избавившись от тяготившего его присутствия дочери. Разумеется, он любил ее, но она все же весьма существенно мешала ему. Он рано вывел дочь в свет в надежде, что та быстро найдет мужа. Естественно, богатого. Она была достаточно красива, и ее красота — единственный шанс на дальнейшее безмятежное существование. Он даже тактично подталкивал ее к своему другу сэру Генри, но завлечь в сети брака старого холостяка гораздо труднее, чем поймать лису. А в итоге она выбрала бедняка…
Она не была глупышкой, но все же… Ах, эти июльские вечера!.. Если бы он оставался в Трувиле, тогда, может быть… Но не мог же он постоянно контролировать дочь… Да, во всем виноваты эти аэропланы… В конце концов, она сама решила свою судьбу… Ничего, она постепенно освоится…
Этим же вечером Поль де Ром должен уехать во Флоренцию. У него было полно друзей в Италии. Он не любил проводить зиму в Париже. Сейчас у него еще было достаточно времени, чтобы собрать вещи. Кроме того, он должен устроить гувернантку в хоспис в Бизерте. Собирался сам отвезти ее. Он был весьма обязательным человеком.
Томас много пил. Полина была не в состоянии проглотить хотя бы кусочек. Они сознавали, что оказались в жестокой ловушке, замаскированной музыкой, поздравлениями, букетами цветов и белоснежными платьями невесты. Но ощущали на своих лодыжках сталь кандалов. И это было навсегда.
С каждым бокалом Томас становился все более бледным. Он пытался пробудить в себе радость при мысли, что через несколько часов окажется с Полиной в постели. Но при этом сразу же вспоминались ее рыдания, ее крики, кулачки, которыми наносила ему удары и которые он пытался остановить. И это была она же, такая нежная в его объятиях… Вся в белом, почти теряющаяся в этой белизне, с потухшими глазами, тонкими руками, белыми, словно цветы в букетах…
У Полины болело сердце. Ее подташнивало. Этого не должно было случиться. Но она не могла думать ни о чем другом. Нужно держаться. Это ее свадьба.
Господин Уиндон пытался разговорить Элен. Но он не мог задать ей ни одного прямого вопроса. Ему очень хотелось узнать, есть ли у нее новости о ее сестре Гризельде. В соответствии с инструкциями из Лондона он завел специальное досье на Гризельду. Похоже, она каким-то образом была замешана в опасной деятельности своего мужа.
* * *
За два года Гризельда организовала три поисковых экспедиции в Гоби. Их финансировал князь Александр Т. Князь познакомился с Гризельдой на приеме в ее честь, когда она приехала в Москву. Он был неожиданно охвачен страстью, оказавшейся, благодаря его возрасту и к его величайшему сожалению, совершенно бескорыстной. Ему было столько лет, что его возраст перестали упоминать; он отощал и высох, словно бамбук, но при этом сохранил юношескую подвижность.
Его седые брови, прикрывавшие глаза густыми зарослями, соединялись на щеках с бородой. Зимой, надев шубу и папаху из волчьей шкуры, он полностью скрывал лицо, и для постороннего взгляда доступной оставалась только растительность. Ему принадлежали бескрайние земли, его состояние не поддавалось оценке; он постоянно путешествовал, как по России, так и за границей, в сопровождении интенданта, казначея, врача, священника и целой армии слуг, насчитывавшей обычно не менее трехсот человек. Кроме этой оравы с ним всегда путешествовали его любимые лошади и привычные для него предметы обстановки.
Когда во время автопробега пропал английский автомобиль и он узнал о планах госпожи Шеридан отправиться на поиски мужа, князь предложил ей помощь с использованием всех доступных ему материальных возможностей. И он решил сопровождать женщину в должности ангела-хранителя.
Во время первой экспедиции в качестве охраны использовалась команда казаков, которых жара и невероятная сухость очень быстро превратили в бойцов, способных выдержать любые условия, вплоть до получения питьевой воды из камней. Две следующие экспедиции позволили отобрать из этой группы людей и лошадей, созданных из железа.
Князь не привык отказывать себе даже в мелочах, и пустыня не смогла отучить его от этой привычки. Его караван был обеспечен водой, достаточной для орошения земель и снабжения питьем большой деревни на протяжении всего лета. На верблюдах перевозился полный набор мебели из салона Людовика XV, предназначенный исключительно для приемов, устраиваемых Гризельдой, рабочий кабинет князя с письменным столом, за которым он принимал своего интенданта, и огромная кровать из красного дерева в викторианском стиле, доставленная в Россию из Лондона. Он спал в палатке размерами десять метров на шесть из верблюжьих шкур, продублированных парчой. Ежедневно на кухне для него выпекался свежий хлеб, к которому он привык в Париже, откуда захватил в экспедицию лучшего пекаря. Водка для него охлаждалась льдом, привозившимся из Сибири в специальных коробах, обшитых десятком слоев шерсти и фетра.
Разумеется, этот комфорт устраивал Гризельду. В ее распоряжении имелись удобная кровать, трельяж и ванна. Она спала в большой палатке, где хватало места и для Молли. Для сына Гризельды выделялась отдельная палатка с двумя слугами и несколькими казаками для охраны.
Появление подобной процессии в Гоби привлекло внимание множества кочевников, сопровождавших караван, подобно тому, как птички-волоклюи сопровождают буйвола. Они пользовались крохами со стола князя и разными доступными им мелочами.
С помощью китайца-переводчика Гризельда опрашивала местных обитателей, показывая фотографии автомобиля, шофера и его помощника. Но единственным результатом всегда были непонимание и смех удивленных туземцев. Эпопея пересечения пустыни повозками без лошадей обросла множеством фантастических подробностей и должна была вскоре превратиться в легенду. О ней все слышали, а кое-кто даже утверждал, что видел автомобили, но к описанию машин обычно добавлялись верблюжьи горбы, рога буйволов или даже крылья и пасти, извергавшие огонь. Утверждалось также, что повозок без лошадей было невероятное множество; во всяком случае, больше, чем имелось одновременно пальцев на руках и ногах у рассказчиков…
В ряде случаев, когда сведения казались Гризельде достаточно надежными, она направляла караван для их проверки. В результате терялось много времени и сил, а за прошедшим караваном оставались погибшие лошади и верблюды, сломавшиеся повозки, пустые бочки и ящики, а также множество брошенных предметов, которые кочевники тут же подбирали.
Вторая и третья экспедиции были организованы гораздо лучше первой; возможно, сказалось и существенно уменьшившееся количество участников, что позволило сделать экспедиции более мобильными. Князь продолжал худеть с каждой очередной экспедицией, сохраняя при этом свою активность. Он считал климат пустыни наиболее подходящим для своего здоровья; действительно, он приспосабливался к нему, словно засохшее дерево.
В очередной раз Гризельда выбрала отправной точкой для поисков место, где «Золотой призрак» и его команда провели последнюю перед их исчезновением ночь. Этим местом оказалась китайская телеграфная станция. Она устроилась для ночлега во дворике перед домиком телеграфиста, там, где, как она была уверена, спал Шаун. Она долго слушала вечернюю песню розовой птички, когда в потемневшем небе одна за другой зажигались бесчисленные звезды. Ей долго не удавалось заснуть, и она, в конце концов, обратилась к Шауну:
— Укажи мне путь к тебе, Шаун, будь моим проводником… Где бы ты ни оказался, я приду к тебе… Пичуга не деревце испустила длинную трель, потом свистнула три раза с большими перерывами и замолчала. На следующее утро караван двинулся в направлении, указанном телеграфистом. Через два дня путешественники достигли города с золотыми храмами, запретного для женщин. Князь с помощью переводчика расспросил монахов, но ничего нового узнать от них не удалось. Покинув город, караван продолжал двигаться на север, но Гризельда, обнаружившая едва заметную тропу, направила караван на северо-запад. Именно здесь в свое время сменил направление Шаун, и Гризельда, не зная об этом, двигалась дальше точно по его следам. Еще через пару дней опережавшие основной караван разведчики наткнулись на котловину, окруженную черными скалами.
Никаких следов происходившего здесь сражения не сохранилось. Татары подобрали тела погибших соотечественников и брошенное оружие, убрали покалеченных и погибших в схватке лошадей. Ветер набросил на кровавые следы девственно чистое песчаное покрывало.
Ночевка была устроена возле оврага. Пока слуги ставили палатки, Гризельда решила осмотреть низину, чтобы отыскать наиболее пологий спуск. На следующий день она собиралась спуститься вниз. Не исключала возможность падения машины с обрыва.
Поблизости она наткнулась на юрты нескольких монгольских семейств и подошла к ним вместе с князем и переводчиком-китайцем. Она уже встречала этих людей и расспрашивала их во время второй экспедиции, но на этот раз решила показать им фотографии и задала ставшие традиционными вопросы. Мужчины улыбались и разводили руками. Они ничего не знали. Женщины не участвовали в разговоре, занимаясь приготовлением ужина на костре из сушеного навоза. Внезапно Гризельда заметила…
Поблизости от них две женщины доили кобылу. Стоявший под животом лошади предмет блеснул в лучах заходящего солнца. Одна женщина доила животное, другая подставляла под пенную струйку желтый сосуд, бросавший яркие отблески. Он выглядел сильно помятым коротким цилиндром из желтой латуни с какими-то странными отростками и небольшими отверстиями, замазанными глиной. Сначала Гризельда подумала, что это миска китайского производства, и только через несколько секунд догадалась о его истинном назначении. Она едва не закричала, сильно стиснув руку стоявшего рядом князя. Ведь давно ожидала это событие и не могла поверить, что оно, наконец, случилось. Глубоко вздохнув, Гризельда заставила себя успокоиться, после чего заговорила с князем.
— Смотрите, Александр! Вы видите, что держит эта женщина? Там, где они доят кобылу… Это же автомобильный фонарь!.. Фонарь автомашины моего мужа!.. — Да, вижу… — отозвался князь. — Не смотрите на нее так пристально, лучше отвернитесь, иначе она встревожится… Я сейчас разберусь с этой находкой… Они говорили, как обычно, на французском. Переводчик-китаец не знал этого языка, но это ничуть не обеспокоило его. Он хорошо понял приказ, который князь отдал на русском языке сопровождавшему его казаку. Он заволновался и стал расспрашивать князя, в то время как казак кинулся бегом к своим товарищам.
— Если ты не замолчишь и встревожишь местных монголов, я прикажу отрезать тебе нос, уши и все остальное! Эта фраза, произнесенная спокойным тоном с легкой улыбкой, не насторожила местных жителей, продолжавших с интересом рассматривать фотографии, передавая их друг другу.
Внезапно послышались крики, топот лошадей, и отряд казаков в несколько мгновений окружил лагерь монголов, направив на его обитателей заряженные винтовки. Перепуганные монголы стали оправдываться, что они ничего не видели и ничего не знают о пропавшей машине. Что касается сосуда из латуни, то они не знают, что это такое. Нашли его в пустыне…
— Где именно? — Там, в той стороне… — Что это за место? — Мы не знаем. Обычное, как везде в пустыне… Эти уклончивые ответы привели князя в бешенство. По его приказу казаки схватили одного из монголов, связали ему руки и ноги и длинной веревкой привязали к седлу лошади.
Дрожавший от страха переводчик перевел монголам слова князя:
— Если ты не расскажешь мне все что знаешь, эта лошадь сейчас поскачет галопом, потащив тебя за собой. И скачка будет продолжаться, пока от тебя не останется один скелет. Солнце к этому моменту уже опустилось за горизонт, и темнота стала быстро сгущаться. Зубчатые контуры далеких гор резко выделялись на фоне багрового заката; небо в зените приобрело темно-синюю, почти черную окраску. Костер, в котором медленно горел сухой помет, распространял вокруг себя запах горящей соломы. В небольшом болотце в центре долины все громче и громче звучал лягушачий хор. Старик, сидевший перед огнем, заговорил, сопровождая свои слова медленными жестами рук и не отводя взгляд от огня. Перед ним стояла сотрясаемая нервной дрожью Гризельда. Подошедший к ней князь слегка обнял ее за плечи, стараясь поддержать и успокоить. Сидевший у костра монгол рассказал о сражении, развернувшемся в долине между пришедшими с востока татарскими воинами и двумя западными людьми. Это были мужественные бойцы, два героя, и их повозка без лошади сражалась вместе с ними. Они уничтожили всех нападавших, после чего сели в свою повозку и помчались прямо к обрыву. Налетевший на них огненный дракон схватил их, и они исчезли, унесенные драконом.
Поднявшись, старик отвел Гризельду и князя к обрыву в нескольких сотнях метров от стойбища. Казаки, сопровождавшие их, осветили факелами пирамиду из камней, точно такую же, как множество других пирамид, постоянно встречавшихся в пустыне по сторонам от тропы.
— Вот отсюда их и унес огненный дракон, — сказал монгол. Следующим утром, едва рассвело, они спустились в долину по тропинке, вившейся по крутому склону. В том месте, куда рухнула машина, сгоревшая растительность буйно разрослась. Гризельда, ползая на коленях, принялась раскапывать песок вокруг кустов, обдирая руки, но не нашла ничего, кроме нескольких осколков стекла и каких-то ржавых железок. Отчаявшись, она расплакалась, сжимая в руках кусок автомобильного бампера.
Немного успокоившись, приказала привести к ней сына, с которым долго сидела возле каменной пирамиды на краю оврага. Она сказала сыну:
— Мы должны помолиться за твоего отца, и не имеет значения, жив он или погиб. Но ты обязательно должен знать, кем был он и кем станешь ты. Это полагалось рассказать отцу, но ты все узнаешь от меня. Его звали Рок О’Фарран, но для меня он был Шауном. Под этим именем я узнала его и полюбила… Через своего отца ты являешься потомком королей ирландского Донегола, с моей же стороны ты потомок графов Анжуйских и английских королей. Ты часто мог слышать о том, как давно страдает Ирландия. В твоих жилах течет кровь как угнетенных, так и угнетателей. Но моя семья давно стала как ирландской, так и гэльской, и мой дед израсходовал все наше состояние, чтобы спасти от смерти во время великого голода множество ирландцев. Они признали его и полюбили, как своего соотечественника. И ты носишь его имя. Ты не Шеридан. Ты Джонатан О’Фарран…
Твой отец всегда боролся за свободу Ирландии, даже в то время, когда мы жили в Индии или в какой-нибудь другой стране. И я участвовала в его борьбе. Другой возможности любить Ирландию не существует. Я когда-нибудь расскажу тебе, как узнала его, как спрятала его раненого и вылечила, после того как он был ранен в сражении у Гринхолла, как мы вместе покинули Сент-Альбан… Я расскажу тебе об острове…
Я не верю, что он погиб… Этого не может быть… Он слишком любил жизнь… Но он не оставил следов… Его путь обрывается здесь, словно его действительно унес огненный дракон… Мы с тобой должны идти дальше… Через три дня тебе исполнится пятнадцать лет… Ты мужчина… Мы будем продолжать борьбу за свободу нашей страны, будем помнить о Шауне… Если повезет, мы сможем встретить его на пути, ведущему к свободе Ирландии…
Джонатан слушал мать нахмурившись. Он походил на отца светлыми глазами в густых черных ресницах. Но в его волосах играли отблески материнского огня. Впалые щеки и изгиб носа заставляли вспомнить об Индии.
Она обняла сына за плечи и притянула к себе. Они долго сидели, повернувшись к заходящему солнцу. Гризельда сказала:
— Шаун, это твой сын Джонатан, он продолжит твое дело… Если ты там, возле нашего Бога, помоги ему, наставь на путь истинный… Если ты жив, откликнись… Позади них караван убирал палатки, складывал багаж среди обычной перед дорогой суеты, в криках людей и животных. Поиски закончились.
Шаун находился рядом с ними, не дальше чем в нескольких метрах.
Когда татары вернулись на место схватки, они подняли на плато обгоревшие тела своих противников, выкопали для них могилу и похоронили их рядом, лицом к их далекой стране. Они воздвигли над могилой каменную пирамиду, как всегда делали для своих героев и своих богов.
На другом краю света, под другим туром из валунов, воздвигнутом на Белом острове, на краю Европы, королева Маав продолжала, вот уже на протяжении двух тысяч лет, неустанно призывать к схватке за свободу своих воинов, живых и мертвых.
С момента исчезновения Шауна Гризельда заподозрила, что здесь не обошлось без длинной руки англичан. Рассказ старого монгола подтвердил это предположение. То, что он описал, выглядело как хорошо подготовленная засада. Получалось, что целое племя татар было отправлено для нападения на двух людей. Это не могла быть попытка грабежа.
До сих пор Гризельда боролась за Ирландию вместе с Шауном. Отныне она должна сражаться против Англии одна, как женщина, которой нужно отомстить за страшное преступление.
Князь Александр владел самой большой и самой красивой в мире яхтой, передвигавшейся как под парусами, так и с помощью парового двигателя. Подняв все паруса, она походила на большое белоснежное облако, которое гнало над поверхностью океана дыхание Господа. Когда начинали работать машины, яхта неслась по волнам быстрее, чем самые быстрые военные корабли Англии или Японии. Судно называлось «Федор». Название это носили многие славные предки яхты. Князь Александр лично разбил в Севастополе о форштевень судна бутылку шампанского, полученного из винограда с его крымских виноградников, поднялся на яхту, внимательно осмотрел ее и приказал произвести более сотни мелких, средних и крупных модификаций. Спустившись на землю, он больше ни разу не использовал яхту для своих путешествий, так как предпочитал передвигаться по суше. Тем не менее, где бы он ни находился, судно сопровождало его по морю, всегда находясь как можно ближе к хозяину, чтобы быть «под рукой» в случае необходимости. Если князь перемещался из Сибири в Испанию, «Федор» совершал маршрут огромной протяженности из Владивостока до Гибралтара. Тем не менее, поскольку князь очень часто менял свои планы и то и дело оказывался весьма далеко от первоначального пункта назначения, он редко встречался со своим кораблем.
Когда Гризельда узнала о существовании этого замечательного судна, она сразу сообразила, как его можно использовать, и высказала желание совершить плавание на его борту. Это было летом, вскоре после окончания третьей экспедиции. «Федор» тогда находился в Санкт-Петербурге. По приказу князя на судно были доставлены мебель, ковры, обои, картины, статуи, меха, собаки, кошки, музыканты, танцоры, зимний сад с клумбами цветов и деревьями. Гризельда, поднявшаяся на борт, оказалась в волшебной сказке. Ее сопровождал князь, что всем показалось совершенно необычным.
Большую синюю яхту после этого видели во многих портах Британской империи и даже в некоторых гаванях Великобритании. Судно находилось в Лондоне во время торжественных похорон короля Эдуарда VII. Когда вспыхнула забастовка шахтеров Уэльса, судно оказалось в Кардиффе.
Князь Александр в эти годы превратился в жизнерадостную тростинку, вокруг которой ветер развевал его слишком просторные одеяния. Он уже не знал, была ли Гризельда его супругой, дочерью или богиней. Это смятение, давно возникшее в его голове, он добровольно поддерживал, чтобы оправдать возможность любить ее, выполнять любое пожелание и ощущать счастье общения с ней. Во всем остальном он полностью сохранял ясность ума и властность. Иногда с невероятной вежливостью просил у Гризельды разрешения перебраться к ней в постель, как это бывало вечность тому назад с княгиней Софией, его женой. Гризельда соглашалась с улыбкой и открывала ему свою дверь, будучи защищенной от пяток до кончиков волос множеством слоев кружевных накидок и прочих одеяний. Князь появлялся у нее, облаченный в одежды от наиболее легкого халата до горностаевой мантии, в сопровождении слуг с подносами, нагруженными изысканной едой и напитками. Они выпивали и закусывали, играя в карты. После того как князь проигрывал годовой бюджет небольшого города, он начинал разоблачаться, но освобождался далеко не от всех слоев, опасаясь, что под последним покровом окажутся одни кости. Потом ложился в постель, заранее утопая в экстазе, чтобы наблюдать, как, в свою очередь, раздевается Гризельда. Она небрежно разбрасывала по каюте предметы туалета, от которых избавлялась: ленту здесь, вуаль там, серебряный поясок на стуле, что-то прозрачное на диване… Он замечал то сверкнувшее запястье, то белоснежное плечо… И мирно засыпал.
Тогда Гризельда спокойно ложилась на диван. Она действительно очень любила князя. Но всегда, с тяжелым вздохом, вспоминала Шауна. Где он был сейчас? Когда они смогут встретиться?
Князя не интересовало, что делала Гризельда с деньгами, которые она зарабатывала для него и которые ему удавалось дарить ей. Она прекрасно знала, что среди приглашенных на яхту в составе русской команды яхты наверняка находились агенты британских секретных служб, поэтому действовала с максимально возможной осторожностью, привлекая в качестве помощников только Джонатана и Молли. Она возобновила контакты с сетью борцов за независимость Ирландии, созданную Шауном по всему миру, и финансировала ирландских и индийских подпольщиков, никогда не участвуя в разработке их планов и действиях. Бунт шахтеров в Уэльсе оказался неожиданностью для Гризельды. Ее плавание в Кардифф имело целью всего лишь встречу с ирландским рыболовецким судном, уже три дня ожидавшим яхту в устье Бристольского канала. Здесь «Федор» бросил якорь, и капитан рыболовецкого судна поднялся на яхту с корзинкой свежей рыбы. Вернулся он на свое судно с почти таким же грузом фунтов стерлингов, замаскированных в корзинке пучками водорослей. Когда яхта причалила к берегу в кардиффском порту, в долинах Ронда и Обердейла разразилась забастовка шахтеров. Для Гризельды местные жители были кровными братьями ирландцев. Она решила поддержать их, и этот поступок оказался первым прямым действием против Англии. Молли сошла на берег под предлогом встречи со своим родственником. Через пару дней все булочные округа заявили о поставке бесплатного хлеба семьям бастующих шахтеров, пока продолжается забастовка. Поэтому бастующие не боялись, что их семьи будут голодать, и забастовка продолжалась, внося неразбериху в снабжение углем английской экономики. Гризельда хорошо усвоила уроки Шауна.
Молли вернулась на яхту потрясенная.
— Мадам, знаете ли вы, что они сделали? — Кто они? — Англичане!.. Они прислали сюда из Лондона полицейских, которые перекрыли устья шахтных стволов и запретили шахтерам спускаться вниз. — Ну и что, это же замечательно! — Что вы, мадам! Шахтеры вот уже неделя как прекратили работу и поднялись на поверхность, но ведь лошади остались внизу!.. Шахтеры ежедневно спускались в шахты, чтобы кормить лошадей и ухаживать за ними… А теперь они не могут заботиться о них! В шахтах осталось около четырехсот лошадей, и если забастовка затянется, они все погибнут от голода и жажды! — Понимаю, — пробормотала Гризельда. Она действительно хорошо представляла масштабы возможной трагедии, и очень скоро случилось то, о чем догадывалась: шахтеры попытались силой прорваться в шахты. Стычки с полицией оказались самыми серьезными за всю историю английской промышленности. Но полиция не отступила, а поэтому шахтерам пришлось прекратить забастовку, чтобы спасти лошадей.
— Моя дорогая, что мы делаем в этих унылых краях? — поинтересовался князь. — Здесь так мрачно, и все время льет дождь… — Вы же знаете, Александр, что моя горничная хотела повидать кузена… — И она повстречалась с ним? — Да, они виделись. — Может быть, тогда мы покинем это печальное место? Сейчас самое подходящее время, чтобы посетить Лазурный берег… Я приобрел в Каннах большую виллу с окрестными холмами и целым лесом акаций. Сейчас они цветут… Вы не хотите полюбоваться этой красотой? И я уверен, что заодно вы обязательно испытаете свою удачу в Монте-Карло… — Александр, вы настоящий ангел, но неужели забыли, что обещали принцу Райя присутствовать на празднике света? — На празднике света? По-моему, здесь достаточно эффектный свет… А кто такой этот принц Райя? — Вы встречались с ним на похоронах Эдуарда VII в Лондоне. Наверное, сейчас он сам стал королем, так как его отец скончался месяц назад… — Но он король какого государства, моя царица? — Как же вы забыли, Александр, что он король Сиама! — Сиама! Господи, но ведь это на другом конце света! Вы уверены, что мы должны побывать там?
— Мы никому ничего не должны, но если вы не поедете туда, это будет не вполне корректно… — Ах, вот как… — А потом нам нужно побывать в Бангкоке… — Он в Сиаме? — Да, именно в Сиаме. — И вам очень хочется увидеть Бангкок? — Да, Александр, очень… — Значит, мы отправляемся туда!.. Но мне до ужаса надоел этот корабль! Мне нужно чувствовать под ногами твердую землю! Я хочу охотиться на дикое зверье! Спать в палатке! Бродить по лесам и подниматься в горы! — Все это вы сможете делать в Бангкоке, Александр! — Разумеется! Нет, я слишком бестолков… Мы немедленно отправляемся в Бангкок, моя дорогая! Гризельда долго беседовала в Лондоне с принцем Райя, наполовину европейцем. Она знала, что Сиам серьезно интересует Англию и что притязания англичан на эту страну не были реализованы только из-за сходных намерений Франции. Прежний король Сиама был вынужден уступить часть своей территории на западе страны соседней Бирме, то есть фактически Англии, а на востоке — Индокитаю, то есть Франции. Ставший королем, Райя очень не любил Англию, так что с его помощью можно было начать весьма перспективную игру против Лондона…
Таким образом, Гризельда странствовала по всему миру, как когда-то мечтала подростком, забираясь в пещеру на берегу Сент-Альбана. Она часами любовалась океаном, надеясь, что из-за горизонта обязательно приплывет сказочный принц и заберет ее с собой…
Но, как ни странно, этот волшебный принц раздвоился. Первый двойник действительно увез ее на старом судне в туман и тайну, чтобы вовлечь в мятежную жизнь, приправленную любовью.
А второй бросил к ее ногам сказочный корабль и осыпал золотым дождем. Но князь Александр был всего лишь призраком мужчины, скелетом в роскошных нарядах. Ах, Шаун, Шаун, где ты? Что ты делаешь далеко от меня? Найду ли я тебя на краю света?..
При этом она никогда не забывала, что по сравнению с князем Александром принц Райя был настоящим красавцем…
* * *
У Томаса не было ни денег, ни времени, чтобы позволить себе свадебное путешествие с Полиной. Леон предложил ему оформить нижний салон как спальню для первой брачной ночи. В любом случае, это лучше, чем маленькая комната на втором этаже, отделенная тонкой стенкой от комнаты матери.
Когда новобрачные вошли в круглый зал, Томас улыбнулся. Мраморная лестница начиналась прямо перед большой кроватью, в начищенных медных деталях которой отражались огни трех каминов. Леон убрал солому, подмел пол, спрятал клетки со змеями, задрапировал красной тканью поршень лифта, установил большие вазы с цветами возле кровати и на рояле и притащил в зал громадный серебряный канделябр, высокие свечи которого вместе с каминами создавали теплую интимную обстановку.
Перед одним из каминов был накрыт стол. Возле деревянной кадки, обложенной сосновыми ветками и стоявшей возле камина, в огромной медной кастрюле кипела сотня литров воды.
Попугаиху Флору пришлось отнести в другое помещение. Леон решил, что хотя птица была просто очаровательна, но она могла в самый неподходящий момент закричать: «В чем дело? В чем дело?» Постель застелили простынями из шелка бежевого цвета, оставленными возлюбленной Лабассьера, не захотевшей забрать их вместе с другими ценностями, и укрыта шкурами медведя и пантеры.
Полина скользнула в постель, напряженная, скованная, путающаяся в слишком длинной для нее рубашке. Томасу с большим трудом удалось избавить ее от этого одеяния, чтобы с радостью обнаружить светящуюся наготу, такую теплую и желанную под его руками. Он нежно говорил с ней и долго ласкал, прежде чем перейти к любви, но ему так и не удалось вернуть доверие и подарить ей радость.
Проснувшись ночью, она была поражена окружавшей ее экзотической обстановкой; естественное беспокойство человека, оказавшегося в незнакомой среде, утихло, когда она обратила внимание на игру золотистых и красных отблесков от слабо светившихся в трех каминах углей. Рядом с ней лежал обнаженный мужчина… Ее муж… Она улыбнулась, прикоснулась к нему, придвинулась ближе, потом поцеловала, и этот поцелуй разбудил Томаса…
Когда они расстались, Полина сразу же уснула, словно накормленное дитя. Шкуры животных валялись на полу, простыня сбилась комом у них в ногах.
Полина лежала на спине, вытянув одну ногу и согнув в колене вторую. Одна рука находилась под головой, другая же, лежавшая на груди, казалось, защищала ее. Пышные волосы ореолом разлетелись вокруг головы, закрывая плечи. Ее тонкая фигурка могла принадлежать ребенку…
Томас впервые увидел ее такой.
Он поднялся, добавил поленьев во все три камина, затем включил освещение и зажег все свечи. Вернувшись к жене, с восторгом стал любоваться ее бледно-розовым телом на темных простынях.
Он никогда до сих пор не замечал, какая она красивая. Полина казалась ему прекрасней, чем любая тропическая птица, чем цветущее дерево, чем куст дрока, усеянный распустившимися цветами, чем даже Тридцать первый.
Не желая терять время на одевание, он взлетел в голубятню, схватил краски и холсты и спустился вниз, щелкая зубами от холода, но не сознавая, что замерз. Элен, так и не сомкнувшая глаз с вечера, с трудом удержалась, чтобы не выглянуть из дверей и не спросить у сына, в чем дело. У нее возникла безумная надежда, что Полина умирает; потом ей стало стыдно, что подобная мысль родилась в сердце, и она попросила Господа простить ее и позволить полюбить невестку. Помолившись, она уснула. Томас занимался живописью остаток ночи, охваченный сумасшедшей радостью. Каждый раз, когда Полина шевелилась, меняла положение чудесных частей своего тела, он видел ее еще более прекрасной и начинал новый холст.
Наконец, остановившись, Томас проглотил половину цыпленка и плюхнулся на постель рядом с женой, нежно чмокнул ее в щеку и грудь, натянул на нее медвежью шкуру и заснул.
Его разбудили дикие крики. Открыв глаза, он вскочил. Судя по освещенности, день приближался к середине. По салону металось белое пламя. Это была Полина, пытавшаяся содрать с головы вцепившуюся ей в волосы фурию, долбившую голову ударами мощного клюва. Он узнал Шаму и заорал:
— Шама!!!
Перепрыгнув через кресло, Томас схватил птицу за шею и сжал ее. Он готов был оторвать ворону голову, убить его, растерзать… Но удержало мелькнувшее в голове воспоминание о прежней дружбе. Он отшвырнул бьющегося в руке ворона в сторону, не обратив внимания на то, что тот разодрал ему руку когтями. Шама попытался взлететь, но упал на пол. Томас пинком вышвырнул его на улицу.
Потрясенная Полина рыдала, упав на постель. Томас обнял бедняжку. Она, захлебываясь слезами, рассказала, что проснулась, встала и, накинув на себя халат, подбросила полешко в камин. Потом очистила апельсин и распахнула дверь, чтобы полюбоваться туманом. В этот момент на нее набросилось чудовище.
Это был страдавший от ревности Шама, долго ждавший возможности отомстить…
— Он не злой, — сказал Томас. — Это белый ворон. Совсем ручной… Ты увидишь, он такой забавный… Вы станете друзьями… — Какой ужас, — содрогнулась Полина. Томас попытался склонить ее к любви, но она оттолкнула его, забилась в объятьях, вывернулась и вскочила, чтобы выкупаться. Возле камина, где в большой кастрюле грелась вода, лежал медный ковшик с длинной ручкой. Она взяла его, но рука дрогнула, и она выронила ковшик. Поднимая его, она зацепилась за дужку кастрюли и опрокинула, отчего дико заорала, а тут еще по ее голым ногам скользнули змеи.
Снаружи Шама с вывихнутой шеей свирепо пялился на закрытую дверь и кричал, пытаясь выразить словами свое отношение к произошедшему. Когда он повернул голову, в шее что-то громко хрустнуло. Он потряс головой и с трудом выпрямился. Встрепенувшись, расправил крылья, но не стал взлетать, а пошел прочь пешком. Слегка прихрамывая и что-то ворча, он быстро исчез в тумане.
* * *
Полина дышала, двигалась, что-то ела, в общем, существовала в состоянии легкого отупения. Она давно поняла, что замужество должно изменить нечто в ее жизни, в ее привычках, но никогда не могла подумать, что будет жить так, как жила теперь. Она неожиданно очутилась в мире, о существовании которого даже не предполагала. Это случилось так неожиданно, как если бы паркет и ковры особняка, в котором она провела столько лет, внезапно провалились под ногами и она очутилась в подвале.
Разом исчезли все повседневные стороны ее жизни; пропали слуги, исчезла машина, прекратились легкие беседы с изысканно одетым отцом, знавшим весь Париж и с юмором обсуждавшим его привычки; куда-то пропали приятные незначительные дела и восхитительные пустяки, заполнявшие короткие дни и длинные сезоны…. Осталось то, что было необходимо, сухое, жесткое, мрачное, размеренное.
В трех куцых комнатах, одна из которых, принадлежавшая Элен, всегда была заперта и в которых почти все пространство было заставлено мебелью, между стенами с портретами незнакомых людей, чьи взгляды скрещивались на ней, словно удары шпаг, она тягостно ожидала конца бесконечно тянувшихся дней. Время медленно колыхалось вокруг нее, словно мертвая вода в гниющем болоте.
Иногда Полине хотелось закричать, сорвать портреты со стен, убежать отсюда… Но куда? Она не представляла, где находился ее отец, он ни разу не прислал ей даже открытки…
Он не оставил ей ни одного су. Томас тоже не давал денег, мысли об этом не приходили в его голову. Она не могла даже нанять фиакр, чтобы доехать из Пасси до центра города.
Когда она смотрела на парк из окна комнаты, видела только черные ветви зимних деревьев, блестевшие под дождем. Дождь лил, лил, лил без перерыва, заливая зловещий мир. Она не видела земли возле дома. Догадывалась, что пространство вокруг нее было занято самыми разными ужасными животными, из-за которых не могла выйти на улицу. Небо над ней всегда оставалось безнадежно серым.
Томас приносил ей завтрак в постель, перед тем как убежать на работу. Он был счастлив и жизнерадостен. Быстро чмокал ее в щеку, добавлял брикетов в камин и исчезал, что-то напевая. Потом уходила Элен. Полина оставалась одна в тихой комнате и тихом доме. Она казалась себе заключенной, оставшейся в одиночестве за бесконечно толстыми стенами, когда тюремщики ушли играть в карты.
Она лежала, свернувшись, в постели, погружаясь в пустоту полного отсутствия мыслей, не уснувшая, но и не бодрствующая. Вернувшаяся домой на завтрак Элен часто находила невестку в постели. Ей приходилось подавлять желание потрясти ее и плеснуть холодной водой; она переносила негодование на кастрюли, грохот которых на кухне напоминал артиллерийскую пальбу. Потом кричала: «Если вы хотите позавтракать, все на столе!»
Однажды утром Элен, готовая исчезнуть, вся в черном, в шляпке и перчатках, швырнула на постель перепуганной Полины эмалированный тазик с картошкой и небольшой кухонный нож.
— Когда вы почистите картошку, — сказала она, — сварите ее в большой кастрюле. Не забудьте добавить ложечку соли. Я, когда вернусь, добавлю к картошке рагу. Инструкция была произнесена нейтральным, сухим тоном, полностью исключающим возможность дискуссии. Подобные фразы вполне мог произнести один из висевших на стене портретов.
Дверь захлопнулась за Элен. Полина села в постели, посмотрела на картошку, потрогала ее пальчиком и заплакала. Сначала едва слышно, но вскоре громко зарыдала, захлебываясь в слезах.
Когда вернувшаяся домой Элен открыла дверь, ей в лицо ударила волна едкого дыма. Обуглившиеся картофелины потихоньку тлели в кастрюле, поставленной на слишком большой огонь. Элен бросилась к плите, выключила газ и распахнула окно, громко проклиная на английском языке это нелепое существо, не только завладевшее ее сыном и заставлявшее терпеть плоды своего позорного поведения, но и оказавшееся неспособным сварить картошку. Нет, нужно было сказать этой девчонке все, что она о ней думает! Элен всегда сдерживалась из-за Томаса, но на этот раз ее терпение кончилось… Перевести в отбросы столько картошки… Может быть, даже кастрюля испорчена!
Она ворвалась, не постучавшись, в комнату Томаса, открыла рот, но не закричала. Она увидела Полину, лежавшую на постели, с лицом, закрытым простыней в пятнах крови. В крови было даже покрывало; тазик оказался опрокинутым, на постели и на полу повсюду валялись картофельные очистки.
— Полина!.. О Боже мой!.. Элен осторожно сдвинула с лица Полины простыню, заранее леденея при мысли о том, что она может увидеть. Полина села. Ее лицо распухло, глаза заплыли. Она подняла руку и протянула ее к Элен. Указательный палец был обмотан носовым платком, испачканным запекшейся кровью. Она пробормотала, словно маленькая девочка:
— Я немного порезалась… Элен воздела руки к небу, плюнула и вернулась на кухню. Ситуация оказалась — хуже некуда. Сплошные потери… Вот для чего эта девчонка появилась в ее жизни: чтобы испортить как можно больше всего необходимого для их существования. Она не умела ничего, ничего, ничего!.. Она оказалась неспособна воспользоваться ножом для чистки картошки, но смогла заставить ее невинного сына сделать ей ребенка…
Чтобы пролить столько крови, она наверняка порезалась до кости, безмозглое создание… И Элен вернулась, чтобы заняться перевязкой. Больше она никогда не пыталась добиться от Полины какой-либо помощи.
* * *
— Шама, — сказал Леон, — ты плохо вел себя. — Кррр-оакс! — ответил белый ворон. — И ты продолжаешь упорствовать!.. Я видел, как ты стучал в окно сегодня утром… Ты же знаешь, что не должен… Ты пугаешь молодую даму… — Крррр! — буркнул Шама. — Нет, совсем не «крррр», — возразил Леон. — Это очаровательная дама, совсем юная, а ты пожилой господин, который должен показать свою воспитанность. Поскольку не умеешь вести себя, я отправлю тебя на некоторое время путешествовать. Трио Франсетти вместе с мадам Сарой Бернар собираются в турне по Соединенным Штатам. Ты отправишься вместе с ними. Ты знаком с Полем Франсетти, уже работал с ним, вы хорошо понимаете друг друга… Ты будешь звездой… Затмишь Сару… Но тебе нужно поработать над английским, чтобы с блеском представить номер со зрительницей… Этого будет достаточно… Но придется поработать… Нука, скажи мне: Beautiful! Леон поднял сжатый кулак в прочной кожаной перчатке.
Шама, сидевший на спинке кресла, раздулся, словно индюк, встряхнулся и раскрыл огромный клюв, из которого раздалось протестующее карканье.
— Иди сюда! — твердо потребовал Леон. — Кррао! — сказал Шама, что означало: «Нет!» Вспорхнув, он три раза облетел салон, сильно хлопая крыльями, спланировал к лифту, испустил протяжный вопль агонии: «Кроааа!» — и сел на ожидавшую его руку Леона.
— Вот именно, хватит ломаться, — сказал Леон. — К чему эти твои фокусы…
* * *
Уже много дней подряд шел дождь. Уровень Сены поднялся. К Новому году Элен приготовила индейку с каштанами и пудинг. Это был повод не приходить домой в полдень целую неделю. Полина могла обедать, по крайней мере, несколько дней. В кладовке, где не было отопления, еда сохранялась достаточно долго. Элен брала с собой в сумочке яблоко и кусочек хлеба с чуточком масла или топленого свиного сала. Она завтракала в музее или на вокзале, а иногда даже стоя в большом магазине, — в зависимости от того, где находилась.
Это позволяло ей проводить весь день вдали от создания, вклинившегося между ней и Томасом, то есть между ней и ее надеждами. Иногда, на несколько минут, во время урока или работая педалями велосипеда, ей удавалось забыть о невестке…
Полина питалась холодной индейкой и подсохшим пудингом на протяжении пяти дней. Для нее не имело значения, что она ела. Ей постоянно хотелось есть. Она грызла и глотала все, что могла найти съедобного. Ее обычный образ жизни исчез; теперь Полина подчинялась наиболее низменным инстинктам. Когда Элен не было поблизости, она ела руками, перед открытой дверцей шкафчика для продуктов.
Поднявшись утром, она перебиралась из комнаты в комнату, не причесываясь и не одеваясь, перелистывала старые газеты или английские книги, которые безуспешно пыталась понять. В ее голове безостановочно вращались два объекта, вызывавших у нее злобу и страх: Элен и ее ребенок.
Иногда Полина прижимала руки к животу, едва заметно увеличивавшемуся… Там находилось оно… То, что таким страшным образом изменило ее жизнь… Это существо обосновалось у нее в животе и питалось ею… Ей не удавалось представить лицо ребенка, мальчика или девочки, и осознать, что она была матерью ребенка. Полине не удавалось установить связь с этим существом. Она чувствовала себя жертвой несчастного случая, наглого вторжения в нее чего-то постороннего. Эта вещь проникла в нее и росла в ней. Потом она должна была выйти наружу, разорвав ее. И снаружи она будет занимать еще больше места, чем внутри, она свяжет ее на всю жизнь. Иногда Полине чудилось, что чьи-то руки касаются ее желудка, и тогда ее тошнило.
Через несколько часов после полудня она начинала готовиться к возвращению Томаса. Полина перенесла свой трельяж, антикварный стул и кровать Рекамье в небольшую комнатушку, служившую чуланом для хранения ненужных вещей и неиспользуемой одежды. Ее скупо освещало небольшое круглое оконце. После торопливого умывания на кухне, где зажженные газовые горелки создавали ощущение тепла, Полина набрасывала на себя теплый платок и садилась перед трельяжем. Она зажигала свечи в двух тройных канделябрах, смотрела в овальное зеркало и улыбалась появившемуся в золотой рамке знакомому лицу, похожему на нее… Открывая выдвижные ящички, она перебирала хрустальные флаконы с вербеной, мелиссой, сандалом, розовой водой и молочком ириса; доставала пилки для ногтей, гребни, щетки, комочки ваты, баночки с кремами для рук и лица, бумагу с нанесенной на нее пудрой, в общем, все инструменты и вещества для алхимии, позволявшей ей стать самой собой.
Она долго расчесывала волосы, возвращая им гибкость и живой блеск; ее глаза начинали светиться, щеки розовели, она укладывала волосы и постепенно начинала узнавать свое отражение в зеркале.
Полина никогда не носила корсет. Ей до сих пор вполне годились платья, которые она носила до замужества; по крайней мере, они не казались ей тесными в поясе. Несколько иначе обстояло дело с заметно увеличившейся грудью; тем не менее, чтобы чувствовать себя в лифчике удобно, ей пришлось всего лишь сделать ножницами несколько небольших разрезов по бокам. Она ежедневно меняла свой наряд к возвращению Томаса, прежде всего потому, что ему это нравилось, а также потому, что это приводило в бешенство Элен.
Томас оставлял ее утром сонную, согревшуюся в их общей постели, и вновь находил ее вечером, элегантную и грациозную, но никогда не спрашивал о том, как она проводила время между его утренним уходом и вечерним возвращением. Она никогда не жаловалась, так как знала, что Томас все равно не смог бы понять, какой несчастной она чувствовала себя. Ее жизнь становилась более или менее сносной, когда он находился рядом. Он оставался для нее совершенно чужим человеком, но, по крайней мере, был красивым и веселым. Он вносил жизнь, краски, смех в ее унылое существование в этом странном месте, в котором она очутилась. Иногда она ощущала себя даже счастливой, преимущественно по ночам, благодаря ему. Она не сердилась на него из-за того, что он сделал ее беременной. Это был всего лишь несчастный случай. Он оказался для нее совершенно неожиданным, словно летний дождь, когда у тебя новая шляпка и нет с собой зонтика… Ты готовилась к теплу и солнцу, а тут на тебя внезапно обрушивается буря…
* * *
Много дней лил, не переставая, дождь. Прохожие начали останавливаться на набережной, чтобы посмотреть на Сену. Серые волны, тяжелые и могучие, с каждым днем поднимались все выше и выше. Они разбивались об опоры мостов, образуя огромные водовороты. Небольшие кораблики, все лето бороздившие Сену, исчезли.
Утром в воскресенье небо посветлело, на нем появились синие провалы. Томас предложил Полине взять фиакр и отправиться в Булонский лес. Она вскрикнула от радости, но сразу же погрустнела. Она не могла появиться на аллее акаций в прошлогоднем наряде…
Томас рассмеялся. Конечно, он ничего не понимал… Но он не стал настаивать, рассчитывал иначе использовать затишье…
Подойдя к окну, он раздвинул шторы, рассеивавшие солнечный свет, добавил брикетов в камин, чтобы Полина не мерзла, разбросал укрывавшие ее простыни и одеяла, стащил с нее ночную рубашку, водрузил посреди комнаты мольберт, скромно пылившийся в углу, и в очередной раз принялся рисовать ее. Красота Полины, сияние ее обнаженного тела сводили его с ума. Она заметно хорошела с каждым днем. Изгибы тела делались более округлыми, оставаясь попрежнему гармоничными; двигалась ли она, или была неподвижной, ее тело оставалось грациозным, чего она не осознавала, как не осознают свое совершенство цветок, газель или кошка. Полина ослепляла его, и ощущение этого было, возможно, сильнее, чем его любовь.
Она с любопытством смотрела на его первые картины, удивленная и разочарованная тем, что не узнавала себя. Он смеялся и говорил, что сходство не имеет значения.
Обнаженная, она стояла перед картиной, на которой он сделал несколько исправлений; ее спина, ягодицы, ноги приятно согревались камином. Она спросила:
— Но почему ты сделал у меня это… голубым? Она коснулась своего изображения. — Ты имеешь в виду грудь? Она слегка покраснела. Слово «грудь» было запретным, его нельзя громко произносить. Она тихонько повторила его и бурно покраснела от лица до пяток, как спереди, так и сзади.
— Моя грудь… Почему она синяя? Она у меня совсем не синяя! Она взяла свои груди в руки и с нежностью посмотрела на них. — Это тень, — ответил Томас. — Тень синяя… — Да? Между прочим, у меня плечо совсем не желтое! — Конечно, оно на самом деле совсем не желтое!.. Нужно смотреть все в совокупности… Понимаешь, цвета влияют друг на друга… Плечо кажется желтым потому, что здесь много зеленого…
— Но у меня нет зеленых простыней! Томас рассмеялся, поцеловал ее и перестал спорить. Она была прекрасна, для него в ней воплотилась красота всего мира… Как можно объяснить ей живопись? Он не мог объяснить ее самому себе. Томас был художником…
* * *
Ночью их разбудили крики и стук в дверь.
— Мсье Леон! Мсье Леон! Вода! Сена вышла из берегов! Наводнение! Шум подняли сторожа. Их домик находился у ворот парка; у них на первом этаже вода поднялась уже на метр. Томас вскочил, зажег лампу и поспешно оделся. Полина, разбуженная шумом, ничего не понимала.
— Что случилось? Куда ты собрался? — Наводнение!.. Ты что, не слышала? Я должен помочь Леону… Нужно спасать зверей… Она встала на колени на постели и закричала:
— Не уходи! Не оставляй меня одну! Элен со свечкой в руке молча смотрела, как Томас торопливо спускался по лестнице. Снаружи доносился глухой шум взбунтовавшейся реки. Сену обычно держали в берегах набережные, воздвигнутые двадцать лет назад по проекту архитектора Белграна, но река нашла на левом берегу плохо защищенное понижение для железной дороги, ворвалась через него мощным потоком и быстро добралась до вокзала Орсэ. Отсюда вода распространилась по улицам в низине, обнаружила стройку линии метро север — юг, обрушилась грохочущим водопадом в туннель, проходящий под Сеной, образовав, таким образом, изящную петлю с самой собой, выбралась на поверхность на станции метро Сен-Лазар, затопив окрестности, и ушла в канализационную систему, повсюду снова вырываясь на поверхность гейзерами через колодцы. Набережная на правом берегу была затоплена от площади Конкорд до Сен-Дени, а низко расположенные кварталы вода залила на территории всего Парижа.
Пять мужчин прежде всего спасли пантеру Лауру. Ее клетку перевезли на тележке к цирковым лошадям в конюшню, расположенную выше остального парка и оставшуюся сухой. Присутствие опасного хищника лошадям явно не понравилось.
Леон надел намордник на медведя Талько и отвел его в круглый салон, привязав цепью к основанию лифта. Жена сторожа в это время устраивала в салоне двух своих детей, постелив им солому перед камином, где грелись змеи.
Слону Цезарю в это время вода уже была по колено; другого, достаточно просторного сухого укрытия для него не нашлось, и Леон, по пояс в воде, снял с него путы и отвел в самую высокую часть парка, где оставил животное на свободе. Слон был старым и спокойным, он плохо видел и был совершенно не опасен, несмотря на три своих бивня.
Вода в бассейне для тюленей поднялась на метр.
— Где Наката? — спросил Томас. — Похоже, она удрала… Наката была очаровательной самкой морского льва, редкой пятнистой окраски.
— Не волнуйся, она не сможет преодолеть стену и сетку вокруг парка. Пусть позабавится ловлей рыбы между деревьями… У нее давно не было свежей еды…
К рассвету они закончили самые срочные дела. Томас вернулся домой, промокнув до костей, грязный и голодный. Элен просушила его, завернув в простыню, и заставила выпить литр горячего чая с бутербродами. Он быстро переоделся, поцеловал Полину, свернувшуюся калачиком в постели, и скатился вниз по лестнице. Несмотря на стихийное бедствие, он должен был успеть в банк к началу работы.
Выскочив на металлический мостик, он остановился. Из-под ворот на улицу Рейнуар каскадом струилась вода, постепенно затоплявшая парк.
Он вернулся к матери.
— Улица Рейнуар залита водой… Но ведь это очень высоко над уровнем Сены! Откуда взялась эта вода? Элен подвела его к окну столовой. В нижней части парка вода прибывала на глазах. Она уже залила основание конюшни и теперь подбиралась к дому.
— Господи, я не смогу попасть в банк… Он напялил на себя мокрую одежду и спустился вниз помогать мужчинам. Они смастерили из ящиков, балок и принесенных водой бревен нечто вроде плота, на который взгромоздили клетку с пантерой. Накрыв ее брезентом, привязали плот к столбу ворот. Лошадей перевели в салон. Им пришлось оставить в конюшне жирафу Камиллу, в надежде, что животное спасет ее высокий рост. По крайней мере, крыша в конюшне укрывала ее от дождя. Вода доходила жирафе выше колена, и ее наколенники намокли.
— Она заработает жуткий артрит! — огорченно воскликнул Леон. — Будет хромать на все четыре ноги!
Он обмотал ей шею и грудь соломой, закрепив ее веревками, как делают с деревьями, чтобы защитить их от заморозков. Больше он ничего для нее сделать не мог. Вода к этому времени подступила к дому и уже лизала нижнюю ступеньку лестницы, ведущей на крыльцо.
Выбраться из дома можно было только через мостик. Вода, лившаяся с улицы Рейнуар, образовала незначительный поток, появившийся неизвестно откуда и быстро стекавший вниз по уклону улицы.
После полудня Томас смог добраться до банка. Многие сотрудники отсутствовали. Мистер Уиндон отправил Томаса с деньгами к его кузену, сэру Генри Ферре. Улица Сен-Гийом была затоплена одной из первых. Сэру Генри пришлось спасаться из особняка на лодке. Сейчас он находился в отеле «Риц».
Когда Томас вернулся в Пасси, подъем воды прекратился. Она остановилась, дойдя до третьей ступеньки. Полина, бледная, непричесанная, бросилась обнимать его. Она была в ужасе. С нижнего этажа доносились стук копыт, запах животных. крики детей и их матери. Время от времени гремел бас Леона, заставлявший всех затихать на несколько минут. Элен еще не вернулась; подача газа прекратилась, а уголь в доме почти закончился. Запасы съестного, в том числе картошки, оказались в затопленном погребе. Обстановка напоминала конец света или, по меньшей мере, кораблекрушение.
Томас успокоил Полину. Ничего страшного не случилось, все скоро наладится. Вернулась Элен со спиртовой лампой и пирогами. Ей удалось заказать два мешка брикетов у угольщика на улице Пасси. Их обещали доставить завтра утром. Для них нашлось сухое место в чулане.
Уровень воды в Сене начал медленно понижаться. Газеты сообщили, что это было самое большое наводнение с XVII века, случившееся в 1658 году, когда Людовику XIV было всего двадцать лет.
Время от времени в парке можно было видеть морскую львицу Накату; она громко звала Леона, желая сообщить ему, как замечательно оказаться на свободе, хотя и довольно относительной. Другие животные отнюдь не радовались. Слон Цезарь стоял по колено в грязи, и вода показалась ему слишком холодной. В салоне на первом этаже все было перевернуто кверху ногами животными и детьми.
Шама в это время находился по дороге в Америку.
* * *
Сэр Генри захватил с собой, когда спасался в «Рице», несколько самых любимых картин. В самый последний момент, перед тем как спуститься в лодку, он забрал полотно, больше других интересовавшее, раздражавшее и интриговавшее его. Это была картина, написанная Томасом в Трувиле и оставленная им в комнате, куда его поселил управляющий. Когда сэр Генри вернулся из Кале, управляющий передал ему с кислой гримасой эту картину. Она поразила сэра Генри. Он привез ее в Париж и время от времени подолгу рассматривал. В ней было что-то… Нечто необычное… Возможно, Томас действительно был художником. Или не был…
Когда наводнение закончилось, к сэру Генри заглянул его приятель Тюрье, торговец картинами, пытавшийся всучить ему очередной шедевр. Они пили чай и обсуждали принесенное Тюрье полотно Сера. Картина была весьма яркой, хотя и со следами некоторой спешки. Это был этюд с персонажами будущей «Гранд-Жатт» — женщина с красным зонтиком и маленькая девочка в белом. Сэр Генри находил картину замечательной, но несколько дороговатой.
Взгляд Тюрье неожиданно остановился на картине Томаса, прислоненной к стене. Он встал, поднял ее и подошел к окну. Всмотревшись в картину, он спросил:
— Что это такое? Сэр Генри улыбнулся. — А, это картина одного моего знакомого, молодого парня… — У вас есть другие его картины? — Нет, только эта… — Он много рисует? — Думаю, да… — Вы видели другие его картины? — Нет… К чему?.. — Вы не правы. Мне нужно посмотреть их…
* * *
— Моя дорогая, — сказал князь Александр, — если в ближайшее время не увезете меня отсюда, вы рискуете потерять меня навсегда. — Не говорите глупости, Александр, — возмутилась Гризельда. — Ничто не может заставить вас потеряться. Нельзя не сказать, что князь действительно страдал. Уже два часа они стояли в толпе, ожидавшей похоронную процессию короля Калабулонга, и хотя давно наступила осень, жара стояла более невыносимая, чем в пустыне Гоби. Было ли связано ощущение такой свирепой жары с повышенной влажностью, или просто с тем, что возраст князя достиг критического рубежа? Князь отбросил эту неприятную возможность. Если он действительно состарился, то это должно было проявиться достаточно давно. Он снял колониальный шлем и вытер платком вспотевший лоб. Струйки пота сползали у него с бровей и терялись в бороде. Между прочим, он никогда раньше не потел…
Для высоких гостей не предусмотрели ничего, даже какой-нибудь низкий помост. Тем более, отсутствовали сиденья. Князю пришлось раздать пригоршни серебряных монет, чтобы пробиться вместе с Гризельдой в первый ряд зрителей, смеявшихся и галдевших, словно стая попугаев. Они с раннего утра ожидали процессию с телом скончавшегося короля и своим новым королем. Какое-то время князю и Гризельде удалось постоять в тени забавного дерева, похожего на пучок больших розовых опахал, но тень перемещалась вместе с солнцем, и как они ни работали локтями, чтобы перемещаться вместе с тенью, вскоре оказались на солнцепеке.
Князь вздохнул.
— Нам было бы гораздо приятнее находиться на яхте… И мы вполне могли немедленно направиться… Скажем, к полярным льдам… — И это говорите вы, человек, который, оказавшись на корабле, мечтает сойти на землю, чтобы поваляться на траве. — Здесь нет ни травы, ни земли! Только заросли бамбука и лужи повсюду! И слишком теплая вода для питья!.. Если вы действительно хотите увидеть короля, я приглашу его на яхту!.. — Подождите немного, Александр, они приближаются… Послышалась пронзительная музыка оркестра, загремели гонги, зазвенели колокольчики музыкантов, двигавшихся перед кортежем. Толпа затихла. Воздух был заполнен запахами перца и кардамона; иногда они забивались волнами сладковатого аромата цветущих деревьев. В розовых кронах галдели невидимые птицы, а вниз то и дело падали белые капельки помета.
С противоположной стороны улицы, на ступеньках небольшого храма со стопкой расположенных друг над другом рогатых крыш, стоял рыжий массивный англичанин, возвышавшийся над толпой. Он следил за Гризельдой с помощью бинокля. Она не знала его, но англичанин прекрасно знал ее. Он не смог задержать ее в Лондоне и Кардиффе, но, наконец, смог настичь здесь. Это был Эдвард Лайонс, оборвавший путь Шауна из Пекина в Европу; теперь он собирался остановить его слишком настойчивую вдову. Он истекал потом, его костюм был в мокрых пятнах. Лайонс мечтал об уютном садике виллы в Йоркшире, о божественно прохладном дождике, сыплющемся с неба триста шестьдесят дней в году, и о ледяном тумане в оставшиеся пять дней. Он направил бинокль на дальний конец улицы. Приближался кортеж; во главе колонны маршировала королевская гвардия, наряженная в красные и синие европейские мундиры с легкой белой накидкой поверх мундиров в знак траура.
Гризельда ожидала появления принца Райя. Сегодня наследником должен был стать не он, а его брат Райявамуд. Его место в кортеже соответствовало будущему влиянию при дворе нового короля, а поэтому логичным было рассчитывать на него.
После гвардии прошла небольшая группа детей, подростков и юношей, даже самые маленькие из них были одеты в официальные мундиры, соответствующие английской колониальной моде.
— Что это за детский сад? — поинтересовалась Гризельда. Князь Александр смахнул капельки пота с бровей. — Это, очевидно, дети короля… — У него столько детей? — Думаю, они здесь не все…
Гризельда с тревогой присмотрелась к колонне. Все ли она предусмотрела? Разумеется, она узнает принца. Его невозможно забыть, даже если видел его лишь однажды.
Его родителями были только что скончавшийся король и жена крупного чиновника английского консульства, умершего от оспы. Король принес свои соболезнования вдове, юной блондинке, вместе со шкатулкой драгоценностей. Через несколько дней, когда вдова собиралась вернуться в Европу, она попросила аудиенции у короля, чтобы передать ему ответные подарки. Король принял ее во дворце, и она осталась там навсегда.
Смесь рас обеспечила принцу Райя необычную красоту. Он был выше, чем большинство жителей Сиама, а стройностью фигуры напоминал английского подростка. Матовый цвет кожи, высокие скулы, черные волосы и огромные синие глаза делали его похожим на изображения на римских или византийских фресках. На смуглом лице глаза казались окнами, распахнутыми к свету. Рисунок его губ выглядел в самых серьезных ситуациях и даже во сне так, словно он слегка улыбался. Сначала воспитанный матерью, а затем получивший образование в Англии, принц походил манерами и сложением на коренного англичанина.
Нет… Его не было среди детей короля, переодетых в европейские одежды, выглядевшие на них маскарадными костюмами. В этот момент мимо Гризельды проносили катафалк, который несли слуги. На платформе, накрытой белоснежными коврами, горели тысячи свечей, язычки пламени которых заставляли сверкать бриллианты и разноцветные драгоценные камни, усеивавшие большую золотую урну. Внутри находилось в сидячем положении забальзамированное тело короля. Он в последний раз направлялся в свой дворец, откуда должен выйти только через несколько недель, чтобы отправиться на погребальный костер в ходе еще более грандиозной церемонии.
Гризельда почувствовала на лице тепло от горевших свечей, и до нее долетели запахи горячего воска и сандалового дерева.
— Господи! — пробормотал князь. — Им недостаточно солнца! За катафалком двигалась большая группа юных красивых девушек в белых одеждах.
— У короля дочерей явно больше, чем мальчиков, — сказала Гризельда. За ее спиной прозвучала произнесенная на английском языке фраза:
— Их шестьсот, мадам. Но это не дочери короля, это его вдовы… Гризельда обернулась. За ней стоял европеец; его смуглое лицо свидетельствовало о десятилетиях, проведенных под южным солнцем. В шевелюре можно было заметить редкие седые волоски. Его акцент показался Гризельде немецким.
Он извинился… Что позволил себе… Впрочем, это была его профессия…
— Герхард Нейман, агентство печати Гамбурга… Я знаю вас, мадам… Гризельда непроизвольно насторожилась. Похоже, что журналист заметил это и улыбнулся с легкой иронией.
— Я знаю, что вы вдова Шеридана, знаменитого автомобилиста, пропавшего во время автопробега… К несчастью, я не смог находиться в то время в Пекине, меня отправили в Марокко, наблюдать за высадкой французских частей. Но Шеридан давно интересовал меня… Очень интересовал… Я знаю о ваших экспедициях… Но широкая публика плохо представляет, чем закончились ваши поиски в пустыне… Если бы вы позволили побеседовать с вами… Мои читатели были бы счастливы…
Он был слишком назойлив. От него нужно было избавиться любой ценой. Гризельде нельзя было становиться объектом внимания публики. Она повернулась к кортежу, отделавшись несколькими неопределенными словами. Она не хотела пропустить принца. И увидела его…
Белый поток королевских вдов заканчивался. Вслед за ним появился новый король, сидевший на троне, который несли несколько силачей в окружении дворцовых чиновников. За ним несли невероятно высокую богиню с обнаженной грудью. В двенадцати руках ярко раскрашенной богини были цветы и птицы. Между новым королем и богиней шел в гордом одиночестве принц Райя в траурном белом костюме с золотым шитьем и в небольшой золотой шапочке на черной шевелюре. Он прижимал к груди обеими руками саблю умершего короля, символ надежной защиты королевства от всех врагов. На его лице светилась улыбка, которую Гризельда воспринимала как вызов англичанам. Она, впрочем, как и многие другие, хорошо знала чувства принца. Именно поэтому Гризельда общалась с ним в Лондоне и собиралась встретиться в Бангкоке. Ей требовалась помощь принца на юго-востоке Азии, и она не сомневалась, что сможет получить ее. Райя не мог забыть прием, оказанный его матери, когда она решила покинуть Сиам и вернуться на родину. Если принц, учившийся в Оксфорде, дружил с многими английскими студентами и нередко приглашался на приемы в самые известные семьи, то все двери, открывавшиеся перед ним, были закрыты перед его матерью. Он был принцем, тогда как его мать всего наложницей туземного короля, то есть, не больше чем проституткой в постели туземца… Когда Райя понял это, он немедленно оставил учебу и вернулся вместе с матерью в Сиам, навсегда сохранив в своей душе ненависть к лицемерной и жадной Англии. Он с радостью вернулся к спокойной жизни в условиях терпимости и доброжелательного отношения к ближнему. Но его мать долго страдала от тоски по родине.
Бинокль Эдварда Лайонса в очередной раз задержался на Гризельде и князе Александре. Между ними, немного позади, можно было видеть лицо Герхарда Неймана. Он то и дело обращался к Гризельде, а та холодно и сдержанно отвечала ему. Но журналист продолжал говорить… Лайонс хорошо знал, кем был немецкий журналист и почему он находился именно там. В то же время, Нейману не нужен был бинокль, так как он прекрасно знал, где находился Лайонс. И он был посвящен в планы англичанина.
* * *
Раздалось несколько выстрелов с большими интервалами, потом прозвучала серия выстрелов, следовавших один за другим. Молли ворвалась в помещение и раздраженно крикнула по-гэльски:
— Ты закончил сходить с ума? Длинный коридор с облицованными металлическими листами стенами заполнял дым, пахнущий порохом. Джонатан в белой куртке заполнил очередную обойму патронами и ответил Молли:
— Я почти закончил! Он положил карабин на столик. Это был американский автоматический винчестер, предназначавшийся для охоты на бизонов. На столике лежали также два револьвера, французская винтовка Лебеля и карабин Маузера, применявшийся в немецкой армии.
Молли продолжала ворчать:
— Профессор ждет тебя целых полчаса, уж не знаю, что там он должен тебе преподавать… Он не решается войти сюда, так как боится получить случайную пулю… Давай, иди же к нему!
— Молли, Молли, не нужно нервничать! — промолвил Джонатан. — У меня хватит времени на все!
В его улыбке оставалось еще нечто детское. Но мечтательный взгляд сразу же стал жестким, когда он взял третий револьвер, протянутый ему графом В., старшим охотником князя Александра. Он шесть раз нажал на курок; мишени шесть раз зазвенели в ответ на выстрелы. Одна из них изображала медведя, другая — волка. Специальный механизм заставлял их неравномерно перемещаться.
— Хорошо, — согласился граф. — Good, good… Он не очень хорошо владел английским, но был известен как великий убийца волков. Молли чихала и кашляла; ее горло плохо переносило дым и запах пороха. Ей вообще не нравилась сама идея огнестрельного оружия… Джонатан присоединился к «преподавателю» — это был французский пианист из оркестра князя. Он как раз исполнял этюд Листа, создавая больше шума, чем Джонатан со всеми его револьверами и винтовками. Весело приветствовал своего ученика, захлопнул крышку пианино и схватил стоявшую на этажерке бутылку портвейна с полоской золотистой бумаги. Он терпеть не мог водку, обжигавшую ему желудок. Выглядел профессиональным борцом и никогда не пропускал возможности сразиться с кем-нибудь на ярмарке. За очками на его лице скрывался острый ироничный взгляд. Он наполнил два стакана, хотя Джонатан никогда не пил спиртное. Это не очень волновало преподавателя, так как он с удовольствием выпивал оба стакана.
— Что за страна!.. Нам нужно освежиться, погрузившись в поэзию Вергилия… И он протянул Джонатану сильно потрепанный томик в кожаном переплете с изданием «Энеиды». Гризельда попросила его улучшить французский своего сына. Так как он обладал знаниями во всех областях науки и человеческой деятельности, его уроки французского постепенно распространились на латинский, русский и немецкий языки, на искусство, историю, математику, астрономию, астрологию, политику и даже на игру на пианино.
Он очень нравился Джонатану.
— От тебя несет порохом, как от старого артиллериста! Это отвратительно! — Кто такой артиллерист? — Это солдат, стреляющий не из ружья, а из пушки. — Я стреляю из винтовка… — Из винтовки. Это женский род. — Из винтовки и револьверы… — Из револьвера. Он мужского рода. — Почему так нелогично? — удивился Джонатан. — Не знаю, — довольно ухмыльнулся педагог. — Так должно быть во французском. — В английском винтовка и револьвер одного рода. Это гораздо проще… — Английский придуман для людей с очень маленьким мозгом… — Со своим маленьким мозгом англичане выигрывают все войны! — Умные люди не воюют. И когда им объявляют войну, они проигрывают… Таким образом англичане захватили половину мира…. Чтобы выиграть войну, надо знать один простой секрет: там, где у противника один солдат, у тебя должно быть два! — А вы, французы, считаете себя умными? — Да, конечно!
— Значит, вы должны были проиграть все войны? — Нет… Время от времени мы вспоминаем эту простую вещь и выигрываем одно или несколько сражений. Понявший это Наполеон добрался до Москвы. Правда, он не подумал о русской зиме… — Вы собираетесь воевать с Германией? — Об этом много говорят, но, надеюсь, все сильно побаиваются войны. Правда, на этот раз мы будем втроем: Франция, Англия и Россия. — А если Россия объединится с Германией? — Тогда мы просто не станем воевать и позволим Германии самой объявить нам войну. Итак, мы еще раз окажемся идиотами. — Что это — идиот? — Это грубое выражение. И это одновременно нечто замечательное, что ты можешь использовать, не называя его. — Не понимаю… — Поймешь позже… Открой книгу на странице сорок три… Ты собираешься завтра охотиться на тигра? — Да, конечно. — Тебе нравится убивать животных? — Не знаю… Я никогда никого не убивал… Но иногда приходится делать то, что тебе не нравится…
* * *
Писатели всегда обсуждают одну и ту же книгу, художники — одну и ту же картину. Убийцы совершают всегда одно и то же преступление. С вариантами, так как все они разные. Когда Эдвард Лайонс узнал, что принц Райя пригласил Гризельду и князя Александра на охоту на тигра и что сын Гризельды и убитого в Гоби мужчины тоже будет участвовать в охоте, он обрадовался. У него неожиданно появилась возможность покончить одним ударом со всем гнездом врагов его страны. Уничтожить их будет труднее, чем расправиться с двумя людьми, оказавшимися в безлюдной пустыне, но нужный результат все же вполне достижим. Чтобы организовать охоту на тигра, требуется несколько дней. Для организации охоты на человека необходимо примерно столько же времени. Эдвард Лайонс связался со своим информатором во дворце, человеком по имени Анг Энг. Он был вожаком небольшой банды кхмеров, назвавших свою организацию именем древнего воинственного короля, которая несколько месяцев назад спустилась с гор на равнину, где грабежи давали более существенный результат.
У Герхарда Неймана были информаторы среди китайских торговцев, все покупающих, все продающих и знающих все. Выслушав его, он испросил аудиенцию у принца Райя.
* * *
Электрический вентилятор крутился под потолком, лениво перемешивая вязкий воздух. Гризельда сидела прямо под ним в длинной рубашке без рукавов из нежного индийского хлопка, весившего не больше, чем половинка птичьего пера. Молли укладывала ее волосы на ночь.
Через открытые иллюминаторы, защищенные от москитов сеткой, каюта заполнялась запахом цветов, пряностей и кухни плавучей деревни в близком порту, состоящей из множества небольших лодок, тесно прижавшихся друг к другу. Вместе с запахами в каюту влетали смех, песни, крики, музыка. И запах ила. И пение громадных лягушек, населявших притоки. И голоса больших странных ночных птиц, охотившихся за лягушками.
Негромко и равномерно билось надежное сердце судна. Это был работавший на угле механизм, никогда не выключавшийся, чтобы непрерывно снабжать корабль электричеством. Молли ворчала, словно терьер, у которого мастиф отнял любимую косточку.
— Вы сошли с ума! Брать с собой ребенка, чтобы участвовать в охоте на тигров! Вы просто свихнулись! — Это уже не ребенок, Молли… Ой! Не дергай! Осторожнее!.. — Я дернула вас за волосы, и вы вскрикнули!.. А если тигр сожрет его или оторвет ему руку? Наверно, тогда будете кричать громче, чем сейчас! — Глупая! Мы ведь будем на слонах, а вокруг нас охотники с ружьями… Скорее всего, мы даже не увидим тигра… Ты же знаешь, что мне нужно поговорить с принцем Райя!.. — Вы будете разговаривать с ним на слоне? Разговаривать и стрелять из ружья? — Молли! Не прикидывайся дурочкой!.. Я встречусь с ним накануне вечером, во время стоянки… Как это называется? Не могу запомнить эти нелепые названия… — Все это делается только для того, чтобы продолжать войну с Англией!.. Но ведь вы англичанка!.. — Я сражаюсь за Ирландию!.. Ты упрекаешь меня в этом? — К чему все это приведет нас? Мой Ферган погиб! Мистер Шаун погиб! — Они не погибли! — закричала Гризельда. — Тогда где они? Вы можете сказать это мне? Молли сильно дернула за прядку, которую укладывала в этот момент. — Ай! Оставь меня! Иди к себе, ложись спать!.. — Нет, я не пойду спать! Я не хочу спать!.. Мне снятся одни кошмары… Прошлой ночью видела сон, что каменная пирамида королевы Maaв вспыхнула, словно порох, а потом раскололась пополам, и внутри нее находился дьявол с лицом этого проклятого капитана МакМиллана, который повесил Брайана О’Маллагина, умершего совершенно голым, словно свинья, и, конечно, попавшего в ад, где он и будет жариться до конца дней! А капитан держал в руке вилы, размахивал ими и кричал: «Иди ко мне, мой красавчик! Иди скорее!» А вы знаете, кто прибежал к нему? Джонатан, мой ангелочек! А вы, его мать, бежали сзади и кричали: «Скорее, скорее! Мы должны поторопиться!» Вот куда вы ведете своего ребенка! Я прекрасно понимаю, вы хотите, чтобы он отправился в Ирландию сражаться с англичанами. И что мы имеем с тех пор, как заварилась эта каша? Все наши парни, оставшиеся на родине, были расстреляны или повешены, и это было во времена наших дедов и прадедов, и с тех пор мы ни на шаг не приблизились к своей цели… Сколько наших было казнено… А теперь этот кошмар ждет Джонатана, моего малыша, моего ребенка! — Замолчи, Молли! — Конечно, вы всегда можете говорить все что хотите!.. Но я тоже имею право хоть один раз сказать все что думаю!.. Пока с нами был мой Ферган, мой мужчина, он знал, что нужно делать, и я молчала! Но теперь со мной остался малыш Джонатан, и я больше не могу молчать!.. Боже, неужели он тоже очутится в этом аду? Да, это вы родили его, но он всегда был на руках у меня, здесь, возле моего сердца, и я имею право сказать все… Я не хочу, чтобы он отправился на эту проклятую охоту! Я не хочу, чтобы он участвовал в сражениях! Он не должен сражаться ни с тиграми, ни с англичанами, которые хуже тигров! Я не хочу, не хочу!.. Она зарыдала, и ее слезы падали на волосы Гризельды. Гризельда встала, поцеловала Молли, усадила на постель рядом с собой, высушила ее лицо и заговорила с ней тихо, нежно, убедительно.
— Что касается тигров, то здесь нет никакого риска, клянусь тебе, охота для него будет всего лишь развлечением. Кроме того, не будет многих тигров, а всего лишь один старый беззубый тигр… А в Ирландии мы должны продолжать борьбу, ты хорошо знаешь это, моя Молли, мы с тобой и Джонатан тоже, когда станет старше. Сейчас не время останавливаться. Ирландия будет свободной, это последние сражения, Шаун был уверен в этом… — И к чему, мадам, его привели эти мысли вместе с моим бедным Ферганом? Чем закончили эти двое несчастных? А вы никак не можете остановиться, скитаясь по миру с сыном, который никогда не видел своей родины!.. Ах, мадам, если бы вы только захотели… Это так просто!.. Принц такой прекрасный человек!.. И такой богатый!.. Он смог бы выкупить для вас остров… Мы вернулись бы туда… Вместе с Джонатаном… Мы позвали бы туда ваших сестер… Вместе с их детьми… И, может быть, Эми — она наверняка еще жива… К нам вернется и лис Уагу со своим белым хвостом… Мы были бы счастливы, мадам, очень счастливы… Может быть, вернулся бы и Ферган вместе с мсье Шауном… Вы правы, возможно, они и не погибли, не может быть, чтобы они оказались мертвы, не может быть! Она снова заплакала, скорчившись на стуле, закрыв лицо обеими руками. Гризельда молча стояла возле нее, глядя вдаль, и слезы текли по ее щекам. Было слышно, как волны негромко плещутся о корпус судна. Где-то пел ребенок тихим нежным голосом. Может быть, это пела женщина, баюкавшая ребенка. Она вскоре замолчала.
* * *
Князь Александр не стал вставать. Конечно, он с удовольствием принял бы участие в охоте на тигра, но одна только мысль, что для этого придется бродить по влажным душным джунглям, вызывала у него отвращение и слабость в коленях. Гризельда пообещала ему, что они уедут из Бангкока после того, как вернется с охоты. Отсутствовать она собиралась не больше недели, поэтому он немедленно начал собираться.
Гризельда, Джонатан и граф В. уехали на повозках из бамбука, в которые были запряжены горбатые буйволы, передвигавшиеся почти с такой же скоростью, как лошади. Их сопровождала кавалькада всадников на лошадях. В последний момент перед отправкой эскорт по приказу принца Райя был увеличен в два или три раза.
Пунктом сбора для охотников был назначен монастырь, размещавшийся в подземных галереях, вырытых в склоне холма из красного песчаника на краю джунглей. Они прибыли в монастырь поздно вечером, и их встретили монахи в желтых одеяниях, с гладко выбритыми головами. На деревьях собралось множество обезьян, взволнованных появлением такого количества гостей. Гризельду с сыном и графа привели в небольшую круглую комнату; ее стены украшали многочисленные небольшие изображения, вырезанные на каменных плитах. На полу, в связи с отсутствием столов, монахи расстелили скатерти и расставили чаши с дымящимся рисом и блюда с фруктами. Масляные лампы, сильно дымившие и наполнявшие помещение запахом прогорклого жира, были расставлены вдоль стен и весьма скудно освещали комнату.
После ужина гостей развели по небольшим комнатам без окон и дверей, вырубленным в толще песчаника. К Гризельде пришел совсем юный монах, что-то пытавшийся объяснить ей на непонятном языке и непрерывно жестикулировавший. Она поняла, что ее куда-то приглашают. Монашек привел ее в громадный зал, высокий свод которого терялся в темноте и казался черным небом. Судя по размерам зала, он должен был занимать чуть ли не все недра холма. В зале возле стены лежала гигантская статуя Будды, вырубленная из песчаника непосредственно на месте. Голова Будды опиралась на согнутую в локте руку; глаза его были закрыты, и казалось, что он спит вечным сном. На то, чтобы пройти от ног спящего до его головы, Гризельде потребовалось около минуты. Вокруг спящего гиганта толпились, словно придворные вокруг властелина, небольшие статуи стоящих или сидящих будд самых разных размеров, казавшиеся лилипутами рядом с Гулливером.
Повсюду горели масляные лампы. С потолка то и дело срывались капли сконденсировавшейся влаги, напоминая редкий дождь. Возле головы великана находилась сидящая статуя Будды, очевидно, покрытая слоем золота. На коленях у него лежала охапка свежесрезанных цветов. Небольшие полированные белые камешки изображали широко открытые глаза Будды; в них были вставлены зерна халцедона, изображавшие радужку, а в их центре находились черные алмазы, соответствовавшие зрачку. Трепещущий свет масляных ламп дрожал на золоте статуи, отражаясь от пристально смотревших на гостью глаз.
На пьедестале статуи сидел принц Райя, державший в руке золотой цветок, взятый им у Будды. В царившем в пещере полумраке его глаза казались такими же яркими, как и глаза Будды.
* * *
Гризельда ошиблась, посчитав, что объектом охоты будет старый дряхлый тигр. Нет, для такого охотника, как Райя, был выбран могучий хищник, поселившийся в выступе джунглей, глубоко внедрявшемся в просторную лесостепь, за которой начинались обрабатываемые земли. Ночью тигр выходил из леса, чтобы похитить из ближайшей деревни очередную жертву — буйвола или, иногда, крестьянина.
Разбухшее солнце медленно поднялось над горизонтом, отражаясь в воде рисовых полей. Загонщики заняли исходную позицию между деревьями.
Накануне Гризельда долго беседовала с принцем Райя. Он обещал ей помощь, как деньгами, так и непосредственным участием. Они договорились о пунктах встречи и средствах связи по всему миру.
Сейчас Гризельда находилась рядом с принцем на спине громадного слона. Они были в белом — он в куртке и широких сиамских брюках, она — в длинном белом платье и большой соломенной шляпе, к которой прикреплялась вуаль. На соседнем слева слоне сидел Джонатан, в сапогах и красной одежде в русском стиле. Как объяснил ему портной на «Федоре», это был цвет сражения, цвет победы. Вместе с ним на этом слоне находился граф В. в сером охотничьем костюме, недовольно поглядывавший на мальчика в красном, так как, по его мнению, красный цвет мог отпугнуть зверя. Но он слишком плохо владел английским, чтобы объяснить причину своего недовольства.
На остальных четырех слонах размещались попарно лучшие стрелки из королевской гвардии. Перед слонами и позади них гарцевали всадники охраны, сплошной цепью окружившие слонов, когда процессия приблизилась к массиву джунглей, где находилось логово хищника. В соответствии с обычаем, слон, на котором сидел Райя, считавшийся главным охотником, находился во главе колонны.
Разумеется, такое количество ружей против одного тигра было излишним. Но Райя собрал столько стрелков не против тигра, а в связи с информацией, полученной им от немецкого журналиста. Он не сомневался, что журналист рассказал правду. Не знал, каким образом будет организовано нападение бандитов; в то же время принцу казалось маловероятным, что оно состоится, когда все охотники будут готовы действовать непосредственно перед появлением тигра. Он считал более вероятным, что нападение произойдет из засады на обратном пути, когда усталые участники охоты смогут расслабиться. Так или иначе, но нужно было постараться предвидеть наиболее возможный вариант. Тем не менее, произошедшее оказалось для него совершенно неожиданным…
По данному начальником сигналу загонщики, отрезавшие выступ джунглей от остального леса, подняли страшный шум и двинулись к оконечности массива, где находился тигр.
При первых звуках гонга, сопровождаемых звоном колокольчиков, грохотом барабанов и ревом больших труб, над джунглями поднялась стая перепуганных птиц. Спавший в укрытии тигр вскочил и с рычанием бросился навстречу загонщикам, но быстро отступил перед их шеренгой. Создаваемая загонщиками какофония напугала его и заставила двигаться навстречу охотникам.
Пройдя около двухсот метров, загонщики столкнулись с неожиданностью: они обнаружили три больших клетки из стволов бамбука с открытыми дверцами. Было понятно, что их доставили сюда по недавно проделанной в джунглях просеке. Начальник загонщиков внимательно осмотрел клетки; их появление и сильный запах тигра вызывали у него тревогу. Но охота началась, и ничего не оставалось делать, как продолжать ее. Начальник приказал загонщикам продвигаться дальше, увеличив шум насколько это было возможно.
Охотники напряженно вслушивалась в приближающийся шум, не сводя глаз с опушки джунглей. Сейчас к звукам инструментов добавились пронзительные крики загонщиков, старавшихся вызвать у тигра панику.
— Вот и он! — негромко сказал Райя. Из джунглей на открытое место вышел тигр. Увидев перед собой цепь охотников, он гневно зарычал и попытался вернуться в заросли, но адский шум, выгнавший его из леса, стал совершенно невыносимым. Он прижался к земле и двинулся вперед, готовый к прыжку.
— Какое красивое животное! — воскликнула Гризельда. — Неужели его нужно убить? — Это убийца, — ответил принц. — Он нападал на местных жителей и убивал их, как взрослых, так и детей. Подняв ружье, он следил за тигром, ожидая, когда тот покажется во весь рост. Второе ружье принц передал Гризельде, но та положила его рядом с собой, явно не собираясь стрелять. Два охотника на находившемся слева слоне тоже следили за тигром, держа его на мушке. Они должны стрелять только в случае, если принц промахнется, что было маловероятно, но все же возможно. Гризельда посмотрела направо, на слона, на котором находился Джонатан. Юноша опустил ружье, но был готов в любой момент спустить курок. Внезапно Гризельда почувствовала страх за сына. Зачем только она взяла его с собой? Да, Молли была права… Она схватила ружье и прицелилась в тигра.
Хищник замер, выпрямился, потом присел, готовясь к прыжку. От слона с принцем и Гризельдой его отделяло всего несколько метров.
Послышались крики. Кричали охотники на лошадях, с трудом справлявшиеся со словно взбесившимися животными, беспорядочно метавшимися и встававшими на дыбы. На открытом пространстве появилось еще несколько тигров; их было много, не меньше пяти или шести. Они выглядели непривычно: тощие, грязные, со сбившейся комками шерстью, явно голодные… У двух тигриц, оказавшихся в этой стае, были видны сильно набухшие соски, свидетельствовавшие о том, что они отделены от тигрят в течение нескольких последних дней. Тигрицы сразу же кинулись на охотников, и голодные самцы присоединились к нападающим.
Первый тигр прыгнул; Гризельда выстрелила, получив сильную отдачу прикладом в плечо, и сразу же поняла, что промахнулась. Отвлеченный криками поблизости Райя тоже выстрелил, запоздав на секунду, и попал тигру в живот. Перехваченный пулей в прыжке, тигр извернулся и обрушился на погонщика слона, которого мгновенно растерзал. Гризельда ударила тигра ружьем, словно дубиной; раненый тигр зарычал, распахнув огромную пасть с чудовищными клыками. Райя выпустил прямо в пасть тигра одну за другой несколько пуль. Голова тигра разлетелась на куски; слон тут же схватил его хоботом, сбросил на землю и растоптал. Погонщик слона свалился на землю, оставив за собой кровавый след. Гризельда несколько раз выстрелила в тигров с левой стороны, где на слоне находился Джонатан.
Со всех сторон загремели выстрелы, и Райя понял, что целью для стрелков были не только тигры, но и он с Гризельдой. Кхмеры Анг Энга, воспользовавшиеся беспорядком, вызванным неожиданным нападением целой стаи тигров, открыли с тыла стрельбу по охотникам.
Часть бандитов прятались в высокой траве; им на помощь неслись стрелявшие на ходу всадники. Сопровождавшая охотников конная охрана, старавшаяся успокоить своих напуганных тиграми лошадей, не успевала организовать достойное сопротивление нападавшим сзади бандитам. Многие из эскорта уже были сбиты пулями с коней. Только слоны, возвышавшиеся как крепости над полем сражения, позволяли своим наездниками вести результативную стрельбу как по атакующим разбойникам, так и по тиграм. Четыре тигра уже были застрелены, остальные продолжали убивать охотников и оказавшихся поблизости от схватки загонщиков.
Джонатан, лежавший на спине своего слона, который повернулся к нападавшим, спокойно, словно в тире, стрелял в нападавших, сбивая с коня одного бандита за другим. Граф В., раненый или убитый, упал со слона.
В этот момент хладнокровие изменило Джонатану. Он выпрямился и выкрикнул приказ слону на языке, который усвоил с самых юных лет, проведенных в Индии. Слон, которого раздражали то и дело задевавшие его пули, испустил боевой рев и атаковал нападавших с высоко поднятым хоботом. Джонатан продолжил стрелять, попрежнему так же метко, погонщик слона быстро заряжал ружья. Он яростно выкрикивал на гэльском языке проснувшийся в нем и, по-видимому, скрывавшийся в его памяти боевой клич древних гэльских воинов. За возникшим неизвестно откуда красным дьяволом устремились остальные слоны; уцелевшие охотники вели беглый огонь. Через несколько минут тигры были уничтожены, лошади успокоены, остатки эскорта присоединились к атаке на бандитов. Не ожидавшие такого поворота нападавшие бросились врассыпную, пытаясь скрыться. Но теперь их встретили жители двух соседних деревень, бросившиеся на помощь принцу. Вооруженные серпами, вилами, дубинами и ножами, крестьяне ломали ноги лошадям, выпускали у них кишки, приканчивали оказавшихся на земле всадников, извлекали из зарослей спрятавшихся стрелков и уничтожали их.
Все закончилось очень быстро. Старосты двух деревень привели к принцу захваченного в плен Анг Энга. Предатель упал на колени и коснулся лбом земли. Потом выпрямился, ожидая кары. Долго ждать ему не пришлось — Райя уложил его пулей в лоб.
Потрясенная случившимся Гризельда, с ужасом наблюдавшая избиение людей и животных, попыталась оторванной от шляпки вуалью вытереть руки, выпачканные в крови тигра и погонщика слона. Она отбросила шляпу, ее волосы волной рассыпались по плечам. Ее корсаж тоже был в крови.
Жители деревни торжественным гимном отмечали победу.
* * *
Гризельда сидела в небольшой повозке, пред которой трусил запряженный в нее горбатый буйвол, и с ужасом вспоминала кошмар, который довелось пережить. Больше всего ее потрясло неожиданное перерождение Джонатана, вспышка у него бойцовского темперамента. Через плечо возницы она видела сына, во всем белом, сидевшего в передней повозке. Время от времени он оборачивался, чтобы улыбнуться матери. Каким образом этот почти ребенок смог превратиться в отважного бойца с железными нервами, более решительного, чем находившиеся рядом мужчины?
До сих пор Гризельда плохо представляла реальности борьбы, которую вела рядом с Шауном, преимущественно из-за любви к нему. Шаун испытал поражение в этой борьбе; но она пока ни разу не проиграла. За схваткой у Гринхолла она, наряженная в бальное платье, наблюдала с балкона, воспользовавшись светлой ночью Донегола. Это сражение она воспринимала как своего рода фейерверк… Теперь, после сражения с тиграми и бандой кхмеров, Гризельда хорошо понимала, что такое настоящая схватка… Она словно видела со стороны свое лицо, искаженное яростью, льющуюся вокруг кровь, рваные раны от когтей тигра… Она видела Джонатана, стоящего с ружьем на спине слона, Джонатана яростного, неистового…
Это и было настоящим сражением, схваткой… Неважно, за Ирландию, или за что-нибудь другое. Именно ярость схватки превращала человека в тигра. И эта ярость превратила в тигра Джонатана… И она же могла превратить его в бездыханное тело. Теперь она не могла продолжать подталкивать его к участию в войне с англичанами… Но могла ли вместе с Джонатаном перестать участвовать в борьбе, могли ли они отказаться от движения к цели, поставленной перед ней Шауном, живым или мертвым?
Все смешалось у нее в голове, в ее сердце. Она должна была спокойно обдумать случившееся, оставив его позади, обретя покой и способность трезво мыслить, когда окажется на судне в открытом море.
Было и другое основание покинуть сушу как можно скорее. Оно заключалось в волнении, которое вызывали у нее отношения с принцем Райя. Она вспоминала свое общение с Шауном во время их первых встреч. Сейчас возникло такое же ощущение влечения и одновременно — боязнь потерять свободу. В случае с Шауном она в конце концов сдалась, сдалась с радостью. И ей ни о чем не пришлось жалеть. Но она не хотела повторения… Теперь жаждала остаться свободной перед всем миром…
После охоты, оказавшейся такой страшной, такой кровавой, принц Райя сказал ей поздно вечером в монастыре, что надеется еще раз увидеть ее, прежде чем она покинет Сиам. И Гризельда обещала ему это. Ее должны ждать во дворце послезавтра… Но она решила попросить князя Александра поднять якорь уже завтра.
Когда она оказалась в порту, ее удивила большая толпа на набережной. Из воды извлекали утонувшего европейца. Крупный рыжий мужчина, он был, скорее всего, англичанином. Ей даже почудилось, что она где-то уже видела его, — вероятно, во время церемонии королевских похорон… Но сейчас ее беспокоило другое… Как Гризельда ни всматривалась в заполнившие гавань суда, многочисленные барки и джонки, несколько английских и немецких торговых кораблей, она нигде не находила того, что искала взглядом: яхта «Федор» исчезла.
* * *
Через пару часов после того, как Гризельда отправилась на охоту, князь Александр получил письмо из русского консульства в Бангкоке. Это письмо уже несколько месяцев гонялось за ним по всему свету, каждый раз оказываясь в том месте, которое он уже покинул. Оно было написано его старшим сыном, и в нем говорилось о его внучатном племяннике, студенте московского университета, к великому огорчению его семьи и всей Святой Руси, связавшегося с анархистами. Недавно он бросил бомбу в карету горячо любимого народом царя Николая II! К счастью, он промахнулся, и царь не пострадал, но при покушении погибли три человека. Офицеры, сопровождавшие царя, застрелили на месте юного безумца. Полиция не стала сообщать прессе сведения о преступнике. Таким образом, фамильная честь рода была сохранена. Но для всех членов семьи случившееся стало предметом сильных переживаний и великого стыда.
Прочитав письмо, князь решил немедленно вернуться в Россию. Его подгоняло чувство долга. Он, как старший в семье, хотел немедленно, не теряя ни минуты, упасть на колени перед царем и попросить у него прощения. Он уже и так опаздывал на полгода, а до его возвращения в Россию пройдет еще несколько недель, прежде чем он сможет оказаться перед царем; тем не менее, все решала энергия, с которой он спешил вернуться. Отдав приказ о подготовке судна к выходу в море, он написал большое письмо Гризельде. В письме говорил, что она была и остается великой любовью в его жизни, и объяснял причину своего срочного возвращения на родину. Извиняясь, он просил ее принять скромный подарок.
В качестве подарка прежде всего упоминался небольшой дворец из розового мрамора, который князь успел купить и обеспечить слугами. Кроме того, он оставил Гризельде чемодан, набитый валютой Сиама и фунтами стерлингов, а также портфель из медвежьей шкуры с аккредитивами, которые можно было предъявить в Лондоне, Париже, Берлине и Нью-Йорке. Здесь же находились необходимые документы на русском языке с его вычурной подписью. Следует еще упомянуть шкатулку с драгоценностями и штабель чемоданов с мехами, различными предметами искусства, бутылками водки, саблями и другим оружием для Джонатана. Все это было доставлено в розовый дворец и находилось под наблюдением Молли. Последним подарком оказался Жан О, оставшийся, чтобы продолжать воспитание своего юного ученика; он получил заработную плату за десять лет вперед.
Князь знал, что его поведение могло показаться недостаточно корректным со всех точек зрения; тем не менее, он написал, что не сможет жить, пока не получит от Гризельды письмо, в котором она простила бы его. Князь оставлял для себя надежду когда-нибудь снова увидеть ее. Он тысячу раз целовал ее руки…
«Федор» покинул Бангкок в тот же день, проложив себе дорогу среди множества расцвеченных во все цвета радуги джонок, благодаря которым гавань выглядела яркой цветочной клумбой. В качестве прощального привета он обдал ее дымом с мелкой угольной пылью.
* * *
— У тебя все в порядке? Ты уверена? Полина не ответила. Она только слегка пожала плечами, не повернув головы. Она сидела на плетеном стуле возле окна и смотрела, как на бесконечное поле свеклы, только что выпустившей первые листочки, непрерывно льет дождь. На обочине дороги с полными воды канавами стояла тачка, задравшая свои тощие руки к небу.
Томас целый месяц не посещал жену, и сейчас с ужасом увидел, как она изменилась за сравнительно короткий срок. Огромный живот, раздувший серое платье, которое перешила ей Элен из какого-то старья, расплывшееся лицо, свисающие на плечи наполовину распущенные прядки волос… Казалось, что она уже много дней не причесывалась. Жилье с полным пансионатом нашла для нее Элен с помощью агентства, специализировавшегося на предоставлении кормилиц; кроме того, оно имело в своем распоряжении адреса, куда можно было отправить «для отдыха» нечаянно забеременевших молодых девушек или жен с подозрительно ранней беременностью. Обычно женщины возвращались в город через несколько месяцев, оставив ребенка на воспитание у местной няньки. Гораздо реже они привозили с собой новорожденного неопределенного возраста. Так или иначе, но честь семьи сохранялась.
Именно то, что рождение ребенка ожидалось в апреле, тогда как свадьбу сыграли в октябре, было существенным для Элен. Конечно, никто не мог сопоставить даты, если не считать Леона и сторожей при животных… Но этого было достаточно для возникновения чувства стыда…
Элен сама отвезла Полину в деревню и помогла ей устроиться в комнате на втором этаже большого фермерского дома, прямо над кухней. Стены комнаты были оклеены коричневыми обоями с желтыми цветами, расположенными по прямым линиям как по горизонтали, так и по вертикали. В комнате ничего не было лишнего: деревянная кровать, шкаф, ночной столик, два стула и ведро с водой для гигиенических процедур. Все чистое и ухоженное. Уборкой занималась жена фермера, женщина неопределенного возраста. Кроме трех детей у нее был огромный живот, почти такой же большой, как и у Полины, но он не мешал ей ежедневно мыть пол в комнате квартирантки. Улыбчивая, розовощекая, с волосами, убранными в высокий шиньон, она всегда оставалась жизнерадостной и говорила очень громко, привыкнув иметь дело с детьми и животными. Полина плохо понимала речь жительницы северной части страны и поэтому не всегда отвечала на ее вопросы. Впрочем, хозяйку это не смущало. Она принесла в комнату квартирантки всю библиотеку, имевшуюся на ферме: «Миньону»1и несколько томиков «Пардальянов».
Деревенская акушерка часто появлялась, чтобы осмотреть Полину. Она заметила, что беременная слишком располнела, и посоветовала ей чаще гулять. Она была такой же жизнерадостной и говорила так же громко, как хозяйка. На подбородке у нее размещалось несколько больших бородавок с пучками жестких волос. Крестьяне говорили, что дети, к счастью, рождаются с закрытыми глазами, иначе, увидев лицо акушерки, они тут же кинулись бы назад в то место, откуда только что появились…
Однажды солнечным днем Полина решила выйти на улицу для прогулки. Но не осмелилась пройти через двор, на котором в грязи валялись свиньи. Она вернулась в свою каморку и больше не пыталась гулять. Полина проделывала несколько шагов от постели до окна и обратно, смотрела на одни и те же поля, потом прочитывала несколько страниц из первой попавшейся на глаза книги и тут же забывала прочитанное. На следующий день она начинала читать с той же самой страницы, что и накануне. Поэтому одну книгу могла читать вечно, и у нее не было гарантии, что когда-нибудь доберется до конца. Она существовала вне времени, вне обычной жизни. Немного оживлялась она в обед, когда на ее столе оказывались суп, сосиски, отварной картофель или бобы. У нее всегда был прекрасный аппетит, ей все нравилось, и она обычно с нетерпением ожидала обеда или ужина; других примечательных моментов в ее жизни не было.
После низвержения из шикарного отеля на улице Буа в три комнатушки для горничных в Пасси второй этап унизительного падения добил ее окончательно. Полина пыталась сопротивляться отчаянию с помощью совершенно животной пассивности. Она уже не была живым организмом, в котором зарождалась новая жизнь, а превратилась в нечто вроде автоматически действующей фабрики, о которой можно не заботиться. Она старалась избавиться от слишком болезненных воспоминаний о своей прошлой жизни. В ее сознании возникло все увеличивающееся пламя раздражения, готового перерасти в ненависть. Она не ставила в вину Томасу свою беременность, но не могла простить ему эту ссылку на край света, в одиночество среди полей свеклы и луж со свиньями. С ней обошлись не лучше, чем с каторжниками Кайенне. Полина догадывалась, что Элен наказывала невестку за то, что она обеспечила ее сыну дитя не в положенное время.
Она ждала Томаса каждое воскресенье, но он появился только через месяц. То есть, слишком поздно. Теперь все закончилось… За прошедший час она не сказала ему ни слова. Он пытался оправдываться, пытался объяснить, почему не приехал раньше. Объяснение оказалось не слишком правдоподобным. В субботу после обеда в расписании не оказалось поезда; он едва успевал туда и обратно с воскресным поездом. Глупо было столкнуться с такими хлопотами из-за подобной ерунды.
— Но с тобой все в порядке? Ты здорова? Ты уверена, что все хорошо?
Полина ничего не отвечала. Она смотрела на тачку.
В комнату вошла хозяйка с двумя тарелками, заполненными картошкой с салом. Она прижимала их к своему огромному животу. За ней появилась кошка. Белая кошка тоже была беременной, ее живот едва не волочился по полу. Томас с ужасом увидел перед собой три существа с огромными животами. Он схватил шляпу и молча удалился. Ему нужно было успеть на вокзал к своему поезду.
Полина наблюдала, как Томас уезжал на велосипеде в дождь и туман. Постепенно он становился все меньше и меньше, пока не растворился в тумане среди свекольных полей.
* * *
В это воскресенье сэр Генри решился на визит к Томасу, чтобы познакомиться с его живописью. Он постарался, чтобы его интерес не выглядел главной целью. Застал одну Элен. Обрадовавшись его визиту, она, разумеется, предложила чаю. Он отблагодарил ее комплиментом: обычно у французов такой плохой чай…
— Ваши дети отсутствуют?
— Да, Томас уехал к жене, она сейчас отдыхает в деревне… Видите ли… Возможно, что… В общем, не исключено, что я этим летом стану бабушкой… — Ах, вот как! Замечательно!.. — Как поживает ваша матушка Августа? — Все такая же активная!.. Она продолжает охотиться на лис!.. Кстати, разве Томас… — А остров? Вам известно, кто там живет сейчас? — Не очень… Думаю, никто… Решетка на дамбе остается запертой… Не могу сказать вам, кому он сейчас принадлежит… Кстати, Томас продолжает рисовать? Она удивилась; неужели сэра Генри, человека, занимавшего высокое положение в обществе, могли интересовать подобные пустяки?..
— Как-то он сказал мне, что иногда занимается живописью… Мне хотелось бы взглянуть, что у него получается… Может быть, вы покажете мне парочку его полотен? Что-нибудь из самых последних… Разумеется, я не хотел бы показаться нескромным… Элен с ужасом подумала, что он увидит портреты обнаженной Полины, которыми увешаны стены в голубятне, и сказала…
— Он перестал рисовать. — Совсем перестал? — Да, совсем… Уже давно… Он стал серьезным человеком… Сейчас заботится о своем будущем… В особенности это важно теперь, когда он собирается стать отцом… Мой дорогой Генри, у вас ведь есть связи, не могли бы вы обеспечить ему место в лондонском отделении банка? Вы ведь знаете, какой он умный юноша… Он станет ценным сотрудником… Только в Лондоне он может сделать настоящую карьеру… Еще чаю? — Спасибо, с удовольствием… — Таким образом он стал бы ближе к нашим родным местам… Мы обязательно вернемся туда, рано или поздно… Когда я вспоминаю о Сент-Альбане, мне иногда кажется, что остров разбивается на куски, словно под воздействием какого-то катаклизма, а потом отдельные куски снова объединяются, чтобы восстановить остров… — Чудесный образ… Действительно… — Мы вернемся туда, Генри, можете не сомневаться… — Я и не сомневаюсь, Элен… А у вас нет новостей… Никаких вестей от Гризельды? — Никто не знает, где она сейчас… — Очень странно, очень… И очень жаль… Я подумаю, что можно сделать для Томаса… Вы знаете, эти банкиры не любят принимать во внимание дружеские отношения… Настоящие финансовые акулы!.. Ха-ха-ха! Он посмеялся, потом встал и откланялся. Элен подумала, что отец был прав, когда говорил, что Генри был чудесным ребенком, но с довольно посредственным интеллектом. И он считал, что она, то есть мать Томаса, была весьма скромной женщиной… Может ли сын такой незаметной женщины быть художником?
Когда он ушел, Элен с ужасом подумала, что Генри может попросить Томаса показать ему картины, и Томас вполне способен продемонстрировать ему свою жену обнаженной… Художники не видят обнаженную женщину голой… Для них это всего лишь живопись…
Элен нашла в комнате Томаса все картины, которых насчиталось семнадцать, разрезала их ножницами на куски и сожгла в камине. Они хорошо горели цветным пламенем, образуя пузыри краски на холсте. Но после них оставался неприятный запах, а также жесткая черная масса, и женщине пришлось раздробить ее, чтобы окончательно избавиться от картин. Ей понравилась эта процедура, позволившая очистить комнату сына. Последний месяц она снова жила с одним сыном, к ней частично вернулось почти забытое ощущение счастья. Сжигая образ Полины, она представляла, что прогоняет ее из своей жизни.
Томас вернулся очень поздно, мрачный и неразговорчивый. Она приготовила ему омлет из нескольких яиц и лапшу. Сын был очень голодный. За столом ничего ей не рассказывал.
Она смотрела на Томаса, стоя возле стола. Потом спросила:
— Как там Полина? — Она стала громадиной… Невозможно представить, что женщина может стать такой толстой… Неожиданно он взорвался:
— Ты отправила ее в жуткое место!.. Мне показалось, что не выдержу там ни одного часа!.. Почему ты не оставила ее прямо в куче навоза? Она сухо ответила:
— Разумеется, есть более уютные места… Но за них нужно много платить!.. И раз уж она оказалась в такой сложной ситуации, нужно уметь смиряться с некоторыми неудобствами… Теперь, когда он удовлетворил голод, проснулось его обоняние. Он принюхался, нахмурившись.
— Какой здесь странный запах… Что здесь случилось? Надеюсь, не было пожара? Элен спокойно рассказала, как привела в порядок его комнату, не упоминая про визит сэра Генри. Томас вскочил, его трясло. Сначала с удивлением, потом со страхом она наблюдала, как исказилось его лицо и как его охватила ярость. Он заорал:
— Ты пошла на такое! Чудовищный поступок! Ты не понимаешь? Никогда, никогда, НИКОГДА я не смогу восстановить свои картины! Я никогда не смогу повторить их! Никогда! Сумасшедшая! Чудовище! Он схватил стул и с грохотом обрушил его на стол. Стул разлетелся на части. Его лицо было искажено гневом, в глазах светилось безумие, взъерошенные волосы торчали во все стороны. Элен показалось, что сейчас он убьет ее. Похоже, он сам осознал, что способен на самое страшное. Он немного успокоился и отбросил ножку стула, которую сжимал в руке. Его руки все еще тряслись. Томас провел руками по волосам, потом прижал их к телу, пытаясь успокоить. Теперь он полностью взял себя в руки и стал холодным, как глыба льда. Он сходил на кухню взял с камина эмалевую коробку с надписью «Рис», в которой, как он знал, мать держала деньги. Вернувшись в столовую, он высыпал содержимое коробки на стол перед бледной, оцепеневшей Элен. Теперь дрожь охватила ее. Она ошеломленно следила за сыном, не понимая причин его бешенства, не понимая, что и зачем он делал.
Перед ней на столе лежала кучка луидоров и несколько банкнот. Он взял половину монет и несколько бумажек и сказал:
— Я ухожу. Мы больше никогда не увидимся. И он ушел. Элен слышала, как гремит металлическая лестница под его ногами. Потом хлопнула дверь, выходящая на подвесной мостик, и все стихло.
* * *
Ночью Элен ни на минуту не смогла закрыть глаза. Она отчаянно вслушивалась в тишину: Томас должен был вернуться… Другие варианты невероятны, невозможны… Конечно, он вернется… Прогрохотал фиакр по улице Рейнуар… Он должен был остановиться!.. Нет, он проехал, не останавливаясь… Заскрипел, раскачиваясь, мостик: это он!.. Нет, это был ветер…
Прошла страшная ночь. С дневным светом к ней неожиданно вернулась надежда: конечно, он подошел к дому через парк и теперь давно спал внизу, у Леона. Он не решился подняться к ней, чтобы попросить прощения.
Элен вышла на лестницу и прислушалась. Было слышно, как рано вставший Леон вошел в салон, но ни с кем не заговорил. Она поняла: он не хочет будить Томаса, еще слишком рано, пусть поспит…
Она провела ночь, не раздеваясь, и поэтому могла немедленно спуститься вниз. Услышала голос Леона, низкий, теплый, доброжелательный. Ее сердце подпрыгнуло от радости, и она быстро преодолела последние ступеньки… Оказавшись в салоне, она помертвела: Леон разговаривал с животными…
Без десяти девять она уже ждала на противоположной стороне улицы у банка. До девяти часов в банк один за другим вошли все служащие. В половине десятого Томас так и не появился. Без четверти десять она ушла. В десять часов у нее должен начаться урок. Что бы ни случилось, ей нужно соблюдать обязанности.
Элен вернулась к банку за полчаса до конца рабочего дня. Она видела, как ушли все служащие; последним ушел директор. Потом внутри здания погасли все огни, на улицу вышел сторож и запер двери на все замки.
Может быть, пока она ждала здесь, он уже вернулся домой?
Элен помчалась на велосипеде, едва не разорвав себе сердце, потом, словно безумная, бросилась бежать по мостику. Квартира оказалась пустой и холодной. Все еще чувствовался запах сожженных картин.
Она села в столовой, не зажигая лампы. Через окно в комнату вливался серый, постепенно слабевший свет, и предметы в комнате виделись все менее отчетливо. На полу валялись обломки стула. Опрокинутая коробка с надписью «Рис» все еще лежала на столе, и перед ее открытой пастью по-прежнему были разбросаны деньги.
Съежившаяся на стуле небольшая темная тень оставалась неподвижной в сгущавшейся темноте. Дойдя до дна своего несчастья, Элен пыталась понять, что же она сделала, чтобы вызвать такую ярость сына. Наверное, все началось в тот вечер, когда они с мужем покинули Сент-Альбан, в кошмарную брачную ночь… Она вздрогнула. Но, по крайней мере, благодаря этой ночи на свет появился Томас… Вчера Томас ушел, обругав ее, и теперь в ее жизни больше ничего не могло произойти, ничего… Серый свет сменился темнотой. Все вокруг стало черным. Элен не шевелилась. Она спала сидя, раздавленная усталостью и горем, черный силуэт в черноте ночи.
* * *
Почему он так разозлился? Почему ушел? Элен не могла понять, какое отчаяние вызывает у творца уничтожение его творений, каждое из которых уникально и не может быть повторено. Конечно, он может расстаться со своими произведениями, но при этом знает, что они будут жить и без него. Он даже может сам уничтожить свои работы, если, двигаясь дальше по творческому пути, найдет их неудачными, несовершенными. Но знание того, что его картины с еще не просохшей краской были разорваны и сожжены и что он никогда не сможет повторить их, так как с каждым днем становится иным, более зрелым, более опытным, причинило Томасу боль, сравнимую только со страданием матери, на глазах у которой убивают ее ребенка. И нужно еще учитывать, что художник является одновременно отцом и матерью картины — отцом по сознанию, позволившему задумать произведение, а матерью благодаря рукам, с помощью которых осуществилось рождение задуманного.
Элен могла представить только одну причину, заставившую Томаса с такой яростью реагировать на гибель своих картин; она была уверена, что этой причиной было то, что на них изображалась Полина. Она оскорбила Полину, и этого он не мог ей простить. Таким образом, эта мерзкая особа продолжала причинять ей вред, даже находясь вдали. В конце концов, она добилась того, что Элен потеряла сына.
Но теперь она знала, где он находится, — возле нее! Он кинулся к ней, и теперь, возможно, увезет ее куда-нибудь в другое место… Нет, это невозможно в ее состоянии… Она может родить ребенка в любой момент… Сейчас они находятся вдвоем на ферме; ради нее, ради этой бесстыжей девки он бросил работу, погубил свое будущее, оскорбил мать… И как они собираются жить дальше, не имея средств к существованию? Он сошел с ума… И в этом виновата Полина…
Элен потребовался целый день, чтобы отказаться от уроков на ближайшую неделю. Она приготовила две сумки — одну с вещами Томаса, так как он не взял с собой ничего — ни рубашки, ни даже носового платка. Во второй тоже находились вещи Томаса, которые он носил, когда был младенцем. Господи, ей казалось, что это было вчера… Она забрала всю одежду малыша, когда уходила от мужа. Как оказалось, она поступила весьма предусмотрительно… Теперь эти вещи окажутся весьма кстати…
В ожидании рождения своего ребенка она приготовила множество восхитительных мелочей… Пеленки из шерсти мериноса и из нежнейшего египетского хлопка, кукольные рубашки из батиста, такого тонкого, что он казался совершенно прозрачным, слюнявчики с вышитыми на них листочками ирландского трилистника, небольшие белые чепчики с кружевной оторочкой, подгузники, распашонки и даже шпильки для волос кормилицы…
Она найдет своего сына и своего внука и вернется с ними домой. Полина поедет с ними, если захочет… Но бывает, что женщины умирают во время родов, особенно в деревенской глуши…
Ей стало стыдно при этой мысли, но Элен не могла избавиться от нее. Конечно, она не желала ей этого, нет, ни в коем случае… Но подобное вполне могло случиться, ведь так случалось очень и очень часто …
* * *
Все пространство было затянуто тонкой завесой тумана, легкого и белого, словно платье новобрачной. Весеннее солнце пробивалось сквозь туман, освещая все, до чего дотягивались его лучи, даже черное платье и черную шляпу Элен, выглядевшие более светлыми, чем в действительности; даже темный велосипед казался в его лучах не столько черным, сколько тенью белого. Поднятые оглобли повозки влажно блестели, и металлические детали на их концах сверкали над тонким слоем тумана, становившимся все более тонким и прозрачным благодаря солнцу.
Когда Элен вошла во двор, она услышала крики. Эти крики всегда узнает любая женщина. И это кричала Полина, а не фермерша, Элен не могла ошибиться. Она появилась в нужный момент. Томас будет доволен. У нее потеплело на сердце. Так захотел Всевышний.
В камине на первом этаже пылал огонь. Фермерша развернула на длинном столе скатерть. На полу возле стола стоял большой таз с горячей водой. На скатерти она разложила множество идеально чистых и хорошо проглаженных полотенец, достаточно мягких для нежной кожи только что появившегося на свет ребенка.
Фермерша радостно встретила Элен. Гостья появилась так вовремя! Хозяйка недавно отправила мужа и детей в деревню к своей сестре. Акушерка уже пришла и находилась наверху возле Полины. Ребенок должен был родиться в самое ближайшее время… С Полиной все шло нормально, но с первым ребенком женщина всегда тревожится сильнее… «У меня этот будет четвертым», — с гордостью заявила фермерша.
Послышался крик, более пронзительный, чем предыдущие, потом все стихло.
— Мне нужно подняться наверх, — сказала фермерша. Не успела она шагнуть к лестнице, как послышался детский плач. — Вот и все! Все в порядке! Поздравляю, вы стали бабушкой! Присядьте здесь… Взволнованная Элен села возле подготовленного для ребенка стола. Но где же тогда…
— А где отец? — спросила она у хозяйки, поднимавшейся по лестнице со скрипевшими под ее тяжестью ступеньками. — Отец? — с недоумением обернулась та. — Да, где мой сын, отец ребенка? — Муж дамы? — Да, я спрашиваю именно о нем! — Его здесь нет… Он приезжал сюда в воскресенье и очень быстро уехал. Он даже не стал обедать с нами…
Элен оцепенела. Томаса не было возле Полины… Но тогда… Где же он?
У нее не было времени терзаться вопросами. Сверху спустилась фермерша, прижимая к своему огромному животу и теплой груди маленький белый сверток, из которого раздавалось попискивание. Элен вскочила.
— Это девочка! — воскликнула фермерша. — Какое замечательное дитя! Она положила ребенка на стол и развернула сверток, в котором лежало розовое дитя, болтавшее короткими ножками и пытавшееся тереть сморщенное личико сжатыми кулачками.
Элен почувствовала, что у нее подгибаются ноги, и была вынуждена сесть. Господи, это же была копия Джона! То есть Томаса! Именно таким он появился на свет… То же личико, тот же розовый цвет… И даже возле пупка точно такая же родинка… Только у Джона она была справа, а у девочки слева…
Фермерша опустила ребенка в тазик и принялась обмывать его, осторожно, как это делают матери, держа одну руку под головкой ребенка.
— Акушерка сейчас приводит в порядок роженицу… У нее небольшое кровотечение, но это мелочи, ничего серьезного… Так было и с моим первым ребенком… Кстати, как вы собираетесь назвать эту прелесть? Элен об этом не подумала… Она была уверена, что будет мальчик… Тогда она назвала бы его Джонатаном, в соответствии с семейной традицией. За Джоном всегда следует Джонатан, за Джонатаном Джон… А тут, оказывается, девочка…
Она сидела возле окна, за которым солнце продолжало рвать на клочья туман. Небо было молочного цвета.
— Думаю, ее можно назвать Бланш, — промолвила она. — Если отец не станет возражать… Со двора заявилась белая кошка, проникнув через кошачий лаз. Она держала в зубах только что родившегося котенка, голого, словно червяк. Крики в доме напугали ее, и она разродилась на соломе в хлеву. Теперь успокоилась и вернулась в дом. Уложив котенка в специально приготовленный для нее ящик с тряпками, она вышла за следующим.
Элен открыла сумку с детскими вещами и принялась помогать фермерше одевать ребенка. Закончив, она взяла на руки маленькое нежное существо и принялась медленно, осторожно баюкать его в колыбельке из своих рук, прижав дитя к груди, закрытой черным платьем.
* * *
Горизонт на картине, казалось, достигал пределов пространства; выше всего устремлялось бурное небо, серое с зеленым. На море весь свет сбежался в тонкую рваную линию, на которой едва виднелся миниатюрный белый парус. На первом плане протянулся рыжеватый пляж со стоящими на песке отдыхающими, пока только намеченными, и с лежавшей на животе, засунув руки по локоть в кучу красного песка, девочкой в лиловом платье, обшитой белыми крылышками кружев шапочке, черных чулках и туфлях с острыми носами.
Сэр Генри посмотрел на настоящее небо, на котором собиралась разразиться гроза с ливнем, громом и молнией, и на совершенно пустой пляж. Художник стоял к нему спиной. Он трудился над первым планом своей картины, разбрасывая по полотну красные, желтые, белые и бледно-розовые пятна. Контраст между трагичностью моря и неба и сияющим весельем первого плана заставил сэра Генри поморщиться. У художника, несомненно, имелся талант, но ему явно недоставало уравновешенности. Ему стоило еще многому научиться. Рисовать и рисовать без отдыха… Он сидел на ящике; мольберт воткнул перед собой в песок. Городской костюм на нем выглядел измятым и грязным, на голову он нахлобучил большую крестьянскую шляпу из потемневшей соломы, грязную и потрепанную.
Сэр Генри осторожно шагнул вбок, чтобы разглядеть лицо художника, и узнал в нем Томаса, несмотря на сглаживавшую его черты бородку. Он попятился и тихонько удалился; не хотел общаться с Томасом, не обдумав как следует разговор с ним. Он знал от господина Виндона, что Томас ушел из банка, никого не предупредив, и что его мать не смогла или не захотела сказать, где его можно найти. В том, что он оказался в Трувиле, не было, по сути, ничего удивительного. Он уже был здесь раньше и почувствовал вкус света, что было настоящей приманкой для художника. А Томас был художником, несмотря на то, что говорила о нем Элен, эта милая приятная старушка… Впрочем, не такая уж и старушка… Сколько ей могло быть лет? Сэр Генри не представлял этого.
Где он жил? И на что? Несмотря на бородку, было заметно, что он сильно похудел. И необходимые ему краски стоили достаточно дорого… Скоро начинался дачный сезон, и сэр Генри хотел привести в порядок свой дом до того, как в нем начнут появляться друзья. Он вполне мог встретить Томаса случайно… И предложить ему поселиться в одной из комнат… Но ему ни в коем случае не стоило вмешиваться в проблемы Томаса!.. Ему достаточно было иметь крышу над головой и еду… Он мог даже заплатить за картину, нарисованную в прошлом году… Конечно, скромную сумму… Художникам нельзя давать слишком много денег, иначе они решат, что достигли совершенства, и превратятся в свои бесплодные копии… Кроме того, не исключено, что эта картина ничего не стоила… Но ему нужно дать денег хотя бы потому, что он, как-никак, был родственником… Он рисует что-то интересное, но его картины смущают… Но все равно это любопытно, очень любопытно…
Через пару недель Томас обосновался на вилле. Он отказался от предложенной ему комнаты и предпочел заброшенную, никем не занятую кладовку, над которой находилась мансарда, где давно перестал спать кучер. Небольшое окно над его постелью и широкая дверь не препятствовали входить к нему небу и морю.
Он потребовал, чтобы кузен никому не говорил о нем, в особенности матери и господину Виндону. Генри пообещал молчать.
Все лето Томас рисовал, рисовал без перерыва. Иногда он рисовал, стоя лицом к горизонту, иногда поворачиваясь к нему спиной. Всегда в своей старой шляпе. Где он ее раздобыл? В дождливые дни, в бурю, в сильный ветер он устраивался в комнате перед открытой дверью и набрасывал одну картину за другой. Почти на каждом полотне можно было видеть жизнерадостную девочку в розовом, иногда в желтом или красном платье, всегда в черных чулках, лодочках с острыми носками и в кружевной шапочке, похожей на фантастический цветок.
Сэр Генри обеспечивал Томаса полотнами и красками, навещая время от времени, но старался не касаться в разговоре его семьи и живописи. Он всматривался в его картины, всегда чувствуя растерянность, разрываясь между безумным восхищением и состоянием шока, хотя и не представлял почему.
Томас ни с кем не разговаривал, кроме своего кузена, с которым обычно обменивался несколькими короткими фразами. Он никогда не спрашивал Генри, что тот думает о его картинах. Занимался живописью, потому что ему это было интересно. Его можно было сравнить с потоком, который не интересуется, что думает о нем рыбак, удящий в нем форель.
Разговаривал Томас также с кухаркой. Он мог появиться на кухне в любое время и съесть все, что там оказывалось съедобного. Кухарка находила его красавчиком и откладывала для него огромные ломти жаркого и большие куски торта. Эта большая нормандка пятидесяти лет ждала его весь день. Когда он появлялся, ей казалось, что к ней пришел большой дуб из сказочного леса. Он улыбался ей, и его бородатое лицо светилось, словно в лучах солнца. Он глубоко вздыхал, довольный и расслабленный; кухарка наливала ему стакан вина, а потом он принимался за еду с аппетитом — такой аппетит мог быть у дерева, если бы деревья умели есть. Уходя, он забирал с собой бутылку.
В день, когда дул сильный западный ветер, девочка на его картине была в белом платье, без чулок и босиком. Она стояла на груде песка, держа в руке кружевную шапочку, и приветственно махала несущимся над ней облакам. Коротко подстриженные волосы, взъерошенные ветром, цветом напоминали золото, а над ее лбом торчал небольшой винтообразно закрученный рог, цветом не отличавшийся от кожи. Буря, море и песок были голубого цвета.
Сезон отпусков заканчивался, и даже самые упорные отдыхающие разъехались. Сэр Генри, остававшийся целую неделю в Париже, вернулся, чтобы закрыть виллу. Он не нашел Томаса ни в его ателье-кладовке, ни в небольшой комнате этажом выше. Пустой мольберт стоял, прислоненный к двери. В колючих зарослях, в которых не осталось ни одной розы, сэр Генри нашел картину в голубых тонах с девочкой-единорогом. В нижней части картины Томас написал крупными белыми буквами свой девиз, бывший также девизом его кузена: Я ВЕРНУСЬ. Потом он зачеркнул слово и попытался замазать его черной краской. Было похоже, что он пинал картину ногами, перед тем как выбросить ее.
Сам Томас лежал в огороде между последними побегами салата. Рядом с ним валялась пустая бутылка. Множество пустых бутылок сэр Генри нашел в кладовке.
Сэр Генри спрятался на вилле от дождя, надвигавшего с моря, словно серый занавес. Он надеялся, что дождь приведет Томаса в чувство. На следующий день он смог повидаться с ним. Томас рисовал лифт, уносивший в потолок половинку голой нимфы. Основание лифта обнимал медведь. Маленькая девочка спала на соломе в корзине вместе со змеями.
Действительно, он не знал, что и думать о картинах кузена. Были они безумием или гениальными творениями? В отличие от предыдущих сезонов, в этом году он не приглашал Томаса в Трувиль. Это вызвало недоумение у торговца картинами… Тем не менее, он должен был показать ему работы Томаса… Так трудно составить самостоятельное мнение о них, дать им оценку…
— Томас, — сказал Генри, — я не хочу показаться нескромным, но что вы собираетесь делать теперь?.. Я имею в виду… Мне нужно запереть виллу… Конечно, если вам нужно работать здесь, можете остаться, я отдам вам ключи… Но Трувиль осенью, как вы знаете… Похоже, что сюда добираются классические английские дожди… Томас продолжал работать, не отвечая ему.
— Если хотите вернуться в Париж, чтобы работать там… Конечно, я понимаю, что банк вас не привлекает, я давно догадывался об этом… Но я подумал о своем давнишнем приятеле, господине Монтеле, он директор иллюстрированного выпуска «Матэн». Знаете, это отвратительные небольшие брошюрки, выходящие еженедельно, в них публикуются рассказы о происшествиях. Каждый выпуск имеет цветную иллюстрацию на обложке. На этих картинках можно увидеть женщину, зарезанную мужем, полицейских, стреляющих в бандитов, бешеного пса, уносящего в зубах младенца… В общем, множество других очаровательных вещей… У моего приятеля работает целая команда художников, но он постоянно ищет им замену, чтобы разнообразить стиль своих обложек… Уверен, если я скажу ему про вас… Может, это вас заинтересует? Мне кажется, такая деятельность вполне соответствует вашему драматическому темпераменту… Охота за новостями, деятельность журналиста, это ведь очень интересно, не так ли? И у вас будет оставаться время на картины… — «Матэн»? — переспросил Томас, повернувшись к Генри. — Да, иллюстрированное издание газеты! И потом, вы уж меня простите, что позволяю себе… Но мы, в конце концов, родственники… Если я верно понял вашу матушку… Несколько месяцев назад она сказала мне, что этим летом вы должны стать отцом… А так как лето уже прошло… Вы не хотите узнать? И, наверное, вы хотите увидеть… Томас швырнул на пол кисть и заорал:
— Да! Хочу! Но я не могу! Вот и все! Пусть они сами выпутываются из того, во что встряли! И что я представляю для моей матери или для моей жены? Какое значение для женщин имеет мужчина, то, что он делает, что он хочет делать, что у него в голове? Никакого! Никакого! Никакого! Так что пусть они разбираются во всем без меня! Томас был на голову выше своего кузена. Он вытер о свою куртку руки, выпачканные в краске, и отправился в кладовку. Генри пошел за ним.
— Я понимаю вас… Отношения с женами и матерями… Все это крайне деликатно, крайне… У меня тоже есть мать… Это что-то… Но я обожаю ее… Разумеется, потому, что постоянно нахожусь вдали от нее… Вам нужно как-нибудь заглянуть в Гринхолл, познакомиться с ней… Да, вот вам ключ от этой кладовки… Если соберетесь уехать… Неважно, куда и когда… Вы можете оставить свои картины здесь, они никуда не денутся, здесь всегда сухо, несмотря на все дожди… Вернетесь, когда захотите… Кстати, вы не согласитесь продать мне девочку в фиолетовом?.. И эту, в желтом… Нет, лучше эту, в розовом… Господи, мне хочется приобрести все эти картины!.. Конечно, если вы сделаете мне скидку… Ха-ха-ха!
* * *
Томас встретился с Леоном в парке, недалеко от дома. Обогнав случайного прохожего, он оглянулся и узнал его.
Он рявкнул:
— Бородач! Они обнялись и долго хлопали друг друга по спине, их бороды смешались. Загудела земля, с деревьев посыпались листья. К ним мчался Цезарь, ревевший от радости. После наводнения Леон позволял ему свободно бродить по парку. Цезарь осторожно снял у Томаса с головы шляпу-канотье и сжевал ее. Она захрустела, словно гренка. Его третий бивень был короче, чем два других. Он торчал в небо справа от правого из них.
— Разбойник! — воскликнул Томас. — Что, Леон тебя не кормит? И он стукнул кулаком слона по хоботу. В восторге от этой ласки, Цезарь наклонил голову, чтобы ему почесали за ухом.
— Хватит, хватит, — остановил его Леон. — Иди к себе в стойло! Цезарь ушел, помахивая хвостом, чтобы показать, что он сам захотел уйти. Леон, сияющий от счастья, смотрел на юношу, ставшего мужчиной, которого уже не надеялся увидеть.
— Ну, бродяга! — сказал он. — Так вот исчезнуть!.. Ладно, неважно, ты же вернулся… Но ты здорово похож на меня! Особенно с этой бородой! Я не удивляюсь, всегда думал, что я твой отец!.. — Конечно, ты мой отец! У меня нет другого отца, кроме тебя! — Тогда буду твоим дедом!.. Ну, в этом случае я имею право поцеловать тебя, мое сокровище, мое чудо!.. Да, твоя мать не позволяет мне показываться ей на глаза, поднимись скорее наверх, она такая несчастная… — Ты не знаешь, что она мне сделала… — Я не хочу ничего знать… Она твоя мать… — Представь, она разрезала на куски Тридцать первого и сожгла его в камине!.. Он оставил озадаченного Леона и вошел в дом. Получив деньги за картины, проданные Генри, Томас купил крестьянский костюм из коричневого бархата, шляпу, которую съел Цезарь, рубашку в белые и красные квадраты, а вместо галстука, необходимого, чтобы предстать перед матерью, он нацепил черный шнурок.
Элен увидела сына из окна. Наступил день, в который она уже не верила, наступил момент… Наконец-то!
Она заметалась по трем комнатам, хватая то один, то другой предмет, тут же бросая их, садилась, вскакивала, открывала дверь на лестницу, закрывала ее, не представляла, как вести себя… Ждать его на лестнице? В столовой? Встретить его одной? Или с Бланш?
Она бросилась к окну: сына не было возле Леона, значит, он уже вошел в дом, поднимался по лестнице. Перепуганная, она ухватилась за решение, принятое давно, когда тысячу раз представляла его возвращение… Ледяное спокойствие… Ничего не говорить… Подождать, пока Томас не извинится…
Он приближался… Поднялся на площадку… Его ботинки создают такой шум… Но вот его топот прекратился…
Элен резко распахнула дверь. Они застыли, глядя друг на друга. Томас плохо видел мать из-за падавшего из-за ее спины света. Элен хорошо видела его, его новое лицо, светившееся благодаря короткой юношеской бородке. Она почувствовала жар в груди, он хорошо выглядел, его глаза блестели… Он был готов засмеяться… Он был рад своему возвращению!..
Элен сказала:
— Ты странно одет!.. У тебя все в порядке? — Все хорошо… Как ты? — У меня все в порядке… Она шагнула в сторону, чтобы Томас смог войти. Он радостно улыбнулся, увидев семейные портреты на стенах. Его взгляд обежал комнату и вернулся к матери.
— А где Полина?.. И где мой сын? — Леон не сказал тебе?.. По его лицу прокатилась волна тревоги. Он заволновался. — В чем дело? Она мягко сказала: — У тебя дочь… — Дочь? Томас был потрясен. Такую возможность он не предвидел. — Это твой портрет! Она выглядит, как ты в этом возрасте!.. Это ты, ТЫ! Идем! Он прошел за матерью. Элен осторожно открыла дверь в свою комнату. В сумрачной из-за задвинутых штор комнате с темными обоями возле окна светился небольшой пятачок: детская кроватка с выкрашенными белой краской металлическими прутьями и завитушками. На белой постели маленькое белое с розовым существо с короткими светлыми волосиками, сразу же начавшее что-то лепетать и шевелить ручками, едва услышало голос бабушки.
— Бланш, моя Белоснежка, моя птичка, мой золотой цыпленочек… Бланш отвечала бабушке на своем птичьем языке, пуская пузыри и улыбаясь наклонившейся над ней Элен. Длинное одеяльце закрывало ее с ногами и было закреплено большой английской булавкой. Надежная защита от сквозняков. Элен взяла девочку на руки и протянула ее Томасу с гордостью, словно это она обеспечила появление ребенка на свет.
— Держи свою дочь! Растерянный Томас осторожно взял ребенка своими большими ладонями. Ребенок показался ему невероятно хрупким. С ним нужно было обращаться крайне осторожно, не уронить его, следить, с какой стороны у него голова, чтобы невзначай не перевернуть… Где же инструкция по обращению с ребенком? Какой он теплый!.. Пахнет лавандой и… Да, Господи, немного… Пахнет этим… Она, кажется… Да, она мокрая!
Держать ее на руках было неудобно и немного противно. Похоже, что ее место было отнюдь не на руках у мужчины… Такое нежное существо… Достаточно легкого движения… Надавить… Повернуть… Нежное создание, такое беззащитное, такое доверчивое… Но это же его дочь!
Ошеломленный бурей эмоций, он наклонился к ребенку, чтобы поцеловать его. Ребенок завопил, словно его облили кипятком.
— Тихо, тихо… Мама, в чем дело?.. Что с ней? Он попытался баюкать ее. Элен поспешно забрала ребенка. — Она же не знакома с тобой!.. Ты напугал ее своей кошмарной бородой… Тебе нужно сбрить бороду!.. Я сейчас перепеленаю ее… Скоро придет кормилица… Это жена сторожа, у нее ребенок родился через две недели после Бланш… К счастью, у нее много молока… У Полины почти нет молока, она не смогла бы долго кормить ее…
— Но где она? — Кто? — Полина! — Она пошла по делам… — Что за дела у нее? — Ну… Сейчас в Париже ее отец. Они часто встречаются… В ее голосе откровенно звучало: «Это не имеет никакого значения. Совершенно не имеет значения, что делает Полина…» Она не появилась даже к обеду. Бланш, проглотившая со смехом и пусканием пузырей питательную смесь молока с мукой, спала. Элен села за стол рядом с Томасом. Они пообедали, разговаривая о всяких пустяках. Ни она, ни он не могли выбросить из головы сцену расставания. Пожалуй, еще рано было говорить, что Томас вернулся…
Его взгляд остановился на висевшей на стене напротив акварели в тонкой черной рамке, размером немного больше открытки. Удивленный, он встал, снял ее со стены и подошел к лампе, чтобы лучше рассмотреть.
— Как интересно!.. Когда ты повесила ее сюда? — Она всегда висела на этом месте. С момента нашего переселения сюда… Неужели не помнишь? — Нет… Совершенно ничего не помню… Что за трюк выкинула его память? На акварели была изображена маленькая девочка в лиловом платье, кружевной шапочке, черных чулках и остроносых туфельках… На миниатюрном песчаном пляже, на берегу солнечного моря. В уголке, справа внизу, две скромные буквы: ЭГ.
— Кто ее нарисовал? — Мама… Моя мама, твоя бабушка… Это небольшой пляжик на острове Сент-Альбан… На него можно было попасть только во время отлива… И очень ненадолго… — Ты знаешь, она была очень талантлива!.. Посмотри, как она поместила огромное море в маленькую открытку!.. — Это океан!.. — Тем более, океан!.. Взволнованный и почему-то встревоженный, он продолжал всматриваться в ребенка, которого так часто изображал на своих картинах, уверенный, что придумал его. А теперь он нашел его. Девочка стояла с поднятыми руками и смеялась; казалось, она хотела поймать пролетавшую мимо чайку или полететь за ней. Крылья ее шапочки взлетали, ее руки терялись в небе, ее ноги уже расстались с землей… Она была воплощением порыва, легкости, веселья.
— А девочка — кто она? — Это я, — ответила Элен. В это невозможно было поверить… Но он сразу же поверил. Правда, ему пришлось представить, сколько накопилось с той поры трудного опыта, непрерывной горечи, сколько усталости от постоянной борьбы накопилось у этой девочки, чтобы лучащийся счастьем ребенок превратился в черную женщину, которую он всегда видел рядом.
Он взял худую и жесткую руку матери обеими руками и поднес ее к губам. Потом тихо сказал:
— Я надеюсь, что ты простила меня… Она высвободила руку и опустила ее ему на голову.
* * *
Полина вернулась домой около часа ночи. Элен услышала ее шаги и приподнялась на локте, чтобы ничего не упустить…
«Так… Она открыла дверь чулана… Положила одежду на свою кровать… Нет, побросала все, как обычно… Она выходит… идет к своей комнате… Ах!.. Остановилась…»
Полина заметила свет под дверью и на мгновение остановилась. Потом повернула ручку, бесшумно открыла дверь…
Томас спал, совершенно обнаженный, под простыней, прикрывавшей ему только ноги до середины бедер.
Первым побуждением Полины было уйти спать в чулан.
Он выхватил ее из ее мира и вбросил в свой мир, он отправил ее в ссылку в дождь и грязь, он бросил с новорожденным и оставил ее Элен, ненавидевшей Полину… А теперь вернулся и спокойно занял почти все место в ее постели…
Сколько месяцев она думала о нем и ненавидела его с каждым днем все сильнее и сильнее…
Но как он прекрасен!.. Это же ее муж… В ее жизни других мужчин не было… Она закрыла дверь за собой. И начала стягивать перчатки.
Элен улеглась в постель. Больше не хотела ничего слышать.
Томаса разбудил запах духов. Это не аромат вербены для подростков, а духи взрослой женщины «Дольче миа» Риго. Поль де Ром подарил их сегодня днем своей дочери. Она сбрызнула ими себя во время обеда с друзьями отца и вечером, когда станцевала несколько танцев в Зимнем павильоне. Запах духов вместе с запахом Полины заполнил комнату. Дыхание Томаса изменилось. Он открыл глаза и резко сел. Ему показалось, что он видит сон.
Жена была в лиловом платье. Под нижним краем платья виднелись небольшие черные туфельки с острыми носами. А на голове покоилась лиловая шляпка, и от нее в стороны расходились два белых кружевных крылышка…
— Полина? Где ты была? Она спокойно ответила, вытаскивая булавки из своей шляпки: — А ты? Бросила шляпку на стул, повернулась к зеркалу, вытащила последние булавки и помотала головой. Волосы волной разлетелись вокруг головы. Она принялась расстегивать платье, на котором пуговицы располагались спереди. По мере того как жена раздевалась, Томас забывал появление лилового цвета, вырвавшего его из сна, чтобы втянуть в совершенно нереальную ситуацию. Теперь она была вся белая, но постепенно освобождалась от него, окрашиваясь в розовое.
Он видел Полину со спины, но в зеркале она стояла к нему лицом. Сначала появились округлые бледные плечи, потом великолепные груди, напомнившие ему весенний месяц в последней четверти, потом длинные ноги… Счастливо улыбаясь, он узнавал ее по частям, но теперь она была более зрелой и прекрасной… Но ей было только восемнадцать… А он недавно достиг возраста в двадцать один год. Все прошлое было неправдой… Время обманывало его… Он видел залитый светом зал их первой встречи где-то очень далеко, в глубине веков…
Ее одежды разлетелись веером вокруг ее ног.
Полина повернулась к нему и на мгновение застыла, чтобы у Томаса хватило времени увидеть и пожелать ее. Потом прикрыла небольшой ладошкой низ живота, перешагнула одежду и приблизилась к нему.
Раздеваясь, она безостановочно думала только одно: «Господи, хоть бы только он не сделал мне еще одного ребенка». Потом больше ни о чем не думала.
Часть третья
В левом углу редакционного зала газеты «Матэн» стоял стол, придвинутый к окну так, чтобы максимально использовать дневное освещение. Ночью его заливал свет трех сильных электрических лампочек. Стол предназначался для художников, работавших над иллюстрированным выпуском газеты. Именно здесь Томас проводил почти все время. Приступая к работе, он думал, что будет много времени бродить по улицам, чтобы лично наблюдать за трагическими событиями. Но быстро понял, что ему придется придумывать их. Действительно, как можно предугадать, где произойдет преступление или несчастный случай?
Прибывшие на место происшествия репортеры расспрашивали свидетелей и полицейских. Эта информация представляла некоторый интерес для художников. Они работали за своим столом, используя материалы журналистов и фотографии, если они имелись. Иногда посещали место происшествия, чтобы познакомиться с обстановкой. Так поступил, к примеру, Томас в случае с «кровавым мясником» Жаденом. Этот убийца с нежным сердцем в припадке ревности убил свою жену, сидевшую за кассой возле кадки с зеленым деревцем, использовав большой нож, которым только что разделывал барана. Потом покончил с собой с помощью этого же инструмента. Все произошло на глазах у пожилой дамы, покупавшей фарш для котлет и немного мясных обрезков для кота.
Когда Томас приехал к лавке, он увидел только зеленое деревце и заднюю часть висевшего на крюке барана. Его короткий хвостик торчал к потолку, словно перевернутая вверх ногами запятая.
Он использовал увиденное в качестве основных элементов своей композиции: на первом плане справа сверху изобразил розовую заднюю часть барана, объект понятный, всем хорошо знакомый и немного неприличный; на заднем плане нарисовал деревце, превратив его в достаточно большое дерево. Между этими предметами и разыгралась драма. Женщина, показанная вскочившей со стула, была убита ножом и падала, прижав руки к окровавленной груди, тогда как мясник с лицом, искаженным отчаянием, вонзал обеими руками огромный нож в свою грудь.
Работа Томаса понравилась как издателю, так и читателям иллюстрированного выпуска газеты. Заинтересовавшийся сэр Генри выпросил оригинал картинки у своего друга Монтеля, поблагодарившего его за то, что прислал к нему такого способного парня.
Кроме Томаса над иллюстрациями работали еще два художника — толстяк Фабр, хотя и набравший сто десять килограммов, но крайне подвижный, постоянно громко говоривший и потевший, способный сделать иллюстрацию на первую страницу за четверть часа, и Бето, получивший прозвище из-за сходства с сильно помятым Бетховеном. К тому же, никому не удавалось правильно произносить его настоящее имя, так как он происходил из какой-то страны Центральной Европы. Он повсюду разбрасывал окурки, краски и карандаши. Если был в меру нализавшимся, у него получались гениальные иллюстрации. Но стоило ему выпить лишний стакан — и с иллюстрациями было покончено. К сожалению, он пил все, что содержало градусы.
Томас вместе с Фабром и Бето образовали прекрасную команду. Они хорошо ладили друг с другом. За столом обычно работал один из них, реже двое. Четко соблюдали очередность. Монтель в конце концов перестал раздумывать над тем, кто из троих рисовал лучше. Они читали заметки репортеров, телеграммы корреспондентов, делали наброски, показывали их редактору, потом останавливались на наиболее перспективном варианте и доводили его до ума. До последнего момента они не знали, на каком рисунке остановился окончательный выбор редактора.
Художники работали исключительно с незначительными происшествиями. С происшествиями, связанными с преступлениями, но достаточно мелкими. События большого значения не интересовали читателей газеты. Тем не менее, в редакционном зале газеты, куда поступали последние новости, бурлил весь мир. Оставив банк ради работы в газете, Томас окунулся с головой в текущие события, в той или иной степени имевшие значение для истории, о которых никогда раньше не имел представления. Он жадно глотал непрерывно поступавшую информацию о перемещениях стран и народов на мировой шахматной доске, и они казались ему медленными потоками лавы, то и дело уничтожавшими поля, селения и людей. Во главе этих потоков суетились марионетки, считавшие, что они управляют ими. Кайзер, из вежливости наряженный в форму русского генерала, принимал царя, нахлобучившего остроконечный немецкий шлем. Король Италии надевал мохнатую папаху, чтобы пообщаться с английским королем, одетым в форму берсальеров с перьями на шляпе. Президенты принимали участие в безумном балете, нарядившись в рединготы и цилиндры. Они походили на подвыпивших и отставших от похоронной процессии могильщиков.
Независимо от своих нарядов, ярких или мрачных, они тащили за собой вериги договоров и союзов, перемещали армии и армады военных кораблей, заглушавших грохотом их бессмысленный лепет. На каждом углу их поджидали убийцы, одурманенные политикой или наркотиками. Итальянский анархист стрелял в итальянского короля и промахивался. Русский анархист стрелял в царя и убивал министра. Французский анархист грабил банки, убивая кассиров и полицейских. Он применял для этого толькотолько появившиеся автомобили, пользуясь неимоверно ускорившимися темпами научного и технического прогресса, оставившего позади обломки прежней жизни.
Во Франции продавалось около пятидесяти моделей автомобилей. Демонстрации летающих устройств интересовали публику больше, чем знаменитые скачки. Кораблестроители Англии и Франции спроектировали два самых громадных трансатлантических лайнера; их строительство велось круглосуточно, и каждая страна старалась спустить великана на воду раньше, чем это сделают соперники. Первый из них, кто сможет совершить рейс из Европы в Нью-Йорк, должен был привлечь тысячи богатых и высокопоставленных пассажиров, жаждавших пересечь Атлантику в танцевальных залах при свете электрических люстр.
На Эйфелеву башню водрузили гигантскую, похожую на паутину, антенну, чтобы обеспечить беспроводную связь хотя бы с Лондоном. Знаменитый русский балет прибыл в Париж для очередного прогремевшего славой сезона.
В Англии, Франции, Германии и Японии каждый день спускали на воду новые броненосцы, подводные лодки, крейсера и торпедные катера — носителей все более и более мощных средств разрушения. В сухопутных армиях появлялись подразделения набиравшей силу авиации. Если в начале рядом с пилотом сидел наблюдатель, то вскоре он получил отдельное место и огнестрельное оружие.
Самолеты падали, дирижабли вспыхивали и горели, как свечи, подводные лодки тонули. О носы дредноутов разбивали бутылки с шампанским, над могилами сотен погибших склоняли знамена — и строительство все более смертоносных механизмов продолжалось. Над броненосцем «Либерте», взорвавшемся на рейде Тулона, в небо взлетел фонтан огня и обломков, и грохот взрыва навел ужас на население на площади радиусом в тридцать километров. Но судостроительные верфи немедленно спустили на воду два новых дредноута — «Жан Барт» и «Курбе».
Виновником взрыва «Либерте» признали огромные запасы пороха в его трюмах — как известно, неустойчивость пороха давно доказана. И никто не обратил внимания на то, что за две недели до катастрофы Тулон посетил немецкий «журналист» Герхард Нейман, с которым Гризельда встречалась в Бангкоке. Из Франции он отправился в Марокко, где подготовил репортажи из Феца. Но вскоре после его отъезда в Марокко вспыхнули пролившие много крови волнения.
По меньшей мере дважды в неделю в прессе разных стран появлялись сообщения об обнаружении похищенной летом из Лувра «Джоконды». Никто, впрочем, не знал, была ли она действительно похищена и вывезли ли похитители картину из Франции.
Вспомнив о «Джоконде», Томас нарисовал юмористическую картинку. Он изобразил Джоконду пилотом биплана, летящего над океаном. Вдали, на горизонте, виднелась статуя Свободы.
Монтель поморщился и сказал, что в этом нет ничего смешного, и Томас согласился с ним.
Боксер Жорж Карпантье стал чемпионом мира в восемнадцать лет.
В Китае революционные войска занимали одну провинцию за другой. Императору Пу И, пришедшему к власти после жестокой императрицы Цы Си, было всего 7 лет. Его палачи рубили головы восставшим, стоявшим на коленях на улицах Пекина. Италия объявила войну Турции и высадила войска в Триполитании.
На небе появилась очередная комета — третья за четыре года.
Во французской армии ввели новую форму. Солдаты напялили куртку желто-зеленого цвета и красные панталоны. Парламент продлил военную службу до трех лет. Несмотря на новые законы, Томас в армию не попал, так как, родившись в Англии и имея английских родителей, был по национальности англичанином. В Англии же военной службы не было.
При взрыве «Либерте» погибло двести пятьдесят человек. Дежурным офицером на борту в момент трагедии был капитан-лейтенант Гарнье. В Париже полицейский агент Гарнье был убит анархистом Гарнье, использовавшим автомобиль и скончавшимся перед рестораном «Гарнье». Это оказалось главным событием дня, затмившим все, что имело отношение к встречам императоров.
Было установлено имя предводителя одной из банд: Бонно.
Бето был дежурным по столу художников. По правде говоря, он дремал сидя, опустив голову на руки, и не годился для употребления. Монтель отправил служебный автомобиль за Томасом. Тот в это время заканчивал работу по другой теме для очередной обложки: какой-то портной придумал парашют для спасения летчиков поврежденного самолета. Чтобы проверить изобретение, он спрыгнул с первого этажа Эйфелевой башни и разбился.
На рисунке Томаса изобретатель был изображен крупным планом в полете. Лицо, искаженное ужасом, растопыренные руки, которыми он словно пытался ухватиться за воздух. Над ним болтался моток ткани нераскрывшегося парашюта на фоне острого носа башни, вонзавшегося в небо.
Очередное преступление автомобильных бандитов полностью лишило портного-парашютиста права на первую страницу. Томас примчался в редакцию и немедленно взялся за работу. У него имелись следующие материалы: фотография перекрестка Сен-Лазар, где было совершено преступление; фотография жертвы; данные об автомобиле фирмы Делонэ-Бельвиль, о котором свидетели говорили, что он был синим, тогда как другие утверждали, что он зеленый. Какой-то почтальон увидел его желтым. В результате Томас сделал его сине-зеленым. Никто не мог описать, как выглядели бандиты. Он нарисовал их усатыми, в каскетках и темных очках.
Томас сделал несколько набросков, потом два или три окончательных варианта. Один из них понравился редактору, и его нужно было оформить как следует. В очередной раз Томас вернулся домой очень поздно.
Телеграмма из Лондона сообщала дату выхода в море большого английского трансатлантического лайнера. Он обогнал на неделю французский пакетбот.
* * *
Когда Томас вернулся домой поздно ночью, Бланш плакала. Элен держала девочку на руках, баюкала и негромко разговаривала с ней, чтобы успокоить.
— Что с ней такое? — Ничего особенного… У нее режутся зубки… — Дочерью должна заниматься Полина… Ты очень устаешь… — Ты же знаешь, что ее нет дома… — Нет дома? Ах, да, действительно… Он забыл, заработавшись, про Нижинского. Ирен Лабассьер, подруга Полины, заказала три билета на новый спектакль русского балета и пригласила их на премьеру. Для него это было настоящее паломничество. Он вспомнил о своем смущении, о слишком маленькой шляпе, о фантастической поездке на фиакре. Томас с радостью подумал о возможном повторении прежнего чуда. Он поцеловал Полину — в тот самый момент, когда бандит Гарнье выстрелил в полицейского Гарнье.
— За ней заехала подруга, — сказала Элен. — Ты знаешь, что она владеет собственностью… Наш дом теперь принадлежит ей… Она вдова уже пять месяцев… Но это не мешает ей появляться в обществе!.. Когда и что ей мешало? Она носила траур с бриллиантами.
Ирен Лабассьер остановила свою машину перед дверью на улице Рейнуар и отправила шофера за спутниками. Она была расстроена, увидев Полину одну, без Томаса. Машина тронулась, глухо ворча, потому что имела мотор гоночного автомобиля, он не мог как следует разогнаться на улицах города.
Томас проснулся с первыми лучами солнца. Он находился в постели один. Неужели Полина уже встала? Это было мало похоже на нее… Выйдя на лестницу, столкнулся с Элен. Она улыбнулась и приложила палец к губам.
— Тише!.. Дочь заснула… У нее лезут зубки. Но он думал о Полине.
Она тоже спала, но в кладовке. Томас заметил, заглянув в щель, что жена лежала на кровати Рекамье, полураздетая, набросив на себя шубку. Ее красное платье лежало на стуле, свисая на пол. Шляпка вместе с туфлями валялась на туалетном столике.
Томас долго ждал, пока она не вышла из своего убежища, не полностью пришедшая в себя.
— Что это с тобой?.. Почему спала в кладовке? — Я не хотела будить тебя… Зевая, Полина прошла на кухню в надежде найти там кофе. — Что это ты вдруг стала заботиться о моем сне? Он перешел на крик. — Ты просто боялась, что я узнаю, во сколько вернулась! — Поинтересуйся у своей матери, я не сомневаюсь, что она откроет тебе этот секрет!.. Ах, кофе не осталось… Ты не хочешь смолоть мне немного кофе? — Сама займись своим кофе! Или выпей холодной воды — быстрей проснешься! Томас все же сел за стол, зажав мельницу для кофе между ног, и принялся яростно крутить ручку. Полина поставила на плиту кастрюльку с водой и чиркнула спичкой о коробок. Потом спокойно сказала:
— Я вернулась в четыре часа… — В половине пятого, — уточнила из прихожей Элен. — Церковный колокол как раз прозвонил половину часа. — Вот видишь, она знала… — Не вмешивай мою мать в свои дела!.. Где ты была? Чем занималась после театра? Он кричал все громче и громче. Бланш проснулась и заплакала.
— Мы ужинали с друзьями в кафе «Париж»… — Какими еще друзьями? — Ты их не знаешь… — Твой отец был с вами? — Да… Ах, нет… Но что это меняет? Я давно уже не ребенок! — Ты моя жена! И я не хочу, чтобы моя жена где-то шлялась по ночам! — Тебя тоже приглашали, мог пойти со мной! И ты никогда не интересовался, что я делала, когда исчез год назад… Дай мне! Она протянула руку.
— Что тебе нужно? — Дай мне кофе!.. И хватит крутить ручку! Томас встал и бросил кофейную мельницу в раковину. — Вот тебе твой кофе! Больше никогда не будешь ходить неизвестно куда! Никогда! Ты слышишь? Я должен знать, где ты и с кем! Сегодня я возвращаюсь в пять часов, постарайся быть дома! Он вышел, хлопнув дверью, и на кухне воцарилась тишина. Бланш перестала плакать. Элен вошла в кухню, держа ребенка на руках. Полина собрала ложкой разбавленное водой кофе из раковины и вылила смесь в кастрюлю.
— Вместо того чтобы развлекаться, — бросила Элен, — вы бы лучше занимались дочерью! — Вы же не даете мне дотронуться до нее!.. Дайте я подержу! Она протянула руки к ребенку. Элен отступила. — Мне кажется, вы с удовольствием бросили бы ее! — Вот видите! — Вас не назовешь ни матерью, ни женой!.. Достойная женщина не гуляет ночью без мужа и не возвращается на заре!
— Мне от вас ничего не нужно! Оставьте меня в покое!.. Схватив чашку с кофе, она скрылась в чулане и закрылась там. Вышла перед обедом, надев другое платье, тоже красное. У Полины опять появилась возможность выбора туалета. Томас продал несколько картин другу своего кузена, некоему Тюрье, торговавшему картинами. И ему хорошо платили в газете. У него появилась возможность отдавать деньги матери и жене. Элен откладывала свою часть; кроме того, она снова стала давать уроки. Во время своего отсутствия, доверяла Бланш кормилице.
Денег, что получала от мужа Полина, было далеко не достаточно, чтобы покупать имевшиеся у нее наряды. Большинство платьев она получала от Ирен, ее подруги. Та отдавала ей наряды после того, как надевала их раз или два, а иногда вообще ни разу, в особенности те, что отдавала перешивать своей портнихе.
Заботясь о Полине, Ирен часто имела возможность встречаться с Томасом. Но ей пока не доводилось увидеть его без свидетелей. Любезность, с которой она общалась с Томасом, наверняка была способна воспламенить любого из известных ей мужчин. Но не его. Ирен догадывалась, что он все еще любит свою жену. И она понимала, как они не подходили друг другу! Томас ничего не понимал в этой женщине. Ей был нужен хорошо понимающий мужчина, относящийся к ней по-отечески… И блестяще воспитанный… Томас же казался слишком неотесанным… И Полина не обладала даром отшлифовать его… Разумеется, для того, чтобы он стал известным и был принят в светском обществе… Генри, похоже, интересовался им только как художником. У него, несомненно, было чутье, у нашего дорогого Генри… Интересно, понимала ли эта малышка, каким красавцем был ее муж? Были ли у Ирен шансы? Красавчик, возможно, гениальный художник, нечто новое для нее… Но такой наивный…
Полина вернулась часа в четыре. Томас смог выбраться домой только в восемь часов. Едва они сели за стол, как начал расспрашивать Полину о «друзьях», с которыми она ужинала. Жена назвала ему пять или шесть имен, мужчин и женщин, все они были незнакомы ему. Томас обвинил ее во лжи, разнервничался и опять раскричался. Полина встала и скрылась в своем убежище. Она перенесла туда постель и оформила свой собственный мирок из нескольких предметов мебели, со шкурой вместо ковра. По стенам развесила в качестве украшения свои яркие платья. Томас хотел зайти к ней, но Полина заперлась на ключ и не впустила его.
На следующие дни ситуация стала повторяться. Когда муж уходил, она тоже выбиралась в город. Когда Томас возвращался, Полина уже была дома. С наступлением ночи она запиралась «у себя». Однажды вечером он попытался войти к ней, вырвал ручку и принялся ломать дверь. Томаса остановил крик Бланш. На следующее утро он сел на поезд в Трувиль.
Он уже приезжал несколько раз в курортный городок, обычно на несколько дней, когда одолевало желание рисовать. Полина никогда не соглашалась сопровождать его. У нее остались воспоминания, связанные с пляжем, по-прежнему ранившие ее. Томас даже не догадывался об этом. Для него Трувиль оставался воплощением моря, неба и бесконечного света.
Во время одной из таких поездок он познакомился с Тюрье, торговцем картинами, приехавшим на отдых вместе с Генри. Тюрье приобрел у него три картины и отобрал еще десять, которые собирался захватить с собой в Америку, где устраивал выставку молодых французских художников.
Томас принялся рисовать днем и ночью. Вилла оставалась пустой, отдыхающих в Трувиле почти не было. Мартовский ветер рвал в клочья море и небо. Сидя перед мольбертом, Томас спасался от холода, завернувшись в одеяло и обвязавшись вокруг пояса веревкой, чтобы одеяло не спадало. Когда хотел есть, он шел в центр, съедал омлет или порцию устриц в первом попавшемся рыбацком бистро. Частенько подбадривал себя хлебом и вином, причем вином все чаще и чаще. Он страшно отощал. Жил, не имея представления о времени. Забыл Париж, газету, Полину, Бланш, мать. Когда случайно вспоминал их, эти воспоминания подталкивали его бежать еще дальше от семейных уз, от любви и работы. Чтобы чувствовать себя абсолютно свободным. Чтобы писать картину за картиной.
* * *
Когда сэр Генри утверждал, что его мать продолжает охотиться на лис, он сильно преувеличивал. Леди Августе исполнилось восемьдесят четыре года, и она оставила верховую езду, чтобы не рисковать. Но продолжала водить, и на приличной скорости, любой из трех своих автомобилей по узким местным дорогам, построенным на территории страны ее отцом, великим Джонатаном.
Тем не менее, встречать на вокзале двух своих гостей она отправила шофера. Все-таки вокзал был слишком далеко, путь туда и обратно занимал целый день… Гости сообщили о своем приезде телеграммой. Ее удивил этот неожиданный визит. Элен и ее сын! Значит, эта дурочка перестала стыдиться своего развода? Вообще-то ей нужно стыдиться того, что вышла замуж за этого остолопа…
В вечерней тишине она услышала шум мотора большого желтого ланчестера за четверть часа до его появления в пределах видимости. Шофер описал идеальную дугу и затормозил точно перед перроном Гринхолла. Леди Августа появилась на балконе. Не станет же она, учитывая возраст, спускаться вниз ради этой девчонки!..
Мотор выпустил аккуратное облачко синего дыми и замолчал. Слуги засуетились вокруг багажа. Дождя не было — редкое везение в этих местах. Машина оказалась забитой людьми и чемоданами. Леди Августа, ожидавшая только двух гостей, заволновалась и от неожиданности заговорила сама с собой.
— Что это значит? Целый караван!.. Женщина в сером с вуалеткой — это, конечно, Элен… Красивый молодой человек — это ее сын… Еще одна женщина в черном… Скорее всего, это служанка… Еще один мужчина… Какой здоровяк!.. Неужели Элен снова вышла замуж? Впрочем, почему бы и нет? Она достаточно глупа для этого…
Женщина в сером выбралась из машины, подняла взгляд к балкону, сняла вуаль и улыбнулась. Леди Августа сразу же узнала гостью, и ее волнение неизмеримо возросло. Это была сумасшедшая Гризельда!
— Мне нельзя упоминать свое имя в телеграмме, — пояснила Гризельда. — Думаю, полиция продолжает охотиться за мной… — Ты сумасшедшая, просто сумасшедшая! Я всегда говорила твоему отцу, что ты свихнулась!.. — всплеснула руками Августа. Но она едва не расхохоталась от радости. Ее лицо заметно удлинилось с возрастом, и теперь походило на морского конька, увенчанного шляпой с желтым цветком.
Они разместились в столовой перед большим камином. Молли в комнатах наверху распаковывала чемоданы. Жан О после обеда быстро откланялся, чтобы не смущать присутствующих. Теперь он знал всю историю Гризельды. То, о чем он не догадался, рассказала ему сама Гризельда с помощью Джонатана. Юноша с радостью усваивал гэльский язык. Устроившись на коленях перед камином, он с удивлением наблюдал за торфом, горевшим устойчивым пламенем, выбрасывая короткие язычки огня. По дороге видел крестьян, вырезавших на поле большими лопатами квадратные куски земли. Теперь эта земля горела в камине сильным ровным дружелюбным пламенем. Джонатан подумал, что это само сердце ирландской земли горит любовью к своему народу, и горение это продолжается тысячи лет. Он хорошо понимал это. И понимал, почему приехал сюда. Здесь он у себя дома. И знал, чем должен будет заниматься. Не только сражаться. Но и любить… Короткие язычки пламени танцевали в глубине его глаз.
— Красивый у тебя сын, — сказала Августа. — Сколько ему? — Восемнадцать. — Он похож на отца… На твоего Шауна… Это был настоящий дикарь!.. Твой сын такой же?.. Ему уже довелось сражаться? — Да… — С кем? — С тиграми… — Ну и ну! Юноша превзошел своего отца!.. Теперь он станет разжигать пламя восстания в Ирландии? — Нет… Он хотел увидеть остров… Я так много рассказывала ему… Он начал требовать, чтобы мы приехали сюда… В конце концов я согласилась… Но при условии, что сразу же уедем назад… — Ха-ха-ха! Ты сошла с ума!.. Он не уедет отсюда!.. Громкий смех Августы оторвал Джонатана от его мечтаний. Повернувшись к тетке, улыбнулся ей светлой невинной улыбкой. Эта улыбка заставила Августу задохнуться от неожиданного приступа нежности.
— Ладно, ему не нужно поджигать Ирландию, он заставит ее растаять!.. Чего ты хочешь, добрая душа? — Можно мне увидеть дом? — Прямо сейчас? Ночью? — Да, конечно… — Он сошел с ума… Удивительно похож на тебя… Впрочем, пусть прогуляется… В доме нет чужих… Возьмите на кухне факелы… Гризельда, проводи сына, ты же знаешь дом, он давно не менялся… Кухня находилась в подвале. Фундамент замка был очень древним. Все, что поднималось выше уровня земли, много раз сжигалось и разрушалось, но ничто не могло разрушить гигантские своды, о которых рассказывали, что они были построены во времена завоевания этих земель Плантагенетами. Сейчас в подвалах замка располагались кухни, подсобные помещения, винные погреба, дровяные склады и разные таинственные комнаты, в которые никто не осмеливался заглянуть.
Гризельда подняла светильник, осветив полукруглую арку над нишей в стене, сложенной из громадных каменных блоков.
— Здесь находился вход в подземелье… Его давно заложили… Никто не знает, куда вели подземные галереи. — Это надо знать. А для этого придется разрушить стену, — сказал Джонатан. — Августа не хочет. Говорит, что за стеной господствуют призраки… Они вернулись в кухню, освещенную дружелюбным и одновременно фантастическим светом ламп, свечей и горящего в печи торфа. Несколько служанок в черных платьях и белых колпаках сидели за большим столом, занимаясь чисткой картофеля и овощей, резкой зелени, разделкой мяса и приготовлением десерта на следующий день. Повариха, стоявшая на коленях перед огромной печью, наполняла медные чайники кипятком из подвешенного над горящим торфом котла, похожего формой и размерами на коровье брюхо.
По всем углам, за опорами для сводов, между большими буфетами, горками для посуды и большими кадками прятались черные тени. Воздух на кухне был насыщен запахами лука, свежего мяса, ванили, шоколада, петрушки, ревеня и разных специй, прошедших через руки поварих и согретых горящим торфом. Джонатан вдыхал кухонные ароматы, одновременно улавливая запах древесины, из которой были сделаны столы и скамьи, а также запах камня в стенах и земли, спрятанной за этими стенами и под плитами пола. Его глаза наполнялись светом и тенями, лицами служанок и поварих, отблесками огня, игравшими на медных боках чайников. Он чувствовал, как все вокруг заполняло его сердце и душу. Он понимал, что вернулся домой…
— Идем же, — отвлекла сына Гризельда от теснившихся в его голове мыслей. Когда они подошли к лестнице, ведущей на первый этаж, Гризельда внезапно услышала, как ее кто-то окликнул, назвав по имени. Но прозвучало не известное всем имя, а древнее гэльское имя, произнесенное Эми над родившимся ребенком, которое она повторила перед тем, как покинуть остров. Сейчас, после смерти Шауна, никто на свете, кроме Эми, не знал его.
Она обернулась, потрясенная, не верящая своим ушам…
— Эми! Эми сидела у плиты, в вырезанной в стене нише. Гризельда сразу не заметила ее, так как она была заслонена кухаркой, возившейся с чайниками, а сама Эми была одновременно тенью, камнем и игрой огня. На коленях у нее спал свернувшийся клубком рыжий кот.
Гризельда медленно приблизилась к ней и остановилась на расстоянии одного шага. Ей хотелось упасть на колени, обнять Эми, заплакать, опустить голову рядом с рыжим котом. Ее сердце переполняли воспоминания детства и юности и горькие мысли об ушедших днях, о навсегда утраченном времени.
— Эми… Неужели это возможно? Старушка улыбалась, и тысячи морщин появились на ее лице, словно вырезанном из камня, который на протяжении многих поколений окрашивал огонь, и казалось, что лицо имело столь же древний возраст.
— Я сказала тебе, что меня уже не будет, когда ты вернешься… Но я все еще здесь. Наверно, ты пришла раньше, чем я рассчитывала… Или я оказалась крепче, чем можно было надеяться… Она повернулась к Джонатану.
— Освети его лицо, хочу видеть твоего сына… Гризельда подняла факел выше. Джонатан спокойно стоял перед Эми. Всмотревшись в него, старушка засмеялась и сказала:
— Замечательно… Повернись к девушкам… Свети на него хорошенько… Девушки, посмотрите на него! Его зовут Джонатан… Это сын Шауна, и он сын единорога… Скажите завтра об этом всем, кого увидите, и говорите о нем везде, где бы вы ни находились… — Нет! — закричала Гризельда. Служанки столпились возле Джонатана, не сводя с него глаз. Они были в черном и белом, и языки огня играли на их лицах.
— Нет!.. Никому ничего не говорите!.. Мы сразу же уедем! Приехали сюда только потому, что сын хотел увидеть остров, и мы не останемся здесь! Не нужно говорить, что он побывал на острове! Ничего не говорите о нем! — То, о чем нужно знать, должно быть сказано, — промолвила Эми. — Он не уедет… Но он не сможет увидеть остров, у него слишком мало времени… Его ждут в другом месте… А ты можешь уехать… Тебя ждут на большом корабле… Ты уже выполнила все, что должна была сделать… Теперь очередь за ним… Ты показала ему корни этого дома, теперь покажи ему дерево… Именно здесь выросла ветвь, перенесенная на Сент-Альбан и распустившаяся там… Покажи юноше комнату супругов, где был зачат и рожден его дед Джонатан… Августа вернула туда две старые кровати… И оставь его одного… Он должен лечь спать там сегодня ночью… Иди, моя хорошая, уведи его…
Когда они поднимались по лестнице, Джонатан остановился, нежно обнял мать за плечи и повторил только что услышанное им ее гэльское имя.
И она, благодаря неожиданной нежности сына, до конца поняла смысл имени, произнесенного Эми.
Она знала, что этим именем называют «ту, которая открывает», но не представляла, какую дверь, какой путь ей придется однажды открывать. Теперь она знала…
Гризельда объединила кровь единорога, английскую кровь в Ирландии и гэльскую кровь Шауна; она дала своей стране сына, в котором смешалась кровь столь разной природы. А теперь должна была уехать от сына, расстаться с ним… Чтобы он примирил все виды крови, находившиеся в нем.
Да, она должна уехать и оставить сына. Сможет поддерживать его на расстоянии, но теперь ее роль исчерпана. Ей нужно было родить этого ребенка и воспитать его, а теперь могла и расстаться с ним.
Эми сказала, что ее ждут на большом судне. Это было правдой. Принц Райя ждал ее в Англии. Он забронировал два билета на большой корабль, отплывающий в Штаты. На этот раз это был самый красивый в мире корабль, корабль ее мечты. И с ней должен плыть самый красивый принц. До сих пор она ему ничего не обещала. Из-за Джонатана, из-за Шауна, на которого так походил сын. Но теперь, возможно, она сможет вести себя в соответствии со своими интересами…
Пароход вышел из английской гавани и сделал остановку в Гавре, чтобы забрать пассажиров из всех стран Европы.
Вместе с банкирами, видными промышленниками, деловыми людьми, богатыми пожилыми дамами и юными красавицами, пока только создающими свой капитал, с любопытными и пресыщенными бездельниками, актрисами, музыкантами и журналистами на борт поднялся Герхард Нейман.
* * *
Томас почувствовал, что полностью вымотался, и бросился ничком на постель. Когда дождь не позволял работать под открытым небом, он рисовал на стене гаража море. Море. Безбрежное море. Без неба, без горизонта. Одно лишь море. Сегодня решил покончить с этим. Он использовал широкие кисти, применявшиеся для внутренних работ, и краски в банках, продававшиеся у торговца химией. Зеленую и синюю краску для ставней, красную и лиловую для покраски автомобилей. Он накладывал эти краски на холст широкими мазками, подчеркивал их черными линиями, накладывал друг на друга или размещал рядом в кричащих сочетаниях. Когда они подтекали, Томас высушивал их, посыпая золой.
И море вздувалось волнами на стене, примитивное, чудовищное, прародительница любой жизни, источник любой трагедии. Когда наступала ночь, художник зажигал все лампы и свечи, которые ему удавалось найти, и продолжал работать. Море, искаженное, раздувшееся, усеянное гигантскими смерчами, вырывалось со стены, заливало гараж, а с ним весь мир. Томас ничего не ел и не пил. Он подписывал картины большим белым «Т», похожим на крест. Когда у него кончились силы, ему пришлось подняться в свою комнату, чтобы поспать. Вокруг плавились свечи, дымили лампы, в которых выгорал весь керосин. Море угасало.
Среди отражений созвездий по поверхности моря скользило лежащее на боку огненное дерево. Громадный пароход с десятью тысячами светящихся иллюминаторов направлялся к Америке, опираясь на пустоту под ним, заполненную россыпями звезд.
Томас проследил взглядом лайнер, исчезнувший где-то далеко за краем света. Он понял, что корабль, сопровождаемый небом и морем, появился именно для него. Он был носителем послания, не выраженного ни словом, ни даже мыслью, но столь же очевидного, как очевиден рассвет, когда встает солнце. Ослепительной вспышкой в голове Томаса возникло понимание сущности всего, от пылинки до вселенной. Потом свет внутри свернулся, съежился и пропал. Художник знал, что теперь ему больше не нужно оставаться здесь. Он подумал о Полине, но уже совсем другими мыслями. Он все понял, все простил. Его заполнила нежность. Он вернулся в Париж, оставив море запертым в гараже.
Корабль пересекал дни и ночи. Райя оплатил две каюты-люкс. Гризельда и принц, не сговариваясь, связали это путешествие с надеждой начать новую жизнь; для этого он расстался с дворцовыми интригами в Бангкоке, а она оставила позади себя сражения и полученные в них раны. Это было символическое путешествие с радостным ожиданием наступающего будущего.
Но день за днем Гризельда откладывала на завтра слово или улыбку, способную позволить Райе войти в ее каюту, и оставалась там одна. Ее постепенно охватывала растущая меланхолия. Ей недоставало чего-то незаменимого. Или кого-то…
В воскресенье капитан корабля объявил большой праздничный бал. Гризельда решила, что этим вечером в ее жизни все должно начаться с нуля и, словно новобрачная, надела белое платье. Райя выглядел необычно. Он походил на божество, переодевшееся в смертного и спустившееся на землю. Все женщины завидовали Гризельде, танцевавшей с принцем, и все мужчины ненавидели его, когда он обнимал в танце свою прекрасную спутницу.
Бал заканчивался. В зале остались только три пары, в том числе Гризельда с принцем, и они с каждым очередным танцем откладывали момент расставания. Седобородый капитан лайнера спустился с мостика, чтобы станцевать с Гризельдой финальный вальс. Это был его последний рейс. Перед тем как отправить капитана на пенсию, компания предоставила ему возможность совершить этот эпохальный рейс. Звуки оркестра ностальгически звучали в большом опустевшем зале, теряясь между сгрудившимися в стороне столиками. В дальнем углу салона одинокий пассажир, куривший сигару, положил ее и ушел. Это был Герхард Нейман. После отплытия из Шербура он не встречался ни с Гризельдой, ни с Райей. Он собирался поговорить с ними перед самым прибытием в Нью-Йорк. Искал возможности расширить свои акции против Англии, так как считал, что в последнее время они заметно ослабели.
Последние звуки вальса бросили, словно волна, Гризельду к принцу Райя. Капитан склонил в поклоне седую голову и вернулся к своим обязанностям. Стены салона исчезли. Зеркала отбрасывали в бесконечность картину светлого паркета, позолоченные люстры и зеленые растения в кадках. У Гризельды кружилась голова. Бесконечное пространство кружилось вокруг нее в бесконечном вальсе. Музыканты складывали инструменты, но музыка продолжалась. Меланхоличная мелодия то звучала, то затихала, заглушенная бормотанием тишины. Гризельда схватила обеими руками руку принца, и они двинулись к каютам, не ощущая, как поднимаются по лестницам и проходят коридорами, заполненными светом и туманом. Под их ногами разворачивался бесконечный ковер, нежный, как весенняя трава. Когда подошли к каюте принца, Гризельда отпустила его руку и поняла, что должна идти дальше без него. Спокойная, воздушная, она через несколько шагов повернула за угол и потеряла его из виду. С каждым шагом она освобождалась от волнений и сожалений, одолевавших ее с начала путешествия. Туман рассеивался, свет становился ярким и четким, музыка превратилась в одну-единственную ноту, продолжительную и трогательную, напоминавшую букет желтых цветов дрока. Подойдя к двери своей каюты, женщина услышала радостный лай, неизменно встречавший ее при возвращении домой.
— Ардан!.. Она открыла дверь. Большой пес с огненной шерстью бросился к ней. В центре каюты стоял Шаун, каким она помнила его в часовне острова Сент-Альбан, мужественный и сильный. Его лицо немного портило пятно крови на лбу. Она вспомнила слова Эми: «Тебя ждут на борту большого корабля».
— Ты ждал меня!.. И она бросилась к нему. Пятно крови исчезло. Они слились в одно целое. Каюта задрожала, раскололась, распахнулась навстречу небу и морю. Стремительно несущийся в ночь благодаря всей мощи своих машин, «Титаник» столкнулся с айсбергом.
* * *
В полдень 17 апреля, через два с половиной дня после катастрофы «Титаника», непонятная мгла заволокла Париж. Остановились автомобили и пешеходы, горожане высыпали на улицы, задрав головы к небу, — солнечное затмение накрыло Европу темным пятном.
Сэр Генри, возвращавшийся домой на фиакре, сошел на тротуар и принялся следить за появившимся светлым краешком солнца. Он пытался защитить глаза, держа перед лицом цилиндр, оказавшийся достаточно бесполезным и совершенно непрозрачным экраном. Более находчивый кучер достал один из фонарей и принялся смотреть на солнце через большое красное стекло. Сэр Генри, вынужденный отказаться от дальнейших исследований, отвернулся и надел цилиндр. Ему показалось, что люди на улице выглядят очень странно, а их лица приобрели зеленый оттенок.
— Недобрый знак, мсье, — сказал кучер. — Свояченица моей жены, которая умеет читать по картам, говорит, что после трех комет и одного затмения должна начаться война! — Да, конечно, — согласился сэр Генри. — Такое вполне может случиться. Он забрался в фиакр, неторопливо двинувшийся дальше. Обитые железом колеса громыхали по булыжной мостовой в постепенно растворявшейся в свете солнца темноте.
Он не имел понятия о тайнах, раскрываемых с помощью карт, но приходил к тому же пессимистическому выводу, основываясь исключительно на известных ему фактах. В аннексированной Германией Лотарингии пели Марсельезу, кайзер повстречался с королем Италии на гондоле в венецианском канале, итальянская эскадра обстреляла Дарданеллы, на военных французских самолетах начали устанавливать устройства для размещения бомб, новая парижская мода разрешила женщинам открывать лодыжки, что свидетельствовало о катастрофическом падении нравов, что обычно проявляется на опасных поворотах истории. Но гораздо сильнее, чем гибель «Титаника», его потрясло крушение гораздо менее значительного плавательного средства — во время очередной, 67-й по счету, регаты «Оксфорд — Кембридж» на Темзе пошла ко дну кембриджская восьмерка. Действительно, настал конец времен…
Сэр Генри с облегчением вздохнул и потянулся, усевшись за стол. Он чувствовал себя за ним так уютно… Сейчас весьма вероятным было его назначение в Вашингтон. Но это не слишком привлекало его. Он в очередной раз подумывал об отставке. Тогда смог бы проводить время то в Париже, то на вилле в Трувиле. И посещать Монте-Карло сколько ему заблагорассудится. Разумеется, бывать также в Лондоне и Гринхолле… Конечно, именно таким образом он сможет жить, если не поедет в Вашингтон и выйдет в отставку. В конце концов, есть кому запутывать международную политику и без него…
Успокоившись, он встал и подошел к висевшей на бледно-зеленой стене картине с изображением девочки в лиловом платье, подписанной буквой «Т». Всмотревшись в нее, почувствовал, как его мышцы расслабляются, заботы куда-то уходят… Действительно, это настоящая живопись… Его кузен Томас был настоящим художником…
Но это был художник, который перестал рисовать. Он вернулся в Париж изменившимся, его переполняли желание прощать, в нем появились способность терпеть, а также любовь к Полине. Он телеграфировал, чтобы предупредить родственников о возвращении. В дороге ему казалось, что поезд тащится невыносимо медленно…
Томас бегом взлетел по лестнице… Она услышит его, откроет дверь, он обнимет ее, осыплет поцелуями, поднимет на руки, понесет к постели… В это время мать должна быть занята уроками…
Дом встретил художника полной тишиной. В нем не было ни души.
Первой вернулась мать.
Потом появилась дочь на руках у кормилицы.
Наконец, в два часа ночи, явилась супруга.
Ожидая ее, Томас опустошил все, что удалось найти в доме, — бутылки вина и рома для грога, хинную настойку, спирт, которым были залиты вишни в банке… Он орал так громко, что с Бланш случилась истерика и начались судороги. Проснулись даже животные на конюшне. Лошади ржали, как в ночь землетрясения, а Цезарь, дремавший под платаном, протянул хобот к светящемуся окну и затрубил…
Полине удалось скрыться в своей комнатушке до того, как Томас накинулся на нее с кулаками. Ему не оставалось ничего другого, как разбивать о дверь тарелки и кувшины. Попытался взломать ее, но дверь под краской, изображавшей древесину, оказалась железной. Ее строитель, инженер Эйфель, был человеком обстоятельным.
Элен, одновременно ужасающаяся и довольная, не знала, как успокоить Бланш, извивавшуюся у нее в руках. Она проклинала женщину, принесшую столько бед в их дом, но была рада слышать, как ее, наконец, стал обзывать Томас, чего Полина давно заслуживала.
Полина больше не появлялась в супружеской спальне. Во время отсутствия Томаса она постепенно создавала уют в своей кладовке. Сняла со стенки шкафчик для провизии и поставила его на кухонный стол. Теперь Элен могла распоряжаться им как ей хочется… Висевшую на плечиках одежду распихала в чемоданы, набросив на них плед. Таким образом, у нее появилось пространство вокруг узкой постели и трельяжа.
Томас с удивлением обнаружил, что в доме теперь жила женщина, совершенно не зависящая от него, тогда как он мечтал вернуться домой к супруге любящей, рыдающей, раскаивающейся. Да, теперь он понял, что в некоторых ситуациях отсутствие не способно ничего излечить. Впрочем, как и присутствие.
Томас привык посещать кафе поблизости от редакции «Матэн» в компании с Бето. Бето заказывал абсент, выпивал рюмку за рюмкой, взгляд его принимал мечтательное выражение, а выпученные глаза становились стеклянными, похожими на устриц. Томас не доверял этой отраве и пил красное вино. В баре «Маленькая пушка» оно было замечательным, из винограда с малоизвестных в Париже виноградников в Божоле.
Монтель пришел в ярость, когда понял, что теперь в его небольшой команде оказалось два пьяницы. Вообще-то, их было трое, но толстяк Фабр мог пить что угодно и в любом количестве, не пьянея. Алкоголь проваливался в его похожий на бочку живот, и его пары не добирались до головы.
— Я вышвырну вашего кузена, — грозно заявил Монтель сэру Генри. — Он отсутствует неделями, а когда появляется, то только для того, чтобы нализаться! — Вы неправы, он очень талантливый художник… Вот увидите, когда-нибудь вы будете гордиться, что он работал у вас… — Гордиться!.. Вы знаете, у меня и прежде работали такие же таланты… И я предпочитаю постоянно отсутствующему гению посредственность, оказывающуюся под рукой, когда в ней возникает необходимость. Когда наступила развязка дела Бонно, он был пьян! Всегда жаловался, что не может наблюдать события непосредственно, и такая возможность у него была! Если бы он, напиваясь, оставался при этом спокойным! Но ведь он, нализавшись до определенного уровня, приходит в бешенство — можно подумать, что зол на весь мир и надеется научить его пинками жить так, как считает правильным! Позавчера он отдубасил Розье из спортивного отдела… Но что с этим парнем, почему Томас так пьет и стал таким свирепым? — Это же художник, мой дорогой. Как можно узнать, что с ним происходит? Муки творчества… — Как же, муки творчества… В нашем деле больше нужна усидчивость… У него все в порядке с семейной жизнью? — У него очаровательная жена… Вы знаете ее, это малышка Полина, дочь Поля… — Эта красотка? Хищница в компании с таким хищником? Нет, такие не уживаются… Его нужно чем-то отвлечь… Я скажу толстяку Фабру, чтобы отвел его в одно заведение. Я скажу о нем хозяйке. У нее есть великолепные девушки. Как его фамилия? Я никогда не мог ее запомнить… — Онжье… Томас Онжье… — Господи! С такой фамилией я тоже стал бы постоянно напиваться только для того, чтобы забыть ее…
* * *
— Мсье Онжье, — сказал Монтель, — раз уж вы оказали нам честь присутствовать в редакции этим вечером и при этом проявили достаточно хладнокровия, чтобы отличить пуделя от полицейского, я хочу предоставить возможность исправить ваш промах с бандой Бонно. Мне сейчас позвонили из прокуратуры, что они обнаружили Гарнье в Ножан-сюрМарн. Похожая история: он закрылся в павильоне с еще одним бандитом; их окружили, но они удачно отстреливались и к настоящему времени уложили человек пять или шесть полицейских… Возьмите машину и летите туда. Само собой, вы, Фабр, тоже поедете с ним… А где Бето?
— Там, мсье… Монтель наклонился, чтобы проследить направление, указанное пальцем Фабра. Бето лежал под столом, подложив под голову стопку газет. Один глаз у него был открыт, другой закрыт.
— Он спит или окочурился? — Думаю, ни то, ни другое… Мы точно узнаем завтра утром. У Луи, шофера редакционной машины, имелся адрес, нацарапанный на клочке бумаги. Очень простой адрес: Ножан-сюр-Марн, улица Виадук. Нужно было всего лишь найти этот виадук.
Когда приехали в Ножан, то оказалось, что уточнять адрес не требуется. Темная ночь с затянутым облаками небом не позволяла увидеть виадук, но стрельба слышалась издалека, и в свете газовых фонарей было хорошо видно, как со всех сторон множество машин и пешеходов, иногда целыми семьями, устремлялись в одну сторону, руководствуясь звуками стрельбы. Луи поехал в том же направлении. Его обогнала команда зуавов, маршировавших к театру военных действий. Скоро пришлось остановиться, чтобы не передавить любопытных. Свет фар выделил из темноты плотную стену спин. Он попытался пробить брешь в этой стене воплями сирены, но никто даже не пошевелился.
— Дай отдохнуть сирене, — посоветовал Фабр. — Лучше развернись и подожди нас в сторонке. Развернуться Луи тоже не удалось. Валившая сзади толпа окружила машину, и самые находчивые забрались к нему на крышу, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Но ничего не было видно. Все заволокла темнота. Правда, теперь совсем близко слышались выстрелы. Как отдельные, так и очереди.
— У них есть автомат, — оценил ситуацию Фабр. — Непонятно только, у кого? У бандитов или у полицейских? — У бандитов! — крикнула женщина рядом. — Их человек двадцать в этом павильоне! Но полицейские послали за артиллерией! Сейчас привезут пушки! — Надо попытаться что-нибудь увидеть, — сказал Томас. — Ведь мы приехали, чтобы наблюдать… — Идем туда!.. За мной!.. Не отставай! Фабр пробил дорогу своим животом. Ничто не могло задержать такую массу. Томас пожал плечами и двинулся за ним в кильватере. Ему было наплевать на происходящее. Это дурацкое происшествие совершенно не интересовало его.
Через несколько шагов оказались перед цепочкой полицейских. Офицер проверил их пропуска, посветив на них спичкой, и пропустил. Они вышли из темной массы, чтобы оказаться в темной пустоте. В быстрых вспышках, отмечавших выстрелы, появлялся и исчезал виадук. У одной из его опор светились фонари небольшой группы, и художники направились к ней. Фабр все время шел впереди. Наткнувшись на колючую проволоку, он принялся ругаться. Потом отодвинул ее своим пузом и прошел дальше, но тут же наткнулся на спящую корову и упал.
— Вот дерьмо! Тут какая-то скотина! Осторожнее! Ты где? Помоги подняться, черт возьми!
Томас наклонился и схватился за какой-то предмет — как оказалось, это были коровьи рога. Потом нащупал брюхо, хвост, соски, ногу, дернувшуюся под его рукой. Потом ему попалась еще одна нога, затем рука. Потянув за руку, Томас поднял на ноги Фабра, показавшегося ему легким как перышко. Сильный взрыв потряс небо и землю у них под ногами. Испуганная корова вскочила и сбила их с ног. Они упали на траву с навозом. Из темноты над их головами сыпались обломки.
— Они взорвали лачугу, точно так, как было с Бонно, — сказал Фабр, поднявшийся на четвереньки. — А мы так ничего и не увидели… — Что ты хочешь увидеть в этом мраке? — спросил Томас. Но лачуга не взлетела на воздух; только угол крыши был снесен взрывом гранаты, сброшенной с виадука артиллеристами. Томас и Фабр узнали об этом, когда подошли к командному пункту. Здесь, вокруг грузовика, уже толпились журналисты. В кузове тарахтел бензиновый двигатель. Рядом с ним возвышалась поставленная на бок огромная, не меньше метра в диаметре, кастрюля. Ее стеклянный глаз слепо уставился в темноту. Это был прожектор пожарников. Но он ничего не освещал, так как не работал. Но без него полицейские ничего не могли предпринять. Они ничего не видели в темноте. Не виден был даже дом, где засели бандиты.
Начальник полицейских рассвирепел. Старший пожарник отправил своего помощника в Париж за специалистом по прожекторам. А пока ктото догадался выключить двигатель. Снова вспыхнула стрельба, но через пару минут все стихло. Полицейские, прятавшиеся за деревьями, стреляли кому куда хотелось. Им никто не отвечал.
В толпе зрителей начали появляться очаги света. Продавщица картофеля фри зажгла фонарь и принялась раздувать огонь под большой сковородой с маслом. В кузове белого грузовика какой-то мужчина в белой куртке отрегулировал язычки четырех ацетиленовых фонарей и принялся раскладывать пакеты. Между взрывами петард слышалась музыка — кто-то играл на аккордеоне. Вокруг него мгновенно расчистили пространство, и несколько пар принялось вальсировать. Небольшие группы рассаживались на земле вокруг свечи и литра красного, которое закусывали сосисками. Парижане все прибывали и прибывали. Городские службы удвоили количество трамваев в эту сторону. От Бастилии прибыл специальный поезд. Улицы Ножана были забиты колясками, фиакрами и автомобилями. Из них выгружались целые семьи с корзинками, складными стульями и биноклями.
Томас, прислонившийся к опоре виадука под висевшим над головой факелом, слушал, ничего не слыша, и смотрел, ничего не видя. Все вокруг было невероятно чужим, это будто спектакль из другого мира, за тысячу лье и тысячу лет от него. Что он здесь делал? И кто на самом деле сошел с ума? Он или они? Кто был жив, а кто мертв?
Два офицера-сапера проползли мимо него в ночь. Один из них тащил рукоятку от метлы, к концу которой было прикреплено шесть шашек мелинита. Они должны взорвать убежище бандитов.
На белом грузовике мужчина в белой куртке, освещенный ацетиленовыми лампами, кричал:
— Покупайте Манипульс! Чудесный аппарат профессора Иогансена! За минуту избавит вас от любой боли! Прибыл трамвай, забитый девушками с бульвара Ришар-Ленуар. Бойкие девицы в черных юбках, с красными лентами в волосах выдергивали из толпы клиентов и скрывались с ними в темноте. Вернувшись через три минуты, они подбирали следующего счастливчика. Все разновидности транспортных средств продолжали разгружаться в уже и так переполненном до краев Ножане.
Два сапера приползли назад. Оказалось, что они захватили с собой слишком короткий бикфордов шнур. Запасного шнура у них под рукой не нашлось. Взорвать дом они не смогли.
Специалист-электротехник, прискакавший на лошади, предложил подвести к взрывчатке электрический провод. Два сапера уползли за оставленным ими возле дома мелинитом.
Электрик принялся хлопотать вокруг прожектора. Ему подсвечивал фонариком пожарник. Наконец электрик воскликнул: «Все в порядке!» Бензиновый мотор снова запустили. Специалист-электротехник опустил рубильник. Прожектор не работал. Мотор остановили.
Саперы приползли назад с мелинитом. Главный артиллерист заявил, что его слишком мало, и добавил к заряду еще шесть шашек. Адъютант присоединил к взрывчатке провод. Саперы уползли в темноту.
У основания опоры виадука Томас заметил какой-то круглый предмет, более темный, чем темнота. Это была голова уснувшего Фабра. Он негромко похрапывал.
Раздался чудовищный грохот, вырвавший Фабра из сна. Он вскочил. Это взлетел на воздух дом с бандитами.
— Вперед! — заорал главный полицейский. Полицейские кинулись к дому, держа пистолет в одной руке и фонарик в другой. С неба продолжали сыпаться обломки черепицы и кирпичей. Толпа взвыла и ринулась вперед. Она снесла заслон полицейских вместе с зуавами и жандармами и увлекла их с собой, к месту, где что-то происходило. Картофель фри и кипящее масло оказались на земле, развлекавшиеся на траве парочки и проволочная ограда вместе с коровой были сметены черным приливом. Электрик, не обращавший внимания на происходящее, продолжал возиться с прожектором.
Подхваченный гребнем волны, Томас оказался внутри разрушенного дома. Он увидел в свете чудом горевшей лампы человека, скорчившегося на матрасе, и другого человека, стоявшего рядом и стрелявшего в полицейских, а также нескольких полицейских, светивших фонариками во все стороны и беспорядочно паливших куда придется. Стоявший тип перестал стрелять и упал, его схватили и потащили наружу; вслед за ним вытащили лежавшего на матрасе вместе с матрасом. Толпа отхлынула. Жандармы защищали полицейских, тащивших двух мертвецов, от толпы, рвавшейся расправиться с убитыми. Томас пошел вслед за жандармами. Его нос был забит пылью и трухой от растоптанного сена; он чувствовал сильный запах пороха, пота и грязных тел. Мертвых бандитов погрузили в машину «скорой помощи», толпа начала рассеиваться, шоферы крутили рукоятки, чтобы завести двигатели.
Неожиданно темноту разорвал невероятно яркий свет — это заработал прожектор! Его луч пробежал зигзагом по виадуку, по окрестным полям, по дымящимся стенам дома, по строящимся зуавам и, наконец, застыл, уставившись в одну точку, — механизм поворота заклинило.
В десяти шагах от себя Томас увидел в световом конусе автомобиль, его ярко блестевший никелированный радиатор и красные брызговики. Еще одно красное пятно на сиденье оказалось Полиной.
Она сидела рядом с мужчиной в цилиндре и черном плаще, из-под которого выглядывал белый шелковый шарф. Они приехали в Ножан после спектакля. Или после ужина… Томас узнал мужчину. Его взор художника никогда не забывал лицо, увиденное хотя бы однажды. Это был Кользен, декоратор труппы «Русский Балет».
Томаса охватило веселое бешенство. Исчезли все намеки на ирреальность происходящего. Вот что здесь касалось непосредственно его! Это была настоящая жизнь, его жизнь! Закончился период тусклой неопределенной печали, вопросов, напоминавших по вкусу опилки, болтающиеся в его голове и груди. Появилось лицо! Появился человек!
Он вспрыгнул на подножку, взмахом руки отправил в полет цилиндр, схватил шарф, одним рывком поднял Кользена и вышвырнул его из машины.
— Томас! Крик Полины открыл для декоратора имя напавшего, которого он не успел разглядеть. Он был крепким мужчиной и любил сражаться. Завязалась ужасная схватка. Время от времени мужчины выкатывались из светового конуса, и тогда из темноты доносились только хрипящее дыхание и звуки тупых ударов; потом кто-то снова оказывался на свету с сидевшим на нем противником. Шофер автомобиля хотел помочь своему хозяину, но ему помешало брюхо появившегося из темноты Фабра. Несколько прохожих остановились полюбопытствовать, но им хватило полученных за вечер эмоций, и они не стали задерживаться. Небо посветлело. Корова замычала, почувствовав раздувшиеся от молока соски. Томас в рваной одежде, забрызганной его кровью и кровью противника, подобрал потерявшего сознание врага и швырнул его к ногам Полины.
— Держи!.. Постарайся подлечить его… И можешь оставить себе!.. Полина проводила мужа взглядом, когда он садился в подъехавшую редакционную машину. Томас уехал, не обернувшись. Только тогда она склонилась над поверженным.
Прожектор выключили. Прокукарекал петух. Ему ответили соседские петухи. Начинался мирный день.
* * *
Впервые за двадцать лет Элен пропустила урок. Ей нужно было заниматься английским с девочками-двойняшками барона Анвиллера на авеню Виктора Гюго, и она не смогла предупредить, что не появится. Часы уже показывали почти половину одиннадцатого, а она так и не вышла из дома. В плаще, шляпе и перчатках сидела на стуле в кухне, оставив открытой дверь в комнату сына, и не сводила глаз с лестницы. Томас не пришел домой ночью. Полина тоже.
В восемь часов телеграфист принес телеграмму, адресованную мистеру Томасу Онжье. Не распечатывая телеграмму, Элен бросила ее на стол. Десятки раз она брала в руки заклеенную синей полоской бумаги телеграмму, готовая открыть ее, и снова опускала на стол. Она не могла. Нельзя открывать письмо, адресованное не тебе. Даже если оно пришло к близкому человеку. Даже срочное.
Всегда приходится пожалеть, что ты открыл телеграмму, даже адресованную тебе. Она чаще всего приносит несчастье, горе, сообщение о несчастном случае, о похоронах. Если кто-то рождается, об этом пишут в письме. Если случается что-то счастливое, об этом молчат.
Элен вскочила, словно подброшенная пружиной, когда услышала, что хлопнула дверь с мостика. Томас или Полина? Томас… Тяжелые шаги мужчины на первых ступеньках… Медленные, неуверенные, осторожные… Несчастье, это явно несчастье! Что могло случиться? Она увидела сначала его лицо с раздувшейся левой щекой, потом правый глаз, почти закрывшийся от удара, разбитые губы… Элен вскрикнула и бросилась к сыну…
— Что они с тобой сделали?.. Кто это сделал?.. Кто?
Она должна знать, кто ранил ее Томаса! Чтобы убить его!
Томас с трудом улыбнулся, схватил мать, такую невесомую, поднял ее, поцеловал…
— А, пустяки… С этим кончено… Не волнуйся, ничего не сломано… Все в порядке… — Потом добавил: — Я проголодался…
Это окончательно успокоило мать.
Он ногой распахнул дверь в комнату Полины. Пусто… Элен заколебалась, она все еще боялась ранить его. Но он должен был знать…
— Она еще не приходила… — Я знаю. — Он повернулся к матери. — Она больше не придет… Произнеся эти слова, Томас окаменел и несколько секунд не шевелился. Он смотрел прямо перед собой, вдаль, словно видел что-то сквозь стену. Потом опустил веко на том глазу, на котором оно не было закрыто, слегка потрогал распухшую губу и повторил:
— Я проголодался… Потом прошел в столовую и сел за стол. Элен бросилась в кухню, разбила в сковородку шесть яиц, принесла хлеб, масло, печенье; поставила на стол чайник с заваркой, лимон на блюдечке, кружку… Вернулась за кипятком на кухню, налила его в кружку, принесла сахар, молоко, варенье… Она вспомнила о телеграмме, только выдвинув ящик стола, чтобы достать чайную ложечку и нож.
Она недрогнувшей рукой положила телеграмму перед Томасом.
— Это пришло сегодня на твое имя… Томас с удивлением посмотрел на телеграмму, открыл ее и прочитал. Элен перестала дышать. Пыталась догадаться о содержимом телеграммы, всматриваясь в его лицо и с трепетом дожидаясь, что скажет… Что-то страшное? Она заметила, что сын испытал потрясение. Покачав головой, он посмотрел на мать, словно хотел спросить ее о чем-то, потом передумал и пожал плечами. Смяв телеграмму, отбросил ее.
— Мне наплевать! Элен налила чай в кружку. Он выпил с удовольствием. — Угадай, где я был сегодня ночью? И Томас принялся рассказывать матери о ночи в Ножане, не упоминая Полину. Мать побежала за яичницей. Поставив сковородку на стол, подобрала скомканную телеграмму и расправила ее.
— Я могу?.. — Конечно… Она прочла короткий текст. Он улыбнулся, увидев, как телеграмма потрясла ее.
— Дай-ка мне… Положив телеграмму возле себя на стол, Томас прочитал ее вслух, не переставая жевать. Это была каблограмма из Нью-Йорка: «Выставка вызвала огромный интерес. Необходимо ваше присутствие. Привезите остальные полотна. Я телеграфировал в „Виндон Бритиш-Банк“, можете получить в нем аванс любого размера. До встречи. Очень рад. Тюрье».
— Ты же не поедешь туда! — крикнула Элен. Он бросил взгляд через открытую дверь на комнату Полины, где была видна незастеленная кровать, валявшееся на полу желтое платье, туфелька на перламутровом столике. И сказал:
— Почему же… Обязательно поеду…
* * *
Человечество избежало страшной катастрофы: эпидемию чумы, уничтожившей две трети населения Маньчжурии, удалось сначала остановить, потом полностью победить. За несколько месяцев до этого эпидемия грозила охватить весь мир.
В это время яхта князя Александра «Федор» вышла из Бангкока, направляясь во Владивосток. В первый же день плавания князь почувствовал, что его сердце отказывается работать. Он впервые понял, что смертен, как все люди. До сих пор подобные мысли не приходили ему в голову. Он содрогнулся, подумав, что может исчезнуть, не получив прощения от своего повелителя. Как только яхта пришла в русский порт, князь сел на специальный поезд, постоянно дожидавшийся его в начале Транссибирской магистрали.
Нигде, ни на Востоке, ни на Западе, уже целое тысячелетие не возникало ничего, подобного эпидемии, опустошавшей Маньчжурию. Повсюду горели костры, на которых сжигали тысячи мертвецов вместе с находящимися в коме живыми. Чтобы защитить себя от эпидемии, Россия полностью прервала связи со своими восточными соседями, создав на границах санитарные кордоны, для чего были привлечены регулярные войска. Для пущей безопасности разобрали рельсы на отрезке Транссибирской магистрали.
Поезд князя остановился из-за отсутствия рельсов. Темнело. Солнце опускалось над огромной равниной. Подул ледяной ветер. На востоке дымы погребальных костров окрасились розовым.
Князь не мог терять ни минуты. Он не имел права остановиться, а поэтому решил двигаться дальше пешком. Завернувшись в шубу, зашагал к Москве во главе колонны помощников, слуг, охранников и прочей челяди.
Загрохотали пулеметы. Князь упал вместе со своими спутниками. Потом их облили бензином. Вспыхнул костер, и ветер разнес еще один дым, такой же, как все остальные.
Через три дня после солнечного затмения военный французский дирижабль объемом 9000 кубических метров и длиной 88 метров с командой из шести человек достиг высоты 2500 метров. Командовал дирижаблем капитан Неан.
В одном из кабаков Дублина с голубым фасадом Джонатан пил пиво вместе с группой молодых ирландцев. Одного из них звали Джеймс Коннолли, и позднее он был расстрелян после поражения восстания 1916 года привязанным к стулу, поскольку ранение вызвало у повстанца гангрену, и он не мог стоять на ногах. Другой ирландец приехал из Америки, его звали Эймон де Валера. Самым старшим в компании был старый фений Том Кларк, ветеран, воевавший уже лет тридцать.
Пирс запел песню свободы, написанную им на древнем языке. Он был поэтом. Его вскоре повесили. К его голосу постепенно присоединились все остальные. Жан О сел за пианино, ударил по клавишам и запел на гэльском с тулузским акцентом. На противоположной стороне улицы Молли готовила обед для всей компании.
— Ма-ма-ма-ма, — сказала Бланш. И она шлепнула открытой ладошкой по тарелке так, что каша разлетелась во все стороны.
— Нехорошая девочка, — укоризненно сказала Элен. Она улыбалась. Была в восторге. Полина исчезла и не возвращалась. Бланш полностью принадлежала Элен….
— Ма-ма-ма ма… — У тебя нет мамы… Но это не беда… Она тебе не нужна, потому что я всегда с тобой… Открой ротик!.. Шире!.. Она сумеет защитить ребенка. От всех. И прежде всего от мужчин, от любви, от отвратительной любви, которая становится причиной всех бед и несчастий. От таких несчастий, как у бедной Джейн, которую бил и которой изменял муж, от несчастий Гризельды, пропавшей неизвестно где, от ее собственных несчастий, от несчастий Томаса и, в конце концов, возможно, что и от несчастий самой Полины…
— Не беспокойся, я научу тебя, как обращаться с ними… Открой ротик! Пароход «Франс» входил в гавань Нью-Йорка. Он заканчивал третий рейс в Америку, во время которого побил собственный рекорд времени, затраченного на пересечение Атлантики. Все буксиры, сторожевики, барки и остальные суда, способные держаться на воде, включили сирены и звонили в колокола, приветствуя трансатлантический корабль, медленно двигавшийся среди фонтанов воды, выбрасываемых пожарными катерами. Стояла прекрасная погода, и солнечные лучи превращали гигантские фонтаны в праздничный фейерверк. Встревоженные чайки кружились над вертикальными струями, криками отвечая сиренам. Сирены «Франс» гудевшие низким басом, напоминавшим голос мастодонта, заставляли вибрировать тела пассажиров, столпившихся на палубе и любовавшихся открывающейся перед ними Америкой.
Томас оказался самым высоким в толпе любопытных. Он всматривался в плотную стену зданий, над которыми возвышалась вздымавшая ввысь свой факел статуя Свободы. Небоскребы, о которых он столько слышал… Да, конечно… Они срывали с неба свет, разбрасывая его повсюду…
Чайки с криками пикировали к поверхности воды, снова взмывали в небо, энергично взмахивая крыльями. Одна из птиц кричала громче других, и ее голос показался Томасу странно знакомым… Он прислушался и присмотрелся…
— Шама! — закричал он, срывая каскетку с головы и подбрасывая ее кверху. — О-крааа! — ответил ему большой белый ворон. Он спланировал вниз, разгоняя мечущихся над пароходом чаек. — Шама! Шама! Старый разбойник!.. Ворон соскользнул на несколько метров ниже, затормозил и опустился легко, словно перышко, на лохматую голову Томаса. Стоявшие рядом пассажиры восторженно закричали, но остальные попрежнему не сводили глаз с панорамы Нью-Йорка. — А-крроа? А-крроа? — поинтересовался Шама. Он спрашивал: — Как дела? Как дела?
— Все будет хорошо, — ответил ему Томас. Воздух нового мира и океан смешались у него в груди. Он набирал полную грудь, так что его легкие едва не лопались, сжимал кулаки, широко открывал глаза, впитывал сияние неба и уносимых ветром облаков, вслушивался в крики птиц. Он возвышался над толпой пассажиров, словно небоскребы, словно увенчанная короной статуя над невысокими зданиями. Отмахивался от всех видов принуждения, от обязательной работы, от давящей материнской заботы, от семьи, оставшейся далеко позади… Да, конечно, у него все должно быть хорошо…
Полина…
Да, Полина… Белоснежная девушка, кружившаяся в танце в его объятьях… Возвращение из театра, счастье находиться рядом с ней в фиакре… Пляж, бесконечный ропот моря, нежность и тепло груди в его руке в ночи, неудержимый порыв его тела к светившемуся рядом девичьему телу под взрывавшимися звездами… Свечи ночью в круглом зале, сияющее тело Полины, уснувшей в золотистом свете… Полина, где ты сейчас? Что ты сделала… Что стало с тобой, далекой, потерянной?
Нет, нет, ничто не было потеряно… Он хранил в себе все чудеса, жившие в нем, тепло и краски ее крови… Он знал, что сохранит их до последней секунды его жизни, до тех пор, пока будет в состоянии вспоминать…
Он очутился в Америке! Приплыл сюда! Он будет рисовать, будет получать за это деньги, будет свободным!
Он крикнул:
— Шама! Все хорошо! Все будет хорошо! Большой белый ворон, вцепившийся в львиную шевелюру, взмахнул крыльями, словно хотел взлететь, держа Томаса в когтях. Вокруг завывали сирены.
— Твой отец уехал, но он скоро вернется, — проворковала Элен. — Твоя мама больше не придет. Но он вернется… Получит много денег, мы выкупим остров, ты будешь счастлива на нем… Потерпи… Я покажу тебе очень красивую вещицу…
Элен расстегнула верхние пуговицы своего черного корсажа, забралась внутрь худыми пальцами и вытянула тонкую золотую цепочку, которую носила на шее, незаметную под блузкой. На цепочке висел подаренный Гризельдой перстень. Она расстегнула цепочку, сняла перстень и протянула его внучке.
— Смотри… Бланш в восторге вскинула вверх обе ручки, два нежных розовых цветка с растопыренными лепестками. Волосы на ее головке, белые при рождении, теперь немного потемнели, приобретя теплый каштановый цвет с оттенками золота. Глаза у нее светились, словно изумруды, оказавшиеся в тени.
— Смотри… Как это красиво… Это наш остров… Он будет твоим… Бланш вскрикнула от восторга, схватила удивительно красивый предмет, зеленый и блестящий, и бросила его в тарелку с супом…




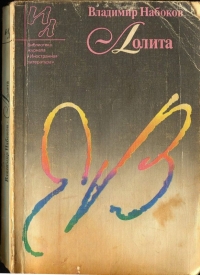

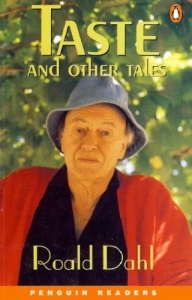






Комментарии к книге «Дни мира», Рене Баржавель
Всего 0 комментариев