Сид Чаплин
«Зеркало, называемое реализмом»
Сида Чаплина нет необходимости представлять нашему читателю: у нас хорошо известны его романы «День сардины»,[1] и «Соглядатаи и поднадзорные»[2] завоевавшие большую популярность — особенно у молодого читателя. Это и неудивительно: романы повествуют, прежде всего, о проблемах и заботах молодых героев. «День сардины»— роман-исповедь 17-летнего рабочего паренька Артура Хэггерстона, успевшего за свою недолгую жизнь побывать и помощником угольщика, и учеником пекаря, и грузчиком; в «Соглядатаях и поднадзорных» в центре внимания автора — судьба молодого рабочего-кузнеца Тимоти Мейсона, его духовные поиски и метания. Преодолевая воздействие враждебного к ним общества, собственную неприкаянность и одиночество, герои Чаплина взрослеют — духовно и социально — на глазах читателя, пытаясь найти свое место в жизни, понять смысл происходящего и определить свою позицию в мире.
Писатель, чутко улавливая самую суть социальных противоречий, подрывавших английский «истеблишмент» в 50—60-е годы, удачно сплавляет в своих романах «рабочую» и «молодежную» тематику.
Романы Чаплина (помимо двух названных, наиболее ярких, его перу принадлежат «Моя судьба вопиет», 1951, «Большая комната», 1960, «Сэм поутру», 1965, «Алебастровые копи», 1971) стали заметным явлением в литературной жизни Англии 60-х годов. Благодаря его произведениям — наряду с романами Ст. Барстоу, А. Силлитоу, Д. Стори (многие из них хорошо известны у нас в стране) — в литературу вошел герой-рабочий, долгое время лишенный прав гражданства в английской прозе, отдававшей предпочтение проблемам «среднего класса». Полемизируя с мнением буржуазных критиков, называвших «рабочий роман» региональным явлением, Чаплин справедливо возражал: «рабочий роман» не просто достоверное воспроизведение жизни класса, составляющего существенную часть английского населения, — это повествование об «уделе человеческом», и кто-нибудь, возможно, напишет роман о шахтерах в той же манере, что и Мелвилл, создавший роман о китобоях.
В какой-то мере эту попытку предпринимает уже сам С. Чаплин: в повести «Тонкий шов» (отрывок из которой входит в данный сборник) описана лишь одна рабочая смена в шахте, но перед читателем возникает срез всей шахтерской жизни — каждодневный каторжный труд, напряженность, вызванная постоянным присутствием опасности: угрозы обвала и гибели людей (что и происходит в «ту» смену). В свою очередь, изнурительные и опасные будни шахтеров становятся емким символом самого существования рабочего человека. В них есть место и смертельной опасности, и тяжкому труду, и истинной рабочей солидарности, которая только и может помочь выжить в таких условиях.
Реальные, ненадуманные проблемы, волнующие простых людей, знание подлинных интересов рабочих, живой, разговорный язык — эти черты определяют специфику произведения С. Чаплина, который не понаслышке знаком с жизнью и бытом рабочей среды.
Сид Чаплин родился в семье шахтера в 1916 году в небольшом городке Шилдоне неподалеку от Ньюкасла на северо-востоке Англии. Эти северные области страны — Дарем, Уэстморленд, Камберленд, — долгое время бывшие центром угольной и металлургической промышленности, стали в то же время тем уголком, где сложился костяк английского рабочего класса и соответственно — свободолюбивые традиции борьбы за права и достоинство рабочего человека. «Жители Дарема, — писал впоследствии Чаплин, — всегда сопротивлялись любым попыткам сломить их дух…»
Так было еще в забастовку 1832 года — Сид слышал о ней от стариков, чьи отцы принимали в ней участие. Так было и в 20—30-е годы нашего века: хоть и совсем мальчик тогда, он хорошо помнит всеобщую забастовку 1926 года, «голодные марши» безработных в Лондон. Да и семьи работающих шахтеров жили ненамного лучше. «Большинство домов, — писал Чаплин в очерке „Мой Дарем“, — прогнило насквозь. Отсутствовали элементарные санитарные условия. Оспа, дизентерия, туберкулез — невозможно сосчитать, численность скольких семей они сократили… Работа в шахте была зверски тяжелой».
Сид с детства, с 14 лет, узнал труд шахтера, потом работал кузнецом, кончил вечернюю школу для рабочих. Был секретарем Союза шахтеров, сотрудничал в газете «Коул» («Уголь»). Круг его интересов был широк: он изучал химию, геологию, политику, экономику. Но главное — Чаплин хотел стать писателем, рассказать о своих товарищах-шахтерах правдиво, без прикрас. То, что окружало Чаплина в детстве, в ранней юности — бесконечные вереницы шахт вдоль дороги, прокопченные поселки, сизые от дыма пивные, рабочие с грубыми мужественными лицами, привыкшие, ежедневно спускаясь в шахту, бросать вызов судьбе, — все это буквально просилось на бумагу. «Этот мир груб, — писал позже Чаплин, — но он подлинен, там человек не делает попытки лицемерить, там язык и юмор богаты и всегда что-нибудь происходит… Рассказы приходили сами собой…»
Сколь ни успешно выступал Чаплин в жанре романа, важное место в его творчестве занимает именно рассказ. Интерес к нему возник у Сида Чаплина уже в детстве: старший среди детей, мальчик любил долгими зимними вечерами рассказывать братьям и родителям, а потом друзьям об увиденном, об услышанном, приукрашивая быль выдумкой. «Мои рассказы, — писал Чаплин годы спустя в предисловии к одному из сборников, — принадлежат многим людям. Моим родителям, моим братьям, друзьям и товарищам по труду… они принадлежат всем тем, кто верит в человеческое сердце, им я и адресую их с любовью и благодарностью». Когда бы ни были написаны рассказы Чаплина, в них неизменно ощущаешь эту обращенность к демократической аудитории. Она и в образном языке, и в грубоватом юморе, и во всей интонации повествования.
Первое признание как литератор Чаплин получил именно в этом жанре (сб. «Прыгающий парень», 1948). В 1980 году маститый писатель снова вернулся к любимому жанру, выпустив сборник «Дядюшка-холостяк и другие рассказы», в который вошли произведения разных лет. Рассказ особенно дорог писателю, нередко несет на себе печать автобиографичности — он многое говорит нам о личности самого Чаплина: его жизни, условиях, его формировавших, его друзьях, его симпатиях и пристрастиях. Вообще рассказы Чаплина очень часто воспринимаются не как отвлеченное повествование о том или ином придуманном событии, но как доверительное сообщение читателю о том, чему рассказчик сам был свидетелем, а то и непосредственным участником. За немногим исключением автор практически воспринимается как герой своих произведений — настолько неотделима, органично вписана его личность в повествование, окрашенное особой эмоциональностью, которую рождает только личная сопричастность.
Суровые пейзажи трудового севера стали постоянным фоном прозы Чаплина, ибо были частью его самого. «Эти места, где работали мой отец, деды и прадеды, бесконечно дороги мне», — признается писатель. Пейзаж в рассказах Чаплина — не объект для праздного любования, у рабочего на это просто нет времени; в тех случаях, когда он попадает в поле зрения писателя, поражает удивительная яркость, обостренность видения — радость общения с природой, окрашенная для трудового человека особой праздничностью. И отношение к животным — а они то и дело встречаются в автобиографических зарисовках писателя, повествующих о детстве, — лишено сентиментальности, оно исполнено глубокой доброты: это друзья, нередко — товарищи по труду (как пони Серый из одноименного рассказа).
Любовь к родным краям, к людям, там живущим, осталась в душе писателя навсегда. Она стала частью его миросозерцания, душой его прозы. Верность «истокам», родным «корням» определила и жизнь С. Чаплина, и все им написанное.
«Ни один человек не поймет самого себя, пока не посмотрится в зеркало, называемое реализмом», — писал Чаплин в 1966 году, отвечая на анкету «Иностранной литературы».[3] В этих словах — самая суть жизненного и творческого кредо писателя, которому он не изменял никогда.
Конечно, в нынешние времена многое преобразилось на родине писателя, шахты в основном закрыты — уголь почти весь выбран, рабочие разъехались. «Но маленькая волшебная страна в моем сознании не умрет, — сказал как-то Чаплин, — и время от времени на память мне приходит то какое-то слово, то полузабытое событие и постепенно вырисовывается все четче. Тогда не просто возникает рассказ — заново воссоздается время, место действия и то, что было».
Многие рассказы, предлагаемые вниманию читателя в настоящем сборнике, похоже, именно так и сложились — как воспоминания о давно минувшем, о впечатлениях и переживаниях детства, открытии мира и себя («Битки на пасху», «Серый»). Писатель удивительно тонко передает оттенки психологии подростка: мальчишеское стремление самоутвердиться, несколько тщеславное желание доказать себе и окружающим свое превосходство, ловкость, «взрослость» («Диплом спасателя»). Впрочем, рабочему пареньку взрослеть приходится быстро: ему рано открывается несправедливость мира, в котором одни обделены, не имея даже права на работу («Бродяга»), а у других есть все.
Очень ощущается у Чаплина (рассказ «Королевский наряд») традиция, идущая от народных кельтских преданий, прославляющих находчивость и чувство собственного достоинства простого человека. Не будет преувеличением сказать, что верность своим принципам, умение при любых обстоятельствах сохранять чувство собственного достоинства — наиглавнейшая ценность в глазах С. Чаплина. Тот, кому это удается, велик и поверженный (как рабочий лидер Лэмберт, герой рассказа «Вечная память Лэмберту»), ну, а кто готов уступить соблазнам обеспеченной беззаботной жизни, пожертвовав при этом своими идеалами, навсегда теряет внутреннюю свободу и, быть может, человечность (как герой новеллы «На перевале»).
О чем бы ни писал Сид Чаплин, он всегда остается верен демократическим традициям английской прозы (из своих литературных учителей он сам не раз называл имена Дж. Элиот, Т. Гарди, Д. Г. Лоуренса), отличительная черта которой — неизменное внимание к интересам простого человека.
В 1965 году Чаплин посетил нашу страну, культура и особенно литература которой давно его интересовали: он не раз отмечал, что знакомство с произведениями Толстого, Чехова и Горького существенно повлияло на него. Чаплин был у нас не просто как турист, добросовестно знакомящийся с обязательной программой, — его кровно интересовало все, что он видел, — будь то музей Горького, перед памятью которого Чаплин благоговеет, или Дворец пионеров. Эта заинтересованность — выражение живейшей симпатии писателя, в душе оставшегося рабочим человеком, к Стране Советов. О своих добрых впечатлениях он по возвращении рассказал в статье, опубликованной в «Гардиан», и с той поры его связывают с нами узы дружеских отношений.
И. ВасильеваКОРОЛЕВСКИЙ НАРЯД
Это совершенно не важно, что ты маленького роста, сказала бабушка, сажая меня к себе на колени, — судите сами, сколько времени ее рассказу. На улице мне в тот раз досталось, и я прибежал домой утешиться. Все Макканны малорослые мужчины. Твой дедушка, упокой, господи, его душу, был от горшка два вершка, а как держался — его пальцем никто не смел тронуть. И отец у тебя такой же. Одно слово — Макканны, и, если ты наберешься терпения, я расскажу тебе о самом первом, с которого и пошли в Англии Макканны.
Звали его Малютка Джон, он был сирота. И вот такая кроха остался один в большом угольном городе с длинными серыми улицами, с торчащими трубами и домнами, подпиравшими ночное небо, словно огненные столбы. Вообще-то он не был совершенно одинок, его, что называется, приютило семейство Макналти — хозяйка, Мери, доводившаяся его матери двоюродной сестрой, женщина славная, но уж очень замученная — шестерых горлопанов подняла, и хозяин, с таким характером, что не приведи бог. Джозеф Макналти, он у домны был главный человек. Он когда не молчал, то кричал, и почти все наследники его были горластые — Нил, Мик, Нед, которому лучше было не попадать на зубок, Мэтью, Питер и, наконец, Патрик, но этот был тихий, и сердце у него было доброе. Народу полный дом, особенно когда сойдутся все мужчины — рослые, грубые. И Малютка Джон Макканн жил там на птичьих правах. Он был на побегушках, донашивал за другими рвань, зимой сидел подальше от очага, а летом — поближе, спал с краю постели. И на заводе к нему так же относились. Кроме Джона, все ребята неплохо устроились, а за него дядя Джозеф не хотел просить.
— Пусть катает тачку да двор метет, коли сам чуть больше веника, — говорил дядя Джозеф, не стесняясь, что мальчик сидит тут же.
— Да он расплавится, как сургуч, когда мы выпустим металл, — добавлял злой на язык Нед.
Малютка Джон отмалчивался, в голове всякое вертелось, он закрывался от всех книгой про королей и героев древней Ирландии. Ему бы кулак покрепче да меч поярче! Тетушка Мери поднимала на него глаза, жалела парнишку. И работница Нора взглядывала на него, жалела: она тоже была сирота и почти ровесница Джона. И как его не пожалеть? Унеси — принеси, под ногами не крутись — другого разговора он не слышал. От этих мужиков дом ходил ходуном, и Малютка Джон все больше уходил в свою скорлупу. Но жалость — она была горше ругани, затрещин и обид, потому что Малютка Джон был живой комок гордости. Просто не мог он с ними развязаться, и постоять за себя не мог. Оставалось одно — бежать.
Он взял с собой только свои деньги и смену носков. Скоро носки истерлись, ботинки развалились — ведь всю дорогу он шел пешком. Сначала он шел на юг, в Лондон, но какая-то сила все время сбивала его на запад, и он перевалил через лысые Пеннинские горы и потом шел уже только на запад — к Ирландскому морю. Чего он натерпелся в пути — всего не перескажешь. И в канавах спал под проливным дождем, и в самый солнцепек по горам карабкался. Раз его подвез в двуколке, запряженной пони, веселый толстяк, взявший, как он пояснил, прогуляться и подышать воздухом своего черного бойцового петуха. Другой раз попался конюх верхом на вороном гунтере,[4] следом шли еще шесть лошадей, и Малютка Джон выучился ездить без седла. В этой компании он и переплыл Ирландское море — присматривал за лошадьми, когда конюх уединялся с виски.
Он прошел всю Ирландию из конца в конец и пришел на родину своей матери. Вот какой он увидел ее впервые. Белая гора поднималась белыми террасами, а на них, словно яйца птицы Рух из «Синдбада-морехода», лежали огромные валуны. Гора сверкала на солнце, но настоящее сокровище была деревенька у ее подножия. Две дюжины домишек, крытых соломой, при каждом клочок земли, на нем только-только впору развернуться паре осликов и поприветствовать друг друга, задрав голову и крича по-дурному; высокие и густые боярышниковые изгороди летом рдеют цветками фуксий. Джон не мог глаз отвести от такой красоты: зеленая трава, в палисадниках враструску сушится шерсть, за белой стрелкой дороги море барашками набегает на золотые песчаные отмели. А какое небо! Синее-синее на горизонте, где оно встречается со светло-голубым морем. Все тамошние жители были Макканны, невеликие ростом, зато чудесные люди — стройные женщины, крепыши дети, литые, как сжатый кулак, широкоплечие мужчины. Родные приняли его сердечно, словоохотливые старухи много вспоминали про деда с бабкой и, особенно, про мать, упокой, господи, ее душу. А жизнь там была суровая. В домах — земляные полы. Работали с раннего утра до позднего вечера. Но Малютка Джон не роптал, потому что был с ними одного роду-племени, такой же проворный, а у дяди, у Черного Джеймса, — там не знали, куда его посадить. И можешь ты мне поверить? Он скучал! По жарким печам и людным улицам. Он даже скучал по горластому дяде и шестерым горластым братьям, особенно по доброму Патрику. По тете Мери он скучал и — странное дело! — по работнице Норе, которую едва замечал прежде, и та вряд ли обращала на него внимание, хотя за день раз тысячу прошмыгнет мимо. Выходит, она ему нравилась. И что-то еще не давало ему покоя, что-то, в спешке оставшееся несделанным.
И однажды он таки попрощался с родственниками, пожал руку Черному Джеймсу, дяде и ближайшему другу. Добряк сунул ему в ладонь соверен — на счастье. И с первыми лучами солнца Малютка Джон отправился в путь. От берега змейкой уползала в горные расселины белая пустынная дорога. Он миновал дом, где когда-то жил его отец, — стены упали, камин накренился. Напоследок он полюбовался на деревеньку, щеголявшую соломенными крышами, словно ниткой золотых бусин, потом повернул к востоку и пошел в далекий город, где были базар и железная дорога. По пути с ним произошли три случая. Он видел на вершине горы гордо застывшего оленя. Видел неподвижно повисшего в небе и потом молнией канувшего вниз огромного ястреба. И еще встретил землекопа. Смешной коротышка курил черную, в цвет его лица и рук, носогрейку, и взгляд у него был такой же острый, как лопата, которой он резал торф. Он рассказывал, иногда переходя на пение, о великих героях прошлого, о волшебных людях, об удивительных вещах, случившихся с ним самим. Он находил сокровища! Ветвистые лосиные рога. Кинжал и меч. Кожаный щит, рассыпавшийся у него в руках. Однажды в канаве, которую он отрыл рядом с ручьем, он извлек из песка лоскут материи — красной, прошитой желтой ниткой. Это, сказал он, кусок мантии древнего-древнего короля. «Поверишь? Только я положил этот обрывок в карман, как сразу подрос на десять футов, ей-богу!»— сказал землекоп. Расставшись с ним, Малютка Джон думал, как хорошо было бы сшить из такой замечательной материи костюм.
Хотеть — это почти иметь. Когда он добрался до города, последний поезд ушел. Он договорился, в гостинице и вышел пройтись. Улица была широкая, позади домов бежал ручей. Стояла такая тишина, что слышен был шорох воды по ступенчатому ложу. На зеленой лужайке паслись три стреноженные лошади. С краю лужайки стояли огромные весы для взвешивания шерсти. Малютка Джон подошел поближе, посмотрел, как вешают шерсть. И хотя весовщик не очень ему приглянулся — продувной, видать, тип, — Малютка Джон с ним разговорился. А тот, кстати сказать, занимался не только шерстью: он еще был тамошний портной. «Да, красавец, — сказал он, придирчиво оглядев Джона, — хороший был костюмчик, только сейчас он доброго слова не стоит. Не обижайся, я портной и знаю, что говорю», — сказал он в заключение. Догадываешься, чем это кончилось? Этот хитрюга-портной смекнул, что перед ним зеленый, неопытный юнец. Он особенно внимательно выслушал рассказ Малютки Джона о старом землекопе. «Королевский наряд! — воскликнул он, и на лице его расцвела улыбка. — Какое совпадение! У меня есть костюм аккурат из этой материи. Я его шил для бедняги Джеймса упокой, господи, его душу. За гинею уступлю. Погоди, покажу»! И сразу вынес костюм, словно держал его наготове. Может, так оно и было. Даже Малютка Джон разглядел, что это был страх господний, а не костюм: словно с мясника сорвали фартук, обмакнули его в яичный желток и еще сполоснули в лохани с кровью. И Малютка Джон отрицательно помотал головой. «Ты сразу подрастешь на десять футов, — пообещал портной. — Померяй!» В темной каморке оказалось зеркало, и Малютка Джон не устоял перед портным — да и перед костюмом тоже. И он вроде бы сразу переменился! Зеркало не смогло вместить всего его с головы до пят — было отчего возгордиться. А вдруг, подумал Малютка Джон, костюм и впрямь мне поможет? Он вышел из каморки, не снимая его. Горделиво прошелся по комнатам, помахивая терновой тросточкой, которую ему всучил хитрый портной. «Это чтоб на жену была управа», — сказал тот, потирая руки. «У меня нет жены», — буркнул Малютка Джон, озадаченно поймав себя на том, что думает о Норе. «Ну, тогда для самообороны», — сказал портной и, едва Джон ступил за порог мастерской, проворно закрыл за ним дверь.
С этой минуты костюм стал оказывать свое могущественное действие — на всех, кроме Джона. Скучные физиономии, торчавшие в окнах, оживлялись, двери распахивались. Городишко словно воспрянул ото сна. Как вкопанный, застыл посреди дороги натрудившийся за день фермер и во все глаза уставился на проходившего мимо Малютку Джона, а потом из последних сил стал унимать своего пса, который рвался схватить его за прекрасный костюм. Вдобавок одна старуха крикнула другой: «Провалиться мне, это одежа, которую не взял Джеймс Малруни!» Джон похолодел. Но вот какое дело: хоть ему и было не по себе в нем, а снять его он не хотел. Продолжал ходить в королевском наряде. И всю дорогу до Дублина, а от Дублина до его угольного города на него все пялили глаза, смеялись ему в лицо. В своем же городе его знал каждый и каждый тыкал в него пальцем, и смеху еще прибавилось. Под общий гогот он и заявился домой, и тут, говорила бабушка, началось самое интересное.
Он поднял щеколду на задней двери и вошел в дом. Все были в сборе. Тетушка Мери вскрикнула и кинулась его целовать, но совсем замечательно повела себя Нора, накрывавшая на стол. Она, конечно, воскликнула: «Малютка Джон!»— но ему важнее было, что вскрикнула она низким голосом, что ее рука метнулась к горлу, а глаза засияли. «Откуда пожаловал?»— прорычал дядюшка Джозеф Макналти, но тут тетка отлепилась от Джона, костюм предстал всем на обозрение, и у дяди упала челюсть. «Из красильни, надо думать», — ухмыльнулся братец Нед. «Господи!»— выдохнула тетушка Мери и отвернулась, пряча улыбку. Зато горластая братва не церемонилась. Они все со смеху попадали. Дяде же было не до смеха. Приходский священник много попортил ему крови, когда Малютка Джон сбежал из дому, и вообще пошли разговоры, какой он зверь. Задыхаясь от гнева, он встал из-за стола и поправил широкий пояс, который он носил пряжкой назад. «Сопляк! — рявкнул он. — Для него столько старались, а он сбежал! А сейчас, пожалуйста, приполз обратно! Ну, поздороваемся», — и размахнулся здоровенной, как лопата, ручищей. Провалиться мне на этом месте, если от этого взмаха по комнате не пронесся ветерок и не сдул наземь любимую теткину вазу. Ваза вдребезги, но никто даже не глянул в ту сторону, потому что они от другого не могли отвести глаз: Малютка Джон, не раздумывая, перехватил дядину руку и не выпускал. Может, он удачно ее схватил. А может, просто возмужал Малютка Джон — не зря же у своих ходил за лошадьми, рыл торф, копал картошку и помогал спихивать в воду лодки. Не в этом суть. Он удержал руку, от которой ему крепко не поздоровилось бы. Ясное дело, дяде это не понравилось, и его налившиеся кровью глазки засверкали. Теперь он сменил тактику. «Мать честная, — сказал он. — Какой у тебя красивый костюм. Дай-ка взглянуть». Не ожидая ничего худого, Малютка Джон снял куртку и протянул ее дяде. Тот с улыбкой ухватил ее двумя пальцами. «Вот страх-то, ребята, а?»— процедил он. Что касается цвета, то он, пожалуй, был прав. Ребята, известно, смеялись до упаду, кроме Патрика, у того было доброе сердце. «Ну, смехота, — продолжал дядя. — Каким пугалом вырядился!»
«Из этой материи шили одежду королям», — бледный от стыда, сказал Малютка Джон. «Сейчас ты у меня узнаешь королей», — взревел великая дядя, и женщины в один голос вскрикнули, когда он взялся за куртку обеими руками и разодрал ее надвое. Малютка Джон стремительно пригнулся, как перед прыжком, но вовремя увидел побелевшее лицо тетки и медленно разжал ладони, на которых остались следы от ногтей. «Учти на будущее», — сказал Джозеф Макналти и вернулся к столу. Он сидел и наворачивал, а Малютке Джону кусок не лез в горло. Ему еще никогда не было так скверно. И никто не заметил, как Нора подняла порванную куртку и тихо вышла.
Она вернулась, когда обед кончился, и в руках у нее была аккуратно зашитая куртка. «Бери, малыш, — молвила она задрожавшими губами и с какой-то обидой в голосе. — Надевай. — Мужская половина изумленно уставилась на нее. — Можно проглотить обиду, — звонко объявила она, — а можно и постоять за себя». Стиснув зубы, Малютка Джон взглянул на нее и согласно кивнул. «Макналти, — бросил он им, — я жду любого из вас на лугу», — и вышел. Старик Макналти поднялся. Вид у него, скажу вам, был сумрачный и встревоженный. Он вышел следом за Джоном, а там и сыновья потянулись, смеясь и отпуская дурацкие шутки.
— Вот что, — сказал Малютка Джон, дойдя до края поля. — Пусть кто-нибудь попробует наступить на мою куртку.
А те смеялись, болваны, подначивали друг друга, только отец да Патрик, добрая душа, помалкивали. «Вы вроде весите одинаково, Патрик, — сказал Макналти. — Давай». «Не буду, — сказал Патрик и встал рядом с Малюткой Джоном. — Я с тобой». Старик Макналти прикусил губу. «Тогда ты, Нед», — велел он своему острому на язык сыну. «Против двоих?»— возмутился Нед. «Патрик не полезет, — сказал Малютка Джон сквозь зубы. — Он будет смотреть, чтобы все было по правилам. Я за себя не отвечаю». И он бросил куртку наземь.
По-собачьи наморщив нос и выставив кулаки, Нед дернулся вперед и замер, потому что рисковать он не любил. «Начинай, Нед! — кричали братья. — Сделай его!» Малютка Джон дождался, когда Нед наступит на его куртку, и молнией ринулся на обидчика. Врать не стану — ему нелегко пришлось, все-таки он был мелковат. Но он ловко увертывался и на один удар отвечал двумя-тремя ударами. А Нед напирал, гнал его вниз по склону к шлаковой куче, сваленной на берегу ручья. И он загнал его на эту кучу, и теперь драка предстала на общее обозрение. Люди побросали работу, сбежались, криками подбадривали маленького смельчака, который хоть и проигрывал, но еще давал сдачи. Один раз он так засветил Неду, что тот рассвирепел, вцепился в него мертвой хваткой и оба кубарем покатились с кучи. Патрик с трудом оторвал брата от Джона. «Если не можешь по-честному, значит, надо душить?»— холодно бросил он.
Обидно, но Малютка Джон не одолел Неда. Нед ударил наотмашь, и Джон скатился прямо к ручью, а Нед поднял свою поганую руку, как для счета. Патрик, словно ребенка, прислонил Малютку к дереву. «Не переживай, малыш, — сказал он. — Ты сделал все что мог». Хватая ртом воздух, Джон отрицательно мотнул головой. Стоявшие полукругом Макналти расступились, и вперед вышла Нора. «Молодец, малыш, — сказала она. — Надевай свою куртку». Малютка Джон криво улыбнулся, взял куртку и выпрямился. Он посмотрел на дядю, потом перевел взгляд на остальных четверых. И снова бросил куртку наземь. «Начнем по-новой, — сказал он. — Пусть кто-нибудь еще наступит». Вызвать громким голосом он уже не мог, он едва держался на ногах, но столпившиеся на куче и так все поняли и с восторженными воплями стали швырять вверх кепки.
Джозеф Макналти посмотрел сначала на племянника, потом на Неда, который, тяжело дыша, лежал на траве, потом оглянулся на смолкших зрителей. И снова его взгляд уперся в Малютку Джона, застывшего у своей кроваво-желтой куртки. «Люблю отчаянных, — сказал он и через силу сглотнул. — Вот тебе моя рука, Малютка Джон. И не сочти за обиду: я дам тебе денег, а уж ты купи себе другой костюм».
Джон поднял с земли куртку и улыбнулся, откровенно дивясь ее безобразию. Потом накинул ее на плечи и оглядел себя.
«Ничего себе одежду я откопал, правда?»— спросил он. «В хозяйстве сгодится, — сказала Нора. — Хороший выйдет половичок, но никто не вытрет ноги о Джона Макканна». Просветленный догадкой, добряк Патрик улыбнулся и отошел, а Нора смочила в ручье платок и обмыла Джону лицо. «Королевский наряд! — сказала она. — Тебе ни к чему было его покупать. Он теперь всегда на твоих плечах. Ты достойно пройдешь свою дорогу, малыш». И знаешь, что сказал Малютка Джон твоей бабушке? «Только вместе с тобой». Так оно и вышло.
БРОДЯГА
В конце Садовой улицы мальчик свернул и по тропинке сбежал к ограде. Сначала он высмотрел едва различимую дорожку, упиравшуюся на том конце широкого луга в приступочек у изгороди, потом перевел взгляд на быка, мирно щипавшего густую сочную траву у прудика. За той изгородью, напротив, высился террикон, и отец, наверное, уже взбирался на него; а здесь, в сотне ярдов, топчет густую траву бык, который считает этот луг своим владением и, конечно, погонит мальчика, если он ступит на дорожку. Оставался окольный путь — мимо кооператива и брошенной вентиляционной шахты, но тогда он рисковал разминуться с отцом. Он глубоко вздохнул и решил бросить вызов быку, черному, как ночь, с блестящей шкурой, под которой рябились мышцы, крутоголовому, распустившему с губ слюну. Про рога он постарался вообще не думать. Поднырнув под ржавую проволоку, туго натянутую между столбами, он ступил во владения быка, он даже успел поймать божью коровку на счастье.
Он прошел половину пути, когда, не глядя, почувствовал, что бык поднял голову и с интересом рассматривает его. Это очень трудно — не глядеть в ту сторону, но еще труднее идти ровным шагом, как его учили. Он изо всех сил старался держать взглядом желтые пятна лютиков, росших из травы готовыми букетами, и начинавшиеся за ними лопухи, буйствовавшие уже до самой изгороди. Все-таки он не выдержал и украдкой глянул через плечо. А там вот что: опустив голову, бык переступал с ноги на ногу и всхрапывал. Этот бычий сап он услышал даже сквозь грохот собственного сердца и на минуту оцепенел от ужаса. И тут донесся голос отца:
— Иди спокойно, сынок, и, ради Христа, не оглядывайся.
До отца была сотня миль, с ним там кто-то еще. Даже издалека он разглядел отцово лицо, черное от угольной пыли и блестевшее от пота. Отец сорвал с головы кепку и вышел на луг. Радость захлестнула мальчика. Он сделал шаг и пошел медленно. Но почему-то отец уходил в сторону от него, и он в растерянности остановился.
— Иди прямо к приступку, — крикнул отец. — Только медленно! Медленно! А сам, размахивая кепкой, побежал.
— Эй! — крикнул он быку. — Сюда, ко мне! — и потряс своим большим красным платком. Мальчика подмывало кинуться к отцу, но там был бык, и он с острым чувством стыда понял, что больше всего на свете боится этого быка, что этот страх пересилил даже любовь к отцу.
Через лопухи к нему бежал незнакомый человек. Казалось, он никогда не добежит до него. Мальчик навсегда запомнит, какая странная тишина вдруг повисла над полем. На весь мир бухало его сердце, к нему мчался кто-то высокий, в лохмотьях, по ногам больно хлестала высокая трава, где-то далеко кричал отец, отвлекая быка, и вот уже высокий незнакомец подхватывает его на руки. Сверху он успел еще раз увидеть отца: тот несся быстрее ветра — под самым носом у быка. Потом его, словно тючок, перевалили через изгородь и, оттолкнувшись о приступок, следом легко перемахнул через ограду незнакомец.
— Порядок, — тяжело дыша, сказал он. — Он его обморочил. Отец махал им уже с дороги, а бык бесновался за оградой от нерастраченной ярости и обиды.
Вытирая платком лицо, к ним на террикон тяжело взошел отец.
— Быстро у тебя голова работает, — сказал незнакомец.
— Приходится, — буркнул отец. — Бестолочь! Тебе сколько раз говорили!
— Прости, пап.
К счастью, отец отвлекся на незнакомца.
— Один бог знает, что бы мы без тебя делали.
— Да то же самое и делали бы. Он бы шел себе и шел потихоньку, как было сказано.
Его взгляд остановился на туго сжатом кулачке.
— Прости за любопытство: что у тебя там, малец?
— Глупость какая-нибудь. Он, словно барахольщик, подбирает что попало.
А мальчик только сейчас вспомнил о своем трофее и разжал кулак.
— Черт побери, это божья коровка!
— Что я тебе говорил?
— Отпусти ее.
— Может, она принесет мне счастье.
Он взял букашку и посадил себе на руку. Коровка выпустила прозрачные крылышки и улетела. Потом откуда-то вывернулась и снова села ему на руку.
— Видал, малец? Значит, денек у меня будет удачный.
Он осторожно перенес букашку на травинку. Потом поднялся с земли и сверху посмотрел на отца с сыном. Хотя одет он был в страшную рванину, стоял он прямо как господь бог.
— Мне пора.
У мальчика мучительно сжалось сердце.
— Куда ты сейчас? — спросил отец.
— В Барни, там и переночую.
— Может, перекусишь с нами? Сытый желудок веселее носить.
Незнакомец помотал головой.
— Я не любитель ловить людей на добром слове. И время поджимает.
— Говори что хочешь, но мы тебя голодным не отпустим. И давай не спорить.
Незнакомец еще раз взглянул на отца.
— Я серьезно говорю.
— От куска хлеба с сыром, я, конечно, не откажусь, — уступил тот, — и от луковички, если не жалко.
— Разоримся и на луковичку. У тебя какая специальность?
— Слесарь, токарь. Только это когда было, еще до войны. Женился — и сразу в окопы. А когда вернулся, определили стажером и через год с месяцем уволили.
— Героев мы уважаем.
— На жизнь никаких денег не хватало. Пришлось выметаться, а жену отправить к родным. С тех пор мотаюсь без работы.
— Беда, что и говорить.
— Главное — никак не могу войну из себя вытравить. Я ведь на Марне был и на Сомме.
— Аэропланы, танки, наблюдательные шары, — оживился мальчик. — Вы их видели?
— Если на Сомме, то там одна грязь и слякоть. Там некогда было глазеть по сторонам, приходилось все время смотреть под ноги. Нас больше утопло, чем погибло от пуль.
— А воздушные бои были? — спросил мальчик. Раскинув руки, он загудел, как шмель, обежал вокруг и спикировал на землю.
— Не до аэропланов нам было, — покачал головой незнакомец.
— Беги и скажи матери, что я иду, — велел отец и извиняющимся тоном пояснил незнакомцу — В голове одни глупости. Не вылезает из книг.
— Слов таких нет — рассказать, что там было.
В конце улицы они остановились у здания клуба.
— Погоди минутку. От пинты пива, я полагаю, ты не откажешься?
Миновав швейцара, он канул в шумные недра и вскоре появился с большой запотевшей кружкой.
— Забыл спросить: против горького пива не возражаешь? Осторожно, благоговейно слизнул незнакомец пену, сползавшую по стенке, и, закрыв глаза, посмаковал.
— Спаси и сохрани вас господь, — сказал он. Он по-другому это сказал, отметил про себя мальчик, чем говорит мистер Уиллис в воскресной школе, когда дает благословение. Зато незнакомец сказал это от души.
Мальчик был еще на середине рассказа, когда в дом вошли отец и его спутник.
— Что нового? — спросила мать опасным голосом, который ее сын хорошо изучил.
— Это мистер Форсайт, — представил отец своего спутника. — Он ищет работу.
— Неужели? — спросила она.
— Я пригласил его закусить с нами, — сказал отец, аккуратно опуская кружку на большой обеденный стол.
— Еще ничего не готово. И на такую ораву не хватит.
Подхватив свою кепку, незнакомец двинулся к двери.
— Я, пожалуй…
— Ты, пожалуйста, садись, — сказал отец тоже опасным голосом. Он отобрал у незнакомца его кепку и повесил ее на гвоздик за дверью. — Намажь, мать, ему пару кусков хлеба.
— Я вообще-то спешу. Мне еще надо приткнуться в какую-нибудь ночлежку в Барни.
— В ночлежку! — фыркнула мать, клочком газеты застилая тумбочку у окна.
— Может, лучше скатерть?
— Не валяй дурака, — сказала она и унеслась на кухню. Отец взял кружку и перенес ее на тумбочку.
— Присаживайся, — пригласил он.
— Может, не надо?
— Наплюй. Бери кружку. В горле-то небось пересохло. Ты прости: она хоть и брехливая, зато не кусается. Сердце у нее доброе, она только снаружи такая.
— Это видно.
— Нет, правда, она хорошая баба. Но что-то в его голосе заставило мальчика пожалеть отца. Мать стремительно вошла в комнату и поставила перед незнакомцем тарелку с хлебом и маленьким куском сыра.
— Это что такое? — темнея лицом, спросил отец. — Это что за отруби? Тогда сыру дай по-человечески.
— Я сделала на свой вкус. А хлеб домашний.
Но даже мальчик видел: что-то не так. Каждый кусок незнакомец проглатывал через силу, а потом тщательно прополаскивал рот пивом.
— Как, ничего?
— Роскошно.
— Ну, если тут все, то я пойду к себе на кухню.
— Ему еще нужна луковица. Выбери покрупнее, из наших. Ты с уксусом ешь?
— Нет, безо всего.
Вызывающе вздернув подбородок, мать вышла из комнаты. Ждали ее молча. Она принесла луковицу, нож, соль и перец.
— Благодарю, — со старомодной учтивостью сказал незнакомец.
— На здоровье.
С помощью луковицы проглоченный хлеб с маслом утолкался вроде бы окончательно. Незнакомец быстро завершил свой обед. Потом встал. Почему-то он казался смущенным.
— Спасибо, хозяин. Спасибо, хозяйка. Очень вам признателен. Мне пора.
И он ушел.
— Неплохая компания, — сказала мать. — С бродягами связался.
— Человек за тебя проливал кровь, погибал.
Смешно, подумал мальчик. Ведь он живой, этот человек. Как он мог проливать кровь и даже погибать?
— А мне плевать. Все они одинаковые, шантрапа чертова. Если бы они в самом деле хотели работать, они бы давно пристроились к месту.
— Он вроде меня. У него хорошая специальность. Он бы из кожи вон лез, если бы ему дали работу.
— Скажи спасибо, что я за тобой приглядываю. Тебя же любой вокруг пальца обведет, любой. Я его сразу раскусила. Я знаю, как обращаться с этой публикой.
Отец внимательно посмотрел на нее и ушел на кухню. Вернувшись, он кинул на стол распечатанную пачку маргарина.
— К примеру, кормить их маргарином, да?
— А что тут такого? — Она смело выдержала его взгляд. — Я ему хорошо намазала.
— Эх, мать! Ты хоть понимаешь, что ты сделала?
Еще слова не отзвучали, а мальчик зажмурился и молча заклинал отца не продолжать. Он знал, чем обязан незнакомцу и что должен был сказать отец, но он молился, чтобы тот не выдавал его. С матерью шутки плохи, она на расправу крутая.
— Я-то понимаю, я из ума еще не выжила! Надо быть слепым, чтобы не увидеть, какой это фрукт. Рвань и бездельник.
— Ну, нам лучше знать. Правда, шпингалет?
У мальчика сильнее, чем там, на поле, заколотилось сердце. Во рту у него пересохло, язык прилип к гортани. Он заглянул в глубокую, кисло пахнущую кружку.
— Смотри, пап! Тут еще осталось пиво. Хочешь, я догоню его?
Отец взглянул на него невидящими глазами.
— Нет, сынок, не надо. Это так, опивки. Не бери в голову. Наморщив нос, мать держала кружку в вытянутой руке.
— Вымыть надо поскорее, а потом сбегаешь и отдашь швейцару.
После мойки кружка сверкала, словно хрустальная. Когда он ее отдавал, на ней не было ни пятнышка от пива, которое так кисло пахнет. А вот лицо того бродяги никогда не сотрется из его памяти.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ЛЭМБЕРТУ
— В общем, так, — сказал Джо, — это старичье нам надоело. Пора им и честь знать. Они же ни во что не вникают. Мы считаем, сейчас неплохо устроить хорошую чистку.
— Понятно, — в раздумье сказал Ланарк. Он, кажется, представлял, что последует дальше. Но готового решения у него не было. Нужно еще подумать, а времени на это, он чувствовал, ему не дадут. Стало быть, нужно думать быстро, а быстро думать он не привык.
— Слушай, — сказал Джо. — Мы уже все обговорили. Поддержка обеспечена. Мы подобрали своих людей. В председатели хотим предложить Крастера…
— Достойный человек, — сказал Ланарк, чувствуя облегчение.
— Точно, — сказал Джо. — Теперь Оутс. С ним порядок, он свой. Пусть остается, будет казначеем. Зато делегатом мы думаем предложить Гарри Джордана. Так что почистим комитет как следует.
— Комитет вы подобрали толковый, — сказал Ланарк. — А как с Лэмбертом? Спрашивая, он уже догадывался, какая роль предназначалась ему самому.
— Найдется и ему дело, — сказал Джо. — Человек знающий. За что и ценим. Все-таки двадцать лет просидел секретарем. Тут кто хочешь уму-разуму наберется. А решительности уже нет. Выдохся старик. Пора ему на покой, так мы считаем. Вот кого будет трудно свалить.
— Он всему голова, — обронил Ланарк.
— У нас есть на примете другая, не хуже. Догадываешься, о ком я?
— Понятия не имею, — деревянным голосом соврал Ланарк.
— О тебе, конечно.
— Вот как? — притворно оживился Ланарк. — Слушай, Джо. Нельзя действовать наобум. При всех своих недостатках Лэмберт хороший человек, ты этого не забывай. У него двадцатилетний опыт. Знания.
— А что толку? — презрительно парировал Джо.
— Не об этом речь, — сказал Ланарк. — Тебе хоть кол на голове теши — ничего не понимаешь.
— Приятно слышать, — сказал Джо.
— Лэмберт разбирается в профсоюзном деле больше нас всех, вместе взятых. А ты меня суешь на его место. Всему учиться, начинать с нуля.
— Это речь в поддержку Лэмберта? — поинтересовался Джо.
— Нет. Просто хочу, чтобы ты взглянул на дело и с другой стороны.
— Попробую. Тебе не по душе застой. Ты годами твердил, что нас нужно расшевелить. Наконец у нас тоже открылись глаза. И первое, что нужно сделать, это убрать с дороги всю честную компанию. В том числе Лэмберта. Что же, мы не понимаем, что тебе придется всему учиться? От тебя не ждут чудес. Мы верим в тебя, а в Лэмберта не верим — вот что главное. Ты дашь свое согласие, Джимми?
Несколько минут они шли молча.
— Дай мне время, мне нужно все обдумать, — объявил Ланарк.
— Я прогуляюсь с тобой вокруг твоего дома, — неумолимо сказал Джо. — Ты выгадаешь еще десять минут. Завтра перевыборное собрание. Некогда тянуть канитель. Решай сейчас.
Ланарк попытался собраться с мыслями. Сам виноват. Сколько он трубил о зарплате! Требовал ее повышения. Перекрикивая других, требовал что-то предпринимать. Главный смутьян. И теперь его призывают взять в руки бразды правления. Спору нет, их дело правое, в этом он не сомневался. Квалифицированные рабочие были самой малооплачиваемой категорией в отрасли. Потому что были категорией малочисленной. Это бы ничего, будь они активнее. Но профсоюз подавал слабые признаки жизни, рядовые члены разбились на безразличных и разочаровавшихся. И он взывал: возьмитесь за профсоюз. Гоните в шею замшелых бюрократов. Надо бороться! Возьмите подъемников — их тоже мало, но они неугомонные люди. И поэтому у них выше заработки.
Теперь его словам вроде бы вняли. Но дело принимало нежелательный для него оборот. Он хотел спокойной жизни. Он не хотел целиком уходить в профсоюзную работу. Он не прочь уступить кому-нибудь другому лавры — вместе с ответственностью. Прийти на собрание, выступить — это пожалуйста. Но быть секретарем… справится ли?
— Ну? — спросил Джо. Они стояли перед входной дверью.
— Сейчас, Джо, — сказал он и бросил взгляд в глубь улицы, увидел шахту, сгрудившую в лощине свои строения, увидел дымовые трубы и копер, чернеющие в лучах закатного солнца. Если его изберут, то он войдет в число тех, кто управляет всем этим хозяйством. Он всегда знал про себя, что рожден для настоящих дел. Лэмберт был продуктом осторожной, консервативной эпохи. А наступал новый век, и он требовал новых людей. По существу это было не предложение, а вызов. Он мог продолжать жить по-старому — ни шатко ни валко. Так проще, но тогда на нем надо сразу ставить крест. Так почему не согласиться? Все упиралось в Лэмберта: он семь лет проходил у него обучение, уважал старика. Впрочем, это — так, чувства. Он их отбросил. Вызов надо принимать. В конце концов, подумал он с привычной ленью, исход выборов под вопросом. Лэмберт пользовался всеобщей любовью. Совсем не обязательно, что их дело выгорит. Джо нетерпеливо шевельнулся.
— Давай, приятель, решай. Холодно.
— Ладно, выдвигай, — сказал Ланарк.
— Молодец! — не скрывая явного удовлетворения, сказал Джо. — Я знал, что ты нас не подведешь.
Годичное собрание второго отделения Саут-Стейтширского рабочего объединения было событием заурядным и ничего не решавшим. Так было в туманную пору, когда движение только зарождалось, так с тех пор и повелось. Был случай, когда возникла мысль за неделю до собрания подавать секретарю список кандидатур к избранию, но тогда же все, включая руководство отделения, сочли это предложение полнейшей чушью и отмели с порога. Поэтому у заговорщиков было одно оружие — внезапность. Предыдущие выборы руководящих членов объединения проходили так: председатель зачитывал кандидатуры по порядку, не допуская даже мысли, что усталый и безразличный голос из зала может прервать его и потребовать переизбрания кого-нибудь. Но бывало, хоть и очень редко, что предлагалась-таки встречная кандидатура. Тогда в копре проводили тайное голосование. Но и оно ничего не меняло. Отделение не любило перемен. Если кого-то выбирали в правление, то это на всю жизнь. Со своего поста тот уходил сам — на покой либо в могилу. Лэмберт был секретарем двадцать лет; старина Джо Форстер занимал председательское место без малого двадцать пять, и даже самый молодой из этой троицы, Оутс, сидел в правлении уже десять лет.
На следующее утро Ланарк разыскал Джо.
— Слушай, Джо, — озабоченно сказал он. — Я все думаю о Лэмберте. Он не привык встречать отпор. Для него будет полная неожиданность, когда вы меня вечером предложите. Это же как гром среди ясного неба. Я хочу ему сказать. Так будет справедливо.
— Не будь дураком! — взорвался Джо. — Поставь себя на его место. Он бы тебя предупредил?
— Думаю, что да.
— Да никогда в жизни!
— Ну, мне не важно, как бы он там решил, — настаивал на своем Ланарк. — А я хочу по справедливости. Все-таки старый человек. Какие у него там ни есть недостатки, а служил он делу на совесть. В общем, я ему скажу.
— Ты что, не понимаешь, что мы рассчитываем на внезапность?
— Раз я за это берусь, я хочу победить честно. Джо в отчаянии швырнул на землю молоток.
— Господи, а что плохого в нашем расчете? У него какая поддержка! Мы должны хвататься за любую возможность. Если ты ему скажешь, он до вечера навербует себе еще. А не скажешь, так у вас будут равные шансы, только и всего.
— Нет, все-таки скажу, — сказал Ланарк и, не слушая дальнейших возражений, ушел. Он отправился прямо в ремонтные мастерские, где работал Лэмберт. Однако его верстак пустовал. Мимо прошел, пытливо взглянув на него, Каррузерс, мастер. Он знал, что Ланарку в смене с другими ремонтниками предстояло спускаться в шахту.
— Кого-нибудь ищешь, Джимми? — спросил он. Ланарк понимал, что это только приступ к другому вопросу.
— Лэмберта. Поговорить надо.
— Сегодня ты его уже не увидишь. Его ночью вызывали. Что-то с насосом было неладно. Он только что ушел домой.
— Жаль, — стараясь выглядеть встревоженным, сказал Ланарк, хотя на душе сразу полегчало. — Может, еще догоню?
— Ушел, — отрезал Каррузерс и вынул часы. — Да и тебе, по-моему, пора идти, Джимми. Скоро восемь…
Действительно пора, и Ланарк пошел из цеха. Из кузни навстречу ему вышел Джордан.
— Я тебя провожу, Джимми, — сказал он. — Надо на территории кое-что посмотреть. Говорят, ты сегодня будешь в секретари выдвигаться.
— Верно говорят.
— Молодчага, — сказал Джордан. — Должно выгореть дело. Ему давно пора на покой. Думает, он незаменимый — то-то удивится вечером!
— Да, — обронил Ланарк. — Я его как раз искал.
— Лэмберта? — удивился Джордан.
— Думал, будет справедливо сказать ему, что я сегодня выдвигаюсь.
— Псих, — неодобрительно заметил Джордан. — А вообще он ушел домой, так что ничего ты ему уже не скажешь.
— Он должен знать, — сказал Ланарк, чувствуя себя размазней и дураком.
Джордан уставился на него.
— Зачем? С какой стати? Вечером все узнает. Ланарк поискал и не нашел подходящих слов.
— Не знаю, — выдавил он, наконец. — Только нельзя с ним так. Пусть мне не по душе его идеи о зарплате и вообще. Зато он прямой человек. Он раз-другой меня сильно выручил.
— Я тебя не понимаю, — сказал Джордан, мотая головой. — Это годичное собрание — так? Ты такой же член организации, как он. Имеешь право быть выдвинутым. О чем тут говорить?
Ланарк понял, что толку из такого разговора не будет. И Джо, и Джордан видели дело совсем в другом свете. Можно измозолить язык, и все равно Джордан ничего не поймет. Свою голову другим не приставишь.
Мысли не давали ему покоя всю смену. Словно нарочно так подстроилось, что Лэмберта не было на месте, когда он пришел переговорить с ним. Ему претило это объяснение, но он понимал, что правильнее будет сказать, и убедил себя в этом. А когда Каррузерс сказал, что Лэмберт ушел домой, у него камень с души свалился. Мало приятного выложить такому человеку, как Лэмберт, что метишь на его место. «Лично против тебя мы ничего не имеем, — проговаривал он про себя, — просто мы утратили в тебя веру и хотим вывести из правления». Нет, еще не поздно что-то сделать. Можно зайти к нему после смены. Прийти и сказать: «Джек, мне бы тебя на пару слов». Джек проведет его в гостиную, спросит, в чем дело, усядется напротив, с мудрой и такой знакомой улыбкой будет ждать, когда он промямлит слова, которые прогонят эту улыбку с его лица. В конце концов, он решил, что зайдет к нему по пути домой.
Когда он вышел из шахты, решение казалось бесповоротным. Но стоило ему подойти к дому Лэмберта, как его буквально замутило. Ему захотелось бежать куда глаза глядят. Расплеваться со всем этим раз и навсегда. Но на него рассчитывали, одернул он себя. Он будет баллотироваться на место Лэмберта, и избежать этого уже нельзя. Значит, надо сказать Лэмберту. И все-таки он ему не сказал.
Это вышло так. Он забыл номер его дома, помнил только, что на широком подоконнике стоят рядком несколько цветочных горшков. Ланарк с женой, бывало, не могли пройти мимо без смеха, каждый раз гадая, чего ради их выставили: никаких цветов там не росло. Однако они неизменно торчали в окне. Может, миссис Лэмберт коллекционировала горшки. Он шел по улице и высматривал окно с горшками. И надо же тому случиться: у окна сидел сам Лэмберт и что-то писал. Он поднял голову и улыбнулся Ланарку. Тот улыбнулся в ответ, помахал рукой. И пошел своей дорогой. Всему виной та улыбка. Он понял, что не в силах подойти к старику, и еще понял, удаляясь, что совершает непростительную ошибку. Но он ничего не мог с собой поделать.
В зал Лэмберт вошел уверенной поступью, в ладу с самим собой и всем миром. В его жизни это было не первое и не последнее собрание. И снова он улыбнулся Ланарку. Для Ланарка у него была особая улыбка, словно говорившая: «Мы с тобой, паренек, не шапочные знакомые, верно? Семь лет протрубили вместе». В ответ Ланарк скроил жалкое подобие улыбки, но Лэмберт, кажется, ничего не замечал вокруг. Ланарк не сводил с него глаз. Вот он открыл портфель, достал папку с протоколами, какие-то бумаги. Обсудил повестку дня с Джимом Форстером. Оба они чувствовали себя вполне непринужденно. Только Оутс держался особняком и замкнуто. Когда старина Джим по какому-то случаю сострил, он лишь вяло улыбнулся. Наверняка и он знает о том, что готовится, подумал Ланарк и почувствовал к нему острую неприязнь. Если ты что-то знаешь, то это твоя прямая обязанность — сказать обо всем своим старшим товарищам и коллегам. А Оутс им ничего не сказал, это ясно. Теперь сидит и мучится и ждет, когда разорвется бомба. Тут и у Ланарка засосало под ложечкой. Он ничем не лучше Оутса. Он прошел у Лэмберта рабочую выучку. Старик был ему другом. Семь лет проработать бок о бок — это не шутка. Такой человек тебе уже не чужой…
Зал заполнялся народом. Ему еще не приходилось видеть такой дружной явки. Не хватало стульев. Мимо с парой стульев прошел Крастер, дал ему легкого тычка и, не таясь, подмигнул. Лэмберт стал заметно нервничать. Какие-то все сегодня странные. Он почуял недоброе. Настроение — как накануне забастовки. Его острый взгляд пробегал по рядам, ноздри подрагивали. Он потянулся к старине Джиму и что-то ему сказал. Ланарк догадался — что: «Что-то назревает, Джим». Теперь и Форстер забеспокоился.
Над головами клубился сизый дым. Пять минут восьмого. Покрывая гомон, раздался голос: «Открывай собрание, председатель!»
Лэмберт приступил к чтению отчета. На некоторое время Ланарк расслабился. Может, оттого, что Джо еще не пришел. Хорошо бы, понадеялся он, что-нибудь его задержало. Тогда, глядишь, никакого выдвижения и не будет, хотя о его намерении баллотироваться наверняка уже все знали — за исключением, понятно, Лэмберта и Форстера. Ему заговорщицки улыбнулся Джордан. И все-таки отсутствие Джо, как ему казалось, могло расстроить весь их заговор. Что ни говорите, это нешуточное дело — замахнуться на авторитет людей, которые состарились на своей работе, и только Джо эта задача была по плечу.
Джо явился к концу отчетного доклада. Крупный, сильный, он внушал чувство уверенности. Ланарк невольно задумался, почему Джо сам устранился от избрания. Может, потому, что эту уверенность ему давала свобода от ответственности. Такие люди не любят связывать себе руки, они отливают пули, которыми палят другие. А сами остаются за кулисами.
Вот подошли и выборы. Начали с секретаря. Повисла тяжелая пауза. Набухал заговор, тучи сгущались. Лэмберт стоял, опустив голову. Нацелившись ручкой, он смотрел в свою папку. Ожиданием этой минуты жили целый день, но она не принесла разрядки. Никто не пошевельнулся. Лишь слабый дымок вился над оцепеневшими фигурами. Пора кому-то вяло протянуть: «Предлагаю переизбрать, председатель». Но этот «кто-то» молчал, и Ланарк с горьким чувством подумал, что его самого посвятили только в часть заговора. И тут Лэмберт медленно поднял точно свинцом налитую голову. Его молящие глаза обежали каменные лица, обращенные к нему. Тишину вспорол резкий голос Джо.
— Господин председатель, — растягивая слова, сказал он, — я бы хотел рекомендовать на этот пост мистера Ланарка. Шарканье ног, единой грудью шумный выдох и выкрики в поддержку. Председатель растерянно взглянул на Лэмберта. А тот смотрел на Ланарка. В его взгляде не было и тени упрека. Обеспокоенному Ланарку почудилось в нем лишь сожаление, и он окончательно смешался и отвел глаза в сторону.
— Какие еще будут предложения, джентльмены? — спросил Форстер. И по тому, как он процедил слово «джентльмены», было ясно, что нервы его на пределе. — Хочу подчеркнуть момент, — продолжал он, — который присутствующим должен быть хорошо известен: наш нынешний секретарь имеет право на переизбрание.
— Мы это знаем, господин председатель, — сказал Джо. — И называем только одну кандидатуру. На этом с выборами секретаря можно бы и кончить. Я предлагаю перейти к другим членам правления.
Старина Форстер взвился со стула.
— Когда мне потребуются советы, как вести собрание, значит, мне будет пора подавать в отставку! — выкрикнул он.
— Может, уже и пора, — беззлобно, сказал Джо. Рабочие помоложе рассмеялись. Смех утих, когда встал Лэмберт. Говорил он недолго и без апломба. Ланарк почувствовал прилив восхищения к нему. Когда тот сел, по рядам прошел одобрительный гул. Старика спровадили, но он сумел уйти с достоинством.
Только теперь Ланарк вполне осознал, что его избрание состоялось и теперь его очередь что-то сказать. Поблагодарить товарищей за доверие. Но он не мог ничего из себя выдавить. Он не мог заставить себя встать и сказать несколько общих слов, как полагалось. Какая-то глухая сила навалилась ему на плечи. Словно в этом тесном зале перед его глазами разорвалась пелена, и он увидел не механизм демократической процедуры, а лишь слегка затушеванное торжество древнего и извечно безжалостного закона. Он увидел это слишком хорошо, и увиденное внушило ему отвращение и оглушило его. Он смутно воспринимал дальнейшее и как сквозь сон уяснил, что победа досталась заговорщикам.
А потом собрание кончилось, и Джо ждал его на улице. Они пожали друг другу руки.
— Ну вот, — весело сказал Джо. — Дело сделано. Вечная память Лэмберту.
— Ты уверен? — сказал Ланарк, заранее не веря ответу на свой вопрос. Потому что про себя он знал, что никогда не освободится от Лэмберта, покуда сам будет жив.
МЕДНАЯ ПУШКА
Мой дядя Бен говорит, что был в его жизни один-единственный случай, изменивший ход истории, — это когда он пальнул из пушки в мистера Роуза. Вообще же это был его второй залп.
В ту пору дядя Бен был совсем пацан, а всего их было одиннадцать сотен, мужчин и подростков, чьим трудом держалась угольная империя «Копи Воронья балка». Чтобы взять уголь, нужна армия народу, и сорок лет назад ее авангард составляли забойщики с кайлами и лопатами, дюжие откатчики, не боявшиеся перегрузить вагонетку, благо и пони были им под стать, такие же крепкие; потом стволовые и техники, вихрем гонявшие партии вагонеток по бесконечным штольням, и, наконец, механики, содержавшие в порядке все это хозяйство. Дядя Бен и его закадычный друг Джо были молотобойцами — иначе говоря, махали кувалдами в кузне.
Управлял этим великим воинством мистер Роуз — Хозяин, десятник, некоронованный король, без угля не мысливший своей жизни, Наполеон алмазной империи, как тогда говорили. Если выработка была хорошей, рассказывал дядя Бен, мистер Роуз уходил с шахты, напевая «Лилию лагуны» и одаривая леденцами встречных и поперечных. А если на-гора выдавали мало угля, он словно набирал в рот воды и обезглавливал железным прутом все попадавшиеся на пути одуванчики.
Премьер-министром у него был личный секретарь — «мистер», когда приходилось смотреть в его постную морду с зелеными рыбьими глазами, и просто Скалли, когда он поворачивался к вам спиной и отходил подальше, потому что глаза у него, говорят, были всюду, не только на морде, а даже не скажу где, и вообще, нюх или там чутье у него были развиты до ужаса. Кивая на десятника, он вел дела железной рукой; поговаривали, что он попросту подменил десятника, и было непонятно, почему приличный и честный человек вроде Джона Роуза должен терпеть рядом такую гадину.
Другие помашут кувалдой — и устраивают перекур, а дядя Бен задумал между делом смастерить пушечку и извести семейство крыс, обосновавшееся в темном углу кузни, где были свалены щипцы и ковочные штампы. Джо порыскал вокруг и нашел хорошую медную болванку, приятели обточили ее на токарном станке, рассверлили дуло, поставили на лафет — и готово орудие! Оставалось приладить колесики, но на это терпения уже не хватило, хотелось немедля испытать пушку. Ребята дождались, когда рабочие разошлись по домам, засыпали в пушку пороху, забили большой железный болт. Сунули в горн кочергу, спрятались за наковальню и стали ждать крыс. Но крысы оказались умнее. Пришлось искать другую цель. Джо предложил канистру из-под масла, дядя Бен облюбовал дверь. Она с первого выстрела слетит с петель, уверял он, а закадычный Джо возразил, что на ней и царапины не останется, только порох зря спалим.
— Сейчас увидишь, как зря! — сказал дядя Бен и без лишних слов поднес к запалу добела раскаленную кочергу. Шипенье, грохот, кузня содрогнулась и окуталась дымом. Когда дым чуть развеялся, они увидели на месте двери пустой проем. — Видал? — крикнул дядя Бен. — А ты говорил — зря!
Но тут раздался еще один звук, от которого у них обоих душа ушла в пятки. Это подал голос мистер Роуз: он стал открывать дверь в тот самый момент, когда вспыхнул порох, и теперь выбирался из-под руин. Он подошел на ватных ногах и склонился над пушкой.
— Кто это сделал? — спросил он.
— Я, — сказал дядя Бен.
Мистер Роуз взглянул на Джо, но ничего не сказал.
— А кто поджег? — спросил он.
— Я, — сказал дядя Бен.
Мистер Роуз опять перевел взгляд на Джо.
— А ты что же, просто стоял рядом? — спросил он.
— Мы вместе, — сказал Джо, обретя дар речи.
— Эдак лучше, — сказал мистер Роуз. — Честность — первое-дело. Как она действует, эта штука?
Мистер Роуз, рассказывал дядя Бен, задал еще много вопросов, попросил пальнуть еще разок — теперь по канистре, которая осталась целой и невредимой, потому что, поди, прицелься, когда дело пахнет увольнением. Но дядя Бен держался молодцом и даже вовремя попридержал язык, когда мистер Роуз опустил в один карман своего плаща пушку, а в другой ссыпал порох и положил снаряд. Дядя Бен правильно смекнул, что лучше поберечь слова, тем более что сам мистер Роуз на ветер их не бросал. Он сказал:
— Так, ясно, как день, что ты зачинщик, сорванец Бен. Завтра в час дня жду тебя в конторе. Запомнил? В час дня, как из пушки.
— А сейчас нельзя решить, сэр? — спросил дядя Бен.
— Видишь ли, в меня впервые стреляли, — сказал мистер Роуз. — Есть над чем подумать. Потерпим, утро вечера мудренее.
Он ушел, а дядя Бен и закадычный Джо, посовещавшись, решили, что во множественном числе мистер Роуз, как и полагается монарху, высказался о самом себе, потому что им-то никакого терпежу не хватит до утра.
На следующий день, повесив голову и засунув руки в карманы, дядя Бен без четверти час отправился через рудник в контору, безрассудно надеясь, что земля разверзнется и поглотит его. Вместо этого он напоролся на Скалли, который шел домой обедать, и выслушал совет разуть глаза, вынуть руки из карманов и вообще привести себя в приличный вид, если ему еще дорога работа. После такого начала дядя Бен приготовился к худшему и решил бросить монетку: если орел — идти к мистеру Роузу, а если решка — уходить в море. Оба раза вышла решка, и еле живой от страха дядя Бен постучал в дверь.
— Войдите! — рявкнул из-за двери мистер Роуз.
Он сидел на вращающемся стуле. Рукава серой фланелевой рубашки закатаны, лицо и руки после шахты в угольной пыли, и не слышно, чтобы он напевал «Лилию лагуны». На столе перед ним располагались улики — пушка со всеми ее принадлежностями, зато в комнате, с радостным облегчением отметил дядя Бен, никого посторонних не было: он-то боялся, что на разбирательство вызовут отца.
— Погрейся у огня, паренек, — сказал мистер Роуз.
— Я… мне и так тепло, сэр, — промямлил дядя Бен.
— Не дури, — сказал мистер Роуз. — Грейся, а то холодно. Дядя Бен протянул к огню руки, причем, он рассказывает, потребовалась немалая сила воли, чтобы повернуться спиной к мистеру Роузу: прут был у того под рукой. Наконец мистер Роуз заговорил.
— Ты можешь отсюда попасть в ту дверь? — он показал на дверь в кабинет Скалли.
— Выстрелить?.. — спросил дядя Бен, от изумления забыв прибавить «сэр».
— Вот именно, — сказал мистер Роуз.
— Так не попаду, сэр, — сказал дядя Бен. — Ее нужно зажать в тиски.
— Найди их и зажми — да поскорее, — сказал с ходу принимавший решения мистер Роуз и взглянул на часы. — Поторопись — у нас всего двадцать минут времени.
По пути в кузницу дядя Бен размышлял, что могли значить эти двадцать минут, и решил, что, по всей вероятности, мистер Роуз хочет привести в исполнение необъявленный приговор до возвращения служащих с обеда. В закутке у мастера он взял тиски и понесся обратно, только и успел кто-то из слесарей крикнуть: «Таких тисков еще нет, чтобы прищемить тебе хвост!» И все, кто был в кузнице, устроили ему «барабанную дробь», или, говоря понятным языком, стали грохать молотками по горнам и наковальням, вымещая на них свою тревогу.
— Живее! — встретил его преобразившийся мистер Роуз: угрюмости как не бывало, глаза возбужденно сверкают. — Пошевеливайся, паренек, закрепляй ее на совесть!
И минуты не прошло, как впившиеся в столешницу тиски мертвой хваткой обжали пушку. Мистер Роуз приложил прут к двери.
— В верхний край попадет?
Дядя Бен сказал: попадет, и мистер Роуз швырнул прут в угол, потер руки и крикнул:
— Заряжай, малец!
Тот, понятно, зарядил, а мистер Роуз сунул в огонь кочергу, и тогда ужасная догадка осенила дядю Бена, припомнившего разные истории про мистера Роуза: дескать, правосудие у него особое — тюрьме позавидуешь, если со смеху не помрешь. Мистер Роуз поскреб подбородок и сказал:
— Ступай в кабинет Скалли и, когда я позвоню, сразу входи. Без стука.
Последние сомнения рассеялись.
— Сэр, — взмолился дядя Бен, — я больше никогда не буду заниматься глупостями на работе. Честное слово! Вы вон какой большой, а я же маленький, я уродом останусь!
— Интересно, — сказал мистер Роуз. — Ему, значит, можно, а мне нельзя.
— Так я-то уже знаю, что будет, сэр, — канючил дядя Бен. — Простите на первый раз, сэр!
— Как ты сегодня спал? — спросил мистер Роуз, и дядя Бен понял, что тот окончательно свихнулся. — Небось, глаз не сомкнул, гадал, что я с тобой сделаю?
Не сумасшедший, решил дядя Бен, а, наоборот, ясновидец, и обреченно кивнул головой.
— Я так и думал, — сказал мистер Роуз. — С тобой, паренек, разобрались и решили по справедливости. Ничего не бойся. А сейчас делай, что я сказал.
И все равно дядя Бен застучал зубами от страха, когда по звонку открыл дверь и увидел, что мистер Роуз у самого запала остужает раскаленную кочергу, и он только тогда вздохнул свободно, когда кочерга снова отправилась в огонь.
— Ступай работать, — сказал мистер Роуз. — И чтоб обо всем этом — молчок!
Под нарастающий рокот «Лилии лагуны» дядя Бен вылетел из конторы, не чуя под собой ног. Вся смена во главе с мастером устроила дяде Бену форменный допрос, но тот не проронил ни слова. Он говорит, что нервничал он ужасно и долго такого напряжения не выдержал бы. Но не прошло и часу, как новость выползла наружу и взбудоражила весь город сверху донизу. Случайно или умышленно у этой истории оказались очевидцы: когда в кабинете Скалли раздался звонок, там сидело шесть шахтеров с каким-то кляузным делом, и никто из них, понятно, не питал нежных чувств к этому волкодаву с «Вороньей балки». Скалли хватил со стола блокнот, рванул ручку двери и еще успел сказать: «Напрасно теряете время — этот номер у вас не пройдет». Тут громыхнуло, и Скалли свалился как подкошенный. Самое поразительное, что никто и не глянул на несчастного: все смотрели на мистера Роуза, в клубах едкого дыма и с кочергою в руке восседавшего за столом. Ужас, изобразившийся на его лице, был не в силах погасить выражение искреннего восторга. Наконец он бросил кочергу и поспешил на помощь.
— Что рты разинули? — крикнул он. — Лучше помогите бедняге. Он, наверно, ушибся.
Но Скалли отверг помощь.
— Оставьте меня в покое! — взвизгнул он, бессмысленно тараща глаза. Кто-то передал ему блокнот, он отшвырнул его.
— Как самочувствие, Скалли? — спросил мистер Роуз, усердно выколачивая из него пыль.
— Оставьте меня, я сказал! — огрызнулся Скалли и проковылял в кабинет, хватаясь за грудь и зевая, словно рыба, выброшенная на берег.
— Это вы, — ткнул он пальцем, — вы дали звонок. Вы нарочно нажали кнопку и запалили эту… штуку!
Рука мистера Роуза метнулась к губам.
— Звонок! — сказал он. — Я и забыл про него… Это вышло случайно, Скалли!
— Чушь! — кричал Скалли. — Вы дали звонок и запалили эту дрянь, как только открылась дверь.
— Мистер Скалли, не забывайтесь! — сказал мистер Роуз. — Согласен, что баловаться с этой игрушкой было глупостью, но я не представлял себе, какая это опасная штука, а главное, я задел звонок без всякой мысли, вот в чем дело.
— Чепуха! — кричал Скалли. — Я… Я подам в суд!.. За покушение на мою жизнь! Я вас упеку за решетку…
— И станете всеобщим посмешищем, — сказал мистер Роуз, каким-то образом умудрившись глядеть на Скалли сверху вниз. — Как пить дать. Вы подаете на меня в суд, а я гарантирую судье и присяжным самые веселые минуты в их жизни. Про прессу я уже не говорю.
Скалли затравленно огляделся — кругом люди.
— Принять смерть от детской пушки, — продолжал мистер Роуз, и шахтеры, подталкивая друг друга локтями, заулыбались. Вот эти шесть ненавистных улыбок его шестерых врагов и доконали Скалли.
— Вам это так не сойдет, — объявил он мистеру Роузу, причем «вам» прозвучало у него хуже самого бранного слова. — Сейчас я подаю заявление об уходе, но я еще вернусь, и вам всем крепко не поздоровится.
Он вылетел из кабинета как подстегнутый, семь улыбок провожало его, а через некоторое время издевательства вообще выкурили его из города. Скалли уехал, потом дела его пошли в гору, он стал без пяти минут миллионером и в принципе мог десять раз подряд купить и продать нашу «Воронью балку» с мистером Роузом и людьми в придачу, но мы были солидное предприятие, не на продажу. Мистер Роуз старел, добыча росла, он мешками раздаривал леденцы и распевал «Лилию лагуны».
А медная пушка, рассказывал дядя Бен, осталась стоять на каминной полке в кабинете Хозяина. Раз в неделю он ее надраивал, и она горела, как солнце. И когда мистер Роуз собрался уходить на покой и сдавал дела своему преемнику, именно с пушкой он не знал, как поступить, но потом решил:
— Пусть здесь остается как напоминание, что для оружия главное не сила, а цель, и, когда придет лихая минута, сорванец Бен, сбивай спесь с какого-нибудь мерзавца не раздумывая.
Мистер Роуз звал дядю Бена «сорванец Бен», даже когда тот обзавелся семьей и принял на свои плечи ответственность за одиннадцать сотен шахтеров. Водворившись в кабинете мистера Роуза, он не раз и не два вставал в тупик, и тогда взгляд на медную пушку помогал ему выбрать нужную цель и не промазать.
БИТКИ НА ПАСХУ
В то пасхальное воскресенье мать вдруг забрала себе в голову, что игра на деньги прямиком доведет меня до беды и загробных мук и что пора принимать меры. А право, было бы лучше оставить меня в покое.
Какой был день! С утра я играл в кункен[5] на голубятне у Паффера Джонсона, и от наших криков и матерщины его воркуны словно вымерли. В игре всегда так: вдруг пошла везуха. Я не терялся, и мы с Паффером в два счета обчистили тех умников. Мы еле затолкали в карманы нашу добычу. Там была медь в основном. Потом пошли в Инглтон-Вуд играть в расшибалку. Это уже классом выше: там за бросок ставили от половины доллара до фунта. И опять мне фартило. Я не успел оглянуться, как стал буквально миллионером. Самое бы время остановиться. Любой игрок знает: вдруг разливается такое сияние, а потом звонит звонок, за дело берутся крепкие мужики и кончают базар.
Сияние вокруг разливалось ослепительное. Помню, в какой тишине летела бита, с каким плеском разбивалась казна, какой вопль покрывал выкрики судьи: «Орел! Решка!» Еще лучше помню, как божественно хрустела в руке пачка долларов и фунтов. В тот день я взял пятьдесят фунтов! «Сейчас я им покажу класс», — сказал я Пафферу. Но вышел сонный дылда, какой-то ипподромный жучок из Ньюкасла, и в десяток хороших бросков разделался со мной. Мы уползли домой, вспоминая уплывшее богатство.
Мать сразу все поняла.
— Продулся! Когда ты поумнеешь?
— У меня еще есть шиллинг. Продержусь.
— Это тебе на завтра. А уж сегодня обойдешься без кино… Я удивленно уставился на нее: она терпеть не могла, что в воскресенье я хожу в кино, и вдруг говорит такое без всякой радости.
— Как-нибудь переживу, — сказал я.
— Может, пойдешь со мной в церковь?
— Чего?! — Я даже задохнулся от потрясения. — Чтобы слушать гнусавый треп старого козла? Ты, мамочка, шутишь.
— У капеллы сегодня специальная программа, — улещала она, зная, как я люблю хорошую музыку. Но я не дрогнул.
— Нет, мам, я из этого вырос.
Мне было всего шестнадцать, и другой бы рассмеялся, но мать даже не улыбнулась. Самым обычным тоном она поинтересовалась:
— И уже стесняешься сесть рядом с матерью, да?
— Да нет, мам, — сказал я. — Просто я договорился немного погулять с Паффером Джонсоном.
— Так возьми его с собой. Сядете на хоры. На пожертвование я вам дам.
Я навострил уши, но постарался не выдать своего интереса.
— Нет, мам, спасибо.
Закрывшись газетой, я приготовился продать себя подороже. И тут забрезжила настоящая цена.
— Ты ведь завтра идешь на битки?
Я застонал в ответ. Это все равно что, выбравшись на призыв архангельской трубы из могилы, спросить очухавшегося соседа, собирается ли он на Страшный суд. Мать знала, что я и мертвый поползу на битки, потому что в нашем поселке они — событие года для настоящего спортсмена.
Каждый год в страстной четверг хозяйки и все домочадцы, как известно, красят яйца — их варят вкрутую, добавив в кипяток щепотку кофе, луковую шелуху или горсть высушенных желтых цветков утесника, и они делаются темно-красными и бурыми, и вместе с другими пасхальными угощениями ребята берегут их до понедельника, а в понедельник катают по склону холма — наверное, в память о камнях, отваленных от гроба, — потом съедают.
В нашем языческом поселке было по-другому. Крашеные яйца мы ценили не только за раскраску, но еще за их крепость, и в понедельник чуть свет все уважающие себя представители мужского пола подхватывали свои кошелки с яйцами и шли биться. Нужно было своим яйцом разбить чужое — вот что такое битки. Один обжимает пальцами яйцо, оставив незащищенной маленькую, не больше шиллинга, лысинку, а другой хлопает по ней своим яйцом. И так по очереди. Узким концом по узкому, широким по широкому, и чье яйцо разобьется первым, тот проиграл, и яйцо достается победителю.
Но, конечно, не только возможность насшибать побольше яиц сгоняла на эти состязания девятилетних и девяностолетних. Мы бились партиями по шесть битчиков, и каждый ставил на кон полпенса. Да еще делались ставки на стороне. Подобрав яйца покрепче, можно было неплохо разжиться. Существовало предание, что однажды какой-то малый побил весь поселок и на выручку купил дом.
Поэтому, когда мать сказала про битки, у меня в голове образовался вихрь и зажглась сладкая мечта — кто меня осудит? — вот бы и мне разбить весь поселок! Мать сказала — и молчит. Я еще подождал и спрашиваю:
— А что?
— Если пойдешь со мной в церковь, то к завтраму я сварю тебе тройку особых яиц, я знаю способ. Против них ничье не устоит.
— А мои полдюжины?
— Эти само собой, — успокоила она. — И мелочь на пожертвования тебе и Пафферу.
Я не продешевил. На пожертвование нам каждому дали по три пенса. Два пенса мы пустили на сигареты, по пенсу положили в церкви на блюдо, и еще осталось два пенса на ставки. Совсем неплохо. От службы я ничего не запомнил. Я все время думал про тройку «особых» и какие победы меня ожидают.
Когда в тот вечер я уходил к себе, мать осталась одна терпеть отца: он, конечно, был выпивши, потому что в трезвом виде обычно помалкивал. Перед лестницей я помедлил, засмотревшись на три свежих яйца, уже выложенных на стол. Перехватив мой взгляд, мать утвердительно кивнула головой. Наверное, я пролежал не один час, отец все бубнил, и даже сквозь сон я различал его голос, а когда утром спустился, то своей тройки не нашел. Я сунулся в кладовку — миска была пустая. Тогда еле слышно донесся материн шепот: «Я их спрятала от греха — ты знаешь своих братьев. Задержись после завтрака, мы их испытаем».
Как только братцы выкатились из дому, она выложила передо мной мою тройку. Яйца были красные как огонь, с легким мраморным отливом. Только на битках никому не будет дела до их красоты. Мать прочла мои мысли и вытащила полдюжины, с какими я обычно ходил на битки.
— Попробуем! — сказала она повеселевшим голосом. — Ставлю против твоего «особого».
Она зажала в руке яйцо и подставила его широким концом. Я тюкнул, и с первого раза то раскололось. Теперь была ее очередь; я выставил свое красное «особое» острым концом. Мать ударила, но треснуло опять ее яйцо. Все больше распаляясь, мы продолжали испытывать те полдюжины, но результат был тот же, и скоро все шесть были разбиты, а мой красный биток уцелел.
— Мам, как они такие получаются? — спросил я.
— Это мой секрет, сынок, его нельзя выдавать. Я стал рассовывать яйца по карманам.
— Дэнни, сынок, — сказала она, и ее голос насторожил меня. — Ты хороший мальчик. Я не знала с тобой горя. Ты не выпиваешь, не путаешься с девицами, отдаешь всю получку. Только вот — азартный ты… беспокоит меня, что ты играешь… ведь это как болезнь. Я не прошу обещаний, это пустое дело, но ты задумайся. Сегодня у тебя будет большой выигрыш — я знаю, однажды я сделала такие же яйца для одного человека, и он всех обыграл. И уехал. Про все на свете забыл. Про меня тоже.
— Это тот парень, который обыграл весь поселок?
— Не важно, — сказала мать. — Главное, что другого такого удачного дня у тебя больше никогда не будет. Помни об этом и еще помни, что другим не повезло. Постарайся бросить все это.
Она плакала. Вот дела! Я злился на нее, жалел ее, мне было стыдно за себя. Все это вперемешку. На душе было муторно как никогда. Я схватил остальные яйца и поскорее убрался.
Ярко светило солнце, теплый ветерок продувал улицы и проулки. Все вокруг было чистое, ясное. Осветившись солнцем, все ответно светилось — кирпичи, черепицы и даже булыжники, а в тени плясали мириады радужных пылинок. Плясали в толпе и парни с девушками, все празднично одетые. Всюду веселье, и если закрыть глаза, то покажется, что ты в лесу, и что вовсю стучат дятлы. Тук-тук-тук. Только эти дятлы говорят по-человечьи.
— Подставляй широким, приятель!
— Готов!
— Готов да не совсем! Разуй глаза.
— Ладно, теперь ты.
— Узким, значит. Палец убери.
— Ишь, какой прыткий! Гони яйцо.
Партия разыгрывалась дальше, на сигаретах росли столбики серого пепла, вокруг вероятных победителей крутилась ребятня в надежде поживиться битыми яйцами. Я, не задерживаясь, спешил на другой конец улицы, к мостику через зловонный ручей, где собирались ребята постарше и взрослые мужчины и где бились по-серьезному. Помню, я пристроился к хорошей, денежной партии, и тут ко мне подбежали оба моих брата, чтобы занять яйцо — свои они уже все просадили. «Вы рядом стойте, — велел я. — Будете собирать, что я набью». И под общий смех поставил на кон полпенса. Братья отошли. Но они вернулись, и очень скоро. Я играл осторожно, как учили: крепко держал яйцо между большим и указательным пальцами, оставив крохотное окошко, — и скоро я убедился, что бояться мне нечего. Не знаю, как два других яйца, но то первое было рекордсменом. Успех был предрешен. К полудню я выиграл в двенадцати партиях и только одну проиграл — точнее, она развалилась, потому что нечем было со мной расплачиваться. Двадцать пять шиллингов от ставок и пять десятков колотых яиц, грудой лежавших на земле, говорили за себя лучше всяких слов: я таки побил поселок.
Мое возвращение домой было сплошным триумфом. Вместе с приятелем я шел впереди процессии, засунув руки глубоко в карманы, набитые звонким серебром и медью. Мир сиял и ликовал. Какая была пасха! Другой такой я не припомню! Даже кровельки над трубами сверкали, и из каждого окна летели снопы золотых стрел. За мной скакала вся наша уличная мелкота, теребила за хлястик, выпрашивая яйца, а на пороге, искусно разыгрывая удивление и восторг, меня, конечно, поджидала мать.
— Нет, ты посмотри на него, отец! Ты посмотри, что натворил Дэнни!
Но для нас с Паффером приключения только начинались. Он-то и заварил кашу.
— Айда на ферму! Там парни и девки все утро вкалывали, им сейчас знаешь как охота развлечься? Особенно девкам. Там есть симпатичные. Вот будет номер, когда мы заявимся и переколем им все яйца!
— Да что там есть-то? Хутор, улица да забегаловка.
— Без яиц не останешься, не бойся, — сказал Паффер и подмигнул. И с таинственным видом повел меня на ферму. Я и сейчас помню цветущие живые изгороди, боярышник, терновник, яблоневый цвет; по склонам оврага примула, на дне желтел бальзамин. Деревня молчала, как вымершая, только где-то в саду пел дрозд. У пивной Паффер схватил меня за локоть. «Погоди», — сказал он.
— Ты же знаешь — я не пью.
— А на ферме пьют, — сказал Паффер и опять многозначительно подмигнул.
Мы взяли две бутылки, он сунул себе одну в карман, я затолкал другую, и мы пошли дальше. Дом был длинный, приземистый, под красной черепицей, у порожка посверкивал ножной скребок. Паффер вошел не постучав, и за ним я. Внутри было людно, шумно, темно — оконца были крохотные. Стол был уставлен грязной посудой, за столом сидели четыре грудастые великанши и пили пиво. Паффер выставил наши бутылки.
— Принимай, Лил, — сказал он, ставя их перед самой толстой великаншей. И тут я остолбенел от ужаса: она расхохоталась низким голосом, потянула его к себе на колени, облапила и стала целовать.
— А это кто? — спросила она, оторвавшись и смерив меня взглядом.
— А-а, знаменитый битчик! Садись, паренек, устраивайся как дома. Играть будем после, еще тряхнешь мошной.
И она заколыхалась от смеха. Сесть бы хорошо, только куда? Всюду люди — на большом диване, на шатких стульях и табуретках и просто на подушках по углам. Это еще не все: сверху и из других комнат доносились неясное бормотание, выкрики, визгливый смех. В упавшей на минуту тишине я слышал голоса на лестнице: низкий и тревожный шепот женщины, а потом резкая, жесткая и требовательная мужская речь. Меня потянули за руку, я сел и оказался рядом со смуглой и стройной девушкой, маленькой и вертлявой, а какие глаза — не разглядел, стеснялся.
— Так ты знаменитый битчик? А имя у тебя есть?
— Меня зовут Дэнни Касл,[6] — сказал я, мучительно стыдясь своей фамилии, но она сказала: «Хорошее имя, и фамилия к нему хорошая», — и я возликовал. Я заерзал на краю дивана, и она добавила:
— Не бойся. Обними меня.
Я обнял ее за плечи и придвинулся ближе; она ткнулась головой мне под мышку, и я задрожавшими пальцами коснулся ее голой руки. Я спросил, как ее зовут. Она сказала — Дженни, она дочка здешней работницы. И прижалась ко мне совсем тесно.
За столом стали раздавать карты, и я впервые в жизни не захотел играть. И ей этого не хотелось, иначе она не цеплялась бы за меня, когда я вставал. Я мечтал поскорее выйти из игры. Наша взаимная симпатия не осталась незамеченной.
— Эй, Лил, а мой кореш снюхался с твоей Дженни, — подначил ее Паффер. — Куда смотришь?
— Пусть обжимаются на здоровье, — ответила та и загадочно добавила — Раз у меня на глазах.
Тут она взялась потрошить меня. В жизни не видел такого умного игрока. У меня же голова была занята совершенно другим, и очень скоро я с легким сердцем спустил все, что выиграл в битках. Дженни была никудышный помощник. Пока у меня еще было что ставить, и я искал ее взглядом, она в ответ сразу складывала губы в приветливую и обещающую улыбку. Потом дали подкрепиться — поставили на стол крепко заваренный чай, два таза с яйцами, навалили хлеба с маслом. А потом снова пошла игра. Появлялись какие-то новые типы, кто-то уходил. Так продолжалось, пока не опустели все бутылки, и тогда Лил требовательно забарабанила по столу.
— Дэнни принесет парочку, — пообещал мой друг Паффер.
— И чтоб одна нога здесь, другая там! — крикнула Лил. Тряхнув в руке остававшейся мелочью, я вопросительно посмотрел на Паффера, но тому было не до меня — он выигрывал.
— Где пивная — не забыл? Выручай. Выкручивайся, то есть, сам.
— Идем? — спросил я с забившимся сердцем. Мы взялись за руки и вышли. Пивная была в двух шагах, и через несколько минут мы вернулись к дому. Мы ни разу не взглянули друг на друга, но ее рука дрожала в моей, она была рядом и подавала волнующий и таинственный знак. Охваченный незнакомым чувством, я позвал ее погулять. И снова в ответ она еле заметно кивнула и все так же чуть загадочно улыбнулась. Она как будто онемела.
В комнате я поставил на стол четыре бутылки (на две мне дала деньги Дженни) и почти сразу пошел. В дверях я обернулся: на меня смотрела Лил. Мне стало не по себе от ее взгляда. Она рассмеялась и отвернулась. И вот мы с Дженни одни.
Мы были странная пара. Мы прошли полями, наверное, больше мили, не обменявшись ни единым словом. Но между нами шел неслышный разговор, и мы оба не разбирали толком, о чем он. Потом мы вернулись на ферму, и она увлекла меня в укромный полумрак коровника, взяла в ладони мое лицо, потянула к себе. Я нашел ее губы. Ошалев от миллиарда чувств, мы пятились, пока не ткнулись очень кстати в стог соломы. Нам стало волшебно хорошо.
А потом я увидел, как ее глаза уставились на что-то за моим плечом, тело напряглось, и она завопила душераздирающим голосом: «Не надо! Отпусти!»— и больно заколотила по моей груди кулаками. Я освободил ее, отступил на шаг и сразу попал в чьи-то крепкие руки. Меня сграбастала Лил, я беспомощно забарахтался.
— Вот в какие игры ты играешь, греховодник! Джордж, Фред, Салли, Бет — все сюда! Сейчас ты у меня получишь.
Они окружили нас кольцом. Дженни визжит, вытаращив глаза, лицо торчит из соломы белым пятном — от нее не стали ждать оправданий, и мне не дали рта открыть. Они стали швырять меня из рук в руки по кругу. Не чуя живого места, я лежал, оглушенный, в соломе. Издалека донесся голос: «Обошлось. Он ее не тронул. Вышвырните вон паршивца». И я очнулся уже в канаве. По мне сновали сотни мышей, если не крыс, и одна тварь, забравшись в карман, сквозь ткань царапала мне кожу. От ужаса я сразу очухался, перекатился на бок, вытряхивая гостя, и вижу: надо мной стоит мой славный друг Паффер. На дне канавы посверкивал трехпенсовик — все, что у меня осталось.
— Пришел тебя проверить, — сказал Паффер, не сводя глаз с монеты.
— Ага, ты очень беспокоился, когда они меня отделывали, — сказал я. — Нечего меня проверять, обойдусь.
Я еще собрался с силами и добавил:
— Вали отсюда.
Он отошел и обернулся. Смертоносно пахли майские цветы.
— Если честно, они меня обобрали. Вчистую. Ты меня прости, Дэнни.
— Бог простит, — сказал я, подобрал трехпенсовик и швырнул в его сторону. И пошел прочь. Я оглянулся: бог мне свидетель, Паффер ползал на коленях, словно слепой, отыскивая в темноте подачку, поломавшую нашу дружбу. Не знаю, почему я пошел к Бишоптонской дороге. Одно было ясно: домой я не хотел.
Лавки закрылись, в кино идти поздно, рыночная площадь была замусорена после дневного базара. Я брел, отшвыривая ногами клочки оберточной бумаги, стружку, огрызки. Какой-то парень корчился около стенки, и в свете газового фонаря я увидел, что его белое лицо искажено болью. Я еще раз оглянулся: он плашмя лежал на земле, неловко вывернув руку вбок, прямо в свою блевотину. Вдруг я услышал пение. Пели у подножия всадника, поставленного перед ратушей, и пели от души, звонко и радостно.
Я прошел через маленькое кольцо зевак. В центре, на ступеньках памятника, стояли в ряд певцы. Высокий старик с крючковатым носом играл на аккордеоне. У него были мертвые глаза, я понял, что он слепой, но играл он весело, и лицо у него было живое, улыбчивое. И какой-то парень пел и плясал перед памятником, словно царь Давид перед господом. Гимн кончился, и слепому аккордеонисту помогли взойти на верхнюю ступеньку.
— Меня зовут Джон Дейвис, — объявил он и выставил вперед дрожащий костлявый палец. — Может, слышал кто? Знает это имя? Я служил дьяволу. Терся на бегах, искал легких денег. За кружку пива играл в пивных. Я по уши сидел в грехе. И вот раз ночью я взошел по каким-то ступенькам и оказался среди братьев. И мне было откровение, оно вошло мне в душу. Джон Дейвис затрепетал. Поскорее скатился по тем ступенькам вниз. Еле добежал до ближайшей пивной, чтобы на дне кружки утопить, что он слышал. А что он слышал? А? От чего он убегал? Что завладело его душой и переменило жизнь беглеца? Это был Иисус Христос, за мои грехи распятый на кресте. Он взял на себя все мои грехи. Его положили в пещеру на горе. Облекли в саван. Его оплакивали как мертвого. А потом? После третьего дня они прибежали, говоря: Христос воскрес! Господь опять с нами! Вы, насмотревшиеся грешных картин, вы, оторвавшиеся от карт и обмана, вы, явившиеся из питейных домов, — все внемлите! Христос воскрес. Он воскрес во мраке загаженной души старика. Он коснулся слепого и грешного. Он принес всем радость, которая являет нам себя на пасху. Слава господу! Христос воистину воскрес. Аминь.
Он, дрожа, спускался по ступенькам, опираясь на руку парня, что плясал перед памятником. Он проходил совсем близко от меня и, повернув лицо в мою сторону, вдруг опустил мне на плечо свою руку — словно голубь сел.
— Храни тебя бог, — сказал он.
Я вырвался, пробуравил толпу и понесся в самую темень. Когда в хлеву меня мяла в своих лапах Лил — это было ужасно, но куда хуже прикосновение этого слепца, трепетное и невесомое. Его пальцы прошили меня до самой души, словно пятистрелая молния. Я летел, не разбирая дороги, а ветер доносил их пение, ему вторили мое грохотавшее сердце и сиплое, сбившееся дыхание, и я бежал, пока совсем не выдохся, и оказалось, что прибежал я опять на ферму.
Я затаился в поле. Забубнили голоса, кто-то заорал пьяную песню. Люди расходились. Один за другим гасли желтые огни. Осталось гореть одно окно. Что-то подсказало мне: это ее окно. Я прокрался в сад. За мной, будь она проклята, заверещала старая калитка. Опушенные цветами ветки стояли над головой, как облака. Заорав, метнулся в сторону желтый кот. Потом что-то шевельнулось в саду. Ко мне плыло лицо, голос шепнул: «Дэнни», и я понял, что это Дженни.
— А-а, это ты, — сказал я и повернулся уходить. Она взяла меня за руку и удержала.
— Дэнни, — сказала она, — не уходи. Прости, что так вышло, но я не могла иначе. Она бы меня до смерти избила. В прошлый раз я ходила с синяками несколько месяцев.
— В прошлый раз! — сказал я с упреком.
— А ничего не было, — сказала она. — Мы просто разговаривали. С тобой было совсем другое. У меня не было выхода.
— Хорошая слава пойдет про меня, — сказал я. — Завтра весь поселок будет знать. За всю жизнь не отмоешься.
— Бедняжка, — шепнула она. — Нашел чего бояться!
Она была слишком близко, чтобы сердиться на нее. Мы опустились на упругую траву и сквозь цветочное кружево смотрели на луну, пока ее не скрыла туча, и в этот раз нам не помешали. После того вечера я ни разу не был на ферме и больше не видел Дженни. Но я помню, как утром возвращался домой, отгулявший свою пасху, один-одинешенек под надзором звезд. Я не мог понять, откуда такое сиротство и почему на душе тоска. Уже подойдя к нашей двери, я глянул вверх, увидел размашистую россыпь Млечного Пути на небесном куполе и в приступе ярости и отчаяния понял свою беду.
Я уже не был одно целое с миром. Что-то треснуло, развалилась моя скорлупа. Все это случилось в один день, и я не знал, кого винить. Случилось — и все. Побили битчика, и на том с битками было покончено.
ДИПЛОМ СПАСАТЕЛЯ
Когда мне было десять лет, мы побросали наш скарб на грузовичок и из богом забытой деревеньки перебрались в поселок, где были и центральная улица, и кино с музыкой из репродуктора, и даже плавательный бассейн, выложенный желтым кирпичом и бравший воду с рудниковой гидростанции. Бассейн сделал меня другим человеком.
В родной деревне я был левша на обе руки и хромал на обе ноги. Башка не работала. Я брел по жизни, как впотьмах, готовый каждую минуту на что-нибудь напороться. Даже отец, обычно такой душевный, и тот вышел из себя, когда за пару куропаток я прокатился на машине в деревушку у черта на куличках и едва приплелся домой. «У тебя на плечах не голова, а луковица», — кричал он.
Бассейн преобразил меня. Я поплыл с первого раза. Какое наслаждение — процеживать воду между пальцами и, расслабившись, плыть как облачко. Здесь была моя стихия, мне было тепло и покойно. И все получалось. Уже к концу первого года я проплыл двадцатипятиметровку под водой, выиграл юношеские соревнования брассом (троих лидеров, мухлевавших выгребом на боку, дисквалифицировали) и вдобавок с отличием подтвердил свидетельство спасателя на водах. В один вечер я стал знаменитостью. Сам тренер потрепал меня по плечу. «Не забывай, на что ты способен, — сказал он. — Грянет день, придет случай, когда от тебя будет зависеть чья-нибудь жизнь».
Вот эти слова меня и погубили. Я стал искать случая спасти кому-нибудь жизнь. Как спасатель-доброволец я имел свой участок: заполненная водой глиняная яма, шахтный водосборник и мельничная запруда на реке. Сев на велосипед, я на бешеной скорости объезжал свои места, благоразумно поддев плавки под брюки, и молил бога послать мне утопающего. Но бог не внимал.
Я спускал все свои карманные деньги, уезжая по воскресеньям на побережье. Перебросив через шею связанные ботинки, я мерил по песку милю за милей, готовый на любой крик моментально сбросить штаны. Но за все время мне попалась только девчонка, раскровенившая ногу, да и та предпочла бы умереть от кровотечения, чем дать пощупать пульс.
Я почти отчаялся. Меня поддерживало только свидетельство, помещенное отцом в красивую рамку и вывешенное на кухне. В зимние месяцы я частенько посматривал на него. И неутоленная жажда славы томила меня с прежней силой. Придет мой час, и я вытащу из воды двоих — нет, даже троих сразу, а потом покрою все рекорды, переплыв Канал.[7]
Наступило лето, бог, видать, образумился и решил вмешаться. Это случилось, помню, в субботу днем на глиняной яме. У дальнего берега плескался какой-то купальщик. Вдруг он издал пронзительный вопль и ушел под воду. В следующую секунду на рябой от солнца поверхности воды вновь появилась и заплясала, как репка, его голова с распяленным в неслышном крике ртом. Я нырнул, как был, в рубашке, успев краем глаза увидеть, что вдоль берега вовсю наддает кто-то еще. У того была плоская, как блин, красная морда, он до этого сидел и ковырял пальцы на ногах. Я мучаюсь с рубашкой — какая тут скорость? — а ковыряльщик шпарит по берегу.
И все же я поспел раньше. А потом все пошло неправильно. Утопающий вцепился в меня руками и ногами и потянул на дно. Он даже ударил меня, вынырнув в третий или четвертый раз, и я отвесил ему хорошую оплеуху. Он тут же обмяк. Я только успел перевернуть его лицом кверху, как в нескольких шагах от нас в воду ахнул ковыряльщик и протаранил меня. И еще ногой поддал. Потом спокойненько отобрал мою добычу и погреб с ней к берегу. Что самое обидное — он и за мной вернулся. «Держись, уже близко», — приговаривал он, буксируя меня к берегу. Там собрался народ. Смех, шуточки. Я тогда впервые испытал это чувство — ненависть.
Мокрую рубашку я приторочил к багажнику, прямо на тело натянул свитер и тихонько уехал. Согнувшись над рулем, я миль десять вымещал обиду на педалях, но обида так и не прошла. Много лет спустя я проболтался одному старикану врачу, пьянице и цинику, что мечтал хоть раз в жизни спасти кого-нибудь. «И сейчас мечтаете? — спросил он, насмешливо перекосив лицо. — А вам не приходило в голову, что, может быть, не всякая жизнь того стоит?»
Но это потом, а в ту пору я, как мог, наказывал себя за неудавшуюся карьеру спасателя. Меня единственно утешало, что тот пройдоха, ковырявший пальцы на ногах, не получил ни медали, ни даже просто благодарности. Я стал избегать воды. Как заведенный крутя педалями (велосипед у меня был без свободного хода), я уезжал, куда глаза глядят, и наддавал, если по пути попадались пруд, озеро или речка. И никак не мог отделаться от того позорного воспоминания.
Наверное, прошло года два, и однажды летом, прихватив девчонок, я с двумя приятелями поехал в Скарборо. Я уже работал и в тот день был выходной. Мы набрели на плавательный бассейн, и один говорит: «Среди нас чемпион по плаванию и прыжкам в воду. Ему с этой вышки прыгнуть — пара пустяков». Жаль, говорю я на свою голову, что не взял с собой плавки и полотенце. Девицы подсказывают: можно взять напрокат. Им хотелось, чтобы я прыгнул с самой верхней площадки. Я лез на эту верхотуру целую вечность и когда оттуда посмотрел вниз, то сразу захотел обратно. Я увидел голубой квадратик воды и одинаковые белые пятна вместо лиц. Мои спутники ободряюще махали мне руками. Останется вечной тайной, как я набрался духу пройти до конца доски, когда все мое существо заклинало сесть, обхватить доску ногами и выжимать себя вперед по миллиметру.
Я птицей взмыл с доски, плашмя ударился о воду и медленно всплыл, вполне уверенный в том, что волочу за собой ворох выпавших кишок. Мне уже было не до того, чтобы классно показать друзьям австралийский кроль. Ни приветственных, ни восторженных криков, я еле выношу руки над водой и изредка чуть шевелю ногами, потому что у меня наверняка растянуты все мышцы, а кости переломаны или, в лучшем случае, вывихнуты из суставов. Приятель опустился на колени и, облегченно улыбаясь, помог мне выбраться на берег. «Я уж боялся, что придется бежать за помощью, — сказал он. — Как тогда, на глиняной яме». Я поднял на него глаза. Солнце сияло по-прежнему, но день померк.
И снова стала не жизнь, а сплошной идиотизм, только сам я уже был не тот безобидный балбес, что мучился в богом забытой деревушке. Теперь я не только себя мучил, но и другим не давал жизни. В конце концов я убрался из тех мест, сменил несколько работ, одна хуже другой, пока не нашел подходящую. Тоска отпустила, но к воде я больше не подходил.
Шли годы. Дела мои наладились, я научился скрывать неудовлетворенность собой и от окружающих, и от самого себя. И вот однажды я сел в машину и покатил в ту самую деревушку, где судьба так зло подшутила надо мной, сделав левшой на обе руки и хромым на обе ноги. Я прошелся по улице, на которой мы жили. Все как прежде, запущенное, невзрачное, на зубах скрипит песок, за проволочными заборчиками дома и угольные сараи. Кое-где во дворах еще висели старые цинковые корыта. Словно я только вчера уехал отсюда. Но я никак не мог вспомнить номера нашего дома, и тогда я подошел к пожилой женщине, поверх калитки смотревшей на улицу, и заговорил с ней. Конечно, сказала она, помню: дом номер 21, и она даже помнит, что я старший сын.
— Я до конца своих дней, — сказала она, — буду помнить и вас, и как вы вытащили нашего Гарри из реки.
— Вы, наверное, имеете в виду моего брата, — сказал я.
— Да нет, это были вы. Гарри, сорванец чертов, зашел, где ему было с головкой, а вы подоспели и за руку его вытянули.
Она недоверчиво покачала головой.
— Как же вы забыли такое?
— Вы путаете меня с моим братом, — сказал я.
— Входите, — пригласила она.
Меня провели на кухню. У камина в качалке сидел старик.
— Это парнишка Айка, что жил в двадцать первом доме, — сказала она.
— Я бы его теперь за самого папашу принял, — потянувшись из кресла, чтобы лучше разглядеть, сказал старик. — Так-так. Спаситель нашего Гарри.
Они показали фотографию Гарри. Совершенно незнакомое лицо. Я не мог вспомнить, чтобы я спасал этого парнишку из реки. Меня угостили чаем. В этом доме мне ни в чем не было отказа. Но странно: я не испытывал отрады. Память о событии изгладилась начисто, и я просто не мог убедить себя, что задолго до того, как выучился плавать, побеждать в соревнованиях, стал получать дипломы и мечтать о славе, — задолго до этого я спас человеку жизнь. Он был другое существо, тот спасатель. Он пропал вместе с тем балбесом, который был левша на обе руки и хромал на обе ноги. И вот я знаю, кого я спас. А где мальчик, которого я убил?
СЕРЫЙ
Между оглоблями приземистой тележки стоял, лоснясь шкурой невиданной красы, уэльский пони. Я не удержался от соблазна: запустил пальцы в гриву, обнял за шею и потрепал по мягкой шелковой грудке. Ему понравилось, мы подружились, и я посмотрел его зубы. Пятнадцать лет, а еще совсем молодец. Глаза ясные, чистые, серая шерстка отливает здоровым блеском.
— Умный шельма, а? — услышал я чей-то голос и обернулся: нас разглядывал невысокий ладный парень. По тому, как он взъерошил ему челку, а тот ответно подсунулся ему под руку, было видно, что они обожают друг друга.
— Красавчик, — сказал я. — Где ты такого достал?
— На Зубастой, — ответил он, и у меня бешено заколотилось сердце. — Уже десять лет вместе. Как шахта закрылась, я его и купил. После того знаменитого пожара.
— Надо же, — сказал я. — Я там до самого конца работал. В тот день я был в шахте.
— Мировой был пожар! — ухмыльнулся он, потом прыгнул в тележку, разобрал вожжи, кивнул мне — Будь здоров, приятель! — и уехал.
Я смотрел им вслед, пока их было видно, потом пошел своей дорогой, взбудораженный воспоминаниями.
Этот пони был вылитый Серый. Настоящий двойник. В ту давнюю пору я только начал работать в шахте и Серый был моим напарником, а такие роднее брата. Я скучал без него, и он скучал по мне. Конечно, это не сразу пришло, но очень скоро мы знали друг о друге, как говорится, всю подноготную. Он был шкодливый, как чертенок, пыльный, как пески аравийские, и чуть побольше кротовой кочки, но между друзьями это мелочи. Грохочущая старая клеть падает на глубину две с половиной сотни саженей, от скорости замирает сердце, потом выходишь на подземный рудничный двор и с другими откатчиками идешь к конюшне. Дорога петляет, конюшня вырублена в скальной породе, лошадки тянут морды из денников, на дверях бирки с кличками. Всего там было восемьдесят пони — покрупнее и помельче и всех мастей, какие им полагаются. Конюх подробно всех расписал. «Этот из Камберленда, а тот дартмурский; тот, что в углу, — шотландский. Мы его зовем Крошка, он в какую хочешь щель, в любую лаву просунется. Видишь того, лохматого? Он из отчего края, настоящий уэльсец. А этот вот — тихо, красавец! — с Изумрудного острова.[8] Тпру, ирландская образина!» Это означало, что красавец куснул его — из озорства, конечно.
Я влюбился в тех пони с первого взгляда. Я был в восторге от них — гнедых и в мушках, вороных и сивых, рыжих и пегих или мышастых, вроде Серого. Мне нравились их шелком отливавшие крупы, умные и не всегда дружелюбные глаза, мне не терпелось увидеть своего подопечного. Конюх провел меня в дальний конец, и там он помещался — серый, припудренный угольной пылью. «Твой, — сказал конюх. — Лучшего земляка из Уэльса здесь не сыщешь. Послушный как овечка, если с ним по-хорошему». Он показал, как запрягать. Все это время мы с интересом присматривались друг к другу, я и Серый, он явно прикидывал, на что я гожусь.
Мне никогда не узнать, чего стоило конюху удерживаться от смеха, но он, конечно, знал, что даже послушный Серый не прочь выкинуть номер. Я осторожно провел Серого по проходу и свернул в боковой коридор. Он послушно шел за мной, позванивая сбруей. Я еще подивился тому, что конюх, скрипя кожаным передником, словно подстраховывал нас, отстав на шаг-другой, но потом решил, что он просто тревожится за своего питомца. Мы вышли в откаточный штрек. Эта штольня почти на милю протянулась от ствола шахты к брокуэллским разработкам; туда уносились партии порожних вагонеток, там они загружались и канатной тягой возвращались к стволу. Это была, по существу, подземная железная дорога, свет моей лампы выхватывал из темноты рельсовый путь. Через эту же штольню уходил вверх, наружу, отработанный, надышанный людьми и пони в мили отсюда воздух, и Серому было достаточно разок вдохнуть его, чтобы сразу вспомнить о работе. В этом-то узком проходе он и начал приплясывать, петлять из стороны в сторону как психованный. «Шагай шибче, салага!»— рассмеялся конюх. Ничего другого и не оставалось, иначе пони просто размажет меня по стене. «Придержите его, придержите!»— молил я, и конюх ухмыльнулся и сунул руки в вентиляцию над головой. «Серый! — окликнул он. — Конфетка!» И тот сразу бросил дурачества и, раздувая ноздри, потянулся к нему. Мир был куплен за карамельку. В дело включились зубы. В жизни я не видел, чтобы сласти уничтожались с таким невероятным смаком, зубы, казалось, были специально приспособлены к тому, чтобы до последней крупинки истолочь конфету. Справившись с ней, Серый спокойно ожидал команды. Конюх тайком сунул мне в карман еще одну карамель. «Будешь мне должен, — сказал он. — Он потом еще запросит».
Второй леденец стал краеугольным камнем — мы сдружились накрепко. Хотя, конечно, бывали между нами трения. Иногда Серый настраивался полодырничать и вынуждал меня искать прут, но обычно кусок сахару образумливал его. Вообще же он работал на совесть. Но это еще не главное. Мы понимали друг друга. Этот коняга не только понимал все, что я говорил, но даже читал мои мысли. Знал, когда мне тошно и не до разговоров. Он даже не задумывался: просто все чувствовал. Больше того, наши беды были общими, клянусь богом. Когда он тосковал по родному Брекону,[9] я переживал вместе с ним. То же самое — когда умерла моя мать. Три дня не знали, чем меня утешить. Потом я вышел на работу, и утешение пришло само собой. Мой пони выложился ради меня без остатка, и оказалось, что это мне и нужно.
Был случай, когда он спас мне жизнь. Меня и раньше остерегали. В шахте это сплошь и рядом. Сядешь отдохнуть или перекусить и вдруг, словно что толкнуло, переходишь в другое место, где поудобнее, и тут-то на тебя рушится кровля. Отец как-то сказал: «Как будто она тебя приманивает: иди сюда, здесь опасно».
Вроде этого было и со мной. Правда, когда я переменил место, Серый пошел следом, толкнул меня мордой в плечо и пробежал ярдов двадцать вперед, в сторону шахты. В тусклом свете лампы я различал только его глаза, зелеными огоньками сверкавшие из темноты. Вот это и было странно. Если в шахте предоставить лошадь самой себе, она обязательно развернется мордой наружу, к стволу. Это понятно: оттуда вентиляция несет поток чистого, свежего воздуха. Там рудничный двор, конюшня, сено и покой. «Там» для них (как и для нас) — свобода. А Серый смотрел внутрь — на меня, в сторону разработок.
«Ты чего?»— крикнул я. В ответ он тряхнул задом и, звенькнув сбруей, на шаг-другой отступил назад. Он все так же стоял ко мне мордой. Мне доводилось слышать о том, что пони умеют предупреждать об опасности, но, когда я посветил лампой вокруг, все вроде было в порядке. Стойки по обе стороны полотна не кренились, крепь была целая, хорошая, кровля песчаника без единой трещины. Мышка шуршала газетой, в которую был завернут мой завтрак. С поперечной балки, словно вымазанное молоком и заляпанное грязью козье вымя, свисала плесень. Под сводом было гулко, как в колоколе. «Кончай баловать, Серый, иди сюда», — сказал я и сделал в его сторону несколько шагов. В ту же минуту полтонны кровли накрыли место, где я было уселся.
Все это, конечно, исключительные случаи, важнее, что за несколько сотен каторжных смен, ползая в наклонных пластах, мы по-настоящему привязались друг к другу. Загруженная вагонетка весила под шестьсот килограммов. На участки-то она легко катилась. Зато, когда ее нагрузят, тогда и скажутся несмазанные подшипники и вывихнутые от перегрузок оси: колеса не вращались. И полотно там было неровное, ухабистое, рельсы юлили, как им приглянется, и вагонетки то и дело сходили с них. От тех дней у меня вся спина в шрамах. Бывало, выжимались до последней капли, зато обо мне ходили легенды. «Самый проворный на свете откатчик»— такая у меня была репутация, и я был обязан ею только Серому.
Что это так, подтвердил случай, когда Серый захромал и я неделю промучился с его заменой. Поразительно, как ближайшие соседи по конюшне могут быть такими разными. Этого звали Художник, его денник был следующий после Серого. «С тем ты хорошо спелся, теперь этого обратай, — наказывал мой приятель конюх. — Он, в общем-то, ничего, только немного дерганый». Конюх еще долго говорил, вовсю хвалил меня. Ближайшие день-другой эти похвалы были мне особенно дороги. В двух словах: это была не лошадь, а самая настоящая свинья. С упряжью я ковырялся вдвое дольше, чем обычно, когда же он, наконец, выходил в проход, то сразу понуро вешал голову, словно побитый или еще чем обиженный. Строптивый и упрямый, он был никудышный работник, все время норовил укусить и, главное, никогда не поднимал головы. За все время, пока мы были вместе, он ни разу не взглянул на меня, даже когда брал сахар. Вывернется откуда-то снизу — дай бог руку вовремя отдернуть. Впрочем, я его особенно и не баловал.
Как же я был рад получить обратно Серого! А уж он как радовался! Говорят: рука и перчатка — так это про нас, хотя этим не все сказано. Я нашел подходящие слова: мы взаимно дополняли друг друга, только он получал от этого союза меньше, чем отдавал мне. Вот главная мораль, которую я вынес. И вовсе не легче, что другие паразитировали на мне. Я что хочу сказать: Серый был моим другом, а я его использовал. Я не мог иначе. Нашу шахту недаром назвали Зубастой. Тебя погоняют — и ты кого-то погоняешь. Мне кажется, Серый это понимал. Понимал же он, к примеру, такую вещь, как верность. Так уж устроено, что иногда приходится использовать других. Зато одно в наших силах: дружба. В минуту опасности мы забываем и о ней.
Полгода мы проработали вместе, потом нас разлучили. По делам я иногда пробегал мимо конюшни и не упускал случая заскочить к нему — сказать пару слов и поделиться яблоком.
Когда я видел его в последний раз, он словно чувствовал это — хватал меня зубами за куртку, не отпускал от себя. А может, я просто наслушался басен о том, что они все чувствуют. «Вы прямо влюбленная парочка, — сказал конюх Джек. — Иди-ка что покажу, Крис». У входа в конюшню с рудничного двора он поднял над головой лампу. «Что ты на это скажешь?»— спросил он, смахивая свободной рукой пыль. На кровле была окаменелость — прекрасно сохранившееся насекомое. «Да это жук»— сказал я. «Понятно, жук, — ответил Джек. — Интересно, что он как оцепенел, так и был здесь все время, и никто про него не знает. Кроме нас с тобой».
Я отошел, задумавшись об окаменелом глянцево-черном жуке. Скоро подниматься. Я присел в рудничном дворе, поджидая свою артель. И вдруг хрястнуло раз, другой, как будто перед носом разодрали порядочный кусок резины, где-то ухнуло, и кто-то закричал: «Горит, курва!» Я снялся без команды «старт». Я не уступал фавориту в Дерби,[10] однако меня обставил хромой с выработки ярдах в ста от того места, где я сидел. Из всех штолен выбегали голые по пояс люди, бросив на участках куртки, инструменты и всякое прочее снаряжение. Издали трещало, ухало, несло гарью. В сутолоке перед клетью я увидел конюха Джека. «Ради Христа, Джек, что там?»— спросил я.
— Сразу за конюшней загорелось, — сказал он. — Слава богу, все успели выбежать.
— А пони?
Он вылупил на меня глаза.
— Какие пони? Его волнуют пони! Я сам еле ноги унес. Вид у него был как у ненормального.
Так мы ничего и не узнали. Спустившаяся через два-три дня смена не прошла через стену огня. Штольню и конюшню заложили кирпичной кладкой. Месяцы потом не находил я покоя. Все думал о пони, о Сером. Как они живьем сгорели в денниках. Может, взбесившись от жара и шквального огня, они вырвались? Может, задохнулись, прежде чем огонь добрался до них? Как умер Серый? О чем он думал? Ведь это был мой друг, не забывайте. А я его бросил. Только мертвый глаз окаменелого жука ведает, как там все было. Сколько времени прошло, а я все думаю, думаю.
События того дня проворачиваются, как колесо, и все начинается и кончается одной мыслью: что я даже не подумал вернуться к Серому, пока не стало поздно. Вряд ли в тот раз его бросили впервые в жизни. Откуда знать, может, шахтерский пони привыкает к предательству. Но обо мне-то он что подумал, когда я улепетывал во все лопатки, бросив его на произвол судьбы? А именно это я сделал, хотя он был мне беззаветно предан. Так что же он думал обо мне? Не хочется дальше растравлять себя, но, может, он успел кое-чему научиться у Художника, своего ближайшего соседа по конюшне? Вы помните — тот строптивый и упрямый. Хуже лошади я не встречал за всю свою жизнь. Угрюмый, того и гляди цапнет, и всегда с опущенной головой. Мы так его и звали: понурый Художник. Как же он нас ненавидел! Зато, думаю, он не умер с чувством, что его предали.
НА ПЕРЕВАЛЕ
Солнце уже стояло высоко, изумрудно посверкивали обработанные химикалиями виноградники на склонах гор за кукурузным полем, на котором кто-то, справлявший малую нужду, приветственно махал свободной рукой красному автомобилю. Слившись с ним, Нед неотрывно смотрел на дорогу, зато старик, его дед, поощрительно помахал нахалу. Умиротворенное настроение старика покоробило Неда. В голове горошиной гремела мысль. Ищешь сюжет — и обязательно подворачивается что-нибудь неподъемное. О ветровое стекло разбивались мухи и расплющивались в ажурные, насквозь источенные монеты со скелетиком вместо царственного лика. Далеко позади остался Милан, впереди вырастали горы. Они быстро ехали. Старик бросил на Неда взгляд и сел прямо, уперев подбородок в грудь и надув щеки. Настроение у него испортилось.
— Притормози, Нед, — сказал он. Проехали еще километра два.
— Ради Христа, Нед, я хочу есть, — потребовал старик. Сбросив газ, Нед высматривал, где остановиться. Когда они перемахнули через белый мост, под которым, словно подсиненная, голубела полоска воды, старик издал одобрительное мычание. Нед затормозил и тут же подал назад, едва успев разъехаться с дымившей навстречу автоцистерной. Старик недовольно шмыгнул носом, но внуку было не до того. Красный автомобиль тряхнуло на колее проселка, укрытого в тени деревьев, и они встали. «Приехали», — сказал Нед, доставая корзинку с провизией, и старик медленно выбрался размять ноги и осмотреться.
На узкой полоске поля стеной стояла кукуруза, мотая лохматыми початками, дальше террасами всходила голая скала, непригодная для виноградника. Поле и дорога выводили к ферме, за ее лимонно-желтым забором пылала красная черепица. Другим концом дорога уходила к высоким деревьям вроде тополей, также пылавшим огнем, только нежарким, зеленым, и их тень доставала до самой реки. Обещанием избавительной прохлады поплескивала невидимая вода: подход к ней загородила высокая, по колено, крапива. Жара допекла старика. Он пнул крапиву — как тянуло посидеть в холодке!
— Господи, у них крапива воняет.
— Это не крапива, — сказал Нед. — Тут мусор спускают в воду. Течением все уносит. Своего рода сливной бачок.
Старик еще принюхался.
— Черт, а ведь правда, — сказал он.
Поднялся и опустился рой сизых, цвета окалины, мух.
— Вот это кстати! — воскликнул старик, взяв пластмассовую чашечку с кофе. Он шумно выпил его, потом отщипнул кусок от булки, отдельно пожевал салями. Нед не стал есть. Он пил красное вино. Один раз они задели друг друга локтями, и Нед слегка отпрянул в сторону, и тогда старик беззлобно скорчил презрительную гримасу.
Зловоние крапивы заползало ему в рот, даже кофе не мог его перебить. Он был насквозь пропитан им. И тут из-за автомобиля, словно привидение, вынырнула старуха в каком-то черном балахоне поверх коричневых штанов, кое-как заправленных в опорки. Она стояла, раскачиваясь с носка на пятки, и ботинки с отставшими подошвами зевали по-рыбьи, показывая ржавые зубы. Не сводя глаз с булки, торчавшей из корзины, она понесла какую-то тарабарщину. «Мы что, на ее участке?»— спросил старик. Нед отрицательно мотнул головой и отдал ей булку. Она жадно куснула ее и продолжала лопотать, плюя крошками, а остаток хлеба сунула под балахон, и тут выяснилось, что вместо руки у нее культяпка. Она молящим жестом, крестом раскинула руки, ее грязная культя жалко морщилась. Нед заговорил со старухой по-итальянски. Но та весь свой пыл обратила на старика, повернувшегося к ней затылком. Мало того, что от нее пахло, как от этой крапивы, она еще словно ставила ему это в укор. Ишь какой чистенький, упитанный старичок. «Скажи ей, чтобы уходила», — сказал старик. «Она говорит, что у нее никого и ничего нет, — сказал Нед, — и просит денег». «Возьми», — сказал старик, та рассмеялась, запрокидывая голову и комкая в здоровой руке бумажку, и исчезла, опять как привидение. Старик облегченно вздохнул.
— Еще дешево избавились от ее вонищи.
— Нацисты убили ее мужа и троих сыновей, — сказал Нед. — Теперь ходит, побирается, спит где придется.
Старик сморщил нос.
— С нами она загостилась, — сказал он и, взглянув на Неда, подавил смешок.
— Есть вещи похуже, чем попрошайничество, — сказал Нед.
— Ты на что, черт возьми, намекаешь? — взорвался старик.
— Что это честный кусок хлеба, — ответил Нед.
— Что ты знаешь о куске хлеба, черт бы тебя побрал? — кипятился старик. — Да ты в свои двадцать три года палец о палец для себя не ударил!
Нед открыл рот, но благоразумно решил промолчать.
— Вот-вот, сказать-то и нечего, — не унимался старик, — шикарные школы, колледжи — ни в чем отказу! А теперь взъелся на деда, на своих, потому что один шут гороховый взял и прикарманил мои двадцать тысяч. И прикидывал, куда драпануть…
— Никуда он не уезжал, — сказал Нед.
— Верно, не уезжал, — процедил старик. — Просто сидел на чемоданах, а его приперли к стенке и по глупости убили. Эти два болвана зарвались, теперь ответят. Кто им дал право?
— Они у тебя служат и когда ничего от него не добились, то и прижали к стенке вездеходом! — выкрикнул Нед.
— Господи, неужели ты думаешь, я не мог придумать что-нибудь поумнее? — спросил старик.
— А сколько у тебя было междугородных разговоров? Я знаю — сам оплачивал. Ты же меня и посылал, — сказал Нед.
— Перестань молоть чепуху, — сказал старик. — У меня большое дело. Я начинал с нуля, а теперь это большое дело. За ним нужен глаз. Ладно, дай-ка еще кофейку.
Он пригубил — вонь отравила все, даже кофе, его чуть вырвало.
— В один прекрасный день, — сказал старик, — я расскажу тебе, как я начинал.
— Очень интересно узнать, — словно со стороны услышал себя Нед, — потому что известно, как ты кончишь.
Старик дернул рукой и плеснул кофе Неду в лицо. Он встал и вытерся голубым платком, продолжая смотреть на деда. Старик отошел к крапиве. «Извини, — буркнул он, не оборачиваясь, — сорвался».
— Броуди не воскресить, — сказал Нед. Старик воздел руки.
— Я довезу тебя домой, — сказал Нед, — но твой бизнес — это твое личное дело.
— Очень хорошо, — сказал старик, забираясь в машину. — Доставь меня домой, и пусть твое содержание будет твоим личным делом.
— Я не сужу с точки зрения морали, — сказал Нед, запуская мотор, — просто все это не для меня.
— Скажите на милость! — паясничал старик, стараясь перекричать шум мотора. — Белоручки, чистоплюи университетские! Я тебе так скажу: какие красивые слова говорить и какие мудреные книжки писать — это мы за вас решаем. Ты понял?
— Может, и так, — сказал Нед.
— Только так, — скрепил старик.
Впервые на его памяти дед высказался с такой определенностью и как бы утвердил приговор балагуру и пересмешнику Броуди. И вот Нед спешит отвезти старика домой, потому что Броуди убили и старик должен быть на месте, чтобы выгородить его убийц.
Машина выбралась на шоссе. Впереди на встречной полосе стоял автомобиль, около него мыкалась знакомая старуха. Красная машина прокашлялась и взяла разгон, и старик наморщился, пряча улыбку, потому что успел заметить растерянность на раскормленной физиономии того водителя: спасаться надо от нищенки, а она не пускает. Немного выждав, старик заговорил снова.
— Если ты не хочешь вступить в дело, то чем же ты будешь заниматься? — спросил он.
— Буду писать, — сказал Нед. Он правил одной рукой и только при обгоне брался за руль обеими. — Пару вещей я уже напечатал…
Старик молчал.
— Этим я и хочу заниматься, — сказал Нед.
— Пусть, только в тот вопрос ты еще не раз ткнешься носом. Как сейчас, у речки, — сказал старик.
Солнце не в счет. Впереди сплошной мрак. Яркий свет был пыткой.
Их прижало к спинкам сидений — дорога шла в гору. Старик глянул вниз и между кронами деревьев разглядел полоску воды, рельсы. Цепочка платформ, нагруженных чем-то вроде известки, ползла к скоплению цистерн, трубопроводов и печей. Дорога сделала крутую петлю, и красная машина перемахнула через мост. Тот же завод под ними. Алое пламя полыхало над высокой трубой. На секунду старик сквозь радужный свет увидел ее черное, как пушечное жерло, нутро. И снова впереди дорога, они забираются все выше, едут быстро, хотя без обгонов, потому что дорога сузилась. Вытянув шею, старик высмотрел впереди вереницу машин, ползущих под палящим солнцем впритык, словно похоронная процессия. Скоро и они пристроились в хвост.
— Черт! — выругался Нед и сбавил скорость. — Какая-нибудь махина впереди.
Старик сощурился и нашел виноватых: три автоцистерны занимали пустую дорогу и стопорили все движение. Старик обернулся и через заднее стекло увидел, что к ним, сверкая на солнце, уже подстроилось несколько машин. Солнце било в лицо, зной стекал с гор и вливался в открытые окна машины. В кабине было сущее пекло. Старик шевельнул языком в пересохшем рту. Они медленно двигались, и можно бы, не расплескав, выпить кофе, но кофе провонял. Воды ему хотелось! И вода рядом, но негде встать. Сбегая по склонам, тоненькие нити сплетались в жгуты, набухали, и каскады чистейшей воды низвергались с уступов, рассыпая над дорогой брызги. Усмиренная каменным руслом, вода казалась застывшей массой зеленого стекла, хотя ясно, что она и там бунтовала. Старику до смерти хотелось лечь на эту воду, погрузить в нее лицо, открыть рот. Кое-как он переборол жажду, расслабил воротник, подвигал во рту языком, пытаясь освободиться от привкуса крапивы и горечи старых обид.
Наконец они одолели эту гору, и многие машины свернули к просторной стоянке, кольцом обнимавшей симпатичное кафе. Из гордости старик не попросил остановиться, а потом было поздно. Теперь впереди них лишь с десяток машин тянулись вразброс за автоцистернами, а те шли кучно, виляя на поворотах задами. Потом дорога выпрямилась, опоясывая склон горы, машины подтянулись, но впереди все так же дразняще вихлялись зады автоцистерн. Нед что-то пробормотал под нос. Его лицо отливало желтизной от преломленного очками света — дед смотрел на него сбоку, — глаза будто смотрели из-под воды. О чем он, интересно, задумался? На бабку похож, отметил дед, на Нору, такая же строгая, как у монашенки, осанка, а ведь была бой-баба — что в постели, что вообще. Сломалась. Не желала вспоминать, с чего мы начинали. Нед подал влево, глубже утопил педаль, машина утробно взвыла и рванула вперед, а старика вдруг окатил смертный страх, и он отчаянно вдавил ноги в пол, как в спасительные тормоза. Потом откинулся на спинку, высматривая, когда на свободной левой полосе покажется встречный, а при таком расстоянии да на такой скорости их не спасут даже лучшие в мире тормоза, и тогда греметь им вниз через белое ограждение, как миленьким. Но дорога впереди была свободна. Они с ветерком проехали порядочное расстояние, прямой участок кончался, и старик, жуя губами, рассчитал, что обходить автоцистерны придется на повороте, где те начнут так мотать своими слоновьими задами, что запросто отшвырнут их машину за ограждение.
Сейчас они ехали бок о бок с замыкающей махиной. Из легковушки, которую они обошли, выставилась отчаянно жестикулирующая рука; можно было представить себе выражение лица водителя. Что до водителя автоцистерны, то он взглянул на них удивленно, потом уставился в зеркальце и, убедившись, что задние машины поотстали, тормознул и освободил перед собой место для выскочки, но Нед, не рассчитывая на такую милость, не веря в маневренность этой громадины, уже настроился обходить среднюю машину, и та, конечно, оттеснила его своим задом к самой кромке шоссе. Потом опять стало свободнее, они шли нос в нос, и водитель бросил на них ненавидящий взгляд. У Неда глаза были не добрее, только смотрели они на дорогу и на головную машину. Они уже настигали ее, когда она пошла на поворот, и шоферу было некогда их разглядывать, он уже все увидел в зеркальце, ему надо было думать о себе, и он жался к горе, но вдруг запаниковал и подал влево, боясь задеть гору, потому что такие шутки даже для автоцистерны не кончаются добром. Он резко взял влево, и зад машины стало грузно болтать из стороны в сторону, впору только уворачиваться, и было почти чудом, что они еще не повалили, как кегли, белые столбики, мельтешившие слева от них. Опять грозно надвинулась задом автоцистерна, но кончился разворот, и машины мчатся рядом, и по встречной полосе стремительно приближается какая-то малютка. Что-то бормоча, ошалело вертя баранку, Нед юркнул в сузившийся зазор между машинами. Позади раздался грохот, и старик знал не глядя: малютка врезалась в оградительный столбик и теперь дрожит мелкой дрожью. Нед наконец расслабился, с кончика носа свисала капля пота, они катили по пустому шоссе, защищенные горой, и бежала, не отставая, лента бетонного скоса.
— Ты нарочно это сделал, паршивец, — сказал старик. Нед вздохнул и кивнул головой.
— Ты либо психический, либо дурак, — возмущался старик. — Останови машину, черт тебя побери, и поскорее!
Нед свернул на площадку, вырубленную в скале. Над ними, выдвинув подбородок, нависал сизый каменный лик, весь вымокший. Молча посидели в машине. Стреляя дымом, прогремели автоцистерны, за ними гуськом прошли легковые. «Ну вот, они опять впереди», — укорил старик, потом, кряхтя, вылез из машины и потянулся, положив руки на поясницу. Нед видел, как его рука скользнула в карман и метнулась ко рту. Он тоже вышел из машины. С каменного лика падали ему на лоб и высыхали капли воды. «Болит, дед?» Старик, не отвечая, без опаски побрел через шоссе. Пронзительно сигналя, вихрем налетел открытый спортивный автомобиль. Привставший с места пассажир обоими кулаками погрозил старику, но тот, корчась, был уже на обочине. Сзади подошел Нед. «Тебе лучше?» Старик кивнул. «Чтобы при мне таких номеров больше не было! — распорядился он. — Чуть не угробил старика». Он осторожно перелез через перекладины ограждения и пологим каменистым склоном вышел на поле, где паслась коза с двумя козлятами. Коза перестала щипать траву и, выставив рога, двинулась к старику. Прыгая с камня на камень, сбежал вниз и Нед. Старик, почти не глядя, пальцами сильно сдавил козе загривок и продолжал идти своим путем, и коза потянулась за ним, и, блея, потрусили козлята. Нед вырвал пук травы и сунул козе, та принялась жевать, и Нед заглянул в ее зеленые глаза. «Ты куда, дед?» «Хочу воды», — ответил старик. Вот она, наконец! Она сбегала с горы, пробивала толщу дороги, обогащаясь подземными источниками, и вырывалась наружу из-под огромного валуна футах в тридцати над головой. Старик стянул пиджак, расстегнул пуговицы на рубашке. Нед пошел к машине за полотенцами.
По-детски вытянув перед собой руки, старик подошел к источнику, рассмеялся, когда струя с силой ударила по рукам, растопырил пальцы, проследил весь путь воды сверху до глубокой воронки, заросшей по краям зеленой травой, а ниже — низкорослым папоротником и ворсистым мхом с торчащими бурыми головками, на которых посверкивали капельки воды. — Чем не водопад! — ликовал старик, подставляя ладони ковшиком, и пил, пил и не мог напиться, и, расхохотавшись, сунулся в водяной столб, задрал кверху лицо и открыл рот. Обернувшись, он увидел Неда с полотенцем и запасной рубашкой через руку. Нед не в силах был сдержать улыбку.
— Смотри! — крикнул старик и, пошире расставив ноги, ушел в поток по самые плечи и вдруг поскользнулся. Не подоспей Нед и не ухвати его обеими руками за локоть, он бы свалился вниз. Как Нед и думал, дед полез к воде в рубашке, и теперь она вся намокла и висела мешком. — Старый дурак, правда?
— Еще какой дурак! — подтвердил Нед и тоже рассмеялся, потому что на душе вдруг посветлело и оба жили только этой минутой. — Снимай рубашку, — велел Нед, — и вытрись. — Старик с трудом удерживал дрожь, а Нед досуха растирал его полотенцем, и почему-то покатые плечи старика и седая щетинка вызвали в нем чувство острой жалости.
— Все, теперь сам справлюсь. Освежись! — сказал старик, забирая у внука полотенце, и Нед так же точно полез к воде, мочил в ней руки, пил с ладоней, подставлялся, дрожа, под струю, задирал лицо, открыв рот, ослепший, со слипшимися волосами, и все хватал языком воду и никак не мог утолить жажду.
«А что, может, я уже не действую ему на нервы», — размышлял старик, стараясь не думать о Броуди, и даже не в связи с предстоящим судом, а потому, что хотя и по недогляду, но человек-то погиб. И, заражая Неда своим смехом, он гляделся в свое собственное лицо, каким оно было в прошедшие времена, представлял, как оно обрюзгнет, как потрескается потом, словно пересохшая глина.
— Гораздо бодрее себя чувствую, — сказал старик, расправляя плечи.
Оставив Неда вытираться, он пошел лугом, за ним, бренча колокольчиком, семенила разыгравшаяся коза, легко поддавая его сзади рогами, и старик, обернувшись, ухватил ее за рога и уложил на землю. «Не озоруй», — сказал старик. Коза присмирела, но шла за ним как привязанная. Нед нагнал их уже у дороги. «Ты бы переменил брюки», — посоветовал Нед. «Ты бы к встречным машинам был такой внимательный», — уколол старик. «Я не нарочно, — сказал Нед и совсем детским тоном добавил — Солнце зашло». Старик остро взглянул на него и махнул рукой в сторону бетонной глыбы у подножия горы: «Поедем через туннель?» «Нет, — сказал внук, — давай сэкономим деньги и поедем через перевал». Старик вздохнул. «Сюда бы Нору. Она любила путешествовать», — сказал он. «Я всегда вспоминаю, как она прямо держалась. У тебя такая же осанка», — сказал Нед. «Грех жаловаться, — обронил старик и пошел к машине. — Она у тебя из головы не идет», — чуть слышно сказал он. «Ты у меня из головы не идешь», — сказал Нед. Они доели что было в корзинке, и в этот раз старик прямо из бутылки пил красное вино. К цыпленку он едва притронулся. «Как несправедливо, — растравлял он себя. — Это она переменилась, а не я, — думал он. — Молодой была с таким характером, что не приведи бог».
Нед без передышки гнал машину через перевал: они забронировали место на четырехчасовой паром, а до Франции еще ехать и ехать. Ночевать он хотел во Франции. В Лозанне можно перекусить, потом переехать границу и в первом же подходящем месте остановиться на ночь. Старик спал. Время от времени Нед бросал на него взгляд. Дед свернулся калачиком. На вид такой симпатичный старичок. Но он стоил отца Неда и обоих дядьев, вместе взятых, и еще кому-нибудь останется место. В нем уживались две сложные, сильные натуры. Он мог ни во что ставить деньги, но околпачить себя он не даст: он презирал деньги до тех пор, пока за ними не протягивалась чужая рука. Этого он не прощал. Сейчас его голова моталась из стороны в сторону, одутловатое лицо подрагивало, во сне он пофыркивал губами, тронутыми синевой. Безобидный вроде бы старикашка, но людей он видел насквозь, и от этого сейчас все зависело. Если они успеют вовремя, то всякие разговоры прекратятся. Старику снилась встреча с побирушкой. Один раз он широко раскрыл глаза, чуть слышно пробормотал: «Черт, как же от нее несло», — и наморщил нос.
На Сен-Бернаре он спал еще вполглаза, но потом сон снова сморил его, и Рону он проспал. Казалось, он никогда не выйдет из этой спячки. Раз Нед притормозил и вытер с его подбородка слюну, стекавшую на чистую рубашку. Старик даже не шелохнулся, но его внутренний хронометр, заведенный на все время их переезда, действовал безотказно. Он проснулся, когда завиднелось Женевское озеро, широкое и ослепительно голубое, в белых крапинках парусов. Старик встряхнулся и потребовал обеда. Они остановились в местечке неподалеку от Ко, взяли комнату, чтобы помыться и переодеться. Потом обедали на открытой веранде. Старик был в отличной форме. Он взял паштет, бифштекс и клубнику. Один выпил полбутылки красного вина, большую чашку кофе с ликером. Нед выпил только кофе, но старик настоял, чтобы он взял сигару, — как раз подошел официант с коробками. Сигара, он знал, испортит ему все удовольствие от сигареты. С дороги ему до смерти хотелось, не спеша, выкурить сигарету. За рулем он не курил.
— Интересное дело! — возбужденно заговорил старик. — Сижу, набив брюхо, кругом горы, под носом озеро, а с чего я начинал — ты знаешь?
— У тебя был маленький гараж, — сказал Нед, полагая, что знает все домашние предания.
— Гараж — это потом, — сказал старик. — Спасибо, нищенка напомнила.
Он потомил Неда ожиданием и продолжал:
— Ну, слушай. Молодым я работал у братьев Купер. У них подряд на очистку отхожих мест. Это, в общем, такая будка, а в ней ящик с дыркой наверху. Обычно на два дома один нужник. У кого был личный, тот, считай, жил в роскоши. Сзади была железная дверка, ее подымали, когда опоражнивали коробку. Начал еще твой прадед, а когда совсем занемог — тут я его сменил.
Они были фермеры, братья Купер, — продолжал старик, — большие мерзавцы. Я работал всю ночь и потом с утра пораньше, — усмехнулся старик, — доил коров! Представляешь? И помыться негде. Но выбирать было не из чего: они же и сдавали мне угол.
Это вот как делалось, — сказал он, перехватив взгляд Неда. — Была такая тачка, ее называли самосвал, на паре больших колес, чтобы вываливать содержимое. На оглобли вешался морской фонарь, в руках — мешок с желтой присыпкой. И обходишь будки одну за другой. Если повезет, можно за один раз отгрузить пол-улицы. А везти далеко, мили за две, в оба конца — четыре.
Он взглянул на Неда и покачал головой.
— Интересно? Ну, ладно. Свалка была на другом берегу реки. В холодные ночи приходилось держаться поближе к лошади, чтобы согреться. — Старик натянуто улыбнулся. — А в теплые ночи можно было заходить спереди лошади и поменьше нюхать. Лошадь знала дорогу, шла прямо к свалке. Потом я загонял старушку на самый верх, выдергивал откидную доску, осаживал лошадку и плечом поддевал борт — тачка и опорожнялась. Правда, приходилось еще помогать лопатой.
— Так вот какая она была, твоя работа, — сказал Нед.
— Да, такая, — ответил старик, наливая себе стакан вина. Выпил и продолжал — Я был ничем не лучше той нищенки. Я эту вонь жевал, нюхал, глотал, от нее глаза резало, кожа зудела, а денежки прибирали братья Куперы. Управившись с дерьмом — ползешь коров доить, а братцы за тебя отсыпаются.
Старик хохотнул.
— Потом я внес от себя пай, перекупил их контракт, женился на твоей бабке, а на ее приданое обзавелся запаленной клячей и старенькой повозкой. А потом вообще оставил это дело, купил гараж и про старое не вспоминал. В люди вышел! — рассмеялся он, и Нед не понял, случайно или нет прозвучала в его тоне ирония.
— Я ничего не знал, — медленно выговорил Нед.
— Брезгуешь, наверно? — спросил старик.
— Горжусь, — просто ответил Нед.
— Да, вот так я начинал, — сказал старик, глядя перед собой невидящими глазами.
— Как же ты узнал, какой нужен пай? — спросил Нед, когда они уже садились в машину.
— А ты поломай голову, — сказал старик.
Они еще немного проехали, и совсем стемнело, только дорога была все та же. Старик радостно таращился на бледный пляшущий месяц, легко вспарывавший облака. Машина забиралась все выше и достигла этих облаков. Их поглотила молочно-белая пелена, фары ослепли, пришлось убавить скорость. Дорога, горы утомили старика. Сон не шел. Болели спина и грудь. Он проглотил еще таблетку, полегчало. Горы уже внушали ему страх. В любую секунду они могли навалиться и раздавить его. Плохо освещенные деревни глядели угрюмо, отступали, и снова впереди была дорога.
— Кто-нибудь из братьев напился и проговорился тебе, — сказал Нед.
— Я знал, что эта загадка не даст тебе покоя, — сказал старик. — Нет, братья тут ни при чем. Они бы с собственным запахом не расстались, не говоря уж про что другое.
— А-а, ты женился на их сестре, — осенило Неда. Старик удовлетворенно хмыкнул. Нед молча гнал машину вперед. Ему было ясно, что старик нарочно рассказал свою историю.
— Тебе такая развязка не нравится? — спросил старик.
— Забавная история, — сказал Нед, а в мыслях была осанистая старуха, ее слова: «Ты на отца и дядьев не равняйся. Иди своей дорогой». И, словно разгадав его мысли, старик сказал — В те годы она мне поперек дороги не вставала. Видел бы ты ее братьев. Сущие мерзавцы, я тебе скажу, у них это на роже было написано.
— Забавная история, — повторил Нед.
— Вот так мы начинали, — сказал старик.
— И поэтому на все остальное я должен закрыть глаза, — сказал Нед.
— С чего ты взял? Просто я думал, тебе будет интересно, — сказал старик и в темноте помотал головой. — Я хотел, чтобы ты понял, каково мне было. Мне такое снилось — я в поту просыпался…
Он повернулся, стараясь разглядеть лицо внука.
— Я твердил себе: баста, больше я им не парашник.
— Это я понимаю, — сказал Нед.
Старик вздохнул. Тут они подъехали к пограничному посту, и ему стало не до Неда: чиновник придирчиво изучал фотографии в паспортах, старик нервничал — вдруг арестуют? Все обошлось, конечно. Маленькая задержка, и они снова в пути.
У первой же большой гостиницы они остановились. Здание было ярко освещено снаружи, перед ним теснилось множество машин. Нед едва переступил порог, а портье уже отрицательно замотал головой. Они безуспешно сунулись в пару гостиниц поскромнее, и потом по пути попадались только деревни, где уже в десять часов не горело ни одно окно. Были и совсем крохотные деревеньки, их можно было проскочить не заметив, особенно в такой темноте.
Вот какой-то городок с большой гостиницей, она тоже закрыта, и совершенно отчаявшийся Нед молотит в дверь кулаками. Никто так и не вышел. Поехали дальше, и Нед стал в шутку прикидывать, как они улягутся в машине. Похоже, они попали в ад. «Я слышал, тех, кто ночует на улице, убивают», — сказал старик. «Что-нибудь найдем», — с наигранной бодростью сказал Нед. Он отметил, что старик проглотил еще две таблетки; видеть это он из-за темноты не мог, но какой-то локатор в затылке зафиксировал движение дедовой руки. Потом вышла луна, и они увидели, что по обе стороны дороги нет земли. Уж не в преисподнюю ли, в самом деле, заехал их красный автомобиль?
— Тут и загреметь недолго, — сказал старик.
Только о себе беспокоится, подумал Нед и пожалел, что не нашелся ответить. Но дед уже воспрял духом.
— Ничего, будем ехать всю ночь, если придется. А днем покемарим.
— Дед, я совсем вымотался, — сказал Нед, пугаясь мысли, что придется всю ночь бодрствовать с ним наедине. Ему представилось, как он везет притихшего на своем месте старика, а тот затих навсегда, ушел.
— Справимся! — убеждал старик. — Помнишь, как в прошлый раз? Только бы до часу продержаться, а там у тебя откроется второе дыхание.
«В час я полуживой», — подумал Нед, а вслух упрямо объявил:
— Постараемся найти гостиницу.
— Как хочешь, — пожал плечами старик.
Наконец они приехали в настоящий город, где ночью вовсю горели фонари и кое-где в окнах оставался свет. Кто-то на площади прогуливал собаку, на него сверху, словно луна, взирали часы на ратуше, и был освещен подъезд большой, еще старых времен, гостиницы. Нед остановил машину перед ратушей и побрел через площадь. Он позвонил раз, другой, и вышла женщина. Он сразу заговорил о старике, но та лишь мотала головой и зябко куталась в халат. Нед уловил сочувствие, и он без умолку говорил, пока не иссякли слова. Они стояли и смотрели друг на друга. Пауза мучительно затягивалась, но он не уходил. «Прошу вас», — выдавил он, и тогда женщина сказала, что есть у нее крохотная комнатка, придется ставить раскладушку… «Проведите в нее моего дедушку, — заторопился Нед, — а я пока заберу вещи. Я вас очень прошу». Он боялся, что она передумает, и в отчаянии схватил ее за руки. Она взглянула на него с высоты порожка и рассмеялась. И он понял, что беспокоиться больше не о чем.
Золотая оказалась женщина. Нед помог ей с раскладушкой, она сделала им по большой чашке кофе и побыла с ними, пока они пили: вдруг спросят еще? «Повезло, что попали на женщину, — сказал старик, когда она ушла, — и что ты молодой — ты ей понравился. Как я в машине напереживался: бесполезно, думаю, хоть он и старается. Одна надежда — что она женщина, а ты молодой… Вовремя ты ее за руки взял. Умеешь на своем поставить», — заключил старик.
Наконец улеглись, Нед потянулся выключить свет. Старик глядел на него, не мигая.
— Мы бы за милую душу повели дело вдвоем, — сказал старик. И больше ничего не добавил. Когда касалось дела, он не любил размусоливать.
А Нед весь ушел в мысли о рассказе. В его бодрствующем сознании теснились образы: запах, нищенка, перепалка с дедом — все хороший материал. А настоящей основы, на которой можно строить, не было, и оттого так отчаянно гнал он по шоссе за автоцистернами, что и в жизни своей не видел ничего основательного, если не считать афериста деда. Кстати, этот его рассказ, этот удивительный отрывок правдивой истории… Ясно, дед с умыслом разоткровенничался. Сманивает к себе в дело. Может, уступить? Ведь если правильно себя поставить — а это он умеет, — то потом можно будет заняться и собой. Да и старику будет полегче.
— Словно пружина во мне, — бормотал старик. — Закрою глаза — и опять вижу дорогу… Я недорассказал тебе. Когда братья Куперы обо всем дознались, был страшный скандал. Самый старший, Джордж, пришел ко мне в коровник, запер за собой ворота и уставился на меня, и тут я слышу снаружи женский крик. Я схватил вилы и бросился на Джорджа, и счастье его, что он увернулся, не то бы пропорол его насквозь. Она лежала на куче угля, а те двое заперлись в доме. Я отвел ее к себе, а там уж и все вещи выброшены на улицу, и дверь заколочена. Пристроились пока у соседей, я нашел временную работу, а потом и контракт вступил в силу. И знаешь, что они учудили в первую же ночь? — Старик закашлялся. — Они меня провожали до самой свалки — идут сзади, смеются, переговариваются. Вся троица. Я опрокинул повозку, и тут они подбежали, и столкнули меня вниз, и лошадь угнали, а я остался лежать в дерьме…
Старик опять поперхнулся.
— Они два раза эту штуку проделали, — продолжал старик. — Что ты говоришь?
Нед лежал оцепенев, не в силах проронить хотя бы слово.
— Не переживай за меня. Они расхвастались по пьянке, а со мной было трое приятелей, и у каждого по кайлу, мы их славно отделали.
Старик помолчал.
— Больше они со мной не шутили. А потом я тоже по-тихому откупил всю их ферму. Вот когда они покусали себе локти!
Но почему-то удовлетворения в его голосе не было.
— А что бы ты сделал на моем месте? — спросил он.
— Убил бы их, — сказал Нед, мысленно увидев, как «лендровер» вжимает в стену малыша Броуди, вскинувшего руки.
— Пожалуй, надо таблетку принять, — сказал старик.
Нед включил свет и дал ему таблетку. Старик отказался запивать, лег на спину и взглянул на Неда.
— А теперь спать, — сказал Нед. Старик вздохнул и повернулся к стене.
— Помнишь тот родник? — спросил он. — Я его вроде как всю жизнь искал.
Проснувшись утром, Нед услышал плеск воды в умывальнике, мычание повеселевшего, отдохнувшего деда — тот брился.
— Будем работать вместе, — сказал дед. — В одной упряжке.
Нед раздвинул шторы. Он не спешил встретиться с ним взглядом.
— Тебе лучше? — спросил он, глядя поверх крыш, тесно обступивших бурый массив ощетинившейся утесами, поросшей соснами горы. Пелена дождя колыхалась перед глазами, как спустившиеся облака. Форменный потоп.
— Дай бог каждый день так себя чувствовать, — отозвался старик. — Спал как убитый.
Судя по голосу, он улыбался.
— Нед, ты это серьезно, ночью?
«В рассказе, — подумал Нед, — молодой герой, конечно, скажет „нет“, а я стою, проглотив язык, и только киваю».
— Потрясающе! — загорелся старик. — И чем скорее ты войдешь в курс, тем лучше. Оглядись, что к чему, и будем разбираться.
Нед уже чувствовал, как дело забирает его в клещи, уже посасывал страх, выстоит ли он против отца с дядьями. Со стариком, ясное дело, тоже будет непросто.
— Ванна свободна, — сказал старик. Нед напустил холодной воды и сел в ванну.
— Побрился бы сначала, — сказал старик.
— Иначе я не проснусь, — объяснил Нед. На самом деле он чувствовал себя словно заживо погребенный и хотел скорее сбросить с себя тяжесть.
— Главное, не волнуйся: тот филиал мы сбагрим.
— Надеюсь, — живо откликнулся Нед, растираясь полотенцем.
— Конечно, это потребует времени, — в раздумье сказал старик. — Ничего! Найдем покупателей, как-нибудь развяжемся.
В просторной комнате внизу они завтракали кофе с булочками. Вовсю светило солнце, хотя дождь лил не переставая, и в открытое окно Нед видел сплошной столб воды в конце узкой садовой дорожки.
— У тебя еще останется время сочинять, — сказал старик, и тут почему-то смолк шум воды. Нед бросил взгляд в окно, ожидая увидеть застывшую и умолкнувшую водяную глыбу. Но нет, дождь хлестал с прежней силой, и все так же вскипали бурунчики на земле и лопались пузыри. Накрыла им на стол давешняя женщина.
— Где ее черти носят? — затребовал ее теперь старик и сунул ей в руку двадцать франков. Когда Нед благодарил ее, она опустила глаза. В дверях он обернулся и встретил ее взгляд. Что общего могло быть у этих двоих, один из которых ей понравился, а другого она пожалела? Старик не умел красиво расплачиваться, и перевоспитывать его поздно. Он первым забрался в машину и выжидательно замер.
— Сегодня никакого лихачества, — предупредил он, когда Нед включил зажигание. Красный автомобиль прокашлялся и выкатил навстречу солнцу. — Три тысячи в год — сойдет для начала? — спросил старик, и Нед понял, что это не вопрос: старик объявил цену. Скоро позади останется половина Франции, и Нед перестал сочинять свой рассказ. Он стал строкой в рассказе старика. Пока они ехали по Франции, его занимала одна мысль: что он будет делать, когда старик умрет.
ГОРДОСТЬ ПАВЛИНА
Однажды он застал ее в глубине сада. Она принесла стремянку и через забор смотрела на покосившийся от ветхости дом якобитской постройки, но много ли увидишь за разросшимися деревьями?
— Что, шпионишь?
— Разве можно подкрадываться? — упрекнула она. — Напугал до смерти.
— Подумаешь, какой грех! Теперь все можно.
— Как грустно, — сказала она. — Все заросло, заглохло. Я хотела увидеть террасу. Помнишь, как старушка павлиниха расхаживала, распустив хвост?
— Я помню, как старик павлин упек моего папашу на два месяца за охапку планок, — сказал он. — А вообще это был он, а не она.
— Кто?
— Да твоя павлиниха. У птиц яркое оперение бывает у самцов.
— Правда? — удивилась она. — Всегда думала, что она самочка. Чтобы самец был так разукрашен!
— А сам майор? — спросил ее муж, Вилли. — Тоже любил покрасоваться. Что на своем вороном битюге, что в суде. Сделайте так, переделайте эдак! Павлин расфуфыренный.
— Когда все это было, Вилли.
— Теперь наше время пришло, — сказал он. — Их давно нет; ладно, но я до смерти не забуду тот день, когда папаша вышел из тюрьмы. — Он махнул рукой в сторону уродины из красного кирпича, которую он воздвиг на задворках майоровой усадьбы. — Видит бог, мне есть чем гордиться. Но однажды я расплачусь за обиду сполна: откуплю их дом и сровняю его с землей. А до этого не успокоюсь.
Она знала, что спорить с ним напрасно. Ему не важно, что майор умер, что дети разъехались, а дом обветшал. На доме теперь сосредоточилась вся его ненависть. Она смутно чувствовала, что эта ненависть покушается на принадлежащее лично ей. А когда дом сровняют с землей, его ненависть устремится на что-нибудь еще. Не случайно, что и в ее мыслях этот дом занял главное место.
В своем собственном доме, среди полированной мебели и безделушек, она чувствовала себя как в тюрьме, и майоров дом был пристанищем ее мечты, которую питали полузабытые воспоминания о крокете и чае на лужайке, об элегантных дамах и прелестной детворе и, конечно, о распущенном павлиньем хвосте, словно драгоценного шитья гобелен, трепыхавшем на солнце.
Он ощупал верх стены знающими руками строителя.
— Кто увидит и кому какое дело, если ты сходишь посмотреть, — пробормотал он себе под нос.
— Частное владение.
Не слушая ее возражений, он сходил за кувалдой и ломиком. Сначала выпал карнизный камень, потом подалась замшелая кладка.
— Полезай.
Она замотала головой.
— Не дури! — прикрикнул он.
— А если поймают?
— Не поймают, — сказал он и подтолкнул ее в пролом. С земли дом за частой сеткой ветвей смотрелся зловеще. По-недоброму сверкал зрачок-розетка в переплете слухового окна, словно господь бог испепелял ее взглядом.
— Давай-давай, красавица. Не робей, — подбадривал он, хотя сам не тронулся с места.
— А ты? — подпустила она шпильку.
— Мне и отсюда видно, — по-детски вывернулся он. Она-то знала — он боится. Для него старый майор еще ходил по земле. Путаясь в высокой траве, она подошла к зарослям крапивы, откуда несло затхлостью и гибелью.
— Ну, что еще?
— Крапивы боюсь.
— Пригни ее — вон палка хорошая.
Мужчина пошел бы вперед, проторил тропку, он бы подал руку, пронес на руках. Этот мужчина был другой.
Раньше здесь был фруктовый сад. Теперь он одичал и зачах. Дальше еще хуже: огород заглушили сорняки, лужайкой для крокета завладели мартышкины хвосты, через розарий было не продраться из-за буйно разросшихся и перепутавшихся колючих лиан. Террасная стена грубой кладки рухнула, аллея была усыпана битым стеклом из теплиц. Огромная виноградная лоза стучала мертвыми сухими плетями. Никакого павлина не было в помине, даже перышка после него не осталось.
— Ну, что там? — спросил он, едва она показалась в проломе стены.
— А-а, такая жалость.
— Полный разгром?
— Жалко. Красивый дом.
— Никому он теперь не нужен. За него никто не станет платить аренду. Гниль. Труха. Погоди, он еще мне достанется.
— Тебе?
— А что?
— Да зачем?..
— Чтоб снести к чертям, — сказал он. — Разобрать по кирпичику, погрузить в машины и продать в утиль.
— Не делай этого, добром не кончится, — взмолилась она. — Оставь дом в покое, он нам ничего плохого не сделал.
Бесполезно просить. Он твердо решил отомстить за отца, разделавшись с этим домом. Он ждал своего часа, и, когда через полгода дом объявили к сносу, он не поскупился, чтобы перехватить его. Он не помнил себя от радости, вертя ключ перед ее глазами.
— Кто теперь домовладелец? Она смотрела в сторону.
— Что с тобой?
— Да все из-за него, — сказала она. — Я жду от него беды.
— Тут же не как в картах — это верные деньги. И кончай нытье. Глядишь, выкроим тебе шубку или серьги-колечки какие-нибудь.
— Я бы ничего, не сделай ты этого со зла, — сказала она, заливаясь краской. — Как ребенок. И ведь знаешь, что отец был виноват.
Он отвесил ей пощечину.
— Прости, милая, — винился он позже. — Майор тут ни при чем. Просто подвернулось выгодное дельце. Сам я там кирпича не трону. Все сделает один старикан по имени Рейнберд.[11] Он мастер своего дела.
Имя мастера поразило ее воображение. При его упоминании сразу представлялась птица с хохолком. Она порхала в ее снах, эта птица.
Дом не давал ей покоя. Днем, когда Вилли не было, она часто подсаживалась к окну в спальне. Дом лежал за деревьями, как вздремнувшая огромная серая кошка. Но за слепыми его окнами, чудилось ей, шла какая-то жизнь, и нельзя застигать ее врасплох. Кто-то должен предупредить: «Берегитесь! Вы в опасности, вас сносят!» Еще плотники не пришли, а Вилли уже подсчитывал выгоду.
— За балюстраду дают пятьдесят фунтов! — сообщал он. Или — Сбагрил камин. — Или — Крышу отрывают прямо с руками.
Как-то ночью он проснулся и увидел, что она стоит у окна.
— Что случилось?
— Чей-то крик послышался.
— Лиса, — сказал он. — А может, совка.
— Похоже на павлина. Он через силу рассмеялся.
— Тебе приснилось. Десять лет прошло, как его отсюда забрали.
И он отвел ее в постель.
— Конечно, совка, — чуть слышно проговорила она. — Больше некому.
И все-таки то был резкий, требовательный крик павлина, звавший майора заступиться за своих, поднявший всех на ноги.
А наутро явились плотники. Их было двое. Они приехали на стареньком автомобиле, в прицепе лежали инструменты. Рейнберд оказался крупным стариком, белоголовым и румяным. На нем был плисовый жилет, украшенный золотой часовой цепочкой с рубиновым брелоком, под воротник серой фланелевой рубашки заправлен шелковый шарф. На пальце носил кольцо с печаткой — в мужчинах она этого не понимала, но ему шло кольцо, и шелковый шарф был к лицу.
— Выпейте чашку чая, — предложил Вилли, — а потом посмотрите дом.
— А хозяйка не рассердится?
— Что вы, приятель, ей будет только в радость, — рассмеялся Вилли, единовластно решавший такие вопросы.
— Можно тогда пригласить моего парнишку?
— Само собой, — сказал Вилли.
— Я хозяйку спрашивал, — галантно уточнил Рейнберд, но Вилли пропустил это мимо ушей, как пропускал многое. Парнишке было лет шестнадцать, он был высокий и неразговорчивый.
— Внук? — спросил Вилли.
— Сынок, — ответил Рейнберд.
— Вот это да! — сказал Вилли.
— Он не первый у меня и — как знать? — может, не последний, — без тени улыбки объявил старик.
Чтобы сменить невыгодную для себя тему, Вилли отвел старика к окну.
— Вон он. Там пропасть хорошего материала.
— Жалко такой сносить, — сказал Рейнберд. — Сокровище, а не дом. Лучше этот сломать, а в старый переехать. В тех стенах неплохо можно пожить.
У нее екнуло сердце.
— А аренда какая? — вскричал Вилли. — Ведь никаких денег не хватит!
— Они окупятся, — сказал Рейнберд и поверх его головы взглянул на женщину.
— Черт возьми! — поразился Вилли. — Кому сказать — не поверят: чтобы человек сам отговаривал себя от работы, и от хорошей работы!
А она порадовалась, что главное он проморгал: как старик посмотрел на нее, как она покраснела.
Может, ему и жалко было дом, но дело свое старик знал хорошо. Каждый день он отпускал нагруженными несколько грузовиков. Они сорвали деревянную обшивку, сняли перегородки; с помощью блока и ворота выкорчевали камины, сложенные из превосходного мягкого камня; когда дом стал пустой раковиной, взялись за крышу и стены.
Она не ходила смотреть, только слышала, как все более гулко стучат молотки, и вот со стропил уже прыгает эхо навстречу низкому голосу старика и смеху мальчишки. Наедине с отцом мальчик смеялся не переставая, а при ней умолкал и замыкался. Но она часто перехватывала его взгляд. В полдень они всегда заходили налить чаю в термосы, съесть бутерброды.
— Какой он у вас тихий, — сказала она однажды его отцу.
— Только с вами, хозяйка, — сказал Рейнберд. — Он теряется перед женщинами. Его мать умерла родами.
— Простите, что завела такой разговор, — сказала она.
— Счастливая была женщина.
Она хотела спросить почему и не решилась, но он знал ее мысли и улыбнулся.
— Потому что ее любили, — сказал он. — У меня было две жены, и обеих я любил. И обеим было хорошо. Любовь и умное обращение.
— Попробовал бы кто подступиться ко мне с умным обращением! — вспыхнула она. Ее раздражали его спокойная самоуверенность и не идущая из головы мысль, что те мертвые женщины изведали тайну, к которой она никогда так и не прикоснется.
— Не зарекайтесь, раз еще не пробовали, — с улыбкой сказал старик. Она поняла, что он имеет в виду Вилли, у которого в сердце жила только ненависть, и выбежала из комнаты.
В ту ночь она снова слышала пронзительный крик павлина. Но уже поздно было звать на помощь — от дома почти ничего не осталось. Завтра работы кончатся. Интересно, будет она его вспоминать, этого негромкого, уверенного в себе старика, не признававшего преград — в том числе на пути к ней. Она заснула тревожным сном, и во сне к ней подошел неразговорчивый мальчик и, смеясь, крикнул: «Смотрите, что он делает!»
Вилли обедал, когда она услышала крик мальчика. Она подбежала к окну: опустившись на колени, Рейнберд что-то рассматривал, а вокруг носился, приплясывая, мальчик и трубил в сложенные ладони.
— Вилли, посмотри-ка, — сказала она и почему-то положила руку себе на горло.
Вилли подошел к окну.
— Что-то нашли, — сказал он и выбежал, как был, без жилета.
Впервые после того раза, когда Вилли крушил стену, она пришла на место, где прежде стоял дом.
— Что тут у вас? — крикнула она.
— Клад! — ответил Вилли. — Сотни монет.
— Под очагом зарыли, — объяснил Рейнберд. — Надо полагать, несколько веков назад.
— Порядочные деньги! — волновался Вилли. Он поскреб монету перочинным ножиком. — Вроде серебро, ей-богу!
В тонкой белой пыли лежали сотни вафельно-тонких погнувшихся монет. Они вчетвером выложили их на пол очага, пересчитали — триста сорок две штуки.
— Зарыли во время гражданских войн[12] или еще в какое-нибудь лихолетье, а потом забыли, — сказал Рейнберд, поблескивая глазами.
— У меня есть приятель в городе, отвезу ему — пусть оценит, — сказал Вилли. Он сбегал в дом и принес саквояж.
— Слушай, Вилли, — остановила она его, — они принадлежат семье майора.
— Рассказывай! — заорал он. — Тут все мое.
— По справедливости, — сказала она, — эти монеты не твои. Вилли прижал к животу саквояж.
— Плевать на эту справедливость. Сентиментальная дуреха. Противно слушать. Я купил тут все, до последнего гвоздя. Растолкуйте ей, Рейнберд, а мне пора в город.
И он убежал с саквояжем под мышкой.
— Вы тоже думаете, что он прав? — спросила она Рейнберда.
— Он купил дом целиком. Кстати, он обязан объявить о находке.
— Все-таки это деньги. Кто-то их спрятал для своих. Какое же у Вилли право забирать их себе?
— Успокойтесь. Вся-то цена этому кладу — несколько фунтов.
Она взглянула на него и успокоилась.
— Что же вы ему не сказали? Каким дураком он себя выставил.
— Он меня не спрашивал, — сказал Рейнберд.
— И было бы из-за чего!
— Да он и с золотом поведет себя как последний дурак. Такой уж человек, — сказал Рейнберд. Он, понятно, имел в виду не клад.
Она смолчала и пошла к себе в дом.
Позже, днем, они понесли через сад свои инструменты. Завтра уже не приходить. Работа сделана, и Вилли рассчитался с ними. Она хлопотала по дому, чтобы отвлечься от мыслей, и нетерпеливо ждала Вилли. А он все не возвращался, и в четыре часа раздался стук, которого она так боялась.
— Войдите, — сказала она.
— Я не задержу, — сказал Рейнберд, входя в кухню.
— Что вам?
— Только сказать: если хотите, уезжайте с нами.
— Ну и нахал!
— Вы представить себе не можете, какой я для вас построю дом.
— Зато одно я знаю наверняка, — сказала она. — С вами не нужен будет павлин в саду. — И, поняв, что выдала себя, положила руку на горло.
Она ничего не взяла с собой — уехала, в чем была, судачили деревенские кумушки, жалевшие Вилли. Только напрасно они переживали. И в ее жизни появился интерес, и Вилли одним махом получил еще двоих ненавидеть.
МОРСКАЯ РОЗА
Поездка на побережье впервые открыла мне, какие это непостижимые тайны — время и люди. Я гостил у деда с бабкой, но дед не смог поехать с нами. Он не то ковырялся на каком-то строительстве, не то носился с цветочной выставкой. И бабушка сказала: «Одна свожу парнишку — и мне компания, и ему развлечение».
Мы явились на вокзал, когда до поезда оставалась еще целая вечность. Народу было не протолкнуться. Сотни мамаш с сумками, набитыми яйцами вкрутую, булочками, бутербродами, дюжины две мужчин, маявшихся в голубых воскресных костюмах, и несколько тысяч детворы. Женщины с упоением чесали языком, и только боязнь, что мужчины помрут со смеху, глядя на них, заставляла их уняться. Ребятня галдела, смеялась, ничего не желала слушать, получала обещанное и размазывала нестрашные слезы.
Наконец поезд поглотил нас всех, осел на рессорах и добрую милю пыхтел в кромешной темноте тоннеля, за которым лежали другие страны и ярко сияло солнце. Мы выскочили наружу, и можно было осмотреться. Я мечтал о месте у окна, а нас ткнули в середку вагона. У окна сидел старик. Я не спускал с него глаз. Я буквально сверлил его взглядом, а ему хоть бы что. Он сидел прямой как жердь, сложив на коленях руки и глядя прямо перед собой, рассеянно поигрывал связкой медалей на часовой цепочке и ничего вокруг себя не замечал. Симпатичный старичок с седыми усиками и лицом, которое лет шестьдесят поливал дождь, и скупо ласкало солнце. В петлице у него красовалась свежесрезанная роза — большая чайная роза. Скоро он заметил, как я, вывернув голову, пытаюсь прочесть надписи на его медалях.
— На, погляди, — сказал он, расстегнул на жилете пуговку и снял с часов цепочку. — Только смотреть-то особенно нечего.
Он рассказал мне про каждую: эта за футбол, эта за голубей, вот эта за оказание первой помощи, а эта, вроде полицейской бляхи, за первое место в беге.
— Мистер, какая она замечательная, — сказал я.
— Красивая, — согласился он. — Соревнование-то было так себе, по случаю выставки в одной деревушке.
— Настоящее золото.
— Да, другого мне в жизни не перепало.
— Мой дедушка судит на выставках. Может, он и присудил вам эту медаль.
— Вряд ли, — улыбнулся он. — Ближайшая выставка будет сороковая с того дня. Это в Уиттоне было.
— Моя бабушка из Уиттона.
Тут бабушка сочла нужным обратить внимание на происходящее и вступила в разговор:
— Он вам не мешает?
Старик подался вперед.
— Не беспокойтесь, миссис. Мы прекрасно проводим время. Благосклонно улыбнувшись, она кивнула и отвернулась от нас. А старик продолжал смотреть на нее.
— Возьмите свою цепочку, мистер, спасибо, — сказал я.
— Не за что, сынок.
Он перевел на меня посерьезневшие глаза, потом опустил в жилетный кармашек цепочку с медалями. Снова взглянул на бабушку и чуть слышно пробормотал:
— Ни дать ни взять — она.
— Это она, мистер, — сказал я, — моя бабушка.
Он рассмеялся и взъерошил мне волосы, отчего я не пришел в восторг. У нас дома такие проявления чувств не приняты.
— Стало быть, твоя бабушка из Уиттона? Я сказал, что да.
— Тогда ты совсем молодец, — сказал он убежденно. — Бери карамельку.
— Я бы лучше пересел на ваше место, — ляпнул я.
— Да ради бога! А я еще не решался попросить тебя поменяться местами! Солнце донимает.
Мы поменялись с ним местами, и у меня в руке, словно сам собою, оказался кулек с леденцами. Тут и бабушка вышла из задумчивости.
— Что происходит? Он в самом деле вам не мешает?
— Не волнуйтесь из-за парнишки, миссис. Он сидел, глядя прямо перед собой.
— Он говорит, вы из Уиттона?
— Вот язык-то без костей! А я видел, что ей приятно.
— Вы что, тоже из Уиттона?
— Ты мало изменилась, Маргарет, — сказал он вместо ответа.
— Откуда вы знаете, как меня зовут?
— Я не забыл твой голос. Как только ты заговорила, я тебя сразу узнал, а тут еще малец сказал, что ты из Уиттона, — вот все и сошлось.
Впервые с нового места он заглянул ей в лицо.
— Славно тебя опять увидеть. Сколько времени-то прошло? Она опустила голову.
— В следующую выставку будет сорок лет, — продолжал он. — Сорок лет набежало.
Дважды повторенные «сорок лет» запали мне в голову. Какое огромное время, четыре моих жизни, четверо таких, как я, десять раз проснутся в рождественское утро, из манежа переползут в младшую школу; это четырежды десять больше сочинений, выступлений на утренниках в воскресной школе, беготни, карабканий и прыжков в «зеркале»;[13] это четырежды десять больше порушенных птичьих и осиных гнезд, накинутых на колышек колец, запуленных «чижей» и синяков после чехарды; это столько проорать на темных улицах «Джек почистил пулемет», столько собрать ежевики, столько колядок пропеть, столько раз съехать по отлогим белым склонам на заду и на санках, что подумать обо всем этом — голова закружится. Поставишь ногу, а где опустить другую — не знаешь, потому что под ногами пропасть, в которую без числа валятся дни и месяцы: ведь все надо помножить на десять, а потом еще на четыре. Из этой арифметики меня вывел бабушкин голос:
— Это ты, что ли, Чарли?
Тот кивнул.
— Как тебя угораздило попасть к нам в попутчики? — не очень радушно спросила она.
— Жизнь занятные штуки выкидывает. Я когда ушел из деревни, то устроился на железную дорогу, а теперь меня сюда перебросили. Я старший ремонтник, — добавил он, помолчав.
— Куда это годится, — сказала бабушка, — чтобы в твои годы сниматься с насиженного места. Хорошо, хоть дети, наверно, уже взрослые.
— Я одинокий, — сказал он. — Как перст.
— Что, и никогда не женился?
— Не женился. А мне, знаешь, нравится снимать квартиры. Когда в молодости поскитаешься досыта, то научишься радоваться простой еде и чистой постели. Избегая ее взгляда, он повернулся ко мне.
— Какой же он у тебя глазастый! Когда твои закроются, и за тебя на белый свет поглядит.
— Он из внуков старший, — сказала она. — У меня пять дочерей.
— И ни одна, уверен, не сравнится с матерью.
— Выдумывай! — сказала бабушка.
Гордясь комплиментом, старик откинулся к стенке, и я смог увидеть, как краска заливает бабушке лицо и шею.
— Не прижился, стало быть, в Уиттоне? — спросила она.
— Стало быть, не прижился! — воскликнул старик. — Совсем развязался, слышать ни про что не мог — вожжи эти, вилы, навоз, турнепс. Помнишь, как мы пололи турнепс в пойме?.. От холода рук не чуяли.
— Я смерть не любила эти участки в пойме, — сказала бабушка. — Меня и сейчас, только увижу поле с турнепсом, в дрожь кидает.
— Верно, зато какое потом счастье — согреться. Сухая одежа, стол накрыт, кипит чайник, ребятки бегают по дому. Ради этого стоит жить.
— Смешно, что ты это вспомнил, — сказала бабушка. — Отец всегда ворчал, что ты неправильно разводишь огонь.
— Сорок лет… — раздумчиво протянул старик. — Ты была в белом платье и в шляпе с цветами… Я тебя искал после соревнований, а ты точно сквозь землю провалилась. Помню, весь луг обегал. Тебя и след простыл. Всю ночь проходил у твоего дома, а твои хоть бы слово сказали…
— Их отец застращал.
— Когда он под утро прикатил на коляске, я его спросил в открытую, — продолжал старик. — И он сказал: «Ты ее, дружок, вовек не отыщешь. В моем доме тебе не хозяйствовать».
— Алисе с мужем перешла ферма.
— Ладно хоть, что и другой не пришелся ко двору.
— Нам она была ни к чему. Джо хороший специалист, нам всего хватало.
Она ненадолго задумалась.
— Победил ты хоть в тех соревнованиях? — спросила она погодя.
Вместо ответа он потянул из кармана цепочку. Взглянув на него, я понял, что все эти долгие годы она лежала там ради этой самой минуты.
— Господи, какая красивая, — сказала бабушка.
— Интересно, что ее первой углядел твой парнишка. Тем более что и выиграл-то я ее ради тебя.
Смешавшись, она мяла в руках перчатки.
— Он все подмечает. У него вопросов на языке, что у судьи.
Старик одобрительно кивнул.
— Не заробеет спросить. А возьми меня: ведь как бывало нужно что-нибудь, а язык не повернется сказать.
— Смешной ты был, скромный.
Я с изумлением уставился на морщинистое, обветренное лицо, пытаясь вообразить его гладким и свежим в ту пору, когда тот паренек искал на лугу девушку в белом платье. Бабушка — в белом платье! С ума можно сойти. Значит, четыре моих жизни назад она была красивой девушкой, а я четыре жизни спустя стану стариком — вот какая арифметика выходила!
Что-то невысказанное повисло между ними. Я это понял, когда бабушка закрыла глаза и понарошку задремала, потому что такого за ней не водилось.
И тогда старик разговорился со мной. Он рассказал, как ходил через горы к Западному морю,[14] как один-одинешенек бродил вдоль римской стены,[15] какие приключения пережил у пастухов в Пограничном крае.[16] Рассказал, как однажды едва спасся от огромного гусака, как ехал в бурю на возу сена, как боролся с диким козлом на Чевиот-хиллз. И когда поезд пришел на побережье, я даже огорчился. Только ненадолго. Едва мы сошли на платформу, я стал рваться к морю. А старик увязался за нами и полз как черепаха. Прыгая от нетерпения, я тыкал пальцем в краны, по-жирафьи нависшие над домами, в пароходные трубы, видневшиеся в конце узкой улочки. Вскрикнула чайка, и от предвкушения песка и пенистого прибоя я прямо задрожал. А этим хоть бы что.
— Успокойся! — велела бабушка. — Целый день впереди, насмотришься.
— Потерпи минуту-другую, — сказал старик и обернулся в ее сторону. — Так что, ты уехала и вышла замуж, да?
— Ровно через год. И никогда об этом не пожалела.
— Рад за тебя.
— А ты, значит, в путешествия ударился?
Я знал каждую интонацию ее голоса и поэтому уловил то, чего старик, кажется, не заметил, — жалостливо-пренебрежительный оттенок.
— Еще как ударился. Сколько я ферм обошел — не счесть.
— Отец тебя сбил с толку, что ты меня вовек не отыщешь, — сказала она с той же ноткой в голосе. — Я все время была от тебя в двух шагах.
Он даже вздрогнул.
— Это как же?
— Да в Ламли, где ты сегодня сел на поезд, оттуда шести миль не будет до Уиттона.
— Ламли… Мне и в голову не пришло.
— Там я и была, — сказала она и покачала головой. — Целый год, даже побольше. Хуже тюрьмы, ни одного светлого дня.
— Ну, видно, не судьба была, — сказал, наконец, он.
— Да нет, просто ты не знал, где искать, — ответила она, и теперь в ее голосе прозвучала только жалость.
И тут, помню, мы вышли на приморский бульвар. Желтый монастырь у реки колол шпилем единственное облачко, а далеко внизу раскинувшиеся по обе стороны стены гавани цеплялись за край неохватного моря и неба. В воздухе стоял гул, по всей морской шири бежали белые барашки. Грохотал прибой, накрывая какой-то посторонний, но отчетливый звук — гомон людских голосов. Я очумел от этой красоты, и, уже никого и ничего не замечая, я побежал, проваливаясь в рыхлом песке, и бежал, пока песок не стал мокрым и плотным. Только тогда я обернулся. Бабушка махала мне рукой. Я помахал в ответ. Она пожала старику руку. Повернулась идти, но он ее окликнул. Я видел, как она отрицательно мотает головой. Наконец они расстались, и она добрела по песку до меня, а старик все стоял на месте.
— Что ты умчался как угорелый? — накинулась она на меня. — Даже не попрощался с беднягой.
— Он нам машет.
— Ах ты, господи боже, — вздохнула она и стала махать ему в ответ. — Не стой истуканом, помаши человеку на прощанье.
Мы стали оба махать и кончили первыми.
— Пошли, — сказала она. — Поищем, где потише.
— Пойдем на пирс.
Но она сграбастала мою руку и потянула совсем в другую сторону, и я понял, что спорить бесполезно. Мы еще немного прошли, и она спросила:
— Он еще там?
— Еще там.
И тут я увидел, что с ее лацкана понуро свисает роза.
— А у тебя его роза!
— Духу не хватило отказать. Что он там делает?
— Стоит как часовой.
— Уходил бы, что ли, скорее. Посмотри еще раз, только весь-то не оборачивайся!
— Уходит.
— В какую сторону?
— В другую. К пирсу.
— Слава богу. Возьми у меня сумку. Она отшпилила розу.
— Сейчас он вряд ли нас видит, правда? Идиотство, конечно, но не могу я с этим ходить. Так он мальчишкой и остался.
И, словно девочка, спрятав цветок за спину, она обернулась и посмотрела поверх голов, которыми был утыкан песчаный берег.
— Верно. Уходит, бедняга.
Она подошла к коробящейся кромке моря и бросила подарок неловким движением, словно стеснялась своего поступка. Цветок сначала запрыгал в водовороте, потом вода отошла, приняв его на свою грудь, потом накатил вал и поглотил его.
— Кончен бал, — сказала она, и откуда ей было знать, что годы спустя новый прилив вынесет розу? Мы постояли, она не появлялась. — Потопла, — чуть слышно сказала она, и откуда ей было знать, что еще много-много раз я по первому же крику чайки буду видеть ее розу на холодном, нежном и бесплодном морском лоне.
КАРАВАН К СОЛНЦУ
Отрывок из повести «Тонкий шов»
О чем я думал, когда полз? Наверное, полагается, чтобы я сказал: ни о чем, сознание оцепенело. Но это было не так. Словно на просторной сцене без декораций, с задником, черным, как страшный сон наяву, в моем сознании сновали туда-сюда мысли, все убыстряя бег, пока не замрут под занавес.
Сначала, помню, я думал о Дэниеле. Меня не покоробило, что он так сломился. Тяжело видеть, как мучаются близкие люди, но совсем непереносимо видеть их изуродованными, с растерзанной плотью, словно разодранный полог обнажившей сокровенную внутреннюю жизнь. Я завидовал Дэниелу. Мне отчаянно хотелось последовать его примеру и закрыться руками от крови и страданий. Но на меня рассчитывали. Здоровенный навальщик хватал меня за пятки. Дороги назад не было.
Потом мелькнула мысль, почему я не сразу узнал Дэниела. Я вызвал в сознании его образ, каким я его оставил: простертый на земле, ко всему безучастный, по пояс голый — рубашку он отдал на повязки для Арта. Мне представилась сокрушительная челюсть врубовки, я вспомнил рассказы о тех, кому случилось отведать ее зубов, и пополз проворнее. Не помню, чтобы мне было больно, когда я царапал спиной кровлю или ужом протискивался в узкие крепежные ходы. Важное было впереди — и во мне. Смерть, умирание — я сознавал их как никогда. Я думал об утраченных чудесах жизни и думал не отвлеченно: я видел эти чудеса каждое в отдельности. Видел слепящее огненное солнце, льющее ни с чем не сравнимый свет; видел луну, сестру ночи и хранительницу незапятнанной чистоты; видел Плеяды в золотом сиянии.
Во мне гулял западный ветер, он все сметал со сцены и опадал перед несокрушимым черным задником; на красавицу гору наползала с горизонта огромная туча, потом все небо затянуло темным покровом, и красота тучи излилась очистительным дождем. Я видел, как вскипал белой яростью круто падавший Белый ручей, слышал, как дождь стучит по растрескавшейся земле, как поит пашню и реку, слышал грохот водных потоков о базальт. Я слышал, как дождь барабанит в окно, по стеклу сбегают струйки, сливаются — добрая и скромная работа воды, чудо и благодать, а в доме трепещет камелек, и память о нем согревает руки, разгребающие породу. Потом я увидел саму землю, отданную мне в вечное пользование, ее плоды, ковры цветов и трав, увидел, как я иду по ней с друзьями и учителями, дороже которых у меня нет никого на свете. И тут настала та минута перед занавесом, о которой я говорил. Она предупредила о себе запахом, скверным и слегка приторным. Я не знал такого прежде, но сейчас узнал его сразу. Я был близок к концу моего пути — на расстоянии запаха, и, подняв глаза, я различил в слабом свете очертания громоздкого тела врубовой машины.
Нужно доложиться Эндрюсу. Он был ко мне спиной, чем-то занимался. И слава богу. Он тоже был по пояс голый. «Джек!»— окликнул я. Он не ответил, а повернуться было трудно, и он просто сунул назад руку и пошарил ею. Я отдал ему узкие бинты. «Не годятся, — пробормотал он. — Где широкие?»
— От низовых ворот несут, — сказал я. — Вот рубашка, еще одна. — Я сунул руку себе за спину, верзила навальщик вложил в нее рубашку, и я передал ее вперед. «Другое дело», — сказал он скорее себе, чем мне. Я услышал треск разрываемой материи и какие-то еще звуки. Потом впервые осознал присутствие Мэтти. Эндрюс чуть подался в сторону, и я неожиданно увидел голову Арта, она лежала на подушке, сооруженной из сортировочного мешка. Глаза у него были закрыты, а губы шевелились. С губ-то и срывались те звуки, которые я сначала не признал; это был голос его муки. И тогда я увидел, что его голову придерживают руки, — это Мэтти лежал за ним, голова к голове. И он не смотрел, что делает Эндрюс. Его ладони обжимали лицо Арта, а кончики пальцев указывали туда, куда он не смел взглянуть. Я уставился на эти пальцы как загипнотизированный. Я знал, что бы я увидел, если бы мне не мешала спина Эндрюса. Потом я увидел, что руки чем-то отливают. Они были в запекшейся крови. Когда они вызволяли изуродованное тело из угольного чрева, куда его безжалостно затащили работающие зубки, их, эти руки, залил поток крови.
— Не могу я ее остановить, — в отчаянии сказал Эндрюс. — Когда же принесут бинты?
Чей-то далекий голос спросил:
— Чем я могу помочь, Джек?
— Достань бинты, живее! — ответил он, и тут я понял, что тот далекий голос был мой. Я втиснулся между верхней и нижней лентами конвейера, развернулся и пополз обратно, стараясь не смотреть в их сторону. Только бы проползти, ничего не увидев. Ища, за что ухватиться, я наткнулся на чужую, мертвенно холодную руку, и неведомая сила заставила меня взглянуть и увидеть неестественно вывернутые руки и ноги. Я видел изорванную в клочья одежду, пенящуюся вспоротую плоть, ничем не прикрытую. Меня охватил ужас, какого я никогда больше не узнаю. Я видел мертвых, но впервые умирали на моих глазах. Того, что с ужасом и мельком я увидел, было достаточно, чтобы понять: он умрет. Зубки врубовки искрошили его, как в старое время крошило рабов пыточное колесо, только здесь действовала механическая сила, бездушная, безжалостная и безотказная в работе. И по всем признакам — по его лицу, ранам и запахам — я понял, что он, без дураков, умирает. И поскольку я с ним дружил, эта смерть касалась меня тоже, и я затрепетал перед таким наказанием.
Я отдернул руку и был готов ползти дальше. Но тут выяснилось, что ползти уже не надо. Послышались голоса, замелькали, слепя глаза, огоньки ламп, и я понял, что принесли бинты. Я вернулся на прежнее место.
Первым до нас добрался старший штейгер Робсон. Раньше я не особенно замечал этого малорослого тихого человека. А здесь, в кромешной темноте, я увидел его в новом свете. С его приходом у нас прибавилось сил. Он отдавал распоряжения резким, пронзительным голосом, но без паники:
— Ну, как он, Джек? Давай-ка прикроем ноги и грудь одеялами. Ему нужно согреться.
— Перережь верхнюю ленту, Крис, а то здесь не повернуться.
— Ребята, возьмите совки и расчистите проход, чтобы вынести его из забоя, когда перевяжем. Уберите крепежный лес, сделайте колею, чтобы ничто на пути не мешало.
Все сразу и безоговорочно подчинились. Этот непререкаемый начальственный голос прорвал пелену боли, Арт услышал его и вник в смысл. Он впервые заговорил. Его голос тоже звучал резко, на требовательной ноте страдания. «Не надо. Не трогайте меня. Дайте покой. Мне крышка». Почему-то показалось странным, что такой ясный голос исходит из сокрушенного тела. Я уже перерезал ленту, и Робсон смог протиснуться сбоку. Он помогал Эндрюсу, движения у него были точные и уверенные, лицо спокойное, хотя причин для спокойствия не было никаких. «Ничего, ничего, — приговаривал он. — Я понимаю, тебе тяжело. Потерпи. Скоро доставим тебя на рудничный двор, там доктор. Мы и сейчас тебе помогаем».
— Не рассказывай мне сказки, не надо. Я умираю, ты сам видишь. Умираю.
Я видел, как он шарит глазами по кровле — поднять голову или хотя бы повернуть ее он не мог.
— Дайте спокойно умереть. Дайте покой. Не трогайте меня.
— Не можем мы тебя не трогать, пойми. Тебе нужен врач, — сказал Робсон.
— Оставьте его в покое, раз он просит! — закричал Мэтти. — Все равно живым мы его не поднимем, не видите, что ли?
Робсон посмотрел на него словно издалека, словно тело Арта легло между ними рубежом.
— Помолчи, если умнее не придумал, Мэтти, — холодно сказал он. — Ты нам мешаешь. Твое место с ним рядом, конечно, но еще одно такое слово, и я тебя отсюда погоню. Прикуси язык.
Наверное, они его приподняли, чтобы подвести бинты снизу, — послышалось долгое захлебывающееся бормотание.
— Неужели ничего нельзя сделать? — взорвался опять Мэтти. — Не видите, как он мучается?
Робсон промолчал, да Мэтти и сам знал, что ответить на его вспышку бессилия нечего.
— Давайте носилки, — распорядился Робсон.
Вырывая друг у друга из рук, спереди передали носилки. Робсон потеснился, освобождая для них место рядом с телом, развернул их. Эндрюс поднял голову. «Смотри! — сказал он. — Кровь не останавливается».
— Значит, еще бинтуй, — ответил Робсон. Он встал на прежнее место. Взвился, разматываясь узкой белой полоской, бинт и окутал тело.
Из-за низкого свода не удалось поднять Арта на носилки. Мы чуть оторвали тело от земли и подсунули носилки снизу. Другой бы потерял сознание, но он был лишен этой милости, ему пришлось вытерпеть нестерпимое. За эти несколько секунд он пять-шесть раз кричал от боли. На носилках он затих, закрыв глаза, и мы подумали, что он, наконец, отключился. Мы взялись за ручки и где катом, где, держа носилки на весу, двинулись в сторону низовых ворот, и наши рывки, видать, разящими ножами отзывались в его истерзанной плоти, потому что тогда-то он и стал виноватить все живое, и это продолжалось бесконечно долго, и нам было с ним очень трудно.
Я не помню всего, что он говорил. Он начал в ту же минуту, как мы взялись за носилки, и не умолкал до самого ствола шахты, где мы присели отдохнуть под фермой, на которой кто-то сделал мелом запись. Тут только он истощился. А то не умолкал. Иногда мы перебрасывались словами через этот неиссякаемый поток, и тогда мы не слышали, что он говорил. Или попадался трудный участок пути и отнимал все силы, и мы опять его не слышали. На бумаге, я сейчас вижу, гладко, а тогда его слова клокотали, как разъяренная лава.
— Правильно. Мотайте из меня кишки. Вам лошадей и то жальче. Чего не сделать мне укол? Что я, хуже твари? Нечего обо мне думать. Об угольке думайте. Молись за меня, уголек. Ты со мной расквитался. Молись за уголек, Присно-дева Мария, молись за меня. Вы меня доконали, Эндрюс, своими бинтами. Вы же знали, — крепильщики что говорили? — выемочное поле плохое, кровля никуда. Так нет, давай-давай, руби уголек, он с моей крови лучше разгорится, плевать на все, они ни на одной тонне ничего не потеряют, а я отдал задаром, чего ни за какие деньги не купишь. Теперь пивка в выходные не выпьешь, шабаш. Хоть ребятишкам больше денег останется. Куда ты смотришь, Мэтти? Осторожнее! Я бы тебя так не болтал. Опустите меня, ребята, дайте покой. Я вас не задержу, клянусь. Я быстро умру, тихо. Никому не помешаю. Опустите, ребята. Вы же… Не слушайте Робсона, опустите меня. Это все твои дела, Робсон, они бы меня не стали трогать. Ты хитрый. Давай, мол, поднимем его скорее наверх и погрузим в карету, а то помрет здесь и не пройти из-за него. Давай тащи! Правильно, ребята. Надо план выполнять. Что же вы не слушаете, гады? Будет у вас в эту неделю план, только вклейте мою фотокарточку в наряд. Я его хорошо украсил. Все ты, Мэтти, ты сманился на врубовку. С дерьма пенки снимать. Ты тут, Мэтти? Тогда слушай. Отец говорил: оставайтесь навальщиками, а ты захотел по-своему, не успокоился, пока не сели за врубовку.
— Чья очередь? — спросил Робсон.
Мы уже были вблизи низовых ворот и, опустив носилки, разбирались, кому где встать. Бормотание снизу мешало нам слышать Робсона.
— Я, — говорил Арт, — я умираю. Это точно. Скоро. Вот смех-то.
— Будешь за старшего, Джек. Возьми мою куртку. Крис, Джек, Джорди, Фредди. Кто у нас еще? — Его цепкий взгляд обежал нас всех. — Ральф.
— И меня считай.
Это был Дэниел, он появился из расщелины под кровлей, за ним полз Эдди.
— Ладно. Ты в порядке?
— Да это же Дэниел, кобель неугомонный! Как рука, Дэниел?
— Я в порядке, — сказал Дэниел и посмотрел вниз — на носилки, на высушенные горечью губы.
— Ну, взялись, несем по очереди, меняйтесь на ходу, чтобы не канителиться.
И мы вчетвером сгорбились каждый над своей ручкой, потому что выпрямиться там нельзя было…
Эдди поднес к его губам бутылку, но он то ли не мог, то ли не хотел пить. Вода стекла с его плотно сжатых губ. Эдди убрал бутылку.
— Не хочу воды. Что мне вода? Если не врут, то я поужинаю в раю. Ай! — Это мы его подняли. — Не убирайте со стола, пока я буду спать, я хочу выспаться. Кому страшно умирать? Ничего тут страшного нет. Хочу умереть, умереть хочу… Пропади они пропадом, эти шахты, пропади они пропадом, десятники и шестерки. Пусть у меня руки отсохнут, если я еще раз возьму обушок и лопату. Скорее уголь сгниет в пластах, чем я сяду за машину. А все она, стерва, денег ей мало. Гори они огнем, и ствол и клети, удавись они, тросы-колеса. Ради их утробы семь дней в неделю ползаешь на брюхе, как муха по мясу. Кончай работу, давай наверх. Все это для дураков: работать, как лошадь, а тратить, как осел. Бочка пива — тоже для дураков. Женитьба и церковь по воскресеньям — это все для дураков. Если ты настоящий мужик, стань и постой на солнышке. На спор, Эдди? Я прав. Катись они подальше, попы, епископы и кардиналы. Катись они — сами не могут и не хотят, а нас заставляют. Политики, гады, встанут на задние лапы и мелют языком. Мы вкалываем, а они у каминов греются, в купе полеживают, зады отращивают. Все, я завязываю. Если бы я пережил сегодняшний вечер, я бы сдал пропуск и лампу и пошел бродяжничать.
— Ты договоришься до того, что умрешь со смертным грехом на душе, — сказал его брат.
— Какой ад и чистилище хуже этого? Отведи меня туда, и я рассмеюсь дьяволу в рожу. Он сопляк. Я его научу кое-чему. Я кое-что повидал. Я бы сейчас со смеху умер, если бы и так не помирал… Зачем было родиться на свет, если так помирать? Им бы не на кресте, а на зубках врубовой машины его распять. Его мамаша не стала бы тогда смотреть, как он умирает. Ему, небось, не вгоняли гвозди в живот, как мне.
Мучительными приступами одолевали мы с носилками узкий ходок. Вот мы оба, держась за ручки, опускаемся на колени и толкаем ношу перед собой, а обломки крепи впиваются в спину, в бока, словно вынуждают оставаться на коленях и каяться вместо него, а у нас и без того нет сил подняться. В тех низовых воротах было одно место, где штрек сужался до ширины плеч, мы это место называли «нырище». Всего шесть ярдов[17] тянулся этот лаз, но когда в него сунешься, покажется: все шестьдесят. Порядок в пути у нас был такой: Джорди уползал вперед, разворачивался и брался за ручки. Колеса не пропускали ни одной рытвины, ни одного подвернувшегося камня. От этого и на здоровую голову можно сдвинуться, а каково было Арту, перевязанному, как куль, беспомощному и недвижимому! Вблизи от нырища он на время унял свою яростную хулу на все живое, хотя и тогда его язык не успокоился. Умерив голос, он говорил сам с собой либо с кем-то, кто ему представлялся. Пока Джорди в нырище готовился принять носилки, мы все сгрудились около них, приподняли на уровень бровки уступа и просунули в лаз переднюю пару ручек. Но сначала, опасаясь осложнений, Эндрюс объяснил Арту, что мы собираемся делать.
— Мы у нырища, — сказал он. — Слышишь меня? Управимся в два счета.
Но Арт по-прежнему о чем-то договаривался с самим собой.
— Берись, ребята, — велел Эндрюс, — ему ни до чего сейчас. Он ошибался, Эндрюс, едва мы вдвинули носилки в щель, как раздался леденящий душу вопль. Кровля надвинулась внезапно, словно неумолимая смерть. Я впервые слышал, как кричит само отчаяние. Носилки пошли ходуном, когда он забился в своих повязках. «Выньте меня отсюда, выньте! — орал он, задыхаясь. — Куда заколотили? Мне рано в гроб! Выньте меня отсюда!» Я похолодел от ужаса, но хоть носилки потихоньку двигались. За моей спиной Эндрюс подал голос: «Все нормально, Арт. Скоро кончится нырище».
Вряд ли Арт его слышал. Боль, даже слабая, замыкает нас в себе, а уж та, какую ему приходилось терпеть, обрывала последние связи с окружающими, другие просто перестают существовать. Он ничего не слышал. Он был от нас дальше звезд. В его сознании уже не было для нас места, его затопили чувство утраты самого себя и терзавшая со всех сторон боль. И еще страх перед смертью. Совсем недавно он просил смерти, высмеивал тех, кто ее боится. Но вот кровля подступила к глазам, и оказалось, что смерть — это не пустой звук; это ближайшая дверь, и она уже открывается; а он не готов.
Кончился узкий лаз, нас сменили. Мы чуть отстали, а его разбирательство с самим собой продолжалось. Он просил, молил, заклинал. Из бездны страданий вырывались вопросы и разбивались о безответную пустоту. Мы тащились дальше. Низовые ворота, новая проходная, старый ходок. Каждый отрезок пути запомнился мне тем, что тогда говорил Арт. Я особенно помню заключительный этап — от того места, где когда-то давным-давно Эндрюс надавал мне по шее. Вот от этого места и до стволовой фермы я снова был у носилок. Я крепился из последних сил, хотя тяжесть выворачивала руки. Но по-настоящему тяжко было на душе от его разговоров с самим собой. Они были не для посторонних ушей, и было не легче от того, что для него мы уже не существовали. Что не нам он это говорил.
— Погоди еще немного, дай разобраться, — просил он. Нельзя же так сразу. Даже Спаситель знал про себя заранее. Дай успеть попрощаться. Увидеть их всех. А потом умру и слова не пикну. Она не останется жить с обидой, если мы увидимся, пока я не умер. Мне черт-те сколько надо сказать. Паршиво я жил. Про женщину из Бишоптона ты знаешь. И как пил не просыхая. Потяни сейчас, дай все уладить. Она заплакала, когда я ударил. Но я не хотел. И наговорил тоже, чего не думал. Дьявол попутал. Ты-то понимаешь. Вот беда. Дай объяснить. Мэтти! Мэтти! Мэтти!
Сзади спешил Мэтти.
— Я здесь, брат, — крикнул он, подлаживаясь идти сбоку. — Опустите его, — сказал он нам, — он совсем кончается.
— Ах ты, господи, когда же этому будет конец, — сказал Эндрюс. — Останавливаться нельзя, Мэтти.
— Нужно облегчить ему душу, — сказал Мэтти. — Я так больше не могу. У меня сердце надрывается это видеть. Вам все равно, а он умирает грешником.
— Опускайте, ребята, — сказал Эндрюс. — Опускайте.
Мы опустили носилки, и Мэтти встал рядом на колени.
— Я здесь, брат, — тихо окликнул он. Арт не отозвался. — Ты грешник. Раскайся. Не уходи так.
— Грешник, — слабо повторил Арт и отвернулся.
Мэтти поднял голову и обвел нас отчаянным взглядом.
— Неужели никто не может ничего сказать? Нельзя ему умирать с неспокойной совестью. Эндрюс, ведь твой отец был хорошим человеком. Крис, ты ведь можешь. Скажи что-нибудь, чтоб он пришел в себя. А то ведь скоро не докричимся. Дальше тянуть некуда.
От такой просьбы Эндрюс опешил и посмотрел на меня молящими глазами. Но я замотал головой: не могу. Я, правда, не представлял, что сказать без притворства. Если у меня где-то и были слова, которых так просил Мэтти, то некий непреклонный запрет замкнул их на семь запоров. Мы с ним были далеко по разные стороны, и, хотя сердце у меня обливалось кровью, перетянуть меня к себе он не мог. От моей малой веры остались крохи; верующий я был никудышный; но я определенно чувствовал — и сейчас чувствую, — что взыскан милостью. У меня не было никакого желания подменять священника, меня с души воротила мысль выступать в этой роли. Да к тому же я понимал, что Мэтти не помнил себя от ужаса, когда требовал этого. Пройдет время, думал я, и он пожалеет о своей просьбе, устыдится своей слабости. Словом, как ни посмотри, дать я ничего не мог, и права у меня такого не было, и веры я не имел, чтобы она дала мне это право.
А потом я увидел, что Мэтти смотрит куда-то позади меня, обернулся и увидел ту странную надпись, которую неведомая рука вывела мелом на стальной ферме. А Мэтти опять склонился над братом, и, уже не оборачиваясь, чтобы проверить, я знал, откуда он взял эти слова. «Ты слышишь меня, Арт? — убеждал он его шепотом. — Ты помнишь: Христос — моя твердыня? Христос. Твердыня». Веки дрогнули, моргнули и снова закрылись. И снова Мэтти без надежды, но настойчиво повторил свои слова. Арт открыл глаза и озадаченно вгляделся в близкое тревожное лицо. «Не суетись, Мэтти, — сказал он. — Мне уже хорошо. Только хочу спать. Не переживай, что не успел остановить машину. Ты не виноват». С минуту он лежал молча. Потом пошевелил губами. Все тихо, но, кажется, губы складывали слова: «Христос. Твердыня». Мэтти погладил его по щеке и поднялся в рост. «Теперь несите», — сказал он.
Мы принесли его на рудничный двор. Разместились с носилками в клети и из кромешной темноты перенеслись в слепяще солнечный день. Он умолк под одеялами, оцепенел, словно был уже неотделим от носилок. По мне, лучше бы опять слышать его ругань. Молчащий, он был не человеком, а чем-то большим. Он представлялся знамением. Это неотменимое и непреложное знамение смерти давило на меня, словно рычаг. Все во мне, я чувствовал, перевернулось.
Когда мы выносили его из шахты, мужчины и взрослые ребята расступались, не задавали вопросов. За порогом надшахтного здания лежала прекрасная земля, за ней виделось море. Белые валы разбивались о далекий берег, откатывались и приливали снова. Раскинув широкие крылья, чайки утюжили ласковое небо. Одна спикировала на нас, сверкнула огненным глазом и сочувственно осклабилась. А может, мне показалось, потому что я хотел во всем находить отклик своему состоянию.
Потом другие руки забрали его у нас.
Мы сдали лампы и жетоны. Эндрюс сходил к своему шкафчику и принес пару сигарет. Прислонившись к ограде, мы курили, смотрели на разыгравшихся необъезженных пони — как они трясут головами, мотают гривами, бьют копытами. Ветра не было, и запах сена подкрался тайно. К медпункту подъехала карета скорой помощи; ритмично стучал мотор.
— Ну, как ты? — спросил Эндрюс.
— Плохо, — ответил я. — Но теперь легче, понимаешь? Он посмотрел на меня непонимающими глазами.
— Нет, — сказал он. — Вот мне плохо — и точка. И не на чем зло сорвать. Чтобы человека искромсать, как крысу в жатке…
Я знал, что не смогу выразить в словах случившееся со мной. Что таинство смерти наставило мое погибавшее существо на иную дорогу. Какую? К богу? Этого я не знал. Я ничего не сказал Эндрюсу, да он и не ждал от меня ответа. Его взгляд был устремлен на двери медпункта. Оттуда вынесли носилки. Тело было укрыто с головой. Резко хлопнули, закрываясь, дверцы машины. Потом вышел Мэтти, потерянно огляделся, черный, нескладный. Что-то ему сказали. Он нехотя, через силу направился к машине и сел рядом с шофером. Машина уехала.
И тут Эндрюс сказал то, о чем мы все про себя думали:
— Мэтти больше не сядет за рычаги врубовки. Ни в жизнь. А жаль. Хорошо работали ребята. С душой, это сейчас редкость. Сломался парень. Кончился.
Он хмуро смотрел на рубиновый кончик сигареты, а я мысленно видел пять подмигивающих огоньков — это мы идем на свою разработку, только вчера это было. Рядом со мной Арт, по-мужски сильный; его рука лежит на моем плече, и под его крылом я забываю обиду.
— Так оплошать! — сказал Эндрюс. На его чумазом лице яростно зажглись глаза. — Неужели не мог продержаться до конца? Нет, надо боженьке поклониться. А очень бог старался для него? Ведь сказал же: брюхо прошили гвоздями. И сам ползет к нему на этом брюхе за отпущением, видишь ли, грехов. Чего там отпускать? Какой такой смертный грех сотворил Арт, чтобы вот так вымаливать прощение? Ну, завел бабу на стороне — что ж, такой кровью смывать этот грех? На его месте я бы не чаял скорее умереть, чтобы добраться до того престола и задать вопрос…
— Придет и твой час, — сказал я.
— Есть вещи, которыми не бросаются! — взорвался он. — Человек должен помнить о гордости и достоинстве, и я бы не стал про это забывать и праздновать труса. Я сохранил бы гордость до встречи с ним, а потом швырнул бы ее ему под ноги, раскрыл свой дырявый живот и посмотрел, что он на это скажет. Так бы и сделал, ей-…
— Богу, — кончил я за него. — А бог нагнулся бы, поднял твою гордость и вернул ее тебе с улыбкой.
Он зло взглянул на меня, бунтарь, не знавший, к чему приложить руки. Потом резко повернулся и пошел. Я смотрел ему вслед. Устало сгорбленные плечи, тяжелая поступь, бессильно повисшие руки. Но кулаки были сжаты. Он не сдавался! Строптивый дух не поник в нем. Я увидел в нем символ моих земляков. Они суровы и тверды, как та скала, в которой они пробивают штреки, и, если не знать, как они устроены, ни за что их не разгадаешь и не поймешь. Такие уж они есть и другими быть не могут. Они берут слабый светильник и отправляются во чрево Левиафана. Они забираются с ним в зловещую тьму, и им не страшно. Без огня под землей, как без рук. Без огня нечего делать. На пласте темнота ложится на глаза, как бархатная подушка, она непроницаема, она тревожна, если с собой нет огня. На глубине двух сотен морских саженей ничто не тянется к солнцу, и солнце не проливает от своих щедрот. Только память о нем остается и желание скорее вернуться наверх. Здесь все бесформенно, все пустота. У обнаженной скалы крутой нрав, на удар она без промедления отвечает ударом. Один господь бог радеет о глубинах земных, и люди встревают в его радение и расплачиваются яростью духа, и потом, и кровью.
Так поступают люди. Мои земляки. Они вгрызаются в кладку храма, вторгаются в святая святых его тайны. И, сами того не ведая, обметывают край его хитона прекраснейшим тонким швом.
Примечания
1
М., «Молодая гвардия».
(обратно)2
М., «Молодая гвардия», 1970.
(обратно)3
«ИЛ», 1966, № 12, стр. 227
(обратно)4
Охотничья лошадь.
(обратно)5
Карточная игра
(обратно)6
Замок
(обратно)7
Английский канал, как называют в Англии пролив Ла-Манш
(обратно)8
Имеется в виду Ирландия
(обратно)9
Бреконшир — графство в Уэльсе
(обратно)10
Ипподром близ Лондона
(обратно)11
Дятел
(обратно)12
В английской историографии под этим определением значится несколько решающих эпизодов национальной истории. Здесь, скорее всего, имеется в виду английская буржуазная революция XVII века.
(обратно)13
Детская игра, по принципу «делай, как я»
(обратно)14
Ирландское море
(обратно)15
Их в Англии несколько
(обратно)16
Приграничные районы между Англией и Шотландией
(обратно)17
Около пяти с половиной метров
(обратно)
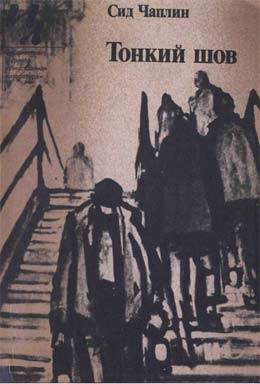

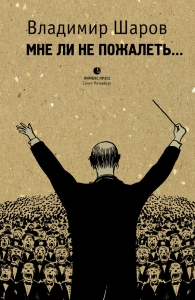


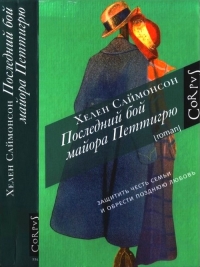




Комментарии к книге «Тонкий шов», Сид Чаплин
Всего 0 комментариев