Жан-Поль Дидьелоран Вся оставшаяся жизнь
Jean-Paul Didierlaurent
Le reste de leur vie
© Éditions Au diable vauvert, Paris, 2016
© И. Стаф, перевод на русский язык, 2018
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018
© ООО “Издательство АСТ”, 2018
Издательство CORPUS ®
* * *
Сабине, Марине и Бастьену,
Моей матери – за урок жизни, который она дает нам день за днем
Как будто, вдруг оживлено,
Росло и множилось чудовищное тело…
Шарль БодлерПадаль[1]1
Переступая порог квартиры Марселя Мовинье, Манель, как всегда, была на взводе. Этот деятель мастерски умел ее доставать. “Не забудьте хорошенько помыть ночную вазу, мадемуазель”. Он всегда ее так встречал. Ни тебе здрасьте, ни спасибо. Только окрик из кресла в гостиной, в котором его седалище покоилось, как пришитое, с утра до вечера: не забудьте хорошенько помыть ночную вазу, мадемуазель. Подразумевается, что она имеет обыкновение плохонько мыть его драгоценный горшок. Забудешь про него, как же; Манель по дороге только и думала, что про эмалированную посудину с лиловыми цветами на боку, которую каждое утро надо волочь из спальни в туалет, дабы вылить в унитаз содержимое – ночной плод расстроенной простаты. Мовинье недавно овдовел и в свои неполных восемьдесят три года имел право на еженедельные четыре часа социальной помощи по месту жительства. Пять сеансов по сорок восемь минут, с понедельника по пятницу. За каждый сеанс девушка должна была не только вынести хозяйский ночной вазон, но и выполнить кучу поручений – пропылесосить, перестелить постель, выгладить белье, почистить овощи, – под недоверчивым взором старого прохвоста, вечно пытающегося урвать побольше за свои деньги. “Я вам составил список”, – капризным тоном напомнил старикан. Каждое утро на покрытом клеенкой кухонном столе девушку поджидал листок в мелкую клеточку, где были прописаны обязанности на сегодняшний день. Манель натянула светло-зеленый халат и пробежала глазами тесно посаженные буквы. Почерк у Марселя Мовинье был убористый, почерк сквалыги: лишней строчки не напишет, экономит на словах.
Вылить горшок
Развесить белье
Запустить стирку (белое)
Перестелить постель (поменять наволочку)
Полить фикус в столовой
Подмести кухню + коридор
Принести почту
В игре чем-занять-социального-работника-на-сорок-восемь-минут Марселю Мовинье, бывшему владельцу магазина бытовых приборов, не было равных. Манель не раз задавалась вопросом, отчего это у слова “лакей” нет женского рода. Она еще раз взглянула на служебное предписание, стараясь угадать, где сегодня этот прохиндей спрятал купюру в пятьдесят евро. В фикусе, как пить дать. Банкнота превратилась для Манель в ежедневный Грааль. Она стала для девушки чем-то вроде приза, а ее поиски придавали ближайшим сорока восьми минутам некоторый оттенок пикантности. Год назад, первый раз обнаружив бумажку, невинно лежащую на ночном столике, она едва не схватила ее, но вовремя отдернула руку. Перед глазами ослепительно вспыхнула мигающая надпись “Опасно! Мины!”. Купюра в 50 евро, аккуратно положенная на самом виду, прямо в центре салфетки на тумбочке, слишком отдавала подставой. Не тот человек был Марсель Мовинье, чтобы разбрасываться даже мелочью, а тем более такими купюрами. И все же Манель за несколько секунд успела подумать о том, что бы она сделала на эти деньги. В голове пронеслась вереница ресторанов, киношек, шмоток, туфель. На миг все ее мысли сосредоточились на совершенно конкретных вещах, вроде уцененных крутых босоножек за 49.90, которые она углядела вчера в витрине обувного “Сан Марина”. В конце концов девушка решила не обращать внимания на банкноту, перестелила постель и вышла из спальни, даже не взглянув на пятьдесят евро, дразнившие ее из кружевной рамочки. Марсель Мовинье оторвался от созерцания телеэкрана и сунул нос на кухню.
– У вас все в порядке? – осведомился старик, пока она заполняла контрольный листок. Раньше старикану никогда не приходило в голову интересоваться ее самочувствием.
– Да, все хорошо, – ответила она, выдержав его взгляд.
– Никаких проблем? – недоверчиво переспросил он и спешно потрусил в спальню.
– А должны быть проблемы? – съязвила она ему вслед.
Когда он вернулся на кухню, зрелище его опрокинутой кислой физиономии доставило Манель величайшее удовольствие. Эта кислота стоила в ее глазах куда дороже жалких пятидесяти евро.
С тех пор банкнота за номером U18190763573 – девушка однажды записала его, чтобы проверить, действительно ли купюра одна и та же, – путешествовала по всем углам квартиры Марселя Мовинье. Подвергать Манель пытке искушением, казалось, стало для старика едва ли не смыслом жизни. Чуть позже появились камеры слежения. Самая настоящая сеть миниатюрных камер, искусно размещенных так, чтобы покрывать почти всю площадь дома, все сто десять квадратных метров. Девушка насчитала пять штук. Одна на кухне, одна в спальне, одна простреливает в длину весь коридор, еще одна в ванной и последняя в гостиной. Пять черных холодных глаз фиксировали малейшее ее движение. Незаметно старик попался в собственную ловушку: дурацкие попытки поймать помощницу с поличным на краже денег превратились в настоящую зависимость. Однажды она застала старого прохвоста за просмотром вчерашних записей. Манель не упускала случая ослепить миниатюрных циклопов. Либо переставит какой-нибудь предмет, и он закроет обзор, либо, чаще всего, неудачно взмахнет тряпкой, и вот уже камера глядит в пол или в потолок. То, что Манель ни разу не намекнула на странствующую купюру, не давало Мовинье покоя и страшно его бесило. У девушки не раз возникало искушение перевернуть банкноту или сложить ее вчетверо, просто чтобы полоумный старикан понял, что она разгадала его уловки, но в итоге она рассудила, что лучший способ обратить пытку против мучителя – это вообще не обращать внимания на пресловутые пятьдесят евро. Так что купюра поджидала ее каждый день. На ковре в гостиной, на стиральной машине, на холодильнике, между книжками, возле телефона, в галошнице, на стопке полотенец в шкафу в ванной, в корзине для фруктов, среди писем. Или, как сегодня, у фикуса, который надо было полить: бумажка высовывалась из-под глиняного горшка. Проверив почтовый ящик и возвращаясь с письмами, Манель вдруг с некоторым беспокойством подумала, а что она будет делать, если Марсель Мовинье в один прекрасный день устанет от собственных ухищрений и окончательно вернет купюру в свой бумажник? Она ведь уже успела привыкнуть к этой пятидесятиевровой банкноте, придававшей ее хозяйственным обязанностям сходство с ориентированием на местности и охотой за сокровищами. Ровно в девять сорок пять, закончив работу, соцработница сняла халат и подписала контрольный листок. Она знала – ибо не раз это наблюдала, – что одновременно Марсель Мовинье вытащил из жилетного кармашка хронометр, дабы убедиться, что ему уделено ровно сорок восемь минут и ни минутой меньше.
2
Каждое утро, наскоро сжевав три гренка с маслом и ежевичным вареньем, единственным, какое он любил, и залпом проглотив кофе с молоком, Амбруаз быстро составлял чашку с приборами в раковину, сметал губкой просыпавшиеся на клеенку крошки и на цыпочках пробирался по длинному коридору в другой конец квартиры. На полдороге непременно останавливался и прикладывал ухо к деревянной двери, почти не заглушавшей храп Бет. Он любил вслушиваться в низкие горловые звуки, издаваемые старой женщиной. Сегодня из глубины комнаты до него доносилась музыка спокойного моря, накат прибоя и похрустывание песка. Вдох – выдох. Прилив – отлив. Успокоившись, Амбруаз двинулся дальше по коридору и бесшумно проскользнул в душевую рядом со своей спальней. Усталая неоновая лампа дважды мигнула, она всегда дважды мигала, и наконец затопила пол и стены холодным светом. Древняя дрянная ванна, загромождавшая помещение, была накрыта прямоугольным куском фанеры. Зрелище этой случайной подложки, на которой покоились инструменты, неизменно приводило его в восхищение. Посверкивая в резком свете всеми своими хромированными частями, они лежали рядком на махровом полотенце, впитавшем за ночь стекавшую с них воду. Амбруаз мог бесконечно любоваться переливчатыми отблесками на нержавеющих поверхностях. Он упивался долгим мгновением, когда оставался с ними наедине в крохотной жаркой клетушке, пропахшей чистящими средствами. Его взгляд летал вправо-влево по махровому полотенцу, пока он вполголоса повторял их перечень. Скальпель, крючки для сосудов, лопаточки для разделения тканей, пинцеты для тампонирования и фиксации, хирургические ножницы, прямые и изогнутые, иглы – прямые, лыжеобразные и дугообразные, зонды, щипцы для носовой полости, щипцы кровоостанавливающие, расширители, шпатели гибкие и твердые. Он взял в руки самый, на его взгляд, красивый – троакар. Почти полуметровый тубус для стилета приятной тяжестью лег в ладонь. Амбруаз тщательно прочистил крохотным ершиком десяток дырочек на его остром, как заточенный карандаш, конце. Рядом с ванной разинул сумрачное чрево объемистый кожаный чемоданчик. Амбруаз стянул висевшую над сливом замшевую тряпочку и по одному протер инструменты, убирая последние следы влаги. Тряпка скользила по иглам, ласкала лезвия, навела блеск на рукоятки. Инструменты один за другим ложились в укладку и наконец все оказались в чемоданчике. Бросив полотенце в корзину с грязным бельем, Амбруаз застегнул медные защелки и унес чемоданчик к себе в комнату, где его ждал брат-близнец – совершенно такая же сумка с насосом и жидкостью для впрыскивания. На ночном столике вибрировал всем корпусом мобильный телефон. Молодой человек откашлялся и принял звонок. Ролан Бурден из фирмы “Ролан Бурден и Сын” в разговоре никогда не давал себе труда представиться: единственной его визитной карточкой служил хорошо знакомый Амбруазу холодный отчужденный тон. За четыре года, что он работал на фирме, их отношения не изменились ни на йоту. Чисто служебные, ничего лишнего. Грубые, как топором тесанные черты, болезненная бледность, жидкая бородка обрамляет такие тонкие губы, что рот похож на два фиолетовых шрама: патрон относился к той породе людей, у которых лицо под стать голосу. Потомство у господина Бурдена состояло из единственной дочери, а довесок “и Сын” справа от фамилии имел только одну цель – окутать означенную фирму межпоколенческим ореолом респектабельности, что так успокоительно действует на клиентов. Звонил он по поводу вызова на дом. Верный себе, без всяких словесных изысков, внятно и отрывисто выдал необходимые сведения в установленном им самим порядке, от которого не отступал никогда: фамилия клиента, имя, пол, возраст и адрес места обслуживания. “Номера дома нет, супруга говорит, дом желтый”, – лаконично добавил он и нажал на отбой. На союзы так же скупится, как на формулы вежливости, подумал Амбруаз, занося информацию в айфон. Он зашел в их общую с Бет большую ванную, почистил зубы, побрился, усмирил с помощью геля свою непокорную черную шевелюру и сбрызнул щеки туалетной водой после бритья. В шкафу на вешалке ждал представительский костюм. Белая рубашка, темно-серый галстук, черный пиджак и черные брюки. Он вдел свои семьдесят шесть кило в свежевыглаженное одеяние. Позже его скроет, словно вторая кожа, настоящая рабочая одежда, защитный костюм, тот, какой люди не видят никогда. А пока значение имеет только внешность. Не напугать, быть по возможности безликим. Стараться походить на призрака. Да, на призрака при галстуке, оставляющего по себе не больше воспоминаний, чем мимолетная тень. Вполне удовлетворенный картиной, представшей ему в зеркале над раковиной, Амбруаз направился к выходу, помахивая драгоценными чемоданчиками. Турист отправляется в дальние страны, с улыбкой подумал он. Улыбка стала еще шире, когда он увидел посреди коридора Бет. В каком бы часу он ни уходил, как бы ни старался вести себя как можно незаметнее и тише, ее сияющая физиономия всегда поджидала его на пороге. Он свесился с высоты своих метра восьмидесяти, подставляя лоб непременному бабушкиному поцелую, а ухо – тихому “Ступай”, звучавшему всякий раз как благословение. Все прочее было ненужным. Два слога вобрали в себя всю нежность мира.
3
Жизнерадостный голос Фабриса Лукини внезапно ворвался в салон новенького фургона. “Круговое движение, третий съезд, затем держитесь правее”. Амбруаз подскочил. Он до сих пор так и не собрался сменить голос в GPS-навигаторе. “Благодаря нашим передовым технологиям вы получаете целый арсенал персонажей на выбор, – хвастался консультант в салоне фирмы “Рено”, когда он забирал программное обеспечение. – От Кароль Буке до Габена, включая де Фюнеса, Бурвиля, Миттерана, де Голля, Брижит Бардо и многих-многих других”, – гордо уточнил менеджер. Амбруаз улыбнулся, представив себе, как де Голль велит ему повернуть налево, а Миттеран – перестроиться в правый ряд. Он обещал себе при первом же удобном случае отправить Лукини в отставку и поменять его на Кароль Буке. Бурден и на этот раз выбрал новый автомобиль белого цвета. “Вы просто оказываете бытовые услуги, и ничего больше”, – весь год проедал он плешь персоналу. Да, услуги по обработке человеческих тел, и тем не менее это всего лишь бытовые услуги. А у работников сферы обслуживания всегда белые машины! Амбруаза не особо вдохновляло заявляться к клиентам в таком же фургончике, в каком разъезжают маляры, водопроводчики или электрики. Он предпочел бы более благородную расцветку, например, ту же серую, которую патрон приберегал для ритуальных машин: компромиссный цвет, так и дышит нейтральностью, строгостью и деловитостью. А вместо этого приходилось довольствоваться цветом без цвета, и все из-за того, что месье Бурден пожалел четырехсот евро за опцию “цвет металлик”.
Фабрис опять подал голос. “Через двести метров поверните направо. Вы приехали”. По обеим сторонам тупика Сорбье рядами стояли типовые особняки. Амбруаз с сомнением оглядел десяток домиков-клонов с одинаковыми гаражами, одинаковыми крохотными террасами и одинаковыми балкончиками, с одинаковыми черно-серыми черепичными крышами, топорщившимися на коньке одинаковой фигуркой сидящего пса, в окружении одинаковых туевых изгородей. На беду, по домикам можно было изучать все оттенки желтого: соломенный, яичный, лимонный, канареечный, шафранный, песочный, горчичный. Ну спасибо, Ролан Бурден и Сын, чертыхнулся сквозь зубы Амбруаз. Повинуясь интуиции, он направился к зданию, у которого стояло больше всего машин. Поставив фургон двумя колесами на тротуар под властное бибиканье парковочного радара, он выгрузил два объемистых чемоданчика и поднялся по ступеням на крыльцо. Нажать на звонок он не успел: дверь открылась. На пороге стояла женщина лет шестидесяти с опухшим от слез лицом и покрасневшими глазами. Приветствие с трудом пробилось через барьер ее губ. Вид отрешенный, запинается на каждом слове, не говорит, а бормочет. Как все, подумал Амбруаз. Горе всегда тяжелым ватным комом ложится на голосовые связки и глушит звуки в гортани. Молодой человек кивком поздоровался с группкой собравшихся в доме людей, и они расступились, пропуская его и хозяйку. От печали, скопившейся в этих стенах, трудно было дышать. Амбруаз отвел в сторонку вдову и детей и коротко, не особо вдаваясь в детали, пояснил цель своего визита. Не углубляться, не раскрывать подробностей, о чем бы его ни спрашивали. Таковы правила. Чем меньше люди знают, тем лучше для всех. Он тщательно подбирал слова, не раз опробованные, успокаивающие. Прежде чем его провели в спальню, спросил, где можно брать воду. Перед тем, как войти, еще раз утешил женщину. Остаться наедине с ее супругом на полтора часа – вот и все, что ему было нужно.
4
Вспальне царил искусственный полумрак. Характерный запах-предвестник, порой ударявший в нос, когда он выезжал на дом, здесь почти не чувствовался. Амбруаз поставил на пол чемоданчики, нажал на выключатель и раздернул шторы, впуская в комнату максимум света. На стуле были аккуратно разложены костюм, рубашка, галстук и нижнее белье. На полу стояли начищенные ботинки. Тело покоилось на кровати. Лет шестьдесят, плотного сложения. Килограммов девяносто с гаком, поморщившись, прикинул на глаз Амбруаз. Опять его спине достанется по полной программе. На вид бодрячок. Надо держать ухо востро. Слишком часто приходилось убеждаться, что из пухлых бодряков получаются тухлые мертвяки. Под расстегнутой курткой пижамы видны были темные прожилки на боках. Цианозные уши и кисти рук уже приобрели красивый смородиновый оттенок. Амбруаз снял пиджак, надел белый халат, закрыл нижнюю часть лица защитной маской и натянул латексные перчатки. Расстелил справа от покойного пластиковый мешок для трупов и перекатил на него тело. Трупное окоченение уже сделало свое дело, конечности и челюсти затвердели. На первом этапе надо было снять мышечную ригидность. Амбруаз ухватился за одну руку, подвигал ее вверх-вниз в плечевом суставе, навалившись всем телом, согнул в локте. Взял кисть, разжал и размял пальцы. Проделав то же самое с другой рукой, принялся за нижние конечности. Все это время он прислушивался к телу, всматривался в кожный покров, подмечая малейшие подробности. Массаж сердца, определил он, увидев синюшное пятно в области грудины. Амбруаз восстановил подвижность нижней челюсти, потом обхватил покойника руками и, приподняв, стянул верх пижамы. Последнее танго, милейший, – приговаривал, обнимая очередной труп, его бывший наставник, который всему его научил и которого в похоронной среде любовно называли мэтр Танато. “Мы иллюзионисты, Амбруаз, вот и все, – постоянно твердил он, – попросту иллюзионисты. Мы создаем видимость, будто в момент смерти все кончается и застывает. Чепуха. Жизнь после смерти не останавливается, наоборот, набирает силу. Она питается телами, она их никогда в покое не оставит. Без нас она бы все останки превратила в жуткую мерзость. Наше дело – сдержать ее всепроникающую атаку, оттеснить ее, как оттесняют войска противника. Изловить ее в самомалейшем органе, изгнать и запереть ворота, чтобы вдруг не случилось неизбежного распада плоти. Мы маги, юный падаван, вот мы кто, – горделиво витийствовал он, – маги и волшебники, наш тяжкий труд – превращать трупы в мирно спящих людей”.
Раздев покойного, Амбруаз открыл чемоданчик с дренажной аппаратурой; там лежал насос, приемники и коллекторы. Сходил набрал воды во флакон и приготовил раствор для вливания, добавив в нее консервант на основе формалина. Получилась жидкость красивого темно-розового цвета. Он водрузил электрический насос на кровать и поставил флакон с перфузионным раствором и капельницей между ног мертвеца. Извлек из чемоданчика инструменты, разложил их на стальном поддоне, отрезал две лигатуры, подсоединил канюлю к трубке, достал ватные тампоны и прозрачные колпачки на глаза. Амбруаз любил эти предварительные операции. Никто никогда не должен видеть расходные материалы. И никто ни при каких обстоятельствах не должен присутствовать при процедурах. Золотое правило. Там, куда он приходил, не оставалось места миру живых. Его бывший наставник был прав. Он – волшебник, а волшебники своих секретов не раскрывают. Ватным тампоном, смоченным в увлажняющем спиртосодержащем растворе, он очистил нос и глаза, потом ввел под веки прозрачные колпачки: их шероховатая поверхность удерживала глаза закрытыми. Нанес массажный крем на щеки и уши покойного. Амбруаз сделал скальпелем небольшой надрез в основании шеи и обнажил артерию, стараясь не задеть расположенную рядом яремную вену, полную крови. Ввел в артерию канюлю и, закрепив ее пинцетом-зажимом, подключил электронасос; тот с тихим гудением начал вливать раствор. Вскоре вены наполнились снова. Он старательно массировал кисти рук, щеки и уши, чтобы жидкость проникала легче. Тем же скальпелем сделал еще один крохотный надрез между пупком и грудиной и ввел в него кончик пункционной трубки, соединенной с аспирационной системой. Закачав в тело два литра консерванта, Амбруаз взял троакар и точным, сильным ударом сделал прокол в сердце, чтобы выпустить кровь, немедленно хлынувшую тугой струей в кровесборник. Он запустил насос и продолжил вливание. И чудо свершилось снова, прекрасное, как заря, оттеснившая ночь. По мере того как формалин изгонял кровь, прожилки на боках бледнели, кожа опять приобретала розоватый оттенок, синюшность щек и ушей исчезала, словно по волшебству. Лицо, сведенное смертной судорогой, разгладилось и озарилось подобием безмятежного покоя. Доволен, что время теперь над ним не властно, подумал Амбруаз. Той же пункционной трубкой он поочередно зондировал все органы, собирая притаившиеся в них излишки кровяных телец, мочи и газов. Почки, легкие, мочевой пузырь, желудок. Молодой танатопрактик по опыту точно знал, в каком органе сейчас находится, это зависело от плотности ткани в момент прокола. Амбруаз выключил насос. Тишина всегда заставала его врасплох. Он улыбнулся под маской. Мертвая тишина. Он заткнул ноздри и глотку ватными тампонами, просунув их поглубже, затем взял изогнутую иглу и занялся стяжкой мандибулы. Не прошло и минуты, как невидимые лигатурные нити, протянутые между нижней челюстью, нёбом и носовой перегородкой, накрепко сомкнули челюсти. “Еще один умолк навеки”, – всякий раз изрекал мэтр Танато, стягивая очередной рот. Он убрал инъекционную канюлю и зашил входное отверстие. Взял флакон с полостной жидкостью, подсоединил к трубке, ведущей к троакару, и поднял бутыль над головой. Повинуясь закону тяготения, жидкость перетекла в тело и заполнила внутренние органы. Выпустив во внутренности пол-литра средства, Амбруаз извлек пункционную трубку, тщательно протер ее и заткнул место прокола заглушкой. Как автомеханик, когда спускает масло, пришло ему в голову.
Он осторожно побрил щеки и подбородок покойного, вымыл тело салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, обсушил, а затем начал с ним новый тур танца, чтобы его одеть. Почти десять минут Амбруаз, покряхтывая от напряжения, двигал девяностокилограммового мужчину, переворачивал, приподнимал, подталкивал. Зашнуровал ботинки, застегнул пиджак, завязал покрасивее галстук, потом причесал. Сделал шаг назад, как художник перед своим творением, и, окинув его оценивающим взглядом, припудрил правое ухо, более темное, чем левое, легким слоем тональника. Поправил воротник рубашки, сдвинул узел галстука точно в центр, расправил лишнюю складку на пиджаке. Пусть люди никогда не увидят процесс бальзамирования, но внешность умершего – это верхушка айсберга, и ни одна, даже самая безобидная деталь не должна подвергать опасности всю постройку. Мешок для трупов был подвернут под тело с обеих сторон. Пригодится служащим похоронного бюро, когда будут перекладывать его в гроб. Накрыв покойного до пояса покрывалом, он скрестил ему руки на груди и вложил в пальцы лежавшую у изголовья веточку ландыша. Убрал в чемоданчики инструменты, флаконы с использованными средствами, приемники с телесными жидкостями и мусорный мешок, куда бросил перчатки и маску. Спустя час двадцать минут после того, как Амбруаз вошел в спальню, он, сменив халат на пиджак, вышел к родным и пригласил их взглянуть на тело. На сей раз вердикт был вынесен устами старшей дочери. “Какой папа красивый!” – воскликнула она, целуя покойного в лоб и орошая его слезами. Волшебство сработало снова. Удалился танатопрактик как можно незаметнее, не оставив по себе следов и памяти, словно призрак. Призрак с вибрирующим телефоном в кармане брюк, извещавшим его о новом вызове.
5
Самюэль Дински играл в ежедневном обходе Манель роль переменки. При появлении девушки его глаза, два черных, брызжущих лукавством шарика, так и загорались. Со временем спокойный, уравновешенный Самюэль стал для нее чем-то куда большим, чем просто подопечным. Восемьдесят два года, подозрение на диабет, холостяк, родных нет. Метр шестьдесят пять сплошного добродушия, каждый день встречающие Манель с неподдельной радостью. В отличие от других, старик никогда не говорил о прошлом. Наверно, это объяснялось фиолетовым вытатуированным номером, который она однажды заметила у него на внутренней стороне руки. Она была его феей Динь-Динь, его горлинкой, его палочкой-выручалочкой, его Золушкой, его леденчиком, его пиончиком, его солнечным лучиком, его душечкой – пестрым букетом ласковых имен, встречавших ее каждое утро. Он расточал ей внимание без всякой задней мысли, в его словах не стоило искать скабрезный подтекст. В отличие от некоторых прохиндеев с шаловливыми ручонками и с досадной склонностью путать приходящую помощницу с проституткой по вызову, в радушии старика сквозила только радость видеть ее каждый день, с понедельника по пятницу, с одиннадцати до полудня, – и ничего больше. Она предпочитала думать, что это ее личная привилегия, что так он обращается только с ней одной, хотя тихий голосок в голове нашептывал, что с ее коллегами он ведет себя точно так же и что эта привычка для него – лучший способ не путать их имена. Маленький домик Самюэля на улице Альжер был под стать хозяину: простой и в то же время приветливый, без лишних финтифлюшек, но не лишенный обаяния. Манель любила туда наведываться. Час, проведенный со стариком, оказывал на нее целительное действие, словно первая солнечная ванна после долгой зимы. Она тихонько постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла.
– Это я, – возвестила она из коридора.
– Как сегодня поживает моя перепелочка?
– Спасибо, перепелочка поживает неплохо. А вы? – спросила она, целуя старика в морщинистую щеку и нарушая тем самым одно из базовых правил профессии: избегать любого эмоционального физического контакта с подопечным.
Социальному работнику Манель Фланден нельзя было ни на шаг отступать от официального перечня обязанностей, за которые ей платили зарплату. В ее обязанности входило:
Мыть посуду
Стирать белье
Развешивать белье
Мыть окна
Гладить белье
Стелить постель
Помогать утром при подъеме
Помогать при отходе ко сну
Помогать умываться
Помогать одеваться
Помогать раздеваться
Ходить в магазин
Готовить еду
Кормить домашних животных
Проветривать простыни
Выносить мусор
Выгуливать собаку
Подметать и мыть полы
Натирать паркет
Пылесосить
Закрывать и открывать ставни
Поливать растения
И выносить ночную вазу Марселя Мовинье.
В обязанности социального работника Манель Фланден ни в коем случае не входило:
По вечерам, перед сном, читать Анни Воклен вслух последнюю книгу Марка Леви, чтобы помочь ей уснуть;
Управлять биржевым счетом Пьера Анслена;
Целый час разбирать фотографии семейства Перронов;
Болтать за чашкой кофе;
Болтать за куском пирога или торта;
Смотреть новые серии “Молодых и дерзких” и пересказывать их содержание ослепшей Жаннин Пуарье;
Играть в скрэббл с Гислен де Монфокон;
В пятницу по вечерам готовить “негрони” (одна треть кампари, одна треть вермута, одна треть джина) вдове Дирстейн и чокаться с ней;
Каждое утро целовать в морщинистую щеку Самюэля Дински.
Но Манель было глубоко плевать на правила, никто не запретит ей целовать всех Самюэлей Дински на свете только потому, что подобные нежности официально возбраняются библией социальных работников сельской местности.
– У меня всегда все хорошо, когда я вижу мою маленькую домашнюю фею.
Пачка болеутоляющих на буфете опровергала его слова. С недавних пор старика мучили постоянные мигрени, иногда головная боль отравляла ему жизнь по нескольку дней подряд. В последнее время девушка замечала на его лице страдальческую гримасу, когда он думал, что его никто не видит. Она пересчитала пустые ячейки в блистере и встревожилась:
– Вы со вчерашнего дня приняли шесть таблеток? Слушайте, это что-то многовато. К вам ведь вчера днем доктор приходил, что сказал?
– Что давление у меня для моего возраста, как у молоденького. Продлил рецепт на таблетки от холестерина и выписал анальгетики посильнее, но я сперва эти допью.
– И все?
– Нет, мне через две недели надо делать МРТ, а еще, наверно, сходить к неврологу или еще к кому-нибудь. Что у нас сегодня в меню, моя красавица?
Старик иногда еще готовил себе сам, но заказал услугу доставки еды на дом. Первой обязанностью девушки, когда она приходила к Самюэлю, было чтение дежурных блюд. Ее забавлял этот ритуал, хоть она и напускала на себя торжественный вид. Манель взяла карточку, на которой каллиграфическим почерком, с нажимами и волосяными линиями, была расписана гастрономическая программа на неделю, встала на стул и под блаженно-любопытным взглядом Самюэля начала нараспев, на манер уличных торговцев, декламировать текст:
– Сего апреля двенадцатого дня, во вторник, положена нам на закуску мортаделла на салатном своем ложе, а вослед ломтики куриной грудки с пюре “Петр Великий”. На десерт шеф-повар нижайше просит отведать нежное молочное суфле с сиропом из лесных ягод. Мэтр Кок будет вам крайне признателен за любые замечания, способные повысить качество его услуг, за вычетом, однако, того факта, что все изготовленные им пюре с завлекательными названиями, как то: “Мюзар” из белой фасоли, “Конти” из чечевицы, “Креси” из моркови или, как сегодня, “Петр Великий” из сельдерея, будучи вывалены в тарелку, приобретают сходство с одной и той же дымящейся кучей дерьма поносного цвета, исторгнутой одной и той же задницей!
Самюэль встретил представление Манель бурными аплодисментами. Следующие пятьдесят минут девушка сновала по дому и, порхая из спальни на кухню или в гостиную, в зависимости от очередного дела, болтала со стариком, сидевшим у окна с сегодняшней газетой. Пятьдесят минут разговоров о том о сем, о серьезных вещах и пустяках, о погоде и политике правительства, о живописи и литературе. В глазах молодой помощницы по хозяйству эти пятьдесят минут стоили тысячи.
6
Когда Амбруаз вернулся с работы, Бет колдовала у плиты, и по всей квартире разливалось благоухание рагу. Покончив с обязательными вопросами о том, как прошел день, Бет наконец перешла к предмету, весьма тревожившему ее с недавних пор, а именно к личной жизни внука.
– Ты с Жюли-то своей видишься? – невинно осведомилась она, помешивая лопаточкой мясо.
Нет, Амбруаз не виделся больше со своей Жюли. Равно как и с Манон, и с Лиз, и с Лорин. С девушками у него всегда были проблемы, бабушка уже потеряла надежду, что он когда-нибудь встретит родственную душу. О, возможностей было хоть отбавляй. Женский пол не обделял вниманием Амбруаза с его ростом, ангельским лицом и непокорной шапкой волос. В последние годы, хоть он и не бегал за юбками, ему не раз встречалась любовь, но все его романы кончались крахом – если не через пару дней, то через несколько недель, в самых серьезных случаях даже через несколько месяцев. А ведь Амбруаз со временем набрался опыта, научился лукавить, скрывать свою профессию, закапывать ее в груду лжи, называть себя, к примеру, парамедиком, но, несмотря на все предосторожности, неизбежно наступал момент, когда всплывало зловещее слово: “танатопрактик”. И тут запускался разрушительный процесс, остановить который он не мог. Сперва на него обрушивался град вопросов, он не успевал уворачиваться от сыплющихся на голову “почему” и “как”. Как правило, его ответы пробуждали в них отвращение – оказывалось, что руки, ласкающие по ночам их тело, целый день ворочали холодных, окоченелых мертвецов. Бывало и наоборот: признание порождало патологическое влечение, вползавшее в их отношения, словно червяк в яблоко. Но всего хуже было новое выражение, появлявшееся в их глазах, – смесь гадливости с восторгом. Танатопрактик. Всякий раз слово звучало похоронным колоколом для романа. Всю обедню испортили, сокрушалась Бет, если речь шла о тех редких девушках, что успешно прошли испытание куинь-аманом[2]. В ее глазах род человеческий делился на две совершенно разные группы: люди, которым нравится куинь-аман, и все остальные. Каждая избранница, которую молодой человек приводил домой, в обязательном порядке проходила кондитерский тест, предложенный Бет после сыра. Приговор ломакам, поджимавшим губы при виде жирного пирога, обжалованию не подлежал: привереды, которые не в состоянии оценить тонкую маслянистость куинь-амана, не способны впустить в свое сердце счастье! Прочие, к числу которых относилась и Жюли, получали ее вечное благословение.
В конце концов Амбруаз попросту отказался от привязанностей и предпочел бродить по любовной пустыне, в которой там и сям попадались минутные приключения, бледные суррогаты любви, имевшие единственную цель – переспать. Только плоть, ничего, кроме плоти, а потом уйти, пока зловещее слово опять все не поломало. Секс без любви – как еда без соли. На днях он рискнул прибегнуть к услугам профессионалки. Молодая женщина, пожевывая жвачку, окликнула его, когда он под проливным дождем шагал по лабиринту улочек к парковке, где стояла его машина. “Зайдешь?” Как в скверном порнофильме. Длинные стройные ноги, обтянутые нейлоном, скульптурная грудь, пухлые губы под слоем помады. Амбруаз, не задумываясь, двинулся за ней по темному вонючему коридору, потом одолел десяток ступеней на второй этаж, где находилась крохотная квартирка, служившая лупанаром.
– Деньги вперед, – велела она.
Он неуклюже копался в бумажнике, ища требуемые пятьдесят евро.
– Раздевайся, мальчик.
Холодный приказ. И на “ты”, как учительница с учеником. Он повиновался, стал лихорадочно складывать одежду, положил ее на предназначенный для этой цели стул. Сколько брюк, помятых рубашек, скатанных носков и исподнего уже побывало на этом самом сиденье?
– Ложись.
Узкая кровать была покрыта одноразовой бумажной пеленкой, вроде тех, что бывают на смотровой кушетке у врачей, кинезитерапевтов и прочих гинекологов.
– Я танатопрактик, – вырвалось у Амбруаза.
С чего вдруг эта фраза в подобный момент, он и сам не знал. Может, втайне надеялся, что девушка выбросит его как что-то нечистое, швырнет ему купюру в физиономию, обзовет извращенцем и прогонит развлекаться с его мертвецами. Ничего подобного.
– Это твои дела, зайка, – отозвалась жрица любви, механически натирая его член и оттягивая крайнюю плоть; потом ее опытная рука облекла нерешительно твердеющую плоть презервативом.
Амбруаза передернуло. Жесты врачихи. Он потянулся погладить грудь девушки, но та отшатнулась, как от ожога.
– Груди не трожь, – вскрикнула она, отталкивая его руку. И добавила: – Губы тоже. Или плати. Пятьдесят – это за минет и любовь.
Тон торговки, отчитывающей чересчур привередливого покупателя. Когда она взяла член в рот, у него возникло жуткое ощущение, что его пенис – пошлый кусок мяса, шмат убоины в целлофане, отдельный от остального тела. Потом он лег на нее и вздрогнул от соприкосновения с нейлоновыми чулками. Холодная кожа рептилии. Он закрыл глаза, чтобы не мешал верхний свет, заливающий лежанку, изо всех сил сосредоточился на вожделении и, прилежно подвигавшись взад-вперед, все же сумел излиться в это незнакомое еще пятью минутами раньше женское тело. Оргазм получился почти болезненный, вызванный только одним желанием – покончить с этим как можно скорее. Здание выплюнуло Амбруаза обратно на тротуар, он был противен самому себе. Пятьдесят евро, цена проклятия. Дома он ринулся под обжигающий душ и долго намыливал тело. От нее пахло смертью, несмотря на духи, – от нее, а не от него.
7
К приходу Манель Мадлен Колло опять успела выйти из дома и уже ковыляла по тротуару с сумкой через плечо. Ее девяностокилограммовая фигура, упакованная в плащ на два размера меньше, чем нужно, вперевалку семенила к перекрестку. Девушка поспешила к ней, взяла под свой зонтик и забрала из ее рук плетеную корзинку.
– Мадлен, ну сколько раз вам говорить, чтобы вы меня подождали? Право, вы ведете себя неразумно.
В ответ на упрек старушка, как всегда, взглянула на нее с видом побитой собаки. Она мастерски умела растопить сердце помощницы, и Манель в очередной раз не устояла перед сокрушенной физиономией подопечной. Невзирая на преклонный возраст, тучность и ревматизм, Мадлен Колло почитала делом доблести и геройства в любую погоду, в любой ветер, снег или дождь, как сегодня, ежедневно ходить в ближайший магазин, находившийся в добром полукилометре от дома. Милый и сдержанный нрав не мешал ей быть упрямой. Никто и ничто не могло воспрепятствовать ее священной миссии: сходить в “Максини” – “Максимум выбора, минимум цен”. Мадлен заходила в магазин с неизменным удовольствием, а обязанностью помощницы было следовать за ней, как тень, держа корзинку наготове. Вся процедура занимала не больше четверти часа: всего две-три покупки, только чтобы хватило до завтра.
– Сама не знаю, зачем я туда хожу, – призналась она однажды Манель, когда та спросила, откуда у нее эта странная привычка. – Видите ли, мне это почему-то помогает. Раньше я ходила в церковь к короткой утрене, а теперь в нашем квартале ни месс, ни кюре. Ну, я и переключилась на “Максини”. Они по дороге в церковь, и открыто всегда. Мне почему-то приятно смотреть на полки, столько там всего расставлено и в таком порядке. Глупо, конечно, но еще у меня появляется цель на завтра. В воскресенье они не работают, и я себя чувствую не в своей тарелке. Тоска, и день так долго тянется. У меня куча знакомых вдов, которые по воскресеньям ходят на кладбище к своему покойнику, а мне полированный кусок гранита ни к чему, мой Деде мне и так ответит, когда захочется с ним поболтать. Не люблю кладбища и не люблю воскресенья, – вздохнула она.
В “Максини” все дышало изобилием. Тесные проходы между стеллажами усиливали это впечатление, каждый квадратный метр был использован с максимальной отдачей. И – странная вещь, неизменно приводившая девушку в изумление, – пока Мадлен Колло бродила между зазывными рядами товаров, ее хромота почти исчезала. Вот и сегодня, по мере того как она углублялась в недра магазина, ее шаги становились все быстрее. Купила Мадлен только телячью отбивную, тертый сельдерей под горчичным соусом, литр апельсинового сока и четыре натуральных йогурта. Касса в “Максини” была всего одна, за ней сидел либо Буссуф, улыбчивый юноша-студент, большой шутник, либо заведующая, кислая костистая дама без возраста в вечном линялом розовом халате. В рулетке “Максини” было лишь две ячейки: улыбка Буссуфа или розовый халат. Сегодня выпал халат.
– Тринадцать евро двадцать восемь центов, – провозгласила дама с высоты своего табурета на колесиках.
Итог прозвучал жестко, как приговор. Мадлен лихорадочно рылась в сумке, но пришлось признать очевидное: она забыла дома кошелек. Паника, явственно читавшаяся в ее глазах, тронула Манель, и та поспешила на помощь.
– Ничего страшного, Мадлен, не волнуйтесь, потом вернете, – успокоила она ее, протягивая кассирше свою кредитку.
– Сожалею, но мы не принимаем к оплате банковские карты при сумме менее пятнадцати евро.
Заведующая отчеканила эту тираду тоном, не терпящим возражений. На дисплее кассы неумолимо светились цифры. Один – три – точка – два – восемь. Манель вздохнула:
– Мадам Колло ходит к вам каждый день, вы не могли бы сделать для нее исключение?
Дама постучала костлявым пальцем по маленькому объявлению, приклеенному скотчем прямо к кассе:
Банковские карты принимаются при покупке на сумму от 15 евро.
Скотч от времени пожелтел, фломастер кое-где расплылся. Манель, взглянув на имя, нанесенное трафаретной печатью на халат заведующей, сделала еще одну попытку:
– Послушайте, Шанталь, у меня нет наличных, вы не могли бы сделать исключение?
Нет, Шанталь явно не могла сделать исключение. Ее голова качалась вправо-влево, а изо рта доносилось беспрерывное прищелкивание языком. Тц-тц-тц. Прямо дождеватель, подумала Манель.
– Да не важно, – неуверенно пробормотала вконец расстроенная Мадлен.
Вернуться из “Максини” с пустой корзиной – такого с ними еще не случалось.
– Нет, важно! – возмутилась девушка.
Выходные не до конца смыли с нее усталость, и она не собиралась позволять какой-то костлявой мегере портить себе жизнь. На последнем собрании группы их зав. отделом еще раз напомнила, что им не запрещается проявлять личную инициативу, разумеется, если того требует ситуация. Ситуация того требовала. Мисс Калькулятор хочет минимум пятнадцать евро, значит, она получит пятнадцать евро. Манель оглядела банки с конфетами и стенд с леденцами возле кассы. Тут были сласти любых расцветок и форм. Желейные, лимонные, драже, пастилки, жевательные, сосательные, тающие под языком. По два, три, четыре цента, самые дорогие – по пять.
– Как у вас последние анализы на триглицериды? – спросила Манель.
– Хорошие. Немножко повышен холестерин, но триглицериды в норме.
– Отлично. Шанталь, дайте нам, пожалуйста, конфет на один евро семьдесят два цента, спасибо. Это мой вам подарок, – добавила помощница, обращаясь к Мадлен, в глазах которой вспыхнул огонек предвкушения.
Кассирша запустила было когтистую лапу, служившую ей рукой, в ближайшую круглую банку, дабы извлечь пригоршню лакричных батончиков по пять центов, но девушка остановила ее:
– Нет-нет, погодите, так не пойдет. Положите нам десять клубничек тагада, четыре банановых… м-м-м, три шипучки. Еще мы возьмем пакетик лакричного драже, пять конфет с колой, так… а, крокодильчики, крокодильчики – это вкусно, дайте нам восемь крокодильчиков.
Рука кассирши послушно летала из банки в банку, открывая и завинчивая крышки. Манель, на миг прервав свои указания, капризно осведомилась:
– Сколько там получается? Еще не все, но надо уложиться в сумму.
Заведующая, нервно пробежав пальцами по клавишам калькулятора, объявила итог:
– Девяносто пять центов.
К величайшему удовольствию Манель, ей уже дышали в спину несколько покупателей, нервно переминавшихся с ноги на ногу.
– Положите нам еще четыре пакетика круглых драже, шесть смурфиков, два желе, одну мармеладную нить с колой и… две яичницы. Нет, подождите, одну яичницу, и дайте лучше челюсть Дракулы. А теперь сколько?
Кнопки калькулятора застучали с новой силой. Очередь еще подросла, в ней слышались первые раскаты назревающего бунта:
– Уснули, что ли?
– В чем дело?
– Что тут за дурдом?
Манель обернулась и развела руками, выражая нетерпеливым свое глубочайшее сожаление.
– Евро восемьдесят восемь! – истерически взвизгнула Мисс Калькулятор.
– Перебор, – заметила девушка и велела заменить одно желе и двух крокодильчиков на одну шипучку, чтобы все сошлось.
Костлявая рука судорожно схватила кредитку и вставила в считыватель. Уходя, Манель с самой обворожительной улыбкой положила перед кассиршей желейную челюсть Дракулы:
– Это вам. Вам очень пойдет.
Всю дорогу до дома Мадлен нежно прижимала к груди драгоценный пакет с лакомствами. Когда они с помощницей прибыли в порт назначения, она доковыляла до кресла и плюхнулась в него, пыхтя от удовольствия. Манель, выкладывая на кухне покупки, восприняла как подарок детскую улыбку, озарившую лицо ее подопечной, когда та извлекала на свет божий первую клубничку тагада.
8
Сегодня Бет после ужина опять сделала ему внушение.
– Глаза бы мои не глядели на это несчастье, мебель зачем стоит, пыль собирать? – упрекнула она его, кивая на книжный шкаф.
Амбруаз не забыл, как весь вечер монтировал три секции, привезенные из ИКЕА. Целый вечер убил, методично распаковывая и сортируя детали, а потом свинтил их вместе в строгом соответствии с инструкцией по сборке. Скоро будет три месяца, как новенький книжный шкаф-витрина, модель “Хемнэс”, цвет белый, выстроился у стены гостиной. С тех пор не проходило недели, чтобы Бет не высказалась насчет пустых полок, приводивших ее в уныние.
– Шкаф без книг – такое же уродство, как рот без зубов, – твердила она. И добавляла на полном серьезе: – Толку от него не больше, чем от кладбища без могил. Ты знаешь, где книги, Амбруаз. Ключи у тебя есть, что тебе стоит съездить.
Конечно, он знал, где книги. И конечно, у него сохранилась связка ключей, которую дала ему мать четыре года назад, когда он ушел из родительского дома. Вот только между ним и книгами стоял отец, профессор Анри Ларнье. Амбруаз ни разу не бывал в особняке в верхней части города с тех пор, как мать умерла. Мать, которая прожила чужую жизнь в золотой тюрьме – в тени великого человека. Ловила малейшее его желание, предупреждала любую его потребность и в итоге сумела найти в беспредельной преданности знаменитому супругу некое подобие самовыражения. Ее всюду – в булочной, в медиатеке, в театре, на рынке, в парикмахерской – называли не иначе как жена-профессора-Анри-Ларнье. А когда тому в 2005 году присудили Нобелевскую премию по медицине за работы о терапии послеоперационных осложнений, все тут же окрестили Сесиль Дюмулен, в замужестве Ларнье, женой-нобелевского-лауреата-Анри-Ларнье. Это имя пристало к ней навеки. “Только не говори Анри”, – пугливо шепнула она сыну, вкладывая ему в руку связку ключей. Для матери этот жест был настоящим бунтом, быть может, единственным за всю ее жизнь покорной супруги. Маленькая тайна между матерью и сыном. Амбруазу ни разу не довелось воспользоваться этими золотыми ключиками. Раз в неделю, убедившись, что великий человек на службе, он оставлял машину на соседней улице, шагал, нервно озираясь, к дому номер восемь по улице Фенуйе и проскальзывал в решетчатые ворота, словно любовник, явившийся на свидание. Поднявшись на крыльцо, он обычно попросту толкал приоткрытую дверь, и его встречала мать, причесанная, нарядная. После долгих объятий она, отступив на шаг назад, окидывала его тем испытующим взглядом, каким все матери смотрят на свое дитя после затянувшейся разлуки. Следующий час они болтали о том о сем, обсуждали мировые проблемы за оранжадом или бокалом вина, смеялись и не могли наглядеться друг на друга. В этот час ни он, ни она никогда не упоминали отца. Это был их час, только их и ничей больше. За неделю оба успевали страшно соскучиться. Ей хотелось все знать про его жизнь, работу, друзей, возлюбленных, про то, чем кормит его Бет. Он спрашивал, как она себя чувствует, чем занимается, какой фильм посмотрела, какую книгу читает. На шестьдесят минут жена-нобелевского-лауреата-Анри-Ларнье вновь становилась обычной женщиной со своими желаниями, радостями и горестями. Каждый такой подпольный визит придавал ей сил. Она не стала говорить сыну о недуге, угнездившемся в ее внутренностях в один непрекрасный апрельский день. Видимо, не хотела портить этот священный час рассказом о глухой боли, что зародилась у нее слева в животе и с тех пор не отпускала. Мужу она тоже ничего не сказала. Может, побоялась отвлекать великого человека, и уж точно побоялась произносить под домашним кровом слова, ставшие табу: после ухода сына Анри Ларнье запретил говорить дома о медицине. Она, сколько могла, скрывала стигматы рака, объясняла свою худобу воображаемой диетой, а когда симптомы проявились во всей красе, оказалось слишком поздно. Зверь, расползшийся по ней гроздьями метастазов, пожрал ее за неполных два месяца. Отец ничего не замечал. Нобелевский лауреат в области медицины, знаменитый хирург, целыми днями возившийся с опухолями, и злокачественными, и доброкачественными, не удосужился обратить свои взоры на ужас, глодавший изнутри его собственную жену. На похоронах отец и сын стояли, оглушенные, по разные стороны могилы, смотрели, тщетно пытаясь понять, на разделявшую их яму, где лежало нечто большее, чем останки матери или супруги. Мысль о возвращении в этот дом ему претила, но надо так надо. Он обещал Бет завтра же съездить за книгами.
9
Время отца было расписано между онкологическим отделением больницы и штаб-квартирой ВОЗ в Женеве, где он дежурил в первой половине недели; он редко бывал дома. Амбруаз открыл ворота и поставил машину на гравийной аллее, на самом виду. Нечего лазить в дом тайком, как какой-нибудь воришка. В конце концов, он – Амбруаз Ларнье, сын-нобелевского-лауреата-Анри-Ларнье, и он здесь у себя. Открыв дверь, он сразу откинул клапан, скрывающий настенную клавиатуру, и набрал код, чтобы отключить сигнализацию. 12102005. 12 октября 2005 года, дата вручения отцу Нобелевской премии по медицине. Все эти годы код не менялся. Смертный грех гордыни. Молодой человек вошел в гостиную и приоткрыл стеклянную дверь на террасу. В воздухе стоял аромат скошенной травы от свежепостриженного газона. За ним поблескивала в солнечных лучах бирюзовая вода бассейна. Вода, в которой, он был уверен, больше никто не купался. Бассейн без купальщиков – что парковка без машин, жалкое, никчемное зрелище! – сказала бы Бет. В доме, похоже, только что была генеральная уборка. Чисто и холодно – два эти наречия пришли на ум Амбруазу, пока он осматривался. Этим стенам не хватало тепла, какое при жизни поддерживала мать. Букет цветов на буфете, разбросанные в продуманном беспорядке подушки, открытая книга на подлокотнике, журналы на столике в гостиной, тихо тлеющая ароматическая палочка, корзинка с фруктами, начатый кроссворд – все признаки человеческого присутствия теперь исчезли. И всюду развешаны по стенам фотографии отца. Отец с министром, отец пожимает руку президенту, отец принимает поздравления от коллег, отец со своей нобелевской медалью, отец в белом халате на открытии нового онкологического отделения. В аккуратных рамочках на стенах, на этажерках и полках – везде дипломы, премии, вырезки из хвалебных статей. Ни следа матери или Амбруаза в этом храме, воздвигнутом во славу человека науки. Он на миг задержался в дверях кухни и грустно улыбнулся, глядя на круглый стол, за которым раздавалось столько криков, где столько слов брошено было в лицо и столько проглочено невысказанного, когда отец и сын за трапезой изводили друг друга на глазах бессильной матери и супруги.
Тот факт, что отец одарил свое дитя именем предшественника современной хирургии Амбруаза Паре, многое говорил о надеждах, возложенных им на сына. Но мальчик, а потом подросток, а позже и юноша так и не оправдали честолюбивых устремлений достославного родителя. В пятнадцать лет Амбруаз, к великому негодованию отца, бросил уроки фортепиано ради гитары, мало того, электрогитары, без всякого сожаления расставшись с Вольфгангом Амадеем Моцартом ради Ангуса Янга. В восемнадцать – получил аттестат бакалавра с результатом “довольно хорошо”, а отнюдь не “отлично”, как ожидал Анри Ларнье. Просидев два года на первом курсе медицинского факультета, сын окончательно похоронил отцовские чаяния: поступил в одно из местных училищ по подготовке младшего медицинского персонала. Контрольный выстрел прозвучал какое-то время спустя: после двух стажировок в больнице молодой человек в один декабрьский вечер объявил родителям, что ему невыносимы страдания живых людей, зато уход за телами покойных он считает одним из самых благородных занятий. “Бальзамировщик!” – прошипел отец вне себя. Как мог его родной сын, Амбруаз Ларнье, так низко пасть? Выбрать себе вторую древнейшую профессию после проститутки? “Если тебя так волнуют мертвецы, вот и ступай к ним, и чтобы ноги твоей не было в этом доме!” – рявкнул нобелевский лауреат на грани апоплексического удара. Юноша уложил чемодан, поцеловал заплаканную мать и покинул особняк, даже не взглянув на человека, с которым у него никогда не было ничего общего, кроме криков и разочарований. Бет приняла его без лишних вопросов, поселила в задней комнате и испекла ему в утешение куинь-аман.
Амбруаз поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою бывшую комнату. С его уходом здесь ничего не изменилось. Те же постеры на стенах, вся мебель на своих местах. На бюваре письменного стола – целый ковер стикеров четырехлетней давности. Музей, подумал он. Мой музей. Мать сохраняла в комнате все, как было, в тайной надежде, что однажды он вернется под родительский кров. Стеллажи по стенам проседали под тяжестью книг. Здесь были все его комиксы. “Тролли из Трои”, “Пассажиры ветра”, “Семейство Тухликов”, все “Тинтины”, подборка “Кота”, несколько книжек Франкена. Пониже – романы, которыми он подростком зачитывался по ночам. Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Толкин. Дорожное чтиво, по мнению отца. Амбруаз расстегнул две принесенные с собой большие сумки и аккуратно переложил в них книги. Совершив два похода к багажнику, он проверил, не остались ли где следы его визита, и запер дверь особняка. Тюрьма, подумал он, снова включая сигнализацию. Мой отец живет в тюрьме.
10
Гислен де Монфокон возвела чистоту в разряд религии. Ее нетерпимость в этом вопросе граничила с манией: вытирать ноги, входя в зажиточный дом в самом центре старого города, отнюдь не значило быть на высоте требований, предъявляемых пожилой дамой к гигиене. У двери, рядом с ковриком, гостя ожидала корзина, полная одноразовых бахил. Манель, прежде чем ступить на пол, взяла пару синих мешочков и нацепила на ноги.
– Я здесь, мадемуазель Фланден. Не возитесь с посудой, это подождет.
Как всегда, подумала девушка, скользя по натертому паркету в направлении столовой. Старая дама уже поджидала ее за столом, сидя перед доской для скрэббла и горя нетерпением продолжить начатую три дня назад партию. По сути, Гислен де Монфокон хотела от своих помощниц только одного – быть для нее в ближайший час партнершей по игре. Коллеги Манель жаловались, а она – нет: куда лучше провести час за скрэбблом, шашками или настольной рулеткой, чем с утюгом или шваброй. Хозяйка опять вела в счете: маньячка Гислен де Монфокон была к тому же истинной королевой мухлежа. Она мастерски умела изобретать слова, причем тут же придумывала им определения, и в итоге они оказывались реальными в ее глазах – но только в ее глазах. Этот механизм самовнушения каждый раз повергал молодую помощницу в оторопь. “Гризляк”? Ну как же, гризляк – это первобытный медведь с очень густой шкурой, обитал на севере Американского континента в ледниковый период. “Торкмад”? Торкмад – блюдо из кукурузы и козлятины, его едят на Тибетском плато. Вроде бы очень нажористое. Порой какие-то слова порождали новые. “Геждачить” значит полировать сталь геждаком, инструментом в виде лопаточки. Манель давно махнула рукой на эти несуществующие неологизмы. Равно как закрывала глаза на то, что некоторые буквы из ее набора вдруг исчезали, вместо гласных обычно появлялись согласные, а при подсчете очков возникали лишние клетки, удваивающие сумму, естественно, в пользу Гислен де Монфокон. Вот и сегодня она опять начала вытворять бог знает что. Не успела Манель усесться напротив, как она уже выложила на поле новое слово:
– Монолиф. Слово удваивается, значит, тридцать восемь очков, – ликующе провозгласила она. – Ваш ход, мадемуазель.
Манель не стала доказывать, что, насколько она помнит, вчера очередь ходить была ее; промолчала и про то, что удвоенный “монолиф” дает не 38 очков, а 36. Что же до значения самого слова, то ей не перепало даже удовольствия спросить о нем у изобретательницы, ибо Гислен де Монфокон, девяностодвухлетняя вдова, в здравом уме и твердой памяти, немедленно сообщила его сама. Монолиф – это очень-очень твердая скала, встречается на склоне вулканов. Открыв свой набор букв, Манель улыбнулась. “А” и “е”, с которыми у нее получалось слово “шпатель”, за ночь чудесным образом превратились в “г” и “х”. Она ограничилась тем, что поставила слово “плот” через “о” в “монолифе”, и нашарила три фишки в полотняном мешочке. Раз в месяц фишки непременно подвергались чистке: каждую надо было промыть под струей воды и протереть. С гигиеной Гислен де Монфокон шутить не любила.
11
Морг находился на минус втором этаже больницы. Амбруаз погрузился в просторный лифт и нажал кнопку. В пары хлорки, исходившие от стен, потихоньку вплетался едкий запах падали, все более назойливый по мере спуска. Жирный запах уже приклеивался к его коже, к одежде и волосам, а скоро – он это знал по долгому опыту – впитается в пазухи носа и, угнездившись в черепе, будет его преследовать даже после того, как он выйдет на свежий воздух. Запахи всякой скверны. Лучшее определение этих испарений, какое молодой человек слышал в своей жизни, выдал один старый санитар-носильщик: “Глаза бы не глядели на эту вонь”.
– О, смотрите, кто пришел, сам месье Амбруаз!
Молодой человек всегда был страшно рад повидаться с Бубакаром и Абелардо, служащими здешнего морга. Один – очень черный великан, другой – очень бледный заморыш. Молочные братья, балагурил Бубакар под скептическим взором коллеги. На вопрос, кем они работают, оба обычно отвечали “прозектором-апноистом”, повергая собеседника в глубокую задумчивость. В апноэ парни знали толк: отпирание некоторых ячеек требовало умения надолго задерживать дыхание. Подземелье было для них вторым домом. Люди ходили не в морг регионального медицинского центра, ходили к Бубе и Абелю. Парочка, облаченная в неизменный зеленый халат – не хирургический зеленый, нет, а цвета ландшафтной зелени, всегда на полном серьезе уточнял сенегалец, – вылезала из своего логова и поднималась наверх только за покойниками: они раскладывали останки по ячейкам, доставали их по запросу, принимали похоронных агентов, готовили зал отпевания, встречали родственников. Без Бубакара и Абелардо никто – ни судебные медики, ни похоронные службы, ни танатопрактики, ни близкие покойных – не мог получить доступ к телам. Они были хранителями храма, живой памятью морга. Приятели знали каждого из обитателей восемнадцати ячеек в зале долгосрочного хранения, отведенного институту судебной медицины. Мадам Манжен из девятого номера вчера отправилась на захоронение. Месье Домпар из двенадцатого завтра ожидает очередного визита судмедэксперта. Комнатушка, в которой они торчали почти все время, казалась островком жизни и красок. Стены сверху донизу увешаны открытками с бирюзовым морем и горными курортами, фотографиями смеющихся женщин и детей, свадеб, праздников. Картинками жизни наверху, вдалеке от подземного мира с его вонью, на которую “глаза бы не глядели”.
По всем углам весело пестрели букеты. Охапки гвоздик, роз и тюльпанов всех цветов радуги, а также не востребованных родственниками цветочных композиций доживали здесь свой век – за себя и за самых красивых своих собратьев. Каморка была плотом, полным бурлящей жизни, посреди стоячих, маслянистых болотных вод. Буба, поднявшись из-за стола, чуть не раздавил Амбруаза в объятиях.
– Как дела у юного белого колдуна? Все воскрешаешь мертвых?
– У меня это лучше всего выходит, – ответил тот, высвобождаясь из железной хватки громадного сенегальца и обнимая Абеля.
– Подзаправишься с нами? Спешить тебе некуда, там только одеть надо, а родня раньше трех не придет.
– Спасибо, ребята, но я уже обедал.
Парочка из морга закусывала с утра до вечера. В любой час на столе посреди их каморочного офиса всегда стояло что-нибудь съестное. Сегодня это были домашние слоеные пирожки вперемешку с жаренным во фритюре маниоком. Амбруаз не мог понять, как можно получать удовольствие от еды в подобном месте. “Хочешь, верь, хочешь, не верь, но на полный желудок вонь переносить легче”, – как-то объяснил ему Буба. Амбруаз согласился выпить предложенный Абелем стакан вина: “Риоха” от испанского кузена, у него виноградники в Пенедесе.
– О, знаешь анекдот про судмедэксперта и журналиста? – вскричал Буба. – Журналюга его спрашивает: “Доктор, сколько аутопсий трупов вы произвели?” А тот отвечает: “Я все аутопсии произвожу на трупах”.
Амбруаз улыбнулся. Он любил циничные шуточки великана-сенегальца. Странная все-таки штука этот контраст между безудержным весельем парочки из морга и всем тем, что их окружало: как будто постоянный контакт с мертвецами резко обострял в них жизнелюбие.
– Я твоего клиента в третий зал положил. Держи, вот сумка с одежкой, – добавил Буба, протягивая ему чехол с костюмом. – Штиблеты не ищи, нету их. Вставная челюсть на каталке.
Амбруаз поднялся по коридору в зал подготовки умерших. Покойник, азиат семидесяти двух лет, был уже раздет и лежал на одной простыне. Запястье украшали следы от капельницы, а на шее молодому человеку предстали следы трахеотомии. Тело немыслимой худобы. Раку это свойственно: высасывает того, в ком поселился, иссушает лица, пожирает жировые отложения, а потом и плоть, оставляя старухе с косой только жалкий скелет, напичканный лекарствами. Сожран мерзким зверем изнутри, подумал Амбруаз. В области слегка вспученной брюшной полости виднелось красивое зеленое пятно, признак того, что бактерии уже принялись за дело и готовы заполонить все тело. Проверив личность покойного, он натянул защитный костюм и приступил к туалету. Трупное окоченение он снял без труда, тому почти не осталось мышц, куда запустить свои когти. Мэтр Танато, когда ему попадался истощенный труп, часто вспоминал чешскую поговорку: где нет ничего, там и смерти взять нечего. Промыв глаза и нос покойного, он заложил тампоны в ноздри и глотку. Посадил на место челюсть, зашил кожу на шее, на месте трахеотомии, вставил глазные колпачки, стянул рот и вымыл тело с головы до ног дезинфицирующим раствором. Кончиком указательного пальца смазал внутреннюю часть губ увлажняющим кремом. Мужчина весил килограммов сорок, не больше, и процесс одевания занял всего несколько минут. Матовая смуглая кожа не требовала особого макияжа. Пара взмахов расческой – и редкие волосы улеглись на череп. Он подсунул под шею умершему подушку, чтобы приподнять голову. Похожий на скелет труп, представший его взору по приходе, меньше чем за полчаса приобрел сходство с человеком в красивом темно-сером костюме. Амбруаз укрыл его до пояса простыней. Вероисповедания покойного он не знал, а потому не стал скрещивать ему руки и просто положил их поверх ткани. Вполне довольный результатом, он сложил свои вещи и зашел к местным обитателям попрощаться и сказать, что тело можно перевозить в ритуальный зал. В комнатке оказался один Буба: он уписывал кусок торта и читал последний выпуск “Канар аншене”.
– Я всё. Передавай привет Абелю.
– Приходи, когда тебе угодно, здесь ты дома, о юный белый колдун! И помни: только мертвые рыбы плывут по течению!
Могучий хохот Бубакара раскатился эхом, словно в соборе, и проводил Амбруаза до самой кабины лифта.
12
Уже четвертый год подряд восемнадцатого сентября Амбруаз навещал Изабель де Морбьё. “Камышовая поляна” находилась на лесистых холмах к северу от города. Пропетляв несколько километров по проселочному шоссе, его фургон выехал на обсаженную деревьями дорогу, ведущую к зданию. Солидный особняк лениво раскинулся на ухоженном газоне под вечерним солнцем. Белый мрамор разбросанных по парку скамеек тонул в тени величавых дубов. Здесь не было места выражению “дом престарелых”. Наверняка его внесли в список запретных слов, способных напомнить обитателям пансиона, что они всего лишь старики и их жизнь подошла к концу. В подобных заведениях противопролежневый матрас именуют аксессуаром комфорта. Роскошные “Камыши” призваны были вытеснить мысль о покойницкой своим изяществом и позолотой. Все здесь рождало иллюзию мирного будущего в окружении чарующего ландшафта и угодливого, но грамотного персонала, а тишину нарушал только щебет бесчисленных птиц, свивших гнезда в парковых купах. Блистательный обман зрения, подумал Амбруаз, входя в холл. Ему казалось, что на лицах большинства попавшихся ему на пути пансионеров читается одно и то же усталое смирение. Несмотря на пухлые бумажники, несмотря на все приложенные усилия и затраченные средства, немощь, без сомнения, в конце концов проникала и сюда, как в любое другое место. Под высокими потолками, в свежести чистых простыней, среди снующих горничных и дежурных медсестер, под летнее мурлыканье кондиционеров и под зимним теплым дуновением обогревателей человеческие существа неумолимо проседали изнутри, а их чувства постепенно растворялись в пушистой нежности ковров.
Он решительно прошел мимо лифта и взбежал по широкой лестнице, ведущей в жилую зону. На третьем этаже его взору предстала целая россыпь цветочных названий на дверях комнат. Ирис, Гладиолус, Анютины глазки, Нарцисс, Эдельвейс, Гибискус. Молодой человек усмехнулся. Ему всегда хотелось спросить, есть ли в этом здании комнаты по имени Бессмертник, Календула или Крапива. Орхидея находилась в самом конце широкого коридора. Он дважды коротко постучал, и звонкий голос пригласил его войти. В рядах местной колонии, помимо нескольких столетних стариков, большинству было за девяносто. В том числе и Изабель де Морбьё. Амбруаз помнил, как четыре года назад впервые переступил этот порог.
– Инструментов не нужно, клиентка жива, – уточнил Ролан Бурден. – Заключила “Все включено ультра”, – добавил он почтительным тоном. – Хочет вас видеть, не разочаруйте ее. Сами знаете, такие контракты на дороге не валяются.
Ролан Бурден удостаивал предлогов и слов сверх необходимого только “Все включено ультра”. Для людей вроде Изабель де Морбьё, желающих самим, при жизни, организовать свое последнее путешествие, этот “роллс-ройс” ритуальных договоров обычно был идеальным предложением. Полный комплект посмертных услуг под ключ, по высшему разряду, похоронные принадлежности на уровне своей заоблачной цены. Гроб из благородных пород дерева, изысканный шелк внутренней обивки, музыка и григорианское пение во время прощания в ритуальном зале, изготовление макета и печать 300 экземпляров приглашения на похороны на глянцевой бумаге плотностью 200 г/м², доставка огромного венка из свежих цветов, гравировка золотом на надгробной плите, предоставление двух подсвечников тонкой работы со свечами, выпускание голубей по выходе с кладбища, книга соболезнований с веленевыми страницами и обложкой из кожи ягненка и – вишенка на торте – полный набор услуг по консервации тела в исполнении опытного профессионала. Потому-то Изабель де Морбьё и потребовала встречи с танатопрактиком, которому будет поручена операция. Амбруаз обнаружил в усталом теле живой и быстрый ум. Перевалив за девяносто, пожилая дама утратила аристократическую осанку и перемещалась теперь лишь с помощью ходунков и даже инвалидного кресла, когда хотела выйти в парк, однако лицо ее сохранило поразительную свежесть, а пелена, которую время по скверной своей привычке норовит набросить на глаза древних стариков, еще не затушила блеска ее зрачков. Но самым удивительным в ней был голос, до странного чистый и ясный голос, каким-то невообразимым образом исходящий из этого хрупкого тела. Она не скрыла от Амбруаза, что удивлена его молодостью, призналась, что ожидала увидеть скорее одного из старых профессоров в велюровых штанах, а не мальчика с повадками студента-медика, чуть ли не подростка, нимало не похожего на опытного профессионала, прописанного в контракте. Насчет своей компетентности он ее успокоил, сказав, что “Бурден и Сын” возложили эту миссию на него, а не на кого-то другого, именно по причине его признанного мастерства, – и умолчав о том, что причина заключалась также (и главным образом) в том, что на момент звонка от продавца похоронных принадлежностей он единственный не был занят. Тем не менее Изабель де Морбьё с недоверием отнеслась к его способности как следует убрать ее тело, когда придет время. Она засыпала его вопросами с вполне очевидной целью испытать его профессионализм. В конце концов несколько утомленный Амбруаз выдал ей знаменитую формулировку мэтра Танато, которой тот обычно потчевал учеников со своего помоста: “Еще ни один клиент в жизни на меня не жаловался”. Вопреки его ожиданиям, старая дама расхохоталась. С этой минуты лед между ними был сломан, и дальнейшая беседа протекала самым дружеским образом. Изабель де Морбьё хотела, чтобы он относился к ней как художник к своей модели. “Мне хочется, чтобы вы выучили все мои морщины, пока я жива, – призналась она. – Чтобы вы пропитались мною теперь, и когда придет день, восстановили меня в лучшем виде”. Она показала, какой пользуется косметикой, как причесывается. Потом стала рассказывать про свою молодость, про свою женскую жизнь до той поры, как настала осень и ее плоть и чувства поблекли. Про своего рано умершего мужа, про дочь, которая приезжает к ней по воскресеньям и возит обедать в город, про внуков и даже правнуков, чьи рисунки покрывали ярким ковром целую стену в ее комнате. Через полтора часа (видимо, пришло время какой-то процедуры, подумал Амбруаз) она распрощалась с молодым человеком, взяв с него твердое обещание вернуться на следующий год, в этот же день и час, за отдельную плату. Она назначала встречу своему танатопрактику точно так же, как своему кардиологу, офтальмологу, дантисту или педикюрше. “Контрольный визит”, – игриво добавила она.
Вот так и повелось, что Амбруаз на каждый ее день рождения стал ровно в три часа дня входить в комнату “Орхидея”. Изабель де Морбьё ожидала его, утопая в кресле, с объемистой Библией на исхудалых коленях.
– Никогда не читала более увлекательного романа, – объяснила она, закрывая книгу. И добавила с восхищением в голосе: – Всё есть, сюжет, саспенс, интрига, тут тебе и фантастика, и злые, и добрые!
Амбруаз улыбнулся. Эта женщина походила на старое-старое сливовое дерево, которое, невзирая на потрескавшийся ствол и рассохшуюся кору, каждую весну рождается заново, а летом приносит лучшую в мире мирабель. Она осведомилась, как он поживает. Он в свою очередь спросил, как прошел последний год.
– Как долгая зима у камелька, – ответила она.
Ни тот ни другая больше не упоминали первоначальную причину его визита. Она лишь показывала Амбруазу очередную новую морщину или старческое пятно в правой части лба, обсуждала с ним, как лучше положить на это место тональный крем, чтобы скрыть неизгладимый след времени. Чаще всего она говорила о себе, а Амбруаз, весь обратившись в слух, внимал ей.
– Мне скучно, – однажды призналась она. – Знаете, скука может быть настоящей мукой. Угнездится тайком, а потом отравляет вам дни и ночи, словно тупая боль, не отпускающая ни на миг. Временами так достанет, прямо до слез, потом схлынет, приходит и уходит, но в итоге вам никуда от нее не деться, потому что скука в девяносто четыре года – совсем не то, что в двадцать лет. Теперь для нее приготовлено место, она просачивается между нашими воспоминаниями и сожалениями, заливает морщины. Настоящий потоп, и кончается он только с последним вздохом. Но понимаете, когда я знаю, что в нужный момент окажусь в добрых и красивых руках, смерть меня пугает гораздо меньше. Ладно, хватит обо мне, давайте лучше выпьем за вашу молодость и ваше будущее, молодой человек, – заключила она, кивая на маленький холодильник, мерно урчащий в углу.
Каждый год совершался один и тот же ритуал – с бутылкой “Клерет-де-Ди” и тарелкой пирожных “макарон”. Они чокнулись высокими бокалами и молча погрызли хрустящие кругляшки. Жизнь веселым птичьим щебетом проникала с улицы в приоткрытое окно. Когда он собрался уходить, Изабель де Морбьё чуть дольше обычного задержала его руку в своих костлявых пальцах.
– Я так счастлива, что это будете вы, Амбруаз.
– Что – я? – с любопытством спросил он.
– Что вы будете последним мужчиной, который увидит меня голой и займется моим телом.
В ее словах не было ничего скабрезного, одно только искреннее облегчение. И он в первый раз уловил в голосе старой женщины новые нотки. То был глуховатый голос уже уходящего человека.
13
– Молодожены, подъем! – весело воскликнула Манель, раздвигая тяжелые портьеры на окне и впуская в комнату луч света.
В спальню супругов Фурнье девушка всегда входила с этой фразой на устах. Ибо Элен и Эме Фурнье до сих пор любили друг друга как в первый день после свадьбы. Пускай они уже больше года спали отдельно, но все равно пожелали остаться в одной комнате, бок о бок. Мадам на медицинской кровати с кронштейном, месье на односпальной. Манель подождала, пока старушка приподнимется, ухватившись за трапециевидную ручку, потом медленно развернула ее в сидячее положение.
– Принести вам ходунки? – спросила девушка, хоть и заранее знала ответ.
– Мои ходунки – это он, – возразила Элен Фурнье, с нежностью глядя на мужчину своей жизни, который, как всегда по утрам, обходил кровать, чтобы подставить ей согнутую руку для опоры.
Манель быстро приготовила завтрак. Вскоре кухня наполнилась ароматом поджаренного хлеба. Она любила, когда рабочий день начинался с этой прелестной пары. Элен Фурнье была неисправимой оптимисткой. “Мы же подрядились пятьдесят восемь лет назад быть вместе в горе и в радости, значит, даже когда кажется, что впереди одно горе, все равно можно найти немножко радости, – любила она повторять. – Надо только поискать как следует”. Они держались на плаву, ухватившись друг за друга. Она была его головой, он – ее ногами, и тандем, качаясь на волнах, переплывал день за днем. Элен говорила за двоих, читала, смотрела телевизор, готовила что-нибудь вкусненькое, занималась бумагами и счетами, то есть делала все, чему нисколько не мешала ее ограниченная подвижность. А Эме почти все время дремал, несмотря на все старания супруги заставлять его как можно больше бодрствовать. Весь день она просила его ей помочь. Принести из кладовки картошку. Убрать чековую книжку в ящик стола. Дать ей книгу, которая лежит на ночном столике. Принести расческу из ванной. Помочь ей сходить в туалет. Подойти ее поцеловать.
– Это для его же блага, – объясняла она девушке. – Тело-то у него, сами знаете, еще в порядке, а голова поизносилась. Оставь я его в покое, он так и будет все время спать и в конце концов не проснется, – очень серьезно добавляла она.
Манель поставила перед Элен две таблетницы, и та щелчком большого пальца открыла крышки на четверг.
– Таблетница на неделю – ежедневник стариков, – изрекла пожилая дама, выкладывая на скатерти перед своим Эме ряд из пяти утренних таблеток и перечисляя их: голубая от давления, фиолетовая от холестерина, зеленая для кровообращения, желтая от подагры. – Не хватает только оранжевой да красной, и были бы у тебя все цвета радуги, милый мой бедняга, – грустно пошутила она.
Ей самой полагалось три таблетки, и она запила их щедрым глотком кофе с молоком. Потом намазала первый гренок смородиновым конфитюром и пододвинула мужу. За те десять минут, что длился завтрак, Манель успевала застелить постели и проветрить комнату. Десять минут из кухни доносились только прихлебывания и причмокивания супругов Фурнье, старательно поглощавших ломти хлеба, покрытые алым желе.
Перед утренним туалетом Элен тщательно выбирала одежду на день. Для себя и для Эме. Помощница включалась в этот ритуал с ликованием маленькой девочки, одевающей своих кукол. Элен была большой кокеткой, а главное, не хотела распускаться и погрязнуть в неряшливости. Неряшливость – это враг.
– Только зазеваешься, а она уже угнездилась у тебя тихой сапой, – призналась она Манель однажды утром. – Сперва реже зовешь парикмахера, потом перестаешь краситься, не стрижешь ногти, не делаешь эпиляцию, и в итоге вообще ни на что не похожа.
Она, Элен Фурнье, насмотрелась на подруг, которые в один прекрасный день ослабили хватку и, сами того не замечая, перестали за собой следить и сгинули в пучине. Эме скрылся в гостиной и, рухнув в кресло, провалился в первый дневной сон, а девушка распахнула перед сосредоточенной Элен дверцы платяного шкафа. Полки и вешалки справа – одежда старой дамы, полки и вешалки слева – одежда мужа. Рядышком, как их кровати.
– Достаньте мне голубую блузку, вот эту, с цветами, сегодня солнечно. И бежевые брюки.
– Может, еще светло-голубой шарф? – предложила Манель.
– Нет, слишком в тон с блузкой. Лучше оранжевый. А для Эме достаньте джинсы. Он их не любит, знаю, но он в них выглядит моложе. С белой рубашкой будет самое то. И еще возьмите ему светло-серый жилет, он вечно мерзнет.
Когда все было готово, Элен послала Манель будить Эме. Пора умываться. Их ждала широченная и очень дорогая итальянская душевая кабина: ее установили, когда Элен поняла, что ноги у нее отказывают. Супруги Фурнье принимали душ вместе – она сидела на откидном сиденье, а он стоял рядом. Они намыливали друг друга, терли банной варежкой тела, знакомые как свои пять пальцев, обливались и брызгались, мыли друг другу голову, порой смеялись. Когда месье был готов, девушка вернулась в ванную, одевать мадам. Натягивать компрессионные гольфы телесного цвета всегда было для Манель сущим испытанием, несмотря на большой опыт. Человек, который их изобрел, явно сам никогда не пытался втиснуть в свое творение ноги восьмидесятилетней женщины с одеревеневшими лодыжками и икрами толщиной с ляжку. Спустя десять минут Элен Фурнье, нарядная и накрашенная, как на первый бал, вышла из ванной под руку с Манель, готовая во всеоружии встретить новый день. Из гостиной до них донесся тяжкий храп Эме, на время провалившегося в нутряные глубины своего усталого рассудка, покуда нежная супруга не вернет его к жизни, отправив в кладовку за литром молока или попросив принести ей телепрограмму с кроссвордом.
14
Амбруаз отшатнулся: между ног покойника примостился ком рыжей шерсти и сверкал на него единственным злобным глазом. При попытке согнать кривого кота тот всеми когтями вцепился в пижаму мертвеца. Пришлось прибегнуть к венику и захлопать в ладоши – только тогда зверюга соизволил наконец удалиться. Котяра, шипя и плюясь, выскочил из комнаты, просочился на кухню и вылез в сад через приоткрытое окно. Никто из наличных родственников не пожелал забрать себе старого облезлого кошака шестнадцати с гаком лет от роду. Со смертью хозяина судьба кота была предрешена. Чаще всего так и бывает. Визит к ближайшему ветеринару уже назначен, на следующий день после похорон ему сделают укол. Амбруаз облачился в комбинезон и принялся за обработку тела. Не прошло и часа с четвертью, как он завершил работу. Пригладив напоследок расческой редкие волосенки, он сложил инструменты, снял перчатки, маску и комбинезон, погрузил все в машину и отбыл. Вечером у труппы спектакль. Надо по-быстрому принять душ, проглотить все, что Бет не преминет запихнуть ему в рот, и мчаться в деревню, где будет представление. Не забыть сунуть в несессер молочко для снятия макияжа. Он погрузился в свои размышления – и вдруг, когда он тормозил на светофоре, что-то вылетело у него из-под ног. Кот хрипло мявкнул, но его голос был немедленно заглушен криками Амбруаза: зверюга решил взобраться по его правой ноге и вцепился в нее когтями через штанину. Молодой человек схватил кота за шкирку, отодрал от своей икры и швырнул на коврик у пассажирского сиденья. Зверюга, весь подобравшись и прижав уши, сверлил его своим глазом. Рыжая шерсть исполосована шрамами. Через всю морду, от левого уха до носа, шел длинный рубец, рисуя на ней насмешливый оскал. Короткий обрубок хвоста придавал тощему телу неустойчивый вид. Тусклая свалявшаяся шерсть не располагала к ласкам. Ветеран всех войн в квартале, решил Амбруаз. Он не знал, как быть. Везти зверюгу обратно? Не для того котяра выжил в стольких битвах, чтобы закончить свои дни в руках какого-то типа в белом халате, который впрыснет ему билет в один конец, вдогонку за хозяином. Трусливо бросить посреди дороги, выкинуть из машины и отдать на волю судьбы? Он себе этого не простит. Гудок за спиной вывел Амбруаза из задумчивости. Он остановил фургончик у обочины и, махнув рукой на последствия, вытряхнул содержимое одного из чемоданчиков, натянул несколько пар перчаток и, собрав всю волю в кулак, схватил кота, засунул в чемодан, поспешно защелкнул медные застежки и, не обращая внимания на хриплые жалобы, несущиеся из сумки, поехал дальше. Припарковался у первого же торгового центра и долго стоял перед полками с кошачьим кормом, не зная, на чем остановить выбор. Стеллаж пятиметровой длины и двухметровой высоты ломился от бесконечных баночек и сухого корма. С курицей, с говядиной, с овощами, с рыбой, кусочками, в виде паштета. В итоге он решил взять сухой корм. С упаковок глядели представители семейства кошачьих, один красивее другого. Мех, в который так и хочется погрузить руки. Жеманные мордочки победителей конкурсов, мохнатые звезды, нимало не похожие на особь, бремя которой он только что взвалил на себя. Что ни пакет, то особый тип кошки. Стерилизованные, котята, с лишним весом, комнатные. А вот для жалких одноглазых котяр – ничего. Выудив пакет сушки для пожилых кошек, Амбруаз кинул в тележку первый попавшийся кошачий лоток, добавил две упаковки комкующегося наполнителя с лесной отдушкой и направился к кассе.
Двадцать минут спустя он, войдя в квартиру, поспешно выпустил кота из его узилища. Как и опасался Амбруаз, прием, оказанный бабушкой котяре, отлился в чеканный и не подлежащий обжалованию приговор, который было слышно, наверно, на всех этажах:
– Никаких хвостатых в моем доме!
– Но ты же, по-моему, не любишь собак? – возразил молодой человек.
– Одно другому не мешает, Амбруаз Ларнье.
Когда Бет называла его по фамилии, это не предвещало ничего хорошего.
– Да ты погляди, какой глаз злой. И еще ухмылка эта.
– Ну ты же прекрасно видишь, что это шрам.
– Может, и шрам, но морда все равно гнусная.
– Не ты ли, бабушка, всегда мне говорила, что с лица воду не пить?
– И все-таки, согласись, этот твой мордоворот нежности не внушает. И прекрати называть меня бабушкой, ты же знаешь, я этого не переношу.
– Пожалуйста, только на несколько дней, пока что-нибудь не придумаем.
– Хотела бы я знать, что тут можно придумать, при такой-то роже. Нет, а шерсть, ты только погляди на эту щетину! Сроду такого котищи не видела.
Означенный котище, вполне безучастный к напрямую касавшейся его беседе, в это время прилежно уминал миску сухого корма, которую Амбруаз насыпал ему по приходе. Под осуждающим взглядом Бет он поставил в коридоре лоток, вымыл инструменты и шмыгнул в душ. Она ждала его под дверью.
– И я не удивлюсь, если этот твой зверюга развел блох в том, что у него вместо шерсти!
– Так. Во-первых, это не МОЙ зверюга. Я все-таки не виноват, что кот предпочел свободу и мою машину окончательному укольчику, который ему заготовил ветеринар. Во-вторых, завтра прямо с утра сбегаю за средством от блох получше и обработаю нашего дружка, обещаю.
– И пусть даже не думает брызгаться по углам и метить территорию, я этого не переживу, и он тоже!
– Слушай, Бет, давай завтра поговорим. Мне бежать надо, не хочется опаздывать, они меня ждут. Вернусь не раньше часа ночи. Фар[3] или куинь-аман? – спросил Амбруаз, подхватывая еще теплое блюдо, накрытое фольгой.
– Яблочный пирог, большего ты не заслуживаешь.
Он поцеловал мрачную как туча Бет и покинул бабушку и котяру, молча взирающих друг на друга.
15
В то утро появление Манель не было встречено ни “горлинкой”, ни “моей маленькой домашней феей”. Самюэля она обнаружила на кухне. Он безучастно сидел на стуле и с отсутствующим видом смотрел на большой голубой конверт, поверх которого лежали результаты анализов. Граммы и миллиграммы на литр, проценты, единицы, графики, разноцветные кривые. На столе высилась стопка снимков его мозга во всех возможных ракурсах. На нескольких виднелось более светлое пятно, похожее на глаз циклона посреди пейзажа в серых тонах. Даже не специалисту сразу становилось ясно, что этому мерзкому пятну нечего здесь делать, что оно совершенно лишнее. Манель тихонько отодвинула конверт и взяла руки старика в свои. Минут десять она утешала его, говорила, что все это еще ничего не значит, что надо подождать, сходить к специалисту, выяснить, что там такое на самом деле. Самюэль признался, что боль теперь никогда не покидает его черепную коробку. Что даже по ночам он знает – она здесь, притаилась за лбом и сидит на страже, выжидает, когда дневной свет набросится на его сетчатку, чтобы заявить о себе снова. Рассказал, как жуткий туннель МРТ заглотнул целиком его тело, а потом, когда обследование кончилось, человек в белом говорил какие-то слова, но он этих слов не понял, они все перепутались в голове. Манель представила себе, как старик выходит после этого испытания, огорошенный, потерянный, со своим голубым конвертом в руках, как он садится в медицинское такси и его везут домой.
– Когда вам на прием к неврологу? – спросила она.
– В понедельник, в три часа дня. Надо мне вызвать санитарную машину, – добавил старик бесцветным голосом.
– Я вас сама отвезу, – решительно возразила девушка.
Убирая бумаги, она увидела два слова, пропечатанные жирным шрифтом внизу страницы, словно приговор: мультиформная глиобластома.
16
Ключ от траурного зала, как и сказала по телефону похоронный агент, лежал под цветочным горшком на окне, выходившем во двор. Женщина уточнила, что дочери покойного принесут одежду в районе двух. Кардиостимулятор вынуть, добавила она и повесила трубку. Еще одна поборница языкового минимализма, с улыбкой подумал Амбруаз. Он вошел в помещение и направился к холодильным камерам. Нужный покойник находился во втором отсеке. Молодой человек потянул на себя скользящую платформу, расстегнул мешок и сорвал бумажку с именем и фамилией, прилепленную скотчем на дверцу. Серж Кондриё, 79 лет. Умер ночью во сне. Смерть имеет скверное обыкновение высасывать лица, превращать их в тесто и лепить заново на свой лад. С Сержем Кондриё она ничего не успела сделать. Лицо у него было умиротворенное, без всяких следов страдания. Полное впечатление красивой смерти, если смерть вообще бывает красивой. Амбруаз переложил останки на каталку и отвез в процедурную. Снимая трупное окоченение, он прочел на теле, в стигматах, оставленных жизнью, всю его историю. Повыше паха – старый рубец после удаления аппендикса. В основании шеи – едва заметный шрам от операции на щитовидке. Характерный след прививки БЦЖ на левом предплечье. От мизинца на правой руке осталась розоватая культяшка: две фаланги ампутированы, несчастный случай. Мозоли на ладонях ощущались даже через перчатки. Руки работяги, подумал Амбруаз. Обветренные щеки и глубокие морщины повествовали о жизни на свежем воздухе. Вздутие на коже под левым соском указывало на местоположение кардиостимулятора. Танатопрактик сделал надрез и приступил к удалению аппарата, который добавился к трем своим собратьям, уже лежавшим в пластмассовом контейнере; контейнер он опорожнял раз в неделю в специальный коллектор. Непреложное правило: никаких кардиостимуляторов в мире ином. Хоть в раю, хоть в аду, хоть кремация, хоть погребение – литиевым стержням там не место. Из траурного зала донеслись звуки шагов. Амбруаз на время прервал процедуру и двинулся навстречу двум женщинам лет пятидесяти, идущим по коридору. Лица усталые, но еще не печальные. В первые часы после смерти близким приходится действовать, и они иногда не успевают вглядеться в пустоту небытия. Предупредить родных, подготовить все для похорон с ритуальной службой, договориться со священником о дне и часе церемонии – все эти заботы и хлопоты на время оттесняют подступающие слезы. Забирая одежду, он утешал их, говорил, что уберет тело их отца самым тщательным образом. Та, что была с виду помоложе, вдруг сказала:
– Мы бы очень хотели, чтобы вы надели на него вот это. – И вынула из кармана красный пластмассовый шарик.
Амбруаз в недоумении воззрился на шарик размером с абрикос, который женщина вложила ему в руку. Он понял, только когда ее сестра показала фото. Мужчина на нем был в клоунском гриме с головы до ног. Крохотная розовая шапочка, глаза и рот обведены белой краской, гигантский галстук-бабочка, пестрый костюм, необъятные желтые ботинки – и, конечно, красный нос, куда же без него. Тут обе заговорили одновременно. Стали рассказывать, как в детстве отец 25 декабря всегда приносил подарки в костюме не Деда Мороза, а Рыжего, несусветного Рыжего клоуна, смешившего их до слез. Как он и дальше каждое Рождество, следуя этой веселой традиции, выступал перед внуками и правнуками под восторженные вопли малышни, как год от года дорабатывал свое представление и как в итоге все семейство окрестило его папашей Рыжим. Амбруаз слушал, а они изливали ему душу, заново переживали воспоминания, смеясь и плача.
– В общем, нам бы очень хотелось, чтобы он был с красным носом, – подытожила старшая.
– А костюм? – осторожно поинтересовался Амбруаз. – Вы бы не хотели, чтобы он был в костюме Рыжего и в гриме, как на вашем фото?
– Мы не думали, что это можно! – хором воскликнули дочери в полном восторге. – Его маскарадный костюм у нас в машине. Мы хотели положить его в гроб, вместе с ним, но если вы можете одеть папу и загримировать, это было бы чудесно, – говорила младшая.
А старшая уже тащила сумку с костюмом и аксессуарами Рыжего. Амбруаз взял ее, утешил напоследок обеих женщин и велел им приходить не раньше чем через час, чтобы он успел убрать покойного и одеть его. Закончив дезинфекционную обработку, молодой человек наложил последние швы, протер тело и начал его одевать. Положил манишку поверх нательной майки, просунул ноги покойного в короткие штаны немыслимой ширины, натянул полосатые носки, доходившие до середины икр, зашнуровал просящие каши ботинки и, приподняв верхнюю часть тела покойного, закрепил лямки и облачил его в куртку в разноцветный горошек. С изрядным трудом упаковав руки умершего в белые перчатки, Амбруаз вынул косметичку и стал гримировать лицо, сверяясь с фото. Наложил круглой кистью румяна на щеки, выбелил с помощью спонжа круги вокруг рта и глаз, нарисовал карандашом черные брови, очертил контур губ, растянув их в веселой улыбке. Закрепил на голове покойника рыжий парик, повязал на шею громадный галстук-бабочку, воткнул пластмассовую ромашку в бутоньерку куртки, а розовую шапочку положил на грудь, подле скрещенных рук. А потом Амбруаз осторожно взял двумя пальцами красный пластмассовый шарик и закрепил его на носу папаши Рыжего, он же Серж Кондриё. Получилось впечатляюще. Он завернул покрывало, поправил бархатную отделку вокруг тела, подсунул под голову подушку и повез каталку в траурный зал. Фото в рамке он положил на столик справа от умершего. Никогда еще это место не видело такого фейерверка красок. Клоун в царящем здесь полумраке, казалось, светился изнутри. Амбруаз переоделся и пошел за дочерями покойного. Увидев отца в его светозарном облачении, обе не смогли сдержать слез. Для Амбруаза эти слезы стали наградой за хорошую работу. Женщины горячо поблагодарили его.
– Понимаете, – оправдывалась старшая, – нам хотелось сохранить в памяти именно такой его образ.
– Прекрасный образ, – согласился Амбруаз.
Уходя, он в последний раз оглянулся на покойного. Покойного, который с радостным задором возвращался в вечность.
17
Бет бросилась к вернувшемуся с работы внуку прямо с порога и восторженно завопила, даже не дав ему снять пальто:
– Амбруаз, ему понравилось! Нет, ты представляешь, ему нравится!
– Что ему нравится?
– Фар, он любит фар!
– Да кто любит фар?
– Котяра, он любит фар. Просто обожает!
Амбруаз улыбнулся. Бет сказала не “твой котяра”, а просто “котяра”: явный признак, что она готова его принять. С тех пор как кот поселился у них, он ни разу не дал себя погладить и почти все время сидел, забившись под кровать. Из еды жевал разве что хрустящие подушечки, весьма неохотно. Даже банка тунца, открытая вчера вечером Амбруазом, не дала убедительных результатов. Чуть-чуть полакав сок, кот презрительно отверг королевское кушанье. Бет продемонстрировала внуку блюдо с одним-единственным жалким кусочком, обгрызенным со всех сторон.
– Ты только погляди! Я его, как всегда, на кухонный стол поставила, остывать. А потом прибежала на шум. Котище будто рехнулся, сроду такого не видела. Глотает громадными кусками, без передыху, прямо со сливами. Пришлось в конце концов у него отнять, а то он бы его прикончил. Пойдем, посмотришь. – И она за руку потащила Амбруаза в гостиную.
Котяра сыто храпел, растянувшись во весь диван и выставив на обозрение раздутое пузо. Бет, полюбовавшись на него пару секунд, на цыпочках удалилась и увела внука. Та самая Бет, которая еще накануне погнала бы зверюгу поганой метлой со своих подушек, теперь была сама предупредительность.
– Он уже часа два тут лежит. Пускай поспит, ладно? Это же фар, его так просто не переваришь. Надо дать время, уважить декомпрессию стенок желудка. Природа иногда склонна бунтовать против такого вторжения.
Полчаса спустя представитель семейства кошачьих по-прежнему спал, а Амбруаз и Бет, сидя по обе стороны от него, поклевывали орешки и печенье перед телевизором. Звонок раздался в тот момент, когда весь экран заняла премудрая говорящая голова Давида Пюжадаса. Кот открыл здоровый глаз, со вкусом потянулся, потом перевалился на пол и направился к миске с водой. Амбруаз и Бет переглянулись и дружно вздохнули. Манера звонить не оставляла ни тени сомнений в том, кто этот незваный гость. Звоночек был всякий раз совсем короткий, призрачный, почти неслышный.
– Она уже второй раз за неделю приходит, – простонал молодой человек, отдирая себя от дивана.
– А я-то здесь при чем? – отвечала Бет, покорно шлепая к двери, покуда ее внук спасался бегством в свою комнату.
На площадке нетерпеливо переминалась Одиль Лакусс, топоча по коврику розовыми сланцами. Обитательница первого этажа, наследница агрофирмы Лакуссов, чей знаменитый слоган “Свежесть плюс вкус – это Лакусс” красовался в семидесятые на всех рекламных щитах округи, долгие годы умирала от безделья и в конце концов решила заделаться консьержкой. Жители дома относились к этой узурпации должности тем более благосклонно, что старая дева старалась за красивые глаза, просто чтобы занять свободное время, которого у нее было невпроворот. Она все держала под контролем, следила, кто ушел и кто пришел, руководила вывозом мусора, раскладывала почту, могла, если нужно, передать сообщение, и нещадно гоняла Свидетелей Иеговы и прочих бродячих торговцев религией. Бет встала в дверях, чтобы консьержка случайно не просочилась в квартиру. Сложно было приписать какой-то возраст этой костлявой угловатой дылде с полупрозрачным лицом – она целыми днями читала и никогда не выходила на улицу, – почти сверхъестественную бледность которого еще подчеркивали золотисто-каштановые волосы. Дева боготворила Амбруаза Ларнье и не упускала случая зайти хоть на несколько секунд полюбоваться на него и вдохнуть его аромат. В ход шел любой предлог. Одолжить на денек пакет молока, вернуть назавтра пакет молока, сообщить, что приходили из энергосбыта снимать показания счетчиков, что в квартире Жандронов с третьего этажа ремонт и днем, возможно, временами будет шумно, что в четверг праздничный день и мусорные баки вывезут только в пятницу. Каждый год 7 декабря она поздравляла их со святым Амбруазом, а 4 июля – со святой Елизаветой. Подарочек на Рождество. Шоколадное яйцо на Пасху. На святого Валентина в почте нередко оказывалась надушенная открытка. Старая дева нашла своего прекрасного принца, и звали принца Амбруаз Ларнье, хотел он этого или нет.
– А Амбруаза нет? – осведомилась влюбленная. – Я тут вырезала для него статью из последней “Науки и жизни”. Интервью его папы о внутрибольничных инфекциях.
– Я ему передам, когда он выйдет из душа. Спасибо, Одиль.
– Ой, какой лапочка! – задохнулась от умиления Свежесть-плюс-вкус-это-Лакусс.
Бет решила было, что восклицание относится к внуку, но тут же поняла, что его объектом был не кто иной, как котяра, вальяжно направлявшийся к ним по коридору. Она ошарашенно глядела на кота, а тот, мурча от удовольствия, терся боками о бесплотные лодыжки консьержки, выделывал сладострастные загогулины и все более тесные восьмерки, а потом растянулся на коврике и подставил брюхо под ласки. Одиль Лакусс присела на корточки и подхватила кота, а тот, не пикнув, позволил старой деве взять себя на ручки, да еще и размурлыкался громче под ее поглаживаниями. Бет не верила своим глазам. Зверюга, который до сих пор отвергал любой контакт и вел себя не общительнее аутиста, буквально заходился от счастья, пока тонкие пальцы консьержки перебирали рыжую шерсть. Здоровый глаз, неотрывно устремленный на благодетельницу, источал потоки любви, а остаток хвоста мотался во все стороны.
– Как зовут вашу милую киску? – спросила та, почесывая загривок кошаку, пускающему слюни от наслаждения.
– Никак не зовут, – ответила Бет, вдруг осознав, что они с внуком так и не удосужились дать зверюге имя. – И вообще, киска не моя, а Амбруаза, – добавила она.
Это известие так потрясло Одиль Лакусс, что она прикрыла глаза: на миг в ее объятиях оказался не кот, а сам молодой человек, и она осыпала его ласками.
Дверь комнаты открылась, и Амбруаз бегом проскочил в ванную, бросив по дороге самым нейтральным тоном: “Добрый вечер, Одиль”. Главное, никаких эмоций, любой ценой сохранять безопасную дистанцию, не порождать ненужных надежд. Излишне пристальный взгляд, игривый тон, намек на улыбку, невольное касание – все могло стать брешью, в которую ринется очертя голову старая дева. Амбруаз обычно старался вообще не показываться в ее присутствии, а если уж пришлось, то не обращать на нее внимания, но все его попытки охладить энтузиазм Одиль Лакусс, казалось, наоборот, только подпитывали ее влечение.
– Какой красавец, – прошептала старая дева, пожирая глазами место, где секундой раньше появился Амбруаз. На сей раз у Бет не возникло вопроса, кому адресован комплимент.
Она, как обычно, воспользовалась визитом Одиль Лакусс, чтобы попросить ее вынести мусор в бак на первом этаже. Амбруаз вспоминал об этом через раз, а для ее усталых ног обойтись без лишних трех этажей было весьма кстати. Она властно забрала у консьержки недовольно заворчавшего кота, вручила ей мешок с завязками и захлопнула дверь; ее “До свидания, Одиль” разнеслось по лестничной площадке не подлежащим обжалованию приговором. Свежесть-плюс-вкус-это-Лакусс еще пару раз погладила мешок и только потом спустилась с небес на землю, вернее, в свои апартаменты, унося на сетчатке образ мимолетного явления Ларнье-младшего.
18
Табличка сияла и переливалась.
Доктор неврологии
Франсуа-Ксавье Жервез
Диплом интернатуры государственного учреждения здравоохранения
“Больницы Парижа”
От имени веет XVI округом, фамилия в духе Золя, отдает задворками. Входить без звонка. Манель передернуло: как опухоль в мозг. Секретарша с безукоризненно ровной челкой взяла у Самюэля историю болезни и карточку медицинского страхования и попросила подождать в приемной. В комнате одуряющее пахло свежей краской. Они уселись в кресла искусственной кожи с хромированными подлокотниками. Все здесь было новенькое, с иголочки, кроме груды потрепанных журналов, валявшихся на низком столике. Мятые, замусоленные страницы измочалены нетерпеливыми пальцами больных, снедаемых тоской и тревогой. В углу ждала какая-то женщина, с головой погрузившись в вязание. Спицы в ее руках энергично скрещивались и расходились, словно шпаги фехтовальщиков. Манель потрепала Самюэля по руке и ободряюще улыбнулась ему. Дверь открылась. Вышли двое мужчин: один высокий и худой, другой маленький, полный, болезненно-бледный.
– Мадам Майяр, возвращаю вашего супруга, он ваш, – провозгласил высокий, пожимая руку человечку с восковым лицом.
Доктор Франсуа-Ксавье Жервез на долгих пять минут скрылся в кабинете, потом появился снова и со словами “наша очередь” пригласил Самюэля и девушку в свою пещеру колдуна. С виду настоящий спец, подумала Манель. Высокий, блестящий, словно глянцевый лоб с залысинами, ухоженные руки, гладко выбритый подбородок, ослепительно-белый ряд зубов – просто воплощение гигиены и дотошности. На письменном столе стоял открытый, как орех, череп, демонстрируя беловатые извилины двух пластмассовых полушарий.
– Ну, на что жалуемся? – вопросил ученый муж с деланной жизнерадостностью.
А то ты не знаешь, на что мы жалуемся, подумала Манель, заметив на стене снимки мозга Самюэля, прилепленные скотчем к светящемуся экрану. Наткнувшись на молчание старика и неодобрительный взгляд девушки, врач смешался, закашлялся, протер стекла очков салфеточкой, на несколько секунд ушел в созерцание истории болезни и начал свое вступительное слово заново:
– Да, ну вот, судя по тому, что показывает картография вашего мозга, месье Дински, мы, скорее всего, имеем дело с наличием довольно значительного опухолевидного образования.
Манель читала в нем, как в раскрытой книге. Было вполне очевидно, что Самюэль Дински и его опухолевидное образование специалисту чертовски неприятны.
– Скорее всего или точно? – спросил старик.
– Буду с вами откровенен, месье Дински: у вас внутричерепное новообразование прогрессирующего характера, которое принято называть глиобластомой мультиформного типа.
Последние слова врач произнес скороговоркой, словно сплюнул мешающий сгусток. Имя убийцы – мультиформная глиобластома. От одного названия так и разит метастазами, подумала Манель.
– Это операбельно? – спросила девушка.
Светило науки скукожилось в кресле. Эта парочка своими неуместными вопросами угробила ему весь план диалога. Скачут с пятого на десятое, пропускают протокольные пункты. Конечно нет, не операбельна эта гадость, но о таких вещах положено извещать по порядку, приговор надо сперва хорошенько упаковать в готовые формулы, смазать моральный дух пациента толстым слоем анестезии, а потом уже объяснять, что ему конец, полный и бесповоротный конец. Врач все-таки еще раз попытался направить беседу в русло привычной процедуры, предусмотренной для сообщения диагноза будущему покойнику.
– Разумеется, нельзя отрицать серьезность патологического процесса, протекающего у месье Дински, к тому же нужны дополнительные исследования, однако всегда остается…
– Доктор, это операбельно? – повторила Манель, сжимая руку Самюэля.
– На самом деле нет, – выдохнул измученный врач. – Во-первых, глиобластома уже изрядного размера, а во-вторых, надо учитывать, что данный тип опухоли имеет свойство проникать в соседние отделы мозга; это его инвазивное свойство, уничтожающее четкую границу между опухолевой тканью и здоровыми тканями, к сожалению, делает невозможной экстракцию новообразования.
– И что теперь, доктор? – заволновался Самюэль, не отпуская руку девушки.
Франсуа-Ксавье Жервез взял ручку и легонько постучал по пластмассовому мозгу, угнездившемуся в искусственном черепе.
– Если бы опухоль развилась вот тут, в передней части лобной доли, уже проявились бы расстройства психики. Если бы в задней части, у вас случались бы конвульсивные припадки эпилептического типа. В нашем случае, с учетом локализации, уже сейчас можно сказать, что последствия должны по идее ограничиться изменениями на уровне чувств – вкуса, обоняния и зрения. И разумеется, усиливающимися головными болями, вызванными ростом внутричерепного давления, но их мы, скорее всего, сможем купировать с помощью паллиативной терапии.
Франуса-Ксавье Жервез выпрямился в кресле: какое счастье, сумел-таки ввернуть “в нашем случае”, главную эмпатическую формулу, укрепляющую связку врач-болезнь-пациент. Манель стоило огромного труда прогнать из головы отвратительную картину – огромный голодный клещ присосался к мозгу Самюэля и жиреет за его счет.
– Сколько, доктор? – сгорбившись, спросил старик.
Врач на радостях, что так дешево отделался, звонко объявил сумму:
– Восемьдесят пять евро, пожалуйста. Спасибо.
– Да нет, доктор, времени сколько осталось, – оскорбленно уточнила Манель.
Кадык врача заходил вверх-вниз, как йо-йо. Самый страшный вопрос. Медицина – точная наука, все можно посчитать. Дебит, кредит, итого. Итог жизни.
– Учитывая размеры опухоли и скорость ее роста, я бы сказал, максимум год.
– Простите за назойливость, но меня прежде всего интересует минимум, – не отступал Самюэль.
– В худшем случае – три месяца, – с трудом вытолкнул из себя врач.
Девяносто дней, вот сколько нужно паразиту, чтобы убить хозяина? Всего-то одно время года. Или время, за какое эмбрион превращается в плод. Или краткосрочная виза. С запасом хватит, чтобы облететь вокруг света с Жюлем Верном. Они расплатились и молча ушли, уцепившись друг за друга. Глядя на них, трудно было понять, кто кого поддерживает – девушка старика или наоборот. Выходя из кабинета с его запахом свежей краски и прохладой кондиционера, Самюэль невольно взглянул на часы, висевшие на стене за спиной у секретарши, и на миг ему показалось, что секундная стрелка движется гораздо быстрее, чем когда они пришли. А потом их поглотила уличная жизнь, жаркая и шумная.
19
– Ты не забыла, что у меня вечером живые? – крикнул Амбруаз из ванной.
– Не забыла, даже испекла тебе фар с черносливом. Еще теплый, – отозвалась Бет.
– Ты у меня настоящая бабушка, – поддразнил ее молодой человек, залезая под душ.
Возвращаясь из мира мертвых, он больше всего на свете ценил это очистительное омовение. Денек выдался изнурительный. Шесть покойников, причем одного пришлось приводить в порядок на дому после самоубийства из огнестрельного оружия. Частичное восстановление челюстно-лицевого сустава, добрых полчаса лепил из воска, пока добился приемлемого результата. Амбруаз подставил натруженную спину под обжигающую струю и закрыл глаза. Ему редко вспоминались картины рабочего дня, хотя некоторые, конечно, невольно откладывались в мозгу. Он знал, что все эти ужасы запрятаны где-то в уголке головы и готовы выскочить из сундука с кошмарами, если подвернется подходящее воспоминание. В первое время он пытался от них избавиться, но теперь знал, что это дело безнадежное. И он сжился с ними, прекрасно сознавая их присутствие – как здоровый человек может быть переносчиком болезнетворного вируса. Он намылился, долго стоял под струями воды, потом сполоснул свою черную гриву и оделся. Джинсы, футболка, толстовка с капюшоном и кроссовки. Удобная, красочная одежда, не то что черно-белый костюм мертвецкого доктора.
– А ты не забудь про лилин перед уходом, – напомнила Бет, когда он вышел из ванной, и протянула ему железную коробочку.
– Да, госпожа. Как говорится, во вторник левая нога…
– И вся недолга, – улыбаясь, докончила она.
Амбруаз уже успел открыть металлическую крышку. Точными жестами наполнил шприц, постучал по нему указательным пальцем, протер смоченной в спирте ваткой левое бедро бабушки и всадил иглу. Последние двадцать с лишним лет Элизабет Ларнье страдала диабетом, ей требовалась ежедневная доза инсулина. В детстве Амбруаз, если выпадал случай, с удовольствием ассистировал Бет, когда она делала себе укол. Мальчуган выполнял распоряжения бабушки, как санитар в операционном блоке. Она учила его обращаться с одноразовыми шприцами, протирать кожу в месте укола, протыкать резиновую пробку пузырька, чтобы набрать бесцветную жидкость, а потом легонько нажимать на поршень, чтобы в шприце не осталось воздуха. И каждый раз напевала считалочку про лилин-инсулин. Чтобы не забыть, куда делать укол, раскрыла она ему на ушко секрет. Он выучил слова считалки наизусть и вечером, лежа в кровати, повторял про себя, словно молитву, в те минуты, когда Бет, морщась, вводила себе лекарство:
В понедельник ручке правой – браво! Во вторник левая нога – и вся недолга. В среду правой попе быть в сиропе. В четверг ручка левая будет королевою. Правой ножке в пятницу тоже не спрятаться. Попа левая в субботу идет на работу, В воскресенье отдохнет, за нее пойдет живот.Именно в воскресный вечер бабушка однажды доверила ему произвести всю операцию от начала до конца. В двенадцать лет он, собравшись с духом, недрогнувшей рукой вонзил шприц в брюшную полость Бет и с удивлением почувствовал, как легко входит игла в нежную плоть. “Совсем не больно, у тебя получается гораздо лучше, чем у меня”, – похвалила она его, потрепав по голове, и попросила самому выбросить шприц в пластиковую коробочку. “Не забывай об этом, Амбруаз, никогда не забывай, – твердила она, – валяющаяся иголка всегда найдет себе палец”. Когда спустя десять лет он переехал к ней жить, она, разумеется, возложила эту ежедневную обязанность на него. И Амбруаз все с той же нежностью, хоть и давно заученными жестами, каждый вечер вкалывал ей дозу инсулина.
– Ты моя любимая марафетчица, – пошутил он, опуская юбку Бет.
– Хоть бы ты какую в дом привел, – вздохнула она, пока внук убирал коробочку.
– Наркоманку? – спросил он, хоть и прекрасно понимал, на что намекает Бет.
– Не наркоманку, дуралей, кого-нибудь из твоих живых, как ты их называешь.
– Я тебе в последний раз привел, а она влюбилась в твой куинь-аман, и если бы мы не расстались, разжирела бы вконец, – возразил Амбруаз. – Я ее бросил для ее же блага. Не жди меня, ложись спать, – добавил он, – вернусь не раньше двух-трех ночи. Мне завтра не на работу. И потом, мне полезно побыть среди молодежи, страсть как надоело жить со старухой.
Он на бегу чмокнул Бет в лоб, а она, состроив самую милую гримаску, вручила ему блюдо с фаром.
20
До приходского зала, где играла труппа, ехать было полчаса. Поставив машину на соседней парковке, Амбруаз вытащил из-за пассажирского сиденья сумку. Косметика, которую он использовал для живых, ничем не отличалась от той, какой он гримировал всегдашних своих пациентов, но он все равно сразу закупил второй набор и специально обзавелся большой и пестрой тканой косметичкой, максимально не похожей на мрачный кожаный чемоданчик. И если в ней вдруг кончались румяна, гель или рисовая пудра, ему даже в голову не приходило позаимствовать недостающий продукт из набора для мертвецов. От этого правила он не отступал ни под каким видом. Не смешивать два мира, между которыми он все время болтался, и не важно, что, по его личному мнению, одного без другого не бывает. Он подошел к Жану-Луи, режиссеру, – тот курил на парковке в компании двоих актеров, Ксавье и Сандрины.
– И в чем прикол? – поинтересовался Амбруаз, расцеловавшись с троицей.
– В роскоши, монсеньор, – отвечал режиссер. – В сортирах размером с Версаль, где ты будешь пудрить и мазюкать всю эту публику на просторе. Тебе даже зеркало на стене положено. Актеры считают, что подмостки тесноваты, но ты же знаешь актеров, вечно всем недовольны, – пошутил он, хлопнув по спине Ксавье.
Труппа никогда толком не знала, на какой сцене будет играть. В приходском зале, как сегодня, или в физкультурном, или в медиатеке, или на школьном дворе; иногда даже в настоящем театре. Всякий раз приходилось приноравливаться к новому месту и по возможности приноравливать его к себе. Прямо как при вызове на дом, подумал Амбруаз. То покойник лежит в крошечной комнатушке прямо на полу, то на снятой с петель двери, которую положили на козлы в гараже, то родня категорически не желает уйти из комнаты на время процедуры, то близкие молчат не хуже самого покойника, то их не заткнешь, не говоря уж про состояние самого тела, вечно начиненного сюрпризами; в танатопрактике не соскучишься. Молодой человек вошел в зал, где суетились актеры и рабочие сцены; пожимал руки, целовался, обнимался, наслаждаясь чувством, что он снова среди живых, а все живые – члены одной большой и прекрасной семьи, стекающиеся из самых разных мест. Жан-Луи работал дантистом, Ксавье – учителем, Мирей – секретаршей, Сандрина пахала в гипермаркете, Ив был вольным художником, Луиза учила плаванию. Из полутора десятков таких вот одержимых и состояла труппа. Амбруаз обнаружил ее случайно, два года назад. У кассы в парикмахерской было прилеплено маленькое объявление:
Любительская труппа “Балаган Лафонтена”
ищет гримершу на общественных началах на сезон 2013 года и далее, если сработаемся.
Серьезным не беспокоиться.
По части пола он объявлению не соответствовал, но решил попытать счастья – из-за приписки “Серьезным не беспокоиться”. Его приняли сразу. Особенно девушки, в полном восторге отдававшие свое лицо во власть юного Аполлона-обаяшки, который орудовал кистями, тенями для век, тушью и губной помадой как настоящий профессионал.
– Ларнье? Ты что, родня нобелевскому лауреату? – в первый же вечер спросили у него.
– Дальняя, очень дальняя, – уклончиво ответил он.
И почти сразу прозвучал вопрос, которого он боялся больше всего:
– А по жизни чем занимаешься?
Если лгать не приходилось, он нередко прибегал к формуле мэтра Танато: “По жизни я спец по смерти”. Либо, если находило шутливое настроение, сглатывал второй слог в слове “реставратор”, отчего тут же возникало недоразумение. В городе? Да, и в городе, и во всей округе. А ресторан какой? С чего вы взяли, что у меня ресторан? Но ты же сказал “ресторатор”. Еда на дом, да? Пицца-суши? Иногда выезжаю на дом, но к кухне это не имеет никакого отношения. Диалог мог продолжаться бесконечно. А, реставратор! Картины реставрируешь? Нет, но уже теплее, подсказывал Амбруаз. Мебель? Нет. Здания? Мимо. Вдоволь наигравшись в угадайку, он наконец ронял два слова, после которых поток вопросов, вместо того, чтобы иссякнуть, превращался в Ниагару: реставрирую тела. Но артистам он сказать правду не мог – откровенность означала для него неминуемое изгнание. В конце концов, когда люди отдают свое лицо в ваши руки, они вряд ли спокойно отнесутся к тому, что через эти руки проходит за день вереница трупов.
– Работаю в конторе по сбору медицинских отходов в больницах, клиниках и лабораториях. Собираем МЭО, медицинские эпидемиологически опасные отходы. Не бог весть что, но жить-то на что-то надо, – добавил он.
Сборщик медицинских отходов. Они проглотили его ложь без проблем. Амбруазу даже не пришлось показывать сложенные в фургоне ярко-желтые баки с надписью МЭО, куда он пихал контейнеры с дневными отходами. До спектакля оставалось меньше часа, и в труппе царил веселый ажиотаж. Пока рабочие сцены заканчивали устанавливать разборные щиты с декорациями, Амбруаз отправился осматривать туалеты. Жан-Луи не соврал. Просторные, с необъятным зеркалом над раковинами. Он открыл косметичку, разложил щетки, кисти и карандаши. Первой на грим явилась Луиза, уже в костюме. Новый спектакль труппа играла по всей округе последние три месяца, и механизм уже был отлажен. Скоро-скоро Амбруаз проскользнет в задние ряды и станет вместе с публикой наслаждаться представлением. А потом, когда декорации будут погружены в два пикапа, а прожекторы уложены в ящики, пойдет вместе со всеми на разбор полетов – за принесенными в складчину салатами, колбасами, сырами и пирогами, среди шуток, колкостей и взрывов смеха. Но самым острым ощущением для Амбруаза оставался все же момент, когда актеры один за другим подставляли ему лицо, а он их гримировал. Красить вечером живых, когда целый день размалевывал мертвых: для молодого человека это стало лучшим способом не забывать, что жизнь – не только галерея покойников и заплаканных родных. Ощущая под руками сочную плоть, касаясь мягкой, теплой кожи, чувствуя подушечками пальцев подрагивающие веки, массируя за болтовней подвижные физиономии, он буквально воскресал. Эта бьющая ключом жизнь была так далека от немых угасших тел. Как нарочно, днем через его руки прошло шесть трупов, а сейчас, вечером, шестеро живых ждали, пока он их загримирует. Полная симметрия.
– Я сейчас умру, – простонала Луиза, рухнув на стул. – Не знаю, что сегодня нашло на малышню в бассейне, но они меня доконали. Полюбуйся, я при последнем издыхании.
– Нет, красавица моя, – возразил Амбруаз, собирая волосы актрисы в условный пучок, чтобы не мешали красить, и с улыбкой успокоил ее: – Твоя физиономия с лицом покойницы не имеет ничего общего, можешь мне поверить.
21
– Вы не могли бы ко мне заглянуть, мой милый Амбруаз?
Амбруаз улыбнулся. Вопросы Бурдена, как правило, сильно смахивали на приказы, в данном случае – на приказ немедленно заехать в офис. А уж если Ролан Бурден отвешивал “моего милого Амбруаза”, тут можно было ждать чего угодно. В худшем случае худшего, как сказала бы Бет.
Перед тем как отправиться на вызов в другой конец департамента, он завернул в головную контору. Припарковался на заднем дворе и прошел через обширный ангар, где хранились расходные материалы и стояли автомобили фирмы. Из ангара путь лежал через шоу-рум. Атмосфера здесь располагала к благоговейной отрешенности. Справа от главного входа тихо журчал прозрачный фонтанчик, вплетая свое неумолчное бульканье в звуки музыки: репродукторы были скрыты за роскошным искусственным плющом. Левая стена от пола до потолка покрыта целой армией распятий. Рядом со стойкой развешаны на стенде латунные надписи, последние посмертные приветы: “Дорогому супругу”, “Дорогому дяде”, “Дорогой бабушке”, “Дорогому дедушке”, “Любимому крестнику”. По обе стороны центрального прохода расстилался ковер искусственных венков. Амбруаз обогнул гробы, выставленные рядком во втором зале, и поднялся по лестнице на второй этаж, в контору. Тут было царство бумаг, счетов, фактур и смет – мир, отстоящий от нижнего приглушенного, упорядоченного космоса на несколько световых лет. Тут пахло горячим кофе и въевшимся в стены табаком. Всюду забитые папками стеллажи. Ролан Бурден оторвал взор от компьютерного монитора и встал ему навстречу. Его дочь Франсина коротко кивнула в знак приветствия, продолжая молотить по клавиатуре. Со временем она превратилась в того самого сына, которого недоставало Бурдену: широкоплечая, с короткой стрижкой, вечно в рубашке и брюках. Та, кого в ритуальной среде называли не иначе как Франсисом, неустанно культивировала в себе мужское начало, доводя до совершенства присвоенный гендер, столь желанный ее родителю. Бурден пригласил Амбруаза присесть.
– Кофе? Франсина, дорогуша, два кофе, пожалуйста. Я вас вызвал, Ларнье, потому что поручить эту работенку мне больше некому. О, не волнуйтесь, ничего особо сложного. Просто обработать тело и доставить сюда из Швейцарии. Восемьдесят два года, меньше шестидесяти кило весу. Двое суток на дорогу туда-обратно, три дня на месте. Не спрашивайте, почему три дня, клиент всегда прав, особенно если хорошо платит. У покойного из родни остался только брат-близнец. Он с нами и связался. Поедет с вами, и туда и обратно. На кону кругленькая сумма фирме плюс, соответственно, премия вам, мой милый Амбруаз. Вы же сто лет не были в отпуске. Относитесь к этому как к каникулам, Ларнье. Притом за казенный счет. Четырехзвездочный отель на набережной Женевского озера. А побережье в это время года – это, наверное, нечто. Честно скажу, если бы я мог оставить капитанский мостик, сам бы соблазнился. Излишне говорить, что клиента мы обслуживаем под ключ и все должно быть безупречно. Выезжать в понедельник.
Амбруаз подумал, что патрон – гений краткости.
Ролан Бурден подался к нему, и на его топорной физиономии разверзлась широчайшая улыбка.
– Возьмете “вито”, – величественно бросил он.
“Мерседес-вито” – последний аргумент. Гордость Ролана Бурдена. Самая роскошная перевозка в автомобильном парке фирмы, с холодильным отделением для покойников и четырьмя настоящими сиденьями для живых.
– И еще одно. Завтра после полудня встретитесь с братом покойного. Он хочет обговорить с вами все детали поездки и должен выдать аванс. Это займет у вас не больше получаса. Франсина даст вам адрес и договор для подписания.
Снова пускаясь в путь, Амбруаз осознал, что за все время, проведенное в конторе, он не произнес ни единого слова. Под вечным натиском Бурдена молчание сходило за знак согласия. Он вспомнил про Бет, про ее ежедневный укол инсулина. Придется на целых пять дней оставить бабушку одну. Она, конечно, пока в абсолютно здравом уме и твердой памяти, но все чаще путает дни, а когда смеркается, не всегда понимает, утро на дворе или вечер. Если она пропустит укол, последствия могут быть трагическими. В “вито” четыре места, больше чем надо. Решение он принял, не успев даже выехать за черту города. Он возьмет Бет с собой. Бурден и не узнает. Она часто говорила, что мечтает увидеть женевский фонтан Же-До. Скоро ее мечта осуществится. Что до театра, то ближайший спектакль только через три недели. А насчет котяры он уже кое-что надумал.
22
Ароматы ворвались в ноздри Манель прямо с порога. Целый букет запахов, доносившихся с кухни, – тонкая смесь розмарина, лаврового листа, лука и жаркого. В последний четверг месяца Самюэль всегда обедал вместе с помощницей. Он считал делом чести самому приготовить обед и продумывал меню заранее, за несколько часов, а то и за несколько дней. На рассвете в четверг старик доставал необходимую утварь, вынимал из холодильника ингредиенты, расставлял все на рабочей поверхности и начинал колдовать над кастрюлями, стряпая намеченные блюда. Манель не удержалась от искушения и, проскользнув на кухню, приподняла чугунную крышку гусятницы. Ей открылась золотистая корочка жаркого, томившегося на медленном огне на ложе из картофеля, моркови и лука. Заглядывать в холодильник не было смысла. Девушка и так знала, что там стоит “Шварцвальд”: вишневый торт с домашними взбитыми сливками неизменно завершал их ежемесячную встречу. Десерт, на который Самюэль потратил почти весь вечер среды и, в этом девушка была уверена, почти весь остаток сил, и без того невеликий. Болезнь прогрессировала быстро, слишком уж быстро, на взгляд Манель. С каждым днем паразит жирел, питаясь беззащитным телом старика, и отвоевывал все больше места. Постепенно опухоль высосет его изнутри, и останется только жалкий бесплотный скелет. Со дня визита к неврологу прошло около месяца, и он еще похудел. Ел все меньше и меньше, а когда головные боли становились совсем невыносимыми, его рвало тем немногим, что удалось проглотить. Глаза над заострившимися скулами ввалились и отчасти утратили блеск, еще недавно озарявший его лицо. В понедельник помощница застала старика в гостиной, он так и застыл неподвижно, с отсутствующим взглядом, оглушенный, на том месте, где боль соизволила на время оставить его в покое, – потерянный в затишье человечек словно завис в ожидании, когда вернется ненасытная госпожа, с которой он отныне делил свои дни. Если так пойдет и дальше, прогноз доктора Жервеза насчет трех месяцев жизни окажется более чем оптимистичным, подумала девушка.
– Как себя чувствует мое утреннее солнышко? – спросил старик, когда Манель расцеловала его во впалые морщинистые щеки. Несмотря на изнурительную болезнь, он всегда беспокоился о ее самочувствии. Пусть даже его веселый тон теперь все чаще звучал наигранно, сердечное отношение к ней оставалось искренним: его в самом деле интересовало все, что с ней происходит. Высыпается ли она, успевает ли поесть, остается ли у нее время куда-нибудь ходить, развлекаться, видится ли она с кем-нибудь, кроме доживающих последние дни стариков? Она успокаивала его, отделывалась чем-нибудь вроде “да-да, все в порядке”, а чаще всего отвечала вопросом на вопрос. И никогда не рассказывала об одиночестве, заполненном пустыми телепередачами, о книжках, которые жадно глотала, чтобы насытиться чужими словами, о бессонных ночах, когда мечтала уехать как можно дальше. Под вечер, после рабочего дня, когда она носилась из дома в дом, чистила, убирала, гладила, мыла посуду, готовила еду, ей хотелось только одного – прийти поскорее домой и рухнуть на диван. От одной мысли, что надо еще куда-то идти, ее покидали последние силы. Со временем ей стало казаться, что чем дальше, тем труднее будет вырваться из той жизни, в которой она замыкалась. Она вступила в одиночество словно в монашеский орден. Это тебе в наказание, старушка, твердила она себе. Будешь всю жизнь искупать преступление. Иногда среди ночи ее выталкивал из сна крошечный кричащий, окровавленный комок. Как если бы эмбрион, зародившийся несколько лет назад в совсем юном животе и отправленный на вакуумную смерть врачом-гинекологом, по-прежнему рос в ней. Она была тогда семнадцатилетней девочкой и чувствовала себя совершенно неспособной родить ребенка; решение сделать аборт казалось очевидным и единственно возможным. ИПБ. Три невинные на вид буквы, таившие в себе выход. Искусственное прерывание беременности. Речь тогда шла именно об этом – прервать рост какого-то скопления безобидных клеток, нежелательного, как злокачественная опухоль, плода мимолетного ослепления, не оставившего по себе ни лица, ни тем более имени. Она слишком поздно обнаружила, что выбрать потерю бывает иногда куда как хуже, чем сыграть в лотерею рождения. Манель так до конца и не оплакала эти вырванные из нее несколько граммов жизни.
Как всегда в последний четверг месяца, Самюэль не стал ждать, пока девушка управится с хозяйством, и пригласил ее за стол. Они ели с той странной неловкостью в глазах, какую исподволь поселила в их отношениях незваная захватчица – болезнь. Тишина, просачиваясь между шорохами жующих челюстей, оседала такими тяжелыми пластами, что ее не заглушало даже стаккато ливня, бешено колотившегося в кухонное окно. Невыносимая тишина. И пока она не затопила все окончательно, Манель нарушила ее:
– Знаете, совсем не обязательно каждый раз делать “Шварцвальд”. С ним же в самом деле слишком много возни…
“Для человека в вашем состоянии”, чуть было не добавила она. Невысказанная фраза была тем не менее настолько очевидной, что на какой-то миг выросла между ними и вольготно раскинулась во вновь наступившей тишине. На сей раз молчание прервал Самюэль.
– Вы меня никогда про это не спрашивали, – произнес старик, кивнув на стоящий посреди стола сливочный шедевр. – Я вас все время кормлю только им, но вы ни разу не спросили, почему именно “Шварцвальд”, а не что-нибудь другое. А еще вам всегда хватало такта не заговаривать со мной вот об этом, – Самюэль постучал указательным пальцем по цепочке фиолетовых цифр, растянувшейся на внутренней стороне руки. – Одно с другим связано. Я имею в виду торт и лагерный номер. Мне было двенадцать. И мама приготовила “Шварцвальд”, такой “Шварцвальд”, какой умела делать она одна. Я едва успел его надкусить, как вошли люди в кожаных плащах. Последнее, что сохранилось в моей памяти от мира до кошмара, – этот самый торт, коричневый бисквит со слоем взбитых сливок и засахаренных вишен. Он стоит на столе, а вокруг – грохот сапог, отрывистый лай приказов и крики.
И тогда Самюэль впервые в жизни стал рассказывать про Собибор. Словно прорвало шлюзы огромной плотины. Про то, как выживал маленький запуганный зверек, в которого он за несколько недель превратился в лагере. Про унизительный труд, голод, болезни, вшей, побои, про смерть, что поджидает повсюду, бродит вокруг, бьет вслепую. И пока он говорил, девушка видела, как в его глазах снова рождается страх.
– И понимаете, Манель, единственное, что позволяло мне держаться в этом аду, – вот этот самый торт, вкус первого кусочка, отпечатавшийся на языке; я хранил его как талисман. Только благодаря ему я выжил. На ледяных нарах, подыхая от холода и голода, я думал об этом торте. Представлял себе, как он тает во рту, как нежно похрустывает засахаренная вишня, ощущал легкость бисквита. Верил, что он ждет меня, свежий и нежный, как в первый день, и что, проглотив его, я вернусь в прежнюю жизнь. Именно там, среди ужаса и скверны, я поклялся себе, что, если выйду, стану кондитером. Сорок с лишним лет я готовил в своей кондитерской шварцвальдские торты и прочую выпечку для клиентов с той наивной, нелепой мыслью, что если человек ест пирожные, то в глубине души он неплох. Вернувшись из лагеря, я убедил себя, что смерть больше не будет играть со мной, что она от меня устала, и когда настанет час, она просто погасит меня, словно задует свечку. Я не собираюсь доставлять ей удовольствие и позволять снова танцевать вокруг меня, как она месяцами кружила вокруг мальчишки из сорок восьмого барака в лагере Собибор.
С этими словами Самюэль потянулся за конвертом, лежавшим на буфете, вынул из него папку и положил перед Манель. Девушка невольно вздрогнула, увидев в правом верхнем углу темные буквы. “Избавление”. Ей доводилось слышать об этой швейцарской ассоциации, которая оказывала помощь в эвтаназии. О людях, которые продают смертельный коктейль тем неизлечимым больным, что устали барахтаться в океане страданий и хотят его покинуть. Она пробежала глазами буклет в пастельных тонах, нахваливающий заслуги ассоциации. Целая коллекция улыбающихся стариков, лежащих в залитых солнцем комнатах. Реклама турагентства “Билет на тот свет”, с отвращением решила Манель. Дрожащими руками она взяла договор, занимавший добрый десяток страниц. Примерно такой же она подписывала для аборта. Тут тоже все было тщательно распланировано. Дата и время обязательного медицинского освидетельствования у врача, которому поручен контроль за состоянием здоровья претендента на вечный покой, точный адрес помещения, где будут проводиться процедуры, подробный состав смертельного зелья, имя и фото сопровождающего. К договору была приложена копия истории болезни. На каждой странице внизу закорючка – подпись Самюэля. Брачный контракт с Безносой, подумала Манель и закрыла папку.
– Все, о чем я прошу, – это задуть свечу, – пояснил старик. – Понимаете, они очень здорово это делают. Скоро придет похоронный агент, я с ним связался насчет поездки. Все уже улажено. Это в Морже, на берегу Женевского озера. Предбанник рая, – грустно пошутил Самюэль. – Выезжаем в следующий понедельник. Дело всего на несколько дней. Родных у меня нет, у меня никого нет, кроме вас, и я бы очень хотел, чтобы вы были рядом. Не сочтите мою просьбу прихотью полоумного старика. Я прекрасно знаю, что то, о чем я прошу, далеко выходит за рамки ваших обязанностей, и если вы откажетесь, я пойму, но вы единственный в мире человек, к которому я могу обратиться.
Манель встала. Зародыш заходился от плача в ее животе.
– Я уже однажды помогла смерти, не просите меня стать ее соучастницей снова. Моя работа – помогать жить, а не умирать, – крикнула она, ничего не видя от слез.
И выбежала вон из дома.
23
Красивая, мелькнуло в голове у Амбруаза, когда он увидел девушку, открывшую дверь. И в ту же секунду она превратилась в фурию.
– Знаю-знаю, зачем вы пришли. Гордитесь, наверно, тем, что делаете? Так вот, это гнусно, слышите? Гнусно! Соучастие в убийстве, вот как это называется. Соучастие в убийстве, ни больше ни меньше. Хотелось бы знать, как вы еще можете смотреть на себя в зеркало по утрам. Вам должно быть стыдно за себя, стыдно!
Девушка буквально плюнула ему в лицо последние слова и, толкнув его плечом, кинулась прочь со слезами на глазах. За ней вился шлейф ванильных запахов. Каблуки простучали по зеркальным от проливного дождя плиткам аллеи, она подбежала к своей машине. Старенький “фольксваген-поло” завелся со второго раза, чихнул, окутался облаком серого дыма и наконец заурчал. Потом пулей отлетел от тротуара, взвизгнули покрышки. Амбруаз, опомнившись, не сразу осознал, что ему не приснилось мимолетное, но чудное виденье. Пришлось внушать себе, что черные как смоль вьющиеся волосы, испепеливший его великолепный тяжелый взгляд, небольшая грудь, вздымавшаяся под бледно-зеленой блузкой в такт словам, голос, наверняка нежный, он не сомневался, когда не искажен гневом, и изящно очерченный рот, из которого вылетела тирада, реально существуют. Красивая. Прилагательное по-прежнему вертелось в голове молодого человека, несмотря на обрушившийся на него взрыв истерического негодования. Он еще никогда не встречал человека, которому бы так подходило это определение. Амбруазу и раньше случалось наблюдать странные реакции на танатопрактику со стороны родственников покойных, порой он сталкивался с недоверием, смущением, непониманием, но такой лютой злобы по отношению к себе еще не встречал.
Мужской голос, приглашавший войти, вывел его из задумчивости. Навстречу ему по коридору медленно двигался маленький и худенький старичок. От силы пятьдесят пять кило при росте чуть больше метра шестидесяти, прикинул Амбруаз. Старичок, несмотря на царящую в доме духоту, был укутан в толстый халат и обернул вокруг шеи шерстяной шарф. Глубокие гусиные лапки у глаз придавали бледному лицу приветливый вид. Болен, сразу пришло в голову Амбруазу, когда он пожал протянутую ему сухую горячую руку.
– Вы из похоронного бюро? Извините за прием, это я виноват, – пробормотал старик. – Не сердитесь на Манель, она такая импульсивная.
Манель. Два слога музыкой отозвались в ушах Амбруаза. Интересно, откуда в человеке с таким нежным именем столько неистовства. Старичок провел его в гостиную. Тяжелые гардины поглощали свет из окна, комната была погружена в полутьму.
– Прошу прощения, но от дневного света мне плохо, – извинился он, включая лампу. – Садитесь, месье…?
– Ларнье, Амбруаз Ларнье, – ответил танатопрактик, погружая седалище в мягкие объятия кресла.
– Так вот, полагаю, месье Бурден объяснил вам, почему я обратился в вашу фирму.
– Да. Речь о том, чтобы обработать тело вашего брата-близнеца и доставить его домой, из Швейцарии во Францию, так?
– Совершенно верно. Он говорил, что я поеду с вами, и туда и обратно?
– Конечно. Никаких сложностей, в наших катафалках имеются сидячие места, весьма комфортабельные.
– Прекрасно. Я подготовил для вас чек. Мы с месье Бурденом договаривались об авансе, но мне удобнее оплатить все сразу. Отель тоже забронирован. “Ле Режан”, на четыре ночи.
Амбруаз достал договор, и Самюэль подписал его, не читая. Молодой человек смущенно кашлянул:
– В договоре это не прописано, но с нами поедет волонтерка-распорядительница, ей поручено сопровождать родственников.
Бет встретила весть о том, что ее берут в поездку, с нескрываемым ликованием. Мысль о предстоящем путешествии в Гельвецию исторгла из нее неиссякаемый поток познаний. Фонтан в озере, шоколад, фондю, филе форели, жареный картофель, референдумы, финансы. Амбруазу пришлось слегка охладить ее энтузиазм, напомнив, что изначальная цель поездки – сопровождать тело, а не то, что она думает, – сходить положить цветочки к “Отелю де ля Пэ” в Женеве, где Майк Брант первый раз пытался свести счеты с жизнью. Кроме того, ей придется без подготовки исполнять роль распорядительницы. Зная бабушку, он особо подчеркнул, что ждет от нее сдержанности. Главное, не перестараться. Больше всего ей пристало скромное молчание. И вовсе не обязательно всем сообщать, что ты моя бабушка, это не профессионально. Амбруаз старательно отрепетировал свою ложь, даже несколько раз произнес ее перед зеркалом в ванной. И все равно, когда заговаривал зубы Самюэлю Дински, почувствовал, как щеки и уши заливает краска. Он никогда не умел врать, для него это было настоящей пыткой.
– Не беспокойтесь, она никоим образом не будет вмешиваться в ход процедур, ее задача – только поддерживать родных. Надеюсь, вам это не помешает. Разумеется, все расходы на ее поездку берет на себя фирма Бурдена, – с облечением добавил он, добравшись наконец до конца своей басни.
– Никаких проблем, – возразил старик, – наоборот, я рад столь профессиональному подходу. Я забронирую для нее дополнительный номер за свой счет, да-да, я настаиваю. Вы, наверное, уже пообедали, но позвольте угостить вас кусочком “Шварцвальда”?
Амбруаз, ничего не евший с самого утра, охотно согласился. Старик ему нравился. Несмотря на очевидную слабость, от него исходило странное ощущение покоя. Самюэль вернулся из кухни с огромным куском торта и протянул Амбруазу. Пятнадцать минут спустя тот, сытый и довольный, распрощался со стариком. Хозяин был похож на свой торт – такой же богатый и щедрый.
24
Дворники с трудом разгоняли потоки воды, низвергавшиеся на лобовое стекло. Когда светофор переключился на зеленый, Манель яростно погудела в адрес впереди стоящей машины. Чего застрял, ждешь, когда дождь кончится? С тех пор как девушка, выйдя от Самюэля, столкнулась на лестничной площадке с торговцем смертью, ее гнев не утихал. Старик разбередил рану, выпустил на свободу глубоко запрятанные воспоминания, и они хлынули наружу, как нечистая кровь. Ослепительное солнце, сиявшее в тот день, дерзкая белизна зданий, стеклянные раздвижные двери, бесшумно закрывшиеся у нее за спиной, фонтанчик на стене, из которого с мерзким бульканьем стекала каскадом прозрачная вода. Лифт унес ее в подземелье, подальше от залитых солнцем, уставленных цветами палат второго этажа, где счастливые матери любовались агукающими младенцами с розовыми и голубыми браслетами на ручках. В помещении, куда ее отвели, горели только неоновые лампы. Здесь надолго не задерживались, сюда приходили тайно, как воровки, а уходили отсюда оглушенные, с зияющей пустотой в теле. Несмотря на местную анестезию, она вздрогнула, почувствовав в себе расширитель. Она закрыла глаза, а канюля, подсоединенная к вакуумному отсосу, словно вампир, пожирала плод ее внутренностей, пока там не осталось пустое место, где отныне будут гнездиться угрызения совести. Хирургу понадобилось неполных десять минут, чтобы сделать свою работу, согласно таксе – четыреста тридцать семь евро три цента. Смерть по сходной цене, на сто процентов оплаченная по медицинской страховке. Выходя из больницы, она встретила еще одну девушку. Походка автомата, полный отвращения взгляд – ее собственное отражение. Дождь полил с удвоенной силой, и Манель обещала себе, что раз уж не сумела дать жизнь новому человеку, то сделает все, чтобы попытаться оттолкнуть смерть от старого.
25
Амбруаз спал плохо. Возбуждение Бет оказалось весьма заразительным, и вздремнуть ему удалось только под утро, прямо перед тем, как бабушкины допотопные стенные часы ровно в половине седьмого перебудили весь дом, затрезвонив во все свои колокольчики. Даже холодный душ, под который он заставил себя встать, не вполне вывел его из коматозного состояния. Окончательно разбудил его только багаж Бет: большой палец его левой ноги с размаху налетел на громоздкий железный чемодан, стоящий посреди коридора. Выпустив целый залп проклятий, он дохромал до кухни.
– Это еще что такое? – простонал Амбруаз, изо всех сил растирая пострадавшую ногу.
– Старый походный сундук твоего покойного дедушки.
– А поменьше не нашлось? Мы же не в круиз по Нилу собрались.
– Ничего нет лучше, если надо сложить одежду. По крайней мере, мои платья и пальто в поездках не мнутся. Тяжеловат, не спорю, но в картонке никакой надежности, – заметила Бет. – И вообще, мы, может, и не в круиз по Нилу едем, но в Швейцарии в это время не поймешь, как одеваться. Тепло там? Или холодно? Там все нейтральное, даже времена года.
Довольная собственным определением швейцарского климата, Бет открыла дверцу пышущей жаром духовки и вытащила десятка два маленьких куинь-аманов с золотистой корочкой. И немедленно поставила печься второй противень. По всей квартире разнесся запах горячего масла. Амбруаз нехотя сжевал три пирожка. Кот, греясь на подоконнике в первых лучах солнца, был целиком поглощен умыванием. Накануне молодой человек, собравшись с духом, ходил к Одиль Лакусс. Та чуть не грохнулась в обморок, увидев на пороге любовь своей жизни во плоти. Не входить, только не входить, твердил себе Амбруаз, нажимая кнопку звонка. Добрый вечер, Одиль, вы не могли бы взять кота на несколько дней? Могли бы? Спасибо, до свидания – и все. Но покуда приказ ни в коем случае не ступать на минное поле вертелся у него в голове, Свежесть-плюс-вкус уже схватила его за руку и втянула в свое логово. Чаю? Кофе? Пива? Шампанского? Садитесь, пожалуйста. Не садиться, только не садиться. Кофе, спасибо. С сахаром, без сахара? Нет, без сахара, пробормотал он. Самка богомола, у нее глаза самки богомола, подумал он, садясь на диван в гостиной. Давай говори, говори быстрей, старик, пока она тебя не сожрала.
– Рано осень пришла в этом году, вы не находите? Я видел, на улице Серпентин что-то копают. Канализацию, наверно. Или кабель прокладывают. Они сейчас повсюду оптоволокно тянут.
Несколько минут Амбруаз болтал о какой-то ерунде, прятался за стеной бессвязных слов. Куда там Бет запропастилась? Они же договорились, что если он через десять минут не вернется, она под каким-нибудь предлогом придет его спасать. Звонок ворвался в его логорею как раз в тот момент, когда она начинала иссякать.
– Добрый вечер, Одиль. Амбруаз, можешь подойти, тебе месье Бурден звонит, – без тени смущения соврала бабушка.
Он извинился перед старой девой и откланялся.
– Ну что, договорился про кота? – спросила Бет, пока они поднимались по лестнице.
Амбруаз, чертыхнувшись, хлопнул себя по лбу. Елки зеленые, кот! В панике он совершенно забыл, зачем пришел к Одиль Лакусс. В итоге Бет сама попросила консьержку. Мысль, что за неимением хозяина можно целых пять дней гладить кота Амбруаза Ларнье, так воодушевила влюбленную, что она, даже не дав Бет договорить, с восторгом согласилась.
Дожевав последний пирожок, Амбруаз отправился к раковине мыть инструменты. Потом застегнул чемоданчик, натянул пиджак и отправился в гараж за катафалком.
– Вернусь через полчаса, будь готова. Мы с месье Дински договорились выехать ровно в десять. Не забыть бы перед отъездом оставить Свежести-плюс-вкусу лоток и сухой корм.
– Еще кота хорошо бы не забыть, – ласково поддела его Бет.
26
“Мерседес-вито” ждал Амбруаза на парковке фирмы. Забрав в конторе ключи и переложив все необходимое для танатопрактики из своего автомобильчика в катафалк, он пустился в обратный путь. Ему хватило нескольких минут, чтобы вполне освоиться с новой машиной. Бет поджидала внука у подъезда. Одетая в черное с ног до головы, она бы как две капли воды походила на убитую горем вдову, если бы не корзинка с куинь-аманами в руках. Амбруаз весь взмок, пока убеждал ее убрать с лица вуаль и снять черные перчатки.
– У нас все-таки траур или у нас не траур, интересно знать, – ворчала Бет, убирая сеточку вуали и кружевные перчатки в сумку.
– Мы сопровождаем родственников, мы не родственники, – ласково объяснил Амбруаз, подчеркнув слово “сопровождаем”, и пошел за походным сундуком.
Потом они еще раз поднялись в квартиру за котярой, лотком с наполнителем и сухим кормом. Одиль Лакусс, раскрашенная как автомобиль в угоне, ждала их на лестничной клетке, сверкая всеми маячками.
– Иди скорей к Одиль, мой зайчик, – просюсюкала она, вырывая кота из рук Амбруаза. – Мамочка о тебе позаботится, вот увидишь. Будем жить вдвоем в любви и согласии, – добавила она, тщетно пытаясь поймать подведенными глазами бегающий взгляд молодого человека.
– Я ему испекла фар, – перебила ее Бет. – Вот, кладу вам сюда, на буфет. Только не давайте все сразу, – добавила она, – а то потом неделю отходить будет.
По дороге к Самюэлю Дински Бет не могла скрыть беспокойства:
– Надеюсь, все будет хорошо. Она назвала его зайчиком, слышал?
– Между нами говоря, его это, похоже, не смутило. Ты, случайно, не ревнуешь?
– С чего это я ревную? Не люблю кошек, я же говорила.
– А вдруг она права. Может, он действительно заяц, вон хвост какой короткий. Надо бы попробовать дать ему морковки, когда вернемся.
– О господи, какой же ты балбес. Ладно, а этот месье Дински, он как?
– Выглядит немногим лучше своего покойного брата-близнеца, но чудесный, вот увидишь. А его “Шварцвальд” не хуже твоего куинь-амана.
– А он мне позволит сидеть впереди, как ты думаешь? Меня в машине укачивает.
– Как ты могла заметить, впереди три сиденья. Заднее, рядом с катафалком – для четвертого носильщика на похоронах.
Ворота были открыты. Амбруаз поставил машину во дворе у беседки и попросил Бет подождать внутри. Самюэль Дински, вышедший ему навстречу, был на вид еще слабее, чем тот, с которым он виделся неделю назад. Костюм болтался на старике, как на вешалке, и казался вдвое шире, чем надо. Редкие пряди седых волос тщательно уложены на черепе. Щеку украшал шматок пены для бритья. Амбруаз не осмелился сказать ему об этом. Подхватил его багаж, матерчатый чемодан с кожаной отделкой, и поразился, какой он легкий. Самюэль Дински окинул долгим взглядом гостиную, из которой вышел, потом еще раз обошел все комнаты, проверяя, закрыты ли окна и выключен ли свет. Запер дверь и положил ключ под горшок с геранью, красовавшийся у входа. Спускаясь по ступенькам крыльца, поморщился, ему пришлось ухватиться за руку Амбруаза. От дневного света головная боль резко усилилась. Солнечные лучи раскаленными добела иглами вонзались в сетчатку. Он в последний раз, щурясь, обернулся на дом, в котором провел большую часть жизни. Бет сдвинулась на среднее сиденье, и старик уселся рядом с ней.
– Элизабет, – представилась она, протягивая ему руку, – сопровождающая.
– Очень рад, мадам. Самюэль Дински, к вашим услугам.
– Вы позволите?
Бет вытащила из сумочки платок и стала оттирать щеку соседа.
– С моим покойным мужем вечно было то же самое. Что ни утро, обязательно останется пена для бритья на лице. Если не на щеке, так на мочке уха или на подбородке, а иногда и вовсе прямо на кончике носа.
– Спасибо, мадам.
– Бет, зовите меня Бет, мне так больше нравится.
– Спасибо, Бет.
До Моржа было шесть часов пути, с остановками – все семь. Если все пойдет, как надо, Амбруаз рассчитывал приехать в отель на берегу Женевского озера после обеда. Он порадовался, что решил ехать не с самого утра, а как раз между восьмичасовыми пробками и обеденным перерывом в полдень. Они выбрались из пригорода и свернули на автостраду, ведущую на север.
– Давно вы этим занимаетесь? – спросил Самюэль.
Вопрос был обращен к Бет.
– Чем занимаюсь? – спросила она.
– Волонтерством, сопровождаете родственников.
– Вообще-то, если уж совсем честно, вы у меня первый.
Амбруаз срочно прервал их беседу – включил радио и стал крутить колесико в поисках частоты 107.7.
– А нам обязательно ехать под радио? – слегка раздраженно спросила Бет.
– Мне лучше слушать новости по авторадио. Если впереди пробка или авария, будем знать заранее.
– А своих глаз у тебя нет? Тоже мне, шофер называется.
Амбруаз бросил на бабушку сердитый взгляд, и та обиженно замолчала. Не прошло и десяти минут, как Самюэля вывел из летаргии указатель на Пон-дю-Гар.
– Простите, месье Ларнье, не будет ли с моей стороны нескромно попросить вас сделать небольшой крюк и заехать к мосту? Я его целую вечность не видел.
– Ой, да! – Бет в восторге захлопала в ладоши, как девочка, которую обещали покатать на карусели.
– Ну, вообще-то ехать еще долго, лучше бы нам добраться не затемно.
– Не такой уж большой крюк. И потом, я как волонтер-распорядительница, отвечающая за сопровождение родных, полагаю, что это прекрасная мысль, это немного утешит месье Дински в его горе.
– Самюэля, зовите меня Самюэль.
Похоже, парочка уже успела спеться; рыбак рыбака видит издалека. Два голоса против одного. Амбруаз, еще раз испепелив бабушку взглядом, свернул на съезде номер 23 на Ремулен. У него было малоприятное предчувствие, что его расчеты приехать вовремя летят в тартарары. На автостраду они вернулись только в полдень, после того как Самюэль в последний раз налюбовался древними каменными арками, четко вырисовывавшимися на фоне синего неба.
27
Первый раз Бет и Самюэль дружно попросили сделать санитарную остановку на девяносто шестом километре, в районе развязки Монтелимар – Юг. Амбруазу под напором все более настойчивых просьб пассажиров пришлось жать на газ, чтобы побыстрее добраться до ближайшего съезда с магистрали.
– Гроза будет, я видела молнию, – заметила Бет.
– По-моему, я тоже, – подтвердил Самюэль.
– Но все-таки странно, нигде ни облачка, – заявила старая дама, наклонившись к ветровому стеклу и вглядываясь в небо.
– Может, зарница из-за жары, – предположил сосед.
– На улице от силы двадцать градусов. Прямо скажем, холодновато для зарниц. И потом, они скорее по вечерам бывают.
Амбруаз, сосредоточившись на дороге, не стал объяснять своим старичкам, что замеченная ими вспышка исходила не с неба, а от стационарного радара, увековечившего миг, когда служебный автомобиль фирмы “Ролан Бурден и Сын” развил более чем достойную скорость в сто пятьдесят восемь километров в час. Он свернул на эстакаду, ведущую на площадку для отдыха Монтелимар-Восток, и влетел на первое же свободное парковочное место. С улыбкой проводив взглядом Самюэля и Бет, дружно ковылявших в сторону туалета, он вышел из машины, чтобы размяться. Его внимание привлекла бледно-зеленая машина, затормозившая метрах в ста от въезда на парковку. Эту машину он только что видел у Пон-дю-Гар. Ничего особенного. И все-таки что-то его цепляло. Слишком приметный зеленый цвет. Он был уверен, что когда-то уже видел эту тачку, но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах. Из задумчивости его вывела Бет, вернувшаяся из туалета.
– По-моему, мы его потеряли, – взволнованно объявила она.
– То есть как это потеряли?
– Ну, Самюэля. Я не видела, чтобы он вышел. Ему давно пора быть здесь.
– Стой тут, только не уходи никуда, я посмотрю.
Амбруаз бегом пересек парковку и бросился к мужскому туалету. Учитывая, насколько слаб старик, нельзя исключать, что ему стало плохо. Молодой человек громко позвал его и, наклонившись, стал заглядывать под двери кабинок, готовый в любой момент увидеть лежащее на кафельном полу тело. В конце концов он обнаружил Самюэля у входа в магазин при автостанции: тот застыл перед стендом с солнечными очками.
– Месье Дински, нам пора ехать. Вам нехорошо? – встревожился Амбруаз, заметив, что по впалым морщинистым щекам текут крупные слезы.
– Ничего, все в порядке, пустяки, не волнуйтесь. Просто скверные воспоминания нахлынули.
Казалось, старик не в себе. Амбруазу пришлось его поддерживать, пока они шли к машине.
Встретив испуганный взгляд бабушки, молодой человек успокоил ее.
– Все хорошо, – шепнул он, садясь за руль, и незаметно приложил палец к губам, давая Бет понять, что лучше пока помолчать и дать старику оправиться от волнения.
Он прибавил скорость, пытаясь втиснуться в поток машин, и тут заметил в зеркало заднего вида, что бледно-зеленая тачка повторяет его маневры. Чистое совпадение, твердил он себе, но тревога не отступала. Преследователь с самого начала висел у них на хвосте. Оставался единственный способ вывести его на чистую воду. Амбруаз проделал то, что не раз видел в кино: сбросил скорость со ста тридцати до почти ста десяти, затем резко прибавил газу и снова притормозил. Зеленая машина в зеркале стала больше, потом почти исчезла и снова увеличилась: водитель с грехом пополам старался сохранять дистанцию в сто метров. Их преследуют, никаких сомнений. Кто же чего от них хочет, зачем столько километров тащится за ними, как приклеенный? Лично у него врагов не было, никаких тайн он раскрыть не мог, и бабушка тоже. Может, у Самюэля Дински все иначе? Может, он только притворяется безобидным старичком, а на самом деле ведет двойную жизнь? Они ехали уже больше получаса, и тут Бет опять оторвала его от размышлений.
– Уже половина второго, даже больше. Не знаю, как отнесется к этому Самюэль, но, может, нам остановиться и немного перекусить? – предложила она.
– Вот проедем Валанс и сделаем остановку, – успокоил ее Амбруаз. – Там поблизости есть придорожный ресторан, если месье Дински не против.
– То есть как это придорожный ресторан? Еще чего! – возмутилась Бет. – Вполне сгодится и площадка для пикника. Я корзинку для всех приготовила. В обязанности сопровождающей входит обеспечивать близких всем необходимым, – лукаво напомнила она внуку.
– Но возможно, месье Дински предпочитает удобный ресторан, а не столик для пикника.
– Ничего подобного, наоборот. Я сто лет не ел под открытым небом. И хоть аппетита у меня теперь нет совсем, счастлив буду отдать должное вашей стряпне, Бет, – польстил ей Самюэль.
Опять два голоса против одного. Амбруазу пришлось подчиниться решению большинства. Заметив указатель площадки для отдыха “Фруктовый сад”, он свернул направо.
– Какое чудесное название, прямо для пикника! – возликовала Бет.
На парковке в это время года почти никого не было; несколько столиков и скамеек, разбросанных по усталым от усиленного летнего топтания газонам, стояли пустые. Амбруаз поставил “вито” в тени дерева, выключил мотор и вышел. Поодаль, у въезда на площадку, остановилась, приглушив двигатель, преследовавшая их машина. Молодой человек решил не обращать на нее внимания, втайне надеясь, что когда-нибудь этому типу надоест дурацкая игра в кошки-мышки.
– Ты куда убрала корзину?
– Назад, в багажник.
– То есть как в багажник? В какой багажник? – взвился Амбруаз, ужаснувшись при мысли, какой багажник имела в виду Бет.
– Да в холодильник, у тебя что, другой есть? Такое везение, катаемся в передвижной морозилке, а ты хочешь, чтобы я держала на жаре мои салаты и паштеты?
– Не верю, – рявкнул Амбруаз, кидаясь к задней дверце.
К его величайшему облегчению, холодильная камера для перевозки тел оказалась пуста.
– Вот видите, какой он у меня, как спичка вспыхивает, – ласково поддела его Бет. – Всегда такой был, с самого детства. Простодушный, как ангел. Кстати, его отец, наверно, потому и бесился, что он вечно впросак попадает. Хотя, если честно, я считаю, что это от великодушия. Нет, конечно, дуралей, еда в термосумке под задним сиденьем.
– Вы, похоже, неплохо его знаете? – поинтересовался Самюэль, пока старички топали по газону к столикам.
– Между нами, я его бабушка, но тс-с! На службе он предпочитает чисто рабочие отношения.
Они выбрали столик в самой тени, чтобы Самюэль не так мучился от ослепительных солнечных лучей. Бет расстелила большую клетчатую скатерть и расставила приборы.
– Пикник или не пикник, но мы не дикари какие. Бумажные скатерти, картонные тарелки да пластиковые стаканы – это все улетает при первом ветерке и только портит вам еду и вино. Я приготовила горчичный соус с каперсами, салат из огурцов и кружочки “бычьего сердца” с моцареллой, – перечисляла Бет, выставляя на стол снедь. – Еще есть утиный риет и паштет из куриной печени. Если кто-то предпочитает рыбу, то я приготовила паштет из лосося. Все домашнее. Что касается сыра, я подумала, что мы обойдемся “паве д’Афинуа”, куском савойского тома и ломтем бри. А запивать это все будем “Сен-Жозефом”. “Сен-Жозеф” – неплохое вино, согласитесь!
Амбруаз с Самюэлем при виде подобного изобилия лишились дара речи.
– Вы только посмотрите, какая чудная погода! Право, осень – самое время отправиться повидать свет, – заметила Бет, намазывая ломоть деревенского хлеба щедрым слоем паштета.
– Самое время отправиться на тот свет, – чуть слышно отозвался Самюэль.
28
Самюэль сдержал обещание и отведал все приготовленные Бет блюда. Он даже позволил себе вторую порцию. Бет настаивала, чтобы он хоть смочил губы “Сен-Жозефом”, и в конце концов уговорила его взять протянутый стакан с каплей вина на донышке. Амбруаз ел стоя, чуть поодаль, и краем глаза наблюдал за зеленой машиной. На таком расстоянии разглядеть водителя было невозможно, виднелся только темный силуэт за ветровым стеклом. Когда настал черед сыра, Самюэлю пришлось признать очевидное: он переоценил способности собственного желудка, тот не вмещал столько еды, пусть даже отменной. Стреляющая боль яростно ввинтилась ему в виски, его затошнило, он извинился, встал из-за стола и на дрожащих ногах устремился в туалет. Бет кинулась ему помогать и взяла его под руку.
– Все в порядке, я им займусь, – крикнула она внуку и повела старика к строению, стоящему метрах в тридцати.
Амбруаз кивнул. Внезапно все его внимание переключилось на объект наблюдения. Преследующая их машина тронулась с места, на огромной скорости влетела на парковку и, вопреки ожиданию, затормозила, взвизгнув покрышками, рядом с “мерседесом-вито”. Сердце Амбруаза бешено заколотилось. Повинуясь какому-то первобытному рефлексу, он сжал кулаки, готовясь отбиваться, если понадобится. Мотор дважды чихнул и наконец угомонился. Как ни странно, образ разъяренной заплаканной девушки, которая сперва его изругала, а потом толкнула, всплыл в его голове не при виде “поло” странного цвета, а именно после смешного дымного чиха, изданного остановившейся тачкой. И когда та же девушка вышла из машины и решительным шагом направилась к нему, он подумал, что она еще красивее, чем ему помнилось. Чуть пониже метра семидесяти, килограммов пятьдесят пять, оценил он натренированным глазом. Легкая туника, джинсы, мягкие мокасины – подчеркнуто непринужденная одежда плохо вязалась с напряженной, взвинченной походкой.
– Послушайте, он, конечно, не желает ничего слушать, я его знаю, но вам не кажется, что решить проблему можно иначе, а не так, как вы собираетесь это сделать? – спросила она, сверля Амбруаза взглядом.
– Амбруаз. Амбруаз Ларнье, – представился тот.
Она сделала вид, что не заметила протянутой руки, и продолжала так же сухо:
– Сколько он вам заплатил за это, а, сколько? Забавно, до сих пор я считала, что похоронные бюро занимаются мертвыми, а не живыми, – съязвила она.
– Слушайте, вы напрасно так нервничаете. Мы только исполняем волю месье Дински, точно так же, как любого другого клиента. Не знаю, какой другой способ вы имеете в виду, но мы всегда так действуем, и я не вполне понимаю, в чем проблема.
– Ах, в чем проблема? Я вам скажу, в чем проблема. Проблема в старике, который не в состоянии перенести подобное путешествие, который, возможно, не совсем в своем уме, а подбили его на это люди, для которых важнее всего корысть, корысть и ничто другое.
– Да, согласен, месье Дински, возможно, несколько переоценил свои силы в том, что касается этой поездки, да и наши заодно, но…
– Переоценил свои силы, переоценил свои силы, нет, вы только послушайте! Хоть вы и не врач, должны же вы догадаться, что если люди идут на такие крайности, то они вряд ли пышут здоровьем.
У нее была странная манера дважды повторять одно и то же, но в его глазах это только прибавляло ей обаяния.
– Не хочу вас задеть, хотя, похоже, вас вообще задевает все, что я говорю, но не наше дело судить о прихоти человека, у которого горе. А поскольку в его просьбе не было ничего необычного, мы сочли вполне естественным дать свое согласие, вот и все. Точка.
Амбруаз впервые в жизни держал такую речь. Что это из него полезло, какие-то дурацкие слова ярмарочного зазывалы? Пускай Бурден так разговаривает, ему можно, а он-то что? Но она просто выводила его из себя: орет на него, как на последнего мерзавца.
– Прихоть человека, у которого горе! Меня сейчас стошнит от ваших пошлостей.
– Послушайте, Манель…
– Ах, вы к тому же знаете, как меня зовут. Час от часу не легче. Месье Могильщик знает мое имя.
– Я не могильщик, – слабо возмутился молодой человек.
– Ну конечно, конечно. И как вас изволите называть? Месье главный похоронный распорядитель. Или Харон, вот-вот, как тот перевозчик, что на своей пакостной лодке переправляет души мертвецов через реку Стикс, вам как раз пойдет такое имя. Харон!
В эту минуту Самюэль, по-прежнему цепляясь за руку Бет, вернулся из туалета и рухнул на скамейку. Он был уже не так бледен. Каждый раз после рвоты обруч, стягивавший его голову, немного разжимался. При виде помощницы лицо старика озарилось улыбкой.
– Вы передумали? – спросил он с радостной надеждой в голосе.
– Я по-прежнему думаю, что вы делаете ошибку, но я не могу вас так бросить, – ответила она, взяв его за руки. – Я тогда сбежала, как воровка, и мне стыдно. Так что я поеду с вами, но при одном условии, месье Самюэль-Дински-не-желающий-ничего-слушать: позвольте мне при каждом удобном случае пытаться уговорить вас передумать, – шепнула она ему на ухо.
– Если такова плата за счастье видеть вас рядом, то согласен, но у меня тоже есть одно условие.
С этими словами старик встал и отвел Манель в сторону, чтобы никто не услышал.
– Я бы хотел, чтобы все это как можно дольше оставалось между нами, в секрете. Молодой человек, который там стоит, – между прочим, чудесный молодой человек, – ничего не знает о моих планах. Официальная версия – мы едем в Швейцарию забрать тело моего умершего брата-близнеца. Ни больше ни меньше.
Манель опешила.
– Вы хотите сказать, что этот тип не в курсе ваших намерений и ничего не знает ни об ассоциации “Избавление”, ни о том, зачем мы едем?
– Абсолютно ничего.
– Но зачем было придумывать эту историю про брата-близнеца?
– Зачем? Да попросту затем, что солгать было гораздо проще, чем сказать правду. Много вы знаете похоронных бюро, которые скажут вам: о’кей, не беспокойтесь, мы отвезем вас живым и привезем назад мертвым? Туда – сидя спереди, обратно – лежа сзади? По их правилам, это недопустимо. Я решил, что, когда все свершится, ложь уже не будет иметь значения. Им ничего не останется, как привезти мое тело назад, дабы последний из рода Дински упокоился в семейном склепе. И я заплатил достаточно, чтобы фирма, взявшаяся за дело, чувствовала свою моральную ответственность и довела его до конца.
– Просто не верится, – выдохнула Манель. – Самюэль Дински, вы самый большой врунишка, какого я знаю, – ласково побранила она его, словно ребенка, и укоризненно погрозила ему пальцем.
– Кто это? – спросила Бет внука, убирая остатки обеда и краем глаза оценивающе поглядывая на девушку.
– То ли фея, то ли демон, а может, и то и другое сразу, понятия не имею, – в смятении ответил Амбруаз.
29
Бет принесла из фургона термос с кофе и корзинку с куинь-аманами.
– Обед без десерта все равно что месса без причастия, – изрекла она, водружая на стол засахаренные сласти.
Самюэль подождал, пока она займет свое место, и представил их друг другу:
– Манель, имею честь представить вам Элизабет, она посвящает свое время и мастерство сопровождению родственников…
– Бет, зовите меня Бет.
– И Амбруаза, нашего водителя, но с ним вы уже успели познакомиться, насколько я понимаю.
– Скажем так, – пробормотала Манель, нервно стискивая руки.
Внезапная перемена в поведении девушки сбивала Амбруаза с толку. Вся враждебность, какую она выказывала ему еще несколько минут назад, вдруг испарилась, словно по волшебству, сменившись явной неловкостью.
– Манель помогает мне в житейских делах, – продолжал Самюэль.
– Частная сиделка? – спросила Бет.
– Нет, не совсем. Манель, что называется, социальный работник. Она приходит ко мне на час каждый день и делает то, что возраст не позволяет мне делать самому. Не скрою, на самом деле она занимает в моей жизни куда большее место. Этот час она сумела превратить в праздник. Со временем я стал думать о ней как о внучке, которой у меня никогда не было. Внучке, которая каждый день заходит проведать дедушку, поболтать с ним, иногда вместе пообедать. Теперь я только и живу ожиданием этого часа, когда можно чувствовать ее присутствие, слышать ее голос, наслаждаться ее смехом, делить с ней все гадости и сладости, какие подбрасывает жизнь. Поэтому я, естественно, попросил ее сопровождать меня в том странном погребальном вояже, какой мы сегодня совершаем. Тогда я еще не знал, что мне выпадет счастье иметь такую сопровождающую, как вы, Бет.
Вышеназванная Бет вспыхнула от удовольствия и завозилась на стуле.
– Она сначала рассердилась и отказалась, говорила, что путешествовать в моем состоянии – чистое безумие, но теперь, похоже, поняла, что для меня это дороже всего на свете, и решила наконец к нам присоединиться.
С этими словами старик взял Манель за руку и, несмотря на явное изнеможение, из последних сил улыбнулся ей.
– Хотя я по-прежнему считаю, что эта поездка совершенно неразумна, – заявила девушка, строго глядя на Самюэля.
Старику с его желудочными проблемами было, разумеется, не до куинь-аманов, зато его помощница их не избежала. А поскольку у нее с утра маковой росинки во рту не было, она охотно согласилась и несколько раз запустила руку в корзинку с пирожками, запивая их большими глотками кофе и восторгаясь.
– Замечательно вкусно, – подытожила она.
С этой минуты Манель Фланден, социальный работник, сама того не ведая, перешла на светлую сторону силы, согласно критериям старой дамы, сидевшей напротив и не сводившей с нее глаз.
Когда пришло время ехать дальше, Манель упросила Самюэля пересесть в ее машину. До Моржа оставалось без малого четыре часа пути. Четыре часа, единственный и последний шанс попробовать отговорить старика от его роковых планов. Но “фольксваген-поло” решил иначе. Двигатель под ударами стартера чихнул, потом закашлялся и наконец заглох окончательно в облаке масляной вони и бензиновых паров. Девушка, чертыхаясь, несколько раз стукнула по баранке:
– Да елки зеленые, нет, только этого не хватало! Нет, зараза, не сейчас!
– Ничего страшного, Манель, это же просто железо, – стал утешать ее сидящий рядом старик.
– Не в том же дело, вы что, не понимаете? – сердито выпалила она, не отпуская ключ зажигания.
– Хватит, перестаньте, она сдохла, – объявил Амбруаз.
Большая лужа охлаждающей жидкости, расползающаяся из-под машины, вполне красноречиво свидетельствовала о том, что поломка серьезная.
– Еще похоронный агент мне будет объяснять, что она сдохла! – Девушка истерически расхохоталась и со стоном уронила голову на руль. – Убиться об стену!
Все ее надежды на долгий разговор наедине со стариком развеивались как дым.
– Послушайте, если вы не против, давайте оставим машину здесь, на парковке, мы прекрасно поместимся вчетвером в катаф… в фургоне, – продолжал молодой человек. – А на обратном пути заедем и вызовем эвакуатор, разберемся.
Ну да, тем более что на обратном пути нас в фургоне будет всего трое, если считать мертвеца за пустое место. Втроем поедем, со всеми удобствами, хотелось ей заорать в лицо этому типу, в его вечно невозмутимую смазливую ангельскую морду. Пришлось сдаться: ясно было, что ей не остается ничего другого, кроме как принять предложение. Манель вытащила из багажника маленькую дорожную сумку, куда перед отъездом покидала какую-то одежду, заперла машину и направилась к катафалку, возле которого стояли старики.
Амбруаз откинул боковое сиденье: заднего в машине не было. Опять он нарушал правила фирмы “Ролан Бурден и Сын”, коими строго воспрещалось посторонним лицам находиться в катафалках и иных машинах компании. Манель уселась, бросив полный отвращения взгляд на выпирающую стенку холодильной камеры.
– Это место четвертого носильщика. – Бет, обернувшись, потрепала девушку по колену, а потом, на радостях, что сосед справа остался при ней, помогла Самюэлю пристегнуться.
Они снова пустились в путь. Вскоре по салону разнеслось похрапывание обоих старичков – они заснули почти одновременно, убаюканные тихим воркованием мотора и приглушенной музыкой, лившейся из радиоприемника. Амбруаз посматривал в центральное зеркало заднего вида в надежде встретить взгляд девушки, но та каждый раз отводила глаза. Почти полчаса оба ждали, чтобы заговорил другой. Висевшую в воздухе неловкость можно было пощупать руками. В конце концов, когда они проезжали Гренобль, Амбруаз бросился в омут головой:
– Давно вы его обслуживаете?
– На самом деле у меня нет ощущения, что я его обслуживаю, – призналась она. – С ним жизнь кажется такой мягкой, простой, сладкой. Никогда голоса не повысит, всегда внимательный. Я вообще чем дальше, тем чаще спрашиваю себя, кто кого обслуживает во всей этой истории. А вы давно занимаетесь этим делом?
– Скоро пять лет.
– А почему?
– Что почему?
– Почему мертвыми, а не живыми?
В голосе девушки он уловил иронические нотки.
– На самом деле я это делаю не для тех, кто уходит, а ради тех, кто остается. Танатопрактика – это…
– Что?
– Танатопрактика – искусство бальзамировать трупы, если вам так больше нравится.
– А вы еще и трупы бальзамируете?
– Именно этим в основном и занимаюсь.
– Ничего себе, – поморщилась она, словно перед ней вдруг оказался последний негодяй.
– А вы что себе думаете? – вспыхнул Амбруаз. – Что в жизни есть только два сорта людей, хорошие и плохие, те, кто занимается живыми, и те, кто занимается мертвыми, теплокровные и холоднокровные? Что раз я ухаживаю – да-да, мадемуазель, это тоже называется “ухаживать”, – за покойниками, останками, трупами, падалью, зовите их как хотите, значит, я червяк, не лучше тех, что будут в них кишеть, если я не вмешаюсь? О, конечно, славным социальным работницам вроде вас не понять. Вы как мой отец, уверены, что выбрали правильный берег, а тип на другой стороне – ноль без палочки и чувств у него не больше, чем у тел, с которыми он возится. Вот только, вообразите себе, за покойниками я ухаживаю потому, что чувствую слишком сильно. Я пробовал иметь дело с живыми, но не могу выносить их страданий. Ненавижу смотреть, как люди умирают, можете себе представить? И потом, еще раз говорю: я делаю это ради тех, кто остается, чтобы им не пришлось смотреть смерти в ее мерзкую рожу. Вы спрашиваете, почему я выбрал такую работу, а я вам приведу пример: потому что матери легче поцеловать в лоб сына, который как будто мирно спит в вечности, чем всю оставшуюся жизнь видеть перед собой его изглоданное смертью лицо. И если я своим ответом обманул ваши ожидания, прошу прощения, другого у меня для вас нет.
Амбруаз умолк и замкнулся в себе, глядя вдаль. Манель задержала взгляд на этом запертом на все запоры лице, словно увидев его впервые. В ту минуту он показался ей красивым. В парне, казавшемся ей гладким, скользким и бесцветным, вдруг открылись такие грани, о каких она и не подозревала. За обличьем милого размазни на самом деле крылся сплошной обнаженный нерв. То, как сверкнули в запальчивости его глаза, произвело на девушку большое впечатление.
– Простите, я не хотела вас обидеть, – извинилась она.
– Пустяки, сам виноват, простите, раскипятился на ровном месте.
Бет с Самюэлем положили конец этому обмену извинениями: оба проснулись, дружно потянулись и попросили шофера снова сделать остановку, чтобы сходить в туалет.
30
До пограничного поста на въезде в Швейцарию они добрались в шестом часу вечера. Таможенник, заторможенный, как вся его братия, осведомился у Амбруаза о цели поездки. Чуднáя компания в машине, как две капли воды напоминающей катафалк, явно заинтересовала человека в форме. Амбруаз объяснил причину их появления: они несколько дней пробудут в Морже, затем перевезут на родину, во Францию, тело брата месье Дински.
– По бесплатному шоссе поедете? – спросил таможенник, разглядывая ветровое стекло в поисках виньетки.
– Нет, собирались по национальному вдоль озера.
Этот жлоб Бурден решил сэкономить и не купил им пропуск-виньетку.
– Ничего запрещенного не везем? – подозрительно спросил чиновник.
Мультиформную глиобластому, чуть не крикнула ему в лицо Манель.
– Нет, – ответил Амбруаз при энергичной поддержке Бет и Самюэля, дружно замотавших головами, отчего подозрения таможенника только усилились.
– Откройте, пожалуйста, багажник.
Амбруаз повиновался, не скрывая раздражения. Тот заставил выгрузить все сумки и предъявить инструменты для танатопрактики. Оглядел, прищурившись, инструменты и склянки, изучил насосы и наконец разрешил молодому человеку сложить свои орудия на место.
– Разрешите взглянуть на ваши документы.
Перестраховаться решил, деятель. Бет с перепугу почти пять минут рылась в бумажнике в поисках удостоверения личности, притаившегося между карточкой медицинского страхования и карточкой избирателя. Таможенник придирчиво изучил все четыре документа.
– Месье…Дински, верно? Вам бы пора обзавестись новым удостоверением, месье Дински. Ваше истекло больше полугода назад.
Наконец он отдал документы Амбруазу и освободил их, величественно обронив “на первый раз прощается”.
– Вот тебе и Европа, красота какая, – возмущалась Бет, когда они отъехали. – Нет, вы видели, как он с нами разговаривал? Как с настоящими бандитами! А эта манера глядеть на всех свысока только потому, что напялил дурацкую фуражку. А это “на первый раз прощается”! Он что, хочет сказать, что в следующий раз нас сразу отправят в тюрьму? Мы вообще где?
– В Швейцарии, Бет, в Швейцарии, – ласково успокоил ее Самюэль.
Как и опасался Амбруаз, они постояли во всех женевских пробках, а по мосту Монблан ехали двадцать с лишним минут, так что Бет налюбовалась фонтаном в свое удовольствие.
– Ладно, таможенники у них противные, зато Же-До лучше некуда! – признала она, не сводя глаз с вздымающегося к небу белого султана.
На автостраде между Женевой и Моржем оказалось свободнее, чем они думали, и около семи часов, когда на воды озера спустилась ночь, “мерседес” въехал на парковку отеля “Ле Режан”. Они ввалились в необъятный гостиничный холл с огромными зеркалами на стенах. Искусно приглушенный свет высоких светильников окрашивал мраморные колонны в теплые цвета, пушистый ковер заглушал звук шагов. Все здесь дышало роскошью. Администратор подтвердил, что забронировано три номера: 101-й на втором этаже для Самюэля, 103-й для Бет и 236-й, на третьем для Амбруаза. Свободных мест в гостинице не было, и Бет предложила Манель поселиться в ее номере. Та согласилась.
– Коли номера у них под стать ресепшену, боками толкаться не будем, – пошутила Бет.
Носильщик, забравший у них багаж, откровенно удивился при виде походного сундука.
– Это вам для разнообразия, не все же “вюиттоны” таскать, – успокоила его Бет.
Манель проводила Самюэля в номер. Старик бессильно рухнул на край кровати. Девушка потрогала его лоб: он был влажный от пота.
– У вас жар. Вы взяли с собой лекарства? – спросила она.
– Да, таблетница в косметичке. Сам не пойму, впрочем, зачем я ее взял. Дурацкий рефлекс.
– А я вам скажу, почему вы взяли таблетки, Самюэль Дински: потому что в глубине души вы все равно надеетесь. Что-то вам подсказывает, что, несмотря на боль, такие дни, как сегодня, наверно, еще стоят того, чтобы их прожить.
– Ну, наверно, вам виднее, – вяло пробормотал старик.
– Хотите перекусить?
– Не хочется.
– Тогда вам пора спать, – ласково велела она, протягивая ему две таблетки и стакан воды. – Вы совсем устали. Насчет душа завтра посмотрим.
Старик через силу стал стаскивать с себя одежду, и Манель помогла ему раздеться. Вполне естественно, без ложного стыда. Сняла с него брюки, носки, рубашку, нательную майку, спустила к щиколоткам трусы и надела на него пижаму.
– И не вздумайте злоупотребить своим положением, – пошутила она. – Буду отбиваться и звать на помощь, весь отель на ноги подниму.
– И я даже знаю одного молодого Аполлона, которого хлебом не корми, дай броситься вам на помощь, – поддразнил ее Самюэль усталым голосом.
– Предпочитаю старичков-толстосумов, – лукаво парировала она, подтыкая ему одеяло.
– Завтра в десять за мной в гостиницу приедут из ассоциации, повезут к врачу. Очень рассчитываю, что вы поедете со мной, – умоляюще произнес Самюэль, цепляясь за ее руку.
– Договорились, но только потому, что мне нравятся старые денежные мешки, – ответила она, целуя его в лоб, и поскорей ушла, пока ее печаль не выплеснулась наружу.
Войдя в соседний номер, Манель обнаружила Бет, которая в полном восторге развешивала одежду.
– Нет, вы видели? В шкафу танцевать можно, с ума сойти!
– Это называется гардеробная, Элизабет.
– Бет, пожалуйста, зовите меня Бет. Никогда не любила свое имя. Элизабет – это монашка какая-то, вам не кажется? Даже странно, как подумать: “Элиза” так красиво звучит, легко, воздушно, а как добавишь “бет” – как будто все сложилось и бряк на землю. А вам, наверно, ваше имя нравится. Манель, прелесть что такое.
– Да, разве что мальчишки в школе имели малоприятное обыкновение звать меня Панель.
Их беседу прервал стук в дверь.
– Войдите.
– В понедельник ручке правой – браво! – провозгласил Амбруаз, входя в номер.
– Совсем из головы вылетело, – смущенно призналась Бет и стала искать сумочку с инсулином.
– Как видите, я занимаюсь не только мертвыми стариками, еще и живых пользую при случае, – с вызовом бросил девушке Амбруаз, вкалывая бабушке лекарство.
– А с молодыми вы что делаете? – не осталась в долгу Манель.
Бет невольно улыбнулась, глядя на растерянную физиономию внука: тот сложил оружие и признал себя побежденным, даже не пытаясь драться.
– Встретимся внизу, поужинаем? – предложил он.
– Самюэль есть не будет. Я его уложила, он совсем вымотался и не может проглотить ни кусочка.
– Вот и я тоже, детки. На ногах не стою после этакого путешествия. Так что если я хочу набраться сил на завтра и дальше, лучше всего мне поспать. Сейчас заморю червячка парой куинь-аманов, и баиньки, чего еще надо. Не обращайте на меня внимания, молодежь.
– О’кей, тогда жду вас в холле, – бросил девушке Амбруаз и вышел из номера, по дороге поцеловав бабушку в лоб.
– Он у вас всегда такой заботливый? – спросила Манель, когда тот ушел.
– Вообще-то он самый милый мальчик на свете, и не потому, что он мой внук. А когда я вижу, как близко к сердцу он принимает свою работу, то говорю себе, что покойникам, попавшим в его руки, несказанно повезло.
31
Амбруаз уже минут пятнадцать созерцал меню гостиничного ресторана, когда Манель оторвала его от чтения. Девушка успела переодеться. Белая рубашка, на плечи накинут темно-синий кардиган, темные легинсы и хлопковые кеды на ногах. Едва заметный штрих подводки подчеркивал блеск глаз. “Таким брильянтам футляр не нужен”, – заверила ее Бет, когда она красилась.
– Вы хотите поесть здесь? – спросил молодой человек. – Честно говоря, ресторан, на мой вкус, чересчур помпезный, а цены тут такие же, как все остальное, несуразные. Так что, если вы не против поужинать, не восседая в вольтеровском кресле и не в окружении целой армии официантов, готовых отозваться на каждый ваш чих, то я видел на плане ресторан на набережной, метрах в пятистах отсюда, выглядит скорее симпатично, вы как?
– Как хотите, на самом деле я не особо хочу есть. Куманы вашей бабушки просто убойные.
– Куинь-аманы. Они называются “куинь-аманы”, – с улыбкой поправил ее Амбруаз.
– Куниманы.
– Нет. Куинь, как в названии Луиньяк. Куинь-аман. Repeat after me: kou-iiign-amann[4].
– Kou-iiign-amann, – передразнила его девушка.
– Yes, perfect. And where are the kou-iiign-amanns?[5]
– The kou-iiign-amanns are in the kitchen[6], – со смехом подхватила Манель.
Они вышли из отеля в вечернюю прохладу и направились по набережной в сторону марины: вдали в ночных сумерках угадывался целый лес корабельных мачт. Над черными водами озера скользили клочья тумана. На противоположном берегу сиял и переливался огнями город Эвиан. Слишком красивое место, чтобы тут умирать, с дрожью подумала Манель.
– Хотите мой пиджак? – предложил Амбруаз.
– Нет, спасибо, мне не холодно. К тому же мы почти пришли, по-моему.
Ресторан оказался скромный, но уютный. Широкие окна-витрины выходили на Леман. В понедельник, к тому же в мертвый сезон, занято было всего несколько столиков, так что молодые люди могли выбрать место по вкусу.
– Здесь вам будет удобно? – беспокойно спросил Амбруаз, указывая на столик с лучшим видом на туманный простор.
– Очень.
– Хотите чего-нибудь выпить?
– Кажется, это мне не помешает.
– Вина? Белого?
Амбруаз заказал два бокала шардонне.
– Меня тревожит месье Дински, – сказал он после короткой паузы. – Вид у него совсем нездоровый.
– Да, и лучше ему не будет, – подтвердила Манель, отвернувшись, чтобы скрыть волнение.
– Это почему? – спросил Амбруаз.
Она подождала, пока официант наполнит их бокалы, и продолжала:
– У Самюэля неоперабельная опухоль мозга. Ему осталось жить не больше нескольких недель.
– Черт!
Это его “черт” вобрало в себя всю скорбь мира. Девушку тронула непритворная печаль, с какой он воспринял ее слова.
– Сойдет в могилу прямо за братом-близнецом, – помолчав, заметил Амбруаз.
– А вот с этим, пожалуй, будут проблемы.
– Но вы же только что сказали, что ему осталось жить несколько недель.
– Да, верно. Несколько недель, по самым оптимистическим подсчетам. Нет, я имею в виду проблемы с братом-близнецом.
Манель, чтобы собраться с духом, сделала первый душистый глоток с фруктовыми нотками. Она обещала Самюэлю хранить секрет как можно дольше, но теперь это “как можно дольше” подходило к концу. Ей надо выговориться, поделиться, найти поддержку. Она больше не может в одиночку тащить этот груз. И человек, сидящий в эту минуту напротив, возможно, как никто, способен выслушать правду. Подошел официант, чтобы принять заказ.
– Чуть попозже, пожалуйста, спасибо, – вежливо отослал его Амбруаз.
Девушка набрала побольше воздуха и выпалила единым духом:
– У Самюэля Дински не было никакого брата, тем более брата-близнеца.
– То есть как это не было брата? А тело, которое надо доставить во Францию?
– Это тело самого Самюэля.
Ну вот, она сказала. Амбруаз, как она и ждала, скорее рассердился. Она сама бы на его месте рассердилась.
– Погодите, вы хотите сказать, что сейчас, когда мы с вами разговариваем, никакого тела, которое надо перевозить, вообще нет? Что единственное тело, из-за которого мы здесь, – это тело Самюэля Дински, восьмидесяти двух лет от роду и вполне себе живого, несмотря на мерзкую опухоль мозга, которая, если верить специалистам, убьет его через несколько недель?
Люди за соседними столиками повернули к ним встревоженные лица, но Амбруазу на их лица было наплевать:
– Это, конечно, очень мило, но за придурка-то меня держать не надо!
– Вы когда-нибудь слышали об эвтаназии? – спокойно отозвалась она.
– Да, более или менее, как все.
– Так вот, именно ее выбрал Самюэль Дински, восьмидесяти двух лет, не желающий, чтобы смерть снова играла с ним, как в прошлом. Это его собственные слова, Амбруаз. “Чтобы она снова с ним играла”. Он мне все рассказал. Семью Самюэля депортировали, он в детстве узнал кошмар концлагеря. Голод, болезни и вездесущую смерть, которая кружила вокруг него, касалась его, забирала своих жертв, но его не тронула. Представьте мальчика, которому едва исполнилось двенадцать и которого заставляли собирать очки у тех, кого вели в газовые камеры. Представьте себе на миг, что он пережил, что он должен был чувствовать, глядя на вереницу людей, протягивавших ему свои очки и по большей части не ведавших, какой ужас их ждет.
Перед глазами Амбруаза возникла фигура Самюэля на автозаправке, стоящего в смятении и в слезах перед стендом с очками. “Скверные воспоминания нахлынули”, – ответил ему тогда старик, вытирая слезы.
– Он сомневался, и, думаю, вполне справедливо, что фирма вроде вашей, узнав о его планах, согласится ему помочь. И солгал он вам, придумал брата-близнеца, только потому, что для него это был единственный способ довести дело до конца. Точнее, до собственного конца. Он хотел, чтобы его отвезли сюда, в одну из немногих стран, где эвтаназия разрешена, а потом умереть поскорее, и чтобы его отвезли домой. Вот, теперь вы знаете столько же, сколько и я, – заключила Манель, отпивая большой глоток вина.
– Черт, – второй раз за вечер повторил Амбруаз.
– Им займется ассоциация под названием “Избавление”. Завтра с утра за Самюэлем заедут в отель и отвезут на медицинское обследование. А потом поселят в комнате, где под вечер его…
Вздрогнув, она проглотила слово “убьют”, готовое слететь с ее уст.
– Он хочет, чтобы я поехала с ним, но…
Голос у девушки пресекся, и она расплакалась. В этот миг Амбруазу, как никогда, хотелось вскочить, прижать ее к себе, гладить по голове, пить жемчужины, стекавшие у нее по щекам. Сказать ей, что теперь он здесь, с ней, и будет с ней завтра и все завтра на свете. Вместо этого, прикованный к стулу своей дурацкой, ненавистной застенчивостью, он только протянул ей свой платок, вытереть глаза.
– Спасибо. В голове не укладывается. Я всегда говорю, что надо предоставить природе делать свое дело. Что даже среди убивающей его боли всегда найдется какой-нибудь прекрасный просвет жизни. И потом, ведь случаются ремиссии, ведь ремиссии бывают, правда?
– Это точно, насчет опухоли? И действительно ничего нельзя сделать, никакой операции?
– Никакой. Врач сказал точно. Ничего не попишешь. Его состояние ухудшается день ото дня. Сегодня вечером опять поднялась температура, и сбить ее каждый раз все труднее. Не говоря уж о том, что его выворачивает, рвет всем, что он съест. А еще он мне только что признался, что у него перед глазами пелена и иногда все двоится.
После долгой паузы Амбруаз заговорил снова:
– По-моему, надо уважать его выбор, Манель. Оставить свое мнение при себе и дать Самюэлю делать то, что он считает нужным. И если его последнее желание – видеть вас рядом, значит, надо ехать с ним. Если хотите, поедем вместе.
Манель молчала. Смолчала, не возразила, с горечью подумала она. Но в глубине души она знала, что Амбруаз прав. И что завтра они поедут с Самюэлем Дински, и она будет с ним до самой его смерти.
Снова подошел официант, спросил, что они будут заказывать, но они до сих пор так и не заглянули в меню. Аппетит, с которым Амбруаз сюда шел, улетучился. Больше для проформы они заказали себе фирменное блюдо – жареное филе озерной форели, и еще по бокалу вина. Поначалу ели через силу, без всякого желания, а потом постепенно жизнь вернулась к ним. Вернулась нежным вкусом форели, хрустящей картошкой, чудесным букетом вина, смехом за соседними столиками, переливами огней на дальних горных склонах. Жизнь блеснула в их глазах, окрасила пурпуром щеки. И тогда они заговорили, начали рассказывать о себе, стали, к своему удивлению, улыбаться и даже смеяться, оттесняя на время невыносимую мысль об ожидающем их новом дне.
32
Когда они вышли из ресторана, туман над озером сгустился, и противоположного берега не было видно. Молодой человек снял пиджак и набросил на плечи дрожащей от холода Манель. Они быстрым шагом дошли до гостиницы и поскорей вбежали в теплый холл. В кабине лифта девушка прижалась к нему и положила ему голову на плечо.
– Не хочу оставаться одна сегодня ночью, – жалобно попросила она. – Только не сегодня, пожалуйста.
Амбруаз крепко обнял ее, вдохнул запах ее волос, хмельной аромат духов. Они застыли в кабине, выпав из времени и пространства; едва переступив порог 236-го номера, неистово поцеловались, стукнувшись зубами, их языки встретились. Голова у обоих шла кругом от вина и желания – желания, распалившего кровь, взывавшего к другому всеми клетками тела. Они разделись, не прерывая поцелуя, оторвавшись друг от друга лишь на миг, чтобы сбросить брюки, и рухнули на кровать. Амбруаз, задыхаясь, освободил грудь девушки от лифчика. Она сорвала с него боксеры.
– Включи свет, пожалуйста. Я хочу тебя видеть, – попросила она срывающимся голосом.
Желтый свет бра рассеял темноту, лег на изгибы их тел, заблестел в глазах и затерялся в ущелье между их приникшими друг к другу животами. Манель гладила его плечи, притягивая к себе. Амбруаз сжал ладонью ее грудь, вторая рука пробралась между ног. Она поцеловала его в шею, он вздрогнул. Дыхание ее участилось от ласки, она стиснула ногами его руку.
– Иди ко мне, – шепнула она ему на ухо и укусила за мочку.
Амбруаз вошел в нее. Они вместе, в едином ритме, прошли через бурю, бушевавшую в их крови, а потом наслаждение накрыло их с головой и выбросило рядом на белизну простыней – задыхающихся, на время насытившихся друг другом.
33
В ту ночь они любили друг друга трижды, все так же жадно. На рассвете Манель вернулась в 103-й номер. Ей не хотелось, чтобы Бет, проснувшись, обнаружила ее отсутствие и заволновалась. Натянув футболку, она тихонько скользнула в широкую кровать рядом с Бет, и равномерное похрапывание сразу убаюкало ее. В восемь, как и было условлено, во всех трех номерах зазвонили телефоны: их будили с ресепшена.
– Хорошо провели вечер? – спросила Бет хитрым голосом; она хоть и храпела, но не преминула отметить, что девушка легла поздно, и это еще мягко сказано.
– Чудесно, да. Филе форели было отменное, а набережные просто великолепны.
Бет ни на миг не усомнилась, что ее “чудесно” подразумевало нечто чуть большее, нежели филе форели и прогулка по набережным, но виду не показала.
Пока она собиралась, Манель зашла в соседний номер, проверить, как чувствует себя Самюэль. Коснулась губами его лба. Снова жар. Впрочем, наверно, и не спадал, подумала девушка.
– Вечером получшает, – иронически заметил старик.
Она проводила его в ванную и, оставив заниматься своим туалетом, достала из чемодана его одежду. Светло-зеленая рубашка, черные брюки, темно-зеленый пиджак. Зеленый – цвет надежды, мелькнуло у нее в голове. Он покорно позволил себя одеть. Сил у него было не больше, чем накануне, а то и меньше. Ни ночной сон, ни лекарства уже не помогали. Манель велела ему пока полежать и отдохнуть.
– Я быстро, – заверила она, – только душ приму и оденусь.
Когда она вернулась, он спал. При виде старика в костюме, неподвижно лежащего на кровати со скрещенными на груди руками, ей на миг показалось, что смерть, злая насмешница, в конце концов одержала над ним верх. Она погладила его по щеке, поправила тыльной стороной руки непокорную прядь, которую ей каждый раз приходилось возвращать на место. Он открыл глаза и посмотрел на нее, не узнавая. Взгляд человека, потерявшегося в небытии.
– Это я, Манель, – ласково шепнула она. – Пора завтракать, они ждут нас внизу. Надо набраться сил, день будет долгий.
Девушка прикусила язык и обозвала себя дурой. Как это последний день может быть долгим? Амбруаза с бабушкой они нашли в ресторане, где был накрыт шведский стол. В качестве приветствия она слегка чмокнула молодого человека в щеку.
– Секрет хорошего сдобного теста тот же, что у красивой любовной истории, – заявила Бет, водружая на стол полную тарелку булочек. – Всю ночь должно подниматься, тогда будет пышным.
Амбруаз и Манель обменялись заговорщицким взглядом. Бабушка, только того и ждавшая, похлопала Самюэля по руке, потом встала и повязала ему на шею салфетку.
– Грех будет испачкать такую красивую рубашку.
Девушка принесла старику стакан апельсинового сока. Он неохотно поклевал бисквит. Молодые люди, несмотря на почти осязаемую пелену печали, заставили себя поесть, тщетно стараясь отогнать невыносимую мысль, что они завтракают с Самюэлем в последний раз.
– За мной заедут в десять, отвезут повидаться с братом, все как договаривались, Манель.
– Он знает, Самюэль, – произнесла она, положив руку на его почти бесплотное плечо. – Не нужно больше лгать, Амбруаз в курсе, я ему вчера вечером все рассказала.
– Да, месье Дински, – подтвердил молодой человек, – Манель мне все объяснила.
– Сделайте одолжение, зовите меня сегодня Самюэлем.
– Если позволите, Самюэль, я бы хотел поехать с вами, вместе с Манель.
– Уйти в компании двух ангелов, что может быть лучше?
– Бет, – торжественным тоном сказал Амбруаз, поворачиваясь к бабушке, – нам с Самюэлем и Манель надо тебе что-то сказать.
– Если вы про эвтаназию, то не трудитесь, Сэми мне уже все рассказал.
– Но когда?
– Вчера, пока мы были на стоянке “Фруктовый сад”, после того как его вывернуло наизнанку в туалете, а я ему призналась, что я твоя бабушка, а вовсе не волонтерка-сопровождающая, как мы ему сказали. Я ничего тебе не говорила, потому что он просил молчать, – продолжала она, нежно беря Самюэля за руку. – Боялся, что ты повернешь назад.
Решительно, одному мне во всей этой истории нечего скрывать, подумал Амбруаз. Менеджер из ассоциации “Избавление” появилась в холле ровно в десять, минута в минуту.
– Точна, как швейцарские часы, – восхитилась Бет.
У Эммы Безюше был негромкий приятный голос и сильный местный акцент. Лет пятидесяти, миловидная, одета не в черное, а в яркий костюм; ни следа той внешней суровости, какую ожидала увидеть Манель, разве что волосы собраны в тугой пучок. Девушке очень хотелось ненавидеть эту женщину, вестницу смерти, но она при всем желании не могла пробудить в себе антипатию к ней. К Самюэлю она обратилась уважительно и сердечно, в ее “Здравствуйте, месье Дински” помощница не уловила никакой фальши. Все представились, и Эмма Безюше пригласила их в малую гостиную отеля, где были расставлены кресла и банкетки для гостей. Там она со всей откровенностью объяснила Самюэлю, как все будет происходить. Неформально, своими словами – словами, которые Амбруаз знал наизусть.
– “Уход” состоится под вечер, если вы не против, с наступлением темноты.
Манель передернуло: как воры.
– Разумеется, все зависит от вас, месье Дински, вы в любой момент можете изменить ход вещей по своему желанию. Напомню, что ассоциация “Избавление”, как и я, преследуем только одну цель – помочь вам осуществить ваш выбор самым гуманным и щадящим образом. В одиннадцать у нас назначена встреча с доктором Мейяном, врачом нашей ассоциации, он проверит, действительно ли ваше состояние полностью соответствует нашей профессиональной этике. Не волнуйтесь, это чистая формальность. А сейчас позвольте взглянуть на вашу историю болезни.
Манель достала пластиковую папку с документами.
– Спасибо. И еще мне нужен документ, подтверждающий вашу личность.
– У меня только удостоверение, – промямлил Самюэль.
Манель осторожно взяла бумажник из его дрожащих рук, достала карточку и протянула Эмме Безюше. Дама долго рассматривала пластиковый четырехугольник, а потом, ко всеобщему негодованию, произнесла:
– Насколько я вижу, ваша карта уже несколько месяцев недействительна. Нет ли у вас другого документа? Паспорта, или, например, выписки из свидетельства о рождении, сделанной не позднее чем три месяца назад, или карточки гражданского состояния, срок которой не истек? Нет? Это затрудняет дело. У вас в самом деле нет ничего, кроме этого удостоверения?
– Но вы же сами видите, что это он, в конце-то концов! – сердито воскликнула Манель.
– Я вижу документ, срок действия которого истек в апреле. И с точки зрения закона это единственное, что имеет значение. Из каких бы гуманных соображений мы ни исходили, а я эти соображения прекрасно понимаю, мы не в силах и тем более не вправе судить о чьей-либо личности бездоказательно.
– Да черт вас раздери, вы что, не видите, в каком он состоянии? А его история болезни тоже, по-вашему, бездоказательна? – взвилась девушка.
Эмма Безюше отвела Манель в сторону.
– Послушайте, мадемуазель, скандал ничего не даст. Сколько бы вы ни нервничали, это не поможет нам найти выход.
– Вы не можете с ним так поступить. Он уже настолько внутренне приготовился, – стал уговаривать ее подоспевший Амбруаз.
– Господи боже мой, он больше не может терпеть боль, – подхватила Манель свистящим шепотом. – Что бы он ни съел, его сразу выворачивает, зрение мутится, у него совсем нет сил ни утром, ни вечером.
Самюэль, одиноко сгорбившийся на диване, не мог взять в толк, отчего вдруг такая суета.
– Что-то не так? – спросил он Бет.
Та села рядом и взяла его за руку:
– Не знаю, но, похоже, в каждом швейцарце прячется таможенник.
– Правила едины для всех: чтобы получить право уйти, надо подтвердить, что ты существуешь. Все очень просто, – возразила молодым людям Эмма Безюше, подошла к старику и, рассыпавшись в извинениях, положила удостоверение и историю болезни на журнальный столик.
– Я вас не понимаю, месье Дински, у нас первый такой случай. Поверьте, мне самой крайне неприятно, но сегодня запустить процедуру невозможно. Разумеется, внесенные вами деньги будут возвращены, за вычетом понесенных расходов. И конечно, мы по-прежнему целиком в вашем распоряжении, если вы захотите обратиться к нам снова, при условии, что ваши бумаги будут в порядке. Всего хорошего, месье Дински. До свидания, дамы и господа.
Амбруаз и Манель, совершенно убитые этой сценой, долго не могли сдвинуться с места. Молодой человек обнял ее.
– Но ведь ты сама этого хотела, разве нет? – утешал он ее. – По-моему, ты поэтому за нами сперва и поехала. А теперь пойдем, мы ему нужны.
Стоя на коленях перед растерянным стариком и держа его за руки, они объяснили ему, что он сегодня не умрет, что придется еще немножко потерпеть крестную муку, но они будут рядом, что бы ни случилось, как и обещали, рядом с ним, до самого конца.
– Его что, смотрел только один врач? – удивленно спросила Бет, листая историю болезни Самюэля.
– Да, – подтвердила девушка.
– Скажи, Амбруаз Ларнье, что тебе всю жизнь твердила бабушка?
– Что всякий врач видит болезнь только одним глазом. И что для полноты картины всегда надо показаться второму.
34
– И еще, Амбруаз Ларнье, напомни нам, пожалуйста, кто твой отец? – попросила бабушка.
– При чем тут это? – буркнул он.
– Скажи-скажи, им будет интересно, – не отступалась Бет.
– Профессор Анри Ларнье, Нобелевская премия по чему-то там образца 2005 года, – презрительно проворчал Амбруаз.
– По медицине, Нобелевская премия по медицине, договаривай, пожалуйста, не бойся. И чем этот славный человек занимается, можешь нам сообщить?
– Ох, Бет, нет, я понимаю, к чему ты клонишь, но об этом не может быть и речи. Лучше сдохнуть.
– Браво, поздравляю, ничего более уместного ты сказать не мог.
– Простите, Самюэль, я неудачно выразился, но не требуй от меня невозможного, Бет, только не он.
– Вы о чем? – вмешалась Манель.
– Так вот, представьте себе, отец молодого человека, которого вы видите перед собой, – один из лучших в мире специалистов по онкологии, но оный молодой человек, пребывая с ним в натянутых отношениях, не желает воспользоваться имеющейся у нас возможностью получить у него консультацию.
– Но, Амбруаз, мы должны сейчас же поехать к нему! – воскликнула Манель. – Мы ничего не теряем. И плевать, что ты с отцом поссорился, никто тебя не просит с ним мириться, мы просто хотим, чтобы он посмотрел Самюэля.
– Он в своей области лучший, Амбруаз, и ты это прекрасно знаешь, – продолжала бабушка. – К тому же нам повезло: сегодня вторник, а значит, он, как обычно, должен быть в своем офисе в ВОЗ. В двух шагах отсюда. Сделай это, ради Самюэля.
Старик с отсутствующим видом глядел в пол, ожидая избавления, в котором ему только что отказали. Амбруаз спрятал гордость в карман и сдался:
– О’кей, но не думайте, что я ему в ноги падать буду. Только ради Самюэля.
– Спасибо от него, – радостно воскликнула Манель и, поцеловав его в губы, нежно взяла старика за руки.
Они проехали километров пятьдесят вдоль озера в сторону Женевы. Примерно через час Амбруаз припарковал фургон у строгого здания ВОЗ. Снаружи восьмиэтажное здание напоминало панельную коробку 70-х годов. Манель осталась с Самюэлем в машине – незачем лишний раз утомлять больного, – а Амбруаз с бабушкой вошли в огромные стеклянные двери, направились к администратору и спросили, можно ли видеть профессора Ларнье.
– А кто его спрашивает? – поинтересовалась администраторша.
– Сын.
– И теща, – добавила Бет.
Женщина с любопытством оглядела их и попросила минутку подождать, пока она позвонит.
– Профессор Ларнье ожидает вас в кабинете. Четвертый этаж, на его двери табличка, – сообщила она, повесив трубку.
Они сходили за Манель и стариком и, вчетвером погрузившись в лифт, поднялись на четвертый этаж.
Профессор Анри Ларнье
лауреат Нобелевской премии
в области медицины
Табличка под стать его эго, подумал сын. Постучать они не успели. Дверь распахнулась, и на пороге вырос взволнованный Анри Ларнье. Первое, что пришло в голову Амбруазу при виде стоящего перед ним мужчины: он постарел. Подбородок обрамляла седая бородка. На седьмом десятке его облик слегка утратил ту безукоризненную строгость, что сообщала всей его фигуре представительность и властность. Скорее красивый, оценила Манель, и очень похож на сына, только без той нотки беспечности, какая присутствовала у Амбруаза.
– Что случилось? – встревоженно спросил профессор, даже не поздоровавшись с сыном.
– Здравствуй, папа, – с нажимом прервал его молодой человек.
– Прошу прощения, здравствуй, Амбруаз. Добрый день, Элизабет.
Теща тысячу раз просила называть ее Бет, но тщетно. Всегда называть людей и вещи их точным именем – в этом весь характер моего ученого отца, подумал юноша. Он никогда не играл словами, ни в жизни, ни в медицине.
– Месье, мадемуазель.
– Манель и Самюэль, – представил их Амбруаз.
– Чем обязан?
– Не волнуйся, я не ради себя пришел.
– Ты ко мне не заходишь, даже когда я в Ниме, так пойми, что твое появление здесь, за сотни километров от дома, с бабушкой и этими незнакомыми людьми для меня в некоторой степени удивительно.
– Можно войти в кабинет, мы тебе не помешаем?
– В кабинете на всех не хватит стульев, лучше спуститься в кафетерий, там удобнее будет разговаривать, – предложило научное светило, закрывая за собой дверь.
На нейтральной территории, с горечью подумал сын. Отец никогда не раскрывал ему душу. Они нашли свободный столик, и Анри Ларнье повторил свой вопрос:
– Так чем я обязан вашему визиту?
– В общем, я бы хотел, мы бы хотели, чтобы ты взглянул вот на этого человека, посмотрел его историю болезни и сказал, что, собственно, с ним такое.
– Вот как, мой сын теперь занимается живыми, – иронически заметил Анри Ларнье.
– Анри, пожалуйста, – попросила Бет, – Амбруаз переступил через себя, чтобы обратиться к вам с просьбой. Не ссорьтесь хоть сейчас, очень вас прошу.
– Кто бы сомневался, что так и будет, – буркнул молодой человек.
– Ну уж нет, – возмутилась Манель, – и не вздумайте начинать. Не знаю, что между вами произошло, и не мое это дело, но проблема в другом. Проблема, месье Ларнье, в этой чертовой опухоли, убивающей нашего друга, он здесь, перед вами, можете потом ссориться, сколько хотите, а сейчас займитесь им, пожалуйста! – выпалила девушка, положив историю болезни Самюэля перед врачом, слегка ошеломленным таким напором.
– Хорошо, – согласился тот и открыл папку.
Медик отложил в сторону заключение коллеги, быстро просмотрел результаты анализов, потом взял снимки МРТ и долго разглядывал их, не говоря ни слова.
– Судя по дате, снимки сделаны около двух месяцев назад, верно?
– Да, почти два месяца назад, чуть меньше, – ответила за Самюэля Манель.
– Чуть меньше двух месяцев назад, – с сомнением в голосе повторил он. И вполголоса произнес: – Это невозможно.
– Что невозможно? – спросила Бет.
– Простите за откровенность, но, учитывая размеры глиобластомы на момент МРТ и зная скорость инвазии и крайне агрессивный характер этого вида опухоли, с научной точки зрения невозможно допустить, что сидящий здесь месье до сих пор жив. Извините, но нет, это попросту немыслимо с научной точки зрения. Не знаю, что и подумать, месье… Вендлинг, – прочел он фамилию под снимками, – но…
– Дински, – хором поправили его Манель, Бет и Амбруаз.
– Простите?
– Дински. Не Вендлинг, а Дински, – уточнила Манель.
– Послушайте, но здесь написано “Вендлинг”. “Роже Вендлинг”, – возразил врач, показывая им фамилию, начертанную белыми буквами на черном фоне.
На всех лицах отразилось изумление; только главное заинтересованное лицо оставалось безучастным: все его силы уходили на борьбу с головной болью. Анри Ларнье положил снимок на стол и взял в руки папку.
– В самом деле, вижу, в заключении моего коллеги доктора… Жервеза значится имя месье Дински, но сделано оно на основании снимков, подписанных фамилией Вендлинг. Какой, однако, щедрый человек этот доктор Жервез. Давать надежду на три месяца жизни пациенту с подобной бластомой – это уже не оптимизм, это из области научной фантастики. Снимаю шляпу. Наверное, перепутали при маркировке снимков, сейчас это, слава богу, случается все реже, но никто не застрахован от случайностей.
– Но чем же тогда болен месье Дински? – спросила Бет с тревогой и надеждой в голосе.
– А вот для этого нужен новый осмотр и анализы. Сколько вам лет, месье Дински?
– Восемьдесят два, – еле слышно произнес Самюэль.
– У вас постоянные сильные головные боли, вы ведь из-за них пошли к врачу, верно?
– Да, – ответила за старика Манель.
– И температура?
– Да, в последние дни почти все время.
– Рвота, потеря веса?
– Да, его рвет, почти ничего не может съесть и очень похудел.
– Жалобы на расстройство зрения? Помутнение, двоится перед глазами?
– Да, в последнее время, а откуда вы знаете?
Анри Ларнье встал и подошел к старику. Ощупал его виски и внимательно осмотрел ненормально набухшие височные артерии.
– Вам больно, когда я прикасаюсь к коже головы?
– Да, – простонал Самюэль.
– Вы когда-нибудь слышали о болезни Хортона?
Вопрос был обращен ко всем, но поскольку никто не ответил, он продолжал:
– Этой болезни подвержены главным образом пожилые люди, обычно после восьмидесяти лет, и проявляется она в тех симптомах, о которых мы говорили. Самая большая опасность данной патологии в том, что если вовремя не начать лечение, острота зрения снижается, иногда это приводит к полной слепоте. Но не волнуйтесь, в наши дни болезнь вполне поддается лечению. Я пропишу месье Дински неотложную терапию на основе сильных кортикостероидов, и если мы действительно имеем дело с болезнью Хортона, а это нам в самом скором времени покажут анализы, его общее состояние должно очень быстро улучшиться, а головные боли пройдут через несколько дней, быть может, даже через несколько часов.
Амбруаз, Бет и Манель дружно повернулись к Самюэлю Дински – Самюэлю Дински, который уже вообще ничего не понимал и весь мир которого второй раз за день разлетелся вдребезги.
35
Медицинское светило направило Самюэля на анализ крови прямо в лабораторию ВОЗ. Результаты должны были прийти после обеда. Одновременно он заказал в аптеке, расположенной в подвальном помещении, все необходимые лекарства, чтобы как можно быстрее начать кортикостероидную терапию.
– Вот, через несколько минут можете забрать их на ресепшене; там будет дозировка, ей надо следовать неукоснительно, и записка для лечащего врача. Первую дозу принять немедленно, нельзя терять время. Эх, черт, целую вечность мы так не практиковали, – с довольной улыбкой произнес Анри Ларнье. – Несколько бессистемно, надо признать, зато вспоминаются годы интернатуры.
Впервые Амбруаз уловил в голосе отца нотку ностальгии – быть может, ностальгии по тем временам, когда нобелевский лауреат еще не потеснил в нем врача.
– Мне сейчас надо идти готовиться к докладу, – продолжал он, взглянув на часы, – но вам советую остаться и поесть здесь, если хотите. Столовая вполне приличная, сами увидите. А я не знаю, куда девать кучу обеденных талонов, мне их каждый месяц выдают.
Положив на стол талоны, Анри Ларнье распрощался с честной компанией, не преминув перед уходом подбодрить старика:
– Не волнуйтесь, месье Дински, если мы угадали, очень скоро все будет в порядке.
Амбруаз улыбнулся. Он успел забыть странную привычку отца иногда говорить о себе в первом лице множественного числа – привычку, появившуюся из-за бесчисленных научных публикаций, в которых принято писать не “я”, а “мы”.
После его ухода Манель и Амбруаз переглянулись. Глаза у обоих заблестели по-новому, в них вспыхнул свет надежды. Эмма Безюше со своим прощальным коктейлем отодвинулась куда-то за горизонт. Старик будет жить. День, который должен был стать для него последним, превращался во второй день рождения. Бет с присущим ей здравомыслием вернула их с небес на землю:
– Надо идти обедать, пока толпа не набежала. Полдень уже.
– Ступайте, – велел Амбруаз. – Возьмите мне, что хотите, я сбегаю на ресепшен, посмотрю, пришли ли лекарства.
Вернулся он, бережно прижимая к груди пакет с коробками кортикостероидов. Манель сверилась с дозировкой, прописанной Анри Ларнье, достала три таблетки в оболочке и положила перед Самюэлем. Старик старательно, одну за другой, проглотил таблетки, запивая их водой под одобрительные возгласы своих ангелов-хранителей. Ангелы-хранители, сбросив с себя гнет, давивший на них с самого утра, поели быстро и с аппетитом. Вставая из-за стола, Амбруаз отдал ключи от машины Манель и извинился:
– Подождите меня в фургоне, я быстро, через пять минут буду.
Он не стал дожидаться лифта и взбежал через две ступеньки на четвертый этаж. Он не успел поблагодарил отца за то, что тот уделил им толику своего драгоценного времени. А главное, ему хотелось его обнять, обнять так, как сын должен обнимать отца на прощание. Робкий стук в дверь остался без ответа. “Папа?” Он вошел. Кабинет был пуст. И тогда он увидел. В миг, когда перед ним предстало логово Анри Ларнье, все его дурацкие предубеждения, с которыми он носился столько лет, вся уверенность в эгоцентризме, холодности, бесчувствии великого человека развеялись как дым, сметенные картиной, представшей его глазам. Повсюду, на стенах, на полках книжного шкафа, прямо на столе красного дерева висели, стояли, лежали фотографии Амбруаза и его матери. Младенец Амбруаз на руках у молодой женщины, мальчик Амбруаз играет со стетоскопом, его мать в купальнике и в ореоле солнечных лучей позирует на краю бассейна, подросток Амбруаз учится играть на гитаре, Амбруаз у новогодней елки разворачивает подарки, Сесиль держит на коленях Амбруаза и вслушивается в его первые слова, Амбруаз в волочащемся по полу белом халате отца, Сесиль, погруженная в чтение “Путешествия на край ночи”. Алтарь. Кабинет Анри Ларнье был не чем иным, как алтарем в честь призраков – призрака жены, которую он любил, и сына, которого он потерял. Взглянув на книжный шкаф, молодой человек зажал рот рукой, чтобы не вскрикнуть. Ему и в голову не могло прийти, что отец в один прекрасный день станет интересоваться его работой. И тем не менее там, на средней полке, в образцовом порядке стояла обширная подборка книг по искусству танатопрактики и бальзамирования. Среди них были и совсем новые труды, посвященные последним достижениям в этой области. Потрясенный до глубины души, Амбруаз написал на листочке номер своего мобильного с просьбой перезвонить, как только придут результаты анализов, и положил листок прямо на бювар. А потом приписал внизу слова, которые не говорят никогда, слова, застревающие в глотке из стыдливости и лишь иногда вырывающиеся на свободу в изножье катафалка, когда уже слишком поздно, слова, стоящие всех объятий на свете: “Любящий тебя сын”.
36
В среду утром Самюэль Дински проснулся в огромной гостиничной кровати с удивлением. Что-то вытащило его из сна, что-то такое, чего он не ощущал уже целую вечность, – чувство голода. Пустой желудок недовольно бурчал, а язык всеми сосочками жаждал завтрака. В тот же миг он осознал, что обруч, еще накануне сдавливавший его череп, наконец разжал челюсти и боль улетела. Его голова дышала, за лобной костью словно дул легкий ветерок, прогонявший вдаль последние обрывки страданий. Он встал и приоткрыл шторы. Солнечный луч прорезал комнату и лег на кровать, но не принес с собой мириады иголок, обычно вонзавшихся в его сетчатку. Нет, он просто зажмурился от дневного света, как всякий человек, проведший ночь в потемках. Самюэль потянулся, постанывая от удовольствия, и улегся на солнышке, подставив тело теплым лучам. И только тогда заметил их. Манель, Бет и Амбруаза, стоявших в ногах постели и встретивших его одним-единственным нетерпеливым слогом: “Ну?”
Вернувшись из Женевы, смертельно усталый старик сразу лег и немедленно уснул.
– День оказался длиннее, чем мы предполагали, – пошутил он, проваливаясь в сон.
Манель, Амбруаз и Бет остались рядом и следили за ним с удвоенной бдительностью. А вдруг смерть, лишившись давно обещанной добычи, еще не сказала своего последнего слова? Лихорадка Самюэля вышла из него обильным потом, и Амбруаз помог девушке поменять насквозь мокрую пижаму на сухую футболку. Они настоятельно просили Бет пойти в свой номер отдохнуть, но та наотрез отказалась.
– Не каждый день удается посидеть с новорожденным восьмидесяти двух лет от роду, – прошептала она без тени улыбки. Они сидели втроем в 101-м номере, у изголовья старика, не сводили с него глаз в темноте, вслушивались в его дыхание, подстерегая малейшие перебои, пока глубокой ночью сон не сморил и их: Манель уснула в кресле, Бет на диване, а Амбруаз в конце концов растянулся прямо на полу.
Старик обвел глазами троицу, жадно ждущую ответа. Широкая улыбка, осветившая его лицо, сказала им о его состоянии больше любых слов.
– А температура? – спросила Манель, подходя и целуя его в лоб.
Лоб был сухой и теплый.
– День Д плюс один, месье Самюэль Дински. Первый день всей вашей оставшейся жизни, – торжественно объявил Амбруаз, намекая на название фильма[7].
Накануне, как раз в тот час, когда больной должен был выпить смертельное зелье, Манель разбудила его и дала вторую дозу кортикостероидов. И сейчас, утром, он лежал не на стальной каталке, поджидая в мертвом холоде, когда придет танатопрактик, он лежал тут, перед ними, растянувшись на залитых солнцем простынях и живой, как никогда. Новорожденный восьмидесяти двух лет, Бет сказала чистую правду. Живой благодаря просроченному удостоверению личности, с ужасом подумал Амбруаз. И благодаря прозорливости его отца: тот под вечер перезвонил и подтвердил диагноз – болезнь Хортона.
– Вы заедете ко мне домой? – спросил он.
В его словах проступала едва заметная нотка беспокойства. Быть может, он боялся, что сын ответит “нет”. Боялся, что слова на листочке, оставленном на бюваре, слова, которые Анри Ларнье читал и перечитывал сотню раз, прежде чем сложить листок и бережно убрать в бумажник, останутся просто словами. “Любящий тебя сын”.
– Договорились, папа, обязательно заедем. И будем заезжать минимум раз в месяц, хотя бы за новым рецептом для месье Дински, раз уж ты теперь его лечащий врач, – пошутил Амбруаз.
Смех Анри Ларнье музыкой отозвался в его ушах.
День Д плюс один и для нас, папа, подумал молодой человек. Манель попросила принести Самюэлю завтрак в номер, и тот с аппетитом набросился на поджаренный хлеб под умиленным взглядом Бет, которая поскорей намазала маслом второй гренок.
37
В тот же вечер Самюэль пригласил их на ужин в ресторан “Ле Режана”.
– Очень хочется отпраздновать мою болезнь Нортона, – объяснил старик.
– Хортона, Сэми, – поправила его Бет. – Надо говорить “Хортона”.
– В жизни не думал, что когда-нибудь буду так радоваться собственной болезни, – взволнованно признался он.
По такому случаю старик надел свой красивый зеленый костюм.
– Другого у меня нет, – извинился он перед Бет. – И потом, никто же не знает, что я в этом костюме собирался ложиться в гроб, – добавил он, когда они спустились в холл.
Бет, со своей стороны, без колебаний облачилась в траурное платье, только без вуали.
– Черный – самый лучший цвет, всегда к месту, – заявила она внуку, не дав тому и рта раскрыть. – Правда, Манель?
– Вы оба просто великолепны, – одобрила их девушка.
Стол в центре зала уже ожидал их.
– Ну наконец-то, всегда мечтала поесть, восседая в вольтеровском кресле и в окружении целой армии официантов, готовых отозваться на любой мой чих, – съязвила помощница, усаживаясь, и лукаво взглянула на Амбруаза.
За ужином они все время шутили, а порой, к недоумению окружающих, в приглушенной атмосфере ресторана раздавался их дружный хохот. Бет вела себя как истинная царица-мать и по любому поводу и вовсе без повода подзывала официанта.
– Можно мне стакан воды без газа, мой мальчик?
– А ломтика цельнозернового хлеба у вас не найдется? От белого у меня изжога, спасибо.
– Будьте любезны, не могли бы вы принести теплое влажное полотенце, протереть руки?
– Бет, ты все-таки слегка перебарщиваешь, – укорил ее Амбруаз.
– Чего? Иметь под рукой столько официантов и не иметь права их гонять – такая же глупость, как вставить свечи в именинный торт и не позволить их зажечь.
Когда они вставали из-за стола, она оставила щедрые чаевые – десять евро.
– В Европу они не хотят, но евро мои все-таки получат, – звонко объявила она о своей маленькой победе.
Пока Амбруаз делал бабушке укол, Манель пошла подоткнуть одеяло Самюэлю.
– У каждого по старичку, никому не завидно, – пошутила Бет. – Знаешь, мой большой мальчик, – продолжала она самым серьезным тоном, – я не хочу быть тебе в тягость. Если ты однажды захочешь устроить свою жизнь и переехать, не думай, пожалуйста, что из-за меня ты должен остаться.
– Правда? Можно? А я-то у тебя жил, потому что считал, что ты без меня не обойдешься. Ладно, но ведь я все равно не могу бросить тебя одну с твоим диабетом и всем прочим. Нет, надо найти тебе дом престарелых посимпатичнее. Есть тут один, не самый дорогой, заведешь себе там кучу приятелей и приятельниц, будешь ходить в кулинарный кружок, играть в карты, запишешься в читательский клуб. А я буду приезжать по воскресеньям, погулять с тобой в парке. Красота!
Увидев расстроенную бабушкину физиономию, Амбруаз крепко обнял ее и поспешил успокоить:
– Да я же шучу, ты прекрасно знаешь, что я жить не могу без твоих пирогов! Но вот на ближайшую ночь, боюсь, мне придется лишить тебя твоей юной соседки, – добавил он, подхватывая за талию вернувшуюся Манель.
– Удачи, голубки, наслаждайтесь! Любовь, она как конфеты, вприглядку не распробуешь, – изрекла Бет и для ясности выразительно подмигнула парочке.
38
С утра, за завтраком, оказавшись рядом с Манель у шведского стола, любопытная Варвара-Бет не преминула спросить ее, хорошо ли они выспались.
– Всю ночь конфеты ели, – шепнула ей девушка на ухо.
– Отлично! Смотрите только, чтобы кулечек не опустел, – посоветовала премудрая Бет.
Они договорились выехать в десять утра и встретились у ресепшена, уже с чемоданами. Самюэль заплатил по счету и отменил бронирование на остальные ночи.
– Визит короче, зато жизнь длиннее! – весело бросила Бет администратору; тот вежливо кивнул, даже не пытаясь понять, что она имеет в виду.
На обратном пути они веселились, как дети. Проехали последний раз вдоль озера. По серебристой воде шлепал старинный пароходик, взбивая колесами волны в кипящую пену. На корме плескался на ветру красный флаг с белым крестом. Самюэль, подавшись вперед, как мальчик, жадно вглядывался в пробегающий перед глазами пейзаж. На границе, когда таможенник спросил, не везут ли они чего запрещенного, Бет ответила: “Всего-навсего целую жизнь”. Остальные заулыбались, чиновник не стал настаивать и долго смотрел вслед выезжающему из Швейцарии катафалку, спрашивая себя, как можно веселиться в такой жуткой машине. Разговаривали они мало, только молча обменивались понимающими взглядами. Им было хорошо. Туда с ними ехала пятая пассажирка – смерть, а возвращались они без нее. Все четверо еще никогда не чувствовали себя настолько живыми.
39
Буба и Абель встретили Амбруаза все так же добродушно. Их каморка была сверху донизу увешана рождественскими украшениями. Хрупкие ветки фикуса клонились под ливнем гирлянд. С потолка свисали бесчисленные разноцветные шары. Целая армия фигурок святых оккупировала верх холодильника. Пузатые приветливые деды морозы, прилепленные скотчем ко всем стеклам, встречали гостей насмешливыми ухмылками. До Нового года оставалось несколько дней, и приятели, казалось, вообще не снимали красных колпаков, с утра до вечера красовавшихся у них на голове. Гигант сенегалец, как обычно, в ответ на приветствие Амбруаза отпустил шуточку в своем вкусе:
– Слыхал анекдот, как скелет в кафе зашел? Его официант спрашивает: что вам принести? А тот отвечает: белого вина… и белые тапочки, пожалуйста!
Абель переждал, когда стихнет хохот Бубы, и заговорил:
– Ты к той бабуле пришел? Не пойму, на кой надо непременно делать вскрытие старикам за девяносто. Уж их-то могли бы оставить в покое?
– При пожаре, да еще в доме престарелых, вскрытие обязательно, ты же прекрасно знаешь, – заметил Амбруаз.
– Говорят, загорелась рождественская гирлянда где-то на первом этаже? – спросил Буба.
– Понятия не имею. Надеюсь только, что она не мучилась. Она где?
– Там же, на столе для вскрытия. Мы подумали, тебе так будет удобнее. Просто переложишь ее на каталку, когда закончишь, и мы поднимем ее в траурный зал. Времени у тебя сколько угодно, родни нет, – уточнил Абдель.
– Можно сказать, спокойная покойница, – фыркнул Буба.
Амбруаз решил, что ослышался.
– Как это нет родни? Мы же говорим о мадам де Морбьё, да?
– Между прочим, мадемуазель де Морбьё. Ну да, из родственников никого, так в заведении сказали.
Спускаясь в лифте на минус второй этаж, Амбруаз позвонил в “Камышовую поляну”. Представившись, он попросил подтвердить информацию. Девушка на телефоне плакала.
– Какой ужас, месье Ларнье. Трое погибших, вы представляете? Трое! Нет, у Изабель не было родственников. Какие-то дальние внучатые племянники, но они у нее ни разу не появлялись. Вы один к ней приходили на день рождения. А сколько она нам рассказывала про своего танатопрактика! Знаете, она вас очень ценила, можно так сказать. Каждый раз после вашего прихода расхваливала вас днями напролет.
– Мне она говорила, что ее муж давно умер, но часто упоминала дочь, которая по воскресеньям водит ее в ресторан.
– Выдумки, месье Ларнье. Она никогда не была замужем и тем более не имела детей. Изабель была большая мастерица рассказывать истории. Вообще-то она по жизни этим и занималась, писала всякие истории. Она была писательница.
– А внуки и правнуки, которые рисовали ей картинки? Ведь не приснились же мне все эти рисунки у нее на стенах?
– А, рисунки! Это детишки из начальной школы рисуют для стариков из нашего приюта. Они во всех комнатах висят. Нет, месье Ларнье, мне очень жаль, но в каком-то смысле только мы и вы были ее родственниками.
Обнаженное тело Изабель де Морбьё ожидало Амбруаза на стальном лабораторном столе. Судмедэксперт подтвердил смерть от удушья. Молодой человек поставил на пол свои чемоданчики и подошел к трупу. Изабель, как и две другие жертвы пожара, охватившего восточное крыло “Камышовой поляны”, задохнулась во сне. Пламя не успело добраться до ее тела, и лицо осталось неповрежденным. Бальзамирование после вскрытия всегда было делом тонким и долгим. Когда он обмывал останки влажной простыней, звонкий голос старой женщины зазвучал в его голове ясно и отчетливо, словно в комнате под названием “Орхидея”: “Расскажите о себе, Амбруаз. Вы никогда ничего о себе не рассказываете”. Он улыбнулся. И пока его руки скользили по белой коже с прожилками, он заговорил. Рассказал про Манель, про ее возмущенные крики и негодующий взгляд при первой их встрече. Про Манель и ее пылающие глаза, про ее черные как смоль волосы, про ее гибкое тело, пьянящий запах, волшебный смех. Про Манель и ее губы, которыми он не мог насытиться. Описал, как проходят их дни, как оба ждут вечера, когда снова будут вместе.
– Месяц назад освободилась квартира Жандронов на третьем этаже. Очень для нас кстати. Теперь, чтобы сделать укол Бет, надо просто подняться этажом выше. А-а, я же вам не рассказывал про Бет, Изабель. Уверен, она бы вам очень понравилась.
Продолжая рассказ, он приступил к процедуре консервации; вскоре в его слова уже вплеталось урчание насоса.
– Вы бы видели, как расстроилась Одиль Лакусс, когда мы вернулись из Моржа и забрали у нее котяру. Бет тут же согласилась с ней чередоваться: неделю кот у нее, неделю у Одиль. Уже почти три месяца так живут. Передают его друг другу: неделя бретонских фаров на четвертом этаже, неделя поглаживаний и почесываний на первом. Котофею, похоже, нравится, приноровился к двум хозяйкам. Ах да, еще театр снова заработал. Я вам говорил, что участвую в театральной труппе? И у нас пополнение в лице Бет. Нам не хватало актрисы на маленькую роль дамы в возрасте. Как она держится на сцене в лучах софитов, когда произносит свои тирады! Вся труппа в ней просто души не чает, даром что она имеет скверную манеру вечно перевирать текст на свой лад.
Амбруаз говорил и обрабатывал тело. Иногда прерывался на минутку, закрепить канюлю или зашить прокол, потом рассказывал дальше. Про Самюэля, про то, как старик наслаждается каждым новым днем, проведенным на земле.
– Они с Манель отвезли снимки МРТ обратно доктору Жервезу. Хорошенький был вид у этого доктора, когда совершенно здоровый Самюэль переступил порог его кабинета! Манель говорит, он был похож на человека, к которому заявилось привидение.
Продолжая рассказ, молодой человек начал одевать покойную. Натянул шелковую комбинацию, потом ее любимое платье в цветочек. Обернул вокруг шеи шелковый шарф, украсил изящной шпилькой седые волосы. Наложил легкий грим на лицо и побрызгал щеки одеколоном. Амбруаз всегда носил его в чемоданчике, полезная вещь, когда нужно отбить запах консервантов. “Я никогда не пользовалась духами, только одеколоном, – каждый раз повторяла ему Изабель. – Муж его обожал”.
– Изабель де Морбьё, а вы отпетая врушка, – с улыбкой попенял ей Амбруаз. – Что ж, через три дня Рождество. Мы все будем праздновать у моего отца. С тех пор как мы вернулись из Моржа, мы каждое воскресенье созваниваемся, время от времени я заезжаю к нему домой. Болтаем про жизнь, я про свои трупы, он про свои семинары. Часто вспоминаем маму. Она словно вернулась к нам, память о ней заполнила пропасть между нами. Папа очень хотел, чтобы мы все пришли. Даже Самюэль с нами поедет. Не удивлюсь, если в этом году вместо рождественского полена у нас будет “Шварцвальд”.
Он наклонился к уху покойницы и шепнул:
– Рождество, рождение новой жизни. По-моему, подходящий день, чтобы объявить всем о том, что в животе у Манель растет маленькое существо, как вы думаете, Изабель?
Голос Изабель прозвучал в его голове звонко и радостно: чертовски отличный день, Амбруаз!
40
В последнее время Марселю Мовинье стало казаться, что его помощница ведет себя как-то иначе. Постоянная взвинченность, почти на грани бунта, приводившая старика в восторг, сменилась у Манель Фланден странной, подозрительной безмятежностью. Теперь она безропотно выполняла все дела из списка, начертанного на листке в клеточку, и старик никак не мог понять, что кроется за этим внешним спокойствием. В то утро в привычной картине появилось что-то новое, что-то было не так, но он не понимал, что именно. Сперва девушка, казалось, вела себя точно так же, как в другие дни. Как обычно, хлопнула входной дверью, крикнула ему во все горло из коридора: “Это всего лишь я”, – зашла в гостиную поздороваться, как делала все пять раз в неделю, пробежала глазами служебное предписание, ожидавшее ее на кухонном столе, потом пошла выносить в туалет ночную вазу и хорошенько сполоснула ее эмалированное нутро. И все равно что-то было не так, старика не собьешь, что-то мешало, словно камешек в ботинке, рождая в нем неотступную тревогу. Он отложил газету и заерзал в кресле. Никогда еще сиденье не казалось ему таким неудобным. Может, это не тревога, а дурное предчувствие? В конце концов он внушил себе, что мадемуазель Фланден, социальный работник и патентованная воровка, как они все, в этом он был уверен и скоро в этом убедится, решила сегодня утром перейти к активным действиям и обобрать его, беззащитного старика, лишить его купюры в пятьдесят евро. При одной мысли о воровстве старик удвоил бдительность и уже не сводил глаз с телевизора, служившего ему монитором для видеонаблюдения.
Сегодня он спрятал деньги в микроволновке, стоящей на кухонном шкафу. В конце концов даже самые хитрые мыши поддаются искушению, это он знал точно. За темным стеклом не столько виднелась, сколько угадывалась банкнота, лежащая на вращающемся круге. Девушка прибрала в спальне, запустила стиральную машину, подмела коридор и, напевая, снова появилась на кухне. Хорошо поет тот, кто поет последним, подумал старик, нашарил на коленях пульт и переключился на камеру номер три. В списке задач, написанном его убористым почерком, между пунктами “подмести коридор” и “разгрузить посудомойку” значился пункт “почистить кофеварку”, стоящую справа от микроволновки, и старик увидел, что помощница приступает к его выполнению. Поначалу он было засомневался, что ловушка сработает, сказал себе, что она ототрет агрегат и даже не заглянет в печку, но тут раздался характерный звук открывающейся дверцы, и его сердце так и подпрыгнуло. Нашла купюру! Старик впился глазами в экран, подстерегая каждое движение Манель. Та на пару секунд повернулась к микроволновке, ему было видно только ее спину. И тогда случилось то, на что он всегда надеялся. Он скорее угадал, чем увидел, как ее рука быстро юркнула в карман халата, потом раздался сухой щелчок закрывшейся дверцы. Ловушка захлопнулась, возликовал старик. Вынимая посуду из посудомоечной машины, девушка все время напевала. Нежным, теплым, незнакомым старику голосом она распевала “Тише, мыши, кот на крыше” и кружила по кухне под перестук тарелок. Его встревожил странный выбор песни, а еще больше – то, как помощница после каждого куплета с вызовом глядела прямо в глазок камеры. Нехорошо. Совсем нехорошо. Но она попалась. Запись достаточно четкая, он сумеет вывести эту клептоманку на чистую воду и донести ее наклонности до начальства.
В то утро Марселю Мовинье даже некогда было взглянуть на свой хронометр, проверить, прошли ли положенные его помощнице сорок восемь минут. Не успела Манель уйти, как он потрусил на кухню и поскорей открыл дверцу печки. Не веря своим глазам и разинув рот от изумления, старик вглядывался в темное нутро микроволновки. Купюра в пятьдесят евро с номером U18190763573 исчезла. А вместо нее на стеклянном круге ровненько лежала другая. Он дрожащими пальцами схватил ее и стал разглядывать со всех сторон. Понюхал ее, потер, изучил на просвет. Новенькая банкнота с цифрой прямо над барочной аркой. Картинка заплясала у него перед глазами. Сто евро. Сто евро огнем жгли его пальцы. Он положил деньги обратно в печку. Голова шла кругом. Один-единственный вопрос метался по черепу, ударяясь об стенки: зачем проклятая девка это сделала? Внезапно он понял, что не сможет распоряжаться этой суммой по своему усмотрению. Купюра принадлежала ему не целиком, она принадлежала им обоим. Пятьдесят на пятьдесят. Марсель Мовинье чертыхнулся. Юная помощница поймала его в его же собственную ловушку. И тут до него вдруг дошло, что за непонятная вещь так царапнула его с самого начала. В то утро Манель Фланден, здороваясь с ним, первый раз ему улыбнулась. Во весь рот.
Сноски
1
Перевод В. Левика. (Здесь и далее – прим. перев.)
(обратно)2
Куинь-аман (или кунь-аман) – традиционный бретонский слоеный пирог, иногда готовится в виде небольших булочек.
(обратно)3
Фар – бретонский пирог с черносливом.
(обратно)4
Повторяйте за мной: ку-ииинь-аман (англ.).
(обратно)5
Да, отлично. А где ку-ииинь-аманы? (англ.)
(обратно)6
Ку-ииинь-аманы на кухне (англ.).
(обратно)7
Имеется в виду фильм Реми Безансона “Первый день оставшейся жизни” (2008).
(обратно)


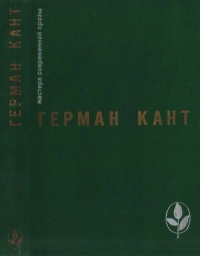
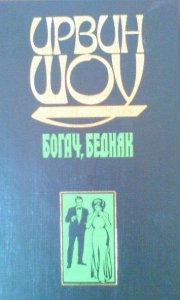





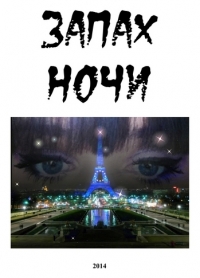
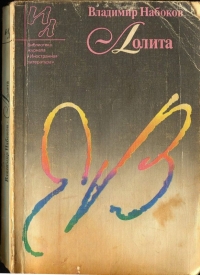
Комментарии к книге «Вся оставшаяся жизнь», Жан-Поль Дидьелоран
Всего 0 комментариев