Зульфю Ливанели Счастье
MUTLULUK
Copyright © o.z. livaneli
© Емельянова Н., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Полет Мерьем
Семнадцатилетняя Мерьем тонула в глубоком, как озеро Ван, сне. Совершенно нагая, она летела, ухватившись за шею чудесной птицы Анка. И полет был таким легким, будто девушку несла, касаясь облаков, не сказочная белая птица, а уносило перышко.
Мерьем дышала счастьем. Прохладный ветерок щекотал ее плечи и спину. Ласкал бедра, крепко сжимавшие птицу. А внутри девушки разливалась сладкая дрожь.
– Эй, птица! – кричала душа Мерьем. – Благословенная! Святая птица!
Это была та самая птица из бабушкиных рассказов: огромная, тощая, костлявая, очень сильная, со взглядом, который любого напугает. Ночи напролет бабушка славословила ее. И вот она наконец явилась. Птица спустилась к их дому, выбрала среди десятков детей человеческих Мерьем, посадила к себе на шею и унесла к самым небесам.
По бабушкиным рассказам Мерьем знала, когда птица крикнет: «Гак!», ты должен ей дать молока, а когда: «Гук» – мяса.
На своей благословенной шее унесет тебя птица из одной страны в другую, не станет останавливаться, но главное – не забывать давать ей молока и мяса.
Если же забудешь, то священная птица разгневается и скинет тебя. И тогда, о боже, падай, падай обратно к людям до самой земли! Ох, знала все это Мерьем, знала.
Внизу искрилась лазурь озера Ван, рядом возник большой город, равного которому нет на земле – Стамбул. Мерьем глаз оторвать не могла от всего этого…
Но вдруг услышала пронзительный птичий: «Гак!»
– Эй, божественная птица, где же я найду тебе молока? – вырвалось у Мерьем. – Прямо здесь, посреди неба, где я надою молока, чтобы напоить тебя?
Птица еще раз гакнула.
Мерьем закричала:
– Где я, несчастная, должна найти тебе молока? Здесь же нету коровы с налившимся выменем, которую я могла бы подоить.
Но птица в ответ еще громче: «Гак!» Мерьем обмерла от страха. В третий раз прокричав «Гак», птица стала раскачиваться, словно собиралась сбросить девушку со своей спины.
– Беда мне!
Мерьем взмолилась птице Анка:
– Не могла бы ты спуститься на землю, а там я подою корову, дам тебе молока, сладкого как мед, сколько захочешь.
Мерьем спохватилась. У коровы есть вымя, полное молока, а у нее маленькие груди. Сдавив одну, она увидела капельку молока на кончике соска. Наклонившись вперед, сжимая до боли грудь, она смочила голову птицы теплым молоком. Сперва была капля, потом тонкая струйка, и вот уже молоко потекло как изобильный источник!
Благословенная птица, повернув голову, напилась теплого молока и успокоилась.
Мерьем парила, а ветер поглаживал ее тело, избавлял от боли.
А потом Мерьем услышала: «Гук».
– Ох, беда: здесь, на седьмом небе, где же я найду мясо, накормить тебя?
Птица лишь ответила: «Гук», и Мерьем снова начала возносить мольбы. Но в этот раз птице дать было нечего. Птица в третий раз возопила: «Гук», и вопль ее был страшным, сотрясающим небеса. Мерьем испугалась, не наступил ли конец света. Она умоляла:
– Прекрасная птица, святая, благословенная! Что бы там ни было, только не бросай меня вниз!
Ужасного не случилось, птица не сбросила ее вниз. Но Мерьем увидела, что они приближались к огромной горе, как шпиль выросшей посреди неба. Гора была такой высокой, что облака ютились снизу, не смея подступить к вершине. Птица вознесла девушку на самый верх и оставила. Пик скалы впился в поясницу, нагая Мерьем дрожала. Только от чего сильнее: от холода или страха?
Вдруг голова священной птицы изменилась: белоснежная, она стала теперь устрашающе темной и со всех сторон обросла черной щетиной. Клюв вытянулся, как окровавленные щипцы.
И снова: «Гук».
– Хочет мяса, – в страхе подумала Мерьем, – хочет мясо – мое мясо есть хочет! Сначала молоко мое пила, а сейчас хочет моего мяса…
Только теперь она увидела окровавленный клюв птицы между своих бедер, он погружался в ее грешное место. Это было немыслимо, но он нырнул в ее нехорошее, грязное, несчастливое место.
«Я вижу сон, все это происходит во сне, – подумала Мерьем, – все это неправда…»
Однако от этих мыслей спокойней не стало.
Птица упорно двигалась между ее бедер. Безуспешно Мерьем пыталась ее сдержать – птица была сильной, даже не чувствовала ударов слабой девушки, все продолжала прорываться туда, рвать, рвать ее плоть…
Потом голова птицы превратилась в человеческую, покрытую черной щетиной. Мерьем узнала бороду дяди.
– Дядя, ты можешь отдать мне вырванные из меня куски? – спросила она.
Чернобородая птица с человеческой головой оставила рядом с Мерьем куски и взмыла в небо.
В одиночестве на вершине скалы семнадцатилетняя девушка укладывала вырванную плоть на место, тело заживало.
Мерьем внезапно проснулась и, не открывая глаз, подумала:
«Я не хочу просыпаться! Я совсем не хочу просыпаться».
Не сна бояться надо, жизнь гораздо страшнее.
И Мерьем открыла глаза.
В селе о ее глазах было много пересудов: в них смешались тысячи оттенков – от карего до зеленого. Кто-то был пленником этих больших, выразительных глаз, но было и много врагов.
Бабушка перед смертью твердила ласково:
– Глаза этой девочки говорят: «Солнышко, ты не всходи, отдохни, давай мы посветим вместо тебя!»
Мерьем поняла, что крепко-накрепко вцепилась руками между ног, так крепко, что и впрямь стало больно.
Хорошо все же, что она проснулась от этого кошмара.
Теперь оставалась только птица, дядя уже стерся из ее памяти.
Теперь она не помнила толком о том, как пошла в садовый домик отнести дяде еду, о том, как здоровенный мужик, наседая, мучал, терзал ее, бедную, о том, как она потеряла сознание, а придя в себя, словно безумная, выбежала прочь из дома и без оглядки побежала, не разбирая дороги.
Все это потонуло в тумане.
С расцарапанными руками, засохшей на ногах кровью, обезумевшую, бьющуюся, словно раненая птица, ее нашли посреди кладбища два молодых человека. И на глазах у всего села, прямо через деревенский рынок, отнесли домой. Дом погрузился в мрачную тишину. Перепуганная семья заперла ее в полутемном амбаре, пытаясь спрятать грех.
О том, что случилось в садовом домике, Мерьем никому не сказала ни слова, и никто не узнал имя совершившего это мерзкое дело. К тому же она до конца не понимала – в самом деле это произошло, или же это было сном. В голове все спуталось: воспоминания казались невозможными. Она все никак не могла заставить себя произнести слово «дядя», да и никак не могла поверить обрывкам памяти. И страшное укрылось где-то внутри. Она словно обо всем забыла. Каждому известно, что человек не отвечает за свои сны.
Мерьем вытянулась на тонком тюфячке, сквозь который чувствовала пол. В амбаре было сумрачно, только сквозь щели потрескавшейся двери просачивался слабый свет. Постороннему в этой темноте было бы трудно разглядеть пыльные седла и прочую упряжь для лошадей, брошенные в угол вилы, разложенные на деревянных полках торбы, в которых хранили тонкие сухие лепешки и виноградную пастилу. Но Мерьем хорошо знала, где что лежит.
Вся жизнь девушки прошла в этом забытом Аллахом месте, полуселе, полудеревне на берегу озера Ван. Она знала здесь все: каждое дерево, каждую птицу, каждый дом, оставленный армянами, дома эти были двухэтажными, с садами, которые назывались «хаят, двор». Знала амбары, полные зерна, комнаты для молитвенных омовений, печи, хлева, курятники, сады… Она знала все настолько хорошо, что не потерялась бы с завязанными глазами. У деревянных дверей дома ее семьи были подвешены две колотушки – одна большая, другая маленькая. Гость-мужчина стучал большой, женщина – той, что поменьше. Это было важно для женской части дома, чтобы подготовиться – если приходил мужчина, то его обитательницы успевали либо скрыться, либо укутаться в платки.
Мерьем никогда не выезжала из села. За его пределами она только и видела, что возвышающийся вдалеке холм, отчего иногда думала, что совсем не знает мира. Однако она не расстраивалась по этому поводу и знала, что, как только захочет, сможет поехать в место, которое называется Стамбулом. Люди вокруг время от времени говорили друг о друге: «Он поехал в Стамбул, он приехал из Стамбула!», и Мерьем знала, что за этим холмом находится Стамбул. Однажды и она поедет туда вместе с другими и, перевалив через холм, увидит внизу тот самый золотой город, о котором так много говорят.
Он был так близко, что туда совсем несложно было добраться, однако вдруг она вспомнила, что уйти не сможет. И не только в Стамбул, лежащий за горой, но даже и за водой к источнику, куда всегда ходила, или к пекарю на рынок, чтобы взять хлеба, или в лавку, где так приятно пахнет новыми, завезенными тканями, или даже в хамам, чтобы просто вымыться, где прежде проводила по целому дню, – никуда она не может сделать ни шагу. Потому что она пленница – заперта в амбаре. Семья отгородилось от нее и не подпускает к себе.
Даже в туалет теперь Мерьем не может пойти вместе с тетушками и их дочками, как было всегда. Летними вечерами, после ужина, женщины собираются и, найдя угол в саду, присев, писают, одновременно продолжая вести беседу. Как-то раз тетушка после того, как все уже закончили свое дело, заметила про ее непрекращающееся журчание:
– Посмотрите-ка, машаллах, дается же сполна молодым, вон, у Мерьем сколько накопилось!
Двоюродные сестры, внешне дружелюбные, втайне всегда ненавидели сироту Мерьем, это проявлялось даже в том, что касалось справления естественной нужды.
Сестрица Фатьма тогда сказала в ответ:
– Аллах с вами, мама. Какая связь может быть между молодостью и тем, кто и сколько мочится?
И видом, и тоном своим она словно защищала и себя, и свою мать.
У Мерьем не было матери. Бедняжка умерла через несколько дней после рождения девочки. Несмотря на все старания повитухи Гюлизар, чтение молитв имамом, все возможные и невозможные заговоры и знахарские снадобья, которые кто только не советовал и которые не помогали, а лишь мучали ее, – она тихо преставилась и была похоронена за деревней, на кладбище, кишащем змеями, среди травы высокой в человеческий рост.
А тетушки и мачеха любили собираться после обеда в двухэтажном каменном доме, где могли часами болтать, растянувшись на кроватях и подперев руками головы. Женским разговорам не было конца. Все тетки, кроме материной сестры-близнеца, были настолько полными, что никак не могли улечься, перекатываясь туда-сюда, чтобы получше устроиться в постели.
Теперь Мерьем не могла послушать ни этих разговоров, ни пересудов о соседях, ни пойти вместе пописать, ни поесть с ними на кухне.
Теперь ей и рыбу из озера Ван есть было нельзя. Рыба эта не успевала вырастать из-за того, что вода была минерализирована, однако в реке Эрджиш, впадавшей в озеро, мелкая кефаль была настолько вкусной, что сколько ее ни съешь, не наешься досыта. Рыбу эту засаливали, держали под гнетом и потом ели целый год. Ну а сейчас все радости мира оказались для Мерьем под запретом, всего ее лишили.
Только маленькая мачеха Дёне иногда приносит ей еду, а потом разрешает сходить в укромный уголок в саду. Только и всего! Никто больше в целом мире не общался с Мерьем. Сколько ее еще тут будут держать, что будут делать, как могут решить ее судьбу, Мерьем не знала.
Несколько раз она спрашивала у Дёне, которая была почти ее ровесницей, что же ожидает ее. Однако злая женщина только напугала ее ответом: «Ты сама знаешь, какое может быть наказание за то, что ты совершила». А на следующий день упомянула про Стамбул.
С того дня, как на Мерьем свалилась беда, она не видела отца. От этого человека и раньше-то было не дождаться словечка. В доме властвовал дядя, а с отцом никто особо не считался. Дядя же не только в доме или деревне – везде пользовался почетом. Посетители приходили к нему с изобильными дарами и подношениями, целовали руки, оказывали большое уважение. Все боялись этого жесткого, гневливого человека. А он читал им айяты из Священного Корана, пересказывал хадисы из жизни Пророка, наставлял их на жизненном пути. У него, шейха суфийского тариката[1], были ученики даже по ту сторону горы, в самом Стамбуле.
До сидящей в сарае трепещущей от страха Мерьем иногда доносился свирепый голос дяди, который заточил ее здесь: «Уберите с глаз моих эту позорную, бесчестную, бесстыжую шлюху!»
По словам Дёне, из-за нее «честь семьи навечно опозорена» и теперь в деревне на людях и лица показать нельзя.
– Что же делают с девушками, которые попадают в такую беду? – спрашивала она наивно Дёне.
И Дёне ответила:
– Отправляют в Стамбул. Из деревни две или три девушки так уже уехали.
Тогда страх внутри немного утих: значит, и всего-то наказания будет, что она отправится за гору! Однако отчего же тогда был таким взгляд Дёне, когда она говорила ей: «Девочка моя, нашла же ты беду на свою голову!»? И раньше-то, когда она не была еще настолько грешна, от змеиного взгляда Дёне у нее стыла в жилах кровь. А сейчас и вовсе…
На прощание Дёне добавила:
– Уехали, конечно, те, кто не повесился. Были и такие, которые повеситься предпочли.
После ее ухода Мерьем с содроганием посмотрела на сваленные в углу мотки веревок, бечевок и шнуров. А может, ее заперли здесь для того, чтобы она повесилась? Деревянные балки и брусья на потолке амбара, лежащие на полу веревки – все будто нарочно здесь для этого дела. Если захочется повеситься, то более подходящего места, чем этот амбар, не найти.
Размышляя над коварной усмешкой Дёне, которая проскользнула во время разговора, Мерьем все глубже убеждалась, что в ее словах прячется ужасный смысл. Дёне явно и с отцом Мерьем говорила об этом. Влияние этой молодой женщины, новой невестки, на отца было огромным. Ведь после второй жены, которая оказалась бесплодной, эта родила ему двоих детей.
Значит, ее семья нашла ей подходящее наказание: они хотели, чтобы Мерьем без лишнего шума повесилась – смыла кровью позор. Со временем все забудется. К тому же кто обвинит семью в грехах девушки, если она покончила жизнь самоубийством? Мерьем помнила, как все часто во всех подробностях судачили с притворными печальными минами о двух повесившихся девушках…
Она взяла в руки витой жгут, лежащий в углу. Веревка противно шуршала, она была старая, ею часто пользовались, и местами она обтрепалась. Концы веревки свисали свободно. Мерьем подняла взгляд, решаясь, посмотрела на рассохшуюся балку. Она часто слышала раньше, как это делается. Надо забросить веревку и закрепить на балке, подтянуть другой конец, завязать его и, встав на колоду, просунуть голову в петлю. Затем оттолкнуться и выбить опору из-под ног. И повиснуть. Сперва может заболеть горло, однако через пару минут все пройдет. Смерть, должно быть, похожа на глубокий сон, такой, в каком уже никогда не увидишь эту ужасную птицу Анка.
«Интересно, мертвецы видят сны?» – подумала она.
Оттуда еще никто не возвращался, поэтому никто не знает, видят ли они сны. Может, ее покойная мать в этот момент видит ее во сне. Наверное, она очень сердится из-за того, что Мерьем думает повеситься. Конечно, какая мать захочет увидеть, что ее дочь наложила на себя руки?
Подержав немного в руках веревку, Мерьем швырнула ее на землю, словно змею:
– Пошла вон!
И вдруг почувствовала легкость. Почему-то ободрилась и даже засмеялась.
– Не расстраивайся, мамочка! Посмотри, я не убила себя.
А потом она поняла причину своей внезапной радости: Стамбул! Дёне обмолвилась, что тех девушек, которые не наложили на себя руки, отправляют в Стамбул. Значит, она тоже, как и те, другие, отправится в большой и прекрасный город за лысой горой…
«Если бы мне только разрешили, то я немедленно, даже пешком, пошла», – подумала она.
Даже пусть на ночь глядя, но пошла бы!
Однако пока дядя не примет решения, она не сможет уйти. Сбежать Мерьем даже не надеялась. Ведь ее дяде прислуживали джинны, которые знали обо всем, открывали ему тайны…
По мнению дяди, все люди грешны, но женщины – просто исчадия ада. Они достойны наказания уже за одно то, что родились женщинами. Женщина – порождение шайтана, грязное и опасное. Как праматерь Ева – Хавва, она обрушивает на голову мужчины беды, и за это нужно почаще лупить ее – как говорят, по животу палками, по спине розгами. Мерьем с детства слушала все это и ненавидела себя за то, что родилась женщиной:
– Бог мой, ну почему ты создал меня женщиной? – мучилась вопросом, искренне считая себя погрязшей в грехе.
Когда она была тощим ребенком с ручками и ножками-ниточками, все было намного легче. Она вместе с другими детьми носилась с утра до вечера, как жеребенок по пыльной деревушке, застроенной кирпичными и каменными домами, где ограды садов подпирали старые колеса от телег, где протекал грязный ручеек.
Иногда, придя на берег бескрайнего лазурного озера, они заходили в воду по колено и начинали брызгаться. С дядиным сыном Джемалем, который был старше ее на четыре года, и его самым близким другом Мемо, вместе с другими девочками и мальчиками, они играли, бросая на растрескавшиеся стены глину. Они наперебой мчались, чтобы первыми залезть в брошенные кое-где остовы старых автомобилей, забирались на плоские стены и разоряли птичьи гнезда.
С того времени, когда ее груди налились, как два бутона, а тело приняло округлые формы и начались менструации, она больше никогда не общалась ни с Джемалем, ни с Мемо. Они были людьми, а она грешницей. Теперь ей было необходимо укрываться, укутываться, прислуживать, нести повинности – ничего, кроме этого, делать она была недостойна. Ведь от женщины, как порочного создания, в этом мире исходили только беды…
Мерьем заставили покрыть голову. Даже в знойные летние дни она не снимала с себя теплой одежды. Укутанная, ужасно потея под пятидесятиградусным солнцем, она тянула свою горькую лямку.
Вступив в женскую пору, она никак не могла понять: зачем вообще матери рожают дочерей. Лучше пусть девочки умирают при рождении. Если бы Аллах не хотел ее карать, не делал бы женщиной, а сотворил мужчиной. А при таком раскладе – и не живешь, и не умираешь.
И она принимала свою тяжелую кару. Дело известное, как только у девочки открывается это место, тут же она становится грязной. Из-за него в грех и впадешь, из-за него расплачиваешься. Мерьем потеряла счет молитвам, в которых просила об исчезновении этого проклятия. Умоляла: Аллах Всемогущий, пусть я однажды утром проснусь, а это место пропало! Однако ежедневно находила наказание там же, и ее окутывало отчаяние…
В детстве, когда она писалась в постель, тетка пугала ее, что подожжет ей это место. Один раз даже, взяв спичку, тетка подожгла ее и поднесла прямо туда, но в последний момент чего-то передумала. Повзрослев, Мерьем много раз повторяла: «Чтоб ты сгорело!»
Грех, совершенный в раннем детстве, пал проклятием на ее голову. Все случилось на святом месте, у гробницы Шекера Бабы.
Гробница Шекера Бабы располагалась высоко на холме, каждый приходящий туда рассказывал о своих бедах, читал молитвы, привязывал ленточки, и беды отступали. Когда она была маленькой девочкой, ее тоже взяли с собой, а чтобы она не устала, посадили на спину осла. Тогда ей было четыре или пять. Несколько часов, раскачиваясь в седле, они взбирались по извилистой тропинке на лысую гору. А потом, придя к мазару Шекера Бабы, все опустились на землю и с закрытыми глазами воздавали руки. Мерьем спросила свою тетю, что надо делать, а та зашипела на нее: «Ш-ш-ш! Мы сейчас уснем!» И показав на тех, кто молился с закрытыми глазами, произнесла: «Посмотри, все спят. Ты тоже глаза закрывай и спи».
Мерьем, так же, как все, опустилась на землю и протянула руки, глядя в небо, однако не смогла уснуть, как другие, потому что захотела писать. Она терпела изо всех сил, но безуспешно.
Приоткрыв глаз, она посмотрела вокруг. Все спали. Больше она не могла сдерживаться и почувствовала, как теплая струйка побежала по ногам. Она снова осмотрелась, не заметили ли кто, но, слава богу, все спали. А значит, уже и она, так же как все, могла спокойно заснуть.
Спустя какое-то время тетя произнесла: «Все, пора идти!» Проснувшись, Мерьем ничего не помнила, однако на обратном пути тетя, усаживая ее на осла, заметила, что случилось, и напустилась на нее: «Дочка, это что? Ты не нашла другого места, чтобы пописать?» А потом она долго-долго втолковывала ей, что случается с той, кто пописает во время зиярата к Шекеру Бабе: между ног ее появится рана – так Аллах наказывает плохих людей! Всю дорогу назад ноги Мерьем, сжимавшие седло, горели. Она так испугалась теткиных слов, что и дома долго не могла прийти в себя, все ждала, что на нее нападут джинны и чудовищные албасты[2] придут, чтобы утащить ее, а на грешном ее месте разверзнется рана. Она так плакала, что глаза распухли…
С этого дня она знала, что за бесстыдство и недопустимый грех Шекер Баба накажет ее и на голову ее упадет много несчастий. В итоге так все и получилось. Грешное ее место расклевали птицы, а ее саму выгнали из дома и заперли в амбаре, чтобы позже страшно наказать. Интересно, чем же все закончится? Всех таких вот, как она, опозоренных девушек отправляют в Стамбул, или, может, есть что-то более ужасное? Она не знала. Все решал глава дома – дядя.
Даже отец Мерьем, этот кроткий, безропотный человек, занимающийся земледелием, боялся старшего брата. Преклонялся перед ним – и по вере своей, и по возрасту. Несмотря на то, что отец давно был взрослым, самостоятельным человеком, он рядом с братом не курил, а если тот случайно заставал его с папиросой, то младший предпочитал либо спрятать окурок в кармане брюк, либо затушить в ладони.
Дядя занимался приходящими к нему мюридами и религиозными делами. А на плечах отца лежало обеспечение семьи и возделывание нескольких земельных участков. Отец, Тахсин-ага, занимался всем: следил за скотом, пастухами, нанятыми крестьянами, издольщиками и наполнял домашние амбары урожаем, собранным на выделенных издольщикам угодьях.
Оставшееся от армян поместье было обширным, так что вся семья проживала здесь вместе. Раньше этот дом принадлежал человеку по имени Оганес, которого все в деревне очень любили и который помогал каждому. Но однажды пришли военные и сказали, чтобы все армяне деревни собрались у подножия деревенского холма, взяв с собой вещи, сколько могут унести. Армяне, с плачами и стонами, волей-неволей подчинились и, бросив на деревню прощальный взгляд, ушли. Больше их не видели и не слышали. Никто из них не вернулся обратно. Говорили, что военные увели их очень далеко, однако об этом только шептались. Некоторые армяне, уходя, оставляли свои ценные вещи на хранение соседям-мусульманам, говоря, что заберут их, когда вернутся, но с того времени прошли десятилетия, а от армян не было ни слуху ни духу.
Тут была еще одна странность: в деревне поговаривали, что некоторые пожилые деревенские женщины были на самом деле армянками. В послеобеденных полусонных разговорах тетушки Мерьем шептались, что эти пожилые женщины были армянскими девочками, которых в те злополучные дни семьи, не зная, что ждет их впереди, оставили соседям-мусульманам… В семьях девочкам сменили имена «Ани» или «Ануш» на «Салиха» и «Фатьма», вырастили их как мусульманских девочек, а потом выдали замуж. Деревенские никак не могли решить: если этим девочкам сменили религию, то дозволено ли выдавать их замуж по мусульманским обычаям, а главное, потом – хоронить на мусульманском кладбище под похоронный намаз? Поэтому во время намаза ходжа спрашивает общину: «Знаете ли вы покойного?», и все хором свидетельствуют: «Мы хорошо знаем!» Потом имам со словами: «Госпожа – человек правильной веры» начинает намаз, и все тоже совершают намаз. Но возможно, эти мужчины-мусульмане совершали намаз и для какой-то женщины-христианки. То есть – и для женщины, и для христианки! Удивительные вещи творятся на свете!
После высылки армян в оставшихся после них домах поселились мусульмане, разобрав армянские пашни и рабочие места. Поместье семьи Мерьем было одним из самых больших в селе. До Мерьем доходили сплетни, будто это поместье ее дед, Пехлеван Ахмет, отобрал. По всей округе ходили легенды о его огромной силе.
Самыми любимыми рассказами, которые Мерьем могла слушать бесконечно, были рассказы о детстве дедушки Ахмета. Она вся разрумянивалась, когда слушала историю о том, как мать Ахмета постоянно кормила его брата молочными сливками, Ахмета это очень злило, хотя виду он не показывал. В один из дней, когда матери не было дома, Ахмет вывел из хлева ишака, вскинул его себе на плечи и притащил на второй этаж, а оттуда – на крышу дома. Вернувшись с поля домой, мать и отец никак не могли уразуметь: каким образом ишак оказался наверху! А потом принялись ломать голову, как же снять ишака с крыши. Зная силу Ахмета, они умоляли его спустить ишака вниз. Ахмет же смеялся и отвечал: «Кто ест сливки, тот пусть и ишака снимает». На этом история кончалась, а маленькая Мерьем думала, что ишак до сих пор стоит на крыше, и постоянно пыталась там его разглядеть. Только потом она поняла, что дом уже давно другой.
Однажды Мерьем спросила тетю, правда ли все эти истории, а особенно те, что рассказывают об армянах, и тетя подтвердила, что это действительно так. Исчезновению десятков армян предшествовало знамение. В один февральский день в селе разразилась страшная буря: ветер ревел как сумасшедший, он рушил минареты, вырывал с корнем деревья, уносил крыши. Однако таинственней всего оказалось то, что и армян словно сдуло на небо ветром. В мудрости Всевышнего не может быть сомнения. Этот божественный ветер не затронул деревенских мусульман, однако все армяне, сколько их ни было, и мужчины, и женщины, со всеми своими чадами и домочадцами словно бы испарились. Может, они тоже были любимыми рабами Всевышнего и были вознесены как их пророк Иисус?..
Мерьем очень понравился рассказ о вознесении армян. Это было чудо! Закрыв глаза, она пыталась представить, как гуляют по небесам армянские девочки. Она видела, как мамы с отцами сидят на облаках и говорят своим детям, парящим радостно в небесной синеве: «Ребята, уже поздно, давайте-ка возвращайтесь на свое облако!»
Днем большинство членов семьи оставались дома, а дядю в это время дома было не застать. И хорошо, что так! В стоявшем на отшибе садовом домике дядя принимал визитеров, давших обет, а иногда уединялся там и молился в одиночестве. В такие дни дети приносили ему еду в судках. Даже отец, Тахсин-ага, мог видеть своего брата только в мечети.
После вечернего намаза женщины накрывали стол, и пищу сначала принимали мужчины, а женщины ждали, стоя за их спинами. После того как трапеза заканчивалась, женщины уносили остатки на кухню и ели там. Дядя очень сердился, если за едой разговаривали и время приема пищи затягивалось. Поэтому пока все быстро хлебали обжигающий суп, следом уже шел мясной плов, а поверх всего – пахлава. Нельзя тратить время на застолья, это недопустимо! После еды наступал час вечерней молитвы. Дядя становился впереди, как имам, отец, Тахсин-ага, с дядиным сыном Джемалем выстраивались сзади – и совершался намаз. Во время месяца Рамадан мужчины, конечно же, ночью шли в мечеть, чтобы совершить там намаз-теравих[3].
Жена Тахсина-ага умерла во время рождения первого ребенка – ее, Мерьем. А вторая его жена оказалась бесплодной, и на протяжении нескольких лет у него не было других детей. Дёне, на которой он женился позже, родила ему одного за другим двоих.
Но они пока еще были очень маленькими. У дяди же было три дочери и два сына. Старший сын Якуб двумя годами ранее со своей женой Назик и двумя детьми переселился в Стамбул. Из крайне редких новостей все знали, что у семьи все очень хорошо, что в Стамбуле, настоящем «городе золота», живут они богато. Младший брат Якуба Джемаль отправился на юго-восток страны для прохождения военной службы. А дочери – старшая Айше и средняя Хатидже – уже вышли замуж.
И дом опустел.
Когда стало известно, что Джемаль находится в составе специального подразделения в горах Габар[4], где воюет против курдских повстанцев, то его отец начал возносить молитвы к Всевышнему с просьбой уберечь сына: «Аллах Милосердный, спаси и помилуй!» Из-за того, что радио и телевизор, как изобретения неверных-гяуров, в их доме были запрещены, а в приходящих от Джемаля письмах не содержалось секретной информации, то есть сведений о бойцах, павших смертью храбрых во время боестолкновений, там не было, никакой информации о сыне семья толком не получала.
Профессор плачет
В то время, когда в пыльной деревеньке на берегу озера Ван Мерьем пребывала в нерадостных думах, в 1300 километрах западнее, в распростертом на двух материках городе Стамбуле, профессор, доктор наук Ирфан Курудал, которого часто называли просто Профессор, сорока четырех лет, обладатель известного имени и множества званий, проснулся от собственного крика, зная наверняка, что с момента, как он заснул, не прошло и получаса. Потому что в последнее время такие пробуждения вошли в привычку.
Не знавший за всю свою жизнь бессонницы профессор в последние месяцы, как обычно, ложился чуть позже полуночи и, как только касался подушки, погружался в спокойный сон. Однако вскоре он вскакивал от страха. Ему снилось, будто чернокрылая птица клевала его грудь.
Алкоголь не помогал. Что пей, что не пей. Он уже проверял.
Он привык ложиться в одно и то же время и спать беспробудно до восьми утра, и его очень радовал такой распорядок. Но теперь каждая ночь была бессонной. Нервы у него стали ни к черту, и только кое-как под утро он заставлял себя снова заснуть.
На первый взгляд у профессора не было никаких проблем: с женой все в порядке, в университете тоже, его часто приглашали в качестве обозревателя на телевизионные передачи, и ведущие, обращаясь к нему «Ходжа, ходжа![5]», демонстрировали глубочайшее уважение. И раньше Профессор появлялся на экране, однако после того, как стал участвовать в еженедельных ток-шоу, его стали узнавать все – и свои, и приезжие, и на улицах, и в магазинах. Белая борода этого крупного человека резко контрастировала со смоляной шапкой волос, и кто его видел хоть раз, уже не мог забыть.
Да уж, Профессор был неподражаем!
И вот сейчас свет от фонарей из сада падал в комнату, освещая ночную тьму, а неподражаемый профессор, трясясь, как мышь, от страха, старался не разбудить спящую рядом жену, и этому страху не было конца. Из опыта прошлых ночей он знал: если продолжать лежать в постели, со страхом не справиться.
Нужно принять лекарство.
Бесшумно поднявшись, он отправился в ванную. У них с Айсель были раздельные ванные комнаты. Как только он повернул выключатель, свет заиграл на дорогой европейской сантехнике, засверкал мраморный пол. Так же, как и другими ночами, опустившись на край ванны, он начал раскачиваться.
«Ты – здоровый человек, – повторял он. – Нет никакой проблемы, никакого повода для страха. Не бойся, мальчик, не бойся! Это – твой дом. Тебя зовут Ирфан Курудал. Женщина, которая лежит в постели, твоя жена Айсель. Вечером мы вместе с шурином Седатом и его женой Иджляль ужинали в отеле Four Seasons. Много смеялись, веселились. Суши, которое мы ели, было великолепно. Не бойся! Пожевав ломтик лимона, ты выпил две бутылки холодного пива Corona. Остальные предпочли французское вино Sancerre. Нет ничего ужасного. После ужина Седат отвез вас домой на «рэндж ровере». Включив телевизор, пять-десять минут ты смотрел разные реалити-шоу. Как всегда, ерунда – длинноногие, большегрудые девицы… Ты же знаешь, что Айсель к таким вещам не ревнует, она понимающая, умная. Так что смотри, бояться абсолютно нечего».
Он думал все это – и в то же время смертельно боялся, так что сердце выпрыгивало из груди. Казалось, он уже и не Профессор вовсе, доктор наук Ирфан Курудал, а в его теле живет совсем другой человек. На протяжении нескольких месяцев он словно со стороны наблюдал за своей жизнью.
Он не знал, что стало причиной всему происходящему – увиденный ли им тот самый зловещий сон, или что-то другое помимо сна открыло путь его страхам. По мнению профессора Ирфана, самым плохим в снах было то, что человек не мог управлять происходящим.
Однажды ночью он увидел себя в маленькой больничной палате, куда пришел проведать какого-то больного. Профессор поставил в вазу принесенные цветы, сел на стуле напротив кровати. Настолько близко, что мог коснуться больного. Странным было то, что лежавшим в кровати человеком в пижаме был он сам. Выходило, Ирфан Курудал пришел проведать самого себя. Он сидел напротив самого себя, молчал и смотрел на собственное изможденное больное лицо.
А потом начался настоящий ужас. Рядом с сидящим на постели больным возникли несколько образов, а потом из них соткалось «нечто». Под взволнованным и испуганным взглядом Профессора это «нечто» медленно принимало форму, и вдруг напротив него возник еще один Ирфан Курудал. Три Ирфана Курудала – два, сидящих на кровати, и еще один, собственно, он сам. Все они безмолвно взирали друг на друга.
Через некоторое время два Ирфана, те, что на кровати, очень медленно, синхронно повернули головы направо. И теперь он видел их обоих в профиль.
А потом случилось самое страшное. Два лица, которые он видел в профиль, начали распадаться. Сначала пропали щеки, потом рты, подбородок, лоб. И самыми последними исчезли глаза.
Во сне Профессор завопил как резаный, жена Айсель, тихонечко потряся за плечо, разбудила его, и он был очень благодарен ей за это.
Айсель всегда спала беззвучно, даже дыхания нельзя было услышать. Учитывая, что его храп был подобен раскатам грома, можно было сказать, что по ночам не везло Айсель, но не ему.
Благодаря гимнастике, которой она занималась шесть дней в неделю, жена оставалась гибкой, подтянутой и, хоть разменяла пятый десяток, совсем не постарела. Иногда, просматривая вместе порно на DVD, они восхищались телами упругих красоток Тани Руссоф и Сильвии Сайнт. А потом Айсель в реальности воплощала точь-в-точь все, что они видели в фильме.
Иногда, проснувшись, он смотрел на ее лицо и твердил сам себе: «Смотри, вот твоя жена! Это твоя жена. Ее зовут Айсель!»
Пластической операции на правильном лице Айсель подвергся только нос. И так-то не очень большой, он был аккуратно уменьшен и легонечко вздернут вверх. В своем кругу она слыла женщиной, которая сделала меньше всего пластики.
Она занималась спортом, следила за модой, следовала программе диет Скарсдейла и упражнений Натана Притикина, всегда перед едой принимала пилюли для похудания, так что не нуждалась ни в какой липосакции.
Ей повезло найти одного бразильского хирурга, регулярно бывавшего в Стамбуле, связанного только с двумя-тремя ее знакомыми, который делал пластические операции на носу. Пластическая операция носа требовала высокого мастерства – так чтобы потом не было проблем с дыханием, и после того, как врач снял повязку, кроме синяков, державшихся несколько недель, других осложнений у Айсель не было. Некоторые ее подруги после операций не могли дышать, губы у них распухали, словно искусанные пчелами, а кое-кто даже вообще чуть не лишился носа.
«Вот, это твоя жена! – твердил себе Ирфан. – Это твоя любимая жена! Совсем ведь нечего бояться!»
Поскольку Айсель была дочерью одного из стамбульских судовладельцев, ему не было нужды зарабатывать деньги, однако после того, как с помощью шурина Профессор попал на телешоу, его доходы сильно возросли. Раз в неделю он появлялся на экране, вел беседу с коллегами и за это получал в месяц семь тысяч долларов. Этот дополнительный заработок он даже не тратил, а клал на накопительный счет в банке, а сверху капали еще двадцать пять процентов, да не в турецких лирах, а в долларах.
Друзья, державшие вклады в турецких лирах, выигрывали гораздо больше. В периоды кризиса они обналичивали банковские чеки и получали порой до пятидесяти процентов прибыли, играя на биржевом курсе. Профессор предпочитал держаться подальше от таких дел. Все же он был ученым, а не банкиром. Но если банк предлагает высокий процент, глупо отказываться…
Прямо скажем, шурин Седат от такого его поведения слегка психовал, но не особо, только встречаясь за ужином, он жужжал в уши, что Ирфан мог бы увеличить свои деньги в пять-десять раз, но переубедить его было невозможно.
Ужинали они обычно не дома. Как правило, в каком-нибудь новом ресторане. Они выбирали модные стамбульские рестораны «Кухню Чанга», или «Даунтаун», или «Циркус», где сочетались минимализм обстановки и изысканность блюд. Одно время они сильно пристрастились к «Пэйпер Мун», но когда в их окружении заговорили, что «это место пришло в упадок, туда ходят все подряд», они перестали туда ходить. Рыбные ресторанчики на берегу Босфора, куда прежде частенько заглядывали, они теперь посещали уже гораздо реже. Теперь они предпочитали крытый японский ресторан за его превосходные суши и сашими, голубую рыбу и рыбу-меч.
«Я очень счастлив», – подумал Ирфан Курудал и начал плакать. Почувствовав, как слезы катятся по щекам, он снова повторил: «Я очень счастлив!» Потому что все – в твоих руках, и жена учила его тому, как надо жить, и в переводных книгах, которые он читал, предписывалось думать только о хорошем. Да и учения Дальнего Востока, дзен-буддизм, философия Дао тоже говорят об этом: «Оставь свою жизнь течь как поток реки, думай о хорошем – и все будет хорошо, источник всего плохого в мире – отрицательные мысли».
После окончания Босфорского университета Айсель отправилась для совершенствования образования в Бостон, а там познакомилась со студентом Гарварда, живущим на стипендию – Ирфаном, вышла за него замуж и никогда в своей жизни не работала.
Они оба считали, что более веселого города, чем Стамбул, на свете нет, они вернулись назад, и в самом деле – в этой византийской и османской столице их жизнь пестрела развлечениями.
Еще месяц тому назад Ирфан чувствовал особую привлекательность этого хаотичного города, в котором жили миллионы людей, размышлял о его энергетике, подобной Нью-Йорку. Окружающие город миллионы мигрантов и даже уродливые строения, заполнившие районы, были источником особых эманаций. Разве не по одним и тем же моделям идет развитие?! Даже то, что в одном из этих ужасных районов открывается ресторан под названием «Goodfellas», делает Стамбул похожим на переполненные преступностью и невежеством районы Нью-Йорка.
Брат жены, рекламодатель, часто говорил: «Для большого мегаполиса просто необходимо, чтобы в нем совершалось определенное число преступлений. Здесь же преступлений недостаточно. Вот только этого нам не хватает».
А потом натужно смеялся.
Стамбул не развивался органично, подобно европейским городам. Словно в Нью-Йорке, здесь жили вперемешку такие разные люди – богатые, бедные, изысканные и невежественные. В Стамбуле, так же как и в Нью-Йорке, который они с Айсель посещали ежегодно, с каждым годом увеличивалось число индо-китайских ресторанов – «Нобу», «Чайна гриль», «Аквавит», «Асья де Палм»…
А за счет большого количества африканских мигрантов город изрядно почернел.
В этом динамичном, полном возможностей мегаполисе Профессор был одним из самых успешных, самых уважаемых, самых образованных и самых утонченных людей. Он не сорил деньгами, подобно пошлым толстосумам, много читал, ходил на выставки; каждый год во время Стамбульского фестиваля посещал концерты в Церкви Святой Ирины и в Амфитеатре – один восхитительнее другого. От Берлинской филармонии до Паваротти, The Manhattan Transfer и Ника Кэйва.
По утрам он обожал просыпаться под флейту Жан-Пьера Рампаля. А потом под звуки этой волшебной музыки плавать в крытом бассейне, расположенном на нижнем этаже дома. Айсель тоже нравилась классическая музыка, казалось, она разделяет пристрастия мужа. Однако популярной музыке не было места в их повседневной жизни. Ирфана слегка воротило от ночных клубов на Этилере, заполненных певцами-трансвеститами и геями, но в то же время эта причудливая восточно-западная какофония будоражила его чувства. Живя на Востоке, будучи восточным человеком, он старался оставаться европейцем, сохраняя вокруг себя пространство западной культуры. Но он не был снобом и не чурался культуры низов…
В минувшем году на вечеринке по случаю его дня рождения Ирфану открыли одно злачное местечко – мол, главное, «чтобы было весело!» (В последнее время понятия «место» и «удовольствие» определяли статус людей.) Там наряженный в нечто среднее между женским и мужским одеянием дородный гей-певец (их уже не называли, как раньше, гомиками) прохаживался между столами, за которыми выпивали посетители. Наклоняясь к ним, он толкал каждого животом, заставляя встать. Скоро почти все женщины забрались на столы и под восточные ритмы барабана принялись вилять бедрами, трясти животами и грудями. Сидящие за столами мужчины наблюдали – и не могли отвести глаз от выставленных напоказ соблазнительных ножек в длинных разрезах платьев.
Ирфан созерцал вспотевший, раскрасневшийся от танца живот Айсель и думал, что все это – один из видов катарсиса.
Таким образом происходит разрядка сексуальной энергии общества, это своего рода ритуал очищения. В повседневной жизни большинство мужчин скандалят со своими женами по поводу их слишком откровенной одежды, а вот здесь им очень нравится, как их полуголые жены танцуют чувственные танцы с чужими мужчинами. Он вспомнил одно выражение Никоса Казанзакиса. В своей автобиографии «Письма к Эль-Греко» Казанзакис говорит: «Свет Елены – святость, а Ионии – похоть». Он был прав. Здесь в самом деле царила атмосфера вожделения. Архаичные четырехтактные восточные ритмы барабана или ориентальский сложный восьмидольный музыкальный размер лишают людей рассудка. Другую музыку они слушают фоном, а от этих ритмов будто сходят с ума и пускаются в похотливый пляс…
«Это значит, – думал Ирфан, – что для страны, наравне с государственным флагом, важным понятием является и чувство совместного ритма. Не мелодия – ритм. Культуры отличаются друг от друга ритмом».
Однажды он видел это собственными глазами в Нью-Йорке, на нижнем этаже торгового комплекса «Virgin Megastore», на Таймс-сквер. В этом огромном магазине была секция, где посетители могли прослушивать новые CD-диски. Латино, джаз, классика, африканская музыка, мелодии Ближнего Востока, поп, рок. Надев на голову наушники, слушающие каждый по-своему реагировали на музыку движениями тела.
Те, у кого в ушах гремел джаз, дергались, слегка согнувшись, в джазовых ритмах, слушающие латино раскачивали бедрами, а те, кто внимал музыке Среднего Востока, вращали талией и покачивали животом. Смотреть на них со стороным было очень смешно, все они исполняли для зрителя свой беззвучный танец…
Ирфан открыл шкаф с лекарствами, который скорее напоминал аптеку. Среди сотен лекарств, собранных со всего мира, он выбрал золпидем. Он, если уж не обеспечивал полноценный сон, то помогал ему забыться хотя бы ненадолго.
Вдруг Ирфан осознал, что его охватила одна из самых тяжелых панических атак за последнее время. Хорошо, что Айсель не видит всего этого, хорошо, что она спит безмятежным сном, словно судно на якоре в безопасной гавани. Если причину этого страха он не мог понять даже сам, то как объяснить это жене?
Но правда ли это? Так ли уж не знал он, не понимал?
«Не ври, – сказал он сам себе. – Не ври!»
Он был уверен, что у Айсель заранее готово решение: немедленно к психологу! «Поговори со специалистом, он тебя успокоит. Это же их работа», – как-то так. Во многих уголках мира одновременно повторяются такие же слова-клише.
Знал он и то, каким будет заключение психотерапевта.
На самом деле отчаяние, охватившее Профессора, было понятным ему, источник – известным. А паниковал он, потому что не пытался найти выход. Докопайтесь до проблемы – и ваши ночные кошмары станут ясными как день! Об этом можно прочитать в книгах. Например, такая книга, как «Спящий Эндимион», помогает людям толковать причины страхов. Будучи пастухом, Эндимион влюбился в богиню Луны. И боги наказали его за это. Согласно предложенному наказанию, он должен был тут же выбрать для себя новую судьбу. Для Эндимиона это оказалось невозможным, и он предпочел остаться вечно молодым, пребывая в беспробудном сне.
Как только он прочитал эту мифологическую историю, сразу понял, в чем его проблема. Профессор, подобно Эндимиону, боялся неизвестности в своей судьбе. Ведь будучи человеком, он не мог знать, как сложится его жизнь – как он поступит, если случится катастрофа, какие болезни на него нападут, как он умрет, а это означало, что он теперь разделит участь Эндимиона, поскольку ни один смертный не может вынести бремени этого мира.
Вся жизнь Профессора перевернулась, когда он осознал это. Словно крепость, которую он воздвиг вокруг себя, перестала его защищать, а принялась наоборот – душить. Потому что он знал, что до конца своих дней он будет сидеть в одном и том же доме, в одном и том же кресле, смотреть телевизор, произносить одни и те же слова. И в конце концов в один из дней на улице, как водится, послышится завывание сирены «Скорой», на которой его увезут в больницу, где он и умрет. А если же ему посчастливится не попасть в больницу, то он окочурится на матраце Dunlopillo или в кресле Ligne Roset. Теперь он думал о десятках находящихся в доме когда-то с любовью подобранных мебельных гарнитуров и комфортных кроватях как о временном склепе.
С Айсель у него проблем не было, он даже любил ее, однако свою судьбу выносить больше не мог.
И он плакал.
От женщины-профессора на одной из конференций в Париже он почерпнул новое понятие, которое оказалось маяком, в последний момент осветившим дорогу кораблю, застигнутому врасплох морской бурей. Это понятие было «метанойя». Из-за того, что раньше никогда об этом не слышал, он даже смутился, однако впоследствии, поняв, что очень мало людей знакомы с этим термином, успокоился. Метанойя означала – выйти за пределы самого себя, преодолеть себя, встать над самим собой.
По сути, все наши проблемы заключены в понятии «самость». Что значит «сам», «себя», «я»?
Даже повторяя десять раз кряду свое имя, человек чувствует, что не принадлежит сам себе; если от рождения до смерти в своем сознании он произносит «я» или «сам», то почему на всем этом лежит печать отчуждения? Профессор долго ломал над этим голову, пока наконец не понял, что в этом термине заложен глубокий смысл отрешенности или абстрагирования. Каждый отрешен, каждый отрешается. Отрешенность спасает нас от таких тюремных надзирателей, как общественные правила и жестокость окружающего материального мира. Заплутав на жизненном пути, мы расслабляемся, погружаясь в теплые воды источника, называемого привычкой. И в итоге наш путь завершается тем, что мы сидим дома в знакомом мягком кресле и можем даже с закрытыми глазами отыскать кран в ванной или подушку, на которую можно положить свою голову. Люди похожи на собак, которые метят свою территорию, и чувствуют себя достаточно уверенно только на ней: формула человеческого счастья заключается в том, чтобы находиться среди знакомых вещей и знакомых запахов.
Достоевский, вернувшись из Европы в Россию, описывал свои чувства так: «Словно я всунул ноги в свои старые домашние шлепанцы». Всунуть ноги в старые шлепанцы… В самом деле, прекрасные слова, ведь люди живут именно так. Если бы этот мир не был привычен, то они чувствовали бы себя словно выращенный в подвале и брошенный на площади Каспар Хаузер[6].
Однако Профессор устал быть Каспаром Хаузером, заключенным в рамки обыденного выхолощенного мира, который кто-то бы назвал «счастье», он был готов отказаться от надоевшего ему чувства безопасности. Ради этого необходимо было войти в состояние метанойи. Каждый в один из моментов своей жизни должен достичь своей метанойи.
Под влиянием золпидема его глаза начали слипаться, со слегка замутненным рассудком он двинулся в спальню. В сумрачной комнате Айсель, как всегда, спала спокойно и беззвучно. Одну ногу она закинула поверх одеяла.
Профессор проскользнул в постель, положил голову на подушку, и его затуманенному сознанию, уже готовому погрузиться в сон, явилось видение: бескрайнее море и два молодых человека. Он сам остается на берегу, а его друг Хидает уплывает в Александрию, чтобы увидеть город Кавафиса[7], – и вот уже раскрытый парус, как мечта, растворился в горизонте.
Интересно, смог ли он добраться до Александрии? Или пристал к какому-либо берегу посреди пути, застрял там и изменил свою жизнь? Возможно, ветры Зевса, иногда дующие в противоположную сторону, поглотили бы парусник его надежд, кто знает!
Бормоча: «Прощай, Хидает!», с мыслью о том, что бойся – не бойся, но твоя участь предрешена – двигаться прямиком к смерти, он провалился в тревожный сон.
Чистая Невеста, прекрасная невеста
На расстоянии 1400 километров восточнее от Профессора и 100 километров от Мерьем, на военном посту, расположенном на заснеженной вершине в предгорьях Габара, сладко дрожа, проснулся Джемаль.
Снова во сне он увидел Чистую Невесту, рассказы о которой передаются из поколения в поколение среди молодых людей в его деревне. Глядя на запретное место Джемаля, Чистая Невеста спросила:
– Это что же, третий?
– Да, – ответил Джемаль и с огромным внутренним блаженством принялся ощупывать нежными прикосновениями самые укромные уголки ее тела под изумленным взглядом наивной девушки.
Молодежь в деревне не знала, кто такая Чистая Невеста, но, встретившись, они не могли не говорить о ней. Собравшись вместе, они с утра до вечера пересказывали истории о Чистой Невесте, пока не начинало саднить в горле.
До пятнадцати лет Чистая Невеста, словно драгоценный цветок, хранилась дома, оберегалась от всех бед внешнего мира, воспитывалась, ни о чем плохом не ведая. Мать с отцом не отпускали ее на улицу, не давали играть с другими детьми, не допускали таких бесстыдных вещей, как совместное пребывание девочек с мальчиками.
Когда Чистая Невеста достигла пятнадцати лет, святому человеку, пастуху Хасану, выпало счастье жениться на ней, и, осознавая ценность ее святого целомудрия, он хотел сохранить его.
В первую брачную ночь он сказал своей жене: «Я открою тебе один секрет, Чистая Невеста! Я не такой, как другие люди, которых ты видела». Чистая Невеста с тревогой посмотрела на своего мужа.
Хасан произнес: «У меня есть нечто большее, чем у других людей». И, открыв, показал. Невинная девушка, воскликнула: «Ах! Что это такое?!»
Хасан сказал: «Я покажу тебе, на что это годится», и провел всю ночь до утра, доказывая, что только он один из всех людей обладает таким удивительным даром. На наивном ранее лице Чистой Невесты с этого дня поселилась лукавая улыбка. Тайной, которую открыл ей муж, она не поделилась ни с кем, но стала смотреть на всех иронично, словно знала что-то, чего не знали другие.
Так пролетели два года, и настала пора Хасану идти в армию. Прежде чем уйти, он обнял жену, с которой разлучался на два года, и сказал: «Все это время будь умницей, послушно жди меня».
После того, как Хасан вернулся из армии, лицо Чистой Невесты было неулыбчивым, а в глазах поселилась странная печаль.
– Что с тобой случилось?
– Ничего, – ответила она. – Соскучилась по своему Хасану.
А оказалось вот что. В один из дней, когда она пребывала в рассеянной задумчивости, к ней зашел друг Хасана Мехмет.
– Чистая Невеста, – сказал он, – ты же не первая женщина, муж которой ушел в армию. Почему ты так изводишь себя?
Чистая Невеста ответила Мехмету:
– Но он ни на кого не похож!
Мехмет спросил, чем же он отличается от других. И Чистая Невеста, поскольку была наивна и целомудренна, ответила:
– У него впереди есть что-то, чего нет у других людей.
Мехмет понял хитрость Хасана и засмеялся:
– Чистая Невеста, у меня тоже есть то, о чем он говорил.
Чистая Невеста не поверила, подумала, что Мехмет обманывает ее, и Мехмет, чтобы доказать, что говорит правду, быстро вытащил свой аргумент на свет божий. Начиная с этого дня все ночи напролет Мехмет, тайком встречаясь с Чистой Невестой, усердно доказывал, что он не хуже Хасана.
Но, как уже было сказано, военная служба закончилась, и однажды Хасан воротился домой. И вдруг увидел, что Чистая Невеста изменилась и на него совсем не смотрит.
– Что с тобою случилось, Чистая Невеста? – спросил он ее.
– Ты – обманщик, – ответила ему Чистая Невеста. – Вот скажи, только у тебя спереди есть нечто удивительное?
Хасан воскликнул про себя:
«О боже! Упустил я свою Чистую Невесту!»
А вслух спросил, у кого же еще может быть это «нечто удивительное». И Чистая Невеста рассказала ему про Мехмета.
Хасан думал-думал: что же делать в этой безвыходной ситуации, как бы выкрутиться, и нашелся:
– А у меня два таких было. Я ему один дал.
От его слов Чистая Невеста заплакала навзрыд, начала причитать и голосить.
– Что случилось, – спросил Хасан. – Почему ты плачешь?
Чистая Невеста стукнула его кулаком по руке и сама не своя воскликнула:
– Почему ты свою такую хорошую вещь отдал ему, о мой Хасан?!
Подобно другим парням деревни, Джемаль так и не смог узнать, что же ответил Хасан Чистой Невесте и что он сделал, потому что, когда рассказ доходил до этого места, никто из ребят не мог удержаться от хохота. И каждый день, как только история доходила до этого места, тут же и обрывалась. Однако по ночам, оставшись наедине, Джемаль продолжал думать о Чистой Невесте и сам для себя сочинял продолжение этой истории. Он никогда не представлял себе лица Чистой Невесты, а видел в своих мечтах только ее белоснежное тело, и очень часто становился добычей искушающего его беса…
Джемаль с трудом вырвался из мягкого горячего сна о Чистой Невесте. Говорят же, что своими соблазнами шайтан загоняет человека в неловкое положение… Чувствуя внизу живота липкую влажность, Джемаль еще лежал некоторое время без движения, открыв глаза.
Холм освещала только одна лампа, зажженная в казарме, спящие солдаты храпели, в такт им трещал непрерывно горящий в печи уголь. Дежурный, стараясь никого не разбудить, открыв металлическую дверцу печи, подбрасывал внутрь низкосортные, слипшиеся куски угля. Джемаль почувствовал внутри неприятное ощущение. Ему было отрадно часто видеть в своих снах нежное тело Чистой Невесты, и, просыпаясь, он продолжал чувствовать трепетное наслаждение, однако у этих снов имелся и обременительный финал: встав, необходимо было совершить очистительное омовение. После погружения во грех вода должна была коснуться каждой точки – все тело, от волос до пяток, необходимо было омыть.
Он посмотрел на пластиковые часы Casio, время приближалось к двум. К трем надо было заступать в караул, значит, после омовения не останется уже времени поспать до предрассветного намаза. Если даже прикорнет – после пятнадцатиминутного сна просыпаться гораздо труднее. Короткое мгновение он думал о том, что вот бы не вылезать из теплой постели, не выходить в леденящий мороз, а остаться, свернувшись, под хорошо нагретым одеялом, и снова, мечтая о медовом теле Чистой Невесты, погрузиться в сон. Так или иначе, пришедший для смены трехчасового караула сержант так тряханет его за плечо, словно собирается сломать руку. Может, потом, после караула, он найдет возможность совершить омовение…
Джемаль совсем было свыкся с этой успокоительной мыслью, но вдруг перед его глазами появился отец. Чернобородый, он гневно покачивал в руках четки, его глаза пронзительно резали сына…
С детства внутри Джемаля поселился трепетный ужас перед отцом. И снова он поддался соблазнам шайтана, снова впал в грехи! Он мечтал о Чистой Невесте, продолжал спать, не совершив очистительного омовения, – самая малость осталась ему от грехопадения до открытых дверей ада. Хорошо, что и будучи далеко, отец предупреждает его. «После соблазна проклятого дьявола раб божий должен немедленно пройти через очистительное омовение и двумя дополнительными молитвами-ракаатами во время намаза вымаливать отпущение грехов. А не то, не дай Бог!..» По сути, он все начинал с этих слов: «Не дай Бог!», а затем из-под благословенных усов и бороды из сурового рта отца следовали описания предстоящих мучений и пыток. Человек может и не подвергаться этим наказаниям, надо только слушаться и понять, что женщины – обманщицы, разрушительницы, источник всех бед, которых шайтан использует на земле в качестве средства воздействия на такое слабое создание, как мужчина.
Несмотря на призрак отца, Джемаль не вставал с жаркой постели, внутренний голос нашептывал ему: а может быть, оставить все до утра, не выходить на улицу в лютую стужу и не мучиться, обливаясь ледяной водой, на этой далекой заставе, посреди застывших от ночной стужи заснеженных гор… Но с другой стороны, как можно знать наверняка, что случится на следующий день?
Нападут ли этой ночью на заставу? Подвергнется ли она новой атаке?
Сколько товарищей лишились жизни в этих налетах! Несущим службу на снежном склоне с большой долей вероятности могли снести голову очередью, выпущенной из автомата Калашникова. Разве не так случилось всего неделю назад с Салихом? А если уцелеешь ночью, то днем, во время операции, вполне можно стать шахидом, наступив на мину. Короче говоря, возможностей умереть здесь гораздо больше, чем возможностей выжить. И как бы ни хотелось еще понежиться в теплой постели, все же религиозные убеждения Джемаля победили: самым большим из всех страхов в этом мире оказалась ритуальная нечистота.
Он приподнялся. Его место на верхнем ярусе позволяло ему рассмотреть в свете лампы, горящей до утра, товарищей, недвижимо спящих: кто-то повернулся на бок, кто-то лежал лицом вниз, а кто-то на спине, у кого-то был открыт рот, кто-то погрузился в глубокий сон, а кто-то бормотал в полудреме о том, что произошло днем. Кто-то скрипел зубами так, что казалось – вот-вот сломает их; и храп разносился на всю округу.
Военная одежда-хаки из грубой ткани, которую они таскали дни напролет, по ночам сушилась у печи, в которой бушевал сильный огонь, и, когда пот испарялся, казарму наполнял спертый прелый запах. Выстиранное постельное белье тоже висело здесь. Возможности сушить белье на морозе не было. Оно мгновенно отвердевало, топорщась странным белым парусом на этой затерянной под снегом в Джабаре горной вершине. Поэтому мокрое белье растягивали поверху, под потолком казармы. А вот способ сушки носков был совсем другим. Когда побуревшие носки вытаскивали наружу из мокрых берцев, их можно было хоть в угол ставить. Постирав, солдаты прятали их под тельник и сушили прямо на груди теплом своего тела. Утром носки вынимали сухими-пресухими.
Джемаль выпрямился, спрыгнул вниз с верхнего яруса и голыми ногами нащупал привычную твердость берцев. Чтобы найти эти куски выделанной кожи, не было необходимости заглядывать под кровать. Ноги сами нащупывали их. Постоянно впитывая влагу и высыхая, снова впитывая и высыхая, кожа задубевала и становилась похожей на кору дерева. Берцы были неотъемлемой частью их жизни. Особенно ночью в карауле, под снегом, когда мороз заползает сначала под одежду, а потом сантиметр за сантиметром спускается все ниже по ногам и, наконец, добирается до ступней. Через какое-то время человек перестает ощущать свои ноги, но не настолько, чтобы они онемели полностью и потеряли чувствительность…
Вернувшись в казарму, можно вытянуть ноги у печки и ощутить, как они постепенно отогреваются. Боевики РПК (Рабочей партии Курдистана) не носили такую обувь, на убитых обычно были спортивные ботинки фирмы Mekap[8]. Возможно, они удобнее для передвижения по горам, но интересно, защищают ли они от мороза? Иногда вот такие маленькие детали гораздо важнее, чем возможность убить или быть убитым. Потому что до тех пор, пока не умер, ты продолжаешь жить. И то, как ты питаешься, что носишь, здесь гораздо важнее, чем в каком-либо другом месте.
Двадцать уставших молодых солдат. Никто и не смог бы разбудить их, спящих глубочайшим сном, однако Джемаль все же старался не шуметь. Он думал о том, что на следующий день кто-то останется жив, а кто-то нет. Следующей ночью некоторые из этих кроватей могут опустеть, и кое-кто из юношей, безмятежно смотрящих ныне сны, подорвутся на мине или, свалившись с раздробленной от пули головой, выпущенной из автомата Калашникова, так и не поднимутся больше с земли…
Джемаль бесшумно надел берцы. Дежурный по печи, Ахмет из Манисы, вопросительно взглянул на него.
– Что-то живот прихватило.
От тех консервов, что они здесь ели, от усталости да и от воды, которую они пили, нередко случалось расстройство желудка.
Понятно, что Джемаль не мог сказать: «Пойду омыться от скверны».
Набросив на плечи куртку, он выскочил на мороз в одном исподнем и в берцах на босу ногу. Снаружи бушевал ураган, ветра завывали, будто огромные двухголовые собаки.
Вьюга кружила над долиной, над заснеженными горными склонами, и повсюду разносился этот ужасный вой; услышав его, сначала даже нельзя было понять, что это такое – это была музыка, выходящая за пределы человеческого понимания, словно бесы, поджидающие грешников в аду, устроили демонический концерт. В первое время Джемаль, как и другие, сходил с ума от этого шума, однако сейчас он уже ко всему привык, стал настоящим бойцом. Уже скоро два года, как он служит в подразделении спецназа в этих горах.
Он вышел из казармы наружу, и тут же холодный воздух, словно острая бритва, пронзил его насквозь, и Джемаль кинулся к туалету. Из основного здания не надо было выходить, однако коридор, где находился туалет, не обогревался печью, и то, что он располагался не на улице, здесь, в горах, не имело никакого значения. Дрожа от холода, парень зашел в туалет, скинул куртку, шерстяной тельник и кальсоны. Окатил себя сверху из бидона наполовину замерзшей водой. Казалось, он вот-вот закричит – до самых печенок пробрал его этот леденящий холод, однако сдержался, крепко сжав зубы. От тела валил пар. Со всех сторон он хорошенечко обтер водой те места, которые запачкались из-за дьявольского соблазна. Не оставив на теле ни клеточки, которой бы не коснулась вода, он завершил очистительное омовение. Зуб на зуб не попадал от холода, однако его совесть начала успокаиваться. Внутри разливалось спокойствие: он не допустил ничего, что шло вразрез с наставлениями его почтеннейшего отца, избежал греха, сделал все так, как требует его религия – ислам. Его отец все равно что святой, и если люди выполняют его наставления, то и в этом, и в том мирах они будут пребывать в спокойствии и благополучии.
Он вытерся принесенным с собой маленьким полотенцем, снова надел исподнее, куртку, берцы и направился в казарму. От тепла, пахнувшего в лицо, когда он открыл дверь, он почувствовал себя как в раю. В этот миг дежурный, взглянув ему в лицо, улыбнулся: нельзя было не догадаться о происшедшем, увидев его мокрые волосы, однако Ахмет ничего не сказал. Разве не с каждым может случиться такое?
Расстелив полотенце на подушке, Джемаль снова лег, стараясь не заснуть. До побудки оставалось совсем немного времени, и, если он уснет, встать потом будет гораздо труднее. Он думал о трех боевиках, убитых прошлым днем во время стычки. Трое курдских юношей, в шароварах, очень легко одетых для этих гор. У них на ногах красовались ботинки Mekap, а лицо одного было разворочено – так выглядит ранение от винтовки G3. Может, пуля была выпущена из его оружия? Наверняка этого узнать нельзя, во время боестолкновения никто не жалеет огня, и чья пуля кого ранила потом – узнать невозможно. Бывает, что кому-то и орден вручают за то, что он отличился, но награжденный знает, что на самом деле он не совершил ничего особенного…
Последние два года своей жизни в этих бескрайних лиловых горах Джемаль с товарищами словно состязались в бесконечном мужестве и – в бескрайней трусости.
После долгого подъема, в полном изнеможении, достигнув вершины горы, они созерцали, как под ногами простираются летом изумрудно-зеленые долины и серебристые реки, а зимой – белоснежные просторы, и начинали ощущать себя почти богами.
С винтовками, обвешанные гранатометами, ручными бомбами, комплектом боепитания, патронными лентами с прикрепленными к ним ножами, снаряженные рациями, в окружении таких же вооруженных товарищей, они чувствовали себя титанами разрушения и неприкасаемые шли с высоко поднятой головой.
Орлиным взглядом они могли проникнуть всюду, не пропустив ни шороха, ни тени, и с божественным наслаждением уничтожить все, что вызывало хоть малейшее подозрение.
Это были моменты, когда их мужество достигало своего пика, а головы касались небес. Однако жизнь в горах не всегда была так щедра. Иногда приходилось бродить по долинам, пластаться под огнем, который велся с высоких гор, слушать свист пуль над головой, от которого кровь стыла в жилах, а душа металась от ужаса…
Человек испытывает ни с чем не сравнимый страх, когда в нескольких сантиметрах над его головой проносится пуля, выпущенная из автомата Калашникова. Потому что, отклонившись на несколько сантиметров, она вонзится человеку либо в глаз, либо в голову. И именно это колебание между жизнью и смертью наводит ужас.
Обосновавшаяся в горах Рабочая партия Курдистана, в которой уже было теперь достаточно снайперов, мешала продвижению десятков военных и наносила подразделениям войск правительства большой вред.
Можно было считать себя хозяином вершины, но спускаться вниз становилось опасно. Заняв высоту, войска боялись потерять позицию. Бойцы РПК вели огонь и из дальнобойных винтовок Канас. С турецкой стороны это оружие чаще использовали офицеры. Иногда курды группами человек по двадцать открывали сумасшедший огонь из автоматов Калашникова, нападали с гранатами, ручными бомбами, а иногда наоборот – правительственные военные заманивали боевиков РПК в засады.
Удерживать превосходство и сохранять спокойствие на горных вершинах долго не удавалось, поэтому во время проведения операций они дневали и ночевали под открытым небом, сутками оставались под дождем, в касках, парках, униформе, фланелевом белье, шерстяных носках, в давящих берцах, промокшие насквозь; они забывали напрочь, что значит быть в тепле. Проливному дневному дождю на смену приходила ночная стужа, и медленно замерзающее белье, касаясь тела, доставляло дикое мучение. И так вот сутками они думали о том, что дождь никогда не прекратится, до конца своих дней они проведут вымокшими насквозь, укутанными в брезентовые плащи. Но, конечно, когда над головой начинают свистеть пули, тут уже не до дождя…
Джемаль, как и многие из его товарищей, выходил на операцию, непременно спрятав за пазуху полиэтиленовый пакет. Он складывал его под фланелевую униформу. Потому что не хотел бы еще раз пережить тот ужас, который испытал, забрасывая в вертолет оторванную ногу Абдуллы.
Абдулла Нидели – парнишка, который нес службу на их заброшенном пограничном посту с шутками и прибаутками, не переставая улыбаться. Некоторые люди приходят в этот мир словно для того, чтобы облегчить жизнь другим. Вот таким и был Абдулла. В тот вечер, когда в сгущающихся сумерках они шли по занесенному снегом минному полю, ему оставалось три месяца до демобилизации. Когда они поняли, что наступают на присыпанные сверху землей желтые мины итальянского производства, уже ничего нельзя было сделать. Даже при дневном свете эти замаскированные в земле мины было бы трудно заметить, а уж сейчас-то, в сумерках, и подавно. Да еще и сверху снегу намело. Каждый шаг они делали со страхом, а потом их накрывало чувство облегчения, что ничего ужасного не случилось. Как вдруг в безмолвной тишине прозвучал взрыв, расколовший все вокруг – и небо, и землю. Не думая, они попадали на снег, и в этот момент увидели Абдуллу, взлетевшего над миной, на которую он наступил. Ближе всех был Джемаль, он медленно двинулся в сторону Абдуллы. Парень выглядел ужасно. В этот момент Джемаль даже забыл о том, что может сам наступить на мину.
Обхватив руками голову, парнишка кричал в шоке: «Глаз, мой глаз! Что-то случилось с моим глазом, мне очень больно!» Вопль разносился на всю округу. Джемаль заставил себя осмотреть залитое кровью лицо Абдуллы и обнаружил, что одного глаза нет. Вместо левого глаза зияла окровавленная глазница. А парень нечеловеческим голосом продолжал вопить: «У меня болит глаз!»
В это время вместе с другими солдатами подоспел командир роты. Он надрывался от крика, пытаясь связаться по рации с центром: «Сапсан 3, Сапсан 3!» В тот момент, когда он уже перестал крутить ручку рации, поступил ответ, он быстро сообщил координаты и запросил помощи: «У нас тяжелораненый! Пришлите вертолет!» Дошедший по рации голос был гораздо спокойнее. Он сказал: уже стемнело, вертолет отправить не могут, надо ждать до утра. Джемаль утешал товарища: «Все пройдет!» и с ужасом думал об этом хладнокровном голосе, дающем советы, как продержаться до утра. Джемаль осторожно придерживал голову Абдуллы, кровь не останавливалась. Интересно, эту ужасную дыру можно как-то заткнуть?! Он не понимал, что можно сделать, но четко видел одно: до утра Абдулла не протянет. Даже если вертолет примчится прямо сейчас, у него нет шанса выжить. Командир надрывался, используя все средства убеждения, чтобы объяснить тяжесть положения, невидимому собеседнику. Но по ночам вертолеты не взлетают, это категорически запрещено.
«Умоляю! – кричал командир. – Еще не совсем стемнело. Умоляю, заберите этого льва!» И без остановки продолжал передавать координаты местонахождения. Это был молодой капитан. По ту сторону рации царила тишина. И в этот момент Джемаль увидел ногу Абдуллы. На ней не было ступни, ее оторвало. Стараясь подавить разливающуюся внутри панику, он оглянулся и увидел ступню. Оторванная, она стояла вместе с ботинком, в луже крови. Утешало лишь то, что Абдулла уже потерял сознание. Ясное дело, такую боль вынести он не мог.
И командир, и военный расчет смотрели друг на друга растерянно, не зная, что предпринять в беспомощном ожидании, как вдруг услышали звук вертолета. Значит, он был совсем рядом, возможно, возвращался на базу! Подняв лица к небу, они выискивали его. Так было всегда: сначала доходил звук, а потом и сам он появлялся в межигорье. И в этот раз было так же: черный «Кара шахин»[9], возникнув из-за вершины, приближался к ним.
Вскочив, они принялись размахивать руками. Вертолет снижался, мощный ветер от лопастей пропеллера взметал в воздух клубы снега, солдаты с трудом могли разлепить глаза. Они знали, что вертолет не сможет сесть на землю, это было невозможно. Он завис в нескольких метрах над землей, открыв дверь, чтобы как можно скорей принять раненого. Существовала опасность того, что боевики РПК увидят вертолет и откроют огонь с гор. Если бы ради спасения одного раненого армия потеряла «Кара шахина», это дало бы большой козырь в руки вражеской пропаганды!
Вертолет завис в столбах снега, и санитары, стоя в открытых дверях, закричали: «Давай, давай, давай!», однако в грохоте лопастей винта их голосов совсем было не слышно.
Несколько солдат вынули Абдуллу из объятий Джемаля и понесли к вертолету. Приговаривая: «Давай, раз, два, три», они раскачали парнишку и подпрыгнули вверх, метя телом человека в открытую дверь вертолета. Санитары, чтобы принять раненого, тоже свесились вниз, однако парень выскользнул из их рук. В это время Джемаль, подняв оторванную ногу Абдуллы с земли – эту еще теплую часть его тела, забросил ее в вертолет. Может быть, в госпитале смогут пришить…
Абдуллу еще раз подняли и закинули наверх, но он снова упал на землю. Только с третьего раза санитары смогли ухватить раненого и затащить внутрь. Половина туловища бедняги уже находилась внутри летной машины, а вторая все еще болталась снаружи, но вертолет взмыл в воздух.
У Джемаля и мысли не было – взять эту оторванную, окровавленную конечность и забросить ее в вертолет. Это случилось как-то само собой. В нормальное время его не то чтобы прикоснуться, а посмотреть даже на это нельзя было заставить, но в экстремальных условиях люди делают невозможные вещи. Поэтому он и стал носить за пазухой пакет. И он знал, что у каждого есть такой пакет.
По вечерам они ели консервы, заваривали чай примитивным способом – так чтобы не шел дым, курили, прячась, чтобы не было видно огоньков сигарет, переговаривались шепотом и делились с товарищами тайными мыслями о том, что, возможно, завтра им придется заполнять свои полиэтиленовые пакеты.
Совершив омовение и успокоившись, Джемаль ненадолго растянулся на кровати, думая о голосе, который он однажды услышал по рации. Как-то Джемаль засек, как боевики РПК переговариваются между собой, и вдруг разобрал знакомый голос: «Не порть настроение! – произнес человек. – Это солдаты турецких вооруженных сил. По прибытии на место устройте засаду рядом с дорогой. Если сделаете это, вы спасетесь. Связав офицера, передадите его нам. А если нет, то никто из вас этой ночью не уйдет от патруля. Вам что, жалко, что ли, солдат турецкой армии?!»
Недавно прибывший в район лейтенант запаса немедленно схватил рацию и прокричал: «Попробуй только сюда сунуться и повторить эти слова, ублюдок!»
На той стороне раздался надтреснутый смех, и Джемаль вздрогнул. Он был очень хорошо знаком с хозяином этого смеха.
Горькая доля бессчастных девушек
Когда мать Мерьем дохаживала последние дни беременности, она увидела во сне Святую Деву Марию. Держа в руках свечу, Пресвятая Богоматерь сказала, что та родит дочку, но оставит ее одну-одинешеньку, а сама перейдет в мир иной и будет страдать уже там.
Мамина сестра-близнец рассказывала, что мать проснулась ночью от страха и разбудила сестру, потому что очень хотела рассказать ей о своем сне. Тетушка же не позволила ей: «Ночью пересказывать сны – плохая примета. Вот настанет рассвет, все расскажешь».
В эту ночь мать так и не вернулась в постель к отцу, а обняв сестру, дожидалась утра. Сон так напугал ее, что до самого рассвета она дрожала. Сон был таким явным, будто и не сном вовсе. С первыми петухами она растолкала сестру.
– Рассказывай, глядя на свет. Пусть Аллах принесет нам добро! – произнесла та.
Глядя на лучи, пробивающиеся сквозь окно, мать Мерьем выложила ей все.
Но тетушка успокоила ее:
– Скорее всего, Святая Мария хочет, чтобы ты назвала родившуюся дочь ее именем. Поэтому и приснилась.
– Хорошо, но почему я уйду, оставив ее совершенно одну? – спросила мать.
Тетя же ответила ей:
– Мы что, привязаны к этому миру, что ли? Конечно, все мы умрем. Даже наша Пресвятая Мария разве сама не умерла?
После того как женщина и в самом деле умерла при родах, маленькой девочке, оставшейся сиротой, вспомнив об этом сне, дали имя Мерьем.
Мерьем думала об этой и тысяче других похожих историй: все вокруг было пропитано волшебством, сны полны святыми людьми, говорящими животными и даже деревьями. Вот только лишь с ней, с Мерьем, по какой-то причине не случалось ничего волшебного, отчего девочка очень расстраивалась. Интересно, почему ей вообще неведомы чудеса? Может, она какая-то не такая? В начальной школе одноклассники каждый день рассказывали об удивительных вещах. Птицы, сидящие в саду на деревьях, разговаривали, умершие старики приходили во снах или в вечерних сумерках и предупреждали об опасностях и плохих событиях, которые могут случиться. Дома у Мерьем было то же самое. Один раз прадед, который, как все верили, стал святым-авлия, пришел и предупредил: «Осторожнее, не берите в дом много мыла. Не то сгорите!» Но этому не придали значения, покупали и покупали на базаре мыло, и по неизвестной причине произошло возгорание. Отец с дядей кое-как потушили огонь, после чего все вспомнили о предостережении деда. Поэтому прадедово наставление не ходить по средам в баню соблюдалось неукоснительно, в этот день вообще ничего не делали. Развалившись на кроватях, болтали, предпочитая совсем не выходить из дома.
Мерьем же с детства очень любила банные дни, когда готовили еду, складывали полотенца, собирали подарки и, загрузив все это в заранее заказанную повозку, называемую «тарантасом», отправлялись в хамам, где женщины прекрасно проводили время. Мерьем, глядя на голые груди, свисающие до живота, беспокоилась, что наступит день, когда и ее тело станет таким. С купола старинного хамама струился бледный дневной свет, а на голову ей и другим детям выливали один за другим ушаты горячей воды, навсегда отбивая у них желание плавать. Избежать этой процедуры было невозможно, потому что как только Мерьем пыталась это сделать, ей в глаза тут же попадала мыльная пена. Из заднего отсека хамама, закрытого тонкой занавеской, доносился резкий запах, и когда Мерьем спрашивала, что это такое, ей с таинственным видом отвечали: «Банная трава – яснотка. Когда подрастешь, узнаешь».
Мерьем повзрослела, и ее грудь налилась, как бутон, и пожилые женщины, которые не могли налюбоваться на ее ладное красивое тело, объяснили ей, как все происходит. Чтобы полностью удалить пушок, появившийся между ног и под мышками, они готовили противно пахнущую смесь, а потом завели девушку в закрытый занавеской отсек.
– На теле совсем не должно быть волос, – говорили они. – Это грех. Надо очистить все!
Первый раз они помогали ей это делать. От женских обучающих прикосновений ей было щекотно. Но больше Мерьем никого к себе не подпустила, все проделывала сама.
Самым неприятным в банных днях был этот закуток с ясноткой, а самым прекрасным – полдень, когда, усевшись в холодке, они ели долму и пирожки.
Мерьем тоже старалась соблюдать запрет прадеда на посещение бани по средам. Но хоть Аллаха умоляй, хоть, зажмурив глаза, зови: «Дедушка, дедушка!» – никто не придет на помощь.
Дед – отец матери, был богатырем, а его отец и подавно. В их селе его называли Шейхом Курейшем. Как рассказывали дома, однажды в лютую стужу, когда вокруг трещал мороз и все было завалено снегом, дед вышел из дома босиком. Сделав несколько шагов, он с улыбкой объявил, что собирается дойти от Междуречья до Хорасана. Жители деревни рассказывали, что выходившие на дорогу стаи волков, завидя Шейха Курейша, не то чтобы напасть боялись, а даже выть переставали. Так Шейх босиком и дошел до Хорасана.
К этому святому человеку никакая тварь не могла прикоснуться, даже ядовитые гадюки не могли нанести ему вреда. Все говорили, что его «не касается и дневная тень», но боялись, что он может неожиданно погибнуть, потому что руки его всегда были полны змей, а по телу ползали скорпионы. Все это оттого, что дедушка был «сладким». Сладкую микстуру – щербет – он готовил для новорожденных детей, а заодно перепадало и змеям, и скорпионам. Поэтому и потомки его были «щербетными» – защищенными от всех напастей.
Все говорили, что дед Курейш ходит ночами по дому. Слышно было, как скрипели лестницы, хлопали двери, когда он выходил и заходил на кухню.
Мерьем верила рассказам домашних, что по ночам дед защищает дом, однако не могла видеть своими глазами, насколько далеко простирается его сила.
Кто знает, что видел каждый во время визита к мазару Шекера Бабы? Мерьем же ничего лучшего не нашла, кроме как пописать под себя. А ведь ходили легенды, что еще за долгие годы до ее рождения, во время русской оккупации, Шекер Баба наслал с небес молнии, и русские солдаты, получив раны величиной с яблоко, были рассеяны по горам и напрочь разбиты. Мужчины села, спустившись к руслу реки, нанесли решающий удар по русским и уничтожили их. А русский командир, разместившийся в принадлежавшем Гюлю Аге самом большом доме села, пустил себе пулю в висок из пистолета. И все это приписывали влиянию Шакера Бабы, хранителю этих мест. В ноябре 1917-го произошло окончательное чудо, и многие даже не поверили вестям, которые пришли из Москвы по телеграфу. Но было именно так, и ясное дело, что телеграмму тоже послал Шекер Баба!
Казалось, в селе только Мерьем не видит чудес. Все девушки летали по воздуху, говорили с домашними животными. Визиты к мазарам святых, привязанные к деревьям ленты, молитвы Святому Илье, построенные из глины домики в саду – все это обязательно давало свои результаты, и загаданные в ночь Предопределения[10] желания, конечно, исполнялись. И только Мерьем этого не было дано.
«Наверное, я проклята, поэтому чудеса со мной и не случаются», – думала она.
Не зря ведь ее мать, после того, как увидела во сне Деву Марию, умерла в страшных мучениях, оставив на земле странную девочку с огромными глазами. Так росло убеждение в ее злосчастии.
И до семнадцати лет никто так и не сватался к ней. Матери парней не хотели принимать в свой дом злополучную невесту, которая, придя в мир, принесла с собой несчастье.
Всем знакомым выпало счастье видеть небывалое, а ей достались лишь сны, полные всякой ерунды и кошмаров. Ни одного-единственного раза не явилась ей во сне Святая Мария, имя которой она носит, не дала ей ни единого совета. Ах, Мать Мария, как же так может быть!
Святая посылает ей только ужасные сны. Должно быть, испытывает ее, проверяет предел терпения…
Дни и ночи перепутались в этом холодном амбаре. Мерьем проснулась от собственного крика: ей привиделся очередной ужасный сон. Она находилась на краю бездонной пропасти. Если бы она сделала вперед хотя бы шаг – камнем полетела бы в пропасть. И она настолько боялась полететь вниз, что не могла подняться на ноги, словно прилипла к земле. Напротив нее вдалеке виднелся город. Мерьем подумала: «Должно быть, это и есть Стамбул!» Город был такой громадный, что ему не было ни конца, ни края. И тут внезапно сзади налетел ветер. Повернув голову, она увидела тысячи белых птиц над своей головой. Это они раздували ветер, они толкали ее к пропасти. Невозможно было даже прикоснуться руками к земле. Птицы пикировали над ее головой, снова взлетали, снова возвращались, а потом еще, и еще раз!.. И подлетали все ближе. Земля, на которой она стояла, начала обваливаться…
И пробудившись Мерьем все еще тряслась от страха. Ужасные птицы словно еще продолжали виться над ней, в амбаре было холодно, темно и пусто. Наверное, она отбросила одеяло во сне – ее руки и ноги были как лед.
Она прислушалась. Уже долгое время над поселком царила странная тишина. Из большого дома не вылетало ни звука, иногда только вроде бы проносился какой-то шепот, слышались беспокойные шаги – и все. Мерьем вдруг поняла, что за всю неделю она не слышала голосов женщин, которые обычно готовили хлеб в расположенном по соседству с ее узилищем саду. Мерьем знала, что сегодня как раз день, когда должны печь. Раньше она тоже участвовала в этом радостном событии. Вдыхая чудесный запах, она с большим удовольствием наблюдала, как тонкие лепешки, прилепленные к стенам тандыра, поджаривались и на них начинали проступать коричневые пятна. Свежеиспеченный хлеб готовился прямо к обеду, лепешки складывались большими треугольниками в несколько слоев, и каждый слой промазывался сливочным маслом. Масло, попадая на горячие лепешки, шипело, и вокруг разлетался упоительный аромат. Мерьем в своей жизни не ела ничего вкуснее этих треугольных лепешек, которые еще назывались пастушьими пирогами. Она ела и не могла наесться. Однако еще в детстве однажды она увидела, как вместе с соломой в печь попал желторотый птенец и как он, трепыхаясь, сгорел в пламени. Тогда она даже не прикоснулась к пастушьим пирожкам и проплакала подряд несколько часов…
Сейчас же снаружи не доносилось ни звука. Дом погрузился в траурное молчание. И Мерьем казалось, что не только над их домом, но и над всем селом разлилась эта зловещая тишина. В огромном селе умолкло все: лошади, ишаки, петухи, куры, автобусы, люди, даже рынок молчал. В этом беззвучье, разлитом над большим селом, оставались только пара-тройка отзвуков: хриплый голос муэдзина, читающего азан, шум трактора да стук арбы.
Мерьем чувствовала, что это большое безмолвие в поселке каким-то образом относится к ней, однако терялась в догадках, что же случилось на самом деле. Может, это как-то было связано со свалившейся на ее голову бедой и с тем, что она пролежала, температуря, столько дней в запертом амбаре? Но как же так? Что, все село, что ли, замолчало из-за такой маленькой девушки?
Мерьем получше закуталась в одеяло и вдруг поняла, чего ждали от нее в селе. Это раскрылось ей в один момент. Все село замолчало, ожидая, что она сделает то, что должна сделать. Не только ее домашние, все село ожидало. И как только они получат известие о ее самоубийстве, то каждый снова вернется к своим повседневным делам: дети начнут весело бегать и крутить обруч, играть и лепить свои игрушки из глины, взрослые пойдут за покупками, на молитву – нормальная жизнь забурлит. Все ожидали, когда же Мерьем исчезнет отсюда. Это было ясно как белый день. У опороченной девушки нет права на жизнь. Дёне, которая время от времени выходила в сад, чтобы принести еды, тоже ждала этого. На ее лице это было прямо написано. Мерьем и без того знала, отчего домашние не подавали голоса, ходили на цыпочках и шептались. Но вот мысль о том, что вся деревня ждала ее смерти, будто обездвижила девушку. То, что все знакомые ждали ее смерти, легло тяжким грузом на плечи Мерьем. Всем-всем, кого она знала в этом мире: своей семье, отцу, дяде, теткам, принимавшей ее во время родов повитухе Гюлизар она словно была должна и не знала, как отдать этот долг.
Какое-то время она беззвучно плакала, а потом взяла в руки заброшенную несколько дней назад в угол холодную веревку, перебросила через балку под потолком, привязала потуже одним концом к ржавому железному крюку, а на другом конце сделала петлю. Забралась на табуретку и, набросив петлю на шею, ощутила на коже жесткое прикосновение холодных колючих волокон.
Но она ждала.
Она не знала, чего ждала, необходимость подождать и подумать шла откуда-то изнутри нее. Она испытывала странное спокойствие. «Сейчас вот опрокину этот чурбак, как это делали раньше накладывающие на себя руки девушки, – думала она. – И буду раскачиваться в петле. Веревка сдавит шею, та станет багровой, язык вывалится, и я умру. Люди рассказывают: на то, чтобы умереть, и минуты достаточно. Хорошо, а через две минуты где я буду?» Сознание зацепилось за эту мысль, и она продолжала спрашивать сама себя: «Интересно, а где же я буду через две минуты? Хоть кто-нибудь знает, где я окажусь?»
Этот вопрос настолько ее обеспокоил, и она поняла, что не может не думать об этом, и не выбивала опору из-под ног.
Мерьем не знала, долго ли так продолжалось, сколько прошло времени. Вдруг она услышала звук ключа, поворачиваемого в замке, и поняла, что открылась дверь.
С маленьким подносом в руках в дверях стояла и смотрела на нее Дёне. Они встретились взглядами. Какое-то время, застыв в дверном проеме, Дёне смотрела на Мерьем, у которой была накинута петля на шею. А потом, ничего не сказав, тихо вышла и беззвучно затворила дверь. И даже поднос с собой унесла.
И в этот момент Мерьем взорвалась от злости. «Сука! Грязная сука!»
Потом она много раз вспоминала об этом и даже испытывала благодарность к Дёне, потому что эта злость помогла спасти ей жизнь. Сняв петлю с шеи, она отвязала веревку с балки, бросила ее в угол и сказала: «Только попадись мне, я тебе задам!»
Она никак не могла прийти в себя от поступка Дёне. Это было невероятно! Наверное, сейчас передает всем радостную весть, рассказывает, что девочка в петле отдает Богу душу. Ведь все они – все село – упорно ждали, когда же Мерьем наложит на себя руки… Нет, лучше она отправится в Стамбул! Другие девушки уезжали же туда?! Раз уж опороченные или кончали жизнь самоубийством, или отправлялись в Стамбул, так лучше выбрать поездку в Стамбул. «Сама себя убей, сука!» – процедила она сквозь зубы в адрес Дёне и снова заплакала от злости.
Крепко зажмурившись, Мерьем призвала на помощь всех святых угодников во главе с Богородицей. Ее тетя говорила: «Пока рабу божьему не приспичит, пророк Илья не поспешит ему на помощь!» И вот уже ей настолько туго, что сил нет терпеть, куда уже хуже-то!
«Пожалуйста, – молилась она, – я твоя раба, святой Пророк, пожалуйста, яви мне свой лик. Пусть откроется дверь и по воле твоей войдет Дёне. Пусть она скажет: «Давай, дочка, пошли со мной». Взяв меня за руку, пусть она выведет меня отсюда и отправит в Стамбул».
Умоляя святого Илью, она перечитала одну за другой все молитвы, которые знала. По три раза она прочитала суру Единобожия и Фатиху, а закончив, открыла глаза, однако никто не пришел. Что уж там Святой Илья – даже домашние не пришли посмотреть, умерла ли она. Может, стоят под дверью и подслушивают, что тут внутри творится.
– Лучше бы уж меня заперли в загоне для скота, – вырвалось у нее вслух. Там уж хотя бы теплее. Возле тридцати двух овец и трех коров она хотя бы могла согреться. Здесь же было так холодно, что зуб на зуб не попадал, и Мерьем порой казалось, что стук ее зубов слышен даже за дверью.
Она вернулась в памяти к тем счастливым дням, когда еще не стала женщиной и ходила в начальную школу. Маленькая девочка могла свободно бегать и играть на улице, крутить обруч вместе со своими братишками Джемалем и Мемо.
Самыми яркими днями в ее жизни, как и жизни всего села, было празднование годовщины освобождения от русской оккупации. Муниципальный оркестр чеканил шаг под героические марши, аж земля тряслась. Мерьем была в восторге от того, что могла вместе с другими ученицами в черных фартуках, в белых воротничках принимать участие в этих официальных мероприятиях. Ей, как и другим ученикам, объяснили, что надо вытянуть руку и коснуться плеча своего товарища, а потом, держась друг от друга на этом расстоянии, по команде: «Направо!» шагать вперед. Они выстроились друг за другом и под звуки барабанов двинулись по улице. Мерьем казалось, будто все люди, выстроившиеся с двух сторон, смотрят на нее. Она шла, гордо подняв голову. В особенности она обмирала от восторга, когда проходила под украшенной победной аркой, ей казалось, что она прошла под радугой. Когда начались залпы в честь освобождения, каждый вспоминал, что святой Шекер Баба в тот день наслал на головы кафиров град размером с яблоко. А потом вместе с одноклассниками на специально выделенном для них на площади месте они смотрели представление в честь Дня победы.
Каждый год молодежь села, нарядившись в турецкие и русские военные костюмы, давала такие представления. Среди сельских дородных блондинов и шатенов выбирали «русских», они понарошку нападали на смуглых и маленьких турок, но затем героические турецкие солдаты переходили в сокрушительную атаку, обращая противника в бегство, и над полем боя взвивался турецкий флаг со звездой и полумесяцем. Победа турецкой армии сопровождалась бешеными аплодисментами, а из приемника разносились звуки марша.
И брат Джемаль, и братишка Мемо каждый год принимали участие в этом представлении. Джемаль был шатеном крупного телосложения и поэтому играл русского, а маленький смуглый Мемо переодевался турком. Тем, кто участвовал в представлении, префектура выплачивала деньги. «Русским солдатам», которым, в отличие от турецких, доставалось больше тумаков, платили больше. Поэтому у брата Джемаля, в отличие от Мемо, заработок был на порядок выше, но быть турецком солдатом – это, конечно, почет. Что гораздо важнее денег. Временами Мемо говорил Джемалю: «Послушай, вот я курд, а ты турок, однако именно мне выпала честь представлять турецких солдат», – после чего каждый смеялся, однако ролями они никогда не менялись.
Во время одного из представлений случилась неприятность. Она разозлила префекта, руководителя мэрии, начальника полиции, отчего радость праздника слегка померкла. Во время представления «русские» захватили «турецких солдат», а турки, в дыму сражения, под звуки канонады, принялись напропалую колоть штыками, колотить и пинать «русских». Дородные «русские солдаты» терпеливо сносили побои, ведь «турки» были гораздо мельче их. Однако всему есть предел, даже и терпению, которое «русские» проявляли ради денег. Турецкий отряд, под звуки военного марша и пробирающей до дрожи ружейной канонады, почувствовал такой прилив патриотизма, что стал принимать товарищей за настоящих русских солдат и началась нешуточная схватка. С одной стороны кричали: «Аллах, Аллах!», с другой – разносились звуки маршей, декламируемые воодушевленные героические баллады, и все силы были брошены на то, чтобы прикончить «русских врагов»: их пинали и били прикладами. В одночасье завязалась настоящая война. У играющих роль «русских» из носа текла кровь, у некоторых были рассечены брови…
Мерьем оказалась прямо перед братом Джемалем, уже изрядно избитым, он кричал Мемо: «Брат, не бей! Мне вправду больно, ты с ума, что ли, сошел?!» Все «русские» падали наземь, вопили и пытались взывать к разуму, однако куда там! Наконец от ярости «турки» совсем осатанели – и уж били так били!
Джемаль и другие «русские» набросились на Мемо и его «турецких воинов». От многочисленных ран глаза их были залиты кровью – желая отыграться, они жестоко лупили «турок». И те пустились в бегство! Они бежали так, что пыль стояла столбом, а «русские» неслись за ними…
Так День освобождения впервые в истории закончился полной победой «русских», и старейшины села очень, ну очень рассердились! В том году праздник закрыли рано, суматоху уладили, и снова воцарилась тишина.
А Мерьем, глядя, как Джемаль и Мемо с побагровевшими от злости лицами размахивают перед носом друг у друга кулаками, не могла удержаться от смеха.
Шутка
Может ли кто-то перестать быть самим собой и начать жить иной жизнью, будто он теперь другой человек?
Именно этот вопрос задавал себе Ирфан Курудал, сидя в шумной компании в одном из рыбных ресторанов на берегу Босфора. Отпивая по глотку ракии из стоящего перед ним бокала, он всматривался в блики на воде, любовался светом, отражающимся от проходящих неподалеку кораблей и дробящимся искрами в волнах, ударявшихся о берег.
Уже пришла весна, но апрельский воздух пока не прогрелся настолько, чтобы было можно сидеть на открытом воздухе. Поэтому в рыбных ресторанах открываемые на лето окна еще были закрыты, а внутри работали обогреватели. Обычно по воскресеньям поесть рыбы на Босфоре, провести три-четыре часа, беседуя с друзьями и потягивая ракию, считалось приятным занятием, однако Профессору казалось, что сейчас все иначе. Он вроде и смеялся над шутками, следил за ходом беседы и улавливал суть рассказываемых анекдотов, однако в мозгу у него стучал только один вопрос: можно ли изменить свою жизнь?
Все сидящие за столом, один за другим, рассказывали анекдоты. Самыми популярными в последнее время были о столкновениях на юго-востоке страны. Профессор делал вид, будто слышит эти анекдоты в первый раз, и в финале, как и все, взрывался смехом.
Анекдоты и в самом деле были смешные. Группа Рабочей партии Курдистана, устроив на дороге засаду, поджидала группу военных, которые проходили здесь постоянно в семь часов вечера. Прошло полчаса – военных нет, прошел час – никого. Глядя на часы, лидер партизанского отряда воскликнул: «Парни, как бы чего не случилось с нашими ребятами!»
Ха-ха-ха.
Банкир Метин, рассказывающий эти анекдоты, не упускал возможности пошутить над курдским произношением и особенно гундосил, произнося букву «к».
Боевики РПК, напавшие на одну деревню, всех убили. Остались только старик со старухой. Один боевик, прицелившись, прежде чем выстрелить, спросил женщину: «Как тебя зовут?» Бедная женщина, трясясь от страха, ответила: «Айше!», на что боевик сказал, что его мать тоже звали Айше. «В память о моей матери я не буду тебя убивать», – сказал он и нацелил оружие на старика: «Ладно, а тебя как зовут?» Бедняга дрожащим голосом ответил: «Ей-богу, хотя мое имя Ахмет, но в деревне все меня зовут Айше».
Не дослушав до конца, все грянули таким дружным хохотом, что сидящие в зале обернулись, с завистью глядя на эту веселую компанию. Ирфан подумал, что этот анекдот очень остроумный, раньше он его никогда не слышал.
Прежде этих горьких историй рассказывались анекдоты о лазе[11] Темеле и никогда не устаревающие анекдоты на сексуальные темы. Некоторые из них рассказывали женщины, и, если тема была слишком откровенной, особенно если надо было употребить слова, связанные с названием половых органов, женщины капризничали и только после того, как их мужья настаивали: «Давай рассказывай!», они, стесняясь, начинали. От рассказчиков мужчин они отличались только одним: когда встречались названия половых органов, они либо использовали эвфемизм, либо произносили их, понизив голос.
Ирфан Курудал верил, что половой вопрос невероятным образом господствовал во всех слоях турецкого общества. Если бы был жив профессор Зигмунд, Турция могла бы стать потрясающей лабораторией для обоснования его теории.
Пришедшие в этот момент ему в голову мысли, вызванные ассоциациями с Фрейдом, он передал в юмористической форме своим друзьям. Как можно одним словом выразить главное представление евреев о мире? Муса говорил: «Всё – Бог», Иисус: «Всё – любовь», Маркс: «Всё – деньги», Фрейд: «Всё – секс», а Эйнштейн подвел итог этому, заключив: «Всё относительно».
Когда Ирфан учился в Америке, этот интеллектуальный анекдот, рассказываемый в застольях, не вызывал особого смеха у присутствующих.
Он вообще не умел хорошо рассказывать анекдоты и смешить людей.
Сидевшие за столом тоже не слишком смеялись, они вернулись к пересказыванию анекдотов о курдах.
Ирфан же снова задумался о словах Казанзакиса: «Свет Ионии – вожделение».
На самом деле Стамбул нельзя считать Ионией, однако культуры их схожие. Движущей силой общества, базовым инстинктом, определяющим поведение людей, до сих пор остается подавленная сексуальность. И в голосе, и в манере поведения певцов ощущается сексуальный подтекст, это было и остается изюминкой, это демонстрируется публично. Сексуальное – самое важное из того, что нравится людям. И не случайно гвоздем программы в музыкальных залах выступают певцы-геи. Некоторые из них после операций по изменению пола превращаются в женщин, чем объясняется их особая популярность и возрастающий интерес публики. Великий хронист XVII века Мустафа Наим повествует о том, как молодые мальчики, переодетые в девушек, распустив волосы, выставив напоказ грудь, распевали песни, извиваясь в танце, демонстрируя зрителям свою гендерную трансформацию. То же самое происходит и сейчас. Молодые певцы, добавляя к поп-музыке восточные ритмы, снова в таких же одеяниях, извиваются телом по-женски, а общество от этого приходит в восторг. В ходе опроса, проведенного недавно среди молодежи, певцом года был признан гей, а «певицей» – мужчина, изменивший свой пол на женский. К пользующимся большой популярностью во всем мире анатолийским банщикам в турецкие хамамы великие паши и беи приезжали в экипажах и терпеливо ждали своей очереди. Эти банщики, искусно массируя богатых клиентов, ублажая их тела горячей водой и вспененными в мыле мочалками, завоевывали их сердца, обеспечивая себя работой на долгие годы. В старых книгах содержатся описания этого вида деятельности, даже приводятся очень своеобразные рецепты…
Профессор основательно исследовал эту тему и, стремясь распутать загадку сексуальных кодов турецкого общества, опубликовал несколько статей, из-за чего претерпел немало от своих коллег по университету. Университетская среда – питомник скорпионов, где каждый относится к другому как к смертельному врагу. И эти заклятые враги подняли шум: якобы статьи Профессора полны плагиата! Что он не сделал никакого открытия: еще раньше эта тема постоянно муссировалась, что ей посвящены даже целые книги. Говорили, что социолог, не будучи по своей основной профессии историком, может заниматься лишь стереотипным повторением уже известной науке информации. И здесь снова вытаскивалась на свет эта священная корова: научность! Время от времени, чтобы защитить себя от нападок, всем им в начале предложения приходилось вставлять клише «с научной точки зрения». В обществе совершенно не ценилась эта фраза, однако её употребление считалось настолько же необходимым, как и титул профессора-доктора, или доктора-доцента перед именем автора. Поэтому, подобно дервишам, получающим в качестве вознаграждения в суфийском теке свою чашку супа, каждый сотрудник в университетской среде с огромным нетерпением ожидал звания профессора. Ирфан Курудал в одной из телевизионных передач затронул эту тему, сказав, что «встречаются такие невежественные профессора, которые даже на родном языке толком изъясняться не могут». Он процитировал фразу из африканских писем Назыма Хикмета к Бабу Таранта: «Ты подобен невежественному профессору права, которые есть в разных странах». Конечно, после этой передачи он получил по полной программе! Ему предъявляли обвинения в мошенничестве, кричали, что он публикует под своим именем чужие мысли, сплетничали, что он живет за счет своей богатой жены, что разбогател на дармовщину благодаря рекламной фирме своего шурина…
Иногда, сидя в своем маленьком университетском кабинете, он удивлялся, как за свою не очень долгую жизнь он сумел нажить столько врагов. Он не понимал, почему заслужил столько ненависти, однако после горестных сеансов внутреннего самокопания пришел к выводу, что, возможно, это и не является только его проблемой – в этой стране все ненавидели друг друга. Военные ненавидели гражданских, гражданские – военных, авиаторы – сухопутных лиц, а те, кто был на суше, – моряков, чиновники ненавидели юристов, бизнесмены политиков, а политики бизнесменов, средства же массовой информации готовы были утопить в крови всех и вся. Наверное, это единственная страна, где с передовиц газетных полос ежедневно изрыгается столько брани. О, интеллигенция – это иной мир! Словно в кабацкой угарной атмосфере, пропитанной ненавистью, по любой причине каждый был готов схватить острый скальпель и начать морально кромсать кого попало. В их диспутах были переплетены насмешка и ненависть.
Вообще-то еще месяц назад Профессора это совершенно не волновало. Вернее, ему казалась нормальной жизнь в такой среде. Понятное дело: успех всегда притягивает зависть. Но в последние месяцы обстановка начала его угнетать, ему надоели все эти условности: «Этот ресторан не нашего уровня, туда пойдем, сюда не пойдем». Это считалось суперстилем Стамбула, так называемой элитарностью, однако на самом деле уже превратилось в памятник дикости. Он стал задыхаться, он чувствовал, что его собственная суть обесценивается. Внутри появилось чувство непрерывного скольжения. Он словно увидел себя со стороны: ничего не создающего, болтливого и трусливого человека. Раньше он не обращал внимания на зависть, наоборот, считал ее свидетельством успеха, но теперь стал ощущать, что больше не может выносить эту враждебность. Он даже начал думать, что его враги правы. Он такой же бесполезный, беспринципный, дешевый, создающий лишь видимость своей значимости – высокомерная, показушная и трусливая крыса, как и они.
Международные симпозиумы и конференции, которые так нравились ему раньше, тоже начали вызывать чувство странной досады, и теперь он предпочитал, сев в углу, просто наблюдать за всем происходящим. Он мог бы принять участие, поскольку темы, которые обсуждали деятели науки, приехавшие из разных стран, были ему близки, но вынужден был замолкать, когда дело доходило до латинских или древнегреческих теорий. Потому что коренным образом расходился с ними. С участвующими на конференциях арабскими учеными он тоже не умел договариваться, потому что не был выходцем из восточного мира. Латинская, древнегреческая и арабская философии, связанные между собой и развивающиеся совместно на протяжении многих веков, сегодня были лишены единой научной терминологии. Не облаченные в слова идеи как будто не существовали вовсе, и Профессор огорчался, видя, как повторяются банальные клише, взятые из повседневной, мелкой, беспочвенной среды. Все эти отношения были кое-как связаны общими корнями, однако как раз вот этого «кое-как» не хватало, чтобы построить прочный фундамент.
По ночам он рыдал от страха, который сжимал ему грудь, это состояние продолжало обостряться, он чувствовал, как его «я» начинает терять связь с его личностью. Он должен был спасти свое «я». Надо было найти какой-то путь для того, чтобы изменить свою судьбу, чтобы победить мысль о смерти, внезапно зародившуюся и уверенно прораставшую, словно зерно. Собственный дом уже стал символом гроба для него, и он знал, что среди всех этих вещей, как и в своем университетском кабинете, он бессилен. Как и спящий Эндимион, он должен был сам определить свою судьбу. Он не хотел продолжать спать вечным сном.
Он не мог больше выносить все это: сидеть, закрыв сердце, не выпуская рвущиеся наружу безумства, играть роль почитаемого в обществе учителя и ученого.
Он вспомнил, как его поразила история, которую он прочитал несколько лет назад. Достоевский пришел в дом своего злейшего врага Тургенева. Тургенев удивился уже самому этому нежданному визиту. Но то, что было дальше, его вовсе потрясло. Достоевский выкрикнул: «Я растлил девятилетнюю девочку», – после чего развернулся и пошел прочь. В ответ на восклицание изумленного Тургенева: «Но зачем вы мне это рассказали?!», – Достоевский бросил через плечо: «Чтобы вы поняли, насколько ничтожным я вас вижу».
Это было удивительно, только очень мужественный человек способен на подобный поступок. По правде говоря, он хотел бы, как Достоевский, нанести такой же визит к своим врагам – шокировать их и одновременно показать всю их ничтожность, однако поднимающийся изнутри страх говорил, что это невозможно, да и не было в его жизни чего-либо столь ужасающего, как грех Достоевского. Его жизнь, которая считалась чрезвычайно успешной, на самом деле была ничем, а ноль, помноженный на ноль, дает в результате ноль. Будучи дерьмовым человеком, и окружение он имел дерьмовое. И Стамбул, и эти рестораны, и стаи одичавших собак, бродящих по улицам; и попрошайки чайки, и горы мусора со взрывающимся метановым газом, и ночные продажи маленьких детей, и трансвеститы, бьющие острыми каблуками по голове водителей такси, – запах этих нечистот исторгала уже не только бухта Золотого Рога, его начали источать все берега Босфора.
Этими запахами пропитались районы люксовых ресторанов, зарезервированные за сотни долларов столики, сервированные карпаччо, песто, сашими, – все эти иностранные названия блюд давали людям ощущение своей причастности к элите. Окружающая Профессора среда начинала давить, все более ухудшая его внутреннее состояние. Еще месяц назад он смотрел на Стамбул как на чудо, но теперь ощущал, что не может выносить этой имитации элитной жизни, и думал о том, как же все объяснить своей любимой жене – дело это было и впрямь очень трудным. А что, если Айсель скажет ему: «Милый, давай прогуляемся, ты засиделся, надо развеяться». Или что-нибудь наподобие: «Если тебе не нравится, давай поищем другой ресторан», и тогда уже не останется никакого выхода.
Вся и всё обесценивается моментально.
Он снова думал о Хидаете, отплывающем на паруснике, чтобы увидеть город, в котором жил Кавафис.
«Вот уедешь ты на учебу в Стамбул, а я что буду делать?!» – сказал Хидает. Они сидели в одном из кафе на Паспортной пристани и, потягивая холодное пиво «Текель», наблюдали, как меняется на закате вода в заливе, по выражению Гомера, становясь «морем винного цвета»[12].
– Такая жизнь не по мне. Планируешь, приспосабливаешься, терпишь кучу всякого дерьма. Я жду от жизни другого.
– Чего ты ждешь? – спросил Ирфан.
– Не знаю, – ответил Хидает. – К тому же ты уже вытащил свою счастливую карту, не так ли? А я не знаю, какая судьба выпадет мне.
Несколькими днями позже парусное изобретение Хидаета, которое трудно даже было назвать кораблем, превратилось в маленькую точку и скрылось за горизонтом. Может быть, его прибило ветром к Криту, а может, захваченный врасплох штормом, он разбился о скалы. Или просто пропал без вести, кто знает! Профессор чувствовал, что его тоска по Хидаету разрастается.
Тайна Джемаля
Человек с ненаметанным глазом, глядя издали и не подумал бы, что там находится деревня. Расположенные на склоне горы одноэтажные глинобитные домики сливались по цвету с этой неплодородной землей, и если смотреть издалека, то можно было и не уловить следов человеческого присутствия: деревьев, речки, колодца.
Все было укутано снегом.
Когда группа Джемаля вошла в деревню, то не застала там ни одной живой души. Крыши домов были завалены сугробами. Из печных труб не поднимался дым. Вокруг – ни людей, ни животных. Джемаль уже привык к этому. В районе спецоперации армейские подразделения добивали остающихся в курдских селениях подразделения РПК. Те, не имея другого выхода, пытались отсидеться, прячась в домах. Согласно полученной информации, прошлой ночью несколько террористов вошли в эту деревню. Днем их могло прийти бы и больше, но в задачу группы Джемаля входило – в целях предотвращения укрытия боевиков освободить деревню, а дома сжечь. С этой же целью следовало поджечь лес на склонах гор. Лес оставлять было нельзя: нужно было, чтобы террористы, укрывающиеся там, были видны как на ладони. Джемаль слышал о тысячах сожженных деревень. Сам он тоже участвовал в сожжении, по меньшей мере, двадцати, и уже привык, втянулся.
В этой деревне все шло как всегда: людей вытаскивали из домов и, разместив на одном из постов, допрашивали в школе. Сведения о боевиках выбивали с трудом, женщины надрывались от крика и плача, мужчины стеснялись раздеваться донага перед всеми и отказывались подчиняться, им было трудно ступать босыми ногами по острым и твердым камням; услышав приказ капитана: «До завтрашнего дня деревню освободить!», – они впустую умоляли не разрушать их домов. Вчера боевики РПК тоже угрожали, что уничтожат их жилища в ответ на требования военных сдать оружие. Жители села упрямо молчали и ничего не говорили. И к этому Джемаль уже привык. Он и его товарищи знали, что в ответ на их требование, как и на требование боевиков, никто не станет сдавать оружие. Вплоть до сегодняшнего дня ни один из жителей села ни в чем не сознался и не показал оружейные схроны, устроенные за пределами деревни.
Джемаль был убежден, что для этих людей существуют три самые важные вещи: оружие, ослы и их собственные яйца. Они не сдают оружия, пуще глаза берегут своих ослов, с помощью которых добывают пропитание, а когда их бьют, умоляют: «О Аллах! Командир, только не по яйцам!» В первую очередь они боялись потерять свое мужское естество.
В своей группе Джемаль был единственным человеком, знающим курдский язык, однако он с трудом понимал, когда деревенские начинали говорить меж собой. Он усвоил от Мемо только ломаный курдский – этого было недостаточно, чтобы понимать все говоры, иногда получалось лучше, иногда хуже.
Женщины, рыдая, грузили на ослов свои пожитки, дети тащили узлы, а мужчины в ужасной безысходности вздымали руки в мольбах. Жителям было сказано: «Можете идти куда хотите». Многие разбрелись по дорогам: некоторые отправились в Диярбакыр к своим родным, другие – в Стамбул, Измир, Анталию, Адану, Мерсин. Главной задачей военных было зачистить этот район от людей, уничтожить деревни, в которых боевики РКП могли бы найти убежище и пропитание.
Джемаль думал о голосе, который он слышал по рации, и к нему пришла мысль, что, возможно, и Мемо этой ночью пришел в деревню. По отношению к своему ближайшему другу он испытывал сложную гамму самых разных и странных чувств. Когда он думал о Мемо, война напоминала ему шуточные школьные представления у них в селе, однако от свиста пуль и взрывов ракет все его естество наполнялось диким страхом, и все шутливые воспоминания испарялись как дым. Первое время он перебирал в памяти все связанное с Мемо: как они охлаждали в речке сворованные на бахче дыни и арбузы, как жарили в бидоне пойманную сетью рыбу, как его старшие товарищи пили ворованную ракию, а он, из-за страха перед своим отцом-шейхом, даже руки не протянул к этому мерзкому напитку. Джемаля охватывала волна безграничного стыда и вины, когда он вспоминал, как его друзья, пересмешничая, привязывали камни к хвостам ослов. А потом, приукрашивая и добавляя от себя семь верст до небес, пересказывали самые непристойные в мире байки про Чистую Невесту. Он пытался сдержать возбуждение, потому что знал – от самого ужасного греха – онанизма, можно ослепнуть, так говорил его отец-шейх, и засыпал в страхе: как бы не стали искушать его своими видениями злейшие враги человека – бесы!
Все реже он вспоминал их невинные детские шалости: мины, «калашниковы», засады и полиэтиленовые пакеты, наполненные оторванными кусками тел товарищей, очень способствуют стиранию из памяти довоенного времени. Прошлое, когда они жили в селе, совершенно не вязалось с настоящим и постепенно исчезало из памяти Джемаля.
Странное дело: на представлениях в День освобождения Мемо обычно играл роль турецкого солдата, а он, Джемаль, – русского. Сейчас они поменялись местами: Джемаль был турецким военным, а брат Мемо – курдским партизаном.
Каждую ночь он слушал ломкий голос Мемо, предлагающий партизанам сдаться, но никто об этом не знал. Даже под угрозой смерти Джемаль не выдал бы эту тайну. Как же трудно было ему, слушая знакомый голос в рации, делать вид, что ничего особенного не происходит! Но так уж вышло, что однажды ночью он открыл эту тайну Селахатдину, который спал рядом на верхнем ярусе кровати и которому он очень доверял. Джемаль говорил шепотом, чтобы в казарме никто не мог ничего услышать. В ответ Селахатдин, который был поумнее его (Джемаль в этом был уверен), сказал: «И рта не открывай! Иначе тебе все это выйдет боком!» Джемаль послушался его совета. Селахатдин был парень из Ризели, его происхождение выдавал огромный нос – такой же, как у всех жителей черноморского региона. Многие из его боевых друзей были выходцами с Запада или Черноморья. Немало ребят родились в Тракьи и Эгели. А такие, как Джемаль, приехавшие с Востока, встречались редко. Селахатдин рассказывал ему про Стамбул, про рыбные торговые ряды, куда его дядя поставлял рыбу с судов Сарыера, про рыбные фермы в районе Эгейского моря. Все это для Джемаля было как диковинный сон…
Поскольку Селахатдин тоже был глубоко верующим, они держали пост во время месяца Рамадан и, если находилась такая возможность, совершали вместе дополнительные намазы-нафили. То, что отец Джемаля был шейхом, вызывало у Селахатдина особое уважение. Себя Селахатдин называл последователем суфийского тариката (пути) Ушшаки, он постоянно расспрашивал Джемаля о том, к какому ордену принадлежит его отец, однако Джемаль ничего толком не мог объяснить. Несмотря на то, что отец Джемаля был шейхом, а сам он восемь лет посещал курсы по изучению Корана, Джемаль не знал, к какому течению он принадлежит. Как мог, он пытался рассказать что-то про тарикат, говорил, что его отец использует турецкие, арабские, персидские слова, чтобы передать красоту Всевышнего и то, на каких принципах построен этот мир. Однако у Селахатдина, гораздо лучше знающего религиозную проблематику, это не вызывало доверия, и у него закралось подозрение, что отец Джемаля – один из ложных шейхов, какие нынче были распространены в Анатолии.
После полной эвакуации людей они принялись входить в жилища и обыскивать их. Как и предполагалось, ничего это не дало. Облив бензином, они подожгли дома. Когда пламя с шумом и треском охватило деревню, женские крики поднялись до небес. На глазах, словно щепки, сгорали их гнезда, их добро. А сами они кричали так, словно сгорали их сердца. Мужчины, державшие за поводья ослов, чтобы те не убежали, не плакали, они молча смотрели, как горит деревня, а в их глазах читалась дикая злоба.
Если бы такое случилось раньше, Джемаль ужасно бы расстроился, по меньшей мере, разделил бы с людьми, чьи дома гибли, их боль, почувствовал бы сожаление, однако за долгие военные месяцы он видел столько горя, что на этот раз внутри него ничего не шелохнулось. По сравнению с другими событиями сожжение деревень было детской забавой. Не ранее чем две недели назад он видел почерневшие трупы. Муж и жена, учителя, которым еще и по двадцать лет не исполнилось, были расстреляны из микроавтобуса боевиками РПК, и Джемаль в оцепенении смотрел на два молодых тела, даже лица которых были почерневшими…
Эти горы вокруг были ужасны, и человек, говорящий по рации голосом брата Мемо, непрестанно твердил о «праве гор и праве ночи». Действительно – каждый выступ, пещеру, каждую расщелину боевики знали намного лучше, у них были более тесные связи с курдским населением. Даже животные их признавали. Когда Джемаль с товарищами приближался к деревне, собаки кидались на них как бешеные, поднимали лай на всю округу. Они были вынуждены убить нескольких пастушьих псов – карабашей. А если в ту же деревню просачивались партизаны, в ночной тьме ни один пес не издавал ни звука. Долгое время он пытался разгадать эту загадку. Наконец в один из дней Джемаль услышал, как в курдской деревне окликают собак. Джемаль и его команда приказывали: «Молчать!» по-турецки, а курды издавали странный гортанный звук, который заставлял собак умолкнуть. Джемаль старательно подражал этому звуку, но собаки его все равно не слушались.
Та же история с ослами. Деревенские жители странными звуками, которые невозможно было скопировать, управляли ослами так, будто разговаривали с ними на их языке. Однако как-то вечером Джемаль встретил человека, который не справился с этим. Они увидели, как некто с ослом направляется прямо на заминированный участок. Если бы они предупредили его – выдали бы свою засаду, если бы не предупредили – человек бы подорвался на минах. Они затаились. Взрыва долго не было. И они не выдержали, закричали: «Не ходи туда, там мина!»
Мужчина остановился, однако не смог сдержать осла, который от испуга понесся прямо на минное поле. Хозяин издавал множество звуков, пытаясь остановить животное, но все зря. Осел был обречен. Джемаль почувствовал взрывную волну и увидел ноги убитого осла, летящие по воздуху, которые через секунду упали прямо на Селахатдина. Хозяин осла рыдал, оплакивая гибель непослушного животного. Сквозь слезы твердил, что теперь его жизнь окончательно разрушена…
Джемаль предполагал, что Мемо может быть среди тех, кто воевал в горах. Потому что он всегда был очень метким стрелком.
Когда он в первый раз услышал голос друга детства, все внутри у Джемаля обмерло. Ему было бы мучительно увидеть Мемо среди погибших врагов. Он ненавидел эти горы, где и сам мог быть убит в любой момент. Стоя в ночном дозоре, он думал, что вот сейчас его продырявит пуля, выпущенная Мемо. А если бы ему самому довелось встретить Мемо, то он убил бы его, не моргнув глазом, потому что тот – государственный преступник, а Джемаль – военнообязанный, который призван защищать страну от врагов.
Джемаль увидел, что жители деревни, до этого в безысходной печали созерцавшие, как горят их дома, начали расходиться. Погрузив на ослов ковры, тюки и детей, они постепенно исчезали…
Один немощный старик умолял капитана: «Ноги не держат меня, командир. Ну, куда я пойду?» Глаза белобородого старца, с трудом изъяснявшегося по-турецки, были полны боли. Рядом с ним стоял тощий мальчишка, на вид ему можно было дать лет девять или десять. Немного погодя выяснилось, что у старика нет родных, кроме этого маленького внука. Всю семью убили, а он в своем доме на околице держал семь овец и трех коз, старался хоть как-то выжить. Обливаясь слезами, старик умолял разрешить ему остаться здесь вместе с животными. Капитан, увидев, что иного выхода нет, ведь переправить в другое место калеку будет очень трудно, сказал: «Ладно, оставайтесь!» Джемаль видел, как в глазах у мальчишки заиграла радость. Самым ярким на лице мальчишки были огромные карие глаза: когда тот улыбался, они начинали сиять невероятным светом. Ребенок улыбался, хотя вокруг бушевал пожар. На краю деревни уцелел одинокий дом, его не тронул огонь, и теперь он с дедушкой сможет остаться и поселиться там. Мальчику не хотелось оставлять коз и овец на этих холмах, он не представлял себя не только в городе, но и нигде в другом месте, за пределами этих гор.
Джемаль смущенно достал из кармана мелкие деньги, положил в ладонь мальчика и потрепал его по голове. Он постарался сделать это незаметно для окружающих, чтобы не смутить ребенка. Мальчик взглянул на него с благодарностью.
Этим вечером, после возвращения на пост, случилось нечто, чрезвычайно взволновавшее Джемаля. Хриплый голос Мемо в рации, после нескольких ругательств, отпущенных в адрес турецких вооруженных сил, переговариваясь со своими, сказал по-курдски: «Я иду к пророку Ною». Эта фраза, сказанная среди десятков других слов, вроде бы ничего не значила. Мемо всего лишь сказал: «Я иду к пророку Ною», однако Джемаль знал старые шуточки Мемо, он был уверен: Мемо произнес ее умышленно, «Пророк Ной» означал гору Джуди[13].
Потому что все в этой местности свято верили в то, что ковчег Ноя остановился на горе Джуди, и Мемо, просиживая часами на берегу озера, мечтал о том, как однажды он поднимется на Джуди, обследует каждый дюйм и непременно найдет Ноев ковчег.
Это означало, что боевики оставляют место своего обитания – заснеженные вершины, куда по склонам поднимался огонь, и направляются к Джуди. Ведь военные, знавшие Джуди как свои пять пальцев, недавно снялись и ушли оттуда.
После еды Джемаль сказал капитану: «Командир, я хочу сообщить вам нечто очень важное».
От волнения его лицо стало красным как закат, предвещающий жаркий день.
Почему не поют петухи?
Из поколения в поколения передавались предания о чудесах, дарованных Всевышним и Святой Марией, каждый мог стать их свидетелем.
Вот и Мерьем так молила Святую Деву, что, когда двери амбара, заскрипев, отворились и на пороге вместо змеи Дёне появилась повитуха Гюлизар, девушку крепко обняла радость: выходит, Бог принял ее молитвы! И вот она, милая няня, с ее извечным белым батистовым шарфом на голове, лучистыми добрыми глазами, добрыми руками, стоит напротив Мерьем. Сквозь оставленные открытыми двери просачивался солнечный свет.
Гюлизар уже так давно занималась акушерством, что, кажется, в селе не осталось ни одного человека, который бы не прошел через ее руки. Все были для нее словно родные дети.
А в жизни Мерьем ее роль была исключительно важной: во время родов шею девочки обвила пуповина, и в мир она пришла бездыханной. Руки Гюлизар сняли с посиневшей шеи ребенка пуповину, первый глоток воздуха попал в легкие, и девочка ожила. Мать ее не удалось спасти. Когда Мерьем приходили в голову мысли о смерти, она находила в себе силы не думать об этом: «Хватит, я уже один раз умирала». Да и дома все приговаривали: «Девочка эта мертвой родилась, еще раз не сможет умереть».
После десяти изнурительных дней, проведенных в страхе и одиночестве, она кинулась к повитухе, крепко-крепко обняла ее за шею и, вдыхая запах батистового платка, разразилась рыданиями.
– Со мной случилась беда, биби! – шептала Мерьем. (Все дети называли Гюлизар не «тетя», а «биби»). – Я хотела убить себя.
– Знаю, девочка моя, – сказала повитуха Гюлизар, – смотри, больше так не делай!
Она начала причитать и сетовать на женскую долю: каждая проходит свой тернистый путь, если ей довелось родиться женщиной, а потом несколько раз повторила: «Пропади она пропадом, эта женская доля!»
– Вспомни, дитя, сколько горестей выпало Мерьем, благословенное имя которой тебе дали! Ее сына убили. Разве ты не знаешь?
– Знаю, – ответила Мерьем.
– Детей нашей матери Фатимы тоже убили, внуков благословенного нашего Пророка[14].
– Это я тоже знаю, – сказала Мерьем, – в Кербеле.
– Знаешь, доченька, – повитуха Гюлизар погладила ее по голове, – я прошла сюда через тысячу трудностей. Никто не хотел тебя показывать. Целыми днями я умоляла, и наконец надо мною сжалились. Сердце твоего отца мягкое, но твой дядя, сказав «А», не говорит «Б». Слушай меня хорошенько, возможно, это последняя наша возможность поговорить, другой раз меня могут сюда не пустить. В селе все волнуются за тебя. Все переживали, когда нашли тебя на кладбище, где ты лежала в пыли, словно израненная птица…
Мерьем и в самом деле нашли там: на кладбище, на краю дороги, недалеко от въезда в село. Ее лицо и руки были исцарапаны кустарником и ветками деревьев, ноги испачканы кровью, сорванный с головы платок валялся на земле, она билась о землю, дико кричала, руками и ногами колотила по воздуху. Увидевшие ее мальчишки решили, что в девушку вселился джинн. Пришли добрые люди, на руках понесли ее домой. Но девушка не могла успокоиться: пиналась, вырывалась. Она то теряла сознание, то снова приходила в себя и, вырываясь из дружеских рук, падала на землю. Путь к ее дому лежал мимо поселкового рынка, и когда израненную, всю в синяках, ее несли по пыльным улицам – все были там, и каждый видел ее беду…
После того, как ее принесли домой, она два дня не приходила в себя, лежала с температурой в бреду. Позвали повитуху Гюлизар – вот тогда и стало ясно, что Мерьем жестоко изнасиловали. Чтобы сбить температуру, Гюлизар клала ей на лоб ткань, смоченную в уксусе, ставила на спину банки, на грудь нанесла йодную сетку. Чтобы привести девушку в сознание, ей постоянно давали вдыхать нюхательную соль. Наконец Мерьем вроде бы пришла в себя. И в тот же день семейный совет вынес решение: перевести ее в этот сарай.
– Многие знакомые в селе пытались тебя спасти, – сказала Гюлизар. – Встречались с твоим дядей, говорили, что в случившемся нет твоей вины и что эта старая традиция должна быть упразднена. Каждый хотел тебя спасти…
Мерьем спросила:
– Они, что ли, не ждали, что я покончу с собой?
Помедлив, Гюлизар ответила:
– Конечно, такие тоже есть. Но, по крайней мере, некоторые пытались спасти тебя.
– Раньше, случалось, девушек в Стамбул отправляли. Пусть меня тоже отправят, – попросила Мерьем.
– Ах, доченька, – сказала повитуха, гладя волосы Мерьем, – ах, бедная моя девочка. Стамбул – это не выход! Более правильным было бы убедить твоего отца и дядю не делать этого! Вот если бы ты мне помогла и рассказала обо всем, что случилось… Поведай, кто совершил над тобой это?
Услышав вопрос, Мерьем замолчала, ее лицо помрачнело, она уперлась взглядом в пол.
– Скажи, доченька, – спросила повитуха, – назови имя негодника или негодников, и тогда я смогу спасти тебя. Если это дело прояснится, им не поздоровится. Полицейские переломают руки-ноги этим насильникам, изобьют как собак, а потом бросят в тюрьму. Или же наша семья позаботится об этом…
Мерьем продолжала упрямо молчать, у нее даже дыхание перехватило от страха, и только в исступлении расскачивалась взад-вперед.
Повитуха Гюлизар долго умоляла назвать имена насильников, однако девушка не произнесла ни слова. Можно было решить, что она не знает своих обидчиков. А может, они набросили ей на голову покрывало или мешок и совершили черное дело, не показывая своих лиц? Или девочку так ударили по голове, что она и впрямь ничего не может вспомнить?..
Да если бы и вспомнила, вряд ли бы от этого была какая-то польза. Попытки Гюлизар объяснить дяде Мерьем, главе семейства, что если они найдут того, кто надругался над девушкой, то смогут заставить его жениться, были тщетны. Гюлизар была пожилой женщиной и могла говорить с мужчинами откровенно. Однако этот угрюмый мужчина сказал, как отрезал:
– У нашей семьи нет никаких общих дел с насильником. Никакого брака быть также не может!
Некоторое время нянюшка продолжала увещевать Мерьем, но в конце концов поняла, что у девушки ничего не узнаешь, и перевела разговор на другую тему.
– Детка, – сказала она, – если от этого срама ты забеременеешь, для всех будет еще хуже. Если станет ясно, что ты понесла… Избави Бог! Поэтому, если ты беременна, мне кажется лучше, если у тебя случится выкидыш…
С того момента, как начались эти расспросы, Мерьем не переменила позы, она продолжала молча раскачиваться взад-вперед. Как будто ничего не слышала и не понимала – ни про нападавших, ни про возмездие. Глядя на свет, просачивающийся в помещение сквозь щель, она словно погрузилась в какие-то свои грёзы…
И Гюлизар стала сетовать на мучительную долю, которая сопровождает женщину всю жизнь, и возносить проклятия в адрес тех, кто причинил зло целомудренной девушке. Распростерши руки, обратив лицо к небу, она причитала:
– Да пусть им пусто будет, пусть у них руки-ноги отсохнут за то, что пролили ее невинную кровь, да чтобы они околели!
Тут Мерьем начала приходить в себя. Она словно очнулась.
Уставившись на Гюлизар своими зелеными глазами, она спросила:
– Биби, а может быть, они разрешат мне помыться? У меня волосы слиплись, голова грязная, только одно ведро воды хотя бы, другого мне ничего не надо.
C того самого часа, как ее заперли в амбаре, ей хотелось стать, как их старый дед, потерявший жену. Этот огромный человек совсем не мог есть, поэтому в туалет ему сходить было трудно. Казалось, он вообще не ходил в уборную. Однако не кормить родственника считалось постыдным: хочешь не хочешь, а Дёне была вынуждена время от времени бросать ему в миску хоть несколько ложек еды. Но потом Дёне оставила его на морозе в саду. Мерьем было невыносимо видеть его труп, засыпанный снегом…
Гюлизар вышла, чтобы узнать насчет воды. В дневное время в доме мужчин не было, этот вопрос следовало решить с теткой девушки.
Когда через полчаса она вошла в сарай с корытом в одной руке и ведром горячей воды в другой, на сердце у бедняжки разлилось блаженство: тетя разрешила ей искупаться!
– Биби, тетя ни разу не приходила, чтобы повидать меня.
– И не придет эта неверная!
В самом деле, Мерьем знала, что тетка ненавидит ее, поскольку считает, что ее рождение стало причиной смерти ее близняшки-сестры. При других обстоятельствах, как бы ни было тяжело, она признала бы, что ее сестра просто умерла во время родов, как это случается и с другими несчастными женщинами. Однако сон, который она видела, доказывал абсолютно точно, что причиной смерти ее любимой сестры была Мерьем.
Когда Мерьем была маленькой, то не понимала, почему тетя так плохо относится к ней, почему постоянно хочет ее напугать, но, повзрослев, поняла причину такого к себе отношения. Ее появление на свет принесло тетке горе. Она во всем обвиняла Мерьем, считала ее тупой, называла грешницей, приносящей неудачу, и девочка терялась в догадках: что бы такого сделать, чтобы понравиться смотрящей на нее змеиным взглядом тетке? Однако, что бы ни делала, не могла добиться от нее ласкового слова.
Биби, посадив Мерьем в корыто, начала мыть ее, словно ребенка. Мерьем, глядя, как с ее головы стекают горячие струи воды, чувствуя, как руки биби намыливают ее волосы, ощутила счастье.
Закончив купание, Гюлизар вышла, но скоро вернулась с покрывалом в руках и закутала девушку, чтобы та не замерзла. Одновременно няня вытирала ее, приговаривая: «А сейчас ты хорошенечко послушай мои слова, умная моя девочка! Мы должны позаботиться об этом бастрюке. По твоим глазам я вижу, что ты забеременела».
Мерьем ни звука не издала, когда Гюлизар натирала ее между ног каким-то снадобьем, настоянным на травах, и так же молча выпила протянутый ей вонючий настой.
Повитуха Гюлизар, делая аборты, не прибегала к опасным методам – не вкалывала в матку женщинам перья птиц и черенки от баклажанов.
Закончив дело, Гюлизар положила голову Мерьем к себе на колени и, словно ребенка, с жалостью начала гладить по голове. Через какое-то время Мерьем произнесла:
– Биби, мой живот разрывается!
– Ничего, детка. Скоро пройдет.
Прежде чем погрузиться в сон, Мерьем спросила:
– Биби, почему петухи не поют?
– Петухи всегда поют, – ответила нянька. – Только некоторые люди их слышат, а некоторые нет.
Мерьем прошептала:
– Я уже не слышу.
– Это оттого, что ты не хочешь, чтобы наступало утро, – ответила ей повитуха Гюлизар.
Ночью Дон Кихот, а днем – Санчо Панса
Ирфан этой ночью совсем не сомкнул глаз. Он и не думал принимать снотворное: слонялся из угла в угол на втором этаже дома, сидел в плетеном кресле у крытого бассейна и смотрел, как преломляется свет в воде. Ожидая наступления утра, он спокойно собирал в кабинете свои бумаги, впервые за многие дни не чувствуя того леденящего страха, который обрывает дыхание и сжимает изнутри сердце. Сидя у бассейна, он строил планы на грядущий день. Сегодня наступит торжество победы над трусостью, сегодня он отменит установленные другими правила, по которым жил. Словно брошенному на морское дно со связанными ногами, легкие которого забили водоросли, мешающие дышать, лишенному надежды вдруг сверху ударил луч света, нашел к нему путь и спас. Так Профессору, отвязавшемуся от страхов, впервые пришло понимание, что он будет жить.
Он еще ничего не сообщал Айсель, бедняжка наверху сладко спит и не подозревает, что ее судьба вот-вот переменится.
Утром, придя в университет, первым делом он войдет в кабинет заведующего и вместо того, чтобы, заикаясь, приветствовать начальника, как делал это долгие годы, Ирфан даст в морду этому мерзкому провинциалу. Была ли еще одна причина, кроме пресловутого общественного мнения, чтобы вмазать этому старому подлому негодяю, распространяющему слухи о его «интеллектуальном воровстве», и разорвать невидимые нити лилипутов, опутавших его. Раз это сможет принести ему облегчение, то надо сделать именно так. Надо будет даже оставить открытой дверь и врезать по грязному похотливому рту заведующего отделом на глазах у секретарши – чтобы все видели, как у этого негодяя вылетают его гнилые зубы. Начальник будет ошеломлен нападением, потом его охватит ужасный страх, однако через пару-тройку минут он придет в себя, примется орать, что он ранен, и требовать сатисфакции, угрожать, что Ирфан дорого за это заплатит, позовет секретаршу, и одно за другим посыпятся указания: «Дочка, немедленно позвони адвокату. Свяжись с ректором. Нет, сначала сообщи в полицию!» Он будет прижимать носовой платок, стараясь остановить кровь, и попытается успокоить себя мыслью о том, что «этот преступник будет с позором брошен в тюрьму!» В университете немедленно станет известно о происшествии. Об этом сообщат в прессе. Одновременно начнут звонить сотни телефонов, и друзья, словно почуявшие запах крови волки, начнут плести в коридорах сладко-медовые сети сплетен. Ирфан, улучив момент, ринется в кабинет отвратительной женщины – Шэрмин-ханым. Чтобы и ей преподать урок!
Однако, строя планы в сумрачном помещении бассейна, где отражались и преломлялись в воде блики лампового освещения, он так и не сумел окончательно придумать, что же он сделает с Шэрмин. Но эту злобную ведьму надо непременно проучить! Может, глядя в широко открытые от изумления глаза, помочиться прямо на ее рабочий стол?! Да уж, ее от такой выходки и кондрашка может хватить. Однако он не был уверен, что справится: под взглядом этой бабы, да если за спиной еще и секретарша будет, вряд ли он сможет исполнить это. Но план был настолько хорош, что от него не хотелось отказываться. Он думал-думал и в итоге нашел выход: еще до похода в кабинет завотделом надо будет выпить подряд несколько стаканов воды и подождать, когда приспичит. И когда он ворвется в кабинет Шэрмин-ханым, все случится само собой, ему только и останется, что расстегнуть ширинку. Он был уверен, что после этого женщина обезумеет, начнет биться в истерике, секретарша бросится названивать по телефону, через некоторое время к этой суматохе присоединится и заведующий отделом с окровавленным ртом. А, возможно, и ректор, получив информацию о чинимых его подчиненным безумствах, спустится, чтобы посмотреть на скандал – вот тут-то надо будет срочно убираться из университета! Надо закончить письмо для Айсель, подготовить документы и сделать другие необходимые вещи…
Как и следовало ожидать, на следующий день Профессор не сделал ничего из задуманного.
И от этого почувствовал себя еще хуже, чем раньше.
С первыми лучами утреннего света все его ночные фантазии рассеялись, солнце звало вернуться в реальный мир. Многие мысли, казавшиеся в ночной темноте правдоподобными и осуществимыми, в утреннем свете предстали полным бредом. Профессор, как и многие люди, по ночам бывал Дон Кихотом, а с рассветом превращался в Санчо Пансу. Чтобы понять, что месть, которую он обдумывал, сидя у ночного бассейна, на практике неосуществима, можно было бы и в университет не ходить.
Он понял это, еще не выходя из дома. А когда прибыл в кабинет начальника, то сделал все, чтобы окончательно разрушить свои утопии. Прямо от дверей кабинета заведующего он скромно произнес: «Доброе утро» и, тут же что-то пробормотав, ретировался. В дверь уже входил следующий посетитель, один из них должен был уступить место другому, и этим уступившим был Профессор – на протяжении целой ночи бьющий морду, ломая нос, отвратному для него человеку, он не сумел сказать ни одного слова. Попятившись назад, он «по-джентльменски» дал дорогу другому, что свидетельствовало о его полной ничтожности и неисправимости. Вместо того чтобы оскорбить, произнести унижающие слова, он продемонстрировал уважение и почтительность…
Стоит ли рассказывать о его походе в кабинет Шэрмен-ханым?
Войдя, наконец, в свой кабинет, Профессор впал в ужас по поводу собственной персоны. Но чтобы не отменить своего главного, жизненно важного решения и поставить окончательную точку, он немедленно сел писать электронное письмо жене. Набрал ее емейл – ayselkurudal@hotmail.com, а в адресе отправителя указал свое имя, однако тело письма оставил пустым. Что он мог там написать?! Прощальную записку?! Сообщение о разлуке?!
Удрученный неосуществимостью своих фантазий, Профессор начал послание с обращения: «Любимая». Потом подумал, что с самого начала надо быть честным. Можно ли начинать прощальное письмо словом «любимая»? И как он мог обратиться к жене, с которой прожил двенадцать лет? «Любимая моя женушка», «моя Айсель», просто «Айсель» или только лишь «здравствуй»?!
Подумав, он решил все же сохранить обращение «любимая». Потому как целью его послания была необходимость сообщить о своем уходе, а не уходе любви.
После глубоких размышлений письмо Профессора жене вышло таким:
«Любимая!
В нашем законодательстве есть правовая концепция, которая подразумевает использование такого понятия, как право на самозащиту или право на самооборону… Вот и я пишу тебе это письмо, чтобы объяснить, что сейчас попал именно в такое положение. Несмотря на то, что для тебя все выглядело как обычно, я находился в состоянии пожирающего меня беспокойства, которое в последнее время усилилось и стало абсолютно невыносимым. Это никак не связано с тобой, моим отношением к тебе. Я люблю тебя как прежде, но, к сожалению, я должен попрощаться с этой жизнью и отправиться в другую страну. Я хочу, чтобы ты меня правильно поняла. Это не мой выбор, я вынужден защищаться. Если я этого не сделаю, то в один день не смогу больше жить. Или погибну, или совершу самоубийство. Есть только два варианта, и я выбираю право жить. Все мое естество расшатано до основания. Чтобы я мог дышать, мне необходимо переселиться в другое место, я должен остаться наедине с самим собой. Надеюсь на твое понимание. Не ищи меня; я отправляюсь в дальнее путешествие. Если в один прекрасный день я смогу победить это ужасное чувство, я позвоню тебе.
До свидания, любимая.
Ирфан».Он очень хорошо представлял, насколько расстроит Айсель его письмо. Он смотрел на послание, еще не ушедшее с экрана компьютера, и понимал, как низко падет он в глазах всех – от домашней обслуги, водителей, рабочих до родственников и друзей. Каждый будет считать себя вправе предъявить ему счет. Он почувствовал, что эти мысли выбивают его из себя, и, испугавшись, что даст слабину и откажется от принятого решения, быстро нажал на кнопку «отправить». Письмо ушло, и теперь у Профессора не было возможности изменить принятое решение.
Он вышел из университета и, оставив свою машину на парковке, поехал в банк на такси. Еще раньше, утром, первым делом он позвонил в банк и попросил управляющую его счетом госпожу Нюкхет снять все деньги.
– Однако до срока выплаты осталась еще целая неделя. Вы много потеряете, – предупредила госпожа Нюкхет.
– Пускай, – ответил Профессор. – Подготовьте семьдесят две тысячи долларов. Я зайду сразу перед обедом и заберу.
Он знал, что если согласится ждать срока выплаты, то может потерять намного больше.
Засада и хохот
Они ждали, спрятавшись в ущелье за скалой.
Неожиданно потеплело, зарядивший дождь, который пришел на смену мокрому снегу, никого не обрадовал: все очень хорошо знали, что значит оставаться целую ночь под открытым небом. Сколько ни старайся, сколько ни заворачивайся в нейлоновую накидку, а дождь непременно проникнет внутрь, и вся теплая одежда, в которую ты старательно обряжался, надеясь согреться, станет мокрой и предательски холодной. Ледяная вода хлюпала в ботинках, шерстяные носки мокли насквозь, пальцы ног немели от холода…
Но для засады такая погода была идеальной. Ночная мгла укутала горы, а льющий как из ведра дождь должен был затруднить положение направляющихся сюда боевиков РПК.
Чтобы не был виден огонь, Селахатдин курил, прячась под одеялом. Это было очень опасное занятие. Он подвергал опасности всю группу. Было дело, один из их товарищей тоже вот так курил под одеялом и был убит из-за маленького проблеска огня. Боевики не должны засечь ночную засаду, не должны предупредить своих о ней! Иначе они понесут большие потери. Джемаль выхватил сигарету у Селахатдина, потушил ее. Его лицо было настолько серьезным, что Селахатдин промолчал.
Джемаль страстно желал, чтобы Мемо со своей группой угодил в выставленную только что засаду, чтобы весь отряд повстанцев был ликвидирован. Мемо уже не был для Джемаля другом, он смотрел на него, как на кровожадного врага, убивающего его товарищей.
На Мемо он злился больше, чем на других, и хотел бы лично казнить его, выпустив в него пулю. Среди воевавших против них людей самым ненавистным для Джемаля, самым заклятым врагом был Мемо. Однажды, когда Джемаля переполняло это странное и жуткое чувство, он сказал Селахатдину: «Что делает с человеком страх смерти!» Джемаль думал, что уже привык к страху, но, как оказалось, к этому привыкнуть было невозможно. Днем и ночью ждать, что в любую секунду тебе в глаз вонзится пуля, выпущенная снайпером, вздрагивать, делая шаг, от страха наступить на мину и быть разорванным в клочья – это поселилось в подсознании, и это не могла пересилить даже десятилетняя дружба.
Джемаль знал, что Мемо стал искусным стрелком еще подростком, когда стал ходить на охоту за куропатками. Ружье в его руках было не просто инструментом, а частью его тела. Мемо мог воспользоваться им мгновенно: выстрел – и дичь падает!
Джемаль был безумно зол. В жизни он не испытывал ни к кому такую ненависть, как к бывшему другу! Потому что ствол оружия, с которым тот охотился на куропаток и зайцев, теперь был направлен против него и его товарищей. На погранзаставе, на открытой местности, в засаде – он постоянно ощущал этот направленный на него ствол.
Мемо поднялся на вершину горы и оттуда одного за другим отстреливал всех их. На привале, открыв маленькие двухсотграммовые консервные банки, они торопливо ели холодную пищу – и ожидали пули; пили наполовину замерзшую воду – и не могли избавиться от мысли, что в любой момент может прилететь ракета. Оттого, что они целыми днями питались только твердой пищей, они постоянно страдали запорами и, присев на корточки посреди поля, испражняясь калом с кровью, дрожали от ужаса в ожидании смерти. Изредка на разведенном небольшом огне они пытались согреть воду, чтобы хоть как-то смягчить свой кишечник, снимали со спины свернутую скатку и растягивались на тонких поролоновых ковриках прямо на голой земле. Они не могли избавиться от мысли, что в этих горах от смерти спастись нельзя.
Некоторые солдаты лучше приспособились к ожиданию смерти и не трепетали перед боем. Они говорили: «Будь что будет! Чем ждать, как бараны, смерти в этих горах, лучше уж вернуться домой в гробу, покрытом флагом со звездой и полумесяцем».
Джемаль знал, что смерть исходит от Мемо. Он с горечью думал о том, что в золотые дни их юности и представить себе не мог, что в будущем станет целью для ружья Мемо, подобно куропатке на охоте. Десятки ночей они просиживали вместе до утра, ели в гостях друг у друга и по-юношески то и дело влюблялись в девушек.
А сейчас они хотят друг друга убить.
Джемаль чувствовал, что от бешенства даже не может вздохнуть полной грудью. Он думал, как спастись. Скоро он встретит Мемо и с полным правом накажет его, а винтовку вырвет из его рук и разнесет вдребезги, чтобы тот больше не мог стрелять. «Собака! – прошипел Джемаль. – Взбесившийся убийца друзей, неверный пес!»
С тяжелыми пулеметами, гранатами, ракетами, винтовками G3 они удерживали занятую позицию; тянулись часы, однако боевики РПК не появлялись.
В таких засадах никто не мог заснуть, каждую минуту надо быть настороже. Члены группы не переговаривались, даже шепотом. Джемаль хорошо знал мысли и мечты, в которые погружался в такие моменты каждый… И он так был сосредоточен на Мемо, что словно наяву видел его перед собой. Его сердце колотилось, но когда разум возвращался к нему, то он давал себе отчет в том, что находится где-то посредине между сном и бодрствованием. Этой ночью нельзя было совершить никакой ошибки, никакого необдуманного поступка. При мысли об ошибке, ему вспомнился один футбольный матч с Мемо в селе, на котором были допущены многие ошибки и совершены многие глупости…
Ему вспомнилась площадка рядом с гаражом, где они, задорно переругиваясь, засчитывая и не засчитывая голы, рубились в футбол, обливаясь потом. Один раз они хотели непременно победить команду соперников из соседнего села, и Джемаль, чтобы обеспечить успех, придумал пойти к ходже и попросить его написать амулет, чтобы защитить команду от проигрыша. Ходжа написал амулет и закопал в землю перед воротами. В первом тайме все чувствовали себя окрыленными от радости, потому что даже самые мощные броски попадали не в ворота, а в стойку, или же, отбитые вратарем, улетали на трибуны. Они очень верили в ходжу и силу амулета. Им и в голову не пришло подумать о перерыве между таймами. Перед тем, как выйти на поле, они с ужасом осознали, что команды поменялись местами и ворота, перед которыми был зарыт амулет, стали воротами команды соперников. Как они могли забить гол через ими же заложенный амулет?! Во втором тайме им забили три гола, и теперь уже их удары попадали в стойку, отбивались вратарем или, словно птицы, улетали за пределы поля. После поражения в матче Мемо сказал Джемалю: «Идиот! Ты всех нас подвел. Если уж ты додумался написать амулет, почему не учел, что ворота поменяют?!»
Джемалю оставалось только молчать – упрек товарища был справедлив.
А сейчас тот же Мемо хочет его убить, посылает свистящие над головой ракеты, стреляет по находящимся рядом товарищам, устраивает минные ловушки, покушается на жизнь Джемаля.
Он вздрагивал, когда дождевая вода, просачиваясь за шиворот, стекала по спине, однако делать было нечего, надо было ждать, не шелохнувшись. Вши, от которых чесалось все тело, дождь, холод, боль, кашель, кровавый понос, грипп… Даже с сорокаградусной температурой они круглосуточно оставались в открытом поле под пробирающим до мозга костей дождем. Никаких «уважительных причин» для уклонения от этого быть не могло.
Джемаль пытался представить себе свое село, отца, мать, дядю, сестер, Дёне, Мерьем. Воображая, как женщины в доме заваривают чай и отец с дядей пьют его, засунув за щеку по куску сахара, он старался почувствовать внутреннее тепло, однако ничего не выходило. Словно и не было никакой довоенной жизни, будто он так и родился солдатом в этих горах. Ничего не осталось у него в памяти, кроме приходящей в ночных снах, прячущей лицо Чистой Невесты, которая занималась с ним любовью. Чистой Невесты да заклятого врага Мемо. Свой дом, родных он представить себе уже не мог. Зато все, что было связано с Мемо, до мельчайших подробностей воскрешал в своей памяти. Он помнил худое, со впалыми щеками смуглое лицо, тонкие усики. Помнил, как во время улыбки рот Мемо скашивается направо, его спокойные, но полные внутреннего напряжения движения. Иногда перед его глазами вставал отец, порой Джемаль даже будто слышал его голос. Чаще всего тот появлялся, чтобы дать сыну наставление и предостеречь от греха. Отец держал под контролем все происходящее.
Под утро Джемаль почувствовал в группе какую-то напряженность: не видя друг друга в темноте, они остро реагировали на все происходящее. Они слушали ночь. Они старались уловить звук шагов тех, кто по рации называл себя «властелинами тьмы и гор». Джемаль слышал даже, как капитан старается не дышать. В мокрой каше тающего снега что-то отчетливо доносилось. Это было похоже на «буль-буль» – странные, слабые, едва слышимые звуки.
Они даже не были уверены, что слышали что-то, но осторожно, без единого шороха, приготовили оружие. Сердце Джемаля колотилось не только в груди, во всем теле. Чуть позже они откроют прицельный огонь, запуская осветительные ракеты, чтобы разглядеть местность, а пулеметы в их руках будут изрыгать смерть…
И вот это случилось. Звук достиг высокого уровня, и в кромешной темноте капитан отдал приказ открыть огонь. Оглушительный грохот расколол ночную тьму. Стреляли вслепую. Запущенные в небо осветительные ракеты не помогли – ничего нельзя было разглядеть. В какой-то момент они ощутили, что в плотной тьме никого нет – огонь ведется впустую, хотя какое-то время продолжали стрелять. Однако пора было заканчивать. Может, и в самом деле перед ними никого нет, а может, все погибли или отступили и сбежали. Над горами начал заниматься новый день, они осветились красноватым светом. Оставалось дождаться рассвета. Солдаты ждали. Напрягая зрение, вглядывались в слегка проредившуюся тьму, пытаясь разглядеть противника. Дождь прекратился. После оглушительной стрельбы в ущелье наступила странная тишина, пугающая еще больше…
Засиявший из-за гор алый свет зари больно ударил по уставшим покрасневшим глазам, которые Джемаль ни разу не сомкнул за ночь. Он посмотрел на ярко-красную линию, которая очертила абрис горы, и увидел с правой стороны светящуюся, непривычно большую звезду. Ему стало не по себе.
Светало, вокруг не было ничего угрожающего или сверхъестественного. Долина лежала перед ними – беззвучная и сонная. У Джемаля крепло ощущение, что ночью они вели огонь впустую. Это уже было второе утро без сна, роту одолевала зевота. Капитан пребывал в сомнениях: если они стреляли в пустоту, то он может стать посмешищем в глазах солдат…
Подождали еще полчаса.
Из-за вершины горы выползло солнце.
Капитан поднялся с земли, выпрямился, огляделся вокруг, сказал хриплым голосом: «Никого не видать!» – и был сражен наповал. Это были его последние слова, пуля вонзилась ему в горло. Хлестала кровь, Джемаль никогда не видел, чтобы из человека вытекло столько крови. Солдаты кричали: «Командир, командир!», они сообщили по рации о том, что капитан убит.
И вдруг Джемаль заметил блеск в скале. Он вспыхнул на мгновение – и сразу погас, и ему стало ясно, что капитан сражен затаившимся в скале снайпером. В ту же минуту в руках бойцов загрохотало оружие, по скале велся огонь из пулемета, полетели гранаты. Со стороны скалы выстрелили пару раз, и все стихло. Джемаль надеялся, что снайпера заставили замолчать навечно. Никто бы не смог скрыться против такого огня.
Выждав время, они подползли к скале, бросили еще несколько гранат и, лишь уверившись в том, что опасность миновала, пошли вперед. За скалой лежало то, что еще совсем недавно было человеком. Он был разорван на части, с раздробленной и обгорелой головой, однако Джемаль понял, что это не Мемо. Изнутри его прорывался смех. Джемаль смутился. Он с трудом удержался от истерики. И подумал: «Вот гадство, нервы расшатались…»
Потом они нашли еще двоих, погибших во время ночной схватки. Мемо среди них тоже не было. Наверное, ему удалось сбежать. И раненые тоже могли спрятаться в горах. Джемаль думал: «Осел Мемо, тупица Мемо, лиса Мемо!» Выпрямившись во весь рост, он пересказал товарищам «Игры разума» и, изображая перипетии сюжета, наконец натужно расхохотался. Над долиной, где раньше не было слышно даже шепота, эхо далеко разнесло этот странный смех. Товарищи с изумлением смотрели на него.
Сержант подошел и влепил пощечину, потом еще и еще одну. У Джемаля уже слезы лились из глаз, а он все не мог остановиться и хохотал. Не сразу он сумел прийти в себя и замолчать…
Они потеряли капитана, Джемаль и Селахатдин были ранены в ноги. Срок их военной службы подошел к концу. Из-за того, что Джемаль совсем не использовал увольнительные, ему было разрешено демобилизоваться на 45 дней раньше. А Селахатдину придется сначала полежать в госпитале и только потом – домой. Так или иначе – эти безжалостные, наполненные страхом месяцы подошли к концу.
На следующей неделе, еще до того, как он попрощался с товарищами по погранзаставе, случилось нечто, расстрогавшее Джемаля до глубины души: то, чего он не забудет всю свою жизнь. На погранзаставу прибыл новый лейтенант: восторженный и неопытный командир. Ближе к вечеру, увидев идущего по направлению к заставе по горе человека, он без всякого колебания отдал приказ открыть огонь. Так поступил бы и погибший капитан, по-другому было нельзя. В спускающихся сумерках двигающийся в тени гор человек мог представлять опасность для заставы. Да и никто, кроме боевиков РПК, не бродил по этим горам. Прозвучали выстрелы. Силуэт человека опустился на землю.
Они пришли взглянуть на труп – и оказалось, что это был маленький ребенок. Бедняга пас здесь нескольких овец и коз. Как только Джемаль увидел изрешеченное пулями тело мальчика, сразу вспомнил пару смотрящих на него с благодарностью черных глаз в выселенной деревне. С напрасной надеждой будет ждать парализованный дед внука в избушке под саманной крышей. Который не вернется никогда.
«Я размягчаюсь», – подумал Джемаль. Может, оттого, что закончилась служба. А может, это было ликование по поводу спасения от пули Мемо. Смерть ребенка зачеркнула его радость, он почувствовал, как сильно забилось сердце.
Да, месяцы, проведенные в этих горах, ожесточали человека. Но и делали стойким к людским слабостям. Это все равно что надеть тесные ботинки и в течение первых дней мучиться и натереть ноги, но со временем привыкнуть к огрубевшим мозолям и не чувствовать ни боли, ни неудобства. Так и солдаты адаптировались к жестокой, грубой, суровой и бесчувственной жизни.
Отчий дом
Садясь на рейс Стамбул – Измир, Профессор чувствовал себя человеком, подхваченным и унесенным течением бурной реки. «Меня понесло!» – крутилось в его голове, только теперь он осознавал, что вся его жизнь меняется. Происходящее было странным, и слово «понесло» являлось лучшей характеристикой этой ситуации. Он сидел один в комфортном кресле просторного бизнес-класса «Аэробуса 310». У услужливой стюардессы он попросил только стакан и лед и наполнил его купленным в аэропорту виски – рубинового цвета, с послевкусием легкого дымка, пахнущим как хорошо выдержанный коньяк. «Меня несет, – снова подумал он. – Однако не я такой один, всех заносит».
Профессор не мог мыслить как все нормальные люди, он думал так, словно писал книгу или надиктовывал секретарю текст – правильно построенными предложениями. Его приучила к этому необходимость на протяжении многих лет писать статьи, готовить тексты для конференций, планировать выступления на телевидении. Вот и сейчас он, как всегда, наводил в мыслях порядок. Так же, как он делал обычно, взяв маленькие карточки, он начал писать по порядку.
«Всех заносит, – строчил он. – Система восточных и исламских нравственных ценностей разрушена. Политика европеизации, попытка внедрения западных ценностей на практике приводят к потере ценностных ориентиров общества, лишенного корней… У общества без определенных правил, живущего одним днем, не может быть порядка. Мы переживаем период нигилизма; не только я и мое окружение, такое происходит повсеместно. Нет довольных своей жизнью; все желают жить лучше, но не знают, что нужно для этого делать. Объяснения нет, а следовательно, у общества нет ни мифологии, ни идеалов. Поэтому люди стараются спастись, оставаясь на берегу и хватаясь за нависающие ветви, чтобы не утонуть в водах реки, к берегу которой их прибило. Кто-то держится за ветвь ислама, кто-то – национализма, кто-то – курдскости, а кто-то погрузился в нигилизм».
Наливая еще один стакан, он сказал сам себе: «Парень, ты толкаешь речь! Это словоблудие, у тебя другая проблема. Признай свои страхи и расслабься!»
К нему подошла высокая, с изумительным, словно у горной газели, разрезом глаз бортпроводница и сказала, что, если он не против, капитан воздушного судна сочтет за честь принять его в кабине пилотов. Ему было не до этого, единственное, что ему хотелось, – остаться одному. Внутренний голос велел: «Откажись!», однако из уст вырвалось: «Хорошо!» Вместе со стюардессой они пошли в кабину пилотов. Летчики знали его по телевизионным программам и жаждали пообщаться.
Он с изумлением отметил, что кабина «Аэробуса 310» основательно оснащена электроникой. В рубку сквозь помехи поступали сообщения, понятные только пилотам, согласно которым те регулировали высоту и направление, не прерывая беседы. Профессор еще раз подумал о том, насколько же идет людям форма. Водители автобусов дальних рейсов тоже носили одежду, которая им шла, и солнцезащитные очки. Вот и пилоты «Аэробуса» выглядели с иголочки. У Профессора возник соблазн потянуть один из рычагов вниз и, нажимая на кнопки, координирующие полет, заставить самолет упасть. Он знал: если вывести «Аэробус» из-под контроля, вернуть его в прежнее состояние будет сложно, он скорее всего разобьется. Профессор задумался о том, что же заставляет человека двигаться прямо к смерти, невзирая на чувство страха перед ней. Это был очень сильный импульс. Гарсиа Лорка в своих стихах описал силу, которая подталкивает к смерти быка во время корриды. Находясь на вершине страха, люди бросаются вниз с Босфорского моста. Они испытывают необъяснимое внутреннее волнение, в последний раз поднявшись наверх…
Однако, как и следовало ожидать, Профессор, изучающий жизнь по книгам, не будучи человеком действия, вместо того, чтобы воплотить свои безумные мечты, с самым любезным и мирным видом перебросился с пилотами несколькими фразами о положении в стране – только и всего. Эти слова-клише обычно служат для того, чтобы связать друг с другом какие-нибудь две совершенно несовместимые глупости, от «Мы – не люди» до «Мы – бесподобная нация!». Профессор постарался побыстрее закруглиться, чтобы успеть перед посадкой опрокинуть еще стаканчик.
В аэропорту он поменял 5 тысяч долларов из снятых в банке 72 тысяч, остальные спрятал во внутренний застегивающийся карман, а турецкие лиры частью положил в кошелек, частью распихал по карманам.
Когда самолет начал снижаться над измирским аэропортом Аднана Мендереса, он подумал, что, может быть, за прошедшие тридцать лет город изменился и так же, как и он сам, потерял свою детскую чистоту. Измир быстро утрачивал свою уникальную атмосферу, его подтачивала анатолийская мучительная история, и он превращался в уродливую, покрытую сусальным золотом, старую икону. Пожалуй, в первый раз после Дарийских войн Средний Восток подвергался такой волне нашествий. Печать колоссальных изменений коснулась всех мест Ионии и Месопотамии. Курдская война, которую Генштаб характеризовал как «конфликт низкой интенсивности», повлекшая тысячи смертей на юго-востоке, привела к миграции сотен тысяч этнических курдов на запад страны. Население из выселенных и по большей части сожженных трех тысяч деревень устремлялось на побережье Средиземного и Эгейского морей.
Профессор Курудал к первым слухам – о выселении и сожжении деревень отнесся с подозрением, однако впоследствии, увидев информацию об этом в рапортах Контрольной комиссии Министерства страхования, поверил, что это правда. Размышляя, он говорил:
– Как жаль, что борьба с терроризмом может проводиться только такими методами! Хорошо бы подобного не происходило, однако каждое государство имеет законное право защищать себя от вооруженных восстаний.
Он сел в такси, чтобы доехать до Каршияка. Водитель, смуглолицый, с тонкими усиками молодой человек, всю дорогу ловил каждое слово Профессора, пожирал «старшего брата» глазами, ему страстно хотелось узнать, что же будет дальше с экономикой, как не переплачивать за бензин; а еще – «вот, я установил на машину газовый баллон, однако сейчас и на газ цены растут с каждым днем, что делать, а вот интересно, старший брат тоже пользуется газовым баллоном; конечно, брат все говорит правильно, надо не курить, но хоть в этом есть какое-то утешение; хочет ли брат послушать музыку; есть новые музыкальные кассеты, а у него в машине, словно у девчонки, стоит магнитофон «Пионер», о Аллах, Аллах!»
Он включил на полную громкость концерт музыкальных арабесок. Стонала скрипка, бубнам и барабану вторила зажигательная арабская свирель, навязчивая музыка била по нервным окончаниям. Профессор едва сдерживался, чтобы не потерять остатки спокойствия и самообладания. Он думал, что ни одному нормальному человеку в мире не может нравиться такая музыка, потому что в ней нет гармонии: вместо красивого тембра в ухо слушателю резко, словно отвертка, вкручиваются пронзительно ревущие звуки. Профессор не занимался социологией музыки, однако был уверен, что такая музыка наилучшим образом иллюстрирует процесс распада страны. Блюз, фаду, танго, блатная ребетика – сдавленный крик, в них есть искренность и душевность. Но называемая арабесками музыка мигрантов не слышится стоном раненого, это фальшивые вопли человека, который делает вид, что он ранен. Самые известные исполнители арабесок прогуливались, выставив волосатые груди в шелковых рубашках нараспашку, нацепив блестящие «ролексы», садились в спортивные «мерседесы» и с воплями: «Я умираю, погибаю!» орали свои похоронные песни. Эти звуки нельзя считать музыкой. Это было лишь одной из особенностей Среднего Востока, стилем жизни, в котором сплелись скользскость, мошенничество, обман, ложь, угнетение слабых, низкопоклонство перед сильными.
Профессор изумился необычайной перемене, которая случилась с ним за последнее время, потому что еще в прошлом месяце он считал эту музыку проявлением одной из субкультур, которая придает особую колоритность Турции, а мнение, что эта тенденция будет постепенно усиливаться, он высказывал и на телевидении, и письменно. Что произошло? Все, что ему нравилось и воспринималось спокойно, стало неприятным и даже начало бесить? Неужели страх смерти может открыть дорогу для столь кардинальных перемен? Он не знал и понимал лишь одно: этой музыке не хватает искренности. В ней нет бескрайней задушевности традиционных народных песен, это действовало ему на нервы.
Профессор не стал портить парню настроение и не вмешался, когда тот с форсом вставил новую кассету. Доехав до узкой улочки в Каршияки, остановившись перед неухоженным домом, в котором жила мать, он дал парню намного больше, чем набежало на счетчике. Тот, подумав, что, должно быть, причиной такой щедрости стала музыка, на прощание прибавил громкости для дорогого клиента.
В Средиземноморье все матери незажиточного класса похожи друг на друга. Как и многие, мать Ирфана была согбенной женщиной с изможденным лицом, которое к тому же не украшал беспокойный взгляд: каждый день часами она думала об одном и том же. Обычно она сдерживала свои чувства, вот и сейчас, чтобы спрятать невыносимую радость, которую испытала от неожиданного визита сына, она кинулась ему на шею. Огромный Профессор обнял свою маленькую мать, которая доставала ему только до груди, поцеловал ее, царапая своей колючей щетиной.
Она жила так: делала намаз, встречалась с соседями, слушала вечерние новости, смотрела телевизионные передачи с сыном и, смущенно улыбаясь, принимала подарки, приходящие из города; самым большим увлечением в ее жизни было – экономить любым способом на всем, и когда она ходила на рынок, то всегда торговалась с продавцами, жалуясь на цены, которые те запрашивали. Из-за того, что в период менопаузы она не принимала никаких поддерживающих препаратов, ее кости стали ломкими, позвонки смещались. Как и все средиземноморские женщины, мать не следила ни за содержанием кальция в крови, ни за состоянием костей, и формы ее тела исказились: плечи опустились, талия скособочилась, а тазовые кости при движении гремели, издавая весьма неприятный звук. Профессора ужасало то, до какого состояния доводят себя женщины, в молодости гибкие, как лоза.
Вдыхая запах дома, в котором вырос, он подумал о том, сколько же лет здесь не был. Странная штука! Этот скромный дом был куплен отцом, внесшим когда-то свою пенсионную премию в качестве первоначального взноса. Он был вынужден всю жизнь выплачивать банковский кредит. А сын читал здесь книги и открывал для себя мир в безграничных мечтаниях. Первые проблемы полового пробуждения, непристойные картинки в журналах и как-то в начале лета купленный отцом в подарок за успешное окончание школьного года велосипед, старые шины которого постоянно лопались и их надо было заклеивать, а отец шлифовал их наждачкой и подкачивал. В эти последние счастливые годы они с Хидаетом по вечерам выходили, подняв парус, в открытое море на скромном суденышке; а порой целые дни проводили в кинотеатрах, пропитанных запахом дезинфицирующих средств, на неудобных креслах, поедая сэндвичи с черствым сыром и бодрящей газировкой… Сводящие с ума очереди кокетливых студенток, ждущих на Каршияки прибывающего парома, пересдача экзаменов, шпаргалки… Жарящиеся на противнях над кострами на морском берегу мидии… Лазейки, которые они находили в те годы безденежья, чтобы попасть на ярмарку и послушать бесплатно певцов, пристраиваясь к группе женщин среднего возраста, окликая их: «Мадам, мадам!» Когда те поворачивались, они продолжали что-то говорить им, делая вид, что идут вместе… Безбилетные поездки в городском автобусе… Предполагаемая любовь на всю жизнь… Все это были дары маленького родного дома, истинную ценность которых он осознал лишь спустя годы.
Отцовская железнодорожная форма все еще висела в старом скрипучем шкафу. В самом раннем детстве отец представлялся Ирфану красавцем в коричневой форме, в фуражке с околышем, но через много лет, лучше узнав жизнь, Ирфан понял, что безденежье рано состарило и согнуло отца. Впалые щеки, какие-то поникшие брови, трясущиеся губы – его отец был бедным, уставшим от жизни человеком. Это правда, с некоторыми людьми жизнь обходится безжалостно; в детстве он тоже получил свою порцию. В школе он не чувствовал себя комфортно рядом с детьми из зажиточных семей, и, должно быть, это стало причиной робости, которую он испытывает до сих пор, находясь в окружении богачей.
Рядом с людьми, родившимися в обеспеченных семьях и никогда в своей жизни не испытывавшими материальных трудностей, он чувствовал дискомфорт. Как бы ни был богат Профессор, в нем сразу узнавался человек, у которого было трудное детство. Бедные детские годы накладывают печать на всю дальнейшую жизнь человека. А например, Айсель, родившаяся в богатой семье, была совершенно другой. Айсель в любое время дня и ночи могла сказать кому-то из друзей: «Я без денег, оплати счет!», и это произносилось без всякой стеснительности, и даже могло быть воспринято как взбалмошное бахвальство. Для Ирфана поступить так было невозможно.
В детстве богатые ребята выставляли напоказ свою ярко начищенную обувь, а он старательно прятал под партой ноги в старых ботинках на грубой подошве, с торчащими из каблуков гвоздями, которые впивались в ноги. Может быть, из-за этого он битком забил шкаф разного вида обувью, когда стал много зарабатывать. Как ни странно, он не стал покупать дорогую обувь, ему больше нравилась дешевая: отправившись в эту поездку, он надел ботинки из кожзаменителя, подходящие к спортивным брюкам и фланелевому свитеру в голубую полоску, даже не взглянув на коллекционную обувь из крокодиловой кожи фирмы Fratelli Rossetti, классические английские Church’s, элегантные Salvatore Ferragamo.
На фоне внешней помпезности богатых бизнесменов, отцов его товарищей, помятая железнодорожная форма его собственного отца приводила Ирфана в разбитое состояние, он страшно злился, но старался сдерживаться, повторяя про себя, что, если бы у него был выбор, он никогда бы не выбрал такого никчемного отца. И единственной целью его жизни тогда было – не походить на него.
Однако этим апрельским вечером, вдыхая знакомый весенний эгейский запах, распространяющийся вокруг, предвещая грядущее лето, он ощутил, что после долгой разлуки очень соскучился по старому отцовскому дому, и его сердце сильно сжалось от угрызений совести, из-за того, что он не нашел возможности приехать сюда раньше. Должно быть, он так сильно хотел стереть из своей жизни память о своем беспомощном отце, что после того, как уехал из Измира, и вплоть до смерти этого несчастного человека, он так больше и не увидел его, не дав ему ни малейшей возможности почувствовать удовлетворение успехами своего сына.
На пышную свадьбу с Айсейль, состоявшуюся в Стамбуле, он не пригласил родителей, даже не сообщил им о том, что женится. Невозможно было знакомить этого несчастного отца, эту глуповатую мать с судовладельцами – семьей Айсель, нельзя было их ввести в среду стамбульских медиамагнатов, рекламщиков, биржевиков, бизнесменов и политиков. Несмотря на все старания Айсель, настаивающей на том, чтобы пригласить семью Ирфана, с которой она не была знакома, уверенной, что бедность не порок, что его родители смогут немного развлечься, забыться от своих повседневных дел, Ирфан смотрел на это как на одну из ее причуд и думал, что никогда не сможет объяснить Айсель, как сильно он ранен изнутри…
И теперь душа его ныла. Из-за рака желудка отец исхудал – от него остались кожа да кости, и, когда смерть забрала этого усталого, с ввалившимися щеками маленького человека, Ирфана не было рядом. Он испытывал чувство горечи от того, что никогда уже больше не сможет увидеть его. И чувствовал еще большую подавленность из-за того, что мать даже виду не подала и словом не обмолвилась о том, что он не позвал их на свадьбу и не нашел возможности приехать на похороны отца.
С того момента, как Ирфан приехал домой, у него в голове не укладывалось: как же нормальный человек может не проведать умирающего отца?!
И даже не приехать на похороны!
Мать готовила ему еду и, не останавливаясь, говорила, как сильно она им гордится, даже бакалейщик в их районе, узнав, что она мать Профессора с телевидения, стал с ней больше считаться. Что может быть важнее для матери, чем видеть – ее дети в порядке, они здоровы и счастливы! Слава богу, слава богу, двое ребятишек закончили университет и, женившись, создали счастливые семьи. Слава богу, дочка Эмель в Анкаре тоже в порядке. Зимой она ездила к Эмель на месяц, нянчилась с ее вторым ребенком Эбру, такая милая девочка, если Ирфан увидит племянницу, поймет, какая она лапочка! Естественно, первенец, Исмаил (сестра с мужем дали сыну имя покойного отца Эмель и Ирфана, и, хотя основное имя мальчика было Джан, а имя, данное в честь отца, было лишь записано в свидетельстве о рождении, мать Ирфана упорно называла ребенка Исмаилом, и каждый, с кем она говорила, полагал, что ее внука все зовут так), ревновал родителей к маленькой сестренке. Но как бы там ни было, малышка росла, и ему приходилось делить с ней любовь отца и матери. Точно так же было и у них с Эмель. Когда родилась сестренка, шестилетний Ирфан целыми днями прятался под кроватью и говорил, что ему не нужна никакая противная сестренка. Рассказывая об этом, мать смеялась. Так, будто в ее жизни был один-единственный источник счастья: воспоминание о былых днях жизни с мужем, о том, как они в молодые годы поднимали на ноги детей…
Глядя на светящееся от счастья лицо матери, Профессор думал: «Ах, мама! Ты словно совсем ничего не видишь. А ведь твой сын, от которого лавочник без ума, в полном дерьме. Или свихнется от страха, или покончит жизнь самоубийством. А твоя дочка Эмель, за подол которой цепляются двое детей, разрывается между ними и работой; она знает, что у ее мужа есть любовница, но закрывает на это глаза. Твой зять – генеральный менеджер в Министерстве общественных работ, на самом деле просто взяточник, он тратит свои деньги на шестнадцатилетнюю девицу, работающую в парикмахерской, чернокудрую Залиху. И Эмель, плача, жалуется Профессору по телефону: «Уже сил моих больше нет, брат, душа моя разрывается», а он только утешает: «Терпи! Что поделаешь, такова жизнь. У всех есть любовники», и, прежде чем отключить телефон, ее идиот брат, немного подумав, говорит расстроенно: «Послушай, детка. Прекрати лить слезы, лучше тоже найди себе любовника! По крайней мере, хоть какие-то положительные эмоции. Что поделаешь, Анкара примерно в таком же положении, как и Стамбул».
Чтобы угодить матери, которая готовила его любимые блюда, он говорил с ней о событиях в мире, болтал о дорогих ее сердцу вещах, но мыслями был с Айсель.
«Вечером она пришла домой, разделась, приняла душ, забеспокоилась: где же задержался ее любимый муж, но не стала на этом зацикливаться», – думал он. Открыв компьютер и прочитав его письмо в электронной почте, она какое-то время проведет в безмолвии, пытаясь справиться с волнением, будет думать о том, что надо начинать искать мужа, звонить друзьям и в полицию. Так или иначе, он знал, что в конечном итоге на смену ее переживаниям придет глубокая печаль. Он беспокоился об Айсель, но потом вспомнил данное самому себе перед поездкой обещание: вырываясь из среды, которая его окружала, он постарается оставаться бесчувственным. Для некоторых вещей и жизнь коротка, однако чтобы выбросить из головы ушедшего мужа, потребуется немного больше времени. И чтобы найти силы для своего пути, порою надо сжигать мосты, как это сделал герой романа «Луна и грош» Чарльз Стрикленд, прообразом которого для Уильяма Сомерсета Моэма стал Поль Гоген. Он не считал себя таким же одаренным, как Стрикленд; но этот рыжебородый здоровенный человек мог послужить образцом достойного отношения к жизни. Да, надо воздерживаться от сверхчувствительности!
Ночью, оставшись один, он достал из кошелька все кредитки и разложил их в выдвижном ящике маминой швейной машинки «Зингер». Туда же он кинул свой паспорт с двухгодовой шенгенской и десятилетней американской визами. Больше у него ничего с собой и не было.
Он почувствовал моральное и материальное облегчение, словно сбросил балласт, освободился от пут, его душа поднималась вверх, парила, летала, а сердце наполнялось ветром радостных перемен.
Первый парень на деревне
В один из дней на заставе, под музыку, которая вырывалась с хриплым шумом из прислоненного к стене транзистора, Селахатдин рассказал историю про музыканта, игравшего на старинном инструменте – кануне. Сейчас в Стамбуле лучшим и самым востребованным исполнителем на кануне был молодой музыкант по имени Халиль, уроженец Газинтепе. В детстве отец приковал к его рукам железные грузы и так заставлял заниматься. Маленькие ладошки ребенка, с подвязанным к ним железным грузом, с трудом перебирали струны. На протяжении многих лет отец не разрешал ему снимать груз во время игры. Ребенок свыкся с таким положением и с каждым днем, несмотря на подвешенное железо, играл все быстрее и быстрее. Когда он вступил в период совершеннолетия, отец снял с его кистей железо. И сказал: «Давай играй теперь!» И руки Халиля, избавившись от железных пут, взмыли, как крылья, он почти их не чувствовал; десятилетиями тянувшие железную ношу руки парили над струнами кануна, и поэтому ему не стало равных!
Джемаль, вернувшись в село, чувствовал себя словно тот музыкант, избавившийся от двухлетних оков, но пока не понимал, что же ему делать с освободившимися руками. Сняв военную форму, патронташ, берцы и одевшись в гражданское, он чувствовал себя голым. Жесткий ворот мундира не натирал шею, на ногах нет пропитанных насквозь водой сапог; гуляя по селу, Джемаль не чувствовал силы земного притяжения. И руки, и ноги словно взлетали, он ощущал себя необычайно легким. Ладони тоже опустели: ни рации, ни винтовки G3, ни ручных гранат…
Когда он, безоружный, шел к автобусу, то был растерян и даже немного побаивался. Если боевики РПК перережут дорогу и начнется обыск, то чтобы понять, что Джемаль военный, им даже не надо будет заглядывать в его удостоверение личности. Люди, ведущие огонь с позиций, узнают друг друга среди тысяч. Вот и он, сходя с автобуса, мог получить свои девять граммов свинца. За столько лет суметь сберечься от пули РПК в горах, а, получив увольнение, быть убитым, словно беззащитный котенок, – это просто не укладывалось в голове! Обычно таких, как он, отправляли домой самолетом, чтобы не подвергать опасности. Но этот способ подходил для тех, кто призывался из больших городов – Анкары, Измира, Стамбула, а не для живущих, как он, поблизости.
Привыкший в военной жизни все планировать на ближайшую и дальнюю перспективу: рассчитывать каждый час, каждую минуту и то, как выдержать самые суровые испытания, Джемаль был охвачен чувством странного опустошения. Жизнь казалась безвкусной, как трава… У него возникло беспокойство: словно в этот момент в каком-то уголке его мозга появилось что-то плохое, и он никак не мог понять, что именно.
Конечно, он мечтал о гражданской жизни; ночи напролет крутил мысли, строил планы; однако все это словно заволокло густым туманом. Люди вокруг были чужими: шофер в солнцезащитных очках, его обильно наодеколоненный напарник, выходящие и садящиеся в автобус – все они были из другого мира, и что ему делать в этом мире, как себя вести, он не знал.
Слава богу, соседнее кресло пустовало. Джемаль вытянул длинные ноги и расслабился, устроив свое крупное тело наискось, сразу на двух сиденьях, однако полностью ложиться запрещалось. Он держался настороже – так, будто кто-то притаился на заднем сиденье. Даже задремав, внутренне он продолжал держать ситуацию под контролем. Когда помощник водителя коснулся его плеча, чтобы разбудить, он резко вскочил посреди автобуса, решил, что это сержант и ему пора заступать на дежурство. Всматриваясь напряженным взглядом в молодого человека и окружающих, Джемаль попытался осознать обстановку.
Окончательно проснувшись, он уставился на дорогу, высматривая признаки опасности в идущих навстречу машинах, крутых поворотах, автозаправках. При нем даже ножа не было; представить только, насколько безоружным, беззащитным, насколько голым он был! Вдобавок ко всему он чувствовал себя словно иностранец, приехавший в другую страну, где все вокруг были чужими. Он постоянно молчал, не пытаясь сблизиться ни с кем из окружающих.
На привале в одном из придорожных ресторанов он пошел в мужской туалет и там, умыв руки и поплескав водой в лицо, подошел к зеркалу и стал с изумлением рассматривать коротко постриженные волосы, скуластое загорелое лицо. Словно не верил, что это он сам. В этот момент кто-то толкнул его сзади и произнес: «Давай, братишка, автобус отходит, ну, однако ты и любитель полюбоваться в зеркало!» Джемаль мгновенно обернулся, и, не успев даже толком разглядеть лица, не поняв – молодой ли, старый, полный или худой, – он ударил, впечатав человека в стену напротив. Тот отлетел, как пушинка. Наступила оглушительная тишина, кто-то подошел и поднял упавшего, потом пришли владелец ресторана и автозаправки, они что-то говорили Джемалю, он бросил в ответ одно-два слова, плохо отдавая себе отчет в происходящем. Все было как во сне. Со словами: «Ладно, ладно. Ничего не случилось. Наш приятель военный. Давайте расходитесь», они разогнали зевак и дружески похлопали его по спине. Вздрогнув, он напрягся от прикосновения незнакомых людей, но смог сдержать себя. Немного позже он сидел в ресторане за маленьким столиком и ел чечевичный суп, стараясь ни с кем не встретиться взглядом.
Оставшаяся часть пути прошла так же. Подъезжая к городу, Джемаль почувствовал головокружение от сутолоки автовокзала, шума, галдящих людей, оглушительной арабской музыки из кассетных магнитофонов, смешивающейся с громким звуком азана, криками продавцов-семитов, предлагающих кукурузу и котлеты. Болела голова, он постоянно был готов отразить опасность, а на автомобильный выхлоп реагировал как на взрыв, пригибаясь к земле. Он пересел на микроавтобус, идущий до села, по-прежнему чувствуя себя растерянным, хорошо хоть там было немного людей: шофер и два пассажира, которые посмотрели на него, пытаясь понять, на кого же он похож. Так же молча он заснул, раскачиваясь с открытым ртом…
Когда он пришел домой, дверь открыла Дёне – и в первый миг не узнала Джемаля, но после некоторого колебания воскликнула: «О боже!» и немедленно кинулась сообщить всем добрую весть. Всех женщин дома, во главе с его матерью, охватило волнение.
Его мать плакала от радости, благодаря Аллаха за то, что сохранил ей сына, вернул его целым и невредимым. А сколько его ровесников возвратились домой в сосновых гробах, обернутых красно-белыми флагами, и были похоронены после печальных траурных церемоний! Некоторые же приехали с оторванными руками и ногами, без глаз… но слава богу, слава богу, ее сын, ее ладный Джемаль, пришел с войны без раны, без царапинки.
О радостном событии немедленно дали знать его отцу и дяде. Джемаль поцеловал благословенную руку отца. Тот обнял его и сказал: «Да будет доволен тобою Всевышний в обоих мирах! Ты защищал свою родину как настоящий герой, и, хвала Всевышнему, Всемогущий Бог помиловал нас». Джемаль был очень счастлив услышать такие слова от отца. Отец считал его героем!
На следующее утро, когда он вышел на улицу, все село поздравляло его с возвращением, и обращались к нему не иначе как: «Наш лев!» Деревня встречала нового героя. Два года назад этого героя провожали в армию под звуки зурны и барабанов, но из-за того, что Джемаль ни разу не приезжал в отпуск, его нашли сильно изменившимся: он похудел, но стал выглядеть еще крупнее, черты лица возмужали, на нем появилось выражение человека, много повидавшего, и какая-то особая привлекательность.
В селе турки и курды жили вместе, их семьи смешались, и уже нельзя было толком понять, кто из них турок, кто курд, кто чеченец. Тех, кто служил в турецкой армии, встречали как героев, на похоронах их оплакивали как павших героев, а семьи, дети из которых ушли в РПК, или осуждали открыто, или тайно поддерживали. Семья Мемо была из тех, кому оставалось вести себя смиренно, и когда Джемаль встретил перед кофейней отца Мемо, Ризу Эфенди, тот какое-то время смотрел на него своими огромными черными глазами, а потом сказал: «Добро пожаловать, дорогой Джемаль. Бог сохранил тебя для нас», не зная, что еще добавить. В этих словах так и слышался вопрос, но Джемаль предпочел этот вопрос не замечать и немедленно ушел.
Вопрос, связанный с Мемо, напрямую задала ему повитуха Гюлизар, которая принимала роды у их матерей, и он ответил, что ни разу не встречал его и не знает, жив ли он.
Первые дни, полные родственных восторгов и дружеских излияний, пролетели быстро. Сначала для семьи, а потом и для всех в селе он снова стал прежним Джемалем. Они смирились с некоторыми его странными привычками, приобретенными в армии. Например, он ложился очень поздно, иногда почти под утро, и вместо хорошо взбитой матерью перины предпочитал спать на сухих камнях во дворе или в углу сада. Он спал, завернувшись в толстое одеяло, однако чуть занималась заря, немедленно просыпался: малейший шум, доносящийся из дома, даже звук шоркающих о деревянный пол тапочек или скрип двери заставляли его глаза распахиваться, и он уже не мог их больше сомкнуть.
Ему в рот не лезли приготовленные специально для него вкуснейшие блюда, которые он так любил раньше. Теперь, проглотив одну-две ложки еды, он останавливался.
Чтобы приготовить для него куриный бульон и куриный плов, однажды утром мать пошла в курятник и, выбрав курицу, принесла ее в сад, чтобы зарезать. Джемаль сказал: «Я сам сделаю» и забрал курицу из рук матери. Под ее недоуменным взглядом он дернул птицу за шею – и оторвал ей голову.
Он видел, что все на прежних местах в доме, только одной Мерьем не хватало. Спросив, где же она, он узнал от матери, что по причине ужасного проступка ее заперли в сарае. Пожав плечами, он не стал зацикливаться на этом.
Мать, наблюдая за сыном, который целыми днями то слонялся в саду, то часами смотрел в небо, лежа под тополем, дыша прохладным предвесенним воздухом, начала понимать: что-то не так. Она не могла сказать об этом мужу, да если бы и захотела, все равно у этого человека не было возможности ее выслушивать, потому что он постоянно находился в летнем доме со своими мюридами из соседних деревень или совершал зикр на кладбище, и единственное, чего хотел, – чтобы его сын Джемаль присоединился к нему.
Джемаль сходил в летний дом только один раз: поцеловал руку отца, посмотрел на мюридов, пришедших на молитву, – с чалмами на головах, повторяющих имя Бога, падающих ниц, но ему уже это: «Каюсь, каюсь!» казалось чушью. Сердце, похожее на засохшую ветвь, не давало ему возможности почувствовать душевный подъем.
Единственное, что ему нравилось, – так это, купив конверты у бакалейщика, закрыться с бумагой и ручкой в комнате и писать письма своим боевым товарищам. В этих письмах он рассказывал что-нибудь про себя и добавлял стандартные слова, вроде: «Шлю привет. Желаю, чтобы с Божьей помощью у тебя все было хорошо». И лишь к Селахатдину его письма были более личными и более пространными.
Иногда ночью, когда он лежал во дворе, у него всплывало в памяти то, что рассказывали о запертой в сарае Мерьем, однако мысли об этом маленьком худом ребенке, с которым он играл в детстве, исчезали, едва промелькнув. Мерьем для него была как незнакомый человек, и Джемаля не интересовало ни то, что было связано с ее проступком, ни то, почему ее заперли от всех.
Однажды ночью он услышал звук рыданий, доносящийся из амбара. Голос Мерьем, плачущей втайне, становился то громче, то тише. Полусонный, он лежал во дворе, завернувшись в одеяло. Внутри него зародилось легкое беспокойство: что же случилось с этой маленькой девочкой, почему она плачет?
Село провожает Мерьем
Двери амбара, в котором уже так много дней была заперта Мерьем, открылись со скрежетом, и на пороге появился кто-то большой и внушительный. Видимо, это братишка Джемаль вошел и позвал ее: «Мерьем! Эй, Мерьем!» Она не ответила. У нее перехватило горло и не было сил ответить Джемалю. Как ни старалась, как ни пыталась выдавить из себя хотя бы словечко, ничего не получалось.
Джемаль позвал снова: «Мерьем?» Она опять промолчала. И тогда Джемаль взял ее за руку, поднял с пола, на котором она лежала, и вывел наружу. Во дворе было темно и безлюдно. Все домашние спали. Брат Джемаль, подняв железную щеколду, открыл ворота на улицу; обычно обе створки ворот открывали, когда по какой-то причине люди не могли войти в маленькую калитку – например, чтобы проехать внутрь лошади с повозкой, на которой доставляли провизию, или если надо было разгрузить много дынь и арбузов, привезенных с бахчи. По вечерам овец и коров тоже загоняли внутрь через эти ворота.
Братишка Джемаль вывел ее наружу. Мерьем первый раз за все это время услышала пение петуха и сказала: «Смотри-ка, Джемаль, петухи поют!» Джемаль улыбнулся. Широко шагая, он шел вперед. Он шел так быстро, что Мерьем даже бежать за ним не поспевала. Она задыхалась. Выйдя за село, она увидела, что он направляется к высокой горе.
– Джемаль, куда мы идем? – спросила она.
Он ответил:
– В Стамбул. Там, за этой горой, Стамбул.
Мерьем обрадовалась и подумала: «Значит, мне уже не нужно убивать саму себя! Меня, как и других девушек, отправляют в Стамбул».
И огромный город, который она видела только во снах, вырос перед ее глазами как живой. Такой огромный, что ему не было ни конца, ни края. Ее накрыла волна счастья, и она не могла сдержаться от улыбки. Карабкаясь на вершину горы, она уже дышать не могла, но ступив еще шаг, она увидела Стамбул – и дыхание совсем перехватило. Она услышала голос: «Это город, который ты видела в своих снах!» Мерьем не поняла, кто говорит, оглянувшись, она никого вокруг не увидела.
И она поняла, что говорит сама и что она находится в амбаре – одна-одинешенька. Не было ни Стамбула, ни брата Джемаля. И она заплакала, сдерживая рыдания. В очередной раз она удостоверилась, что проклята и спрятана от других людей. Никакого чуда не случилось. Если уж Мерьем попала в беду, то никого в мире это не касается. Никому до нее нет дела. Ни серый конь Пророка Мухаммада не появился перед ней, ни Джемаль. Только Дёне с глазами змеи отворяла эту дверь. В последние дни к Мерьем даже биби перестала наведываться…
Мерьем страдала: будучи обычным человеком, она совсем не могла видеть чудес. И она даже и не знает о чудесах ничего. Да если бы и знала, то вряд ли стала от этого счастливей…
Пока она, тихонечко всхлипывая, плакала, мужчины на верхнем этаже беседовали, сидя на диване. Отец говорил своему сыну, вернувшемуся из армии со странными привычками, словно это был другой человек: «Твое возвращение спасло нас. Из-за этой девчонки наша честь была посрамлена, мы даже людям в лицо не могли смотреть, однако ты вернулся героем…»
Джемаль кивал, однако пока не понимал, к чему ведет отец. В эти дни, когда он вернулся домой после демобилизации, его голова была занята мыслями о том, что же ему делать. Он знал адрес Селахатдина в Стамбуле. Лев Селахатдин! Он уже поправился после ранения…
– Смотри, после увольнения не забудь меня, – наказывал он другу перед расставанием. – А то, мать твою, ты мне потом ответишь!
Он и сам, вернувшись из армии, хотел найти Селахатдина, но Стамбул слишком далеко, и если нет денег, как человеку туда добраться?
До его слуха долетали обрывочные фразы отца, который продолжал говорить:
– Наша семья не должна была так низко пасть! Но что ты поделаешь, коль судьба…
Джемаль молчал.
Отец Мерьем, дядя Тахсин, сидел, подперев голову рукой, и тоже молчал, горько задумавшись.
Однако услышав про Стамбул, Джемаль начал внимательнее вслушиваться в слова отца. А тот говорил:
– Джемаль! Надо ехать в Стамбул. Эта девчонка виновата и перед Богом, и перед людьми. Сучка не захочет, так кобель не вскочит! Что там творилось, никто же не видел. Ты наши традиции хорошо знаешь. Тебе придется очистить эту грязь. Понимаю, ты только что вернулся из армии, однако больше терпеть и ждать невозможно. Все над нами смеются, сплетничают… В нашей семье нет другого мужчины, который бы мог сделать эту работу…
Сначала Джемаль подумал, что отец, как всегда, дает ему религиозные наставления, но потом понял, чего тот от него хочет. На мгновение он изумился, а затем снова спрятался в свою скорлупу. Так, словно все происходящее его не касалось. Слова отца он не принял слишком близко к сердцу. Маленькую Мерьем надо убить, и отец считает, что Джемаль наиболее всего подходит для этого дела. Ну, и ладно. Это не такая уж большая работа. Человек умирает в одну секунду.
Отец говорил:
– Сынок! Это нельзя сделать здесь. Тебя немедленно схватят и посадят в тюрьму. Лучше возьми эту сучку и отвези в Стамбул. И раньше так с девками делали. Все знают. На один-два дня вы можете остановиться в семье Якуба. Потом ты все уладишь. Там же толпа, никто тебя ни в чем не заподозрит. Найди возможность и покончи с этим делом. Но смотри, осторожнее, чтоб тебя не схватили!
Отец в деталях расписывал, как сделать все наилучшим образом, однако этого не требовалось. Дело-то простое. Таков обычай, все знали это.
Джемаль подумал: «Несчастная девушка».
Однако Мерьем нельзя было оставаться в живых. Даже если бы дядя Тахсин попросил, чтобы его дочь пощадили, все равно ей не жить. Даже если все село попросит о помиловании, это невозможно. Не оставалось ничего другого, кроме как поехать в Стамбул, а заодно и с Селахатдином повидаться.
И у камня есть голос, а у дяди Тахсина нет. Даже рта не открыл, чтобы хоть слово вымолвить. Речи своего брата не перебивал; не поддерживал его, но и не просил пощадить дочку, только сидел со страдальческим видом.
Женщины в доме тоже хранили гробовое молчание. Беззвучно выполняли свои повседневные дела и складывали вещи Мерьем в старую сумку.
На следующее утро в амбар вошла Дёне и сказала:
– Давай уже, твое время пришло. Поедешь в Стамбул.
Несмотря на всю свою ненависть, Мерьем вскочила и обняла ее за шею. Дёне словно принесла ей весть о чуде, которого Мерьем ждала долгие годы. Она почувствовала облегчение.
– Когда я поеду?
– Сейчас же.
– Хорошо. Разреши мне поцеловать руки отца и тети.
– Нет, – отрезала Дёне. – Ты ни с кем не имеешь права видеться. Немедленно отправляйся в дорогу.
И всунула ей в руки старую сумку и зеленый плащ. Мерьем накинула его на плечи.
Она вышла из сарая и, несмотря на запрет Дёне, побежала к лестнице. Глаза плохо видели от ослепительного света, у нее закружилась голова, но это ее не напугало, и она пробежалась по выглядевшему совершенно пустым дому. Комнаты дверей были закрыты на замки. Постучав в дверь одной из них, Мерьем позвала:
– Тетя, открой двери. Дай мне поцеловать твои руки, прочитай молитву мне в дорогу.
Если бы мама была жива, то наверняка выглядела бы так же, как тетя. Потому что на выцветшей фотографии, снятой в молодости, они, близняшки, походили друг на друга как две капли воды. Такие же светло-каштановые волосы, белокожие, брови полумесяцем. Поэтому Мерьем делилась всем с теткой, словно с матерью. Та хорошо обращалась с Мерьем: кормила и поила, а когда у девочки поднималась температура, клала ей на лоб ткань, смоченную в уксусе. Тетя рассказывала ей о жизни, учила всему: как стирать и убираться, как детей воспитывать.
Когда она пошла в начальную школу, тетя учила ее читать по слогам, сливая буквы, показывая табличку, на которой было написано «Иншаллах»:
– Смотри, это И, это Н, это Ш…
Мерьем знала все буквы.
– Давай-ка соединим их и посмотрим, что получится.
А когда Мерьем, запутавшись, прочитала что-то непонятное, обе покатились со смеху.
Однако несмотря на всю заботу и внимание, проявляемое к оставленной на ее попечение дочери своей сестры-близнеца, в отношении тети к Мерьем постоянно сквозила холодность, порой доходящая до ненависти. Тетя исполняла свои обязанности безупречно, но, когда ребенок хотел прижаться к ней или заснуть, положив ей голову на колени, она всегда находила какой-нибудь предлог, чтобы отстраниться.
А сейчас тетя замкнулась от племянницы, не открывает. Сев под дверью, Мерьем еще немного поплакала, поумоляла, а потом, сообразив, что никто не собирается открывать, что домашние не желают ее видеть, смирилась. А ведь ее выгоняют из дома, где она родилась, где провела всю свою жизнь! Выгоняют, даже не взглянув на нее, не прочитав вслед ей напутственную молитву.
День был в разгаре, поэтому и отца дома не было.
Сказав сама себе: «Иди!», она спустилась вслед за Дёне. Поплотней укуталась в платок.
У порога она увидела Джемаля. Он курил и ждал. Брат выглядел чужим. Вытянулся, повзрослел, изменился. Поверить было нельзя, что они вместе детьми гоняли по улице ободья от колес.
– Брат Джемаль, – позвала она тихонько.
Джемаль не ответил.
Они направились в село. Мерьем шла сзади.
Приближалась весна, снег начал таять, и под ногами чавкала грязь. При каждом шаге легкие резиновые башмаки Мерьем соскальзывали с ног и застревали в грязи. В зеленые, словно воды реки, глаза Мерьем, много дней проведшей в темноте, слепило яркое солнце, и было непонятно, то ли они от этого солнца болят, то ли начинают оживать.
Первым, кто их заметил, когда они пересекали село, был адвокат Мукаддер. Он сидел перед конторой, играя с друзьями в нарды и наслаждаясь робкими лучами весеннего солнца. Увидев высокорослого Джемаля и идущую в трех шагах позади него Мерьем, он кивнул сидевшим рядом приятелям. Все поднялись и направились к Джемалю.
Они спросили:
– Что, герой, не в Стамбул ли направляешься?
– Да, – процедил Джемаль сквозь зубы.
– Хорошо, хорошо, – засмеялись они.
А потом, повернувшись к Мерьем, добавили:
– Боже, дочка, тебе на голову села птица счастья! Не каждому смертному выпадает судьба отправиться в огромный град, зовущийся Стамбулом!
Они снова засмеялись, и в их смехе было что-то похотливое, мерзкое.
Мерьем втянула шею в плечи, словно хотела спрятаться внутрь себя, и прошла мимо, поплотнее натянув на руки плащ. Но уже и на рынке все побросали свои дела и бросились к ним. Пузатые, усатые мужчины собрались вокруг них. Они похлопывали по спине Джемаля. И говорили Мерьем: «Счастливая ты девушка». А один сказал: «Такие девушки, как ты, назад не возвращаются. Попадешь в Стамбул, забудешь про эти места. Может, тебе лучше не ходить?»
Эти разговоры очень напугали Мерьем. Она чувствовала себя маленькой, жалкой, беззащитной и чужой; язвительные насмешки жгли ее сердце. Впервые за ее короткую жизнь вся деревня интересовалась ею. Мерьем чувствовала невыносимый стыд оттого, что все эти пожилые люди глазели на нее, обсуждали ее. Даже деревенские собаки лаяли, словно выкрикивая: «Мерьем!», и кошки мяукали, произнося ее имя, и птицы в небе звали: «Мерьем, Мерьем!»
Они прошли мимо лавки, в которой торговали тканями, мимо вкусно пахнущей пекарни, полицейского участка, мечети.
Когда они подходили к школе, навстречу бросился сельский дурачок Джафер. Он бежал со всех ног. Рот его скосился набок, в глазах плескалась странная задумчивость. Толпа, собравшаяся вокруг, еще больше развеселилась. Джафер подошел к Мерьем, остановился и долго-долго смотрел ей в лицо. А потом начал плакать. Кто-то из деревенских мужиков бросил в Джафера камень. Все кричали: «Пошел отсюда, чокнутый Джафер! Если хочешь, давай тебя тоже отправим в Стамбул!» Джаферу было больно, и он убежал, скуля, словно побитая собака.
Потом Мерьем увидела тетушку Мюведдет с ее дочерью Нерминой и тремя другими женщинами. Она подбежала к ним, поцеловала руку тети Мюведдет и сообщила: «Я еду в Стамбул! Благословите меня». Тетя Мюведдет постояла неподвижно с минуту, потом, обняв, поцеловала ее и сказала: «Знаю, дочка. Кто же не знает-то, что ты едешь в Стамбул?! Будь счастлива. Пусть Бог помогает тебе». Мерьем хотела обнять и свою одноклассницу Нермину. Нермина посмотрела на мать, словно спрашивая у нее разрешения. Должно быть, та подала ей какой-то знак, потому что Нермина поцеловала Мерьем в обе щеки и прошептала: «До свидания». Другие женщины тоже попрощались с Мерьем. Они говорили таким голосом, каким обычно обманывают ребенка, что поездка в Стамбул – это очень радостное дело: «Это же Стамбул! Было бы плохо, хоть одна из тех девушек, что уехала, вернулась бы сюда, обратно. Судя по тому, что никто не возвращается, это очень хорошее место!» Они улыбались. Мужики, глядя на все это, покатывались со смеху.
Мерьем с самого начала смотрела, пытаясь отыскать отца в толпе собравшихся, чтобы поцеловать ему руки, попрощаться и получить его благословение, однако его в толпе не было видно. Спросить же ей не хватало смелости.
Издали сумасшедший Джафер подавал ей странные знаки и вдруг начал кричать: «Не езди, не езди!» Его прогнали, еще раз запустили вслед камнем, и за ним по пятам кинулись собаки…
После того, как целые дни Мерьем проводила в одиночестве, ее пугало внимание стольких людей. Прежде, чем покинуть деревню навсегда, она хотела увидеть одного близкого человека. Человека, которому она могла доверять, с которым желала искренне попрощаться.
Она сказала Джемалю: «Я хочу увидеть биби. Она обидится, если я не повидаюсь с ней».
Джемаль не сказал ни да, ни нет, однако направился к дому Гюлизар.
Толпа двинулась вслед за ними. На стук в ворота никто не отзывался. Мерьем очень огорчилась, подумав: «Неужели моя биби не откроет ворота, неужели она не хочет видеть меня?!» Но когда они постучали в третий раз, биби открыла. Ее лицо опухло так, словно она долго плакала, Мерьем увидела, что у нее под глазами легли темные круги. Пожилая женщина посмотрела на собравшуюся перед воротами веселящуюся толпу и прижала Мерьем к груди.
– Я ухожу, биби, – прошептала Мерьем.
– Да, детка. Я знаю.
Голос биби дрожал.
– Может, ты тоже потом приедешь?
– Приеду, детка, приеду, милая.
Тут произошло что-то странное: биби, не сумев себя сдержать, начала рыдать в голос. Она обняла Мерьем так крепко, что казалось – косточки ее вот-вот затрещат.
Слегка успокоившись, няня почему-то произнесла: «Прости меня, моя красавица».
Мерьем от этих слов сильно смутилась. Она поцеловала сухощавую руку биби и попросила:
– Благослови меня. Ты очень много для меня сделала.
Гюлизар ответила:
– Это ты прости свою старую, свою немощную биби. Я очень старалась, но сил моих не хватило…
Она вдруг повернулась и, молча прошмыгнув во двор, заперла ворота. На Джемаля биби даже не взглянула, ничего ему не сказала.
Толпа не отставала от них. Площадь, на которой останавливались три микроавтобуса и которую в селе гордо называли автовокзалом, была расположена по соседству с кладбищем. Здесь, среди этих заброшенных могил, где непонятно кто где захоронен, а летом не пройти из-за травы в рост человека, покоились мать, дедушки и бабушки Мерьем. Пока ждали посадку, Мерьем, собрав все мужество, попросила Джемаля:
– Ничего, если я схожу на могилу к маме?
Джемаль помедлил какой-то миг, однако увидев, что пассажиры уже начали садиться в автобус, велел:
– Садись в машину.
Попутчики поздоровались с Джемалем: «Ас-саляму алейкум!», а на Мерьем даже не взглянули. Автобус с шумом тронулся, оставшиеся на площади махали и кричали вслед:
– Счастливого пути!
Выехав на дорогу, микроавтобус сразу же, как и ожидала Мерьем, направился прямиком к горе. Раньше она всего один-единственный раз ездила на такой машине. Однажды, приготовив узлы и корзины со съестными припасами, вместо того, чтобы поехать на телеге, они отправились в баню на микроавтобусе. Тогда ее замутило и сейчас тоже подташнивало. Прижав к себе покрепче старую сумку, съежившись и крепко сжав зубы, она принялась терпеливо ждать, когда же они доедут до горы. Надо потерпеть! Ведь немного погодя она увидит Стамбул. Одного она не могла понять. Раз уж Стамбул за этой горой, то почему те, кто отправлялся в город, никогда потом уже не возвращались назад? Человек даже пешком мог бы дойти сюда. И она решила, что сама сделает именно так: когда все забудется, она вернется в родные места. Решив это, она глядела на удаляющееся село, начальную школу, которую она посещала целый год, на фельдшерский пункт и мечеть, она немного успокоилась. Все не так уж плохо, решила она, и предалась мечтам о Стамбуле. Мерьем с нетерпением ждала встречи с этим огромным городом, который видела во снах.
Пока микроавтобус кружил, поднимаясь на гору, ее возбуждение росло, росло, росло, а когда они добрались до самой вершины, Мерьем зажмурила глаза: она хотела увидеть этот огромный город внезапно, как чудо, поэтому терпела и держала глаза крепко закрытыми. А потом вдруг открыла – и вместо тайной улыбки на ее лице появилось выражение огромного недоумения. За горой не было никакого города, там раскинулась бескрайняя равнина.
Серая равнина, обрамленная фиолетовыми горами. На засеянных полях виднелись трактора, крестьяне, животные, а узкая дорога уходила вдаль, извиваясь, словно змея. Солнце играло бликами на быстро летящем по дороге микроавтобусе. Девушка смешалась, не понимая, что происходит, однако спросить Джемаля у нее не хватило мужества. Потому что вместо прежнего ребенка, с которым они раньше играли, с нею рядом сидел незнакомый, пугающий, странный, взрослый мужчина.
«Может быть, я ошиблась? – подумала она. – Может, Стамбул находится вон там, за теми виднеющимися вдали фиолетовыми горами?»
Парусник в море
Профессор в этот час находился на яхте Beneteau, которая не имела ничего общего с парусником, на котором они с Хидаетом выходили в открытое море. Их первая лодка была собранным из всякой рухляди суденышком двух с половиной метров в длину. Они с Хидаетом возились целыми днями и из разного хлама смогли сколотить суденышко, приладить мачту, а на нее навесить хлопчатобумажный парус. Их лодка смахивала на игрушечную. Они были детьми из бедных семей, но благодаря сделанному своими руками судну смогли получить много знаний, связанных с парусником: о руле и румпеле, о ветрах и звездах, о волнениях на море…
Вскоре они сами научились управлять парусом так же естественно и неизбежно, как дети учатся ходить: ведь один раз научившись ходить, этого уже никогда не забудешь.
Профессор по волнам, по растениям на берегу, по поведению птиц, по запахам мог определить направление ветра; благодаря знаниям, полученным в детстве, он также мог спокойно управлять яхтой. Это было потрясающее судно: ладное, устойчивое, с тремя каютами, оснащенное различными техническими средствами!
В фирме, в которой он арендовал яхту, постарались обеспечить «дорогого учителя» самым лучшим товаром. Они были довольны, что Профессор арендовал яхту не на неделю-две, а на всю весну и летний сезон, тут же рассчитавшись долларами, да еще приплатив сверху, от чего авторитет учителя в их глазах вырос еще больше.
Несмотря на то, что на Эгейском побережье сегодня много мест, где можно арендовать яхту, Профессор очень хорошо знал, что идти надо на Айвалык. Много лет назад, когда они с Хидаетом только начинали заниматься этим делом, других прокатов не было. Здесь находилось все необходимое для того, чтобы оснастить судно. А если требовалось остаться на ночь в порту, тут можно было загрузиться съестными припасами, и даже немного подработать. Профессор приложил колоссальные усилия для того, чтобы немедленно получить якорь. Так, словно от выхода судна в море именно этим вечером зависела вся его жизнь, и он не мог ждать ни дня больше, откладывать на завтра.
Проснувшись этим утром в своей юношеской кровати, он знал, что еще до вечера должен выйти в открытое море. Вскочив, он по привычке стал нашаривать под кроватью старые тапочки. Это было одним из жестких правил, заведенных его придирчивой матерью: запрещается становиться босиком на мозаичные полы комнаты. Авторитет матери, неоспоримый в юношеские годы, давно пошатнулся, а к настоящему времени и вовсе исчез; но эти тапочки под кроватью были важны… Профессор воскрешал из небытия свои детские привычки, именно сейчас он хотел вернуться в прошлое…
Он завел двигатель, поднял якорь; раскачиваясь, лодка покинула порт.
В этот день море было лазурным. Маленькие белые барашки пены играли на гребнях волн. Эгейское море!
Впереди виднелись острова. Он поднял паруса, заглушил мотор и дал свободу яхте, и та, подхваченная попутным ветром, плавно заскользила по воде. Только легкий звук рассекаемой волны, гул ветра и крики чаек, летящих следом. Шум города постепенно остался позади, и Профессор всем своим естеством слился с морем.
Работающие в фирме парни напрасно беспокоились и предлагали ему свои услуги. Даже если бы в последний момент на яхту вдруг по какой-то причине не погрузили бы два мешка съестных припасов, Профессор все равно бы вышел в море, потому что с детства был уверен, что способен справиться с любыми проблемами, которые возникнут на воде. Хидает тоже был таким. Сколько раз их двухметровое суденышко попадало в шторм, сколько раз тонкие паруса оказывались изорванными в клочья, сколько раз их вытаскивали на буксире! И каждый миг они испытывали огромное удовольствие от работы, которую выполняли, чтобы спасти свое судно и самих себя.
«Грекам в большой степени свойственно такое органичное единение с морем», – подумал Профессор. Что там ни говори, а все же они – мореходы. Он верил в правильность сложившегося мнения о том, что, несмотря на полуторатысячелетнее проживание на Анатолийском полуострове, турки продолжают оставаться степняками и никогда не станут мореходами. Когда Ксенофонт, выступая на стороне персидской армии, шел вдоль берегов Черного моря, то, чтобы поднять моральный дух своих солдат, радостно кричал: «Thalassa, thalassa!» – «Море, море!» «Мы вернулись в свою стихию, слились с морем. Теперь мы сможем найти выход! Море защитит нас», – верили они. И Профессор думал точно так же. Есть лунные дорожки, соль, рыба, ветер, солнце и Гомерово море винного цвета! Кто-то видел море в другом состоянии, они не могли понять, что значит «море винного цвета», однако Профессор помнил: по вечерам Эгейское море действительно приобретало винный оттенок.
Яхта – словно ладья из мифов, которая приведет Профессора к спасению! Легендарный корабль, в паруса которого дул Посейдон, наполняя его ветрами Киклад[15], а конечной целью корабля было спасение души мореплавателя…
Наступил вечер. По выражению эгейских рыбаков, ветер стих, море успокоилось. Воды окрасились в темно-вишневый цвет, и с каждой минутой темнота сгущалась.
Профессор испытывал невероятное блаженство от простора и красоты, окружающих его. Ночь застала его на приличном расстоянии от острова, но он не придал этому особого значения. Он решил заночевать в открытом море и бросил якорь. Аппараты пульта управления Beneteau показали глубину 18 метров. Профессор убрал паруса и отдался волнующим ощущениям первой ночи своей исправленной новой жизни. Когда полностью стемнело, он вскрыл мешок фирмы Sunquest, в который была уложена еда. В пакете, кроме консервов, он нашел сыр, хлеб, помидоры и бутылку белого напитка. Он приготовил ужин. На корме корабля стоял сервированный стол, это было невероятно, но там даже бокалы красовались! Это было приятно, хотя, если бы их не было, Профессор не огорчился бы, просто не заметил бы этого. Может, ему приятнее было бы пить прямо из горла. Так же, как в те времена, когда они с Хидаетом пили по очереди, запрокидывая голову, дешевое мармарское вино, после которого наутро болела голова…
Он теперь был свободным человеком, не связанным никакими правилами, отказавшимся от всех условностей, оставшимся наедине с собой, выбравшим путь метанойи. Он испытывал чувство внутренней гордости от собственного успеха. Каждый волен делать то, что ему заблагорассудится, и вот – он освободил себя, и теперь он свободен как чайка, что сейчас пикирует сверху, пытаясь что-нибудь схватить со стола. Он один посреди Эгейского моря и поднимает бокал за свое будущее, полное неожиданных приключений. Он создал новую книгу. Глядя на бокал в своей руке, он произнес: «Эй, мои стихи из бутылки!» Привет тебе, Бодлер! Наконец-то и его судьба изменилась. Он не умрет на креслах Лине Розет или на кровати Дунлопило, и его не повезут по знакомым улицам на «скорой». Счет в банке, уровень холестерина в крови, работа в штате, налоги, количество калорий – он сумел спастись от жизни, полной этих и десятков подобных счетов, превращающих человека в компьютер. Он был настолько доволен сделанным, что готов был расцеловать самого себя.
Профессор всю жизнь был послушным, благоразумным человеком, который привык все планировать, а вот сейчас буря кипящей боли вырвалась наружу.
– Я еду в Стамбул! Попытаюсь сдать экзамен, чтобы поступить на бюджетное место и получить общежитие.
Так он когда-то сказал Хидаету. Они пили пиво на причале. И друг спросил его: что он станет делать после того, как со столькими ухищрениями закончит бесплатное обучение в лицее.
– Само собой, пойду в университет.
– А потом?
– Работа, жизнь, жена, деньги!
На что Хидает ответил ударом под дых:
– Ты пытаешься быть точно таким, как твой отец.
Да, это был удар, потому что меньше всего в своей жизни Ирфан хотел походить на этого съежившегося, со впалыми щеками и насквозь прокуренными легкими, затурканного человека в коричневой униформе.
– Нет, – воскликнул он. – Совсем наоборот! Я хочу учиться для того, чтобы заработать деньги, славу и силу.
– Как знаешь, капитан.
Это прозвучало как финальный аккорд, который обрубал все концы и разводил их дороги в разные стороны.
– Я уезжаю отсюда. Не знаю, что принесет мне жизнь, просто хочу уйти в море.
За деньги, накопленные за время работы на судостроительной верфи, Хидаету повезло найти и купить хорошее семиметровое судно. Это была красивая и устойчивая яхта.
Поднимая бокал за Хидаета, Эгейское море и собственную решительность, Профессор сказал:
– Вот и я пошел по твоему пути, Хидает! Пусть даже и опоздав на тридцать лет…
Тьма уже основательно окутала яхту. Ночь была безлунной, безветренной, на небе высыпало несчетное количество звезд.
Он слегка вздрагивал от приходящих на ум мыслей об Айсель, шурине, университете, но тут же гнал их прочь. Ему было нужно почувствовать себя совершенно другим человеком. Он пока еще не был готов ко встрече со своим прошлым; сначала надо было окончательно обновиться.
Надвигалась ночь, Профессор опустошил бутылку со спиртным и от счастья уже готов был затянуть какую-то бессмысленную песню, как вдруг на него нахлынула волна беспричинного страха. Его начала бить дрожь. Снова в его сердце постучался этот ледяной ветер. Из-за того, что подул он совершенно неожиданно, эффект получился очень мощным. Это был ужасный удар.
Держась за мачту, он заплакал, ничего не понимая. Яхта вдруг стала чужой, он словно видел ее в первый раз, и она казалась ему гробом. Море было темным, яхта тоже, и вокруг была тьма. Над всем царила тьма – воплощение смерти. Что он мог сделать сейчас, в этой ловушке смерти посреди моря? И некому подать весть, и никто не спасет его от этой кромешной тьмы…
– Ирфан, приди в себя! – закричал он.
Растворившийся в темноте голос только еще больше напугал его. Свет керосиновых ламп подчеркивал безграничную тьму, и он загасил их. Схватив сумку с лекарствами, он нашел несколько первых попавшихся под руку таблеток и так быстро проглотил их, что едва не захлебнулся водой, когда запивал.
– Ты захотел! – кричал он сам себе. – И шаг за шагом осуществляешь свое решение. Какова же причина для паники?!
– Не знаю, – сам себе отвечал он.
– И я тоже не знаю.
Некоторое время он говорил сам с собой и заметил, что ему становится лучше; страх перед темнотой стал утихать.
Тогда он продолжил эту игру и раздвоился, почти как Голядкин[16], и эти два человека начали мысленно спорить друг с другом.
Подобно всем, кто больше знал жизнь по книгам, на Профессора гораздо большее влияние оказывали не настоящие люди, а вымышленные персонажи.
– Ты трус, – упрекал его первый голос.
А второй отвечал:
– Нет! Ведь я нашел мужество посмотреть правде в лицо и изменить свою жизнь. Я не трус. Не каждый в состоянии сделать то, что сделал я!
– Единственное, что ты сделал, – это убежал. Послав все свои проблемы к чертовой матери, ты сбежал от своей адской жизни. И это вместо того, чтобы остаться в Стамбуле и все разрулить!
– Там было нечего разруливать. Моя жизнь была наполнена счастьем, я был успешен, счастлив и богат. Для моих внутренних проблем не было никаких внешних причин.
– Ты врешь, Ирфан Курудал!
– Нет!
– Ты врешь. Ты презренный трус.
– Нет, нет, нет!
– Сейчас я аргументированно обосную, что ты лжешь, и тогда посмотрим, что ты будешь делать. Твоя так называемая «счастливая» жизнь в Стамбуле – все равно что кусок дерьма. Ты чувствовал себя ничтожным – и в этом был прав. Ты не создал ничего ценного, ты просто воспользовался предоставленными тебе возможностями. Как ученому тебе – грош цена. Плевать, что в Турции тебе все выражают почтение, говорят: «Мой учитель!» Какие оригинальные идеи ты родил, какие ценные статьи опубликовал? Разве ты не ощущал себя на международных конференциях растерянным и мелким?
– Да, ощущал, это правда.
– Потому что ты не настоящий, а поддельный человек, фальшивка. Ты – параноик, трус и невежественный человек, который прячется за профессорским званием. Твои телеинтервью – пример совершенной медиократии.
– Ты превратил эти дебаты в академический экзамен.
– Хорошо, Ирфан Курудал, давай поговорим о чем-то другом. Не став ученым мужем, разве ты преуспел как муж женщины?
– Что за чушь ты несешь?! Айсель была счастлива, и очень счастлива…
– Или делала все возможное, чтобы казаться счастливой? Всю свою жизнь ты спал с ней так, словно исполнял служебные обязанности, это разве не правда?
– Ложь!
– Меня ты не проведешь, потому что ты – это я. Ты что, будешь сейчас отрицать, что с самого начала не чувствовал удовольствия от этих объятий, а только делал механические движения? Потому что ты не чувствовал тяги к этой женской плоти, только ради жены все делал. Но от прикосновения к ее телу ты совсем не загорался. Даже в молодости. Может быть, поэтому она начала тебе изменять?
– И вот опять ты врешь. Айсель мне никогда не изменяла. Это такие же выдумки, как и все, что ты сказал раньше.
– Не забывай, я – это ты, и я знаю твои самые тайные страхи. Разве ты не знаешь, что в Мачке[17] по полудням она встречалась с Селимом на верхнем этаже в его апартаментах?
– Не знаю.
– Скажем, не знаешь, но догадываешься. Как-то в полдень ты увидел, как Айсель входит в его апартаменты, и все понял, однако предпочел делать вид, будто ничего не знаешь. Ты не ревновал ее, потому что она – женщина. Короче говоря, со всеми, кто имел отношение к твоей жизни, ты обращался плохо. Сначала ты бросил Хидаета, потом отца и мать, сестру, а потом Айсель. Ты думаешь только о своей выгоде, мелкий ты эгоист. В твоей жизни все фальшивое. Ты всегда старался быть таким, каким тебя хотели видеть другие люди. Потому что у тебя нет мужества быть самим собой. И сотрудники университета не ценили тебя потому, что чувствовали этот твой внутренний страх. Число твоих врагов росло…
– Ты назвал меня параноиком!
– Ты параноик, и твоим врагам этого не понять.
– Я не такой, как ты описываешь.
– Могу еще кое-что тебе сказать, Профессор: ты еще пока даже не знаешь, кто ты такой.
– Ты что, решил поработать Дельфийским оракулом?
– Да, я буду говорить о самоанализе. Что в этом такого? Или вот – Мевляна!..
– Ладно, я говорю как по книгам. Но ты ведь делаешь то же самое!
– Я не Афина, которая беседовала на корабле с Одиссеем. Я – это ты, не забывай. Конечно, у нас одинаковые привычки. Я не могу с этим ничего поделать.
– Что ж ты так возишься со мной?
– Стараюсь объяснить, насколько ты несчастливый, трусливый, ничтожный и лживый человек.
– Раз уж ты – это я, то это все можно сказать и о тебе.
– Конечно! Однако я, не в пример тебе, стремлюсь быть реалистом. Я стараюсь видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а не заниматься самообманом.
– Ради чего? Из чувства жалости к самому себе?
– Нет, разве ты не знаешь, что эмоции тоже могут приносить человеку наслаждение? Знать себя, степень своего саморазрушения, сносить оскорбления, находясь на самом низу, в глубокой яме отбросов человеческого общества – ни с чем не сравнимое наслаждение. В голове у каждого сидит мысль о том, как бы столкнуть другого со своего пути…
– То, что ты говоришь, похоже на нигилизм.
– Будь самим собой, не отвергай нигилизм! Если ты чутко прислушаешься к самому себе, то поймешь, что в мире для тебя самой близкой является именно нигилистическая позиция. Ты не забыл, что вплоть до сегодняшнего дня в твоем характере была одна доминанта – не быть ни с чем и ни с кем связанным. Ни во что не верить, не поддерживать идеологию и убеждения, которые распространены в стране. И даже развлекаясь в толпе, ты предпочитаешь смотреть на всех со стороны и уничижительно оценивать окружающих. Поэтому в студенческие годы ты не мог сблизиться с теми, с кем учился, да и они тебя не принимали. Ты надевал интеллектуальную маску независимости, неангажированности, стараясь скрыть истинное положение дел, однако я-то знаю, что в твоих странных грезах никогда не было великих, серьезных идей. Ну, вот ты и застукан – давай оправдывайся!
– Ты называешь это грезами?
– Да, грезы! Самая большая правда твоей жизни обнажилась в тот момент, когда ты решил стать самим собой, превратиться в нормального человека. Это был самый искренний момент в твоей жизни.
– Ты преувеличиваешь, мечты не могут стать выше реальности жизни. И ты знаешь: я совсем не грезил…
– Грезил, грезил, даже если и не хочешь в этом сознаться. Только в мечтах ты разрывал броню, в которую сам себя заковал, только тогда ты срывал с себя оковы, которые не снимал даже во время секса. Только в этот момент, хотя и не полностью, частично, ты словно всплывал со дна к поверхности воды и в странных видениях встречался с самим собой. С детских лет в твоих грезах был только один образ, не так ли? Одна только тень, почти бесплотный образ, словно это был и не человек. Однако во всем мире тебя волновал только он один…
– Замолчи!
– Нет, раз уж мы устроили с тобой очную ставку, давай и это рассмотрим. Начни свою новую жизнь честно.
– Я не хочу, замолчи!
– Хоть раз в своей жизни посмотри правде в глаза!
– Нет, нет, нет! Замолчи, я приказываю!
– Что в твоих мечтаниях предстает перед тобой?
– Ничего!
– Кого ты видишь?
– Никого!
– Ты уверен?
– Да, да, да! Убей тебя бог! Ничего не вижу, никого не вижу. Замолчи, замолчи, замолчи наконец!
Профессор пришел в себя и увидел, что лежит ничком на полу, облицованном тиковым деревом. Мышцы затекли, все вокруг было покрыто выпавшей за ночь изморосью. Над горизонтом уже начала заниматься багряная заря. Парусник стоял неподвижно; легкий ветер Эгейского моря начнет дуть с хорошо прогретой суши только после полудня – это Ирфан усвоил еще в ту пору, когда начал заниматься парусниками.
Профессор связал случившийся ночью «кризис» (он предпочитал употреблять это слово) с тем, что смешал спиртное с несколькими видами снотворного. Должно быть, разум его спутался, и сейчас, под этим ослепительно голубым небом, все, что случилось с ним ночью, казалось ему полным бредом. Хорошо, что никто не застукал его в этом состоянии. Эмоциональность – сверх меры, реакция – сверх меры, зависимость от литературы – сверх меры, выпивка – сверх меры, лекарства – сверх меры. Короче говоря, все случилось в результате излишеств…
У него болела голова. Он знал: если искупается, головная боль пройдет, и все в этом мире станет лучше. Однако в эти первые весенние дни Эгейское море было холодным. Ничего, большого вреда не будет!
Быстренько скинув одежду, Профессор прыгнул в море.
Вода оказалась ледяной, словно оставленный в холодильнике графин. Сначала перехватило дыхание, но потом он привык. Двигаясь, он согрелся и взбодрился. Он думал: «Ночь началась с русского романа, и завершение оказалось таким же». И хотя Ирфан за всю свою жизнь не выпил ни капли водки, он чувствовал себя точно государственный чиновник Петр Ильич. Который в этих романах не счесть сколько раз просыпался по утрам с ужасной головной болью и чувством невыносимого стыда за то, что вечерами, напиваясь, попадал в смешные и позорные ситуации.
Однако все клятвы и обещания, которые он себе дал, Профессор смог сдержать только до наступления вечера.
Черный поезд
Мимо проплыли горы, на которые она смотрела всю свою жизнь. Не увидев за ними Стамбула, Мерьем пришла в отчаяние, а потом заметила, что впереди высятся другие иссиня-фиолетовые горы. За ними виднелись другие вершины, а посреди раскинулись бескрайние поля.
Поначалу она говорила себе: «Может, за этими горами…» Но потом поняла: ничего подобного! Видимо, она просчиталась: Стамбул гораздо дальше.
Когда микроавтобус выскочил на боковую извилистую пыльную дорогу, все ее печали-расставания с деревней улетучились, на смену им пришло вдохновение от совершенно невиданных пейзажей, ее радовало открытие новой жизни, обнимал восторг от всего увиденного. Одно душевное состояние мгновенно сменяло предыдущее, с невероятной скоростью мелькающие картины, великая гармония природы помогали Мерьем успокоиться.
Она исподтишка разглядывала загорелое тело Джемаля, лежащие на коленях грубые руки и не могла найти в его облике и следа доброты. Это сбивало ее с толку, она начинала бояться этого незнакомого человека. Он был одет в хлопковые брюки и старую парку. Кадык перекатывался на его худощавой шее; там, где его лица не касалось солнце, остались белые полосы. Он не брился несколько дней, щеки покрывала щетина. Может быть, из-за короткой армейской стрижки черты лица его казались резкими. Джемаль внушал ей страх. Она не знала, как вести себя с ним, что делать, что говорить. Это был не мальчишка, с которым раньше они вместе утаскивали в сад еду, крутили обруч, бросались грязью, играя, рядом с нею сидел совсем другой человек. Он тяжело молчал, с трудом устроив свое крупное тело в кресле микроавтобуса, и всю дорогу дремал.
Мерьем с жалостью осмотрела себя. Старая одежда, в которой она провела несколько недель в сарае, была порванной и грязной. Шаровары, платье с вылинявшими цветами, зеленая кофта, которую дала ей Дёне, когда она вышла из своей темницы, – в общем, обычный деревенский уличный вид. На черных резиновых сандалиях еще оставались следы сельской грязи.
Мерьем даже не успела заметить, как прошла радостная пора детства, и неожиданно она оказалась в своей тоскливой и презренной жизни. Она думала: «Лучше бы я никогда не повзрослела. Вот бы я не выросла и все время бегала вместе с другими ребятами по улицам, и никогда бы не очутилась в мире взрослых… однако это уже невозможно. Там и тут волосы появились, грудь выросла, а теперь вот и девственности лишилась. Если я спрошу брата-Джемаля: братишка, ты помнишь, ты хоть помнишь, в доме у мельника, когда мы пришли в гости, как мы играли в саду, а потом заметили куриц? Кто начал подбрасывать их в воздух, ты или я? И они трепыхались наверху, а потом падали к нам в руки, а мы снова подбрасывали их, крича: «Давай лети!», и смеялись, глядя, как они падают вниз. Они так били крыльями, что нам казалось, будто они вот-вот полетят…
Нам нравилось, что они пикируют сверху, как приземляющиеся самолеты. Я до сих пор помню запах этих куриц и как с неба на меня падает куриный пух. Мы не знали, что у этих несчастных сломались лапки. А потом, не помню, кто это увидел и сказал взрослым, и жена мельника выскочила из дома. Увидев куриц, лежащих на земле со сломанными ногами, она подняла крик. И ты хоть помнишь, как мы оттуда бежали, как пробирались берегом реки? Когда вечером мы вернулись домой, тетя задала нам обоим трепку. И снова, как всегда, тебе не очень досталось, а меня заперли в амбаре. Да, меня всегда вот так наказывали – запирали в амбаре! Что бы я ни сделала, всегда я была виновата. «Громко не смейся, Мерьем; так не поворачивайся, Мерьем; ты уже большая, не играй с детьми, Мерьем, ты с ними не можешь ходить в школу, Мерьем».
После первого класса начальной школы ее учение закончилось. Потому что чернобородый дядя, которого все боялись, считал, что нахождение в классе вместе с другими детьми девочки, достигшей половой зрелости, может быть приравнено к прелюбодеянию.
Вот поэтому-то Мерьем, смущенно выглядывающей из-под покрывала, было трудно прочесть дорожные указатели на выезде из села. Микроавтобус на высокой скорости проезжал голубые таблички с указателями, и она только успевала прочитать «Кыр», как надпись «Кыркилисе» оставалась позади. Однако среди указателей не встречалось ничего похожего на «Стамбул», ни одно слово не начиналось с букв «Ста»…
«Ради тебя я столько всего сделала, столько пеленок перестирала, что до сих пор у меня под ногтями грязь», – так говорила ей тетя. То, что она не открыла дверь, чтобы попрощаться, повела себя так жестокосердно, никак не укладывалось в голове Мерьем. Она не понимала, как ее могли выгнать из дома. И Джемаль ведет себя так же, как тетя, не смотрит ей в лицо, не хочет с нею говорить.
В автобусе укачивало, у Мерьем, погрузившейся в свои мысли, стали слипаться глаза. Она то клевала носом, то поднимала голову и старалась держаться прямо. А потом, сама не замечая, снова начинала дремать.
Когда она в очередной раз пришла в себя, уже наступил вечер. Поля и горы исчезли, вдоль дороги мелькали дома, люди и автомобили. И как же много было этих домов, людей, машин!
«Вот мы и приехали в Стамбул, – подумала она. – Все как говорили».
Она взглянула искоса на Джемаля. Тот тоже проснулся и смотрел на большой город. Микроавтобус то останавливался рядом с другими машинами, то вырывался вперед, с двух сторон сверкали огнями магазины, куда непрестанно входили и откуда выходили люди.
Потом они прибыли на вокзал, где было так много автобусов и минибусов, что казалось, здесь все кишит людьми. Все куда-то спешили, волоча сумки и чемоданы. У Мерьем закружилась голова.
Джемаль сказал: «Пойдем» и двинулся прямо к сверкающим огнями строениям. Скоро он остановился. Перед зданием с одной стороны собрались женщины, с другой – мужчины. Джемаль кивком показал ей, чтобы она встала около женщин. Мерьем подчинилась. Вокруг пахло мочой. Она увидела свое лицо в грязном зеркале – как привидение: при свете лампы, свисающей с потолка, она выглядела очень уставшей, но, несмотря на все беды, свалившиеся на ее голову, свет ее зеленых глаз не померк. Одна женщина оттолкнула ее и начала мыть руки в умывальнике. Мерьем подождала, пока та закончит, а потом спросила: «Тетенька, а это Стамбул?» Женщина с изумлением посмотрела на нее, пожала плечами и ответила: «Нет, дочка. Отсюда до Стамбула двое суток пути».
Мерьем изумилась. Закончив свои дела, она вышла наружу и стала ждать Джемаля. Он привел ее прямо к сияющей огнями стеклянной палатке с едой, которых здесь было множество.
Там суетились торговцы: кто-то накладывал плов с горохом, кто-то продавал вареную кукурузу, кто-то котлеты… Вокруг распространялся умопомрачительный запах. Мерьем вспомнила, что она голодна. Джемаль протянул ей половину хлебного батона, внутри которого была котлета, лук и помидоры. И себе тоже взял. Устроившись в углу, они стали есть. Котлета, которую ела Мерьем, была невероятно вкусной.
Вдруг с минаретов нескольких мечетей одновременно зазвучал азан – призыв на молитву. В этом городе все было прекрасно! Интересно, а Стамбул такой же красивый?!
Все стерлось из памяти Мерьем: и что тетя не открыла дверь, и что ее выгнали из дома, и что деревенские, провожая, стыдили и пугали ее. После того, как она насиделась взаперти, после того, как вылезла из петли, едва не повесившись, жизнь ее начала походить на прекрасное приключение.
Настроение ей не портило даже грубое поведение Джемаля. Он пошел вперед, Мерьем поспешила следом.
Они вышли из гаража.
Иди, Господи, иди!
«Пусть эта дорога никогда не кончится! – думала Мерьем. – Насколько же здесь все огромное… Наше село бы здесь на окраине, на первых же двух улицах уместилось».
В конце долгого пути ее ждал неожиданный сюрприз. Это был железнодорожный вокзал, который она видела впервые в жизни: с запахом гари, поездами, беспокойной толпой, шумом – все само по себе уже вызывало в ней радость. Ее лицо светилось улыбкой. Прежде она имела обо всем этом смутное представление и теперь, познавая новый мир, чувствовала себя так, словно попала на праздник. Она испытывала благодарность к Джемалю, который спас ее из ада и доставил к дверям рая.
К ним подошли охранники и о чем-то спросили Джемаля. Он достал из кармана какие-то бумаги и показал им. Они посмотрели, вежливо поблагодарили и удалились.
Люди вокруг были одеты в самые разные наряды. Встречались такие, как она – деревенские, одетые в шальвары, а другие женщины были одеты как сотрудницы официальных учреждений в их селе. Попадались и укутанные платками, и с распущенными по плечам волосами. Мерьем безумно нравилось рассматривать все вокруг, наблюдать за людьми, она пыталась понять, как правильно себя вести…
Сотни людей из этой вокзальной толпы садились в поезд. Даже коридоры были забиты, но каждый садился на определенные места в своих «комнатах». Место Мерьем оказалось у окна. Джемаль сидел рядом. Напротив расположилась пожилая, повязанная платком женщина. Рядом с нею – молодая девушка с непокрытой головой. Затем – пожилой, с седыми усами, мужчина, который не переставая кашлял. Около Джемаля уселась молодая пара, они выглядели как молодожены, волосы девушки были распущены, она носила юбку, причем очень короткую: когда она сидела, были видны ее ноги.
Мозг Мерьем, словно фотоаппарат, фиксировал все детали. Растерялась ли она? Нет! С неимоверным наслаждением она впитывала неожиданно выпавшее приключение. Рассматривая молодую пару, державшуюся за руки, она увидела на их пальцах толстые кольца. Девушка напротив, сидящая между отцом и матерью, вела себя очень воспитанно, однако, стараясь не привлекать внимания родителей, подавала знаки маячащему в окне юноше. Ее пожилая мать сидела с печальным видом и ничего не замечала, однако для Мерьем все было как на ладони: парень то в одну сторону пойдет, то в другую, а девушка перебирает волосы и как бы случайно поворачивает голову, бросая парню прощальные взгляды. Наблюдая за всем этим, Мерьем испытывала состояние восхитительного праздника. Иногда ей хотелось захихикать, но она робела перед Джемалем. А больше тут некого было бояться. И хотя она всего лишь несколько минут назад села в поезд, но чувствовала себя здесь так комфортно, словно всю жизнь путешествовала на поездах.
Когда-то отношения между мальчиками и девочками ее забавляли. Однако все изменилось в тот день, когда дети пришли в медпункт и Мерьем получила нагоняй за то, как смеялась, увидев воздушные шарики. В медпункте медсестра проводила лекцию о контрацепции в целях сохранения здоровья населения. У нее в руках были странные разноцветные шарики. И некоторые ребята, балуясь, начали надувать эти шары, а те разлетелись по медпункту. Все это очень понравилось Мерьем, и она начала, хохоча, ловить шары, за что получила от тетки по шее.
Позже, дома, когда все женщины улеглись, чтобы вздремнуть после обеда, она рассказала им обо всем случившемся, и те изрядно повеселились. Подшучивали и над сельчанами, которые пришли в медпункт купить презервативы, но не знали, как они называются. Один человек на вопрос медсестры, что ему нужно, ответил: «Я не знаю. Это такой шарик для кайфа!» И все шушукались и хохотали. А Мерьем за это получила жестокую трепку. Ну, ничего, пусть это все останется за теми дверями, которые ей не открыли. Пусть они до конца дней своих, развалившись на кроватях, собирают свои сплетни! Мерьем уже это не касается. Даже Дёне с ее змеиными глазами почти не вспоминается. Как будто не этим утром, а месяц назад она ушла из дома…
И вдруг поезд принялся раскачиваться и трястись так, что сердце обмерло! Пассажиры тоже раскачивались. Мерьем придержала бутылку воды, которая начала было скользить по столу, и сидящая напротив тетушка улыбнулась ей. Поезд тронулся. Стучали колеса, поезд пыхтел и подавал сигналы. Она мурлыкала под нос народную песенку про паравоз: «Черный от копоти поезд разве не придет, разве не будет свистеть его свисток?», а сама думала: «Хоть бы ты, Джемаль, улыбнулся! Хоть бы ты стал таким, каким был раньше!» Но настроение у нее не портилось, потому что в этой поездке была и его заслуга. «В армии служить очень тяжело», – думала она и даже жалела Джемаля.
Женщина напротив сказала Мерьем: «Доброго пути, дочка! Куда вы едете?»
Это что же, значит, что поезд проедет много городов?!
Мерьем с гордостью ответила тетушке: «В Стамбул. Мы едем в Стамбул».
Потом спохватилась: не очень ли она своевольничает, и взглянула на Джемаля.
– А парень военный? – спросила женщина.
– Да, – ответила Мерьем, – только вернулся.
– Он тебе кто, жених?
На это Мерьем ответила сдавленным голосом: «Нет, он сын моего дяди».
Чтобы не оставить без ответа вопросы женщины и нарушить неловкое молчание, Джемаль тоже вступил в разговор (спасибо соседке):
– А вы куда едете? – спросил он так, словно знал, что поезд, кроме Стамбула, будет заезжать и в какие-то другие города.
Женщина ответила:
– Мы едем в Стамбул. Это моя дочь Сехер. Мы едем проведать ее брата.
А потом, тяжело вздохнув, добавила:
– Если успеем.
Было темно, и Мерьем не смотрела на дорогу, однако стекло, словно зеркало, отражало все происходящее внутри. На себя она тоже между делом посматривала. Молодожены, обнявшись, делали вид, будто дремлют, пожилой мужчина курил, пожилая женщина беззвучно плакала и утирала слезы. Сехер тоже о чем-то задумалась.
Джемаль же сидел как идол. У камня, и у того есть голос, а у Джемаля нет. Не человек, а скала!
Ноев ковчег
– Тук-тук, тук-тук, тук-тук!
Вокруг звучат автоматные очереди, однако как-то неправильно звучат. И он думает: «Что за странный автомат! Словно его настроили на один ритм, который не прерывается. Так, словно стучит поезд». Джемаль поднимается с земли и видит, что все ребята в казарме мертвые. Все убиты, белые одеяла залиты кровью, оторванные головы, вырванные глаза. Автомат продолжает строчить.
«Если я не выйду отсюда, тоже умру», – думает Джемаль, потихоньку соскальзывая с нар на пол. Он ползет до двери. Но дверь с обратной стороны затоплена почти доверху, может быть, вся застава залита водой. Его охватывает изумление. Как же так получилось, что внутрь казармы даже капля воды не просочилась, он не может понять, что это за прозрачная голубизна, словно занавес, закрыла дверь…
«Тук-тук, тук-тук, тук-тук!» – продолжает стучать автомат. Джемаль понимает: чтобы выбраться отсюда, надо войти в воду. Другого выхода нет. Он выползает за дверь, прямиком в воду. Она не холодная, даже теплая. Теплее, чем вода в озере, в котором они плавали летом. Джемаль плывет по направлению к освещенной вершине горы. Вот-вот закончится воздух в легких. Он выныривает из воды, чтобы вдохнуть, и видит, что нет ни заставы, нет ничего больше. Везде вода. Даже горы и вершины она покрыла, ущелье заполнено ею. Джемаль понимает, что вокруг теперь море. И в этот момент сзади слышится какой-то звук. Он смотрит и видит лодку, а в ней – черноглазый мальчик, он гребет веслом. И вдруг говорит Джемалю: –Иди!
– Куда мне идти? – спрашивает Джемаль.
– В лодку иди! Или утонешь.
Он знает этого черноглазого пастушонка.
– Ты умер? – спрашивает он его.
Мальчик смеется.
– Но я видел, как твою голову разнесла пуля из винтовки G3!
– Посмотри, – говорит мальчик, смеясь, – моя голова на месте. Давай иди!
Он забирается в лодку.
– Что случилось? – спрашивает он мальчика.
– Ноев потоп! – бросает черноглазый мальчик.
– Хорошо, но что это за лодка?
– Ноев ковчег.
– Куда мы идем?
– На гору Гуди. К Пророку Ною.
Лицо мальчика медленно исчезает, и вместо него проступает лицо Мемо. Открылась дверь, и в купе вошел кондуктор, чтобы проверить билеты. Поезд шел, стучали колеса. Джемаль достал из кармана билеты.
«Автобусом, конечно, быстрее и удобнее, но где же взять деньги!» – сказал он сам себе.
Отец дал ему денег, которых могло хватить только на дорогу до Стамбула. Это было и от бедности, и оттого, что тот не знал реальных цен, которые существовали за пределами села. Поэтому два автобусных билета до Стамбула взять было невозможно. Поезд стоил намного дешевле.
Напротив него сидела девушка-брюнетка. Рядом с нею, скорее всего, ее мать и отец. А сидящий возле него мужчина все время обнимал женщину, наверное, это его жена. Джемаль исподтишка посматривал на Мерьем. Девушка ушла в себя, сидела спокойно.
С самого начала пути он старался изгнать из памяти армейские воспоминания. Это ему не очень удалось. Но теперь его начал мучить другой вопрос: «Что я сделаю с этой несчастной?» Он не мог пойти против решения своей семьи, он вообще не мог перечить тому, что говорил его отец, да и убить человека – не очень сложное дело, а особенно такую маленькую девчонку. Но когда он думал об этом, приходили мысли об Эминэ.
Встретившись с ним в укромном местечке среди тополиных зарослей, Эминэ сказала:
– Все село знает, что тебе поручили это. Так, как раньше другие девушки, эта странная тоже отправится в Стамбул. Помилуй бог, разве в наше время такое еще возможно? Твоя семья ненормальная. Нельзя, чтобы ты запачкал свои руки кровью. Какой грех на этой бедной девушке?
А потом добавила кое-что, что было для него по-настоящему важно:
– Я два года ждала тебя из армии, но если попадешь в тюрьму – ждать не буду.
Он хотел набраться смелости и поговорить с отцом о женитьбе, но сначала надо было заручиться словом Эминэ. От ее предупреждения у Джемаля будто отнялись руки и ноги. Хоть весь мир провались – так сильно он хотел Эминэ! Все это время она ждала его, но если он попадет в тюрьму, ждать не станет…
– Не связывайся с этим, – уговаривала Эминэ.
– Однако в семье нет никого, кто мог бы это сделать…
– Пусть тогда оставят девочку в покое.
Однако – пойди объясни это отцу! Джемаль перед ним и слова не мог промолвить. Сколько времени он ждал, чтобы всего лишь тайком поговорить с Эминэ, он даже ее руки коснуться не смеет…
«Может быть, – думал он, – если я исполню волю отца, будет легче сказать ему об Эминэ?..»
В армии он очень много думал об Эминэ, однако в мечтах к нему постоянно являлась не Эминэ, а Чистая Невеста. Ни разу не попутал его бес с Эминэ. А вот Чистая Невеста… хотя лица ее он никогда не видел, но бесчетное число раз обнимал по ночам ее тело.
Он старался не думать об этом, однако Мерьем – вот она, рядом. И чего бы это ни стоило, а выполнить наказ отца надо. Эминэ была права, однако Джемаль не в силах ничего изменить. Другого выхода нет.
«Может, ночью выбросить ее из дверей вагона? – думал он. – Когда все уснут, придушить и выбросить в безлюдном поле. Поезд за несколько минут уже будет далеко от этого места. Может, на следующий день обнаружат труп, однако никто ничего не поймет. Или лучше сбросить, когда будем проезжать по мосту? Потонет – и вообще никто не сможет ее найти. Даже если и найдут, кто будет интересоваться мертвой девушкой в шальварах?»
В армии он много раз видел смерть, и смерть стала для него настолько простым делом, что он ее совсем не боялся; наоборот – обычная жизнь, в которой не было смертей, казалась Джемалю угрожающей и непривычной.
Он никак не мог забыть того, о чем говорил капитан во время обучения:
– Вы дадите урок тем предателям, которые пытаются разделить нашу страну! На вас лежит ответственность, вам выпала честь сохранить нашу страну и нашу нацию неделимой. Павшие во имя отечества попадают прямо в рай. Ребята, где вы увидите террористов, там и убивайте их! Не забывайте, они – убийцы ваших товарищей.
Позже капитан стал говорить, что нет никакого курдского языка, что называющие себя курдами горцы – на самом деле турки, и они, как и другие турки, пришли сюда когда-то из Центральной Азии. Но это уже не укладывалось у Джемаля в голове. Потому что он знал, что курды говорят на своем языке. Он и сам мог немного болтать на этом языке. Даже их собаки в горах говорили по-курдски и по команде: «Хошт!» – нападали на турок.
Джемаль вышел в коридор вагона.
Сходил в туалет, осмотрел состояние входной двери. В тамбуре на расстеленной на полу газете лежала больная женщина. Она стонала. У ее изголовья сидел мужчина с двумя детьми.
Из их купе доносились звуки ссоры. Несколько человек говорили одновременно. Джемаль плюхнулся на свое место. Девушка по имени Сехер, которая сидела напротив него, вступила в перепалку с молодым человеком, сидящим рядом с ним, другие же или встали на одну из сторон, или предпочитали молчать, не вмешиваясь.
Мерьем, съежившись в углу, беззвучно наблюдала за спором. Первой причиной возникшего скандала, пожалуй, мог считаться сам Джемаль: еще до того, как выйти из купе, он хотел проявить некоторое дружелюбие по отношению к пожилой женщине и в ответ на ее слова, сказанные по поводу ее предстоящей встречи с сыном: «Если мы успеем», спросил, почему она все время плачет. Женщина объяснила, что сын увлекся политикой, был схвачен за свои политические взгляды и, протестуя против условий содержания в тюрьме, вместе со своими товарищами объявил голодовку. И снова на ее глаза набежали слезы. Прошло семьдесят дней, в течение которых заключенные ничего не ели и не пили. Только немного подслащенной воды. Они повязали на голову красные повязки и ожидают смерти. Каждый день отключаются те или иные органы: в один день теряется зрение, на следующий – пропадает память, перестает работать желудок и т. д. Позавчера она видела сына по телевизору и не узнала его. Журналисты, делавшие репортаж, протянули сыну микрофон. И он не смог сказать ни одного слова. Только смотрел пустым взглядом. Как будто мертвый. Лидеры организации сказали, что они будут сопротивляться до самой смерти. Вторая дочка, живущая в Анкаре, пошла, чтобы навестить своего прикованного к постели брата, от которого остались кожа да кости, но ей так и не удалось его увидеть. Кое-кто из товарищей, начавших голодовку вместе с сыном, уже умер, а кто-то лежит на смертном одре. Вот она и едет в Анкару – с надеждой, что ей повезет его увидеть, что он прислушается к ее мольбам и отменит голодовку. Что тут поделаешь. Материнское сердце!
Здесь в разговор вмешался молодой человек и сказал, что он, конечно, уважает материнские чувства, но они – террористы, и вся их деятельность ведется с подрывной целью. Вспыхнул страшный скандал. Как раз в этот момент вошел Джемаль.
Сехер кричала на молодого парня:
– Что вы за человек? Сотни молодых ребят умирают, а вы и пальцем не пошевелите, да еще и говорите матери, что ее сын – террорист! Какое вы имеете право?!
Парень тоже не оставался в долгу:
– Твой брат задержан по антитеррористическому закону, не так ли? Что тут еще говорить!
– Мой брат не связан с терроризмом! Никакого отношения к этому не имеет.
– Но арестован по закону о борьбе с терроризмом, да? Что? Разве не так? Давай-ка говори!
Парень был из вспыльчивых и задиристых. Сидящая рядом жена тщетно пыталась успокоить его.
Сехер сказала:
– Мой брат всего лишь состоял в студенческом союзе, изучал книги! У него не было никакой связи с терроризмом.
– Однако этот закон преследует террористов!
– Так называемый закон о борьбе с террором на самом деле – несправедливость, по его букве было арестовано десять тысяч человек! Из них девять тысяч – школьники и студенты, мальчишки, которые писали надписи на стенах, читали книжки, организовывали студенческие союзы. У тебя вообще, что ли, нет к ним сострадания?!
Сехер уже перешла на высокие тона, и мать, приговаривающая: «Не связывайся, ради бога, не связывайся!», никак не могла ее успокоить.
Отец смотрел вокруг печальным взглядом, попыхивал из-под усов трубкой с табаком и не встревал в разговор ни словом.
– Студенты! – выкрикнул парень так, словно разговаривал не с теми, кто сидел напротив, а сам с собой или со своей женой на их кухне. – Знаю я, что это за студенты…
Сехер снова взорвалась:
– Да откуда ты знаешь? Ты же никогда не встречался с моим братом!
– Даже если и не с твоим братом, так с его товарищами я достаточно сталкивался. Знаю, что это за фрукты!
Мать снова попыталась закрыть рот Сехер, она поняла, что человек напротив – чиновник или полицейский, а может, сотрудник спецлужб или каких-либо спецподразделений, и испугалась возможных последствий.
Но глаза Сехер горели, она была возмущена тем, что этот человек смеет нападать на ее брата-студента, которому вскоре было суждено умереть.
Сехер повернулась к Джемалю:
– Ты военный, братишка? Вот скажи, такая вот несправедливость разве допустима? Разве можно так оскорблять мать, сердце которой разрывается от горя? Мой брат – чистый ангел. Какой он террорист?! В жизни своей оружия в руках не держал, даже не видел его…
Джемаль не знал, что сказать. Ситуация его смущала, лучше было не вмешиваться в разговор.
Сидящий рядом молодой человек спросил:
– Где ты служил, брат?
Джемаль ответил.
– Во многих боях побывал?
Джемаль качнул головой.
Человек протянул руку Джемалю:
– Меня зовут Экрем. Я сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям. А это моя жена Сюхейла.
Он замолчал. Сидящая рядом с Джемалем девушка ожидала продолжения знакомства, однако у Джемаля не было никакой охоты общаться с кем бы то ни было.
Через какое-то время спор поутих, все погрузились в свои мысли. Не было слышно ничего, кроме стука колес…
Невероятное пришло оттуда, откуда его совсем не ждали.
Пожилой человек, отец «террориста», не произнесший ни слова за весь спор, встал и плюнул в лицо Экрему.
Плевок прилетел в тот момент, когда Экрем совсем не ждал, и от этого он словно взбесился. Он вскочил на ноги, схватил мужчину за ворот, казалось, он вот-вот выхватит пистолет! Однако пожилой мужчина нисколько не испугался и лишь улыбался. Это была какая-то мечтательная улыбка.
Пожилая женщина сказала испуганно:
– Простите, пожалуйста, моего мужа, господин чиновник. Он больной! Со справкой! Он не знает, что делает.
Она достала из сумки заключение врача и протянула его Экрему.
Тот замешкался, не зная, что делать. Он был сильный и мог одним движением сломать этого улыбающегося, похожего на живой труп, больного старика. Наверное, лучше всего было бы подчиниться своей жене, которая тянула Экрема за рукав, причитая:
– Опомнись, человек не в себе!
Джемаль услышал, как она прошептала на ухо мужу:
– Это же юродивый. Не связывайся!
Экрем нервно распахнул дверь и вышел в коридор.
Мерьем ничего не понимала в споре, однако внимательно следила за развитием событий. Она заметила, что на лице Сехер появилась удивительная улыбка. Даже мать улыбалась. Старик взял реванш за всех них.
– А еще чиновник, подлец! Получает зарплату с наших налогов, – процедила Сехер сквозь зубы.
Жена Экрема сказала:
– Молчи, сестра! Даже мне трудно остановить этого человека. Потом обо всем сильно пожалеете.
А на вопрос Сехер: «И что он нам сделает?» таинственно добавила:
– Я предупредила! Будьте осторожны!
Через какое-то время Экрем вернулся в купе, с ним был кондуктор. Экрем показал в сторону Сехер и сказал кондуктору:
– Вот, здесь можем положить. Несчастная женщина лежит на полу. Очень больна. Может умереть! А эти места предназначены для инвалидов, раненых, больных и беременных.
Речь шла о женщине, лежавшей в тамбуре. Муж женщины тоже с любопытством заглядывал внутрь купе.
Кондуктор сказал:
– Господин верно говорит. Давайте будем человечны, возьмем женщину сюда.
Сехер со злостью спросила:
– Почему не на место напротив, а на мое?
Экрем ответил:
– Потому что моя жена тоже нездорова, ей плохо. Вы сейчас уступите, а когда моей супруге полегчает, поменяемся.
И улыбнулся.
Пожилая женщина поднялась со вздохом:
– Пойдем, дочка!
Взяв чемоданы, они вышли в коридор. Больную принесли и положили на покрытую зеленым кожзаменителем скамью.
Этой женщине из Анатолии, пожалуй, еще не было и тридцати. Голова ее была укутана платком. По лицу было видно, что она очень страдает от боли. Двое детей и муж пристроились у нее в ногах.
Муж сказал Экрему:
– Да благословит вас Аллах, пусть он даст вам всем, чего вы только пожелаете.
Однако мысли Экрема были заняты другим. Он сказал Джемалю:
– Ты не смотри, приятель, что все так произошло. С этой семьей не все так просто. Они – красные коммунисты. Они здесь, перед нами, вроде полноценные турки. Но чуть что – начинают говорить с позиций курдов, алевитов, левых, коммунистов…
Чтобы отпраздновать свою победу, он закурил сигару и угостил Джемаля. Деревенские жители, только что заселившиеся в купе, открыли принесенную с собой корзину и достали тонкие хлебные лепешки и творог.
– Пожалуйста, угощайтесь, – протянули они еду попутчикам. Но никто не пожелал что-то взять. Тогда мужчина завернул творог в лепешку и начал есть.
Женщина продолжала стонать. Сюхейла спросила мужчину:
– Твоя жена совсем не ест?
Мужчина, прожевав, ответил:
– Нет. Она не может глотать. Больная. Везу ее в Анкару на операцию. Ее брат – рабочий в больнице Нумуне.
Поев, он закрыл глаза и захрапел, погрузившись в сон.
В ночной тьме раздавался мерный стук колес.
Мерьем почувствовала, что ее ноги затекли. Онемели, их словно покалывало. Поднявшись, она хотела пройтись, однако не знала, как это сделать. Джемаль спал. Осторожно встав на ноги, Мерьем тихонько пробралась мимо него, стараясь не разбудить.
Ноги не слушались, подкашивались. До дверей осталось сделать два шага, как вдруг послышался голос Джемаля:
– Ты куда?
– Никуда. Пройтись. Ноги затекли.
Слава богу, Джемаль больше ничего не сказал, и она вышла в коридор. Там было пусто; наверное, изгнанная из купе семья «коммунистов» нашла место в другом вагоне и ушла туда. Им не хотелось видеть злорадства Экрема, оставаясь здесь.
Поезд летел на сумасшедшей скорости. Он скрипел, издавал страшный шум и раскачивался из стороны в сторону так, что надо было держаться, чтобы не упасть. Она дошла до конца вагона и увидела дверь, над которой красовались два нуля, такие же, как на остановке в городе.
Она вошла внутрь и, держась, чтобы не упасть, стала смотреться в зеркало. Она сравнивала свои глаза с глазами Сехер, которые были подведены сурьмой – так красиво! Ее волосы были распущены по плечам. Такие женщины, как Сехер, красятся: на брови, щеки кладут разную краску, и это тоже красиво. И волосы Сехер непокрыты.
Мерьем сдернула платок.
Она попыталась распустить волосы по плечам, однако из-за того, что уже несколько дней их не мыла, длинные пряди спутались в колтуны. С того дня, как биби купала ее, прошло очень много времени. Да и можно ли было хорошо промыть волосы в том сарае?..
Отогнав мрачные мысли, Мерьем открыла кран. Намылила голову стоящим на краю раковины мылом, с трудом прополоскала под мощной струей воды. Потом накинула на мокрые волосы платок и завязала его. Перед тем как выйти, девушка пощипала себя за щеки так, что они раскраснелись. Что еще можно было сделать? Она знала, что ей, одетой в лохмотья, не сравниться с такими девушками, как Сехер. Их руки были ухожены, на ногтях – маникюр, чистые уложенные волосы, колье, наручные часы украшены стразами! Она представила себя в такой же узкой юбке, которая была надета на Сюхейле. И пришла в восторг! Может, и она в Стамбуле сможет так одеваться. Может, и она станет такой красивой, как Сюхейла или Сехер? Она вспомнила присказку бабушки: «Глазки говорят: «Солнышко, ты не восходи, я посвечу». Но кто будет смотреть в ее глаза, кто обратит на них внимание, когда ты в таких лохмотьях?!
Открыв дверь, она вышла в коридор и увидела Джемаля, который стоял и курил сигару. Сердце подпрыгнуло, она не знала, что делать. Должно быть, он рассердился, вон как брови насупил…
«Как бы мне пройти мимо него, чтобы войти в купе?» – метнулось в мыслях Мерьем.
Другой дороги не было. Стараясь делать вид, будто ее и нет, она попыталась протиснуться мимо него. Однако Джемаль схватил ее за руку:
– Стой!
Мерьем не знала, что делать дальше, но ей понравилось, что он заговорил. Пусть бы сердился, да хоть и кричал, если захочет, лишь бы говорил с ней! Мерьем остановилась, взялась за дверь, раскачиваясь в такт вагону.
Джемаль сказал:
– Посмотри, это дверь поезда.
Мерьем не сдержалась:
– Знаю. Вечером мы через нее заходили, когда садились в вагон, – сказала она быстро и подумала, что Джемаль, наверное, немного разозлен. Потому что внезапно он резким движением распахнул дверь, и все наполнилось тяжелым шумом, ворвавшимся внутрь вместе с бешеным ветром. Джемаль, нагнувшись, посмотрел наружу и прерывающимся от ветра голосом сказал Мерьем:
– Ты тоже посмотри!
Мерьем не могла понять – опасно это или нет, это было как в старые дни, когда они играли вместе. Ей ничего не оставалось, как, прижавшись плотно к двери, высунуть голову наружу. В лицо бил ветер, на душе было нехорошо. Ей что-то попало в глаз. На страшной скорости поезд вошел в поворот, и послышался гудок паровоза. Этот сигнал еще больше напугал Мерьем, ей показалось, что в темноте ее словно ударили чем-то по голове, и в отчаянии она бросилась внутрь. Джемаль старался не смотреть ей в лицо. Он выглядел смущенным.
Чтобы как-то разрядить ситуацию, она сказала:
– Джемаль, мне что-то попало в глаз. Очень больно. Не посмотришь?
Джемаль отстранился и ничего не ответил.
Раскачивающийся в пустоте остров
Однажды на рассвете, открыв глаза, Профессор столкнулся с чудом, которое он запомнил на всю жизнь. Он увидел конусообразный остров, возвышающийся прямо до неба. Странным было то, что остров, выглядевший как скала, совсем не касался моря. Он висел в воздухе, и словно божественная сила удерживала его. Такое можно было увидеть только на картинах Рене Магритта. Это было что-то волшебное, созданное гением, способным изменять размеры и положения объекта, абсолютно не считаясь с законами земного притяжения.
Профессор никогда раньше не видел острова, который висел бы в воздухе, даже во сне. Утес, поросший дерном, был окутан туманом и раскачивался в пустоте.
«Должно быть, игра воображения», – подумал он, однако совсем не испугался, а наоборот – испытал чувство внутренней благодарности. Он поднял якорь и поплыл прямо к острову. Он хотел высадиться на эту сказочную сушу, но – ах, как жаль! – взошедшее солнце похитило захватывающую дух красоту острова и поставило его в ряд обычных. Он стал таким же, как и тысячи других островов Эгейского моря. Туман, закрывающий подножие острова и скрывающий от глаз его соединение с землей, рассеялся. Однако это не испортило настроения Профессору, ведь он все же сумел увидеть на рассвете это чудо – висящий в воздухе утес!
«Такова могла быть и природа мифологии», – подумал он.
В самом деле Эгейское море полно чудес. Беспрерывно меняющийся цвет моря, свет, струящийся из-под наплывающих друг на друга облаков, а еще запах – этот сводящий с ума аромат, который приводит человека в состояние безумного восторга, искушает его совершить что-то необычное, приговаривая: «Как хорошо жить!»
Он не знал, сколько дней прошло с тех пор, как он вышел в море, потому что не следил за временем. Его связь с миром ограничивалась необходимостью делать покупки в небольших прибрежных селениях. Он будто потерял прежний порядок своей жизни. Он двигался туда, куда ветер гнал его суденышко. На протяжении жизни он часто использовал это выражение в переносном смысле, однако на этот раз оно воплощало его повседневную реальность.
Обычно он пользовался попутным ветром, но иногда, торопясь куда-то добраться, запускал двигатель. Паруснику не пристало ходить на моторе, но он, с чувством стыда, все же вынужден был делать это. Потому что Эгейское море полно опасностей – ведь оно было зоной противостояния турецкого и греческого флотов. Берега турецких и греческих островов настолько близки, что порой даже трудно понять, что кому принадлежит. Греция не разрешает приближаться к ее берегам более чем на три мили, и, если войдешь в их воды, тут же примчится торпедный катер либо с Митилина, либо с Самоса, и тогда давай немедленно поворачивай румпель и включай мотор, чтобы поскорее убраться к турецкому берегу!
С турецкой береговой охраной, которая непрерывно отслеживает здесь ситуацию, он установил дружеские контакты, они его не трогали.
Такое положение было очень странным. В некоторых местах турецкий берег и греческие острова находились так близко друг от друга – не то что три мили, а даже полумили между ними не было. Например, Самос так близко от Кушадасы, что до мыса Самоса можно добраться вплавь. И никакой торпедный катер не успел бы напасть, да к тому же по причине географических сложностей в этих местах правила не действовали.
Как-то, маневрируя там, он встретил флотилию турецких кораблей. Один за другим шесть военных судов, словно в знак устрашения, подошли совсем близко к греческим островам, и Профессор с изумлением увидел, что на пандусе даже ракеты были расчехлены и приведены в состояние боевой готовности. Он подошел довольно близко к военным кораблям, турецкие офицеры и солдаты окатили его ледяными взглядами. Они выглядели угрожающе.
Короче, Профессору надоела эта военная атмосфера, греческие торпедные катера и турецкая береговая охрана. В один спокойный день, когда яхта приятно раскачивалась под легким дуновением ветра и не было слышно ничего, кроме звука плещущихся волн, неожиданно все вокруг накрыло оглушительным шквалом шума реактивных двигателей. Турецкие и греческие самолеты играли в ужасную игру, называемую воздушным боем. В игре участвовали и камуфляжного цвета военные вертолеты.
А он не ощущал себя ни турком, ни греком. Он был всего лишь плывущим по Эгейскому морю человеком, ему хотелось покоя, как и другим людям, живущим на этих островах.
Если бы военные узнали, что он так думает, его бы посадили на кол! Чтобы сын Турции думал таким образом?! У него что, нет любви к своему отечеству? Что, в его жилах течет греческая кровь? Наша нация воспитала и сделала тебя человеком, а ты вонзаешь нож в спину страны, которая тебя вскормила!
«Какой грех я совершил, чтобы родиться в такой стране?» – часто думал он.
У Профессора не было никакой связи ни с национализмом, ни с религией, ни с идеологией. Он знал, в большинстве случаев то, что преподносится в жизни как «ценность», на самом деле не значит ничего.
Люди, воспитанные в период кемализма, находились под влиянием светских идей и совсем не интересовались религией, однако были очень продвинуты с точки зрения национального самосознания. А в нем почему-то не было и этого.
Когда он учился в старших классах школы, существовала мода на левые движения. Мир находился под влиянием «поколения шестьдесят восьмых», их идеи начали охватывать университетские студенческие союзы, которые один за другим вступали в левые организации. Ирфан же совершенно не верил в эти идеи, в эти годы нисколько не полевел. Это было странно: ведь вокруг бушевали демонстрации, протесты, выступления, стычки с полицией. Он попытался заставить войти себя в состав такой группы, однако не получилось. Что левые, что правые, националисты или исламисты – все они были фанатиками, а он не мог встать ни на чью сторону.
Много позже одна студентка во время лекции обратилась к нему с такими словами:
– Профессор, ваше поколение 68-го…
Он не сдержался и ответил:
– Меня совсем не интересовал 68-й, мне гораздо интереснее был год 1969-й.
И самодовольно засмеялся вместе с другими студентами над покрасневшей девушкой.
Он был в равной степени далек и от национализма, и от исламизма. Когда в национальные праздники в школе звучали стихи «Твои глаза зелены, о мой лейтенант!»[18], у него не возникало никаких эмоций. Точно так же у него не было никакого интереса ни к Рамадану, ни к намазу.
Однажды утром в праздник Курбан они с Хидаетом пожелали совершить праздничный намаз и отправились в мечеть. Если бы их спросили, зачем они туда пошли, они, наверное бы, ответили: «Все идут, и мы пошли». Праздничный намаз начинался в шесть утра, но говорили, что если явиться точно к этому времени, то в мечети будет очень много народу – так, что и внутрь не попасть. Поэтому они направились в мечеть ночью. Сняв обувь снаружи, они вошли и сели в самом первом ряду. В мечети находились несколько стариков, которые тоже пришли на молитву. Они старались говорить шепотом. Постепенно мечеть заполнялась народом. Сначала первые ряды, затем задние.
Через некоторое время в мечеть набились сотни людей, и имам с минбара стал читать проповедь: он говорил о нравственности, религии, пророке, Ататюрке и военных героях.
Через несколько часов юноши начали терять терпение: «Вот бы поскорее закончился намаз, чтобы можно было отсюда выйти», – думали они. Наконец имам занял свое место перед собравшимися, и оказалось, что два мальчика находятся прямо за его спиной. Муэдзин прочитал призыв к молитве – азан, и имам приступил к совершению намаза. Стоя впереди в своей черной мантии и чалме, он возгласил: «Аллах велик!» – и поднял две руки к своим ушам. Они сделали так же. Они откуда-то знали, что после второго прочтения «Аллах акбар» – люди падают ниц, да и после третьего «Аллах акбар» простираются на коврике-саджаде. Но, видимо, в праздничном намазе правила другие, потому что когда, заслышав второй намаз, они опустились на колени, то увидели, что ни имам, ни другие не сделали этого. В огромной мечети, среди сотен собравшихся людей, только они двое согнулись в поклоне! Откуда-то изнутри обоих стал разбирать смех. Из-за длительного напряженного ожидания среди молчаливых почтенных мужчин нервы их были на взводе – и рефлекторной реакцией организма стал смех. Они хмыкали и пыхтели, но кое-как смогли удержаться.
Нет бы в третий раз, заслышав: «Аллах акбар!», подождать – а они немедленно распростерлись на молитвенных ковриках! Прикоснулись лбом к коврам, закрыв глаза, и тут же поняли, что снова попали в глупое положение. Подняв головы, оглянулись и увидели, что все на ногах. Ребята немедленно подхватились, сдерживать идущий из глубины хохот уже было мучительно. Имам еще раз произнес: «Аллах акбар», и на этот раз, наученные горьким опытом, они остались стоять, чтобы показать, что они – истинные мусульмане. И снова невпопад! Они торчали, как две жерди, ошарашенные происходящим, и уже не могли удержаться от душившего их смеха. Согнувшись, они стали пробираться, расталкивая молящихся, к выходу. Люди на ковриках возмущались, падали, опрокидывались, а мальчики никак не могли сообразить, как выбраться наружу. Через некоторое время, с трудом найдя выход, они мчались по улице и хохотали до слез!
Это был первый и последний религиозный опыт Профессора. Впрочем, это было нормальным явлением среди тех, кто жил в Кемалистской республике: имамам и муэдзинам тогда было запрещено появляться на улице одетыми в религиозные одежды, в светских республиканских школах не было уроков религии. Поэтому Профессор и не чувствовал никакой внутренней связи с религией.
Это не выглядело странным на международных конференциях, потому что ученые не думают друг о друге с позиций принадлежности к той или иной религии. Никто не говорит: «Посмотри, вот это христианин, а это – иудей». Они рассматривают людей с позиций профессиональной или карьерной принадлежности. Однако через некоторое время он понял, что все-таки является мусульманином. Это было как коллективное удостоверение личности: мусульманин! Хотя, по существу, это не отражало реальную ситуацию. В Турецкой Республике тому, кто не был евреем, армянином или греком, в свидетельстве о рождении в графе «религия» писали «ислам», однако большинство людей даже не осознавали того, что они принадлежат к исламу.
Конечно, и он, и Хидает были вынуждены пройти через обряд «суннета». Наряженных в белые одежды, их сначала развлекали тысячей и одним способом, а потом отрезали их крайнюю плоть. И наложенная затем живительная повязка была ничем по сравнению с пережитым шоком от вида секущей опасной бритвы. Современные хирурги, производящие обряд обрезания – суннет, наверное, делают это гораздо менее болезненно. А в его время на обрезанный орган накладывали марлевую повязку. Кровь засыхала, бинт прилипал, его отрывали, посыпая рану пенициллиновым порошком, – все это заставляло ребенка дико кричать. Глядя на свой лиловый окровавленный член, он думал: «Это ужасно! Я никогда не смогу это кому-либо показать».
А у некоторых же детей кожа прилегает плотнее, таких называют «закрытыми». Для них обряд суннета – еще большая мука…
И все же турецкий народ верит, что суннет – это правильно, он дает человеку чистоту. В каком-то смысле – да: Ирфан на протяжении жизни так называемого «турецкого мужчины» испытывал противоречивые чувства к женщинам – от поклонения до женоненавистничества. Он считал, что это было связано с детской травмой, нанесенной ему обрядом суннет.
Турецкие мужчины верили, что суннет даже защищает от СПИДа. Поэтому, когда сначала Черноморское побережье, а затем Стамбул и все крупные приморские города, такие как Анталья, заполнили тысячи русских девушек, турки ложились с ними в постель, не предпринимая никаких мер защиты. Потому что верили – они защищены.
Однако Профессору приходилось слышать и о более странных обычаях, бытовавших в Турции. Например, жители черноморского региона перед интимной близостью выдавливали русским девчонкам между ног лимон. Если лимон в целом защищает от микробов, почему бы и тут не применить этот метод? Разве СПИД сможет сохраниться в месте, которое полито лимонным соком? Там, где есть лимон, доктор не нужен!
Никого не пугало то, что девицы могут быть разносчиками болезней, все это – пустяки!
С десяток лет тому назад, когда в деревни только пришло электричество и людей предупреждали о том, что к проводам нельзя прикасаться, что это смертельно опасно, многие говорили: «Разве храбрец может испугаться каких-то проводов?» – и на виду у всего честного мира хватали провода, а потом, выбивая зубами чечетку и дрожа, как осиновый лист, признавали свое поражение. Бояться СПИДа турецкому мужчине тоже не приличествовало. Хотя вскоре многим пришлось признать свое поражение…
После 1917 года, когда в России установилась советская власть, в Стамбул прибыли тысячи русских белогвардейцев. А после падения Советов Турцию наводнили белотелые русские девушки. После 1917-го турецкие господа пили чистую водку и ели котлеты по-киевски в открытом русскими ресторане «Режанс» с прекрасными дамами, укутанными в меха, и слушали игру на рояле в благородном музыкальном холле отеля «Пера». А теперь приехавшие из России и с Украины длинноногие стройные блондинки все больше работали вокруг района Лалели, время от времени отправляясь с бизнесменами в секс-туры по берегам Эгейского и Средиземного морей. На Черноморском побережье давили лимон на причинное место, но и в средиземноморских туристических городах тоже проводили время чудесно – не упускали шанс! Во время учебы в университете кто имел стройных молодых девушек?! В постель со студентами шли местные красавицы – эдакие бревна с короткими и толстыми ногами, тела которых были густо покрыты черным волосом, словно шерстью. Кому посчастливилось, тот находил себе пару в более рафинированной и богатой среде. Во времена его юности ходило много всяких историй! Самую интересную из них Ирфану рассказали друзья, которые верили, что эта тайна известна только мужчинам.
Это был метод, изобретенный бизнесменами, ехавшими на отдых в дорогие отели Бодрума и Тюркбюкю вместе со своими семьями. В этих отелях и туристических деревушках чаще всего звучат латиноамериканские мелодии; люди, не прикасаясь ни к книгам, ни к журналам, с утра до вечера лежат на пляже словно тюлени, а вечером развлекаются на дискотеках. После заката у берега появляется катер, и парень в купальном костюме зовет бизнесмена прогуляться по бухте. Человек, отдыхающий на берегу с женой и детьми, соглашается, оставляет свое семейство и спокойно поднимается на борт. Что плохого может натворить мужчина в плавках, даже без обуви, что может быть плохого в получасовой невинной прогулке по заливу?! Однако дело имело особую подоплеку. В заливе за островом уже ожидало большое судно, прибывшее специально из Стамбула, на котором находились русские и украинские красавицы. Один из друзей Профессора так вспоминал о прозрачных телах девушек: «Если она даже вишенку проглотит, то, когда та будет проходить через горло, ты видишь на ее коже розовый след». Может быть, несколько романтично, но правда!
Бизнесмены считали, что нет никакой нужды использовать такие неприятные методы предохранения, как выдавленный сок лимона или презерватив. И через час катер возвращал хорошо повеселившуюся группу в отель. Мужчины воссоединялись со своими женами и детьми, продолжавшими загорать на пляже. Выходил сухим из воды! И начинал мечтать о следующей прогулке на катере по заливу…
Эх, и в самом деле, нелегко перейти к моногамии из османского времени, когда у каждого было по четыре жены, да еще и уйма наложниц! Желание подталкивало мужчин к поиску выхода. А СПИДа никто не боялся – благодаря суннету и лимону.
И что теперь сказать о западных журналистах, которые пишут, что обрезанные мужчины гораздо более устойчивы по отношению к СПИДу?!.
Попутный ветер наполнил паруса, яхта Профессора заскользила по морю в южном направлении. Качаясь на волнах, он думал о том, что террор на турецко-греческом побережье пошел на убыль. На севере военная обстановка намного напряженнее, зато юг сейчас – место всеобщего отдыха. Поэтому, насколько было возможно, он направлял судно в южном направлении.
Иногда в тихое спокойное послеполуденное время он поворачивал яхту в открытое море, смотрел, как преломляются солнечные лучи на водной глади, на острова и разбросанные по этим островам деревни, на столетние пирамидальные кипарисы, на кипрские белоснежные православные монастыри, на маленькие минареты над миниатюрными мечетями на турецком берегу – и каждый раз вспоминал великого киприота.
«О Господи, только не разрушай этой гармонии, – молился Казанзакис. – Ничего другого я не прошу у тебя. Только пусть не нарушается эта гармония!»
И Профессор хотел того же.
Шли дни, и он все яснее понимал, насколько верным было его решение. Он чувствовал себя так, словно у него выросли крылья. Ночные приступы тоже пошли на убыль. Он все еще принимал лекарства, однако сон его стал намного лучше. В ночной темноте яхта уже не казалась ему саркофагом. Это уже не был гроб с заколоченной крышкой.
В один из дней, совершая покупки, он приобрел в магазине большую картонную коробку, обрезал стороны, маркером на одной написал стихи Роберта Фроста. Он очень любил и часто читал Фроста, которого сам переводил в вольной форме:
Умираю я, друзья, остановилась жизнь моя, Ну а коли не по нраву мне придется там – вернусь, И умирать я поучусь…На другом картоне он написал красным фломастером изречение Мевляны[19]: «Или выгляди таким, каков ты есть, или будь таким, каким выглядишь!» И повесил обе картонки на стену в каюте.
Он не брился вот уже несколько дней, и белая борода, которая раньше только едва намечалась на подбородке, разрослась и закрыла все лицо. С нерасчесанными волосами и внушительным торсом – он начал ощущать себя почти мифологическим божеством. Пульс стал ровным, движения замедлились, сердце не колотилось от беспокойства, как раньше.
Иногда он забросывал в море удочку, и ему улыбалась удача поймать огромного леща или коралловую рыбу. Немедленно очистив ее, он добавлял сверху немного оливкового масла, выдавливал лимон и съедал рыбу сырой. Но вот музыка во время еды никогда не изменялась: флейта Жан-Пьера Рампля, соединяясь с криками чаек, создавала странный, никогда и никем не сочиненный ранее музыкальный канон.
Ты когда-нибудь видела чудо?
Сняв обмундирование спецназовца вместе с патронташем, планшетом, рацией и ножом – словно и не бывало их никогда, Джемаль переоделся в гражданскую одежду, словно отрекся от чувства внутреннего страха и злости, потихоньку передвигаясь по земле в беззаботном и беспечном состоянии. Если бы ему пришлось ехать в Стамбул в первые дни после демобилизации, то скандал и напряжение, возникшие в купе, были бы для него невыносимы.
Он непременно схватил бы кого-нибудь за шиворот и вышвырнул из окна! Однако сейчас он все происходящее воспринимал как игру, которая его совершенно не касалась, так, словно он смотрел на все издалека. В голове было одно: поскорее бы уладить дело с этой сопливой девчонкой Мерьем, вернуться в село и жениться на Эминэ. Сначала армия встала поперек их отношений с Эминэ, а теперь вот эта девчонка – забилась в угол, шмыгает носом и выглядит так, будто она больна…
Мерьем и вправду находилась в довольно жалком состоянии. Ночью все было нормально, однако с наступлением утра, когда поезд отстукивал мерный ритм по бескрайним анатолийским степям, в просачивающемся сквозь окно слабом свете он увидел, что она заболевает. Вечером, открыв дверь вагона, он мог выбросить в темноту это худенькое тельце и сейчас был бы свободен от всех проблем. Ему даже до Стамбула бы не понадобилось ехать. Тоска по Эминэ была такой, что даже пересиливала желание увидеть своего сослуживца Селахатдина. Как бы там ни было, Стамбул никуда не денется и после женитьбы можно будет приехать, а вот Эминэ можно потерять в любую минуту. Если бы ночью дело завершилось успешно, то на первой же станции он пересел бы в поезд, идущий в обратном направлении, и Эминэ вот-вот бы услышала весть о его прибытии. А сейчас он с каждой минутой все больше удалялся от нее.
Он не понимал, почему не смог схватить ее за шею и выбросить наружу как цыпленка. Ну никак не понимал! Позже, размышляя об этом, он решил, что побоялся чиновника и того, что ситуация выйдет из-под контроля. Ведь было ясно, что у соседа по купе есть связи со службой безопасности, а то чего бы он совал нос во все дела. Он бы сообщил, куда следует, что девушка пропала из купе. А если бы еще и Джемаль внезапно исчез, то дело приняло совсем плохой оборот. Поэтому убийство надо было отложить, лучше сделать это, когда они проедут Анкару. Сотрудник спецслужб говорил, что он там выйдет. Тогда совершить запланированное будет намного легче.
С другой стороны, Джемаль был ошарашен тем, что убийство какой-то девчонки может повлечь за собой столько осложнений. Во время войны в горах никто не выставлял им счета за смерть. Как жаль, что в гражданской жизни это не так. Эминэ не зря предупреждала, надо быть осторожным, чтобы не попасться.
Наутро Мерьем проснулась с такой головной болью, словно ее виски зажали в железных тисках. Во всем теле ощущалась слабость, горло саднило, глаза жгло. Глотать было трудно. Она думала о том, что даже там, в сарае, где она сутками оставалась одна, ей не было настолько тяжело. И тут она поняла, откуда что взялось: вчера она вымыла волосы, потом повязала платок, но под тонким платком они оставались совершенно мокрыми – вот, наверное, ее и продуло ледяным ветром, когда Джемаль заставил ее выглянуть. И смотрел так, словно собирался выбросить ее из дверей…
Перед тем как заснуть под стук колес мерно раскачивающегося поезда, Мерьем думала о женщинах, которых увидела здесь, в вагоне. Детали переполняли ее воображение: лак на ногтях, кольца на пальцах, узкие брюки, обтягивающие бедра, нескрываемая белизна женских ног в черных юбках выше колен, завитые волосы – все это не выходило у нее из головы. Потрясло ее и то, что Сехер, находясь в поезде рядом с отцом и матерью, затеяла ссору с посторонним мужчиной и разозлилась на него. Мерьем переполняло изумление. А мужчина, выслушивая десятки слов, которые выкрикивала ему в лицо Сехер, не схватил ее за руку, не ударил, не прибил ее. Более того, еще и получил плевок от ее отца!
До чего же странный этот мир…
Сами они там, в деревне, не имели права заговорить при мужчинах, не могли есть, ни выйти в туалет, даже беременность свою скрывали. Как может девушка, пришедшая невесткой в дом, стать беременной?! Месяцами они скрывали этот стыд от всех, и свекровь могла понять, что невестка беременна, только лишь по тому, что та начинала есть сверх меры соленья и пить кислый гранатовый сок. А невестка до последнего дня не говорила ничего, не прекращала работать. В назначенный час приходила повитуха и помогала ей без лишнего шума разрешиться от бремени.
Если бы Сехер попала в такую ситуацию, то наверняка раструбила об этом на весь свет и принялась капризничать перед семьей. Однако Мерьем не осуждала ее. Не так уж тут плохо, в этом новом для нее мире! На автостоянке впервые в жизни она ела, находясь рядом с мужчинами, рядом с Джемалем. Поначалу ей кусок в горло не лез, она не могла заставить себя есть на виду у всех, но голод быстро победил, и она, адаптировавшись к окружающей среде, смогла почти спокойно закончить есть котлету, запивая ее айраном. А когда в поезде пили чай, она уже не чувствовала никакого неудобства. Словно с рождения жила вот так! Если бы на ней еще не было платка, шальвар и черных резиновых калош!.. Ну, ничего, когда она будет в Стамбуле, то сможет одеться как Сехер. Для этого нужны деньги, а у нее не было и пяти курушей, однако если у всех получается, то и у нее должно получиться, для этого непременно найдется какой-нибудь путь.
Но сейчас все тело болело так, словно ее избивали палкой сорок дней и сорок ночей. Надо было бы встать и пойти в туалет, однако она никак не могла собраться с силами и подняться со своего места. И неожиданно она почувствовала, как между ног стало мокро. Душа ее обмерла от страха! У нее болело все, болел и живот. Она думала – от простуды, а это, видно, были первые проявления выкидыша, который ей сделала нянюшка. С ужасом она подумала: «Что же я буду делать здесь, в окружении стольких людей?!» Наверное, если она поднимется, сзади будет видна кровь… Самое лучшее в такой ситуации было бы убить себя, выброситься из поезда!
Ох, посмотреть бы – сильно ли кровит, сильно ли испачкалась сзади ее цветастая фланелевая юбка? Пока не поднимешься, не поймешь! Надо было встать и пойти в туалет, но как дальше быть, что подложить? В селе, случись такое, тетушка дала бы ей чистую тряпку, которую можно было бы заткнуть между ног, а когда она сильно промокнет, постирать. Здесь же у нее не было ничего! Отрезанную от старой фланели тряпку надо было стирать тщательно, замывая кровь в холодной воде. И следить, чтобы она не засохла, беречь от высыхания. Горячей водой или мылом кровь отстирывать нельзя, будет намного хуже, кровь въестся в ткань. Но сейчас у нее нет никаких тряпок! В сумке, которую наспех собрала и всунула ей в руки змея Дёне, лишь несколько смен одежды. Мерьем даже подумалось, что та специально не положила в сумку тряпок, чтобы досадить ей. От страха она даже забыла о своих болях. Джемаль сидел около нее, закрыв глаза, жена чиновника дремала, женщина напротив лежала без движения, словно труп, а ее муж храпел, открыв рот. Только одно оставалось Мерьем – взяв сумку, найти там что-то из платья и в туалете порвать на тряпки. Они будут ей очень нужны, потому что кровь несколько дней будет течь без остановки, так предупреждала нянюшка. Однако для этого нужно встать и у всех на виду, повернувшись к полке, взять лежащую там сумку. Если же сзади есть кровь, то каждый увидит это. И все всем станет понятно. «О Господи, помоги мне!» – произнесла она мысленно и поднялась. Повернувшись спиной к спящей женщине, Мерьем выпрямилась и взяла сумку, но открыть ее и достать платье у нее не хватило мужества. Прикрываясь сумкой сзади, она потихонечку выскользнула наружу. И все же она знала, что вслед ей смотрели. Если есть кровь, то Джемаль, открыв глаза, должен был это увидеть.
Ей пришли на память произнесенные со вздохом слова биби: «Пропади она пропадом, эта женская доля!» От этого грешного места с самого детства на голову женщин сыплются беды.
Щелкнув дверной задвижкой, Мерьем направилась в конец коридора, в туалет. Вокруг никого не было. Она провела сзади ладонью по юбке, пытаясь понять – мокрая или нет, однако так и не поняла.
Голова раскалывалась, из глаз текли слезы. Шмыгая носом, она открыла сумку и, вытащив какое-то платье, начала его рвать. И вдруг увидела такое, аж дух захватило! В самом ли деле это так, не ошибается ли она?! В тамбуре последнего вагона стояла Сехер и курила сигарету. А Мерьем смотрела на нее. Из-за того, что между ними были стеклянные двери, Сехер не приходило в голову взглянуть в соседний вагон, и она не видела Мерьем. Затем Сехер открыла дверь со своей стороны, прошла между вагонами и направилась прямо к ней. Когда открывались двери, от рельсов снова послышался ужасный шум. Трак-тики-так, трак-тики-так! Однако шум этот не шел ни в какое сравнение с бешеным стуком сердца Мерьем.
Сехер взглянула на нее и воскликнула: «Ты больна!» И положила свою руку на пылающий лоб Мерьем. Девочка была в таком плачевном и бедственном состоянии, что сердце Сехер сжималось, глядя на нее. Только на бледном лице, вопреки всему, светились огромные зеленые глаза. «Словно два диких цветка», – подумалось Сехер. Девочка выглядела очень плохо, а немного раньше, прикрываясь сзади, она старалась порвать платье, и Сехер догадалась, в чем дело.
– Как тебя зовут? – спросила она.
Мерьем пролепетала свое имя.
– Мерьем, – сказала Сехер, – меня не стесняйся, можешь считать меня старшей сестрой. Ты больна, ты в тяжелом состоянии! Сядь здесь и жди меня. Через минуту я приду.
Усадив девушку на площадке у раздвижных дверей, она отправилась в свой вагон. У Мерьем уже не осталось сил думать о чем-то или сопротивляться. Она была настолько смущена, что не могла даже пошевелиться.
Скоро Сехер вернулась и протянула ей что-то.
– Возьми это, – сказала она, – иди в туалет и там подложи, не беспокойся, кровь не будет проступать.
Мерьем посмотрела на нее смущенно и недоверчиво. Ей не хотелось вставлять эту маленькую штучку.
– Поверь мне, – сказала Сехер, – мы все так делаем. Это продается в аптеке. Посмотри на упаковку.
И показала ей рисунки на коробке с надписью «Orkid».
Потом опять велела:
– Давай иди в туалет!
Мерьем закрылась, сначала подмылась, а потом выполнила указания, полученные от Сехер. С некоторым страхом она устроила эту маленькую вещицу у себя между ног, однако оторвав от платья кусок, подложила и его – на всякий случай. Сехер, конечно, выглядит заслуживающей доверия, однако все же она чужая. Можно ли ей доверять?
Мерьем положила в сумку шальвары, которые сняла перед этим, и вышла наружу.
– Молодец, – похвалила ее Сехер. – Вот увидишь, скоро будет совсем сухо. А сейчас надо тебя немного подлечить. Я отведу тебя в наше купе, у нас вышли соседи, есть свободные места.
Мерьем на мгновение вспомнила, что не отпросилась у Джемаля пойти с Сехер, однако она была в таком плачевном состоянии, больна и нуждалась в заботе, что у нее не хватило сил отказаться от протянутой ей руки помощи. И она потащилась за Сехер.
После того, как чиновник выкинул их из купе, Сехер и ее семья некоторое время ехали в коридоре, однако позже на станциях люди начали сходить, места освободились и им удалось устроиться в одном из купе. Поезд, по мере продвижения, становился пустым.
Войдя в купе, Мерьем увидела там только мать Сехер и ее отца все с той же странной улыбкой на лице. Больше никого не было. Сехер достала из чемодана таблетку, положила ее в стакан, налила воды и протянула пузырящуюся жидкость Мерьем. Внутри у девочки разлилось тепло, и она благодарно отдала себя во власть Сехер: делала все, что она говорила, ощущая, что все это правильно. Мама Сехер говорила ей добрые слова и гладила по укутанной в платок голове.
Затем Сехер уложила ее на свободное место, и Мерьем смогла вытянуть затекшие ноги. У нее под головой оказалась твердая подушка из зеленой кожи, она почувствовала, что сверху ее чем-то укрыли. И девушка отдалась во власть перестука колес поезда. Сначала она слышала: трак-тики-так, трак-тики-так, трак-тики-так, вскоре они сменились другими звуками: тик-трак-так, тик-трак-так, и поезд начал раскачиваться из стороны в сторону, как детская люлька. С чувством огромной благодарности к Сехер и ее семье и с терзающим сердце вопросом – не просочилась ли кровь наружу, она погрузилась в сон.
Она уснула таким крепким глубоким сном, что и Сехер, и ее мать увидели: это не молодая девушка, а совсем еще ребенок.
Бедный измученный ребенок!
Свернувшись на лавке, она сбросила резиновые сандалии, и ее маленькие ножки остались в шерстяных чулках. С головой, обвязанной платком, в старой юбке с полинявшими цветами и в потертой на локтях кофте она выглядела такой жалкой, немощной и разбитой!
Сехер снова вышла в коридор покурить. При отце она никогда не курила. Она думала о том, какие отношения связывали эту странную девочку Мерьем с военным, который ехал с ней. Она сказала, что это сын ее дяди, однако они совсем не разговаривали. Военный дремал, беспокойно вздрагивал во сне, а проснувшись, сидел, уставившись неподвижно в одну точку. Он вообще не поворачивал лица к девочке, и было видно, что Мерьем боится его. В самом деле, этого человека можно было бояться. Даже если сидел, не шевелясь, он, словно ястреб, распространял вокруг себя агрессивную энергию. Казалось, еще мгновение – и сверкнет молния!
«Может быть, он убил много людей, – подумала Сехер, – но он не такой, как этот подлый чиновник. В нем есть опасность, но нет лицемерия».
Ее брат Али Риза и его товарищи с радостью приносили себя в жертву. Сехер же считала, что смертные голодовки в тюрьмах – это совершенно неправильно. Она и смерти брата не хотела, и не считала нужным радовать врагов. То, что они убивают себя, врагам не причиняет абсолютно никакого вреда! Пока они в сумрачных камерах, окруженные мертвой тишиной стен, повязывали на свои головы красные ленты и с потухшими взорами убивали сами себя один за другим, чиновники, такие как этот, которого они встретили в поезде, удовлетворенно потирали руки: еще одного не стало, для них это был праздник.
В день свидания в тюрьме, когда еще ее брат мог говорить, она старалась объяснить ему это, без устали умоляя:
– Ведь они вас хотят убить, – говорила Сехер. – А вы, убивая сами себя, доставляете им удовольствие.
Однако Али Риза и его друзья верили, что совершают акт великой борьбы.
– Сложив здесь наши головы, мы боремся во имя всего народа, во имя демократии, – твердил он.
Ах, как он был бледен и слаб!
– Мы будем умирать здесь один за другим – и народ проснется, и даст достойный отпор власти! Это – одна из форм политической борьбы. Уничтожая себя физически, мы боремся. Эта цена, которую мы платим, ничтожно малая плата за счастье нашего народа!
Слушая эти слова, Сехер начала плакать, приговаривая:
– Ох, Али Риза, ох! Извини, что я это говорю, но какое народу до вас дело?! Ты думаешь, что они вами интересуются? Да за этими стенами каждый заботится только о том, как бы набить свое брюхо, да сладко пожить. Они смотрят развлекательные телевизионные передачи, идут в бары, и ничто другое никого не занимает…
Она могла бы еще долго говорить, но вдруг замолчала. С одной стороны, не хотела больше расстраивать брата, а с другой – чтобы не сказать:
– Ты что, газет не читаешь, телевизор не смотришь?! Главные полосы забиты изображениями моделей с голой грудью, певцами-трансвеститами, бесстыже хохочущими проститутками, катающимися на водных лыжах. Народ, о котором ты говоришь, – стадо, порабощенное стадо. Они лишены индивидуальности, чести, достоинства!
Брат ее и его товарищи убивают себя, чтобы пробудить это стадо, но ни до кого не доходят вести об их жертвах. Друзья протестующих на воле тоже едва сводят концы с концами, служат за тридцать три сребреника, а потом выходят на улицы, устраивают митинги и убивают полицейских. Идет кровавая и бессмысленная игра, однако брату это объяснить невозможно. Мальчишка словно из другого мира. Как заколдованный, ничего не слышит. Все, что говорит его семья, считает предрассудком, если и слушает, то не верит. Их мама питает последнюю надежду, что ей удастся при встрече уговорить его прекратить голодовку, однако Сехер знает, что Али Риза настоит на своем.
Если даже арбитражный суд вынесет положительное решение, если даже его переведут в больницу, то все равно уже Али Риза – живой труп. Память разрушена, не может ходить, плохо видит, он до самой своей смерти будет нуждаться в уходе. Ни живой, ни мертвый. А так называемому обществу, народу до этого не будет никакого дела! Для таких, как этот чиновник, он враг, а такие, как эта лежащая напротив бедная девушка, вообще ничего не знают о политической борьбе.
Сехер понимала, почему в своем большинстве алевиты[20] никому не доверяют, почему заключают браки только среди своих, почему ни с кем не смешиваются. Со стороны это выглядело как архаичные предрассудки, а на самом деле именно убийства и преследования, которым они подвергались на протяжении веков, привели их к закрытому образу жизни и вынуждали жениться на родственницах.
С детства они с Али Ризой обожали время церемоний сема[21]. Женщины, мужчины, дети, одетые в красные и зеленые одежды, становились на сема и под равномерные ритмы саза[22] начинали кружиться, словно журавли. Самым привлекательным был обряд «обнажения собственной сущности», в ходе которого огромные группы людей, став на колени, каялись перед шейхом. Для Сехер самым волнующим моментом было жертвоприношение, после которого раздавали мясо.
К шейху подводили выкрашенную хной овцу со связанными ногами. Шейх, играя на сазе, исполнял для нее три народные песни-тюркю[23]. Во время третьего песнопения у овцы просили прощения за то, что она будет принесена в жертву, восхваляли ее достоинства, молились. Овца ходила свободно среди толпы, шла куда хотела, и никто ей не мешал. Она разгуливала среди одетой в разноцветные наряды толпы, среди разложенной на подносах ароматно пахнущей еды, под громкие звуки музыки…
Вот и Али Ризу и его друзей точно так же приносят в жертву, только никто не просит прощения, а напротив – все ненавидят их. А может, этот мальчишка вошел в тайную организацию в школе из-за того, что к алевитам на протяжении столетий относились, как к ядовитым змеям? Их группа симпатизировала вооруженным повстанцам, члены которой, такие же не осведомленные толком ни в чем ребята, как Али Риза, расклеивали плакаты и распространяли листовки. Большинство из понесших наказание были еще совсем детьми.
Али Риза был просто сердобольный мальчик, который не то что террористический акт совершить, курицу зарезать не может. Из-за того, что в алевитских селах нет мечетей и алевитские женщины не закрываются хиджабом, другие мусульмане не считают их единоверцами, говорят, что они хуже неверных. По мнению суннитов, пить спиртное и совершать молитвы под музыку – абсолютно неприемлемо!
Сехер немало наплакалась от своих одноклассников за то, что не держала пост. Ее постоянно оскорбляли за то, что она была из алевитов.
Женщина-алевитка, да еще из бедняков, – никому не пожелаешь такой судьбы. А тут еще вдобавок ко всему – брат-«террорист». Это значит, что в Турции для нее будут закрыты все двери. Самым лучшим было бы найти какую-нибудь работу и выйти замуж за не-алевита.
– О Али, Али[24]! – произнесла она. – Если бы ты был сильнее, разве дал бы ты убить себя?! Ты, будучи Львом Аллаха, зятем Пророка, сколько несправедливости претерпел, и даже семью спасти не смог. И мы до сих пор столько веков спустя во имя тебя терпим все эти муки.
Хотя она не верила в Али, все же дерзко укоряла его, пользуясь выражениями народных песен-тюркю. По толкованию алевитов, Али был вознесен на небеса, однако в некоторых старых тюркю сам Пророк, а иногда даже и Аллах ругали Али.
Однажды в школе Сехер прочитала ребятам стихотворение поэта XV века Кайгусуза Абдала, в котором говорилось о Всевышнем:
Бог – наивысшая сила, Бог – это ночь и день, Это бесплотное Имя, Ты – несравненный Бог!Как только дети услышали эти строки, замахали на нее руками: «Чур нас, чур!» и убежали жаловаться на нее руководству школы. Сехер не наказали, но объяснили, что это – тайная тюркю, что ее на протяжении веков передают от человека к человеку, и не надо ее читать где попало; а ребята долго злились на нее и, завидев ее, отворачивались. В семьях алевитских детей царила веротерпимость, но за пределами своих домов они сталкивались с нападками суннитов, у которых были совершенно другие понятия. Это приводило к ссорам и драмам.
Лежащая в купе бедная девочка происходила не из среды алевитов. Она повязывала голову платком, а рядом с мужчинами ощущала себя будто в чем-то виноватой. Кто знает, какая беда свалилась на голову этого ребенка?! В отдаленных анатолийских селах и деревнях миллионы девушек, пряча под покрывалами свою молодость, рано угасают и старятся. Мерьем была одной из них. И Сехер не могла что-либо изменить.
Интересно, знает ли эта девушка, что в ее имени – «Мерьем» заложен древний смысл? Есть строки, созданные тысячу лет тому назад, они приписываются поэтам, исповедующим суффизм, однако даже в конце ХХ века нельзя сказать точно, что это так. Эти строки гласят:
Знаем мы, что первыми людьми Были Адам и Праматерь Ева. И они, не будучи рожденными, Были частью таинства Всевышнего. Однажды ночью мы пришли, Став гостями Матери Мерьем, После этой ночи Мерьем понесла, Беспорочная она, зачав, Стала матерью Иисуса, А отец его – мы, ангелы небесные.Если эта девушка с покрытой головой такое услышит, то с ума сойдет и даже разговаривать с Сехер больше не будет!
Когда она вернулась в купе, Мерьем сквозь сон вдруг открыла глаза, посмотрела на нее изумленно и спросила:
– Ты когда-нибудь видела чудо? – и, не дожидаясь ответа, снова провалилась в сон.
В самом деле, очень странная девочка. Что значит – видеть чудо? Почему посреди сна она спросила об этом?
«Наверное, она очень нуждается в чуде», – подумала Сехер.
Через несколько часов, когда поезд встал на остановке, Джемаль очнулся. Зная, что путь неблизкий, он перестал обращать внимания на станции. Потянулся, оглянулся вокруг и понял, что Мерьем нет. Он подумал, что она вышла в коридор или в туалет. Открыв дверь купе, он выглянул, но девушки не увидел. Чиновник Экрем, заметив, что он ищет свою спутницу, сказал:
– Вышла, когда ты спал. И сумку взяла.
От этих слов у Джемаля кровь прилила к вискам. Сбежала, что ли, Мерьем? Как так получилось, куда она могла убежать?! У этой неграмотной девчонки денег нет, мира она не знает…
В волнении он вышел на перрон. Вокруг поезда суетились сходившие и заходящие, продавцы и проводники. Он везде искал Мерьем, однако не было ее, совсем не было! Как теперь, вернувшись домой, он покажется на глаза отцу, что скажет этому благословенному человеку? Что девчонку по дороге потерял?! Если бы она умерла, было бы намного лучше.
Раздался свисток, предупреждающий о том, что поезд отходит, локомотив начал медленно набирать ход. Больше оставаться на перроне было нельзя. В последнюю минуту Джемаль запрыгнул в вагон. Он был раздавлен, напуган и зол. Он смотрел в окно – в надежде, что, когда поезд будет проходить станцию, он увидит где-нибудь эту проклятую девчонку!
В этот момент к нему подошел Экрем и произнес:
– Не беспокойся, девочка в поезде.
Джемаль едва не обнял его от радости.
– Я провел маленькую разведку. Как и предполагал, эти алевиты, безбожные коммунисты, забрали твою родственницу в свой вагон. Должно быть, голову ломают, как бы заполучить такого героя, как ты, себе в товарищи.
– Где она? – прошипел Джемаль.
Чиновник отвел его в соседний вагон.
Когда огромная фигура Джемаля словно молния возникла в распахнутых дверях, у всех в купе захолонуло сердце.
Когда же он, своими руками, словно граблями, начал трясти девочку за маленькое плечо и кричать: «Что ты здесь делаешь?!», у сидящих напротив и вовсе перехватило дыхание. Разбуженная Мерьем, еще не придя в себя, испуганно смотрела на Джемаля. Сехер пыталась что-то объяснить, но Джемаль уже занес руку, чтобы дать Мерьем яростную пощечину. Если бы ударил, точно разбил бы лицо девушке. Однако его ладонь так и осталась висеть в воздухе – пожилой мужчина схватил его за руку. Джемаль нашел силы сдержаться и с ужасным выражением взглянул в лицо этому безумцу. Может, этот смельчак ему еще и в лицо плюнет?!
Но пожилой мужчина не сделал этого, его глаза были наполнены жалостью к девочке и словно умоляли о чем-то. Джемаль с силой толкнул старика на лавку.
Сехер, опомнившись, сказала:
– Видишь, она больна. Я нашла ее в тамбуре, едва живую. У нее высокая температура! Она была не в себе, я привела ее сюда и уложила, дала ей лекарство.
Обеспокоенная мать Сехер подтвердила слова дочери.
– С того времени она все время спит, бедняжка…
Посмотрев на покрасневшие глаза, бледное лицо, распухший нос Мерьем, Джемаль понял, что все сказанное – правда.
– Ступай за мной вперед, – приказал он ей.
Когда они вернулись в свое купе, Экрем говорил без остановки, объясняя, что, мол, «враги турецкой нации, разрушив огромную империю, сейчас ведут войну, чтобы прибрать к своим рукам оставшиеся земли». По его мнению, коммунисты ничего не значат, их всех подавили, а оставшиеся покончили самоубийством в тюрьмах. Основная проблема турецкой нации сейчас – курды и затесавшиеся среди турок исламисты. Надо открыть глаза народу на две эти составляющие! Потому что обе они исторически представляют опасность для турецкого государства…
– Тот, кто не ощущает себя турком, пусть убирается прочь из этого благословенного рая, нашей родины, – подытожил он.
Джемаль не слушал его, его одолевали черные думы о том, как же избавиться от Мерьем. Посреди белого дня, в поезде, среди множества людей – что можно сделать?!
Местность за окном изменилась, горы и вершины остались позади, на все четыре стороны раскинулось ровное поле, куда глаз ни кинь – степь да степь. Вокруг даже деревца не видно. Если выбросить девчонку из поезда, за километры будет видно. Что ж, хочешь не хочешь, надо ехать до Стамбула.
По вагону прошел кондуктор, объявляя, что поезд подходит к Анкаре. Экрем с женой начали собираться, краснорожий мужик тряс жену, которая с самой посадки в поезд была не поймешь – живая или мертвая. Женщина встрепенулась.
Поменяли стрелки, поезд вошел на станцию. Мерьем из-под полуприкрытых век рассматривала Анкарский вокзал. Наряды людей изменились, они стали еще более элегантными. Были, конечно, и деревенские, однако не очень много и не в шальварах, никто не укутывал голову платком. Волосы у женщин оставались открытыми, встречались среди них и белокурые.
В купе вошла Сехер и протянула Мерьем маленький полиэтиленовый пакет:
– Это твои лекарства! Прощай, мы здесь выходим.
Она поцеловала Мерьем и вышла, не взглянув на Джемаля. Следом за ней направились и Экрем с женой, деревенский мужик потащил свою супругу, опирающуюся на его плечо, и спустил ее из вагона на перрон. Мерьем увидела, что на станции их ожидают. Должно быть, это был брат. Рядом с ним стояла жена с двумя детьми. Придерживая больную за бока, они усадили ее в коляску и потащили, как мешок, весело переговариваясь.
Экрема на перроне встречали два человека. Он что-то сказал им и показал на удаляющуюся семью Сехер. Один из мужчин двинулся вслед за ними.
Мерьем увидела Джемаля, который сошел на перрон и закурил сигарету. В купе она осталась одна. Открыв пластиковый пакет, просмотрела лекарства, которые принесла ей Сехер. Здесь были таблетки, которые надо растворять в воде, несколько штук аспирина, а еще коробочка с надписью «Orkid» – в ней были прокладки, которые тогда в коридоре ей показала Сехер. Маленькие штучки напомнили ей об удивительном чуде – она вообще не чувствовала никакой влажности между ног. Она почти забыла об этом.
Новые попутчики
В Анкаре поезд снова заполнился, в кресло напротив вместе с молодыми мамой и папой сел мальчик лет десяти. А на месте, которое покинул Экрем, устроился белокурый мужчина с молодой женщиной. Как это заведено в поездах, все исподтишка приглядывались друг к другу, стараясь понять, с какими людьми им придется провести вместе столько часов.
Головная боль и чувство недомогания у Мерьем пошли на убыль, страх от того, что юбка сзади испачкана кровью, тоже поутих. Она испытывала огромное чувство благодарности к Сехер: как хорошо, что, выйдя в коридор, она встретилась с этой прекрасной девушкой! Ведь та даже в Аллаха не верит, произносит всякие богохульства как гяур, а на самом деле хороший человек. Как такое возможно?! С одной стороны, выступает против религии, а с другой – настолько сердобольная! Как все запутано…
У нее снова потекло из носа и заболело горло, и она пыталась смягчить эту боль айраном, который Джемаль купил на станции вместе с бубликами-семитами. И все-таки ей было уже не так плохо, как раньше, поэтому с большим любопытством принялась изучать сидящую напротив женщину.
Она была хрупкая, ноги обтянуты узкими брюками, на талии – широкий ремень с двумя буквами. Мерьем во все глаза пялилась на эти две огромные мерцающие металлическим блеском буквы – D и G. Еще на женщине была тесная тонкая блузка – такая узкая, что казалось, ее груди вот-вот выскочат наружу. На полных ногах – бело-голубые ботинки. На красивой шее повязано что-то разноцветное, похожее на платок. Волосы ее были странного оттенка – от светлого до темно-желтого. Пока Мерьем ее рассматривала, женщина вытащила из своей сумки большущий, напечатанный на глянцевой бумаге журнал и с головой погрузилась в чтение. Обложка журнала была направлена прямо на Мерьем, а на ней красовалась абсолютно голая девица. Длинные ноги, зад, грудь – все было открыто! Слегка наклонившись вперед, скривив накрашенные красной помадой губы, она смотрела на Мерьем. У той все внутри прямо обмерло. Женщине было плевать, что каждый, сидящий рядом, может увидеть это!
Рядом с женщиной расположился ее муж, мужчина с коротко стриженными светлыми волосами, в очках и в голубом свитере, он читал газету. Его будто и не волновало вовсе, какой журнал смотрит его жена.
Ребенок мурлыкал какие-то песенки-считалки и вертел в руках черную коробочку. Когда он что-то там нажимал, из коробочки шел звук. На ногах у него были такие же ботинки, как у его мамы, шнурок на одном из них развязался. Женщина и светловолосый мужчина говорили между собой на совершенно непонятном языке. Мерьем знала по-турецки и немножко по-курдски, однако понятия не имела о языке, на котором говорили эти люди.
Краем глаза она зыркнула на Джемаля и увидела, что он буквально впился взглядом в женщину с голой грудью на обложке. Он смотрел как завороженный, на мгновение закатив глаза к потолку, снова и снова пожирал очами картинку. Мерьем почувствовала, что он очень взволнован, и ей понравилось это. С самого начала поездки он напустил на себя такой отстраненный и суровый вид, а сейчас впервые встряхнулся и словно выбрался наружу из своей скорлупы. Того и гляди, руки задрожат от возбуждения!
Поезд теперь шел не по безлюдным степям, за окном мелькали дома, тянулись длинные корпуса заводов. Каждый клочок земли был заселен. Когда проходил встречный поезд, он, прежде чем поравняться с ними, взрывался гудком, звук перекрестного сильного ветра наполнял округу ужасным шумом.
Пока Мерьем осматривалась, сидящий напротив ребенок изучал ее саму. Мальчик разглядывал ее глаза, юбку, шерстяные носки и грязные сандалии.
Потом протянул ей игрушку и спросил:
– Ты умеешь играть?
Мерьем смутилась и отрицательно покачала головой.
– Почему не умеешь?
– Меня такому не учили, – призналась Мерьем.
Ребенок не умолкал:
– У нас есть машина, но моя мама попала в аварию, вот… из-за того, что она теперь боится, мы и едем к бабушке в Стамбул на поезде. Самолетом мама тоже боится летать.
Покачивая головой, Мерьем слушала рассказ ребенка.
Мальчик снова начал крутить в руках игрушку, напевая песенку. Потом показал на развязанный шнурок и приказал Мерьем:
– Завяжи!
Мерьем немедленно протянула руку и взялась за шнурки, но в этот момент мама ребенка оторвалась от журнала:
– Сынок, как тебе не стыдно! С тетей так нельзя разговаривать! И ты уже большой, сам завяжи!
Ребенок удивился:
– Что? Разве она не служанка?
– Нет!
– А выглядит совсем как тетя Фатьма…
Женщина с улыбкой посмотрела на Мерьем и сказала:
– Извините его, он еще совсем ребенок.
Мерьем произнесла:
– Пускай, ничего страшного. Я завяжу.
Однако у нее ничего не получилось, она никак не могла справиться с этими нарядными ботинками. И ребенок, пыхтя, сам завязал шнурки.
Мерьем в жизни своей не слышала, чтобы к ней обращались не на «ты», а на «вы». Разве это не было чудом?! Белокурая женщина, сидя рядом с мужчинами, разглядывает картинки с голыми девицами, девушка скандалит с мужчинами, а теперь вот еще и ее саму величают на «вы». Это ли не чудеса?!
В этот момент молодая женщина, сидящая рядом с Джемалем, сказала: «В добрый путь!» Она не обращалась ни к кому конкретно, однако мужчина напротив тоже промолвил: «В добрый путь!» Все одобрительно покачали головой.
– Этот господин, который сидит рядом со мной, американский журналист, – вдруг сказала молодая женщина. – Он приехал, чтобы написать репортаж о Турции. Он со всеми хотел бы поговорить. А я буду ему переводить. Меня зовут Лейла, я гид.
Достав из сумки визитные карточки, она протянула их мужу женщины в бело-голубых ботинках и Джемалю.
– Имя господина – Питер Кэйп. Он хочет задать вам несколько вопросов. Если вы, конечно, согласны, – с улыбкой добавила она.
Сидящий напротив нее коротко стриженный мужчина кивнул:
– Конечно! С удовольствием.
Он обратился к американцу на языке, которого Мерьем не понимала. Было заметно, что и мужчине говорить на чужом наречии нелегко.
Но ему так сильно хотелось пообщаться с американским журналистом!
– Мы побывали во многих местах, – сказала Лейла. – На востоке и на западе, на Черном и Средиземном морях. Однажды пришлось ехать на грузовике, а в деревнях передвигались на ишаке. Сейчас вот путешествуем поездом. Цель господина Кэйпа – пообщаться со всеми.
Мужчина снова произнес:
– Конечно! Пожалуйста!
Белокурый американец заглянул в блокнот, который держал в руках, и что-то сказал. Он не оборачивался к Лейле, а спрашивал, глядя мужчине прямо в глаза. А она переводила:
– Он спрашивает, кем вы работаете.
– Я врач, уролог, а моя жена работает в банке.
– Вы живете в Анкаре? – спросил Кэйп.
– Да.
– Некоторые из людей, с которыми мы беседовали, говорят, что противостояние правых и левых сил в Турции ушло в прошлое. Сейчас Турция является трехполюсной. С одной стороны – турецкие националисты, с другой – курдские националисты, а третий полюс – это политический ислам. Вы поддерживаете это мнение?
От такого вопроса доктор немного опешил, даже не смог скрыть своей растерянности. Затем, поколебавшись, ответил:
– Нет! Я совершенно не согласен. Я никогда не соглашусь с тем, что Турецкая Республика может быть разделена.
Он поднял брови, выставил вперед подбородок и встрепенулся так, словно говорил с иностранным агентом, продавая секреты которому он совершил бы предательство в отношении своей родины.
Лейла, видимо, уже повидала всяких ситуаций, она бойко объяснила Питеру, что и как. А затем сказала:
– Вы неправильно поняли. Он говорит не о разделе Турции, а о том, что происходит поляризация турецкого общества. О трехполярной Турции.
Доктор задумался. Воспользовавшись возможностью, в разговор вступила его жена:
– Такого разделения нет, – сказала она. – С одной стороны, есть современная и светская республика Ататюрка. А с другой – пытающиеся ее уничтожить курды и исламисты.
Лейла перевела ее слова американцу.
На этот раз Питер обратился к женщине:
– Вас пугает эта ситуация?
– Да, немного, – ответила женщина. – Потому что нам уже хорошо известно, что могут сделать курды, чего может стоить Турции их восстание.
Немного помолчав, она добавила многозначительно:
– Естественно, и западные государства этому способствуют.
Питер Кэйп спросил:
– Что же в этом страшного?
– Исламисты хотят превратить нас в Иран, чтобы современные турецкие женщины, как тараканы, были закутаны с головы до ног. Будь такая возможность, они бы на всех нас надели паранджу!
– А что вы думаете об акциях ношения платков-тюрбанов в университетах?
– Все это идет из одного центра. Они не просто водрузили на голову тюрбан, это политический символ, в Иране все тоже с этого начиналось. Сначала университеты заполняются тысячами студенток в тюрбанах, потом следует государственный переворот, после этого мы захотим перейти на арабскую графику, перенести выходной с воскресенья на пятницу, а там недалеко и до шариатского государства! Это что-то вроде «Талибана»!
– Что же, по-вашему, студенты не могут одеваться так, как хотят?
– Если таким образом они исполняют часть вражеского призыва, то нет! Наши бабушки всегда носили платки, однако это – совсем другое! Это не нормальный платок, а политический символ, униформа.
– То есть? – спросил Питер.
Женщина подняла руки к голове, пытаясь объяснить разницу между нормальным платком и тюрбаном, как вдруг наткнулась взором на Мерьем.
– А, – сказала она. – Вот, пожалуйста. Голова этой девушки тоже покрыта, однако не так, как у них. Нормальные анатолийские женщины носят вот такие платки, а не те, уродские.
«Ой-ой, – воскликнула Мерьем про себя. – Вон чем обернулся этот пылкий разговор – перешел на мою одежду!» Все в купе уставились на ее грязный платок. Даже гяур на нее смотрел.
– Откуда вы? – спросила ее Лейла.
– Из Сулуджа, что в окрестностях озера Ван.
Лейла перевела это Питеру.
Тот с жадностью принялся ее расспрашивать:
– Ты турчанка или из курдов?
Мерьем с беспокойством посмотрела на Джемаля, чтобы понять, может ли она отвечать, и, не заметив каких-либо признаков его гнева, прошептала:
– Слава Всевышнему, я мусульманка!
Лейла объяснила:
– Он не то спрашивает. Он спросил: ты из турок или из курдов.
В разговор вступил Джемаль:
– У нас там все вместе живут, турки и курды. Когда девушку замуж берут, семьи смешиваются. Однако турок больше.
С первого взгляда Лейла поняла, что он военный, и тут же довела это до Питера.
Питер проявил большой интерес к службе Джемаля в спецназе, к столкновениям в горах и обрушил на него шквал вопросов: в каких переделках он побывал? Правда ли, что разрушаются курдские деревни и проводятся зачистки? Творятся ли жестокости в отношении находящегося в окружении населения? Погибали ли его друзья? Много ли повстанцев он убил? Как проходят боестолкновения? Уходят ли курды на север Ирака? Был ли он ранен?
Джемаль напрягся. Он чувствовал, что если что-то расскажет, то вроде как выдаст некие военные тайны иностранцу и предаст погибших товарищей. К тому же существовали правила о неразглашении информации о военных базах, и такого типа разговоров следовало избегать.
Да и как можно рассказать кому-то о том, как они служили в горах? О свистящих над головой пулях, о страхе взлететь на воздух, наступив на мину, о том, как три дня и три ночи, насквозь промокшие, они сидели в засаде под проливным дождем?!
Он ответил уклончиво:
– Не знаю, я был в составе обслуживающего персонала.
Питер понял, что из Джемаля слова не вытащишь.
Тут снова заговорил врач:
– Скажи господину журналисту, что в этой стране нет отдельно турок или курдов. Пусть он не расчесывает эту тему! Все граждане Турецкой Республики – турки. Посмотрите, в Америке тоже есть разные люди – богатые и бедные, черные и белые, разных национальностей, но все они американцы, не так ли? Мы тоже все турки, и никто не смеет делить наше государство.
Питер Кэйп отнесся к этим словам с уважением.
– Простите, я не хотел обидеть вас, – проговорил он. – В Америке каждый может говорить на том языке, на котором хочет, как и носить любую одежду. Здесь же образование на курдском и курдское телевидение находятся под запретом, в школах носить платки тоже запрещено. Я спрашиваю только об этом.
Больше месяца Питер путешествовал по этой странной, изумительной, печальной и полной противоречий стране. Он думал о том, что никогда раньше не видел, чтобы в народе уживались бы такие разные обычаи, такой разный образ жизни. Даже об этих людях, сидящих в одном купе, трудно сказать, что они – жители одной страны! На юго-востоке уже пятнадцать лет продолжается война между турецкой армией и Рабочей партией Курдистана, погибают десятки тысяч людей, однако никто не препятствует туркам и курдам жить вместе, выдавать дочек замуж за представителей другой народности, вместе работать и веселиться. Удивительные дела! Например, между алевитским и суннитским мазхабами в настоящее время нет вражды, но между ними нет и общих браков. Любая попытка алевита жениться на суннитке и наоборот может закончиться убийством. А вот турки и курды убивают друг друга только в горах! После многомиллионной иммиграции большинство курдов теперь оседает не в горах, а в городах – Стамбуле, Измире, Анкаре, Мерсине, Анталье. И никаких курдско-турецких столкновений!
Питеру Кэйпу было непонятно еще и то, почему в этой мусульманской стране повсеместно ненавидят арабов и персов. Возможно, турки считают себя европейцами и западными людьми, но одновременно они подражают Западу, преклоняются перед ним, хотя питают к нему глубочайшее недоверие.
Если он напишет правду, в Америке никто не поверит: в самом деле, ни в какой другой стране он не видел столько наготы! С одной стороны, полиция не пропускает на занятия студенток университетов, которые хотят носить платок, и даже разгоняет их водометами. А с другой – на экранах и в газетах беспрерывно демонстрируется секс, это происходит даже в священный месяц Рамадан! Понять эту страну очень трудно…
А сидящий напротив доктор, как и всякий националист, буквально помешан на расчленении и раздроблении страны. Если турку что-то скажут про армянина или курда, он тут же начнет психовать и вещать об Ататюрке. Портреты и памятники этого голубоглазого основателя государства – везде. Нет ни одной площади или официального учреждения, где его бы не было.
В свой первый приезд Питер посетил один городок на северо-востоке. Там перед зданием правительства он увидел нечто странное. Мороз стоял – минус тридцать, от холода стыло дыхание. А на площади стояла и чего-то ждала группа людей, одетых в странные цветные кафтаны; в руках они держали музыкальные инструменты, а на их головах красовались османские тюрбаны. Он спросил своего гида Лейлу, что это, и она ответила:
– Группа «Мехтер». Военный оркестр османской армии. Сейчас каждая префектура создает у себя такой.
– Ага, понятно. А чего они ждут, замерзая на холоде?
– От этого города избранный депутат назначен министром, он уже вступил в должность. Они ждут его приезда.
– Когда же приедет этот человек?
– Неизвестно.
Устроившись поудобнее в хорошо натопленном автомобиле, Питер Кэйп решил досмотреть это «кино». Ждать пришлось довольно долго. Ему было жаль музыкантов «Мехтер», которые окоченели от холода, их руки потеряли чувствительность, усы покрылись льдом. Он был расстроен, однако все эти уже начавшие синеть мужчины стояли, даже не пытаясь двигаться. Лейла поведала американцу, что этот городок известен своими морозами: османский путешественник XVII века Эвлия Челеби даже описывал их в своих книгах. Эвлия Челеби увидел на одной узкой улице, как кошка хотела перепрыгнуть с крыши на крышу, однако было настолько холодно, что бедное животное замерзло прямо на лету, да так и повисло в воздухе.
– Что замерзла – это понятно, но почему на землю не упала? – удивился Питер Кэйп.
Лейла пожала плечами: в рассказах Челеби именно так. От застывшей на морозе кошки они вернулись к ледяным изваяниям «Мехтер». Музыканты ждали уже больше часа. Наконец показался кортеж – черный «мерседес» в сопровождении полицейских машин.
Лейла показала Питеру министра, такого же низкорослого, как и все сельские жители в этой местности. Сопровождавшие выражали ему большую почтительность. Он вошел в здание, даже не заметив группы «Мехтер», не обратив на них внимания. В последнее мгновение эти несчастные собрались с духом и, встрепенувшись, попытались наиграть марш, но кроме одного-двух слабых звуков трубы ничего не получилось: инструменты и люди промерзли насквозь. Барабанщик попытался пару раз ударить по обтянутому кожей барабану. Вот и вся музыка. Этого не услышали ни господин министр, ни те, кто был с ним, однако долг свой музыканты выполнили – министра встретили. Питер чувствовал себя так, словно совершил путешествие на машине времени. Он спросил Лейлу, кем министр был до избрания. Оказалось, тот – бывший городской лавочник, занимался оптовой торговлей продуктами, затем вошел в состав консервативной партии и во время партийных выборов неожиданно победил: сначала стал депутатом, а потом министром.
– Надо же, как повезло человеку! – бросил Питер Кэйп.
– У нас многие так, – отрезала Лейла.
Сказала так напористо, будто это касалось ее лично.
– Люди, ничего не смыслящие в отрасли, куда их избирают, часто – провинциальные торговцы, находящиеся под следствием и желающие получить юридическую неприкосновенность, вступают в партию, а потом их ждут часами на морозе при минус тридцати градусах!..
Министр решил вложить в город инвестиции, привлек бюджетное финансирование, он прибыл, чтобы заложить спортивный центр имени себя самого и парк имени своего покойного отца.
Много странных вещей увидел Питер Кэйп в этой стране: унылые, неосвещенные, темные анатолийские города; кафешки, битком набитые курящими мужчинами – усатыми, с впалыми щеками; улицы, полные нищих; людей, вешающихся на деревьях от голода; молодежь, кончающую жизнь самоубийством, прыгая с Босфорского моста; уличных грабителей, ломающих руки женщинам, чтобы сорвать браслеты; маршрутки-долмуши, микроавтобусы, джипы «чероки» и «линкольны», лимузины, «ламборджини», «феррари», пятизвездные отели, увеселительные вечеринки на Босфоре в стиле «Тысячи и одной ночи», запускаемые в воздух фейерверки; разгуливающие по улицам люди в афганской одежде и голые манекены; металлисты в барах на Бей-оглу, сатанисты, рок-музыканты, молодые девушки с пирсингом во всех местах, с зелеными и красными волосами – кратко эту страну описать было невозможно, так же, как и понять ее.
Неожиданно Лейла поднялась на ноги и крошечным фотоаппаратом сняла сначала Джемаля с Мерьем, а потом сидящую напротив семью.
Джемаль вскипел, он чувствовал, что вот-вот задохнется от бешенства.
Он резко вышел в коридор, зажег сигарету. От вида деревьев, проносящихся на большой скорости перед окном, его замутило. На сердце было паршиво. Вопросы иностранца вернули его в недавнее прошлое, нарушили покой. Фотографию с Мерьем нужно бы уничтожить. Разве может человек сниматься с девушкой, которую собирается убить?
Еще и этот журналист! Может, фотография будет опубликована в американских газетах, оттуда ее перепечатают турецкие. Может, выхватить у Лейлы фотоаппарат и выбросить в окно? Но если из-за этого его арестует полиция, ситуация только ухудшится. Протоколы, объяснения, и т. д., и т. п.
Однако скоро он понял, что есть кое-что, намного сильнее действующее на его нервы. Он никак не мог выбросить из головы голую женщину, которую увидел на обложке журнала. Никогда еще не прикасавшаяся к женскому телу плоть горела огнем. Опасаясь гнева отца, он не то что к женщинам, даже к ишакам не прикасался. Даже – боже упаси! – никогда не трогал своего органа. Его друзья, переходя из детства в пубертатный период, открывали для себя эту неизведанную сладость, до умопомрачения ублажая себя с утра до вечера руками. А Джемаля одолевали адские мучения, сопровождаемые наставлениями его благословенного отца: «Один из величайших грехов – онанизм».
До самого сегодняшнего дня рука несчастного юноши даже не коснулась руки Эминэ. Поэтому самой большой мечтой его наполненного несбыточными желаниями тела была возможность лечь в постель с женщиной. «Вот закончится армия, и все наладится», – думал он. И нате вам – теперь между ним и Эминэ встала эта сопливая девчонка. А он увидел такой же журнал, какие были у его товарищей в армии, и кровь ударила в виски! Известно же, что шайтан через женщину пытается соблазнить мужчину.
«Что же мне делать? – думал он неотступно. – Как мне убить эту мелкую дрянь?!»
Из-за того, что ему следовало выполнить приказ отца, он держался от Мерьем подальше и даже мысленно избегал называть ее по имени, изо всех сил стараясь не вспоминать ни мгновения из прежних детских дней. Она теперь была для него чужой. Согрешив, она стала порочной, падшей, грязной.
Новые боги и богини
Профессор подумал: «Вот бы Джозеф Кэмпбелл[25] был жив! Как было бы здорово, если бы он был жив и сидел бы здесь, рядом, и согласился выпить предложенный мною бокал белого вина, не обращая внимания на капли воды, падающие на его седую голову, поговорил бы со мной о мифологии… Этому ученому просто необходимо узнать о новой мифологии нашего общества!»
Может быть, он и сам приехал сюда в поисках мифа. Он, как и Кэмпбелл, сейчас очень далеко от всего мира; и если, например, посмотреть с Луны, попытаться различить внизу какие-то материки и океаны, то откроется море. Море! Море, уносящее нас и в прошлые, и в новые мифы…
Посреди этой жары, неги и пахнущего смолистыми кедрами моря ему нравилось думать о Бостоне, заставляющем человека трепетать. О белом, холодном, ухоженном, пропахшем европейской аристократией и просвещением городе.
В свои первые гарвардские годы он изучил в Кембридже каждый уголок, каждый сад и памятник, каждое здание и камень на мостовой. Он купил в университетском магазине кучу вещей с символикой Гарварда – кубок, футболки, свитера, фуляровые платки и кепку. Испытывающая материальные трудности его семья в Измире теперь испытывала еще и чувство гордости за одетого столь круто сына, которому посчастливилось учиться в самом Кембридже. В свободное время он ходил к факультетскому клубу, смотрел на старинное, дышащее покоем здание, его очень волновала протекающая там жизнь. Это здание посреди ухоженного сада было как драгоценное украшение. Верхний этаж его отапливался камином, внутри было множество салонов с креслами из красного дерева, обтянутыми набивными тканями. В салонах было разлито ощущение потрясающего покоя. В глубокой почтительной тишине преподаватели читали газеты и не было слышно ничего, кроме уютного треска поленьев в камине. Разве что иногда зашелестит переворачиваемая страница, только и всего…
Сидя в аудитории за изогнутым рядом столов с прикрученными сиденьями, он думал о том, что судьба подарила ему самое большое счастье в мире. Спустя годы, будучи в Кембридже гостем, он зашел в классы – и ему бросилось в глаза, что сиденья расположены очень близко к партам. Он удивился – как же студенты могли сидеть? Однако тут же вспомнил, насколько он располнел за эти годы, и посмеялся сам над собой. Конечно, в студенчестве они были худые, как щепки.
В те годы он думал, что вся его жизнь расписана наперед. Закончив университет, он останется здесь, а после защиты магистерской и докторской диссертаций станет одним из гарвардских преподавателей и будет проводить время в огромной библиотеке факультетского клуба.
Эти мечты продолжались до тех пор, пока в Бостон не приехала Айсель. Девушка, вторгшаяся в его жизнь, была настолько богата, роскошна, расточительна, что никогда ранее не видевший подобного Ирфан, живший сначала в бедной семье, потом вынужденный перебиваться на стипендию, был просто ослеплен. Одевалась она в самых шикарных европейских бутиках, когда ехала за покупками, нанимала «линкольн» с шофером; она заказывала места в самых лучших бостонских ресторанах, официантам давала чаевые сверх меры, отчего везде ей выказывалось огромное почтение. Ирфана изумляло преклонение американцев перед богатыми турками. После того, как он женился на Айсель, она открыла ему тайну этого преклонения. В Америке имелись фирмы и отдельные лица, которые помогали своим продвижению в богатых кругах американского общества. С этой целью осуществлялись крупные пожервования в фонды, которые возглавляли известные люди. Затем турецких меценатов приглашали на пафосные мероприятия, где они получали возможность познакомиться с широким кругом важных людей. Для самых дорогих ресторанов и клубов имена местных богачей тоже служили рекомендациями. Спустя несколько лет Ирфан и сам пожертвовал двадцать тысяч долларов фонду Иваны Трамп, а иначе разве перед ним раскрылись бы двери ресторанов, вроде «Азия-де-Куба»?! Турецкие нувориши встречались на Бонд-стрит или на Аквавита в таких ресторанах, как «Нобу» и «Мо Ма». В то время авторитет Турции как государства был близок к нулю, но турецкие богачи находились на пике своего могущества. Однажды по приглашению друзей они с Айсель посетили частный клуб на площади Пиккадилли. Увиденное там до глубины души поразило Ирфана. Для того, чтобы войти в это роскошное здание, вы должны были предъявить приглашение от какого-либо члена клуба. К тому же следовало отметить ваш паспорт на стойке регистрации. Конечно же, мужчины должны были быть одеты в черные дорогие костюмы, а женщины – в роскошные платья.
Одна из распорядительниц сопровождала гостей наверх по устланной красной ковровой дорожкой мраморной лестнице под искрящимся светом хрустальных люстр. На всем протяжении лестницы посетители лицезрели ниши, в которых стояли редчайшие подлинные произведения искусства, а стены украшали оригинальные картины известных художников. В конце концов вы попадали в салон для приема пищи – просторный и в высшей степени богатый, но настолько безвкусно обставленный, что трудно представить! От сусальной позолоты все вокруг словно горело огнем. Известнейшие повара готовили гостям лучшие блюда тайской, итальянской и ливанской кухни, а официанты предлагали отведать того и другого так, будто вы – их самый редкий гость. Все вокруг заполнено арабами и турками, одетыми в смокинги от Армани, и, разумеется, в галстуках от Версачи. Женщины блистали туалетами от Шанель и ювелирными украшениями, которым не было цены. По предположению Ирфана, стоимость членства в этом клубе была намного выше годовой зарплаты английского премьер-министра, и уж в любом случае – один ужин здесь стоил дороже, чем трехмесячное жалованье продавца в книжном магазине на Слоун-сквер. Роскошь сбила Ирфана с толку, и вместо того, чтобы стать педагогом в Гарварде, он с головой погрузился в эпатажную жизнь богачей. Поначалу он стеснялся этой чрезвычайно помпезной, но внутренне бессодержательной показушности. Например, каждый год в Стамбул прибывал служащий ортопедической фирмы John Lobb из Лондона и, сняв мерки с ног своих клиентов, возвращался назад.
А затем по этой мерке изготовлялась специализированная обувь. Ирфан не испытывал в ней абсолютно никакой нужды, но это являлось обязательным аспектом жизни избранных. Хорошо, что он встретился с Айсель в год завершения университета, уберегшись таким образом от того, чтобы бросить учебу на полпути, и смог продолжить академическую карьеру в Стамбульском университете.
Что поделаешь, жизнь порою сама расставляет все по своим местам, кардинальным образом меняя человеческие планы. В молодости он согласен был вести такую же скромную жизнь, как его герой Джозеф Кэмпбелл, а вместо этого ему довелось стать щеголем в одной малоразвитой стране. И, конечно же, он не создал ничего ценного, потому что внутри него самого не осталось никаких ценных идей или чувств…
Он чувствовал: для того, чтобы продолжать жить, нужно создать новый миф.
Выйдя в море, он сумел гораздо лучше понять свои стамбульские страхи и «кризисы». Причиной того, что он вдруг захотел изменить свою жизнь, был не только страх смерти. Главным было то, что он не производил ничего нового, полезного людям, ценного. Он чувствовал себя как спящий Эндимион, который волею судеб сам должен был избрать себе судьбу. Он испытал страх, что его жизнь просвистит мимо, не оставив на душе ни малейшей зарубки.
Чезаре Павезе тоже рассуждал об Эндимионе, а потом совершил самоубийство: «Я спал тяжелым сном рядом с женщиной, давшей мне вино, но теперь эти вещи на меня не действуют. Лежа в постели, я начал прислушиваться и уже готов вскочить, а мой взгляд был, словно взгляд человека, уставившегося в темноту. Мне кажется, что и жил я таким же образом».
Этот чужестранец как бы сказал Ирфану: «Каждый человек имеет внутри себя своего собственного спящего Эндимиона. И твой сон есть бесконечное забытье, в котором нет ни звуков, ни криков, ни земли, ни неба, ни времени. Ты ужасно одинок».
Написавший это человек убил себя, что тут поделать?! Неужели Павезе и Кэмпбеллу, подобно турецким богачам, надо было провести жизнь в клубе святого Джеймса и, сидя в этой позолоченной шкатулке, поедать королевских креветок, запивая их дорогим вином «Петрюс»? Или, жертвуя фонду Иваны Трамп по двадцать тысяч долларов за раз, ожидать своей очереди перед дорогими ресторанами Нью-Йорка?!
Или все-таки правильным для них было бы найти девушку из семьи трех поколений судовладельцев и жениться на ней?
А может, лучше ужасное одиночество или самоубийство?..
С того момента, как он вышел в море (за исключением ночей, когда на него накатывали приступы), Айсель ни на миг не выходила у него из головы. Он любил ее, очень любил, и, хотя и не желал ее расстраивать, принес много боли…
Однако вдали от нее внутренне он стал гораздо счастливее. Айсель мешала ему. Мелочи, о которых, наверное, не стоило и думать, повторяясь ежедневно, превращались в большую проблему. Например, она приходила туда, где сидел он, чтобы смотреть телевизор, словно в огромной гостиной не было другого места, и усаживалась рядом, облокачиваясь на него, и это бесило Ирфана. Потому что от ее жестких светлых волос шел запах химической краски, они касались его щеки, и его это дико нервировало. Но он ведь не мог сказать Айсель: «Убери свои волосы, у меня от них лицо чешется».
Ничего не поделаешь. Айсель наваливалась на него и сидела так часами, а Ирфан вынужден был сидеть в одной и той же позе, отчего у него затекали ноги, но оттолкнуть Айсель было бы грубо. Он мог встать лишь под предлогом, что ему надо в туалет или взять что-нибудь на кухне. Но это тоже было нелегко, потому что каждый раз Айсель спрашивала его, куда он идет, и, если он говорил: «Возьму пива», она тут же заявляла: «Дорогой, скажи обслуге. Зачем ты себя утруждаешь?!»
Но он и подвигаться хотел… да и не мог так легко, как это делала Айсель, отдавать приказы слугам. Ему это было не по душе, сердце сжималось от стыда, что взрослые люди, закинув ноги на журнальный столик, могут кричать с нижнего этажа на верхний: «Принеси мне пива!» А вот Айсель спокойно отдавала приказы и орала на обслугу, и поэтому они больше считались с нею, чем с ее мужем.
У Айсель был совсем другой характер, в компании она постоянно перебивала его, не давая закончить фразу, пересказывала от него же услышанные раньше байки, истории, анекдоты. От такого поведения жены можно было взорваться, однако Ирфан себя сдерживал и говорил ей:
– Сама расскажи, дорогая, ты гораздо лучше это делаешь.
Она могла вдруг, ни с того ни с сего, взять и бесцеременно и неуместно поправлять мужа. Например, если Ирфан говорил: «Остановившись перед овощной лавкой, они купили килограмм яблок», жена немедленно встревала: «Нет, два килограмма, потому что еще был килограмм апельсинов».
Если он начинал рассказывать историю: «Когда мы в мае поехали к Караипам…», она немедленно перебивала: «Бог с тобой, дорогой, мы были там в последних числах мая, а когда наша поездка завершилась, уже наступил июнь».
И он не мог прикрикнуть, обернувшись: «Послушай, женщина, какое отношение это имеет к моему рассказу?!», хотя просто кипел от злости, а маскировал свое бешенство фальшивой улыбкой.
Теперь по вечерам он спокойно лежал в каюте или на палубе, и, слава богу, рядом с ним не было Айсель, волосы которой лезли бы к нему в рот и нос, а закинутые на него ноги не давали бы пошевелиться.
Думая об Айсель, он начинал твердить: «Я очень ее люблю!», однако если бы подумал еще немного, то понял, насколько сильно ее ненавидит.
Он взял с собой несколько книг, среди которых были «Маска Бога» Джозефа Кэмпбелла и «Власть мифа» Билла Моерса[26], составленная из их интервью с Кэмпбеллом.
Этим утром он прочел там следующие строки:
«Мифы могут формировать ваш мир. Например, чтобы считаться совершеннолетним, нужно достичь определенного возраста. Этот определенный возраст в среднем может быть правильным, но в частной жизни люди могут очень сильно отличаться друг от друга. Некоторые созревают рано и могут достичь совершеннолетия гораздо раньше. У вас должно быть свое внутреннее чувство относительно того уровня развития, на котором вы находитесь. Вам дана только одна жизнь, которую вы можете прожить».
В другом месте книги Кэмпбелл говорил: «Мы придаем большое значение тому, что происходит вокруг нас, и в то же время забываем о ценности нашего внутреннего мира – отсюда происходит надрыв (надлом) в нашей жизни».
Исходя из этих строк, совсем недавно прозревший Профессор, полное формирование которого еще не совсем завершилось, склонен был сделать вывод, что его стамбульское окружение, его прежняя среда, совсем не чувствует своей внутренней ценности. После того, как он разорвал с ними, он стал осознавать это еще более ясно. Всех их интересовали любовные похождения и постельные истории моделей, певцов и футболистов, публикуемые в глянцевых журналах и воскресных газетных приложениях. На телевидении тоже только и твердят, что об этой любви. Все СМИ пестрят голыми грудями, а люди только это и обсуждают. Возможно, в мифологии, о которой рассказывает Кэмпбелл, не хватает этого. Потому что – по мнению Профессора, не Кэмпбелла – люди, особенно жители Средиземноморья, на протяжении тысячелетий в божественной мифологии упрямо создавали одного за другим бесцветные и маловыразительные божества. И уже не осталось божеств, которые могли бы их развлекать, утешать или распускать сплетни. Прежние боги и богини, сидя на горе Олимп, подобно людям, любят, ревнуют, похищают девушек, воюют, наказывают, совершают насилия и проживают тысячи странных авантюр. Подобные приключения бытуют у разных народов, на разных языках, однако в монотеистических верованиях жизнь становится довольно скучной. Бог – един, и даже неизвестно, мужчина он или женщина, он не имеет формы. И, естественно, не вступает ни в какие авантюры. Поэтому люди, следуя старым привычкам, создают для себя новых богов и новых богинь. Ими могут быть и звезды кино, и футболисты, и модели, и политики, и матадоры, и теннисисты. Тысячи журналов публикуют статьи, готовятся сотни программ о том, чем занимаются эти новые боги и богини, кто с кем спит, что ест, где отдыхает. В общем, боги, с одной лишь разницей – с горы Олимпа они сошли на Олимпос Диско[27].
Новые боги и богини, за приключениями которых следят стамбульские богачи, часто происходят из бедняцкой среды. Бедным семьям, живущим в трущобах, которые опутали Стамбул, как спрут, может повезти, и у них родятся длинноногие, ростом в метр восемьдесят, утонченные дочери. Чуть они подрастут, их сбывают на телевидение.
Сначала на экране они выглядят немного запуганными, беспризорными и неухоженными, однако им подкачают губы, приделают силиконовые груди, изменят прическу и придадут товарный вид. Ирфан очень смеялся над тем, как некий газетчик классифицировал их, назвав «длинноногими, с пригородными губами (вместо природными), девушками». Где бы они ни появлялись, обязательно с их плеч соскальзывают бретельки платья и обнажается грудь. Журналисты с выражением большого изумления переспрашивают друг друга: «Ого, ребята, вы это видели?!» А потом хохочут, обнажая вставные в меру крупные и хорошо отполированные зубы. Мужские же божества обязательно должны быть коренастыми, смуглыми, с густыми усами, с кудрями до плеч и восточным акцентом. Вот и смотрят по вечерам под завывание ветра байки про них миллионы нищих мужчин и женщин в полуразваленных лачугах, у чадящих смрадом печей. Уповая на помощь виртуального мира, они вступают в игру, и рукоплещут, и надрывают животы, хохоча, как самые счастливые в мире люди. Профессор мог это понять, однако, считая себя «элитой», воротил нос, не разделяя люмпенских вкусов. Между социальными классами в Турции существовала слишком большая пропасть. Культурная фабрика развлечений работала на потребу низшим классам, рабочим, обслуге, шоферне и т. д. Все следили за богами и богинями в одной и той же желтой прессе, рассматривали их изображения, упивались телевизионными сериалами. В этой стране были богатые, однако не было элитного вкуса и его аккумулирования.
Думая об этом, Профессор эхом вернулся к тезису своей статьи, публикация которой породила много врагов. Турецкая буржуазия не может быть буржуазией в полном понимании этого слова, потому что деньги она заработать может, но не имеет аристократических примеров, способных научить их культуре жизни и привить утонченные вкусы. В европейских романах XIX века грубые буржуа, начавшие получать большие прибыли, подражая благородной знати, заводили дома пианино, увешивали стены салонов картинами, устраивали литературные вечера, приглашали на них известных поэтов и вели долгие заумные беседы. Они понимали, что их дети должны брать уроки игры на пианино, учить латынь, английский и знать мировую литературу.
Как жаль, что теперь, заработав капитал, деревенские мужики не становятся буржуа, а уподобляются люмпенам. Как в русской поговорке: «Поскреби каждого русского – найдешь татарина», поскреби каждого богатого турка – найдешь деревенщину. Профессор знал, что на протяжении шестисот лет существования Османской империи правительством не уделялось достаточного внимания идее создания аристократического класса, потому что доминировала одна династия. Имя ее основателя было Осман, это же имя стало наименованием государства. Если бы имя их турецких прадедов было Али, то в историю они вошли бы как империя Алидов. Чтобы не усиливать клановость, они не женились на турецких девушках, выбирая жен в Италии, России, Венгрии. Едва влияние какой-то семьи начинало усиливаться, как ее ликвидировали, лидеры таких семей приговаривались к смертной казни. По этому поводу даже была издана фетва Шейх-уль-Ислама, гласящая: «Кровь и имущество должны быть чистыми». То, что Османская империя не оставила в наследство класса аристократии, в период Турецкой Республики привело к появлению странной части общества – деклассированных элементов, называемых элитой Стамбула: с карманами, полными денег, однако с пустыми сердцами.
Их сыновья обучались в Америке, но, приехав на лето домой, они, словно каирские танцовщицы, изгибались и трясли животами на праздниках у друзей или в барах. В этих танцах царила женская атмосфера: наклоняясь, парни виляли бедрами, терлись друг о друга и, все в поту, целовались-обнимались.
Профессор ненавидел Стамбул.
Чудо-град
Мерьем и Джемаль вышли из поезда на железнодорожном вокзале Хайдер-паша и испытали те же чувства, которые тысячу лет назад охватывали викингов, крестоносцев, мегарцев и миллионы других людей, въезжающих в Стамбул: это было головокружительное ощущение! Где бы ни ступала их нога, нигде и никогда они не видели ничего подобного!
Вот и у Джемаля и его двоюродной сестры закружилась голова. На протяжении последнего часа поезд шел вдоль берега Мраморного моря по азиатской части Стамбула. Когда он миновал пригородные станции, Мерьем во все глаза смотрела на людей, и в ее памяти отпечатывалось все до самых мельчайших деталей. В вагоне началась ужасная суета: кто-то собирал чемоданы, кто-то надевал пальто или жакет, чтобы поскорее сойти, у дверей выстроилась очередь.
На вокзале Хайдар-паша толпились прибывшие и отъезжающие, встречающие и провожающие. Никогда в своей жизни Мерьем не видела такой сутолоки! Звучали громкие объявления через громкоговоритель, слышались удары гонгов – и все это, включая Мерьем, Джемаль должен был держать под контролем. Люди совсем не обращали на них внимания: кто-то тащил свои вещи в руках, кто-то – забросив на плечо. Джемаль, с детства наслышанный о дурной славе Стамбула, плотно застегнулся до самого воротника, чтобы не потерять последние три копейки, которые болтались у него в кармане. Он зыркал на окружающих так, словно каждый был вором. Мерьем же намного больше занимали прощающиеся, обнимающиеся, бегущие вдоль поезда, машущие вслед ему рукой люди. Когда она видела целовавшиеся в губы молодые парочки, ее охватывало странное волнение. Не обращая ни на кого внимания, влюбленные целовались долго-долго, но никого это не беспокоило.
Головокружительное ощущение от Стамбула усиливалось еще и тем, что, выйдя с вокзала, человек сразу же оказывался на морском причале. Пристань раскачивалась, стоящие возле нее белые прогулочные теплоходы бились о привязанные к причалу огромные резиновые шины, отчего пристань содрогалась, и тут же в уши врывался глухой звук теплоходного гудка. Сам теплоход был белоснежно-белым, а трубы – черные-пречерные…
По инструкциям, которые Джемаль старательно записал со слов отца, им надо было сесть на один из паромов, переправиться на европейскую сторону города и добраться до дома дяди Якуба, сделав пересадку, на двух автобусах. Джемаль показал бумагу, на которой это было записано, пожилому, с седыми усами человеку в фетровой шляпе и спросил, на какой теплоход надо сесть? Мужчина показал. Но Джемаль испытывал внутреннее недоверие к стамбульцам и поэтому переспросил дорогу еще у двух человек, и только после того, как те показали на тот же самый теплоход, успокоился.
Они так долго простояли в очереди за жетонами, а потом к турникету, что едва не пропустили свой теплоход. Они сели, когда матросы уже начали отвязывать канат от пристани и теплоход был готов к отправлению. Корабль вспенил синь воды, запыхтел, издал гудок и начал быстро набирать ход. Народу было полным-полно, вокруг стоял невообразимый шум. По теплоходу сновали несколько неряшливо одетых мужчин с худыми лицами, которые зазывно кричали, предлагая купить у них расчески, цветные карандаши, кассеты, лезвия для бритья. Они выглядели так, будто всю свою жизнь провели на этом теплоходе. Один пожилой мужчина вертел в руках массажный аппарат и демонстрировал, как этой машинкой можно самому себе снимать боли, как она распрямляет спину, и приговаривал, пытаясь вызвать заинтересованность у равнодушных пассажиров, которые не обращали на него никакого внимания: «Поверьте моему слову, пусть лучшим примером для вас будет мой идеальный вид!»
Запах машинного масла смешивался с опьяняющим запахом моря.
Спустился вечер, в Стамбуле начали зажигаться первые огни, и Мерьем завороженно смотрела на отражающийся в синих водах Босфора сказочный город. В воде мерцали сияющие дворцы и огромные мечети, над головой простирались мосты, связывающие европейскую и азиатскую части города. На малиновом горизонте с изящно очерченной линией минаретов виднелись мечети Сулеймана, Султанахмет, огромная Святая София, дворцы Топкапы, Долмабахче, Чираган, Босфорский мост. Мерьем не знала их названий, она даже в мечтах не могла представить таких дворцов, башен, куполов, минаретов, мостов. Без остановки она восклицала про себя: «О Господи, Боже мой, Боже мой!..»
Солнце, садящееся за мечети, языками пламени лизало тонкие длинные минареты, словно укутывая их в красный бархат, и от всего этого Мерьем хотелось плакать. Скользил теплоход, сжималось сердце, в воздухе парили дворцы и мечети… На глаза наворачивались слезы.
На яхте рядом с теплоходом сидели и пили прохладные напитки хорошо одетые дамы и господа, мимо проплыл прибывший из Черного моря российский грузовой корабль гигантских размеров, на все это смотрели мечущиеся с тревожными криками чайки. Ветер доносил с берега запахи аниса и рыбы, отчего у Мерьем перехватывало дыхание.
Причалив к противоположному берегу, огромный теплоход повернулся боком, и Мерьем увидела, что у берега полно лодок. До пассажиров доносился умопомрачительный запах свежей жареной рыбы, который усиливался из-за одолевающего чувства голода. Округа звенела криками: «Рыба с хлебом, рыба с хлебом!»
– Бог мой! – снова забормотала она. – Господи, Господи, всемогущий Аллах! Все, что есть в этом мире, все – мой Аллах!
Голова кружилась от качки на теплоходе. А может, Аллах, так сильно сердившийся на нее из-за давнего визита к мавзолею Шекера Бабы и всю ее жизнь наказывающий ее, уже сменил гнев на милость? Может быть, он простил Мерьем? Стер из своей черной тетради совершенный ею в детстве проступок, да и все прегрешения, допущенные ею в жизни?!
Мысленно она спросила: «Господи, ты полюбил меня?»
Как же тут много воды, людей, кораблей, чаек, мечетей, света, шума! По набережной тянулась вереница автомобилей с желто-красными фарами, они сверкали, словно кометы…
Пассажиры высыпали из причалившего корабля словно куча муравьев и смешались в темноте с людским потоком. Здесь все передвигались очень быстро. Быстро ходили, быстро говорили, быстро спускались с теплохода и беспокойно разбегались в разные стороны. Их абсолютно не интересовало ничто вокруг.
Вместе с толпой Джемаль и Мерьем сошли с причалившего теплохода. Джемаль цепко схватил ее за запястье. Он не понимал, для чего это сделал – чтобы не потерять в этом хаосе Мерьем или чтобы зарядиться струящейся от нее юной силой?!
Джемаль остановил нескольких спешащих прохожих, спросил, где здесь посадка на автобус. Все кивали на противоположную сторону проспекта. Он никак не мог понять, как перейти дорогу перед не останавливающимися на красный свет автомобилями. Наконец им удалось это сделать, и они втиснулись в набитый битком автобус, следя, чтобы не стащили их небольшую сумку. Уцепившись за грязный металлический поручень, они старались не упасть, когда автобус вдруг резко тормозил в плотном потоке машин, а затем делал неожиданный рывок, но все равно то и дело валились на спины стоящих впереди стамбульцев. Какие они, эти стамбульцы, Мерьем никак не могла понять. Пассажиры автобуса немного отличались от тех людей, которых она видела на теплоходе и на железнодорожном вокзале. Мужчины смахивали на деревенских мужиков, головы женщин были увиты платками, однако, слава богу, встречались и свободно одетые молодые девушки.
Разлитая внутри Джемаля тупая апатия мешала ему смотреть на Стамбул с таким же восторгом, как и Мерьем. Но не мешала с чувством некоторой ревности и зависти думать о брате Якубе. Так вот почему тот переселился сюда, забрав жену с детьми, да так и не вернулся на родину! Даже название своего села забыл, наверное. Как будто Якуб был великим падишахом, живущим в Стамбуле, а их, словно своих рабов, и за людей не считал. Значит, они там, у себя в горах, боролись со смертью, проливали кровь под ледяным дождем, а братец здесь наслаждался жизнью! Кстати, в письме, которое он прислал отцу, сообщал о том, что собирается навестить родные места. В его словах сквозило высокомерие: будто он поднялся над своими земляками, а теперь вот решил снизойти до них. А ведь и правда многие втайне завидовали Якубу.
У Мерьем от усталости и перевозбуждения ломило все тело. Еще бы: сев на теплоход, они переместились на другой континент, перебрались из Азии в Европу, однако это было неведомо бедной девушке. Думая о том, что всего несколько дней назад она считала, что до Стамбула можно добраться, перевалив через гору, за которой притаилось их село, Мерьем внутренне конфузливо улыбалась: «Какая же невежественная я была, ничего не знала…»
Однако никто же сам собой не может ничего узнать! Злополучная девушка оказалась за пределами своей привычной жизни, ее голова была забита выдумками и небылицами. Сколько же она уже узнала за столь короткий срок, а сколько еще сможет узнать!
Автобус, минуя забитые машинами проспекты, пересекая площади и останавливаясь на множестве остановок, вывез их на загородный автобан. Люди выходили, число пассажиров уменьшилось. Мерьем с Джемалем смогли сесть на освободившиеся кресла. От усталости и качки Мерьем расслабилась, опустила голову и погрузилась в сон.
Они проснулись на последней остановке и вышли. Район, куда они приехали, был темным, вокруг стояли хибары – ничто не напоминало тот Стамбул, который они видели совсем недавно. Шофер подсказал Джемалю, что здесь надо пересесть еще на один автобус.
На этот раз они сели в голубой автобус, который повез их по темным полям, среди разрушенных домов, все дальше и дальше от сияющего огнями города. С каждой остановкой, которую проходил автобус, надежды и мечты Мерьем таяли, охватывающее ее смятение заставляло забыть о чудесном городе. Ей казалось, что они вернулись в Восточную Анатолию. Словно впустую провели двое суток в пути и совсем не удалились от своего села…
Автобус остановился во тьме, посреди полей, и шофер сказал:
– В бумаге, которую ты показал, написано «Рахманлы». Это и есть Рахманлы.
Им пришлось выйти. Голубой автобус скрылся из глаз. Они остались одни-одинешеньки в кромешной тьме.
Вокруг стоял запах зерна, навоза и гари. Очнувшись от первого потрясения, Джемаль, как спецназовец, осмотрелся вокруг, увидел воющую поодаль собаку и слабый свет на холме и сказал:
– Давай пойдем туда.
И они двинулись вперед по чавкающему грязью полю. К калошам Мерьем налипла грязь, она вспомнила, как шла по сельскому базару.
«Давай, дочка, будь счастлива! Ты едешь в Стамбул! Пусть твой путь будет удачным. Стамбул – большой город. Он совсем не похож на эти места!»
Ах, вот бы они сейчас пришли да посмотрели – что такое Стамбул и где живет Якуб! По сравнению с этим их родные места – как дворец.
Через некоторое время перед ними словно выросли из темноты двое. Они были похожи на военных. Джемаль чувствовал себя так, словно вернулся в те дни, когда воевал в горах, – вокруг разило опасностью. И так же, как там, в горах, он испугался ночи и одиночества. Если эти люди в самом деле военные, то появиться перед ними неожиданно может быть опасно. Он остановился и закричал:
– Все в порядке! Мы свои!
Джемаль услышал, как те передернули затворы:
– Стой там! Ты кто?
– Я тоже военный! – прокричал он.
Они приказали: «Не двигаться!» и, включив фонарик, направились к ним. Джемаль поверить не мог в происходящее. Вот и снова он в Габарских горах на пограничной заставе, только теперь уже у него спросят пароль, а если не будет ответа, откроют огонь. Когда двое мужчин приблизились, Джемаль определил, что это жандармерия. Это указывало на то, что они находятся за пределами района, контролируемого полицией, то есть уже не в Стамбуле. Военные с угрожающим видом, не отводя фонарей и ружейных стволов, приблизились к чужакам и попросили показать удостоверения личности. Джемаль сказал им пару слов на жаргоне военных, желая показать, что он – свой, но не получил желаемого отклика. Тогда он медленным движением протянул им паспорт и отпускное удостоверение. Военные внимательно изучили документы.
– Тут сказано, что ты спецназовец, – произнес один.
Второй молчал: в армии всегда относились к горным спецназовцам с большим пиететом. Но что делает здесь стоящая рядом девушка, закутанная в платок? В руках у них сумки, что они ищут ночью в этих полях?!
Джемаль объяснил, что они пытаются найти поселок Рахманлы, где живет его брат Якуб.
– Ясно, – немного расслабились жандармы. – Рахманлы вон на том холме, однако вы приехали сюда не в самый лучший день.
Оказалось, этим утром в районе началась операция жандармерии, которая обнаружила «дом-могилу», принадлежащую партии Хизболла. Поэтому по всему периметру вокруг района были выставлены кордоны. Естественно, неожиданное появление двух незнакомцев вызвало большое беспокойство.
Джемаль никогда раньше не слышал выражения «дом-могила». И хотя он не понял, что это значит, вопросов больше задавать не стал. Один из военных сопроводил их до дома Якуба, потому что передвигаться по району, взятому в оцепление, было опасно, да и ногу сломишь в этой кромешной тьме.
Вид униформы, ее шуршание, головные береты, оружие в руках военных – все это наполнило душу Джемаля тоской, он снова начал ощущать себя, как в начале своего увольнения – обнаженным, не имеющим конкретной цели, опустошенным. В одно мгновение память вернула его к армейским друзьям, боестолкновениям, вооруженным операциям, засадам и дозорам, где нельзя курить, к падающим за шиворот каплям дождя. Он смотрел на военных с тоской и чувством зависти…
Мерьем, увязая в грязи, шла по полю вслед за освещающим дорогу фонарем, она была ошарашена всем происходящим. Что это за Стамбул такой? Может, их по ошибке высадили в другом месте?!
Миновав наблюдательный пункт, они начали взбираться на вершину холма.
Вскоре показалась большая деревня. Мерьем подумала, что с первого взгляда даже нельзя сказать, что она обитаема, настолько убогим и разрушенным было это место. Деревня кишела жандармами. Одноэтажные дома выглядели как развалюхи: небеленые, у кого-то рядом с домом врыты бочки, рядом с другими – сараюшки. Из окон и крыш торчали телевизионные антенны. Вокруг домов клубились провода и кабели. Странно, но все улицы были хорошо освещены фонарями. Подбежали и остановились рядом грязные собаки. В этой деревне не было ничего похожего на центральную площадь, везде, куда бы они ни шли, на все четыре стороны – грязь да грязь.
«Это не Стамбул! Нет, нет, не Стамбул!» – со злостью думала Мерьем. Она разнервничалась из-за того, что ее обманули. Это значит, опять Аллах немилостив к ней, не любит свою рабу Мерьем… Сначала, чтобы немножко облегчить ее мучения, показал ей чудеса града Стамбула, наполнил ее трепетом надежды, разбередил сердце, а потом забросил в это темное, грязное и гадкое место!
Якуб открыл двери, увидел жандармов, рядом с которыми стояли Джемаль и Мерьем, и словно язык проглотил: лицо его помрачнело, он раскачивался так, словно получил крепкий удар. От растерянности он даже некоторое время не мог говорить. К счастью, сзади подскочила его бойкая жена Назик, почуявшая, что происходит что-то странное, и обратилась к военному:
– Спасибо, что проводили наших родственников!
Тем она помешала жандарму подумать: «Что-то подозрительно… Хозяева дома их будто даже не знают!»
Помещение, куда они вошли, трудно было назвать домом: узенькая комната, водруженная в углу кровать, подвешенный к потолку обогреватель, а посредине, на свисающем проводе – голая лампочка; дети, валявшиеся на подстилке, прямо на полу, буквально прилипли к экрану телевизора, и это был единственный здесь предмет, напоминавший о цивилизации. Дети даже не обернулись, чтобы посмотреть на вошедших. Из телевизора громко вопил корреспондент, читающий новости. У Мерьем мелькнуло в мозгу: ох, это самое противное в мире место! Даже сарай, в котором ее держали взаперти, был куда чище.
Якуб немного пришел в себя, но даже оправившись от первого потрясения, от стыда чувствовал себя подавленно. Сквозь зубы начал расспрашивать, как они доехали. Мерьем, увидев, что Назик куда-то исчезла, прошла чуть вперед и попала в помещение типа кухни, где на плите с газовым баллоном вот-вот должен был закипеть суп. По привычке она кинулась помогать Назик, стала нарезать хлеб. На глинобитном полу были расставлены разноцветные пластиковые ведра, бидоны, корыта с водой. Видимо, в доме водопровода не было.
Назик осталась такой же доброжелательной, как и в прежние времена:
– Однако и выросла же ты, Мерьем! Уже совсем невеста! Каким ветром вас сюда занесло?
Мерьем на ее вопрос ответила встречным вопросом:
– А здесь Стамбул, сестра Назик?
– Пропади он пропадом, этот Стамбул, – отмахнулась Назик. – Хоть бы его вообще не было! Заморочили нам голову, вот мы и поехали, а сейчас видишь, в каком позорном положении мы находимся?!
Мерьем спросила еще раз:
– Это место, где мы сейчас, называется Стамбулом?
– Окраина Стамбула, да, – подтвердила Назик. – Город, называемый Стамбулом, настолько велик, что ему нет ни конца, ни края. Никто не знает, где он начинается и где заканчивается. Здешнее место называют районом трущоб. А в городе живут богатые. Откуда у нас деньги, чтобы поселиться там? Вот и вынуждены здесь ютиться…
Слово за слово – перешли к расспросам о родственниках, знакомых, умерших, женившихся.
Было понятно, что Назик и Якуб тосковали по родине, однако муж, однажды начавший хвалиться тем, что он стал «стамбульцем», теперь уже никак не мог оконфузиться, вернувшись назад.
В доме гремел телевизор. Исмет и Залиха, которых Джемаль знал еще маленькими в селе, и родившийся в Стамбуле маленький племянник не отрывали глаз от экрана и отвечали на вопросы Джемаля, даже не оборачиваясь. Так Джемаль узнал об их учебе в начальной школе, о том, что в школу они вынуждены идти больше чем полчаса по колено в грязи, в бури и снегопады. Как уж там определять это Рахманлы – деревней, селом или городом, но начальной школы здесь не было.
В глубоком смущении, наклонив голову, Якуб исподлобья мерил взглядом брата, пытаясь дать хоть какое-то объяснение всему, что тот увидел.
– Сегодня мы вынуждены жить здесь, в этом доме!
Вдруг маленький Исмет радостно закричал:
– Посмотрите! Наш район показывают!
На экране мелькали грязные улицы, развалюхи-дома, торчащие среди запутанных проводов электрические столбы, телевизионные антенны, бегающие там и сям паршивые собаки и пытающиеся попасть в кадр смеющиеся, выставляющие руками над головами друг друга «рожки» несчастные дети. Исмет и Залиха в волнении ожидали, что увидят себя.
Диктор повторял, что сегодня в ходе спецоперации в Рахманлы был обнаружен принадлежащий организации Хизболла «дом-могила». Этим утром туда прибыли муниципальные бригады, чтобы снести незаконно сооруженные постройки. На самом деле все постройки в местечке были незаконными: договорившись с трущобной мафией, можно было быстро слепить дом, однако время от времени некоторые из них прилюдно уничтожались, чтобы продемонстрировать видимость исполнения закона. Джемаль узнает немного позже, что в четырнадцатимиллионном Стамбуле до 75 процентов построек возведены самовольно! Прибытие бригад из префектуры для сноса здания было делом обычным, домовладельцы встречали их во всеоружии: женщины, пронзительно крича, нападали на рабочих, швырялись в них кастрюлями, сковородками, толкушками и палками, а напоследок, от безысходности, предъявляли последний козырь – схватив на руки маленького ребенка, отец обливал его бензином и доставал спички, угрожая, что, если прибывшие для слома сделают еще хоть один шаг, он сожжет свое дитя! Муниципальщики по громкой связи пытались всячески отговорить несчастного от этого ужасного дела, а в это время телеоператоры, затаив дыхание, «ловили кадр», стараясь не упустить тот момент, когда ребенок вспыхнет пламенем.
Однако муниципальщики, прибывшие в этот день, столкнулись со странной ситуацией. Когда сумрачным утром они сообщили открывшему им дверь мужчине, бородатому, одетому в шальвары, что прибыли для сноса самовольной постройки, человек совсем не удивился, а тут же ответил:
– Хорошо, но в доме все еще спят. Дайте нам полчаса, чтобы собраться и уйти.
Этот ответ обескуражил муниципальных сотрудников, они позвонили начальству, объяснив, что в этом доме происходит что-то неладное. На помощь жандармерии были направлены сотрудники безопасности.
Жандармы, всегда стоявшие в оцеплении во время сноса, получили по рации распоряжение проверить удостоверения личности у этих странных людей, обыскать дом, и, если будет замечено нечто подозрительное, немедленно дать знать начальству. Потому что за всю историю существования Турецкой Республики это был первый такой случай: виданное ли дело, чтобы при сломе самовольной застройки люди говорили: «Пожалуйста, ломайте!» Хозяева дома должны быть юродивыми или же заниматься нечистыми делишками…
Два жандарма во главе со старшим офицером отправились исполнять приказ. Подойдя к дому, они снова постучали в ворота, попросив жильцов предъявить удостоверения личности. Но из дома не доносилось ни звука. Офицера очень насторожило это обстоятельство. И не зря: как только он произнес, что считает до трех, а если никто не откроет, дверь будет взломана, изнутри прозвучали выстрелы. Офицер получил ранение, остальные разбежались в разные стороны. Жандармы, заняв позицию, открыли по дому огонь. Вместе со звуками стрельбы из дома разносились крики, кто-то кричал: «Аллаху акбар!», а несколько человек, среди которых была женщина, распевали речитативом зикр: «О Аллах! Бисмиллах! Аллаху акбар!»
Прибыло подкрепление. После часовой перестрелки из дома вывели троих мужчин и раненую женщину. Среди жандармов тоже были пострадавшие. Несколько позже стало ясно, что поселившиеся в доме люди были членами организации Хизболла. Эта организация, еще раньше замешанная в кровавых делах, планировала делать это и дальше. Ее члены принялись строить дома-могилы, раскапывая под ними пол. В вырытых под землей ямах были обнаружены замученные узники – тем способом, как это обычно делала организация: связанные «свиным узлом» и захороненные друг над другом три трупа, среди которых также находилось тело женщины средних лет. Члены Хизболла держали такие дома в каждом турецком районе. Они жили, ничем не выделяясь, не привлекая к себе внимания. Для членов организации, прячущихся от наказания, эти дома были чем-то вроде камеры хранения, сюда сносились необходимые домашние вещи, здесь же перед видеокамерами осуществлялись пытки и допросы, а снятое видео транслировалось через сети.
Тела замученных сносили в одно место и погребали друг над другом в небольших шахтах, вырытых в подполе.
Газеты писали, что организация Хизболла была создана в противовес исламистам и курдам. В первые годы Хизболла сражалась против них, находясь под опекой государства. Однако позже организация вышла из-под контроля, а возможно, перестала быть нужной правительству. Против членов Хизболла начались гонения, их стали уничтожать.
В этот момент Залиха затрепетала как птичка, потому что увидела на экране телевизора себя: мелькнули ее немытые светло-каштановые волосы. А вот Исмету не повезло, его, должно быть, вырезали. Их друзья с воодушевлением рассказывали с экрана о том, как все происходило.
– Если бы ты не был военным, вас не пропустили бы к нам, – сказал Джемалю Якуб. – Район в оцеплении, даже мы передвигаемся с трудом.
В воздухе же повисло незримо: «Лучше бы вы не приезжали!»
Этой ночью женщины и дети легли в одной комнате, а братья в другой. Сдернули одеяла с высившегося в углу топчана, постелили на полу, и смертельно уставшая Мерьем, лежа рядом с невесткой Назик и тремя маленькими племянниками, моментально провалилась в глубокий сон.
В другой комнате курили и тихо разговаривали Джемаль с Якубом.
Якуб немного рассказал о районе, в котором они остановились.
– Здесь живут те, кто приехал в «Стамбул» в последнее время. Все в куче – выходцы из Сиваса, Вана, Малатьи, Диярбакыра, Байбурта…
Под конец выдавил:
– Ну, теперь ты увидел, как мы тут, правда?! Ты увидел наш позор, что на самом деле с нами произошло.
– Брат, – тронул его за плечо Джемаль, – почему ты выбрал это? Ведь на родине ты жил намного лучше. У тебя был свой дом, поле, возможность работать. Дети твои не терпели нужду. Зачем же ты приехал сюда?
– Надежда поманила! Болтали, будто в Стамбуле даже камни и земля золотые, вот мы тоже захотели попытать счастья. Однако здесь все не так. Стамбульцы нас и за людей не считают! Везде мы видим одни оскорбления…
– Почему ж ты не взял семью в охапку и не вернулся?
– Того, что сделано, назад не вернешь. Чтобы всем селом не смеялись надо мной: дескать, не справился и приперся назад! Разве они знают, как мы тут? И ты забудь про эти трудности. Даст бог, пройдет несколько лет, и все наладится. Для детей так тоже будет лучше…
Помолчав, он глубоко затянулся сигаретным дымом и начал рассказывать о своих мечтах:
– У Стамбула много хозяев! Так просто туда не попадешь. Сначала приходится селиться далеко, однако всегда есть возможность добраться в центр на муниципальных автобусах, а здесь можно найти место, чтобы построить дом. Эти земли являются городским резервом, однако трущобная мафия наложила на них лапу и продает. Ты для себя тоже мог бы присмотреть участок, обосновался бы с помощью земляков, построил бы хибарку. От электрического столба на углу можно бросить кабель и воровать электричество. Электроэнергия, получается, бесплатная! Зимой электричество поступает на подвешенный к потолку обогреватель, металл раскаляется докрасна, и в доме тепло, как в бане. Да здесь все пользуются ворованным электричеством! Надо немного потерпеть. В период выборов самовольные застройки попадают под амнистию, и ты сможешь получить право на владение участком. Через два года после получения нотариального свидетельства ты сможешь с выгодой заложить его подрядчику из Черноморского региона и стать владельцем трех- или пятикомнатной квартиры в новостройке. А потом – привыкнешь к Стамбулу, откроешь лавку по продаже кебабов или лахмаджуна, или можешь взять такси и заниматься извозом! Как уладятся дела с домом, все пойдет легко…
Если бы Джемалю в детстве, когда он ходил в школу, показали такой район, он бы глазам своим не поверил: громадные здания, торговые центры, светофоры, автомобили… А вдруг и правда через несколько лет ему удастся, оформив кадастровые документы, получить квартиру в этом районе и стать богатым?! У Рахманлы есть будущее. Пока там селятся новые переселенцы, а потом пустующие земли будут застроены отелями. Если повезет, то Исмет, Залиха и маленький Севинч будут жить гораздо лучше и окажутся в Стамбуле. Но пока надо терпеть эту нищету…
Людям в родных местах это все объяснить трудно, в их головах, забитых предрассудками, такое не укладывается. Якуб дал себе зарок, что не вернется туда, где живут эти темные, суеверные люди. Они глупы, не видели мира, совсем не знают жизни!
Якуб столько наговорил об односельчанах, что Джемаль понял – у брата в сердце накопилась огромная злость. Джемаля это очень удивило.
– Брат, – сказал он, – я знаю, что ты не собирался никого оскорблять, но все же обидел своих односельчан и отца моего ты затронул. Выбирай выражения!
В ответ Якуб посмотрел Джемалю в глаза и произнес:
– Мой отец! Ах, мой отец! Ах, этот мой отец!
Джемаль ничего не понял: хорошо ли он сказал об отце или плохо? Якуб произнес это так, будто на душе у него накипело. Но дальше продолжать не стал.
Чтобы загладить неприятный момент, Якуб принялся расспрашивать Джемаля: каким ветром его сюда занесло? Почему с ним приехала Мерьем?
Джемаль несколькими фразами объяснил, что, когда он был в армии, Мерьем обесчестил какой-то неизвестный подонок, и семья, следуя традиции, приняла решение убрать ее. Эту обязанность поручили ему.
Якуб покачал головой:
– Так и раньше поступали с несчастными девушками. Я знаю, в тех местах считают это правильным. Правда, даже и сюда эти обычаи дошли.
В самом деле, в том, что рассказал брат, не было ничего удивительного и потрясающего. Якубу хотелось лишь одного: чтобы бедствие в виде родственников, свалившееся на его голову, в один момент исчезло. «Мне-то что! Меня уже не интересует ни село, ни Мерьем, ни Джемаль, ни мой отец. Пусть делают все, что хотят, только меня не трогают!»
Из жизни Якуба стерлась его родина; никогда он не вернется, не увидит этих людей и постарается сделать все, чтобы его дети забыли Сулуджалы. Кстати, в свидетельстве о рождении детей он указал Стамбул. У него волосы дыбом вставали от мысли, что когда Зелиха подрастет, может оказаться в таком же положении, что и Мерьем.
– Смотри, Джемаль! – сказал он. – Ясное дело, это распоряжение отца, а ты, с позволения сказать, боишься его больше, чем Аллаха. Поэтому бесполезно говорить тебе: не делай этого, откажись! А если уж собираешься выполнить приказ отца, сделай все немедленно.
Якуб объяснил, что в получасе ходьбы отсюда на безлюдной магистрали есть высокий виадук. Жители деревень, переселяющиеся в Стамбул, всегда приводят там в исполнение подобные убийства чести. Сколько девушек до сего дня сброшено в пропасть, никто не знает! Время от времени об этом сообщают в газетах и по телевизору, да что толку…
Спустя некоторое время, лежа в темноте на тонком, словно плоская лепешка, матраце, Джемаль составлял план. Оттягивать дальше было нельзя. Нет, только подумать, как все получилось: проделать такой путь и здесь попасть в район, находящийся в оцеплении жандармерии! Если остаться еще на один-два дня и примелькаться здесь, то исчезновение Мерьем будет заметно. Поэтому лучше всего выйти утром и завершить эту тягость у пропасти, о которой рассказал брат. А поскольку возвращение одного человека вместо двух может вызвать подозрения, он не станет возвращаться. Ему очень не понравились разглагольствования Якуба, особенно выпады против отца, уничижительные отзывы о родных краях, да и сам этот дом.
Покончив с Мерьем, он встретится с Селахатдином, потом сядет на поезд и отправится в Ван, а правильнее сказать – прямиком к Эминэ! В дороге можно будет выспаться, а через два дня, которые пролетят как минута, открыв глаза, оказаться дома и, даст бог, забыть обо всем этом.
Этот заброшенный виадук в получасе ходьбы отсюда. Значит, все дела чести там решаются и грешных девиц там сбрасывают…
Приняв решение, Джемаль настолько успокоился, что не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в плотный, как туман, сон.
Одиночество – удел Всевышнего!
Однажды утром Профессора разбудила ужасная головная боль. Когда он, выпив две таблетки тайленола, вышел на палубу, то подумал, что море умерло. Прижатая небесами вода посерела, помутнела, в ней не улавливалось никаких признаков жизни, она казалась застывшей, как бетон. Под пульсирующий стук в висках Профессор стал думать о конце: если посмотреть с точки зрения Лорки, итог всему – смерть: «Так умрет и море!»
Но как жаль, что молодой человек, которого звали Федерико Гарсиа Лорка, сумевший сделать столь глубокие выводы в юном возрасте, не смог прожить достаточно долго, чтобы обогатить их зрелой мудростью!
Море, накануне чрезвычайно игривое и дружелюбное, сейчас окуталось мрачной холодностью, такой же твердой и непроницаемой, как панцирь черепахи. От воды веяло враждебностью.
Для Профессора, с детства привыкшего к воде, море было разве что чуть больше, чем огромная лужа. Но после пережитого двумя днями ранее шока его нервы еще не пришли в порядок.
Чтобы уберечься от бури, которая завывала как дикий зверь, бушуя на горизонте, он ринулся в близлежащую гавань. Ветер с бешеной силой рвал паруса. Когда Профессор вошел в гавань, обнаружилось, что ветер не утихает. Ирфан стремился как можно быстрее подойти к берегу. Владельцы яхт, стоявших у причала, увидев его парусник, влетевший в гавань на огромной скорости, стали кричать и, размахивая руками, подавать ему сигналы. Они очень хорошо знали, что, если не сбавить скорость, можно попасть в большую беду.
В ту же секунду он понял, что у него за спиной – огромный корабль. Тот вошел с другой стороны гавани, чтобы пришвартоваться, и только сейчас, заметив перед собой хрупкую яхту, принялся подавать оглушительные свистки. С одной стороны – опасный порт, с другой – тревожные свистки огромного корабля! Все это ошеломило Профессора. Конечно, он знал, что яхту надо пришвартовать. Он хотел бросить на причал концы, потом медленно-медленно подплыть на моторе, но не знал, как справиться в одиночку. Тали были установлены слишком часто. Это было удобно, но если парус накручивало на мачту или он цеплялся за таль, швартовка серьезно усложнялась. Профессор вцепился в штурвал, если бы он отпустил его, парусник неизвестно куда бы понесло, он стал бы неуправляемым. Но с другой стороны, держа руль, нельзя было управиться с делом. Проблема в том, что он один. Если бы на судне был еще хоть кто-нибудь, было бы гораздо проще – один держит руль, другой швартуется – и готово!
Корабль гудел, не переставая, яхту швыряло из стороны в сторону, она привлекла всеобщее внимание, все на берегу наблюдали за опасной ситуацией. Надо было немедленно принимать решение, через несколько секунд уже могло быть поздно.
«Будь что будет!» – решил он и, оторвавшись от штурвала, с бешеной скоростью бросился к канату и пришвартовался. И тут же ощутил страшную боль в колене, должно быть, обо что-то ударился. Сумасшедший ветер начал затихать, но Профессор вдруг понял, что не в состоянии радоваться этому – он не мог вздохнуть. Раньше он часто слышал выражение «язык прилип к нёбу», но был уверен, что это – метафора. Однако сейчас его язык и в самом деле прилип к нёбу, и как он ни старался, не мог открыть рта, чтобы набрать воздуха в легкие. В последний момент он свесился с яхты к поверхности моря, зачерпнул ладонью грязную мазутную воду и отправил в рот. Это сработало, и он смог вдохнуть.
Вечером он принимал на своей палубе других яхтсменов, пришедших выразить ему свою поддержку. Восхитившись тем, что он управляет таким огромным судном в одиночку, они признали, что его действия были верными, учитывая масштабы опасности: «Вы великий мастер морского дела, но больше так не играйте с морем! Такой огромной яхтой управлять в одиночку неправильно».
Они в свою очередь пригласили его к себе пропустить рюмочку. Это были спортсмены, в большинстве – на пенсии, седовласые, но физически крепкие, одетые в одежду фирм Paul and Shark и Gant и Aquamarine. Они ремонтировали яхты, предавались совместным воспоминаниям и проводили время в планировании регат, которые проходили довольно часто. Эти люди не могли говорить ни о чем, кроме моря. Даже пребывая на суше, они совсем не касались земных вопросов. Их руки были руками рабочих. Кто-то рассказывал о новом купленном GPS-навигаторе, кто-то часами объяснял, как ремонтировать мотор. Их не очень-то интересовали чужаки, они даже не поняли, что этот громадный мужчина со спутанными волосами – Профессор, которого они видели раньше по телевизору.
Может, даже они вообще не смотрели телевизор. Нет, эти люди не были гражданами Турецкой Республики, они были подданными Морской Державы. Она не имела границ, но законы ее были нерушимы, и какая разница, откуда дует ветер, который развевает их стяг?
У моряков словно вообще не было родных, отцов, матерей, жен и детей.
Этой ночью Профессор задумался о смысле выражения «море одиночества». Столько дней он бродил в одиночку – и вот, почувствовал, как постепенно на смену воодушевлению, охватившему его в первые дни, приходит странная печаль. По ночам на якоре в безлюдных бухтах, в полном безмолвии, охватывающем, словно смерть, все окрест, он сидел в одиночестве при свете газовой лампы и задавал себе вопрос: что будет, если вдруг у него случится сердечный приступ, но ответа найти не мог. С мужчинами его возраста это случается: инфаркт или инсульт, можно и ногу сломать, упав с лестницы. Он даже представить не мог, что делать для спасения жизни, если что-то подобное случится, когда он окажется один.
На море существовало много других рисков, подобных тому, с которым сегодня столкнулась яхта. Он часто вспоминал слова: «Одиночество – удел Всевышнего!» и вынужден был признать правоту этой, изреченной сотни лет назад, анатолийской мудрости.
В первые дни он старался держаться как можно дальше от берега и выбирать для ночлега самые пустынные бухты, однако теперь, даже не отдавая себе в том отчета, устремлялся к берегам поселков и деревень, к деревянным самодельным пристаням. То, что ему надо взять на борт хлеба, воды, сосисок или пива, было отговоркой, которую он непременно изобретал, чтобы сделать покупки в прибрежных магазинах.
Возможно ли так изменить жизнь? В этом заключается его свобода – покупать еду в самых дорогих продуктовых магазинах Бебека[28] в Стамбуле или в обычных лавчонках на побережье Эгейского моря, пока еще не заполоненного туристами в этот относительно безлюдный сезон? Суть метанойи – лениво растянувшись на палубе яхты, валяться до самого вечера, повторяя стихи: «Тянись, мое тело, тянись – навстречу всходящему солнцу…»[29], и под аккомпанемент флейты Жан-Пьера Рампаля наблюдать, как в бирюзовых водах, словно стаи ласточек, разлетаются тучи мелких рыбешек.
Этой ночью впервые Профессор подумал о возвращении. Точнее, не подумал (мысль об этом была для него невыносима), а словно услышал внутренний голос. Он постарался заглушить его сразу, как только он возник. Но случившееся ввергло Профессора в состояние панического беспокойства. А беспокойство, в свою очередь, порождало недопустимые вопросы, вытаскивая его на очную ставку с самим собой.
«Ты можешь вернуться? Можешь ли ты вернуться к своей прежней жизни, в свой прежний дом, к Айсель, в университет, к своему такому известному, успешному, блестящему шурину, к своим друзьям? Эй, растерявшийся Профессор, может ли Стамбул стать твоей Итакой?» И он ответил себе: «Нет! Я не вернусь. Я на самом деле не хочу этого. Если я вернусь, это меня убьет!»
Как только ему пришла в голову эта странная мысль об «убийстве», он тут же вспомнил о несчастном шейхе Ади бен Мусафире[30] из XI века. Этот Мусафир, шейх езидов[31], однажды во сне увидел Пророка Мухаммада, который открыл шейху, что тот скоро умрет. Тогда он решил идти в Хиджаз, чтобы быть похороненным в этой благословенной земле. Раз уж Пророк дал ему знать о его смерти, то значит, у него есть время, чтобы успеть добраться туда!
Прежде чем уйти, он собрал свою религиозную общину-тарикат в Лалише, рассказал свой сон и заключил:
– Я отправляюсь в Хиджаз, чтобы умереть и быть похороненным там. Поэтому мне нет пути назад. Если однажды кто-то придет в моем обличье и скажет вам, что он ваш шейх, знайте, что это – шайтан. Приняв мое обличье, он хочет ввести вас в заблуждение. Немедленно убейте его!
После чего шейх попрощался со всеми и отправился в Хиджаз, где принялся ждать смерти.
Однако она никак не приходила! Тянулись месяцы, потом годы. И шейх начал сильно страдать: соскучился по Лалишу, по своей семье и своему тарикату…
Увидел он, что слова Пророка не сбылись, и вернулся обратно в Лалиш. Там он сказал общине:
– Я говорил вам о моей грядущей смерти, но, по-видимому, неверно истолковал свой сон. Я не умер в Хиджазе и вернулся обратно к вам. Верьте мне, я – ваш шейх Ади бен Мусафир!
Услышав это, члены общины ужасно разъярились и, выхватив кинжалы, закололи бедного шейха. И от того, что они выполнили наказ шейха и уничтожили пришедшего в его обличье шайтана, на них снизошло огромное душевное спокойствие.
На самом деле в этой истории было одно искажение. Езиды верят в то, что у шайтана есть самый главный ангел, Мелек-Тавус[32], и поклоняются ему. Зачем же им было убивать шайтана? Но, возможно, именно убийство шейха привело их к раскаянию и открыло путь для отправления суеверных обрядов на его могиле?..
То ли потому, что шайтан покинул тело шейха, то ли потому, что шейх обратился шайтаном, – Ади бен Мусафир обрел святость. Его последователи находились в большом затруднении, размышляя над этим вопросом. Чтобы положить конец спорам, они начали поклоняться шайтану.
Профессор знал наверняка: вернись он в Стамбул, в первую очередь Айсель, а следом за ней ее брат и все их близкие, сочтут его шайтаном и разнесут в клочья, и даже не воздвигнут после его смерти никакого мавзолея или чего-то подобного.
В гневе Айсель могла разгромить все вокруг!
Профессор перенесся мыслями на север, в комфортную комнату отеля, в окнах которой сгущались сумерки, к кровати с накрахмаленными простынями и вышитыми наволочками.
– Займись своими делами, – кричала Айсель. – Оставь меня в покое!
А Ирфан (бывший в то время доцентом) стоял в растерянности, глядя на голую Айсель, скорчившуюся в кровати, не понимая, почему она прогнала его в момент наивысшего наслаждения из своего горячего тела. Он был уверен, что великолепен в любви, и от крика Айсель пришел в полное замешательство, а его боевой конь, совсем недавно стоявший как мощная башня, свесился бесформенно и беспомощно. Он и в самом деле не понял, что произошло и почему все так резко изменилось…
Ведь все эти дни они были счастливы (подобным образом на протяжении истории думают миллионы пар), словно до них самих ни одна женщина и ни один мужчина не испытывали такого любовного опьянения…
Они остановились в Шотландии, в нарядном, словно именинный торт, отеле гольф-клуба «Тернберри», расположенном на выходящем к морю огромном плодородном участке с ухоженной зеленой травой.
По утрам они ходили к маяку, чтобы отдать дань памяти Вирджинии Вульф, после обеда играли в гольф, а до ужина в баре эдвардианского стиля, согреваясь перед камином с потрескивающими поленьями, медленными глотками потягивали виски, едва покрывавшее дно бокала, и от души смеялись над тем, что, может быть, и коровы, разводимые в этих богатых местах, тоже пьют этот напиток и колу со льдом.
Одним из неуклонных правил было отсутствие всяких правил: то есть, как только взбредет на ум, прыгать в постель и заниматься любовью. И до того вечера все шло нормально. Когда они вернулись с гольфа и вошли в комнату, Айсель, даже не приняв душ и не сбросив пропитанное потом белье, потянула его в постель и, как всегда, содрогаясь от приступа страсти, словно приклеилась к нему своим прозрачным телом.
А потом, на самом безумном пике страсти, вдруг вытолкнула его и прогнала.
Он чувствовал себя растерянным школьником, которого выставили за дверь и в качестве наказания заставили стоять на одной ноге.
Ирфан уже имел достаточный опыт и знал, что в моменты такого неистовства Айсель лучше не трогать, поэтому принял душ и спустился в бар, отделанный благородными породами древесины – красным и махагоновым деревом.
Но только успел заказать виски, как туда же пришла Айсель. Опустилась рядом на кушетку из темно-зеленой кожи «честерфилд» и сказала: «Прости меня!» Она выглядела спокойной, но грустной.
И еще раз повторила: «Прости меня, Ирфан!» Он ее уже очень хорошо изучил. Если во время ссоры ответить Айсель, она остервенеет, но если муж на ее крики и вопли будет хранить безмолвие, то скоро остынет, подойдет, сядет рядом, понурив голову, и начнет просить прощения.
Однако на этот раз его действительно обеспокоило: из-за чего же так разозлилась Айсель? Прихлебывая виски, он ломал голову, соображая, какой же промах допустил. Может, неловко пошутил во время гольфа, сделал что-то грубое в отеле, не так сказал, не так взглянул…
Нет, нет, ничего такого он не совершал.
– Не надо извиняться, любимая, – сказал он. – Мы ведь с пониманием относимся друг к другу. Но я и в самом деле не могу понять, что же произошло? Все было так прекрасно, что вдруг с тобою случилось?
Айсель посмотрела на него безнадежным взглядом и ответила:
– Это трудно объяснить, но… ты любишь меня через силу. Так, словно исполняешь супружеский долг, делая все во имя здоровья – правильно, ровно, сильно, чисто, но не получаешь при этом удовольствия. И я почувствовала, что даже в минуту экстаза ты можешь без всяких проблем встать и уйти.
Ирфан пытался возражать, однако Айсель с тем же печальным видом не дала ему говорить:
– Я не виню тебя. Только женщина способна такое уловить. Ты занимаешься любовью так, словно играешь в гольф…
Чтобы немного разрядить ситуацию, она хрипло и грустно рассмеялась:
– Не беспокойся, мне сейчас нет никакого дела, если можно так сказать, до твоей клюшки – ни в гольфе, ни в постели, и чем болтать зря, давай лучше закажем что-нибудь выпить.
Айсель решила закрыть эту тему и впредь ее не обсуждать. И в самом деле, они больше никогда не говорили об этом. Потому что во время интимной близости, случавшейся все реже, Айсель сталкивалась с правдой, которой боялась, как маленькая девочка, заблудившаяся в лесу, и от которой приходила в такое огромное отчаяние, что, как он чувствовал, даже готова была изменить.
Профессор, проведя несколько недель в море, уже воспринимал свою яхту как одну из форм одиночества. Одиночества, у которого не было ни конца, ни края.
Он думал о том, что должен испытать человек, который, как и все люди, ждущие в своей жизни истинного счастья и успеха, тоже ждал – и вдруг в мгновение ока понял, что все рухнуло и он движется прямо к смерти.
Не разорвется ли его сердце? Да!
Иногда он и впрямь ощущал, как его сердце рвалось изнутри вверх, а потом резко падало – он ясно понимал, что это образное выражение применимо здесь буквально. Когда его сердце ухало вниз, он глушил страх таблетками и спиртным, бокалов которого становилось больше и больше.
Сколько же стараний он приложил, чтобы быть успешным в этом мире! Выходец из бедной измирской семьи, он успешно учился в Гарварде, успешно женился, успешно делал карьеру. Но потом все пошло наперекосяк. Жизнь пролетела впустую. Она не обрела никакой ценности. И после смерти не будет ничего похожего на «Памятник Ирфану Курудалу». Для своей диссертации он брал кое-какие отрывки из наскоро переведенных книг. Но эти его хитрости были быстро раскрыты, и университетские враги стали одну за другой вытаскивать из его работы цитаты без указания ссылок на авторов из английских и американских источников. В те дни в журналах появилось много статей, начинающихся со слова «плагиат». Тогда он понял то, о чем в университете все знали: если решился на плагиат, то переводи не с английского, а с санскрита, урду или суахили!
А если без шуток, то Профессор вынашивал в голове очень интересный проект и уже несколько лет ждал удобного случая, чтобы написать книгу. И вот этот момент настал. Для того чтобы начать, нельзя было найти более подходящее место, чем эта яхта.
Книга, к которой он каждый день собирался приступить и которую каждый день откладывал на завтра, призвана была рассказать о богомилах[33]. Это еретическое христианское течение зародилось в XI веке в Юго-Восточной Анатолии, в местности Самосат, ныне находящейся под водой. Самосат был и родиной великого писателя Лукиана[34]. Когда на богомильскую церковь начались гонения, ее адепты ушли из Самосата и переселились в местность в Эгейском регионе, сегодня известную как Алашехир, но там тоже не задержались и отправились в Марсель, на юг Франции, где и поселились в основанной ими крепости Монсегюр. Здесь они были известны как катары[35]. Однако французская армия осадила Монсегюр и рассеяла их, как куропаток. После этого разгрома некоторые из богомилов бежали в Италию, некоторые – на Балканы.
По мнению некоторых ученых, балканские боснийцы корнями связаны с богомилами. Из-за многовековых притеснений, которым подвергалась их церковь, они вынуждены были поменять веру и стать мусульманами.
Если эта теория верна, то судьба богомилов и впрямь трагикомична. Их история началась в Анатолии, где они зародились в период исламизации как еретическая христианская секта, а после многовековых испытаний они стали мусульманами, которых преследовала милиция Милошевича.
Это была религия, которая появилась не в том месте и не в то время. Это «недоразумение» длилось почти тысячу лет. (Интересно, если он даст книге название «Тысяча лет заблуждения», не надо ли будет извиняться перед Маркесом?) Это будет история, протянувшаяся от Самосата Юго-Восточной Анатолии до боснийской войны с сербами.
В один из дней он пришвартуется в порту Кушадасы, сойдет на берег и купит несколько книг, связанных с этой темой. Здесь, на яхте, только книги будут смотреть на него, а он – на книги! Вот только бы взять в руки перо, суметь написать первое предложение… Если он напишет первое, то сможет написать и последнее. По ночам, одурманенный алкоголем, он лежал в постели или слонялся по палубе, и порой ему казалось, что он нашел это первое предложение, и сердце переполнялось радостью!
Однако, проснувшись утром, он ничего не помнил.
Может быть, он не смог прочувствовать эту историю, потому что дело было не в Эгейском, а совершенно другом регионе? Если бы он родился в Анатолии или хотя бы мог съездить туда, где под водами плотины лежали развалины древней Самосаты, или в Новую Самосату – поговорить с местными людьми, поизучать повадки, привычки, то он нашел бы начальное предложение для своей книги?
Но все чаще он понимал, что все это пустые мечты, потому что на Востоке шла кровопролитная война, и нельзя было и помышлять о возможности в ближайшие годы съездить туда. Он повидал многие страны мира, однако, наверное, так и умрет, не побывав на Востоке Турции.
Так не будет ли лучше отдаться во власть ласкового ветра и, созерцая море винного цвета, грезить о богомилах? Мечтать о таком дне, когда появится возможность…
Однажды Профессор сошел на берег у неизвестного поселка, чтобы запастись провиантом. Он сразу выхватил глазом кафе, притаившееся в тени векового чинара, и сел за столик.
Скоро к нему подошел хозяин кафе, поприветствовал его и спросил по-английски: «Hello! Tea, coffee?»
Должно быть, из-за импозантного вида Профессора и бороды он принял его за туриста.
Чтобы не разрушать его фантазий, Ирфан ответил: «Turkish coffee. With little sugar, please!»
Мужчина понял про кофе, однако сказанное дальше не разобрал.
Он склонился, пытаясь по его глазам прочесть ответ:
– Sugar?
Профессор ответил:
– Little bit!
Хозяин решил, что посетитель попросил «без сахара», и переспросил:
– No sugar?
Профессор приподнял брови и покачал головой отрицательно.
Хозяин решил, что надо бы на всякий случай найти кого-то, кто мог бы точно понять заказ иностранца, и жестом подозвал сына:
– Иди-ка сюда! Послушай, что говорит этот неверный-гяур.
Профессора очень развеселила эта ситуация. Хозяин кафе, подобно всем лавочникам, выучил слова «чай» и «кофе», но не более.
К ним подошел худенький парнишка.
– Welcome! – поприветствовал он посетителя.
Профессор повторил свою просьбу. Мальчик повернулся к отцу и объяснил:
– Он хочет несладкий кофе по-турецки.
– Нет бы как все нормальные люди сказать, гяур! Бормочет не пойми что, – проворчал хозяин кафе. Это был толстый и обильно потеющий человек.
– Он же так и сказал, папа, – улыбнулся мальчик. – Что ты еще хочешь?
– А ты, если выучил два слова по-гяурски, не умничай здесь! – огрызнулся отец.
Он принес кофе и спросил у Профессора:
– Turist?
Профессор ответил:
– Yes, turist.
– Amerikan?
– Amerikan.
Лицо хозяина просветлело. Он снова позвал мальчика:
– Ну-ка, иди сюда! Давай-ка спросим, может, он здесь хочет участок купить?
Парень обеспокоился:
– Папа, человек зашел выпить кофе. Удобно ли спрашивать его о том, хочет ли он участок?
Хозяин буркнул:
– Ты давай не выделывайся! Прошлым летом сюда приезжал один американец. У Невзата взял огромный участок с инжирным садом. Они сюда за землей приезжают. А иначе что им тут делать?
Парень выдавил:
– You want…
Немного помялся и снова:
– You want…
Профессор понял, что иностранный у мальчишки слабоват, он не знает английского слова «участок», но, чтобы не упасть в глазах отца, вынужден как-то выкручиваться. Он произнес:
– Are you lonesome tonight?
Он был уверен, что парень уж как-то выучил эту фразу из популярной песни Элвиса Пресли, она часто звучит в Турции.
Парень испуганно посмотрел на него.
А из-за спины отец уже нетерпеливо донимал его:
– Что он сказал?
И сын соврал:
– Он не хочет никакого участка. Говорит, что зашел, чтобы выпить кофе.
С большим трудом парень произнес:
– She loves you ye yel.
Профессор с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Он был прав, парень не посещал курсов английского, просто заучил некоторые фразы в туристических барах, чтобы соблазнять девчонок. Поэтому лучше всего он знал названия песен.
– It’s now or never, – сказал Ирфан. Потом немножко подумал и добавил:
– Tomorrow will be too late.
Парень повернулся к отцу и сказал:
– Он говорит: «Я приехал только отдохнуть». Папа, этот человек никакой не покупатель, можно я пойду?
– А ну-ка, стой, – воскликнул отец. – Мы кучу денег истратили, отправляя тебя на английские курсы. Давай спрашивай, а может, кто-то из его друзей захочет купить участок?
Стараясь не смотреть Профессору в глаза, парень произнес:
– Un dos tres Mana! Chiki chiki bum bum.
Профессор едва сумел сдержать смех. Вот оно как, разобравшись с английским, перешли на испанский! Это было безумно смешно. Словно театр абсурда.
Изо всех сил сохраняя серьезный вид, чтобы еще немного продлить игру, он сказал:
– Cindy Crawford, Linda Evangelista, Eva Herzigova, Laetitia Casta.
А парень, с еще более серьезным выражением лица, ответил:
– Sharon Stone, Claudia Shiffer, Madonna.
Отец слушал внимательно, не спуская с него глаз. Судя по такому долгому разговору, может, что-то и выйдет и он тоже, подобно Невзату, поймает птицу удачи! Ах, если бы этот гяур сказал «да», он продал бы доставшийся ему от отца и деда участок, где под палящим солнцем можно было только ишаков выпасать и от которого нет абсолютно никакой пользы…
Как только «беседа» закончилась, он тут же возбужденно спросил у сына:
– Что он сказал? Что он сказал?
Парень «перевел»:
– Он говорит: «Я приехал сюда только отдыхать. Я устал от ваших вопросов. Оставьте меня в покое. И не надоедайте так больше туристам, потому что они прибывают сюда отдохнуть, а вы пристаете. Не утомляйте меня больше, а не то я пожалуюсь в полицию».
Толстяк раздосадовался:
– Ах ты, мать твою, поганый гяур! В моей собственной стране он еще будет на меня жаловаться. Теперь даже если захочет, мы не продадим ему никакого участка. Скажи ему, чтобы допивал кофе и убирался вон!
– Хорошо, хорошо, папа! – успокаивающе произнес парень и, повернувшись к Профессору, улыбнулся:
– Cicciolina, bye-bye.
Они ушли.
Профессор задыхался от смеха.
Оплатив счет, он поднялся и бросил по-турецки:
– Сдачи не надо. Счастливо оставаться!
Глаза у хозяина кафе стали круглыми как плошки, а парень залился красной краской, уставив глаза в пол, будто хотел провалиться под землю.
Профессор всю дорогу до яхты смеялся, он даже не ожидал, что этот обычный день может принести ему столько веселья.
Значит, такая она, смерть?!
Этот заброшенный безлюдный чудовище-виадук выглядел так угнетающе, печально, траурно, так угрожающе, словно это была арена сражения, на которой потерпевший поражение Стамбул оставил целую армию.
В этой части города не было ни базилик Палеологов, ни следов великолепных куполообразных святилищ, возводимых в давние времена, ни достопочтенных островерхих османских минаретов, ни радостных огоньков, которые зажигаются вдоль стен мечетей во время священного месяца Рамадан, ни католических, ни православных церквей, ни султанских гребных кораблей на веслах, ни белоснежных колонн возведенных из мрамора дворцов, которые придают такую праздничность Босфору.
Это был Стамбул побежденных мигрантов – избитых, больных, изнасилованных, с поврежденной плотью и обозленной душой и опухшими от работы суставами. Под нависшим свинцовым небом, заполненным всеми оттенками мрака – от темно-черного до светло-серого, – вдалеке виднелись разбросанные как ни попадя блоки домов. Вот куда занесли Якуба его мечты о переезде: уродливые жилища, районы трущоб, лишь редко-редко – клочки зелени в местах, принадлежащих либо военным, либо кладбищам. А очень далеко – призраки небоскребов, бизнес-центров, мечетей…
И все это то появляется, то исчезает в клубящемся желтом тумане сквозь плотную изморось дождя.
В сыром и неуютном Стамбуле, посреди унылого дня, внезапно пришедшего на смену ночной тьме, на высоченном, наполовину недостроенном да так и брошенном мосту застыли две тонкие тени, которые не обращали внимания ни на город, ни на дождь, ни на всполохи молний, временами раскалывающие небо, ни на доносящиеся следом раскаты грома. Кто знает, какие корыстолюбивые бюрократы, расхищая бюджет через подставные фирмы, начали и не закончили строительство десятков дорог и мостов? Дважды опоясывающая Стамбул кольцевая дорога поглотила миллионы долларов. А эти двое находились на одном из заброшенных виадуков. Глухомань.
Мерьем глянула вниз и почувствовала под ногами уходящее в бездну головокружительное ущелье. На дне едва виднелся кусок скалистой земли. Сердце застыло, будто во сне, когда она, подгоняемая ветром, летела над пропастью, пытаясь достичь берега, однако на этот раз она не сидела верхом на волшебной птице…
Ее пугал Джемаль, как змей выжидающий чего-то за ее спиной.
Сумрачным утром Мерьем разбудили. Они с Джемалем вышли из дома, и Мерьем увидела, что дождь еще не затих, однако это были пустяки. В утренней темноте они уходили из дома Якуба, будто убегали. Якуб не вышел их проводить, а у невестки Назик было ужасное выражение лица, когда она бросила последний взгляд на уходящих.
И Мерьем поняла, на что решился Джемаль.
Давно ее уже грыз изнутри червяк сомнения, но она отгоняла эти мысли прочь, обманывала саму себя. Увы, как бы она ни хотела избежать реальности, теперь девушка была поставлена перед неотвратимым фактом.
Они шли по раскисшему полю, увязая в глине, и она поняла: сомнений нет, настал «этот день»! Ее сумку Джемаль оставил дома, а свою взял с собой. Это значит, что несчастной Мерьем уже больше не понадобятся ее вещички…
Наконец свершится то, что было причиной их такой длинной дороги в Стамбул.
И сейчас, дрожа у края бездны, ожидая, что вот-вот, как сухой лист, полетит в пропасть, она видела перед собой жирные рожи баб, которые улыбались ей на сельском базаре и хлопали по спине: «Счастливого пути, дочка! Пусть Стамбул принесет тебе счастье, девочка!»
«Курицы», – подумала она, и ей казалось, что когда-то раньше уже думала об этом.
В последний момент все открылось ее внутреннему взору: «Эти курицы, которых мы бросали в воздух вместе с братом Джемалем, мы «делали из них самолеты», а они, падая, ломали крылья, в этом и моя вина; я очень раскаиваюсь в содеянном, брат Джемаль, я очень сожалею, а ты жалеешь ли, совсем, что ли, не помнишь об этих курицах, которые падали с двухметровой высоты; однако здесь намного, намного, намного выше, гораздо выше; до Стамбула отсюда не долететь, для всех ли, кого отправляли, был таким же ужасным этот «Стамбул»; я замерзаю, брат Джемаль, мое платье намокло, я вся дрожу; а на самом деле я не мерзну, а боюсь, боюсь; какие знания скрывает Аллах от своей рабы, брат Джемаль, я очень боюсь; знал ли ты когда-либо такой страх, брат Джемаль; у меня же нет крыльев, как вот у той, перелетающей с места на место вороны, полетев вниз, и земли увидеть не успею, сердце мое остановится; почему, Аллах, ты совсем не любишь меня, почему наказываешь меня с самого моего рождения, что я тебе сделала; брат Джемаль, почему Аллах не любит меня, тебя любит, а меня почему не любит; прости меня, Шекер Баба, тот грех я совершила по неведению, если уж родная тетя закрыла передо мной двери и не сказала мне ничего на дорогу, то, о Аллах, хоть бы ты меня немножечко полюбил!»
Только ли внутри все это произносилось, или кое-что она говорила вслух?
Но даже если и сказала, это уже неважно.
У нее кружилась голова, ее мутило, но главное, глядя в пропасть, она чувствовала, как тянет низ живота, она нутром ощущала бездну, которая затягивала ее.
И в этот миг она услышала, как Джемаль нарушил свое идольское молчание:
– Произнеси шахаду!
Он сказал это мягко, словно совсем не сердился. Мягкость голоса Джемаля придала ей мужества, чтобы обернуться назад и взглянуть на него, однако, схватив за плечи, Джемаль удержал ее и обратил лицом к пропасти.
– Произнеси слова шахады! – приказал он. – Делай это, чтобы после тысячи прегрешений Аллах совсем не лишил тебя покоя!
Громким голосом Мерьем произнесла трижды: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – его Пророк!» И в сердце ее разлился покой, рожденный безграничным отчаянием. Больше уже ничего нельзя было поделать. Аллах с самого рождения не любил ее, беспрерывно наказывал и вот теперь поставил ее на этом мосту прямо над бездной.
Бедный Джемаль – он всего лишь средство, за спиной которого высится Аллах, машина, на которую возложена обязанность убить ее, жалкий убийца.
– Брат Джемаль, – произнесла она, дивясь своему спокойствию и смелости, звучавшей в голосе. – Брат Джемаль! В память о наших прошлых днях я хочу попросить тебя кое о чем. Завяжи мне глаза. Чтобы, когда я буду лететь вниз, я не видела, как на меня надвигаются эти скалы. Падение меня очень страшит, возвращает в ужасные сны. Во имя всего святого, завяжи мне глаза!
Ее речь оборвалась коротким всхлипыванием.
Джемаль не ответил, однако вскоре Мерьем услышала шелест его одежды и легкий звук резиновой подошвы его ботинок, передвигаемых по мокрому бетону. Джемаль подошел к ней так близко! Шелест сказал ей о том, что Джемаль складывает платок, чтобы исполнить ее просьбу. Он наложил платок ей на глаза и туго завязал сзади. Ее волосы были подняты шпилькой, голая шея озябла. На обнаженной коже она вдруг ощутила горячее дыхание Джемаля. Должно быть, оттого, что он стянул платок слишком туго, заболели глаза. Она стала раскачиваться взад-вперед, словно вот-вот упадет.
Впрочем, что уж теперь!..
И вдруг Джемаль позвал ее.
Спокойствие ее мгновенно улетучилось, сердце заколотилось прямо бешено, в ушах загудело. Она задышала часто-часто и почувствовала, как кровь резко ударила в голову. Ее охватил дикий страх, который как огромная птица начал бить крыльями, рваться наружу.
Перед нею Великий Стамбул тонул в беспробудно-свинцовом безмолвии.
Борясь со страхом, прежде чем умереть, она постаралась думать о хорошем. Хотела представить глаза матери и как, на протяжении всей ее жизни, та снова предстала перед дочерью, стоя у дверей спальни на верхнем этаже дома, оставшегося от армян, в белой ночной рубашке, держа в руках лампу, – наполовину освещенная, наполовину в тени.
Глаз ее не было видно.
Тогда Мерьем вспомнила няню. Она увидела, как та, прежде чем выйти из села, в последний раз посмотрела на девушку взглядом раненого животного и попросила простить ее. Однако Мерьем поняла, что мысли о хороших, не сделавших ей зла людях только увеличивают чувство страха.
И тогда ее захлестнула ненависть к змееглазой Дёне, которую она, плача, умоляла позволить зайти в свою комнату, и к жестокосердной тете, не сказавшей ей на прощание ни одного доброго слова, хотя она прекрасно знала, куда ее отправляют. И снова она вернулась мыслями к курицам, их сломанным лапкам, курицам, лежащим на земле с перемазанными кровью крыльями.
И к Джемалю.
Он уже собрался ее толкнуть и вдруг увидел, как по тонкой хрупкой шее Мерьем стекает вниз капелька пота, и подумал: «Смертный пот!» Чистая, правильной формы, похожая на дождинку, прозрачная капля сбегала вниз по нежному изгибу шеи. Джемаль подумал: «Какая тонкая, нежная шейка!» Он увидел, как ветер играет несколькими прядями волос, выбившихся из собранного на затылке пучка. Увидел, как вздымаются грудь и плечи девушки… и понял, что та уже не в состоянии контролировать дыхание.
Этим утром, выйдя из дома в темень, придерживаясь того направления, которое указал Якуб, посреди чистого поля, он почувствовал себя так, словно опять оказался в горах. Он снова преследовал боевиков Рабочей партии Курдистана. В ботинки набилась грязь, и они будто тоже припомнили прежние времена и зашагали под дождем гораздо быстрее. Так он мог двигаться часами, хоть целые сутки, не сбавляя темпа. Через какое-то время услышал за спиной учащенное дыхание девушки, она была непривычна к такому темпу и, запнувшись, несколько раз кувыркнулась в грязь. Однако она изо всех старалась не проронить ни звука, чтобы он не увидел этого, и он незаметно для нее понемногу сбавил шаг.
С самого начала, когда они тронулись в путь, он чувствовал, что с этой девушкой нельзя допускать никакой близости, надо сохранять дистанцию. Он не позволял своему сознанию ни на миг вернуться в проведенное вместе детство, старался всячески демонстрировать, что она для него чужая. Он повиновался не разуму, а инстинкту. А сейчас вот смотрел на это худенькое тельце, на дрожащий затылок, слышал тяжелое девичье дыхание, даже улавливал слабый аромат корицы и сушеной розы, который исходил от нее…
И внутреннее помрачение Джемаля начало отступать. Память напомнила ему, что Мерьем – тоже человек, причем человек, которого он знал с детства, даже любил. Он знал ее улыбку, переживания, капризы, болезни; помнил, как она крутила обруч, как лазила за птичьими гнездами. Все сразу встало перед его глазами: как они, открыв большие ворота дома и держа под уздцы лошадь, заводили и распрягали ее, а потом возвращались к арбе; он обонял горький дух привезенных с бахчи, разбитых по дороге арбузов. Он словно наяву увидел, как они с Мерьем разбивали маленькие дыньки, ударив о камень, и запихивали в рот, каждый по половинке, и по их щекам стекал сладкий сок. И как после празднования Дня освобождения Мерьем, надавив кунжутного семени, накладывала ему повязку на лоб, где красовалась шишка от удара приклада Мемо, игравшего роль русского солдата. Откуда-то резко пахнуло кунжутом…
Так тщательно возведенные стены, оберегаемые столько времени, не допускающие ни единой пробоины в системе защиты, рушились одна за другой. Когда он понял это, его охватило такое беспокойство, что он постарался переключиться, сосредоточившись на грехах Мерьем.
Во время службы он приучил себя к тому, что враг, которого надлежало ликвидировать, «не является человеком». Они не люди, а нечто другое. Стоящая перед ним сейчас – тоже не та девочка, которую он знал в детстве. Это женщина, к тому же запятнанная, погрязшая в грехе, уронившая честь семьи, ничего не стоящая, женщина, опозорившая его отца и дядю! Семья не могла жить с таким позором, наказание было определено правилом, которое действовало на протяжении веков. Это была воля Всевышнего, как сказал его отец, никто не может идти против законов Аллаха. К тому же эта грешная девчонка была единственным препятствием для их встречи с Эминэ.
Джемаль произнес про себя: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!»
Он чувствовал себя, как тем утром в праздник Курбан-Байрам, когда, будучи еще совсем маленьким мальчиком, по приказу отца в первый раз ударил ножом в горло меченой хной овце со спутанными ногами и завязанными глазами. Тогда он так же, прежде чем убить, читал молитву. И снова он повторил ее вслух: «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!»
И увидел прямо перед собой, как по белой шее стекают одна за другой три капельки. Они были еще меньше той, первой, и скользили еще быстрее. Мерьем уже и вдохнуть не могла. Джемаль услышал, как она коротко вскрикнула, пытаясь набрать воздуха, и его захлестнула волна ужасной злости к ней – мерзкой, гнусной, отвратительной, грязной, впавшей в грех подлой твари, конченой проститутке!
И он ударил. Мощный удар обрушился на голову Мерьем. С ужасным криком, не понимая, что происходит, она провалилась в темноту. Она почувствовала, как ударилась о землю, а потом голова будто отлетела в сторону, и рот наполнился мерзким вкусом мокрой грязи…
Через некоторое время она ощутила под собой холодное и мокрое и поняла, что лежит с завязанными глазами на земле и все еще может дышать.
Странно, но, кроме как в левой половине лица, другой боли она не чувствовала. Она вдруг услышала идущие издалека звуки, среди которых можно было различить гул потока машин и долетающий призыв на молитву – азан. Некоторое время она лежала, даже боясь дышать. Потом потихоньку сняла с глаз повязку и сначала увидела прямо перед лицом мокрый бетон, затем – сваленные в углу грубые камни и, немного повернув голову, в трех шагах от себя, заметила темный силуэт, скорчившийся на земле.
Внутри нее словно взошло солнце. Оно походило на разноцветную радугу, увиденную после черных туч. Она вздохнула свободно и почувствовала, как душа успокоилась, и на смену этому серому противному дню прилила радость.
Она не умерла, не свалилась в бездну, а что еще важнее – этот черный силуэт, осевший на землю в трех шагах поодаль, означал, что Джемаль уже не сможет сделать этого. Джемаль не сможет ее убить, и не только Джемаль, а вообще никто!
Невероятно, но она победила семью, которая, захлопнув перед ее носом дверь, отправила ее на смерть. Все их злобные расчеты обернулись ничем.
Мерьем сорвала платок, весь ее облик выражал безумное торжество. Уже не чувствуя боли в посиневшем от удара левом виске, она пошла прямо к Джемалю.
Джемаль сидел на земле, обхватив руками колени, и, не переставая, раскачивался взад-вперед. Теперь уже не Мерьем, а он корчился от боли.
Мерьем наклонилась над ним с таким состраданием и нежностью, будто из худенького тела этой девушки поднялась вся сердечная, сочувственная, участливая, душевная энергия женщин мира и волна за волной перетекала прямо к Джемалю, чтобы исцелить его.
Она коснулась поношенной и промокшей куртки на его плече и сказала:
– Давай-ка, брат Джемаль, вставай и пойдем. Нечего нам тут мокнуть.
В первый раз с детских лет она обратилась к нему так привычно и буднично, о чем вчера еще и помыслить было нельзя, и в этой ситуации это совсем не казалось странным ни ей, ни ему.
Джемаль резко оттолкнул протянутую к нему руку. Однако тут же, как ребенок, исполнил то, о чем она попросила: поднялся и, даже не взглянув на нее, быстро пошел вперед; однако на этот раз не шагами горного спецназовца, а так, как ходят вконец обессиленные люди. Он плелся медленно, и Мерьем могла идти рядом, не прилагая никаких усилий, чтобы поспевать за ним. В душе ее разливалось чувство огромной благодарности и любви к Джемалю. Тонкий, полинявший, с вышитыми черными цветами платок она несла в руках – как символ победы, а потом аккуратно повязала им голову.
Они снова шли по вселенской грязи, среди сотен запутанных проводов, которые раскачивались как ветви засохшего плюща между столбами, торчавшими среди разбросанных там и сям домов, и вскоре вошли в лачугу Якуба. Сначала все изумились, увидев их, а потом постарались сделать вид, будто ничего особенного не произошло, понимая, что теперь они должны сохранить эту маленькую семейную тайну.
Так все и получилось.
Сначала все молчали, потом начали перекидываться ничего не значащими словами. Отправили детей смотреть телевизор, в котором снова распространялись об операции Хизболла и тысяче других незначительных вещей. Хотя по левой щеке и виску Мерьем, куда пришелся удар, расползся огромный синяк, этого как будто никто не замечал.
Дети, усевшись, скрестив ноги, на полу, как зачарованные, не сводили глаз с телевизора. Разговаривая между собой или со взрослыми, отвечая на вопросы, дети ни на минуту не отводили глаз от экрана. Всяческого рода рекламный мусор – вафли, оливковое масло, кредитные карты, автомобили, газеты, жвачку, банки, стиральный порошок, маргарин – они заучили наизусть и старались не пропускать ничего: от анонсов программ, до телесериалов, участвуя сердцем и душой в этой потусторонней магии.
Дома у Мерьем телевизор был под запретом, она смотрела его пару раз у кого-то из подруг, но не стала его пленницей. А вот Якуб и его семья чтили телевизионную жизнь сильнее настоящей, а повседневную проживали так, будто это был временный скучный период. Женщин и мужчин, появляющихся на экране, они перечисляли по именам и знали гораздо лучше, чем приехавших издалека родственников. Как и многие другие, погрузившись с головой в этот раскрашенный ящик, они подражали всему – искусственной блондинке, которая пела, будто лаяла, сверх меры накрашенным женщинам, танцующим друг с другом, один в один повторяя перед зеркалом все их движения, мужчинам, похожим на холеные говорящие куклы…
Шоумен, показывая пальцем в камеру, выкрикивал: «Ай-ай-ай-ай!», и в тот же момент дети, вскочив, тоже тыкали пальцем в ведущего и приговаривали, раскачиваясь: «Ай-ай-ай-ай!», а потом плюхались на пол.
То, что они видели в этом своем мире, для Джемаля и Мерьем было абсолютно чужим.
Погода с вечера была дождливой – согласно телевизионному прогнозу, это было связано с пришедшим с Балкан низким атмосферным фронтом. Стало прохладно, и Якуб включил подвесной обогреватель. Ворованное электричество докрасна раскалило печку, которая горела сверху, как яркое солнце в пустыне.
– Ты очень пообносилась, – вдруг сказала Назик, обращаясь к Мерьем. – Пойдем, я тебе что-нибудь дам. До завтра надень, а я постираю и высушу твою одежду.
Назик, взяв ее за руку, долгим-долгим взглядом посмотрела ей в глаза и сказала, имея в виду навеки похороненную семейную тайну: «Я очень рада!», чем покорила сердце Мерьем. Впрочем, Мерьем с самого начала знала, что она – хорошая женщина. Ее жизнь была очень тяжелой, настолько тяжелой, что и не передать, и от безысходности эта молодая женщина преждевременно состарилась. Она таскала домой воду из колодца, смотрела за тремя детьми, четыре дня в неделю работала, убираясь у людей, и, как стало понятно Мерьем вскоре, по ночам еще и ублажала Якуба.
Этой же ночью, лежа на застеленном полу, Мерьем раздумывала обо всем случившемся. Она пыталась понять, что же привело Джемаля в состояние такого отчаяния, когда он ударил ее. Но так и не разобравшись с этим, погрузилась в сон.
Утром Джемаль и Якуб ушли из дома по своим делам, а старшие дети отправились в школу. Оставив самого маленького соседям, Мерьем и Назик тоже отправились в путь.
– Одно дело есть, – грустно произнесла Назик. – Ты тоже пойдешь со мной. Развеешься немного и Стамбул увидишь.
Преодолев грязное поле, они сели на голубой автобус, и Назик сказала:
– Теперь ты можешь спросить меня о том, куда мы едем. На аборт иду, будь оно проклято. Из-за того, что Якуб противится, мол, «не буду я надевать резинку», я уже и не помню, сколько раз ходила к акушерке!
А Мерьем спросила ее, почему же они терпят столько мучений, живя в Стамбуле? На родине ведь жизнь намного лучше.
– Ах! – вздохнула женщина. – Ах! Он же меня не слушает. Разум у него помутился от Стамбула. Только и твердит: «Мои дети будут жить в Стамбуле. Так или иначе, но Стамбул будет наш!»
Мерьем и сама еще не оправилась от пережитого; ее платье, пропитанное смертным потом и десятками страхов, было постирано и осталось висеть, невысохшее, во дворе хибары Назик. Поэтому она надела голубое платье, которое дала ей невестка, а на голову повязала ее платок с желто-коричневыми цветами и сейчас шла в одежде, принадлежащей другому человеку, озираясь по сторонам, ощущая себя какой-то совсем другой, незнакомой.
Автобус ехал долго, а вокруг не появлялось ничего, напоминавшего Стамбул. И вот, наконец, показались здания, похожие на те, которые она видела на окраинах городов на Востоке. Сверху – апартаменты, на первом этаже – бакалея, овощные лавки, киоски с электроприборами, парикмахерские.
На одной из остановок в этом районе кондуктор закричал: «Остановка акушерки!», и много женщин покинуло автобус.
Назик пояснила:
– На самом деле эта остановка называется по-другому, однако все говорят «остановка акушерки», так и прилепилось.
В старых апартаментах, куда они вошли, пахло газом и вареной капустой, перед дверями квартир громоздилась куча грязной обуви: женской, мужской, взрослой и детской.
Они вышли на третьем этаже. Назик позвонила, и открывшая им дверь дородная, с черной бородавкой на щеке женщина впустила их внутрь. В предбаннике теснилось много народу. Увидев здесь женщин с детьми, Мерьем опешила и слегка содрогнулась.
Никогда в своей жизни она не видела такой одежды, которую можно было встретить здесь! Некоторые из женщин с ног до головы были укутаны в черные одеяния, открытыми оставались только щелочки глаз. Другие задрапировались в тяжелые шали, которые, спускаясь на грудь, прикрывали забинтованные шеи. Кто-то накинул на голову тяжелое, как одеяло, покрывало.
Здесь, в приемной комнате, где были только женщины, они могли немного расслабиться и позволить себе приоткрыть свои белые дородные шеи.
– Все эти женщины очень часто ходят на аборты, – прошептала Назик. – Потому что их мужьям, как и Якубу, не нравятся презервативы. Противозачаточные таблетки они тоже не используют: говорят, что от них случается рак. Поэтому от бремени избавляются здесь. Войдя внутрь, через пять минут женщины выходят, а придя домой, готовят своему негоднику ужин. И, вдобавок ко всему, как рассказывают многие из них, постоянно сносят побои от своих мужей…
И правда, все разговоры, доносившиеся до слуха Мерьем, были о побоях. Как лесные букашки, скрытые под густым покровом, так и эти бедняжки остерегались чужих взоров. По сути, в их жизни ничего больше и не было: насилие, которое они претерпевали дома, являлось чуть ли не священным правом их мужей. Однако облик некоторых женщин вовсе не выражал страдание и забитость: наоборот, о побоях они говорили весело. Молодая, очень красивая девушка, лицо которой было в синяках, глаза затекли, а губы опухли, смущенно и застенчиво рассказывала о том, что с ней приключилось. Позавчера ей сделали аборт, а деньги она договорилась отдать на следующий день, однако вечером впервые в жизни муж избил ее.
А почему избил? Она сама виновата: похвасталась знакомой – мол, какой у нее прекрасный муж, а та пошла в кафе, нашла этого человека и сказала во всеуслышание:
– Что ты за мужчина, что жену не бьешь? А она бегает и, как сорока на хвосте, носит россказни о ваших семейных делишках по бабам.
Мужчина, честь которого была прилюдно унижена, прибежал домой со словами:
– Ты растоптала мою мужскую честь. На-ка, получай!
И на голову женщины, перенесшей в этот день аборт, обрушился град ударов.
Новобрачная рассказывала все это, а сама тихо приговаривала:
– Я же знаю, что он не хочет меня бить, он делает это напоказ. А сам не хочет! Он меня очень любит. Когда мы остаемся наедине, он называет меня «моя голубка», но другие науськивают его…
Мерьем отметила про себя, что молодая жена опять рассказывает посторонним о семейных тайнах, так что вечером, вполне возможно, ей снова попадет от мужа.
Она понимающим взглядом рассматривала женщин с бледно-молочными, дряблыми, трясущимися как кисель шеями, закутанных в черные покрывала. Она думала о них так, словно была им подругой или каким-то образом сопричастна их судьбе. Она думала о своей щеке, синяк на которой утром стал еще больше и приобрел фиолетово-желтый оттенок. Она произнесла про себя: «Эх, чтоб тебя!», потому что, пережив насилие сама, она не хотела такой несправедливости для других. Однако эти женщины не знали, что она была исключением среди них, что синяк на щеке Мерьем был счастливым знаком ее судьбы, печатью победы.
Немного позже Назик вошла в комнату акушерки и вскоре вышла. Она выглядела ушибленной, словно ее обухом по голове ударили. «Как же скоро здесь делаются эти дела!» – подумала Мерьем.
Когда они, немного отдохнув, возвращались на голубом автобусе домой, Назик всю дорогу молчала. Чтобы не беспокоить, Мерьем ничего не спрашивала у нее. Кто знает, какие мучения испытывает эта женщина?!
В голове у девушки крутилась мысль о том, что, по-видимому, Аллах и Назик не любит…
И вдруг ее сотрясли прорывающиеся изнутри всхлипывания, она чувствовала, что не может сдержать рыдания. Слезы текли ручьем. Люди, сидящие впереди, оборачивались и с удивлением смотрели на рыдающую навзрыд девушку. Назик трясла ее за плечи, что-то говорила, однако Мерьем не понимала ее слов. Собравшись изо всех сил, она попыталась подавить приступ рыданий, который и саму ее удивил, но, как ни старалась, ничего не получалось. Она не знала, почему плачет. Рыдания разразились в самый неожиданный момент, нахлынув, словно буря!
Длинным краем головного платка, который дала ей накануне Назик, она вытирала глаза, наклонившись вперед, худенькие плечи дрожали, она изо всех сил сдерживалась, чтобы ее не было слышно, звуки, которые она все же издавала, напоминали жалобные всхлипывания котенка. Она плакала до тех пор, пока они не добрались до своей остановки и, сойдя, не пошли через поле.
Мерьем видела, что Назик больно идти, и от этого она стесняется саму себя.
Войдя в дом, Назик обняла ее и сказала:
– Все прошло хорошо, Мерьем. Ничего, сейчас мне полегче станет. А то что-то меня все морозит и морозит…
Всех убить – или даровать жизнь всему человечеству
Когда Джемаль там, под моросящим дождем, нанес этот ужасный удар по лицу Мерьем, его накрыла волна беспомощности, связавшая по рукам и ногам. Чтобы избавиться от этого пульсирующего чувства, надо было бы поехать на Рыбный рынок, расположенный на бирюзовом берегу Мраморного моря.
Девушка, которую ему поручили убить, жива – и что теперь делать, куда прятать эту спасенную?!
Затяжной дождь никак не утихал, в расставленные ведра стучали капли – кап-кап! Всю эту долгую ночь он тревожился о том, не переполнились ли они. А ведь еще совсем недавно он не мог думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы сесть в поезд, доехать до дома и встретиться с Эминэ…
Идея пришла ему вдруг на ум под утро, и, чрезвычайно взволнованный, он разбудил спавшего рядом Якуба:
– Я отправляюсь в дорогу. Если мне повезет, успею на утренний поезд. Давай, с Богом!
На самом деле сначала он собирался найти своего друга Селахатдина, с которым пережил столько военных трудностей, побыть у него в гостях несколько дней, а потом уже ехать домой. Он предпочитал не затрагивать тему Мерьем, обойти это как-нибудь молчанием. Разве после возвращения из армии он не прослыл молчуном, который вообще рта не раскрывает?! Пусть каждый толкует его молчание как пожелает, и пусть все оставят его в покое!
Он уже совсем было поднялся, как вдруг услышал хриплый ото сна голос Якуба:
– Мерьем тоже разбуди.
– Брат, – взмолился Джемаль, – ты же знаешь, я не могу привезти Мерьем назад! Пусть на какое-то время останется здесь, рядом с тобой. Она и с Назик хорошо поладила. Будет помогать ей по дому…
Тут Якуб выпрямился, в свете ночника его впалые щеки почернели еще больше, и очень серьезно произнес:
– Посмотри на меня, Джемаль! То, что ты говоришь, невозможно. Еще один рот мы не потянем. Я сбежал из родных мест, так нет же, и сюда добрались, нашли меня! Оставьте же вы меня наконец, отвяжитесь от меня, отвяжитесь от меня!
Он произнес это так категорично, с таким глубоким волнением повторил эти слова: «Отвяжитесь от меня!», что Джемаль даже опешил от того, как сильно брат ненавидит отчий край и свою семью.
Но в то же время понял, что поделать ничего нельзя.
Утром из дома они вышли вместе с Якубом. Брат работал в одной из городских шашлычных официантом. Конечно, он мог найти место, где лучше платят, но у него были другие планы. Шашлычный бизнес приносил хорошие деньги, не проходило и дня без того, чтоб не открывалась новая точка, торгующая шашлыками или лахмаджунами. И все эти заведения открывали бывшие официанты. Отработав некоторое время в этом бизнесе, они хорошенечко изучали, где брать мясо, как отделять сухожилия, как наматывать дёнер, сколько платить поварам за работу; а потом три-пять официантов, объединившись, открывали свою точку.
Самым страстным желанием Якуба было открыть свою шашлычную. Кто знает, может, после первой точки он сможет создать целую сеть, и, глядишь, лет через пять уже будет владельцем не забегаловок, а профессиональных столовых, работающих бесперебойно, с богатой клиентурой, сервированными столиками внутри и площадкой на улице, где посетители смогут перекусить сэндвичами на ходу! Подносы будут полны котлеток, лахмаджуна, айрана, сока из репы по рецептам из Аданы, Антепа, Урфы. Он обязательно, обязательно сделает это во имя Исмета, Зелихи и Севин! Он не оставит своих детей один на один с такой безысходной судьбой, как у них на родине, они будут учиться в лучших школах Стамбула, он обязательно, обязательно спасет их от обычаев, жестокости, трагедий Востока.
Каждый день он клянется в этом.
Когда они расставались, Якуб показал Джемалю дорогу, и тот без особого труда нашел Рыбные торговые ряды. Здесь была та же ошеломляющая, суматошная, головокружительная, безумная атмосфера, которая поразила его в тот день, когда он в первый раз увидел Стамбул. Одно за другим причаливали и отплывали рыболовецкие суда, от пристани, заваленной сетями, распространялся умопомрачительный запах, из вернувшихся с уловом судов ссыпали на берег рыбу, и она искрилась на солнце, словно серебристые потоки дождя, чайки пикировали и взлетали как обезумевшие. Рыбу, разложенную на круглых, красного цвета подносах, поливали водой, продавцы в синих фартуках кричали изо всех сил, чтобы привлечь внимание покупателей, толстые коты, затаившиеся по углам, строили военные планы – как бы понезаметнее напасть и стащить добычу, подозрительные клиенты непрестанно ощупывали рыбу, чтобы понять, насколько она свежая, достаточно ли красные у нее жабры, и старались уловить последние отблески жизни в мертвых рыбьих глазах…
Пристань была мокрой, потому что ее часто-часто поливали из шлангов, но никто не обращал внимания на летящие брызги.
Выделив несколько человек посреди всего этого гама, Джемаль обратился к ним, показывая карточку в своих руках, и попытался узнать, где находится точка Селахатдина. Пару раз он ошибся – спросил покупателей, и никто не смог ему ответить, однако потом он присмотрелся к местной суете, и первый же продавец рыбы без лишних вопросов, махнув рукой, показал на какой-то прилавок.
Джемаль стал пробираться в толпе прямиком туда, думая, до чего же странные эти стамбульцы: даже когда совсем близко к ним подходишь, в глаза не смотрят и отвечают кое-как, только после того, как изо всех сил раза три крикнешь.
Молодой человек в синем фартуке, стоя за прилавком, водой из пластмассового ведра поливал рыбу и кричал гортанно:
– Подходи, пожалуйста, подходи, вот камбала! Рыба есть! Рыба есть!
Решив сначала, что Джемаль покупатель, он принялся объяснять, что рыба «живая-преживая», однако вскоре разобрался, прекратил нахваливать товар и сказал, что Селахатдин сейчас в конторе, показал, где это.
Встреча двух товарищей, которые месяцами занимали верхнее и нижнее места на одной двухъярусной кровати, как и ожидал Джемаль, была по-настоящему теплой и дружеской. После армии Селахатдин сильно прибавил в весе, розовые щеки округлились, а вновь отпущенные тонкие каштановые усы совсем не напоминали военные дни. Когда друг, воскликнув: «Вай!», вскочил на ноги, чтобы обнять Джемаля, тот увидел, что Селахатдин хромает. Это означало, что пуля попала в цель…
В контору входили и выходили люди, а телефон, стоявший на столе, беспрестанно звонил.
Селахатдин усадил Джемаля в кресло, стоящее перед столом, попросил принести ему чай и, показав глазами: «Извини», стал с улыбками отвечать по телефону, выполнять просьбы приходящих и уходящих клиентов. Видно было, что это место, где совершаются важные торговые сделки.
Джемаль, проживший два военных года с другом в одной казарме, видел сейчас, какое важное место занимает он в гражданской жизни, и даже стеснялся, сидя здесь и попивая чай в качестве «друга начальника». Да и поговорить в такой суматохе было совсем невозможно.
В обеденный перерыв они пошли в столовую на рынке, где было много знакомых, которым Селахатдин объяснил, что Джемаль – «мой армейский друг». Среди ребят, торговавших за прилавком рыбой, был брат Селахатдина, он тоже сидел и ел за столом, и начались у них тут военные воспоминания, шутки-прибаутки.
Но главный вопрос Селахатдин задал вечером дома:
– Тебя что-то очень сильно мучит, я же вижу, Джемаль. Поделись со мной. Я заметил, что весь день ты в тяжелых раздумьях, смурной. В чем проблемы? С деньгами, работой? А может, сердечные дела?..
А пока, пообедав, они вернулись в контору. Джемаль несколько раз порывался уйти, но Селахатдин останавливал его с большой настойчивостью:
– Нет-нет, вечером поедем к нам домой. Никуда я тебя не отпущу!
Когда Селахатдин закончил работу, они сели в его «Хонду» и по улицам с такой плотной застройкой, что автомобили едва не касались друг друга, приехали в один из спальных районов Стамбула. Перед дверями своего двухэтажного дома Селахатдин снял обувь. Джемаль тоже разулся.
Дверь открыла молодая белолицая женщина, подвязанная платком. Селахатдин представил ее:
– Невестка!
– Добро пожаловать, – сказала она, и никаких рукопожатий – женщина была набожной.
Войдя, Джемаль подумал, что в жизни своей не встречал более красивого места, чем эта гостиная. Никогда он не видел, чтобы в одном месте было собрано столько красивых вещей! Позолоченные белые шкафы, резные столики с инкрустацией, вазы, посуда – всего было так много, вещи стояли так плотно, что по комнате было трудно передвигаться. Несколько кресельных гарнитуров, поставленных в ряд, являлись свидетельством баснословного богатства.
Селахатдин, наблюдая, с каким изумлением Джемаль рассматривает мебель, сказал с видом знатока: «Это Люкенс!» Джемаль не знал, что значит Люкенс. А Селахатдин хотя и знал, что нынче в большой моде Люкенс, но понятия не имел, что распространенная повсеместно в Турции реклама стиля Люкенс означает «Louis Quinze» – «Король Людовик».
Телевизор стоял у стены на буфете, облицованном ореховым деревом, он был включен; по одному из религиозных каналов что-то говорила женщина, укутанная платком. Все в доме было покрыто коврами, на стенах тоже висели ковры – с видами благословенной Мекки, сценой охоты на испуганного оленя, с диковинными узорами и цветами. Каждая вещь, включая телевизор, была покрыта рукодельными кружевами, которые обычно вяжут в девичестве – скорее всего, приданым невестки. С потолка свисала хрустальная люстра, заливающая все это богатство ярким светом.
Джемаль вдруг почувствовал разницу, разверзшуюся пропасть между ним и Селахатдином, и испугался. Разве может человек, живущий в таком сногсшибательном месте, быть его другом?!
Совершив вечерний намаз, невестка предложила им ужин, приготовленный наскоро из принесенной с рынка свежей рыбы, и чай. Оставшись один на один, Селахатдин и задал свой важный вопрос.
Джемаль долго молчал, обдумывая, как объяснить товарищу сложившуюся ситуацию. Одновременно он молился о том, чтобы Селахатдин продолжал настаивать на ответе, потому что кроме друга он никому не мог это рассказать, ни к кому не мог обратиться за советом.
Под светом хрустальной люстры, в уставленном инкрустированными креслами и увешанном коврами из Кайсери, Бюньяна, Карса и Яджибедира доме, путаясь и сбиваясь, короткими фразами, не преувеличивая и не преуменьшая ничего, он рассказал обо всем.
Слушая его, Селахатдин пришел в изумление, он качал головой и время от времени восклицал:
– Нет, нет, быть такого не может!
А под конец сказал:
– Ты избежал ужасного греха, на пороге которого стоял вчера. Иначе сегодня бы приехал как убийца. Это значит, что в последний момент Аллах осветил твое сердце и отвратил тебя от греха! Я этому очень рад!
У Джемаля даже голова немного кругом пошла. Селахатдин, с которым они вместе вели огонь по людям из винтовок G3, и этих людей было много, так озабочен убийством какой-то одной девочки?!
Селахатдин кивнул:
– На войне – другое дело! Священный Коран считает убийство возможным только во время войны. Но здесь, в мирной жизни, убить невинную девочку?! Разве это одно и то же?
Начиная свою исповедь, Джемаль чувствовал себя подавленным оттого, что не смог убить девчонку, а теперь вот как оказалось…
– Однако разве в исламе не говорится о том, что женщину, свершившую грех, убивают? – спросил он.
– Нет там такого!
– Хорошо, но ведь есть реджм – побивание камнями. Разве прелюбодеек, совершивших грех, не должны, закопав наполовину в землю, побивать камнями?
– Нет! – снова воскликнул Селахатдин. – Ничего подобного нет в Священном Коране. Это все насочиняли позже.
– Как же так? – поразился Джемаль.
Слова Селахатдина шли вразрез со всем, чему учил его отец.
– Мой отец говорил, что побивание камнями существовало вплоть до периода Ататюрка…
– Эта ошибочная практика применялась в некоторых арабских странах. В Османской империи тоже какое-то время прибегали к ней. Но доказать прелюбодейство очень трудно. Османские власти ставили условие, что должны иметься три свидетеля, которые видели бы, как «меч входил в ножны». Ты, брат этой девушки… как ее зовут?
– Мерьем.
– Ага. Ты видел, как меч входил в ножны Мерьем?
Джемаль покраснел и прошептал:
– Не видел!
– Откуда ты тогда знаешь?
– Говорили.
– Джемаль, разве можно убивать человека, которого оговорили?!
Джемаль был ошарашен: будто у них с Селахатдином были две разные религии! Он никогда раньше не слышал о подобной терпимости в исламе.
А друг продолжал:
– Ислам считает грехом убийство человека.
Тут уже Джемаль не сдержался:
– Наверное, ты ошибаешься. Посмотри-ка, такие религиозные организации, как Хизболла, непрестанно убивают людей.
– Они – извращенцы, – отмахнулся Селахатдин. – Они используют ислам в политических целях! Увы, из числа религиозных последователей порой выходят и убийцы, и террористы. Ты лучше основные источники почитай: Священный Коран, хадисы Пророка. Ты читал «Сахих аль-Бухари»?
Понурившись, Джемаль произнес:
– Нет.
– Вот видишь, будучи приверженцем Аллаха, ты не читал Коран! Какой же верующий твой отец? Как он тебя воспитывал?
Селахатдин пообещал, что следующим вечером отвезет Джемаля в район Эйюп Султан, на религиозную церемонию, которую проводит один суфийский тарикат, чтобы помочь своему драгоценному другу уберечься от религиозно-культурных ошибок, дабы он не подвергся еще большей опасности в жизни.
Друзья решили искать какой-то выход из ситуации, потому что везти домой Мерьем было нельзя. Якуб тоже категорически не хотел, чтобы она оставалась в Стамбуле. И бросить ее здесь одну и уехать (о Эминэ!) тоже нельзя, не дай бог, потом на улице окажется… И что же было делать Джемалю, на что ему тут жить, да еще и содержать родственницу?
Но Селахатдин успокоил: ничего, пропитание найдем, можно, конечно, дом снять, чтобы вам там поселиться, но это тоже не выход: как может жить мужчина в одном доме с незамужней женщиной?
К тому же у Джемаля совсем не было намерения оставаться в Стамбуле, больше всего он хотел, вернувшись домой, жениться.
Вот так, перетряхивая все это дело на все лады, они проговорили несколько часов. Наконец Селахатдин сказал: утро вечера мудренее, лучше всего решать этот вопрос на свежую голову после утренней молитвы, и показал отведенную для Джемаля комнату.
Но в этом роскошном доме, в комнате для гостей – с плотными шторами, с приготовленным для него банным полотенцем, которое повесила ему в ванной невестка Селахатдина, Джемаль чувствовал себя не в своей тарелке…
На следующий день они поднялись на верхний этаж, где жил отец Селахатдина, чтобы поцеловать ему руку. Да и в каждой комнате этих апартаментов жили родственники, и они отнеслись к другу Селахатдина как к родному. Отец Селахатдина долгое время был капитаном на рыболовецком судне, поэтому, глядя в телевизор, он выставлял козырьком ладонь над глазами, словно моряк затерявшегося в буре судна, нетерпеливо ожидающий чудесного появления земли на горизонте. Когда он говорил с кем-то или просто глядел по сторонам, он вел себя обычно, а чуть повернувшись к телевизору, тут же выставлял ладонь козырьком…
После завтрака они вышли из дома вместе и снова отправились в контору Селахатдина, снова обедали в столовой.
А вечером, в шесть часов, спускаясь по склону холма Эйюп[36], они припарковались перед просторным одноэтажным домом с видом на мечеть Султана Эйюпа и кладбище. Панорама перед домом была фантастической: он стоял в месте, именуемом раньше Золотым Рогом (это название, правда, сейчас потеряло прилагательное «Золотой», осталась только морская бухта, имеющая форму рога), глядя окнами на мечеть Султана Эйюпа и кафе «Пьер Лоти». Перед домом было припарковано множество автомобилей, а у ворот оставлены десятки пар обуви.
Джемаль вошел следом за Селахатдином, чувствуя себя немного неловко, как чужак, оказавшийся среди людей, которые хорошо знакомы друг с другом. Просторная гостиная была заполнена сидящими на расстеленных коврах мужчинами. Судя по одежде, здесь было много лавочников. На шеях у некоторых красовались галстуки.
Потом один из них надрывным и пронзительным голосом, нараспев, начал читать религиозные стихи, среди которых были и откровения Юнуса Эмре[37]. В свою очередь, сидящие на ковре выстроились рядами, словно для намаза, но не стоя, а сидя. Возглавляли действо несколько человек в белых шапочках. Впереди всех Джемаль увидел мужчину, который сидел, повернувшись спиной. Как похож на его отца! Должно быть, сейчас будет совершаться зикр, как во время религиозных церемоний в их садовом доме…
И в самом деле, вскоре послышались звуки дервишского призыва, и мюриды, один за другим, в размеренном ритме раскачиваясь из стороны в сторону, начали стонать: «Аллах, Аллах!» Их движения постепенно убыстрялись и убыстрялись, иногда у кого-то изнутри вырывался резкий вскрик: «Аллах!», и уже они едва сдерживали себя, чтобы не вскочить на ноги. Джемаль знал: молящиеся доходили порой до такого экстаза, что некоторые теряли сознание, такое он видел в детстве.
Вот и здесь кое-кто начал кататься по полу, с пеной у рта биться в судорогах. Отец считал, что «Аллах переполнил радостью и гармонией» душу этого человека. На самом деле, насколько мог уразуметь Джемаль, это можно было объяснить функциями человеческого тела и могло быть связано с тайной ста двадцати четырех ударов в минуту. Все молящиеся на Среднем Востоке во время религиозных церемоний в течение одной минуты произносят сто двадцать четыре имени-эпитета Аллаха; это же происходит во время танца – и так же бьется человеческое сердце. Таким образом, с каждым ударом сердца называется имя Аллаха. Через некоторое время человек впадает в транс…
Джемаль не знал, что та же формула применяется на всех дискотеках мира, барабаны и ударные установки точно так же используют ритм ста двадцати четырех ударов в минуту.
Джемаль привык к молебнам и не очень волновался, ожидая, что церемония закончится и люди начнут успокаиваться. После совершения обряда зикра шейх тариката дал верующим наставления, прочитал хадисы. И действительно, люди начали расходиться. Селахатдин подвел Джемаля к шейху, поцеловал ему руки и сказал, что это его армейский друг, мусульманин, и что он немного запутался в некоторых сложных вопросах…
Шейх огладил седую бороду. Несмотря на преклонный возраст, его маленькие голубые глазки оставались яркими и проницательными.
– Дитя мое, – сказал он, – мы живем в такое время, когда попрана правда, перепутаны добро и зло, красота и мерзость, отчего мусульмане пребывают в больших метаниях и состоянии внутреннего кризиса. Я не осуждаю этого, однако ни в коем случае нельзя считать ислам религией мести, в такое не верь! Само слово «ислам» означает покорность Богу, это – религия мира. Если ты хочешь понять ислам, не доверяй ничему и никому, кроме Священного Корана, хадисов Пророка и Сунны. Потому что ислам – религия ясная, открытая. Политика портит религию, сеет семена внутреннего раздора, рождает ересь. Смотри, что повелевает 32-й аят суры «Трапеза» Священного Корана…
Ходжа прочел аят по-арабски, а потом перевел на турецкий: «Если кто-то убьет другого, или нанесет ему вред, то будет так, словно он все человечество убил. Тот же, кто спасет от смерти другого, подарит ему жизнь, словно всему человечеству дарует жизнь».
Шейх говорил мягко и улыбчиво. Он ошеломил Джемаля. Впервые за всю свою жизнь он не испытал религиозного страха, словно омылся изнутри свежей водой.
А шейх продолжал:
– Дитя мое, 40-й аят суры «Поэты» гласит: «Тот, кто ответил злом на зло, породил зло. И только тот, кто простил, заслужит мира и согласия, принадлежащего Аллаху; вне всяких сомнений, Аллах не любит несправедливых».
Шейх говорил долго-долго, читал айяты о мире и добре из сур «Корова», «Трапеза», «Скот», «Преграды», «Праздник», «Верующие», «Женщины», а завершил беседу айятом, который поразил Джемаля в самое сердце: «Матери и отцу, близким и сиротам, обездоленным, близким и дальним соседям, своим друзьям, путникам и, конечно, себе – всем без исключения делайте добро».
Это был 36-й айят суры «Женщины».
Затем шейх спросил:
– Все ли ты понял, дитя мое? Рассеялись ли твои сомнения? Убедился ли ты в том, что Книга Всевышнего и повеления нашего Пророка наказывают держаться подальше от насилия, быть миролюбивым и терпимым? Понял ли ты сейчас, что организация убийства никоим образом не может быть связана с Аллахом?..
На обратном пути Джемаль удивленно думал о том, что шейх словно в сердце к нему заглянул – он говорил так, словно знал, что юноша собирался убить Мерьем. Джемаль даже начал было с подозрением посматривать на Селахатдина, ведущего машину. Интересно, мог ли он заранее рассказать обо всем шейху? Потому что откуда тому знать обо всем, даже о том, что Мерьем сирота? Но тут же понял всю нелепость своих подозрений, ведь такого просто не могло быть.
Когда они вернулись домой, рядом с невесткой Селахатдина находилась молодая девушка. Селахатдин, представляя ее Джемалю, сказал, что это его младшая сестра. Девушка не пожала ему руки, только издалека кивнула головой. Похоже, что и она, придерживаясь правил веры, не прикасалась к мужской руке. Платок на голове у нее был завязан в виде тюрбана, шея тоже укутана, а концы крепко стянуты сзади. Несмотря на все эти меры, Джемаль мог заметить, что это красивая девушка, однако ее миловидность несколько портило то, что щека у нее была такая же синяя, как у Мерьем, даже еще четче проступал след от удара. Салиха (так ее представил Селахатдин) принялась с волнением рассказывать о том, что случилось вчера.
Она с подругами, как всегда, шла на лекции, но вдруг они натолкнулись на баррикады и полицейских, которые не пропускали на занятия девушек в платках. Протестующие девушки поднимали транспаранты, кричали, что покрывать голову платком – это право человека, выкрикивали лозунги: «Да здравствует ислам, да сгинет тьма!» и дудели в свистки. Лавочники поддержали митингующих и начали оглушительно им аплодировать. Студенты-мужчины тоже поддерживали эту акцию, выражая негодование в связи с действиями полицейских.
Впрочем, это уже стало делом обычным, повторяющимся каждый день. По решению правительства полиция не пускала на занятия девушек с покрытыми головами, а те организовывали акции протеста.
В этот раз все пошло по-другому. Возможно, полицейские переусердствовали, с излишним рвением выполняя приказы вновь назначенного главы службы безопасности Стамбула, желая выставить себя в лучшем виде перед лицом светской Анкары и светской армии, и использовали водометы. Началась паника. Полицейские вытащили дубинки и без всякого предупреждения начали избивать протестующих. Раздались женские крики, кто-то падал на землю, у кого-то было разбито в кровь лицо, кто-то, лишившись чувств от волнения, валился на асфальт…
Салиха в отчаянии начала кричать полицейским:
– А у ваших матерей разве головы не покрыты платком?! У вас, может быть, сестер нет, может, вы не мусульмане?
И вдруг на ее голову обрушился удар дубинки, который заставил ее замолчать. Девушка рассказывала все это, а лицо пылало от волнения и выражало едва ли не радость, она выглядела так, будто вовсе не расстроилась. Завтра они соберут намного больше людей и еще покажут этим бесам! Они победят и заставят этот безбожный анкарский кемалистский режим признать свое поражение!
Селахатдин заволновался:
– Не делай этого, Салиха! В прошлый раз папа очень долго беседовал с тобой об этом, однако у тебя в одно ухо влетает, в другое вылетает. С властями шутить нельзя. Ты должна исполнять законы страны, в которой живешь. И потом – ты что, честь свою потеряешь, если волосы твои будут видны?!
Салиха сердито взглянула на старшего брата:
– И тебе мозги закрутили эти неверные! Если хочешь, можешь целовать протянутую руку, но мы так делать не будем.
– До прошлого года ты тоже ходила с непокрытой головой, Салиха. Что, до поступления в университет у тебя не было чести?
– Это другое дело. Тогда я не ведала воли Аллаха, а поступив в университет, узнала о ней от своих друзей. Ты тоже верующий, однако совсем не изучаешь правила, по которым должен жить мусульманин! Если бы ты интересовался, то открыл бы для себя многое…
Селахатдин не хотел объяснять то, что ей уже миллион раз объяснял, лишь грустно покачал головой:
– Пусть Аллах наставит тебя на истинный путь. Вас используют, и за вашей спиной ведутся политические игры!
Салиха набросилась на него с гневом:
– Тебе бы генералом турецкой армии быть, брат! Ты так же, как и они, хочешь, чтобы мы стали неверными. Между прочим, носить платок – это мое личное право. Это никого не касается!
Сказав это, она вышла и отправилась на верхний этаж, где жил отец.
Пока они ели, Селахатдин говорил об опасных тенденциях в Турции, об использовании религии в качестве оружия, о том, что таких вот наивных молодых девушек, как его сестра, вводят в заблуждение. Это вещи одного порядка: в Иране, как сейчас в Турции, исламская революция тоже началась с протестов, связанных с ношением женских платков.
Вечером, отдыхая, Селахатдин сказал Джемалю:
– Джемаль, я поразмыслил о твоем положении. В Стамбуле вам оставаться нельзя, домой тоже нельзя вернуться; не знаю, получится ли это сделать на долгий срок, но сейчас наша главная задача – найти вам средства на пропитание и место, где вы могли бы остановиться. Причем место, которое было бы подальше от ненужных глаз. Думаю, мы сможем найти какое-то решение.
От всего сердца Джемаль произнес:
– Да благословит тебя Аллах!
Депрессия, охватившая людей и рыб
Рослого, со спутанными волосами и покрасневшим лицом мужчину, спавшего на яхте, что-то неожиданно разбудило, и это был не ветер, ласкающий его бороду, не скрип мачты или канатов, не крик чаек, не шелест волны, не долетевший издалека гудок быстроходного катера.
Его разбудило чувство резкой и тяжелой тоски.
Жгучее, не оставляющее пустого места, сжимающее внутренности чувство. Однако было непонятно, откуда взялось это ощущение. Такая была это тоска, как будто ты один-одинешенек во всем мире, в вакууме, в такой пустоте, что даже самого себя не ощущаешь…
Профессор открыл глаза.
Занимался рассвет. В эти часы море бывает поблекшим, прозрачная голубизна выглядит белесой, но постепенно темно-синяя линия на горизонте начинает окрашиваться в нежно-розовый цвет, а потом зажигается алым светом, а вслед за небом и море заливает бескрайняя синева. Лишь одна синяя туча виднеется на небосводе: изогнутая, как кривой кинжал-ятаган туча. Всевышний, каждое утро создавая облака на своей картине, каждый вечер уничтожает их, сегодня он предпочел быть минималистом.
Профессор вечером крепко напился, да так и остался лежать, растянувшись на палубе, отчего под утро промок от выпавшей росы. Все суставы ломило.
Выпрямившись, он почувствовал боль в правом колене. После того, как он ушибся, швартуясь в шторм, он прихрамывал. Из-за этого становилось все трудней управлять яхтой, канат вырывался из рук и скользил.
Ему с детских лет была знакома борьба с парусами. Ветер сбивает тебя с ног, сверху накрывает волна, мачта ломается, лодка раскачивается, таль то цепляет, то отпускает, цепляет и отпускает, и если не будешь внимательным, может сорваться и убить.
На самом деле управлять парусником несложно, однако Профессор сделал ошибку в самом начале, когда арендовал судно в 40 футов длиной. Яхта была проста в управлении, однако никогда не знаешь, что случится в море – внезапно может налететь встречный ветер, тали запутаются – да тысяча всяких неожиданностей может возникнуть!
Да и не было у него навыков управления яхтой Beneteau. Если бы с ним был еще один человек, это облегчило бы управление.
Берега Эгейского моря изрезаны тектоническими впадинами и выступами, здесь столько бухт и заходить в них так опасно, потому что здесь множество скал и отмелей. Не изучив как следует карту, продвигаться вперед невозможно. А в некоторых же местах наоборот: вместо мелей – глубокая бездна. Выходя к берегам Кушадасы, Профессор зашел в книжную лавку «Куйдаш», чтобы купить что-нибудь по истории богомилов, и приобрел большой, напечатанный на плотной глянцевой бумаге дорогой каталог Магритта, а еще – английское издание Рода Хейкеля «Лоция вод Турции и Кипра».
По мнению белобородого, с волосами до плеч, сведущего хозяина книжной лавки, это было лучшее из написанного об Эгейском побережье. В плавании здесь надо учитывать даже малейшие детали, и изучение этой книги может уберечь от многих опасностей.
Чувство первых дней плавания, когда Ирфан, словно ребенок, радовался ветрам Эгейского моря, постепенно сошло на нет, и он начал ощущать всю враждебность этой стихии. Он уже был утомлен, а ветер не уставал. Старые ветры не должны встречаться с ветрами молодыми. За каждым мысом обретался другой ветер. Особенно досаждали смерчи – они несколько раз низвергались на его голову так, словно он был врагом Всевышнего! Это был очень опасный ветер, обрушивающийся с высоких вершин на воды. Он резко закручивал на воде воронки, от которых следовало держаться подальше, внезапно наседал на ничего не ожидающего человека, клонил к поверхности моря паруса. В один из дней перед Еврейской крепостью Профессор попал в такой смерч, что с трудом смог спасти яхту.
Испытывая тягостное чувство, он начал обходить некоторые бухты, словно говоря ветру: ладно, эта гавань твоя, а та – моя. Словно «пьяный корабль» Рэмбо, его яхта продолжала бесцельно сновать по Эгейскому морю. Все шло с виду без перемен, однако однажды он внезапно понял, что изменился сам, причем очень сильно.
В тот день он причалил к полуразрушенной пристани у одного маленького поселка, чтобы купить продукты и выпивку. Выходя из бакалеи, он случайно увидел выставленные у входа ежедневные газеты и бездумно взял несколько. В море он и не собирался открывать газеты, тогда как в Стамбуле он обязательно начинал свой день с них. Каждое утро он брал газеты, лежащие у дверей спальни, шел в ванную комнату и долго-долго читал, сидя на унитазе. Прежде всего он просматривал все комментарии, связанные с его именем: похвалу или критические замечания напечатали по поводу его участия в телевизионных программах и открытых заседаниях? Он настолько наловчился, что если на большой газетной полосе упоминалось имя Ирфана Курудала, он мог найти его с одного взгляда. А если не встречал своего имени, начинал читать колонку редактора.
Каждый день авторы были вынуждены выражать свое мнение по самым разным вопросам, иногда они вступали в перепалку, и их баталии продолжались на протяжении нескольких номеров. Читать все это было довольно забавно. Коллеги настолько распалялись, что, будь в их руках вместо карандашей гладиаторские мечи, топоры, копья и пращи, они разорвали бы друг друга в клочья, подвергнув соперников самой мучительной смерти. Увы, выполняемая ими работа ничем не отличалась от наказания, назначенного Сизифу. Вкалывай с утра до вечера, суши мозги – пиши статьи, а вечером все будет выброшено в мусорные корзины.
Вернувшись на судно, Профессор открыл разложенную на столе газету и от увиденного пришел в ужасное состояние. Он понял, что уже не может читать их с таким удовольствием, как раньше. Газеты больше не рассказывали о его собственной стране, словно это были газеты не Турции, а какого-то чужого государства. Все было другим – взгляд на мир, язык, новости, которым уделялось внимание, фотографии. Просматривая газеты, Профессор осознал, как сильно он изменился за прошедшие несколько недель. Он стал совершенно другим человеком.
Свое путешествие он разбавлял холодным пивом, совершенно не интересуясь тем, что происходит в стране, и тем, где сам он в итоге окажется. Политические дебаты, похвальбы, усилия показать Турцию в самом лучшем свете, потуги какими-то еще турецкими модельерами удивить нью-йоркских поклонников, какими-то турецкими певцами завлечь Европу, как-то еще объяснить американским политикам, что Турция – это самая важная страна в мире, для каких-то еще голливудских звезд перевести турецкие фильмы… Это было словно есть шашлык с шампура вперемежку с нанизанными помидорами – сдобрить ложь невинной моралью и не придавать значения ежедневно происходящим в стране акциям, связанным с женскими головными уборами.
На одной из газетных полос красовалось изображение девушки, на голову которой опускается полицейская дубинка. Профессор уже привык к такого рода шоу перед зданием университета и равнодушно проходил мимо, не обращая внимания на происходящее. Он объяснял мотивы такого активного поведения студенток, настаивающих на ношении платков, упрямством и ничем более. В исламских странах женщин принуждают закрывать голову, ведется борьба за то, чтобы они не снимали платки. Так почему здешние девушки в летнюю жару, претерпевая столько мучений, обливаясь потом, хотят ходить с плотными покрывалами на голове и во имя этого подставляют себя под удары дубинок? Природа и биологические законы должны противостоять тому, чтобы тело было закрытым, а не наоборот.
В чем здесь секрет?
Он искал ключ к вопросу, который засел гвоздем у него в голове. Что-то раздражало его подсознание, что-то необъяснимое. Идущие на прорыв полицейского оцепления и получающие удары дубинками девушки…
И тут его озарило!
Точно! Именно это! Полицейская баррикада была целью, препятствием, которое следовало преодолеть. Полиция – опора режима, она охраняет его. Молодежь ненавидела ее за низость и коррупцию, считая символом прогнившей власти. И во все времена молодые люди, будучи внутренне честными и склонными к мятежным чувствам, восставали против режима. И в семидесятые, и восьмидесятые годы точно так же они шли на штурм против полицейских баррикад, выставленных перед университетом, точно так же получали удары дубинками. Только в то время студенты выкрикивали левые лозунги: «Революция – единственный путь! Будь проклята олигархия!»
В 1990-е площадь перед университетом снова была полна полицейских кордонов и студентов, снова в ход шли дубинки, хлестала вода из брандспойтов. Студенты кричали по-курдски: «Свободу Курдистану!», «Биджи серок Апо!»[38]
На их шеях красовались шарфы желто-красно-зеленого цвета, а в руках – усатые портреты руководителя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана и Сталина.
А в 2000-е годы та же площадь заполнилась девушками в хиджабах, которые с дикими криками вступали в стычки с полицией. Из водометов снова била вода…
В общем, во все периоды истории отряды полиции и студентов играли в одну и ту же игру, менялись лишь лозунги и внешний вид участников.
Эта неизменная ненависть молодых к прогнившим режимам приводит к внутреннему бунту, они испытывают потребность во внешнем выражении ее в разных формах. Девушки тоже входили в конфликт, покрывая голову, исключительно в знак протеста: чтобы доказать свою точку зрения семье, школе или обществу.
В коммунистической Болгарии леворадикальная молодежь породила Живкова, в Румынии – Чаушеску, живи эти бьющиеся за право ношения платка девушки в Иране, они бы подняли борьбу за право снять свои покрывала.
Да здравствует мятежный дух, да здравствует революция, да здравствует бунт, да здравствует Кропоткин, да здравствует Бакунин, да здравствует Хомейни!
Профессор задумался об этом и тут же окоротил себя:
– Тебе до этого какое дело, греховодник?! Идиот, на что тебе все это?! Оттого, что ты родился в это время и в этом регионе мира, ты что, должен разрешить все мировые проблемы? А если бы ты родился в XIV веке в Китае, то думал бы о совсем других мировых вопросах и снова бы заблуждался. Что, ты пойдешь пятнадцать лет бороться за эти горы или удерживать позиции на море, а может, восстанавливать разрушенные дома?! Брось это, парень, оставь эту ерунду!
Он откинул газету и открыл еще одну бутылку холодного пива.
Уже долгое время он плыл по Эгейскому морю, однако только раз подошел к греческим островам; это был один из близлежащих островов – Кос. Он вошел в порт Коса, предъявил паспорт и визы, получил официальное разрешение на заход в Грецию и впервые за долгое время провел один вечер на берегу.
Сначала он поужинал в ресторане, который славился своими блюдами из морепродуктов – осьминогами, красной барабулькой с фавой, приправленной пряными травами. Он запивал вином «Резине», а потом отправился на дискотеку, где местные музыканты играли рембетику[39].
Музыкальная атмосфера была столь опьяняющей и дурманящей, так ударяла в голову, а мужчины и женщины, исполняющие посреди танцевальной площадки зейбекико и касапико[40] были такими дерзко смелыми, что после полуночи, едва выйдя на открытый воздух, Профессор сразу же почувствовал тяжелое опьянение, не понимая, отчего это его так развезло – от выпитых подряд нескольких бокалов узо или от дурманящей атмосферы дискотеки. Он шел, шатаясь, по безлюдной улице и чувствовал себя как один из рембетов, живущих во время святых сподвижников музыки Маркоса Вамвакариса и Василия Цицаниса[41].
Это была музыка анатолийских румларов[42], вынужденных сотнями тысяч переселяться из разрастающего Измира в Грецию – дымная, таинственная, обжигающе-купоросная, возносящая некоторых до высот легких летних среднеземноморских ветров и низвергающая других в пучину самых глубоких эгейских глубин. Возможно, она воздействовала на него так сильно, потому что это была музыка его соотечественников. Временами Профессор размышлял о музыкальной силе рембетики, и о том, каким образом сложилось огромное влияние подобной музыки на людей, благодаря безграничной искренности: таковы блюз, фадо[43] и напевы Средней Анатолии. Но сейчас он не хотел ни о чем думать и не хотел ничего хотеть…
С трудом найдя свою яхту на причале, не раздеваясь, он рухнул на кровать и еле смог проснуться только после обеда; он чувствовал такую головную боль, словно ему в мозг вгрызалось сверло пятого диаметра. В ушах до сих пор звучали бузуки и гремели ломкие ритмы рембетики.
Он снова почувствовал острое желание удалиться в безлюдные бухты, в свое одиночество. Все, что у него теперь было, – это одиночество. В тихие ночи, в бухте, по склону которой до самого моря спускались сосны, источающие запах будоражащих воспоминаний, он был вынужден сидеть, засветив железный фонарь с газовой лампой шведского производства, в кромешной тьме, обнимающей округу словно смерть, содрогаясь, пугаясь каждого шороха, слепо подчиняясь природе…
Днем он наблюдал за поплавочными удочками, заброшенными в море, это его развлекало. Присматривая за удочками, он прохаживался вдоль яхты, но поймать разноцветную лампуку не удавалось. Некоторые называют лампуку рыбой-дельфином, но на самом деле это неправильно. На Дальнем Востоке ее называют махи-махи, а эгейцы именуют эту редко попадающуюся на крючок рыбу «голой». Каждый день в один и тот же час под вечер она появлялась, словно сводя его с ума, но никак не давалась в руки! Наконец как-то худющий и чернющий рыбак с проходящего мимо утлого суденышка, видя его тщетные рыбацкие потуги, дал ему совет: «Брось блесну, поймай одну штуку и жди, не вытаскивай ее, увидишь, как на все удочки придут». Так и получилось. Как только одна заглотила приманку, другие тут же ринулись, чтобы быть пойманными. Все как у людей.
Одажды утром, буквально усадив себя за шиворот к столу, он написал первую фразу своей книги: «На городском рынке Сребреницы пуля, выпущенная сербским снайпером, разнесла голову десятилетнего боснийского мальчика Ибрахима; который, конечно, не знал о судьбе одного из своих прадедов, самосатца, точно так же убитого за сотни лет до этого, в Междуречье, на расстоянии, удаленном отсюда на тысячи километров…»
Потом добавил: «Такова была судьба богомила».
И что дальше?
«Дальше» не было. На ум не приходило ни одного слова, никакой идеи. Не писалось. Он еще несколько раз прочел понравившееся ему первое предложение. Без сомнения, начатая таким образом книга может заинтересовать, однако как продолжать? Чтобы написать книгу, тысячи слов должны бить ключом, низвергаться водопадом. Может быть, у него нет таланта рассказчика?..
Профессор думал о сильном ветре, начавшемся неожиданно посреди дня, который раскачивал судно, как зыбку.
Потом он отбросил эти мысли; на данный момент жизненно важным было найти поблизости спокойную бухту, чтобы уберечь и себя, и яхту. Он не мог рисковать из-за больного колена.
Открыв книгу Хейкеля, он определил свое местонахождение и увидел, что совсем рядом есть заманчивая бухта, в которой можно провести ночь. Ее и бухтой-то в прямом смысле слова нельзя было назвать: как было показано на карте, море, извиваясь, словно река, врезалось здесь в береговую часть суши. В бухты, подобные рекам, разумнее заходить при дневном освещении, но Профессору это было неизвестно. Пока он пытался продвинуться дальше первого предложения будущей книги, уже наступил вечер.
Когда он, включив двигатель, входил в устье залива, уже основательно стемнело. Стояла безлунная ночь, ничего не было видно. Профессор весь обратился во внимание, впереди предстоял сложный участок. Карта показывала, что здесь опасные мели. Он смотрел на эхолот, меняя направление, если цифры начинали снижаться. Под днищем яхты располагался крупный фальшкиль.
Внезапные повороты и изгибы все учащались, словно он шел по реке, вгрызаясь в сушу. Чтобы лучше видеть все вокруг, он включил прожектор, это и в самом деле оказалось очень полезным. Он освещал берега и воду перед носом яхты, обеспечивая хоть какую-то видимость.
Ветер, бушевавший снаружи, в бухте совершенно утих. Продвигаясь очень медленно и осторожно, через какое-то время он понял, что зашел в самую глубину бухты, потому что впереди из темноты, словно огромная пирамида, вырос холм. Волшебное это было место, не похожее ни на одну бухту, в которых он побывал прежде! Профессор вздрогнул, охваченный волнением, он не понимал, что происходит. Он поплыл прямо перед холмом. Так или иначе, должно же там быть место, где можно бросить якорь! А может, спокойнее будет, если он пришвартуется к одному из деревьев?
Стоял полный штиль, казалось, остров так близко, что его можно коснуться рукой.
Профессор тщательно осматривал берег, и вдруг… Он едва не умер от страха: в безлюдном, забытом богом месте на него вдруг начали орать:
– Эй, земеля! Туши свет, туши свет!
Это был грубый мужской голос, он звучал с угрозой. Мужчина требовал погасить свет таким тоном, словно если распоряжение не будет выполнено, то по яхте будет открыт огонь. Не понимая, что происходит, Ирфан выключил прожектор. Все вокруг погрузилось в кромешную тьму.
Кто эти люди на берегу? Сколько их?
Профессор не понимал, почему они набросились на него, требуя выключить прожектор.
Он бросил якорь, вздрогнув от лязга цепи, и подумал: «Лучше бы я вообще сюда не заходил. Неспокойная бухта, гораздо правильнее было бы сказать – зловещая река…» Ему на память пришел фильм «Река невозврата». Остров казался волшебнейшим из берегов, принесшим на голову Одиссея тысячу и одно несчастье…
Остановившись, он некоторое время сидел неподвижно в темноте. Быть может, если и газовую лампу зажечь, на него разозлятся? При свете ручного фонарика он приготовил себе виски и, глядя на холм, возвышающийся во тьме как пирамида Хеопса, выпил. В бухте не было других судов. Если бы они были, виднелись бы хоть какие-то огоньки, слышались бы звуки.
Однако стояла полная тишина.
Вдруг послышался легкий плеск воды, словно кто-то греб веслом. Чуть позже он понял, что не ошибся, потому что с лодки, подплывшей к яхте, его окликнул мужской голос:
– Ас-салям алейкум!
У Профессора уже сил не было реагировать на все, свалившееся ему на голову этим вечером. А тут нате вам – в довершение ко всему незнакомый человек совершенно внезапно обращается к нему с религиозным приветствием! Гость был явно не моряк.
Профессор посветил ручным фонариком: в лодке сидел рослый молодой человек. Скуластое лицо, очень худой, но явно физически сильный. Профессору ничего не оставалось, как пригласить парня на яхту. Пришвартовав лодку, молодой человек живо взобрался на палубу.
– Вы уж простите, – сказал он. – Здесь – рыбная ферма. Морской окунь и дорада в садках. Они приходят в беспокойство от света, начинают биться друг о друга и погибают. Нас строго-настрого предупредили: верхние прожектора не включать.
Поняв, в чем дело, Профессор немного успокоился и спросил, где именно находится рыбная ферма.
– В той стороне, – молодой человек показал на берег, оставшийся слева. – Мы тоже там, на берегу, остановились в сторожке. Из-за деревьев вы не сможете увидеть свет нашей керосиновой лампы.
– Понятно. А такой свет рыбе не вредит? – поинтересовался Профессор.
– Нет, и, если вы здесь лампу зажжете, тоже ничего не будет. Только от верхнего прожектора может быть вред, да еще от шума. И если ковшом вычерпывать рыбу, тоже плохо. Те, которые уцелеют, покрываются белыми пятнами. И погибают от огорчения.
– Надо же, насколько чувствительная рыба!
– Да, правда! Мы тоже только учимся. Если вы останетесь здесь до завтра, я вам покажу.
Профессор представился, в ответ на это парень протянул костлявую ладонь и пожал ему руку, назвавшись Джемалем. Профессор почувствовал необычайную жесткость и большую силу руки молодого человека. Он хотел угостить его выпивкой, однако Джемаль отказался, объяснив, что совсем не пьет. Потом произнес:
– Мне надо возвращаться. Со мной девушка, она боится змей.
Ночью, поразмыслив о рыбах, впадающих в депрессию, Профессор написал еще несколько предложений о богомиле, а потом, чтобы загасить свое возбуждение, допил оставшиеся полбутылки «Джека Дэниэлса», решив, что ничего страшного в этом нет.
На следующее утро его разбудили острые, как бритва, солнечные лучи, он осмотрелся вокруг и понял: колдовство ночной сказки исчезло. Гомеровы призраки покинули бухту.
Перед ним расстилался захватывающей красоты залив – изумрудно-голубая вода и холм, до самой кромки морского берега покрытый сосновым лесом. Корни некоторых деревьев забурились прямо в море. На берегу, там, где показал Джемаль, и в самом деле виднелись буйки рыбной фермы.
Чтобы избежать опасности солнечного облучения, чувствительные, изнеженные рыбы сейчас, должно быть, погрузились в глубокий сон…
Профессор не хотел покидать залив; при дневном свете он казался таким спокойным, а лазоревый цвет моря настолько изменил бухту, что захотелось провести здесь несколько дней, чтобы сосредоточиться над книгой.
С таким благим намерением он взял лежащую перед ним бумагу, долго думал, грыз кончик карандаша, снова и снова перечитывал написанное днем ранее, а потом добавил еще одно предложение: «Судьба Ибрагима была определена за несколько веков до этого, потому что он был христианином Восточной Анатолии.
Это религиозное течение преследовалось как еретическое ортодоксальной церковью, а в конце ХХ века уже христиане убивали богомилов за мусульманскую идентичность. Итак, я расскажу вам историю одного из отказников, не пожелавших идти на компромисс с властью».
Эх, и это предложение вышло таким же банальным, как и начатое вчера, но уж как получилось… Важно, что он продолжил работу! А это значит, что теперь под полуденным солнцем он имел право выпить бокал холодного как лед белого вина и слегка вздремнуть.
«Слегка вздремнуть» растянулось до наступления вечера. Проснувшись, сквозь слипшиеся веки он увидел, что к яхте подплывает на своей лодке Джемаль. Профессор подумал: «Интересный тип!» и окончательно проснулся.
Атмосфера общения была дружелюбной, однако создавалось такое впечатление, что в любой момент может возникнуть опасность. Профессор видел, что его спутанные седые волосы и черная борода вызывают большое уважение у молодого человека. А что, Джемаль мог бы показать ему рыбную ферму, а заодно и накормить ужином в сторожке – чем Аллах послал. Профессору казалось, что на него смотрят как на посланца Всевышнего, и ему это понравилось.
Причалив к берегу, Джемаль показал ему огороженные буйками садки, в которых выращивалась рыба. Это выглядело так, словно миллионы рыб, не имея просторной площадки, чтобы плавать, стояли, плотно прижавшись друг к другу. Отведя взор от этой рыбной тюрьмы, Профессор поглядел на берег и под столетними, одичавшими оливами увидел сторожку. Маленькая хибара была построена на краю берега, среди густого леса, спускающегося по крутому склону до самой воды. Избушка на курьих ножках, без окон без дверей. На краю свалены большие мешки. На них написано «Рыбный корм фабрики Картал». Как потом объяснит Джемаль, этот корм делается из костей рыбы-хамсы. Вокруг все было пропитано тяжелым рыбным запахом.
Из хибары вышла девочка, голова ее была повязана платком. У нее были огромные зеленые глаза. Приподняв брови, она смерила взглядом нежданного гостя и кивнула головой в знак приветствия. Девушка выглядела лет на 13–14, максимум 15. Если в Америке мужчина даже легонечко погладит такую девушку, то будет признан извращенцем и окажется в тюрьме (как бедолага Роман Полански), однако в анатолийских деревнях пожилые мужчины выбирают, как правило, девочек-подростков. И никто слова не скажет. Профессор с гневом подумал о Джемале: «Должно быть, этот сиволапый попортил девочку, этого ребенка!» Однако самым вежливым образом, с любезнейшей гарвардской улыбкой произнес: «Добрый вечер!»
Его усадили на импровизированную плетеную табуретку. Смеркалось. Запрыгнув в лодку, Джемаль отправился к садкам, чтобы выловить оттуда дораду для ужина. Он правил веслами стоя, и Профессор мог видеть, что движения юноши гибкие и сбалансированные, как у тигра.
Он наблюдал, как осторожно опускает Джемаль в воду ковш, но, судя по рассказанному ранее, как ни старайся, а очередной депрессии рыбам не избежать!
В это время маленькая девушка, не глядя на него, молча готовила еду. С балки под потолком хижины свисала старая рыбацкая корзина, в которой виднелись несколько перезревших помидоров, лук и сморщенные огурцы. Потянувшись, девушка достала все это и начала резать.
Джемаль вернулся в сторожку с двумя дорадами в руках и тут же принялся их чистить. Он соскреб чешую с еще живой рыбы, потом вспорол им животы, и, вырвав рукой внутренние органы, отбросил их в сторону. Непонятно откуда взявшаяся пара одичавших кошек со скоростью молнии схватила рыбьи легкие и кишки и пустилась наутек. Должно быть, рядом со сторожкой в лесу, спускающемся до самого моря, жили бок о бок разные животные. Вот и Джемаль говорил накануне о том, что девушка боится змей.
Профессор с некоторым напряжением оглянулся вокруг.
Когда основательно стемнело, Джемаль засветил висящую на балке керосиновую лампу. И тут случилась беда. Завидев источник яркого света, к ним хлынули все, какие только были вокруг, комары, мухи, бабочки, москиты, блохи и мотыльки. За всю свою жизнь Профессор не встречал такого! Его охватила паника. Худые комары до крови жалили шею, руки, голени под брюками, все тело начинало зудеть. Комары уже почти в глаза вгрызались! Среди этих лесных джунглей, к которым нельзя было добраться по суше, а только лишь морем, в этом не знающем цивилизации месте, казалось, сконцентрировались все виды насекомого насилия!
Профессор принялся хлестать себя справа налево, обращаясь к Джемалю:
– Бога ради, как вы можете так жить?! Прямо в глаза лезут, бесстыжие. Уйдите!
Шлеп!
– Пошли вон!
Шлеп.
Девушка, глядя, как огромный Профессор, вскочив, бранится и хлещет по себе ладонями, не могла удержаться от смеха.
– Каждый вечер они летят на меня, – пошутила она, – но ты им понравился гораздо больше! Этим вечером у них пир!
Профессор подумал: это связано с витамином Б, однако он не мог вспомнить, кого охотнее кусают комары – тех, у кого излишек, или тех, у кого нехватка этого витамина. Все это напоминало историю человека, которого, чтобы спасти, привязали веревкой за талию – «никак не вспомню, то ли на крыше, то ли в колодце».
Увидев, что от комаров никак не отделаться, он прыгнул в лодку Джемаля и поплыл на яхту. Собрав, какие только смог найти, инсектицидные препараты – мазь, спрей, одеколон, Профессор вернулся назад. Намазавшись сам, он передал все это добро девушке, и оба почувствовали облегчение.
Девушка зажарила на сковороде почищенную Джемалем рыбу и предложила ее на ужин вместе с приготовленным ранее салатом. Профессор расстроился, что не взял с яхты выпивку, однако, с выпивкой или без, у него не было никакого намерения и дальше оставаться в этой нищей лачуге. Съев рыбу, он направился прямиком на яхту и хотя предпочитал Жан-Пьера Рампаля, в этот раз выбрал Эрика Сати – произведение, называемое «Гносиенны», которым в последнее время никак не мог наслушаться, особенно звуками первой мелодии: сдавленные тембры пианино рождали в душе такие чувства, словно ты пришел в этот мир только для того, чтобы слушать эту музыку, и переноситься, слушая, в плексиглазовую, хромированную, созданную из алькантары среду. Его мысли окутывал, словно бархат, дымный вкус «Джека Дэниэлса»…
Как сказал, так и сделал.
Однако из головы не выходила маленькая девочка с огромными зелеными влажными глазами.
Что за странные у нее глаза: по-детски наивные, невинные и в то же время чувственно-обманные…
Все было в этом, исподтишка брошенном на него взгляде!
Зов молодого тела
Десять дней тому назад Джемаль, и не подозревающий о существовании этой затерянной на берегу Эгейского моря бухты, выходя вместе с Селахатдином из дома, думал о том, что никогда не видел и не увидит более прекрасного человека, чем его армейский друг. Сколько добра тот ему уже сделал: и в гости к себе домой пригласил, и нашел место, где они с Мерьем могут голову приклонить, и, стараясь не смутить Джемаля, засунул ему в карман сколько-то денег, ласково произнеся: «Не думай, что это благодеяние и все такое прочее. Просто даю предоплату за две недели».
Вдобавок ко всему он отвез Джемаля на своей машине прямо до Рахманлы, чтобы забрать Мерьем. А на все его благодарности отвечал: «Мы – товарищи по оружию. Кто знает, сколько раз ты спас мне жизнь? Стоит ли об этом говорить?!» Однако в глазах Джемаля Селахатдин уже был не просто армейским другом, он смотрел на него как на легендарного Салах ад-Дина Айюба – героя тех преданий, которые часто рассказывал ему отец. Это был человек другого времени.
Когда они забирали Мерьем, Якуба не было дома, поэтому с братом попрощаться не удалось. Да к тому же, понимая друг друга без слов, они оба пришли к одному решению: молчать. Оба брата будут молчать. Джемаль знал, что Якуб действительно никому не расскажет про все, связанное с Мерьем. В свою очередь, Джемаль никому не станет рассказывать про Якубов Стамбул.
Когда Селахатдин посадил их на междугородный автобус, сердце Джемаля переполнилось благодарностью к другу. Он даже не знал, что без него делал бы, потому что Мерьем спрятать нельзя было нигде. Селахатдин отправил их как можно дальше: на побережье Эгейского моря. Там, в одной из деревень, неподалеку от водного источника, располагались рыбные хозяйства, а сторож, который должен был находиться там постоянно, из-за болезни кого-то из своих родственников попросил двухнедельный отпуск. Вот, может, Джемаль, взяв девушку, и побудет там две недели, от глаз подальше? А за это время найдется какой-нибудь выход, чтобы разрешить ситуацию. «Аллах милостив!» – сказал Селахатдин. Да и работа, которую требовалось выполнять, не была трудной – утром и вечером давать рыбам корм и сторожить.
Автобус шел по хорошей высокоскоростной дороге среди эгейских лугов, а Джемаль думал о том, что за последнюю неделю он проехал столько, сколько в жизни своей не ездил. Миновав иракскую границу, они направились к греческим берегам. Эминэ была так далеко, что он уже даже мечтать не мог о ее белом, мягком теле… И все это из-за девчонки, сидевшей рядом. Никого в жизни Джемаль не ненавидел так сильно, даже партизан, по которым они вели огонь в горах. И что бы там ни говорил Селахатдин, эта грешница заслуживала смерти! Однако, посмотрите-ка, достославный десантник Джемаль не смог ее прикончить – оказался неспособным прихлопнуть ее, как муху.
Не зная, чем занять мысли, временами он проваливался в сон, а когда просыпался, в нос бил запах лимонного парфюма. Мальчишка, помощник водителя, ходил по рядам с одеколонной водой. По радио разносилось хриплое завывание исполнителя арабесок.
Кто была эта девушка, сидящая рядом с ним: шлюха, грешница, несчастное существо, не успевший вырасти ребенок?
Эти вопросы, как и всё, произошедшее за последние дни, было для Джемаля очень сложным, и если он начинал об этом размышлять, то просто увязал.
В автобусной тряске, погружаясь в сон, он думал о том, что в последнее время в сновидениях ему совсем не являлась Чистая Невеста, и это было очень странно! В трудные и напряженные военные дни она приходила во снах через ночь, словно сам шайтан искушал его трепетом ее белопенного тела, а теперь совсем исчезла. С того момента, как они выехали в дорогу с Мерьем, Чистая Невеста не появлялась. Джемаля жгла тоска по запаху и теплоте ее девичьего тела, однако не в его власти было вернуть девушку в человеческие сны. В сон не пригласишь, не затащишь, она приходит сама, когда захочет…
Отца он старался совсем не вспоминать, ведь он не выполнил ничего из того, что велел отец. Из-за этого Джемаль не мог ни письма ему написать, ни позвонить кому-нибудь из родственников, у которых дома был телефон, чтобы подать весточку о себе. Рано или поздно придется как-то объяснять все, однако сейчас он даже не хотел думать об этом, отдавшись на волю случая.
А Мерьем сидела у окна, прислонившись к стеклу. Она так устала дрейфовать от одного потрясения к другому, не осталось больше сил. Опять ее куда-то на поезде везут… Месячные закончились, слава богу, благодаря «Orkid», которые дала ей Сехер, она уже не боялась этого. Очень полезное изобретение! В дороге ей не раз помогла эта коробка. Но что делать в следующем месяце, где она их возьмет? Сехер сказала, что они продаются в аптеке, но как она сможет их купить? На какие деньги? Интересно, что делает сейчас Сехер? Умер ли ее брат или еще жив?..
Все женщины в автобусе, за исключением очень пожилых, ехали с непокрытыми головами. Молодые девушки были одеты в голубые брюки, тесные настолько, что бедра наружу выскакивали. Сверху – розовые, белые, голубые, оранжевые блузы без рукавов, с приоткрытой грудью. Воротники у блуз так распахнуты, что, когда девушки чуть-чуть наклонялись, можно было увидеть грудь, однако никому до этого словно не было дела. В их ушах красовались серьги, на запястьях – браслетики, на шеях – тонкие золотые цепочки. У некоторых на цепочках были подвешены сердечки. Должно быть, помещают туда фотографии своих возлюбленных… Девушки чувствовали себя свободно, громко говорили, смеялись, хохотали. Одна-две во время остановок даже курили сигареты.
Рядом с этими девушками Мерьем ощущала себя обносившейся, нищенкой. Дома у Назик она выстирала в корыте всю одежду, от чего голубой цветастый ситец еще сильнее полинял, а длинная, по щиколотку, юбка успела снова замараться. Хотя она тщательно мыла и терла резиновые сандалии в пруду Рахманлы, не успела она дойти до дома, как они снова стали грязными.
Эти резиновые сандалии, будь они прокляты, почему-то с самого того дня, как они покинули село, не выходят у нее из головы. Может, потому, что ее глаза все время опущены вниз, взгляд постоянно натыкается на эти грязные сандалии. Толстые носки на ногах тоже смотрятся довольно смешно, но, однако, они, как и повязанный на голове платок, не беспокоили ее сейчас так сильно. В селе, оставшемся за горой Каф, этот платок почти никому и не бросался бы в глаза, а здесь заставляет чувствовать себя по-дурацки. Да и погода становится все теплее. Она чувствовала, что ноги в теплых носках потеют. Некрасивая, старая одежда ее убивала.
С правой стороны распростерлось искрящееся, бескрайнее море. Иногда они проезжали населенные пункты, остановки с автозаправками; девушки, которых она видела в придорожных кафе, не были похожи на нее.
Джемаль с нею совсем не разговаривал, таскал ее, словно котенка, туда-сюда. Вместе со своим другом забрал ее из дома в Рахманлы, посадил в автомобиль и привез на автостанцию. Всю жизнь она сидела сиднем, никуда не выезжала из дома, а тут за одну неделю повидала столько автобусов, автостанций, вокзалов, паромов, автомобилей и людей, что ее уже ничего не удивляло. Единственное, о чем она хотела знать, – что же будет дальше. Куда они едут?
Когда они садились в автобус на автовокзале в Стамбуле, Мерьем было испугалась, что они возвращаются домой, но вскоре по объявлениям, которые делал водитель, и разговорам попутчиков она сообразила, что они едут в другое место.
Она совсем не знала Турции: у нее не было представления о том, где находится Юго-Восточная часть, где Черноморская, где Эгейская. Она снова вспомнила, поражаясь своей наивности, что еще совсем недавно считала, будто Стамбул находится сразу за их селом. Она жила, погрузившись в свой фантастический мир, в котором не так уж было и важно, где явь, а где сон. Чудеса Шекера Бабы; армяне, унесенные в небеса неожиданно налетевшим ветром; знаменитый армянский гусляр Богос, который, перебирая струны, мог заставить плакать соловьев: ее голова была забита множеством фантазий…
Что поделать, несчастливая девочка эта Мерьем. Как объясняла сестра ее матери, все несчастья начались после того, как она стала причиной смерти матери, и не счесть, сколько бед принесла своей семье! Поэтому и друзья в детстве, как только немножко начинали что-то понимать, прекращали с ней играть и разговаривать, оставляли ее одну. Никто не хотел пускать к себе домой эту приносящую несчастье девочку, и замуж ее вряд ли бы кто взял. Скорее всего, ей пришлось бы коротать свою жизнь вековухой, занимаясь домашней работой. «Я очень невежественная, – удручалась она. – Я неопытная. Кто знает, сколько эти девушки всего повидали!»
Но долго она не могла расстраиваться. У этой девочки был очень хорошо развит инстинкт самосохранения, следуя которому она немедленно выбрасывала все плохие мысли из своей головы. Она не думала обо всех несчастьях, которые пришлось ей пережить в селе, о чинимой над нею несправедливости, о пережитом на виадуке страхе – все это осталось позади. Она не возвращалась мыслями к тем дням, словно неведомая внутренняя сила закрыла в ее памяти эти страницы.
Из всего плохого, случившего с ней, она иногда вспоминала лишь то, как плакала под дверью у тети и как стыдно ей было идти по грязной сельской улице. Может быть, замызганные сандалии постоянно напоминали ей об этом…
Мерьем готова была начать совершенно новую жизнь, она мечтала об этом, но абсолютно не представляла, каким образом это можно сделать.
А Джемаль и рта не раскрывает, словом с ней не обмолвится. Даже не сказал, куда они едут. Или, может, везет ее в другое место, чтобы убить, закончить на морском берегу то, что не смог сделать на мосту?! Но почему-то Мерьем чувствовала, что это не так, она была уверена, что Джемаль уже не будет ее убивать. Она поняла это очень четко в тот момент, когда увидела его над пропастью, под моросящим дождем, согнувшимся в три погибели, раздавленным и пристыженным. Эта тема закрыта. Но, возможно, это не так? Временами ее начинали терзать такие вот ядовитые вопросы.
Мерьем удивлялась, как быстро человек привыкает к хорошему. Всего лишь неделю, как она ест за столом вместе с мужчинами, пьет воду, а уже перестала этого стесняться. Между тем у них на родине девушек, как только они начинают взрослеть, сразу же учат, что рядом с мужчинами не едят, не пьют воду, при них нельзя пойти в туалет, даже разговаривать нельзя! А вот сейчас, в столовых по дороге, она сидит напротив Джемаля и ест суп, да еще и при десятках других людей. А немного раньше, когда на автозаправке Джемаль пошел в расположенный неподалеку туалет, она тут же, совсем не стесняясь, отправилась в женскую комнату. Словно всю жизнь так и жила! Ах, как было бы хорошо, если бы она могла еще и скинуть с головы этот платок… Однако на это у нее не хватало смелости. Щека, по которой Джемаль врезал ей своим огромным, как кувалда, кулаком, до сих пор оставалась лиловой. Нет, пусть уж она будет ходить в платке, не то еще и на другую насадит синяков…
Так, продвигаясь вдоль берега моря, проезжая небольшие города, села, дачные домики, в конце концов они прибыли на берег одного поселка. Здесь было солнечно, девушки были так раздеты, что Мерьем от удивления застыла, разинув рот. Кто-то разгуливал в купальниках, кто-то – в шортах. Свои загоревшие от солнца ноги они оставляли голыми и так ходили, совсем не стесняясь своей женственности – в шортах и мини-юбках, которые едва прикрывали бедра, с развевающимися по ветру волосами. У них в селе никто никогда бы на такое не решился, даже представить себе такое было невозможно! Да и мужчины там совсем не похожи на здешних парней…
Абсолютно другой мир открылся взору Мерьем, и этот мир совершенно отличался от того, который она знала.
Запах весеннего дня смешался с запахами парфюма и масла для загара, исходящими от молодых людей. На углу группа девушек и ребят ели мороженое, и некоторые, смеясь, облизывали рожки в руках друг у друга. В этот момент Мерьем, несмотря на изношенную одежду и резиновую обувь, тоже ощутила себя молодой женщиной, ей захотелось подойти к этой компании. Как ни странно, она не смутилась, а восприняла это как самое естественное чувство в мире. Молодое и здоровое тело испытывало потребность быть рядом с голыми торсами юношей. Девушка, которой до этого дня только и говорили, что она «злополучная и глупая», которая считалась грешной только из-за того, что родилась женщиной, в этой атмосфере, среди совершенно других людей, изменилась, ее захватила головокружительная страсть весны. Даже «грешное место» между ее ног уже не казалось ей таким ужасным. Потому что было очевидно, что девушки «его» совершенно не стыдятся.
Ах, как ни жаль, но надежды Мерьем остаться среди этих людей померкли: спрашивая адрес, они нашли человека в одной из лавочек на берегу, который посадил их в белую лодку, а потом они плыли около часа, слушая рычание расположенного на корме мотора и наблюдая за ярко-лучистым берегом сквозь жаркое марево до слез ослепительного дня.
Слава богу, Мерьем, привыкшая к озеру, не боялась воды. Конечно, то озеро, в котором она плескалась, будучи ребенком, очень отличалось от здешнего, но вода везде вода! После невероятного изумления, которое она испытала, увидев в первый вечер Стамбул, ее уже ничто не могло сильно удивить.
Пока они находились далеко от сторожки, расположенной в бухте, она толком ничего не могла понять, но как только приблизились, внутреннее чутье подсказало ей, что они приехали в плохое место. Залив был прекрасен, словно рай, а там, где заканчивалось море, начинался изумрудно-зеленый лес, но хибара была ужасной.
Это было грязное, полуразрушенное, дурно пахнущее жилище. Кругом валялись полиэтилен, ржавые консервные банки, с потолка, едва не касаясь головы, свисали плетеные корзины и лукошки. В углу стояло некое подобие кровати, застеленной покрывалом, истинный цвет которого невозможно было различить из-за грязи: то ли оно желтое, то ли коричневое. Мерьем, привыкшую, что у себя дома они кипятили белье, подсинивали, отшоркивали с хозяйственным мылом на стиральных досках, пока оно не начинало скрипеть, от всего увиденного затошнило. Сельчане заботились не только о чистоте домов: в хамамах, в горячей воде – чуть ли не в кипятке – до полного изнеможения отдраивали свои тела мочалками и банными варежками. Мерьем очень беспокоило то, что за последнюю неделю она погрязла в нечистоте. У нее не только не было возможности удалять отросшие между ног и под мышками волосы, а женщины в селе это осуждали, считали грехом, но и просто помыться как следует.
Человек, привезший их, объяснил подробно Джемалю, как давать корм рыбам, как оберегать их от опасностей, и уехал. Мерьем не могла поверить, что они здесь останутся. Как они будут жить в этой лачуге?!
Прямо за лесом зияла лощина, заросшая камышом. От стоящей вокруг вони и роящихся зеленокрылых мух это место напоминало свалку.
Когда они приехали, вечерело. Мерьем сидела на морском берегу и у нее дух захватывало от красоты раскинувшегося перед глазами залива, сосновых деревьев на противоположном берегу, сводящих с ума весенних ароматов. Вокруг стоял запах герани, жасмина, лавра, сосны, ели, можжевельника. В воде отражались зеленые сосны, а на самом дне сияли драгоценными украшениями разноцветная галька и морские ракушки. Мерьем глаз не могла отвести от этих зеленых, красных, коричневых, крапчатых, фиолетовых, синих, желтых камней. Может, окунуть ноги в воду и, как в дни своего счастливого детства, почувствовать ступнями гладкий песок и удивительную прохладу?
Джемаль делал что-то в сторожке. Мерьем предположила, что, скорее всего, он оставит ночевать ее в лачуге, а сам будет спать под звездами на теплом воздухе.
Она сняла резиновые сандалии и толстые носки. У нее дух захватило от блаженства! Как приятно было опустить ноги в прохладную воду… Потом вымыла сандалии в море, отчистила грязь и, надев прямо влажные на ноги, положила носки в карман.
Ей стало намного легче.
Когда стемнело, Джемаль зажег в доме керосиновую лампу, и тут же на свет налетели сотни, тысячи насекомых, которые, жужжа, атаковали руки и ноги Мерьем. Наверное, они находили ее вкусной, они непрерывно жалили и сосали кровь. Места, укушенные комарами и москитами, невыносимо чесались и опухали. Несмотря на то, что Мерьем беспрерывно отбивалась, она не могла справиться с насевшей на нее армией кровопийц и продолжала хлопать себя по всем местам. Удивительно было, что Джемаль остался совершенно безмолвным и спокойным.
Джемаль, как только увидел эту лачугу, испытал огромное разочарование. Он задумался над тем, как они будут жить, заточенные в эти несколько метров. Его не пугал ночной лес и не досаждали комары, он даже испытал удовольствие, вернувшись памятью в лагерь спецназа, где вместе со своими товарищами проходил тренировки по выживанию в дикой природе.
Правда, когда он на весельной лодке в первый раз поехал давать корм рыбам, ему вспомнилась та ужасная ночь, когда Евфрат вышел из берегов и они перебирались на сушу по связанным и надутым овечьим шкурам…
Как только они ступили на берег, он увидел в траве за сторожкой быстро уползающую пеструю змею. Не трудно было предположить, что эти безлюдные территории могут кишеть змеями и скорпионами. Он начал соображать, как уберечь от них девушку. Подготовка спецназовца и длительное время, проведенное в горах, привили ему навыки по самозащите. Но его изумляло, что он пытается спасти жизнь девушке, которую ему же было поручено убить.
Если змея ужалит девчонку в этом забытом богом месте, то все само собой уладится. Никто за нее отчета не потребует…
«Ладно, посмотрим, – сказал он сам себе. – Посмотрим, что будет».
Он посыпал дустом, найденным на полке, кровать девушки и окрестности дома. Так хотя бы паразиты не залезут внутрь.
Через пару дней они перестали ощущать запах, привыкли к дому, но чем занять себя от скуки, не знали. Джемаль молчал, Мерьем рта не открывала, до самого вечера сидя на узкой кромке берега и опустив ноги в прохладную воду. Больше делать было нечего. Джемаль не мог спать. Иногда, запрыгнув в лодку, он уезжал на противоположный берег.
Однажды он скрылся с ее глаз на несколько часов. Воспользовавшись этим, Мерьем разделась, вошла в прохладную воду и мылом, найденным в избушке, вымыла волосы. Она пыталась соленой водой унять зуд расчесанных от укусов комаров ран. Потом, распустив волосы по плечам, оставила их сушиться на солнце.
На другом берегу показался Джемаль, и она нашарила рукой только что постиранный платок, чтобы немедленно надеть его.
Человек забирает у человека горечь
В вечернем тумане, укутавшем бухту, по неподвижной, словно стоячей воде, Мерьем и Джемаль направились к яхте, и вскоре девушка увидела нечто, возвышающееся над водой, словно белая башня. Джемаль греб веслом стоя, повернувшись лицом к яхте, и лодка причалила к этой башне.
Забираясь по алюминиевым ступенькам на судно, Мерьем почувствовала, что Профессор старается ее поддержать, и внутренне вздрогнула. Мужчина коснулся ее плеча и руки! Лицо его закрывала лохматая борода, от него пахло спиртным.
В кажущейся на фоне их собственного жилища стерильной и непривычной обстановке они с Джемалем сели на предложенные им места. Еще до их прихода Профессор накрыл стол, зажег свечи и охладил вино.
Мерьем уже не только ела с мужчинами, она теперь встретилась с человеком, который прислуживал, приготовил наполненные едой тарелки! К тому же еще и городским, образованным – университетским Профессором, в почтенном возрасте человеком. Поэтому она сидела на стуле, беспокойно ерзая, не зная, что делать, когда мужчина склонялся над тарелками, раскладывая еду, отводила в сторону глаза и не произносила ни слова.
Первый раз в жизни она видела мужчину, готовящего еду и прислуживающего за столом, и от изумления даже не могла уяснить, что он там кладет на тарелки.
Джемаль был озадачен не менее, чем Мерьем. Он не мог понять, почему Профессор с такой настойчивостью зазывал их на ужин. Почему такой важный человек хочет с ними подружиться? Он даже значительнее, важнее, чем его армейские командиры, – преподаватель огромного университета, да к тому же в возрасте его отца!
С отвращением юноша отказался от выпивки, предложенной Профессором, следя краем глаза, как тот наполняет бокал вином. И снова Джемаль предавал своего благословенного отца, и это жгло его, как огонь, однако почтенному Профессору он не мог сказать: «Вино – это грех!», а только подумал про себя: «Все мы грешны, каждый по-своему…»
В волшебной бухте, на стоящей недвижно в темноте на глади вод яхте, три человека погрузились в молчание. Каждый считал ситуацию странной, однако никто не знал, как ее разрядить.
В темноте витал восхитительный запах жасмина. Невозможно передать, какой это был умопомрачительный аромат! От него кружилась голова…
Они ели в полном молчании при теплом свете шведской газовой лампы.
После того, как первое смущение Мерьем прошло, она поняла, что блюда, которые они ели, очень вкусные. Это было похоже на колбасу, и Мерьем, вынужденную целыми днями есть одну рыбу, от которой ее уже тошнило, все показалось таким вкусным!
До того дня, когда к ним приехал Профессор, они постоянно ели выловленных Джемалем маленьких рыбок, а к фермерскому окуню и дораде даже не прикасались. Потому что это был капитал, врученный им на хранение, и есть это было нельзя. Мерьем не умела чистить рыбу, и Джемаль сам делал это. Скрепя сердце, Мерьем жарила рыбешек на сковородке и под бесстыжими взглядами диких кошек, поедающих внутренности, накрывала на стол. Чтобы поесть, Мерьем и Джемалю хватало нескольких минут.
Однако ужин на яхте был совсем другим. После грязной лачуги молодым людям здесь словно был рай: всюду так чисто, ухожено и аккуратно!
После еды Профессор угостил их шоколадом из нарядной коробки. А сам без остановки пил. Язык у него начал слегка заплетаться, движения замедлились. Когда он встал, чтобы собрать тарелки, то запнулся, поврежденная нога подвернулась, и он вынужден был ухватиться за стол.
Джемаль немедленно вскочил и сказал, что со стола уберет девушка.
– И посуду вымоет, без вопросов! – сказал он.
Мерьем взяла тарелки и по ступенькам спустилась туда, откуда чуть раньше хозяин яхты приносил еду. Здесь была устроена маленькая кухня. Мерьем не сразу нашла, куда выбросить мусор, и не могла никак сообразить, как открывается кран, но скоро со всем справилась, осталось только вымыть тарелки. Благодаря своему острому взгляду и чрезвычайной внимательности, даже догадалась воспользоваться стоящим на кухне средством для мытья посуды, и тарелки были успешно вымыты в ароматной пене.
А в это время на верхней палубе Профессор учинил допрос Джемалю, пытаясь вырвать из уст этого неразговорчивого молодого человека объяснение: что делают на рыбной ферме двое молодых людей, явно непривычных к этому делу? Зачем они сюда приехали? По какой причине? Каким ветром их занесло в эту безлюдную бухту на Эгейском берегу? И вот еще – в каких отношениях Джемаль с девушкой?
Скоро кое-что прояснилось. Было над чем Ирфану поразмыслить! Он получил информацию о дяде девушки, отце юноши. Джемаль совсем не говорил о любви к Мерьем… тогда почему они вместе здесь, в бухте? Скорее всего, парень похитил девушку и привез сюда, чтобы спрятать, а сам стесняется об этом сказать. Это значит, что они тоже на пути изменения самих себя?
В этот момент Профессору пришла на ум любопытная идея. Интересно, может ли человек, меняя свою собственную жизнь, управлять жизнями других? Или наоборот, его собственная жизнь может ли быть изменена путем трансформации жизней других людей?
Профессора привела в возбуждение идея о том, что эти двое молодых людей могут сыграть некую роль в его судьбе. Например, юноша, благодаря своей подготовке спецназовца, мог бы очень пригодиться на судне в качестве помощника. Девушка же – вон, до сих пор посуду моет. Мерьем действовала на него каким-то притягательным и головокружительным образом. Странное притяжение исходило от нее! Профессору очень понравились ее глаза – непомерно огромные для ее лица, круглые, влажные, с изумлением глядящие на мир, а еще – непосредственность этой девочки-женщины. Из-за проблем с больной ногой эта девушка может быть ему очень полезна! К тому же в скитаниях компания молчаливых молодых людей спасет его от одиночества…
Ему вспомнились слова матери: «Человек забирает горечь у другого человека, сынок».
Опять же, они – выходцы с Востока. Он сам никогда не был в Восточной Анатолии, но атмосфера Востока необходима для задуманной им книги!
Пока Профессор размышлял, Джемаль погрузился в свои заботы. Получивший отпуск сторож возвращается завтра. Когда он вернется, нужда в них отпадет. Где они тогда будут ночевать? Разрешит ли сторож девушке остаться в его хибаре? Селахатдин сделал для него все, что мог, оказал двухнедельную помощь. Теперь надо как-то самому позаботиться о себе!
Не откладывая до следующего дня, надо найти выход. Однако из сторожки они даже двинуться никуда не могли. Даже в поселок на побережье они могли съездить только с чьей-то помощью, кто-то должен был бы отвезти их на моторной лодке…
Может, у этого человека попросить работы, он мог бы работать на яхте за пропитание?
Профессор как раз подумал: «Если я предложу им работу, к тому же и заплачу, что он, интересно, скажет?»
А Мерьем, покончив с посудой, вышла на палубу и, бесшумно пристроившись в углу, вдыхала дурманящий запах жасмина и умоляла Бога только об одном: чтобы этот визит на яхту никогда не закончился. Какое красивое, чистое, приятное место! Не похожее ни на сторожку, ни на развалюху в Рахманлы. И этот человек не был похож ни на одного из мужчин, с которыми она была знакома раньше. Он отнесся к ней с уважением, она ему понравилась! Мерьем чувствовала, что нравится хозяину яхты, она была в этом уверена.
С началом весны деревья налились соком, окутывая мир вокруг сводящими с ума запахами, а душа Мерьем наполнилась беспричинной тоской. Она хотела жить. Ее плоть горела желанием жить! Ее семнадцатилетняя молодость тосковала по объятиям, так что даже руки и ноги дрожали! Эти запахи, молодые люди на пляже, облизывающие мороженое полуголые девушки, изысканно загорелые тела молодых людей, улыбки, белые ровные зубы, серьги в ушах, фривольные челки, падающие на их лица, никак не выходили из головы Мерьем. На этой яхте было нечто, принадлежащее «тому» миру…
Вместе с туманом увеличилась влажность, и обморочный запах жасмина, казалось, просачивается внутрь через кожу.
Профессор попытался вспомнить стамбульские стихи Константиноса Кавафиса: «Как лепесток жасмина матовая кожа…» Но из-за того, что мозг был затуманен алкоголем, он не мог полностью восстановить стихотворение. Да и само стихотворение, наверное, было туманным, трудно с ходу припомнить Кавафиса.
И так, обоняя сладкий аромат жасмина посреди беззвучной ночи, эти трое пришли к одному решению. Много слов не потребовалось.
Профессор, не вставая с места, попрощался с ними:
– Завтра не приходите очень рано, – попросил он. – Но и до вечера не затягивайте. Выйдем из бухты засветло.
На следующий день, ближе к обеду, лодка с подвесным дизельным мотором привезла сторожа. Это был пузатый, с трехдневной щетиной и гнилыми зубами, безразличный и грубый человек. Чужаками он не заинтересовался. Сразу же вошел в сторожку, сел на кровать и закурил.
Джемалю с Мерьем там уже было нечего делать.
Они попросили мужчину подвезти их на лодке к яхте. Первый раз на унылом лице сторожа мелькнула улыбка. Должно быть, он все же опасался, что непрошеные гости останутся, на его голову, в тесной лачуге. Он немедленно отвез их на яхту.
Когда юноша и девушка поднялись на парусник, Профессор только проснулся. Мерьем сразу отправилась на кухню. Когда перед Профессором возник кофе, о котором он еще не просил, он остался очень доволен. Удивительная эта девочка: смышленая, поворотливая, ловкая и хваткая!..
Профессор дал новой команде первые необходимые уроки: научил обращаться со спасательным жилетом, показал огнетушитель. Просто и доходчиво рассказал о двигателе, объяснил, как осуществляется движение вперед и назад. Потом дошла очередь до швартовых устройств: тросов и причальных кранцев. Он объяснил, как корабль пришвартовывается к пирсу.
Мудреные термины были трудными для новых членов экипажа, ну да и капитан не ждал, что они сразу все освоят: со временем все встанет на свои места.
Профессор послал Джемаля на резиновой лодке к берегу, чтобы отвязать от дерева веревку, которой была закреплена яхта. Выставив вперед поврежденную ногу, он вытащил якорь и включил мотор.
Яхта неторопливо тронулась в путь.
Даже при свете дня бухта выглядела настолько извилистой, что Профессор диву давался, как ему удалось без происшествий пройти здесь в темноте два дня назад.
Он рулил и успевал отдавать команды своим то появляющимся, то исчезающим, снующим туда и сюда, обмотанным веревками, хохочущим до упаду новым матросам.
Скоро они вышли в открытое море. Влажная и туманная завеса над заливом рассеялась под лучами высоко стоящего солнца. С северо-запада подул приятный ветер. Профессор расправил паруса, заглушил мотор, яхта легла набок и с приятным шуршанием заскользила по воде.
Закрыв глаза, Мерьем отдалась на волю ласкающего лицо ветра. Она наслаждалась царящей в ее душе атмосферой «новых и хороших вещей». Ощущение ужасной грязи, которой была пропитана сторожка, отшелушилось напрочь под воздействием открытого моря, ветра и прозрачного неба.
Когда они обогнули мыс, подул встречный ветер.
Капитан стоял у руля, стараясь выправить парус сообразно новому ветру. Джемаль расположился у него за спиной. Мерьем сидела на носу яхты.
В этот момент ей в голову взбрела безумная идея. В ее новой жизни это могло стать роковым… и она боялась, причем очень сильно. И все-таки растущее изнутри жгучее желание жить толкало ее на это безумие!
Слегка обернувшись назад, она бросила взгляд на двух мужчин. Они не смотрели на нее. Девушка одним движением распустила узел платка сзади. Блеклый кусок материи уже не стягивал голову туго, с каждым порывом ветра узел распускался все больше. Чувствуя, как платок сползает с головы, Мерьем смотрела вперед и с внутренним волнением ждала.
Настало время сорвать с головы это ужасное покрывало, совсем не подходящее для здешней обстановки, особенно бросающееся в глаза на этой яхте! А затем, так или иначе, придет очередь и для следующего шага – долой выцветшие голубые цветы и фланелевую юбку до пят! Из-за того, что обувь была не нужна на судне, она уже бросила возле лестницы свои ужасные черные резиновые сандалии. Однако если надо будет сойти на сушу, придется снова их надевать – других-то нет…
В это время сильный ветер резко сорвал платок с ее головы и метнул его назад, на корму. Душа Мерьем наполнилась радостью и страхом, обернувшись, с притворным изумлением на лице, она закричала: «Ах!»
Ветер на какое-то мгновение зацепил ее платок за штурвал, и Мерьем испугалась: она потерпела фиаско! Сейчас надо будет подойти, взять платок и туго повязать его на голову. Второй раз такой фокус проделать не удастся…
Джемаль вскинул брови, наблюдая за тем, что происходит.
В это время Профессор подхватил прилипший к рулю трепещущий на ветру платок и прокричал:
– Зачем ты это носишь?! Какие у тебя красивые волосы! Оставь их открытыми!
Под растерянным взглядом Мерьем он отпустил платок, который держал в руках, по ветру, и тот полетел прямо в море: сначала он будто играл и танцевал на поверхности, а затем намок и исчез в воде.
Мерьем от радости крепко зажмурила глаза.
«О, мой бог! – произнесла она про себя. – О Господи, спасибо Тебе!»
Скользящая по бирюзовой глади яхта с каждой секундой все больше удалялась от места гибели злосчастного покрывала.
У нее не хватало смелости взглянуть в лицо обернувшегося назад Джемаля, однако все уже разрешилось. Джемаль и пикнуть не мог против этого огромного, бородатого, годящегося ему в дедушки Профессора!
Теперь Мерьем была девушкой с открытой головой, и от этого сердце радостно встрепенулось. Отдав рассыпанные по плечам волосы во власть ветра, она с удовольствием опустила босые ноги прямо в пенную воду. Яхта, словно нож, рассекала море, и Мерьем наслаждалась приятным волшебным скольжением…
У нее не было никакого ощущения грешности того, что она совершила. С детства она заучила, что покрытие головы является одним из главных приказов Аллаха. Это означало, что сейчас она пошла против воли Аллаха, однако внутри разливалось ощущение огромного счастья, а скольжение по пенной воде приносило чувство такого спокойствия, что она уже ни на что не обращала внимания.
«Аллах меня все равно не любит. Всем показывает чудеса, а мне нет», – подумала она.
Скольжение по водной глади напомнило ей, как она раскачивалась на качелях, построенных в саду. Впервые за долгие годы она почувствовала себя такой же легкой, как в дни своего детства. Вылетающая из-под днища яхты белая водная пена приятно холодила ноги.
Потом она поняла, что ее кто-то окликает: «Мерьем!» Повернувшись, она увидела, что хозяин протягивает ей красную баночку кока-колы. И она взяла ее, холодную, словно лед.
И вдруг Профессор, он попросил называть его так, ей сделал что-то очень странное: улыбнувшись, подмигнул. Мерьем посмотрела на Джемаля, который оставался у руля, и поняла: парень в волнении прилип к штурвалу и ничего не видел. Тогда она тоже подмигнула Профессору. Так между ними был заложен первый кирпич сообщничества.
Однако, подмигнув, Мерьем немедленно добавила следом: «Спасибо, дедушка!», что расстроило Профессора. Ему пришло на ум стихотворение Караджаолана, которое он очень любил: «Одна девушка сказала мне «дядя», так что же мне поделать?!»
Впервые в жизни молодая девушка обратилась к нему даже не «дядя», а «дедушка». Да он ведь еще не в том возрасте, чтобы быть дедом для нее, разве что в отцы ей годится! Но, видимо, отросшие волосы и борода низводили его до положения дедушки…
Ему было обидно, что молодые ребята считают его пожилым и дряхлым, но запах жасмина возвращал ему восторг молодости.
И он еще раз подумал: «Человек забирает горечь у другого человека».
Первую ночь они провели, бросив якорь в изумительной красоты бухте, каждый ночевал в своей каюте. На паруснике было три каюты, и никто не испытывал стеснения.
На следующее утро Джемаль и Мерьем проснулись рано и вышли на палубу. Каково же было их изумление, когда ближе к обеду они увидели Профессора! Им даже поначалу показалось, что на борт приняли нового пассажира.
Потому что Профессор, встав ближе к одиннадцати утра, взял ножницы и отрезал отросшую до груди густую бороду, а затем еще и побрился. Он уже забыл, когда видел себя в зеркале без бороды, и, посмотрев на гладко выбритое лицо, с внутренним волнением подумал:
«Вот бы я до сих пор был молодым!»
Без бороды его лицо выглядело утонченным, кожа гладкой.
Он знал, что, выйдя из каюты, очень удивит ребят. Он вспомнил о сцене из романа Джона Доса Пассоса «Манхэттен». В этом прекрасном романе рассказывалось об одном бородатом человеке: как-то перед аптекой он увидел рекламу нового лезвия «Жилетт», купил его, вернулся домой, зашел в ванну и побрился, а когда вошел в комнату, дети закричали: «Ой, посмотрите, кто это?!», словно не признали его. Вот и Профессор оказался сейчас в такой же ситуации.
Вышло все так, как он и думал. Мерьем с Джемалем даже вздрогнули, решив сначала, что столкнулись с посторонним человеком, однако поняв, в чем дело, изумились, насколько же Профессор молод.
Теперь уже Мерьем не могла сказать ему «дедушка».
Хамелеон-недотепа
А сейчас, с позволения читателей, мы перенесемся в последний день – то есть день, когда Ирфан Курудал расстанется с Мерьем и Джемалем.
Через месяц после того веселого, яркого дня, когда платок улетел в море, Профессор стоял на палубе – один, с выбитыми зубами, залитым кровью правым глазом, которого он даже не чувствовал от боли, в непередаваемо глубоком отчаянии, колеблемый порывами ветра.
Приключение закончилось. И он даже представить не мог, куда направить яхту, какой курс взять.
Он поднял нагретую за день солнцем чуть ли не до кипения бутылку джина и стал думать обо всех событиях, случившихся с ним за последние дни, которые потрясли, изменили все его жизненные устои так, что теперь Ирфана Курудала нельзя было узнать.
Он выпал из жизненной колеи. Поиски метанойи закончились поражением, и он с головой погрузился во мрак разверзшейся внутри него бездны. (Ему так нравилось думать: внутри меня бездна!)
Теперь он очень хорошо понимал, почему оставил нормальную безопасную жизнь, почему ввязался в эту авантюру. Безопасность была единственной причиной, по которой он оставался заключенным в тюрьму принадлежащего ему имущества. Он хотел не просто оторваться от домов и вещей, кресельных гарнитуров, диванов, обеденных столов, сервировочных приборов, серебра и хрусталя, он поставил перед собой задачу спастись от опасности совершенно другого свойства. Какая это была опасность? Он сам! Заведенный порядок мешает человеку быть самим собой. Вот он и захотел выбраться из этого круга, как из брони.
Он думал о влиянии, которое оказала на все происходящее Мерьем. Он не знал, куда плывет, однако понимал, что с каждой секундой все больше удаляется от девушки.
Это и огорчало, и радовало его.
Он не задумывался над тем, куда прибьет его парусник, закончится ли его путешествие на одном из греческих островов, на вершине острой скалы, или его снова выбросит ветром к турецким берегам? Он не знал и не хотел знать. По крайней мере, возможность столкнуться с другим судном крайне низка. Это было практически невозможно. Потому что никто не сможет приблизиться, изменив свой путь, к паруснику, совершающему столь дикие маневры.
Среди личностей с раздробленным и фрагментарным мышлением ему нравился Мартин Иден. Ирфан постарался вспомнить, почему Джек Лондон задумал утопить этого трагического героя в море. Это означало, что разум героя отказался от многих вещей, и Мартину, связанному с жизнью лишь силой привычки, уже нечего было терять.
Ему даже в голову не приходило сейчас выплюнуть свои окровавленные зубы из разбитого кулаком рта. Он думал только о том, насколько необычный человек Мерьем. Он вспоминал, как она медленно менялась после того радостного дня, когда он выбросил ее платок в море, – словно вода, как неумолимо переходила она в иное человеческое состояние…
Профессора удивляло, что она необычайно быстро усваивала все, связанное с мореходством. Голова у нее работала гораздо быстрей, чем у Джемаля, и соображала она лучше. У того не было способности сопоставлять известные вещи и делать из них выводы. Когда Профессор подавал команду, Джемаль еще тормозил, а Мерьем уже была тут как тут – вытаскивает канаты или цепляет их к мачте, со скоростью воробья бросается к кранцам… Джемаль еще сильнее супился и смотрел на Мерьем и Профессора враждебно, он не знал, как себя вести, и поэтому его переполняла злость на девчонку.
Однажды, увидев плывущее по воде большое бревно, Мерьем предупредила их криком, проявив удивительную сообразительность. Иногда из грузовозов, перевозящих дрова, в море опрокидываются бревна, и если, не заметив, подойти к ним, то может произойти катастрофа. Если судно ударится о такую колоду, то непременно получит пробоину, может даже и затонуть. Не стоящая ни секунды на месте, бывшая всегда начеку Мерьем острым взглядом заметила приближающуюся опасность, и Профессор с Джемалем успели повернуть штурвал. Проплывая рядом с огромным бревном, Профессор содрогнулся. Он не говорил ей раньше о том, что существует такая опасность, врожденная интуиция Мерьем спасла их от беды.
Скоро пришла пора объяснить им, что нужно делать, когда судно входит в бухту, каким образом его пришвартовывать. Иногда, когда Профессор говорил: надо бросить якорь здесь и привязать судно к вон тому дереву, Мерьем возражала:
– В прошлый раз поднявшийся после обеда ветер нас очень сильно раскачивал, этой ночью такое тоже может случиться, поэтому давайте-ка лучше вот так закрепим.
Профессор оставался стоять с разинутым ртом: в действительности сказанное девушкой не было верным, однако она была так смела, что не боялась высказывать свои соображения.
«Сохрани тебя Господь, – думал он, улыбаясь. – Неужели это та забитая девушка, укутанная в платок, которую я увидел в первый раз?»
Поняв, что у Мерьем были трудности с образованием, он стал давать ей уроки чтения и письма. Девушка получала большое удовольствие, читая по слогам газету. Ей очень нравилось читать. Как-то раз, пытаясь прочесть слово «Иншаллах» – «Если пожелает Аллах», как только она повторила написанные вместе слоги «Ин» и «шал», тут же, не дожидаясь окончания слова, произнесла: «Иншаллах. Я это очень хорошо знаю».
От детских историй Мерьем даже унылое лицо Джемаля расплывалось в улыбке.
Однажды, прибираясь на судне, Мерьем увидела в каюте Профессора картину Магритта и ошарашила его вопросом: «Это улетевшие по воздуху армяне?» Хоть сорок лет думай, но ему не пришло бы в голову, что люди в фетровых шляпах на картине «Голконда» – армяне.
Как же интересно работает голова этой девушки! Но после своих слов Мерьем покраснела и пояснила:
– У нас там однажды поднялся сильный ветер, и все армяне улетели на небеса. Увидев летящих по воздуху мужчин, я подумала, что это – они.
Неграмотная девушка с головой, заполненной фантазиями и предрассудками, необычайно быстро училась тут же применять свои знания на практике. Через две недели после того, как Мерьем поднялась на борт яхты, она настолько изменилась, что от прежнего состояния почти не осталось следа.
Внешний вид ее тоже претерпел перемены. Профессор избавил Джемаля с Мерьем от их комичной одежды: взяв с собой девушку, он совершил кое-какие покупки в портовом рынке Бодрума.
Сначала Мерьем стеснялась показываться в своей фланелевой юбке и черных резиновых сандалиях в гавани Бодрума среди людей в пляжных костюмах, однако, поддавшись настойчивым уговорам Профессора, она, не поднимая головы, красная от стыда, зашла с ним в один из роскошных магазинов.
Под удивленными взглядами продавцов Профессор выбрал для Мерьем хлопковые футболки, белые брюки, джинсовые шорты, купальник и кроссовки «найк». Потом, вручив ей все это, заставил надеть в примерочной кабинке. Мерьем, не решившись на шорты, надела белые брюки, розовую футболку и светящиеся «найки», и, когда вышла, у Профессора чуть сердце не остановилось от восторга. Какая утонченная девушка! И грудь, не видная ранее под широкой одеждой, в розовой футболке округлилась как два маленьких персика…
От стыда Мерьем никому не могла посмотреть в лицо, опустив глаза вниз, вся красная, она не знала, куда деть руки.
Хорошо хоть, Профессор купил ей на выходе из магазина рей-бены, и Мерьем смогла осмотреться вокруг. Двигаясь между роскошными портовыми магазинами, она время от времени исподтишка бросала растерянный взгляд на витрины, отыскивая в них свое отражение. И вдруг понимала, что эта ну очень привлекательная девушка – и есть она! За это Мерьем чувствовала большую благодарность к Профессору, который накануне к тому же и от платка ее спас…
В ее жизни начали происходить чудеса. Одним из источников которых был этот человек. Может, это и не человек вовсе, а Святой пророк Илья, который изменил свое обличье и приплыл к ним в виде моряка? Разве не говорили и няня, и тетя: «Пока рабу божьему не придется туго, Святой пророк Илья не поспешит на помощь!» И вот, когда ей совсем стало невмоготу, в самый безнадежный момент, святой Пророк протянул свою сострадательную и милостивую руку. Немного позже она откроется Профессору и будет долго-долго объяснять эти свои фантазии…
В мужских магазинах они купили кое-что и для Джемаля.
Когда они вернулись на яхту, Джемаль сразу не узнал Мерьем, но затем, застыв как вкопанный, уставился на девушку глазами, полными гнева. Надолго его негодования, к счастью, не хватило: когда, поддавшись на уговоры Профессора, он скинул свои коричневые, толстые, измятые брюки вместе с грязной желтой рубашкой и надел короткие, до колен, морские шорты, то сразу забыл про Мерьем.
Увидев Джемаля в этих шортах, с ногами, как у курицы, Мерьем зашлась в приступе смеха. Ниже шорт торчали его бледные волосатые ноги, похожие на две половинки бублика симита, и вечная суровость брата казалась в этом сочетании комичной.
Если бы они были в поселке, то Мерьем не смогла бы так одеться, однако на белоснежном паруснике, скользящем посреди голубых вод, в прибрежных поселках, заполненных раздетыми и разодетыми туристами, ее старая одежда бросалась в глаза и выглядела нелепо.
Профессор не переставал удивляться, как быстро человек способен изменить себя и приспособиться к окружающей среде. Последние недели стали для него неким социологическим экспериментом. Как точно он заметил в одной из своих статей, написанной несколькими годами ранее, люди похожи на элегантных пассажиров трансатлантического лайнера!
Если дела идут хорошо, пассажиры развлекаются в фешенебельных салонах, пропускают друг друга в двери; если входят женщины, мужчины встают, под нежный аккомпанемент пианино чокаются хрустальными бокалами с шампанским. Но если трансатлантический лайнер идет ко дну, те же самые люди прыгают в море, отталкивая друг друга, и, чтобы спасти свою жизнь, хватаются за кусок доски, готовые за нее перегрызть глотку любому.
Приспосабливаясь к окружающей среде, человек в своей жизни уподобляется хамелеону. Но некоторые ведут себя как неумелые хамелеоны. Этот тип хамелеона изо всех сил старается подладиться под окружающий мир, но никак не может подобрать цвет.
Хамелеон-недотепа!
Могло бы выйти неплохое название для книги, однако у Профессора теперь не оставалось времени на то, чтобы предаваться фантазиям.
Рано или поздно судно остановится, врезавшись в скалу, и с пробоиной отправится на дно моря. Неумелый хамелеон потонет, и вместе с ним придет конец его недотепистости, с которой он прожил всю жизнь. И снова он подумал: «Как Мартин Иден».
С места, где он лежал, Профессор мог видеть окрашенное красным цветом заката небо – казалось, облака горят. Скоро все вокруг погрузится во тьму, словно в неизбежную смерть.
Должно быть, он забрел в какой-то пролив, потому что ветер с невероятной силой раскачивал яхту, мотая ее из стороны в сторону, однако у Профессора не было сил поднять голову, чтобы осмотреться.
Будь что будет.
За две недели Мерьем научилась хорошо складывать слоги и начала изучать карту. Развернув желтые листы на столе, они вместе склонялись над ними, и, разыскивая на карте мысы и бухты, он вдыхал свежий девичий запах. Иногда он экзаменовал Мерьем: просил, чтобы она, глядя на карту, сказала, какой это мыс. И если девушка определяла правильно: «Это, должно быть, Инджебурун!», то он восклицал: «Браво, браво!» и аплодировал ей. На самом деле обучить девушку за несколько недель правильно читать карты было невозможно, и порою, когда она ошибалась, он говорил: «Все правильно!», чтобы поддержать ее уверенность в собственных силах.
Джемаль все это время безмолвно бросал на них злые взгляды из-под насупленных бровей. На яхте образовались два враждебных лагеря: с одной стороны – Мерьем с Профессором, а с другой – Джемаль. Он ясно видел, что между девушкой и хозяином яхты существует особая близость, и сердился на преувеличенные восторги Профессора по поводу способностей и ума Мерьем.
Когда стало очевидным, что девушка в несколько раз умнее и смышленее его, Джемаль был сражен наповал. Как так получилось, что эта соплячка, это помилованное им несчастное создание так сильно изменилось! Она, обязанная прислуживать ему в родном селе, не имеющая права есть рядом с мужчинами, не смеющая даже слова произнести, на Эгейском побережье стала задирать нос. Видя это, Джемаль даже подумывал, не сбросить ли ему Профессора в воду, чтобы спасти честь семьи. Он так сильно злился, что старался не пересекаться с ними, с утра до вечера целые дни проводил в одиночестве. Пару раз он отправлялся вплавь по морю к поселкам на берегу. По крайней мере, хоть в этой области у него было преимущество перед Мерьем. Подготовка в спецназе приучила его тело к воде, и в этом у него было неоспоримое превосходство над девушкой, которая до этого дня только ноги в воде мочила.
Профессор настаивал, чтобы Мерьем научилась плавать, говорил, что если случится авария и она упадет в воду, то утонет, а поэтому надо обязательно научиться! Но девушка никак не могла решиться на это. Чтобы учиться плавать, надо надевать купальник и обнажать тело – на это она пока не могла пойти…
На самом деле ей очень хотелось надеть свой милый купальничек. И она нашла выход, как это сделать. Каждое утро, проснувшись, она надевала его на голое тело в каюте, а сверху натягивала футболку и брюки.
Первое время в новой одежде она ощущала себя почти нагой. Купальник надевать было нельзя. Правда, то ощущение наготы, с которым она вышла из магазина, заставлявшее ее дрожать всем телом, со временем прошло, и она привыкла к новой одежде, однако появиться перед Джемалем и Профессором в купальнике было выше ее сил.
А Профессор, смеясь, говорил:
– Ничего, к этому ты тоже привыкнешь! Человек быстро привыкает к хорошему. Я уже даже побаиваюсь: ты слишком быстро адаптируешься!
Профессору хотелось, бросив якорь, провести вечер в какой-нибудь спокойной бухте. Он сказал Джемалю и Мерьем:
– Неподалеку есть потрясающая бухта. Такую мы больше нигде не увидим! Давайте сядем в лодку и съездим туда.
Джемаль, как всегда, покачал отрицательно головой, он не хотел ничего разделять с ними. Нет так нет! Профессор и Мерьем сели в лодку и отплыли.
В этом месте бухты переплетались. Девственный лес выглядел так, словно здесь никогда не ступала нога человека, бухты насквозь пропитались запахом хвои, у берега вода была ярко бирюзового цвета и такая прозрачная, что видно все до самого дна, как в аквариуме.
Мерьем, свесив правую руку, опустила ее в морскую прохладу, наблюдая за маленькими серебристыми рыбками, резвящимися в глубине. Профессор рассказывал ей о месте, куда они ехали, объясняя, что здесь, где между двумя бухтами находится узкий клочок земли, в свое время Клеопатра хотела, выкопав землю, соединить эти две бухты, однако не сумела. С того времени все, кто хотел это сделать, умирали. Немного позже он показал ей разрытые места и остатки раскопов.
Когда они приплыли, уже почти стемнело, но Мерьем успела увидеть руины: с одной стороны висело закатное солнце, а с другой – восходящая полная луна. Когда тьма сгустилась, свет луны усилился.
Через какое-то время берег, на который они вытянули лодку, в свете луны начал сиять как серебряный. Они присели на гальку. Профессор открыл две банки холодного пива, которое взял с собой, и протянул одну Мерьем.
Мерьем была как во сне. От красоты, в которой она находилась, залитого серебристым светом луны берега, сумасшедших запахов, вежливости и внимания находящегося рядом мужчины у нее кружилась голова. Она словно отдала себя во власть потока, и вода несла ее куда хотела…
Она взяла пиво. Сначала губы ощутили холод банки, следом – щекочущую пену и только потом – терпкий вкус. В животе разлилось блаженное спокойствие. Она опустила ноги в набегающую на берег волну. Мерьем была невероятно рада, что рядом нет Джемаля. Возможно, впервые в жизни она проводила время как человек, который является хозяином самому себе.
Уважение, которое выказывал ей этот образованный и богатый человек, почтительность, сквозившая в каждом его движении, будили в ней странные чувства. Впервые в жизни ее ценили, ей постоянно говорили, что она умная и красивая. Размышляя об этом, она не заметила, как закончилось пиво.
Профессор ощущал большую нежность и любовь к сидящей рядом девочке. Он хотел обнять ее худенькие плечи, прижать ее к своей груди. Как ни странно, это не было сексуальным желанием. Он не чувствовал к ней физического влечения. В большей степени это можно было назвать состраданием. Обнять девушку, прижать ее к груди и так держать – этого для него было бы достаточно. Но он не обнял ее, потому что девушка могла бы понять его неправильно.
Быстро поднималась луна. Профессор спросил у Мерьем, видит ли она на луне профиль женщины. Как и большинство людей, она ничего не увидела. Сначала у него тоже не получалось увидеть, однако в детстве, благоухающими измирскими вечерами отец терпеливо учил его, как надо смотреть, чтобы увидеть женское лицо на лунной поверхности. Полная луна – как медальон, на нем с одной стороны виднеется лицо красивой женщины, которая смотрит немного вверх. Профессор долго объяснял все это Мерьем, однако у девушки ничего не получалось. Она видела совершенно другие вещи.
После неудачных попыток луновидения Профессор захотел научить Мерьем плавать. Он так сильно настаивал, с таким энтузиазмом уговаривал ее, что Мерьем, которая ощущала себя словно в тумане от выпитого пива, поглощенная волшебством этого странного вечера, не могла долго сопротивляться. После того, как Профессор вошел в воду, под покровом темноты она тоже сняла верхнюю одежду, оставшись в купальнике, и шагнула в море. Дно было усеяно маленькими камушками, ступать было больно.
Море было теплым и спокойным. Боясь, что в свете луны Профессор увидит ее такой вот, почти обнаженной, она без возражений взялась за его руку и пошла глубже в море. Через некоторое время вода дошла ей до груди. Из страха она крепко-крепко держалась за руку мужчины, находившегося рядом.
Когда внезапным движением Профессор положил ее на воду, она от испуга вскрикнула. Но он успокоил:
– Не бойся! Я тебя совсем не брошу. Ты только держи поясницу прямо. И вода сама понесет тебя. Ляг так, как лежишь в постели!
Из-за охватившей ее внутренней паники Мерьем сначала не могла исполнить этого, сгибала поясницу и начинала метаться, погружаясь в воду. Но она ощущала под собой руки Профессора, который не давал ей тонуть. С этой страховкой через некоторое время она сумела спокойно поплыть в воде.
В этой странной бухте, под светом луны, Профессор глядел на девушку, плывущую в его руках, словно белая светящаяся рыба. Он держал какое-то чудо. Время от времени он слегка касался ее, старающейся удержаться на воде, направлял, когда она теряла равновесие, и каждый раз чувство его восхищения этим тонким, белым и необычным телом возрастало. В безлюдной бухте, посреди ночи, под светом луны они были как два резвящихся зверя. Две бухты, которые пыталась соединить Клеопатра, наполнились короткими раскатами смеха и испуганными вскриками…
Поддерживая девушку под спиной и за талию, Профессор заставил ее плыть. Белая рыбка в его руках струилась жемчугом в лунном свете.
С самого того момента, как он тронулся в путь, ни разу еще он не чувствовал себя таким счастливым. Это было одно из самых счастливых мгновений в его жизни, и, что странно, он и теперь не чувствовал плотских ощущений. Сексуальное влечение могло сломать эту чистоту, это восторженное наслаждение, словно детскую игрушку…
Профессор часто потом вспоминал этот странный вечер, когда два ребенка играли в воде. Он и сам впал в детство, а девочка и без того была ребенком: красивым ребенком, наивным ребенком, чистым ребенком, умным ребенком, восторженным ребенком, ребенком с румяными щечками, который краснел, смущаясь; а может быть, веселым дельфинчиком, плещущейся в воде жемчужной рыбкой.
Острый на язык, ироничный, язвительный Профессор, потонувший в нигилизме в свои зрелые годы, понял, что после встречи с этой девочкой совершенно изменился. Мерьем словно смягчила его сердце, вернув его в невинное детское и юношеское состояние. Теперь он уже не мог, как раньше, жестоко критиковать других и насмешничать.
Через какое-то время Профессор протрезвел от выпитого и почувствовал, что тело девушки стало холодным как лед. Наверное, с непривычки, оттого что она оставалась в воде слишком долго. Потихоньку он направил ее к берегу и помог доплыть почти до самой гальки. Потом она встала на ноги, вышла из воды на берег и легла.
Поднялся ветер.
Профессор почувствовал, что тело в купальнике рядом с ним начало дрожать от холода, у него самого кожа покрылась пупырышками и зуб на зуб не попадал.
Вскоре он понял, что девушка заснула, несмотря на то, что сильно замерзла. Профессор почувствовал непреодолимое желание обнять и согреть ее, защитить так, как зверь защищает своего детеныша. Это было что-то похожее на желание согреть иззябшего котенка. В этом не было никакого сексуального подтекста.
Он понял, что больше не может противиться этому желанию. Будто «семь лунных быков» Лорки толкали его к дрожащему голому телу. Он склонился и обнял ее.
До конца своих дней, которых оставалось не так много, Профессор будет вспоминать этот поступок как одну из самых больших ошибок в жизни.
С залитыми кровью лицом и глазом Профессор сидел на произвольно движущейся яхте. От выпитого горячего джина его разум начал мутиться, он пытался выбросить из памяти эти воспоминания. Потому что Мерьем, почувствовав склонившегося над ней мужчину, с диким криком распрямилась, словно натянутая тетива, вскочила и, изо всех сил пнув его, закричала:
– Не делай этого, дядя, не делай, не делай!
Девушка в мокром купальнике на пустынном берегу безумно кричала, и от нервного потрясения Профессора накрыла волна паники. Он пытался ее успокоить, заставить замолчать, но теперь боялся приблизиться к ней.
Мерьем закрывала лицо руками и снова принималась кричать, босыми ногами она пинала камни и как сумасшедшая выкрикивала:
– Не делаааай!
Она опустилась на колени, склонившись вперед как для намаза, и начала что-то бормотать. Этого ее безумного состояния Профессор еще больше испугался, он пытался понять, что она говорит, однако не смог разобрать. Она то произносила: «Дядя…», то завывала: «Ненавижу!», махала руками как крыльями, ударяя кулаками по камням.
Никогда в своей жизни Профессор не сталкивался с таким сильным приступом отчаяния и горя. Затаив дыхание, он ждал, не зная, как ей помочь. Может, если он даст ей пощечину, это заставит ее прийти в себя? Или будет только хуже, получится совсем наоборот? Он уже побаивался девушки, впавшей в звериное состояние.
Лучше всего подождать, когда она сама успокоится.
Через какое-то время нервный припадок пошел на убыль, и Мерьем без сил свалилась наземь. Профессор видел, что она находится в полуобморочном состоянии, но все еще опасался приблизиться к ней. По реакции девушки можно было понять, что с ней случилось что-то страшное. С большой долей вероятности – над ней было совершено насилие. И, скорее всего, это сделал «дядя», которого она постоянно упоминала. Человек того же возраста, что и Профессор. Неужели ее изнасиловал родной дядя? То есть отец Джемаля! Но разве они не рассказывали, что он является шейхом – наставником религиозного ордена? Да, но то, что он шейх, не меняет ситуацию…
А если так, то значит, что раскрылась самая большая тайна девушки. Профессор страдал от осознания, что эта жизнерадостная и смышленая девочка, мучаясь от боли, хранила в себе такую ужасную тайну. К тому же он стал причиной ее шока! Но, может быть, и хорошо, что случился этот кризис? Может, он помог девушке освободиться от скопившейся внутри нее горечи?
Немного спустя он собрался и подошел к Мерьем, все еще не пришедшей в себя. Гладя ее по голове, он медленно приподнял и прижал к себе ее безвольное тело. Он начал ласково шептать:
– Не бойся, Мерьем, это я. Бояться нечего.
Она очнулась. Не проронила ни звука, но Профессор почувствовал, что его колени стали мокрыми от ее горячих слез. Она плакала навзрыд, и это было хорошим признаком: кризис миновал.
– Мерьем, извини, что я тебя напугал, – сказал он ласково. – Я совсем не хотел ничего плохого. Я хотел только защитить тебя. Я клянусь, клянусь. Как отец…
Девушка продолжала плакать.
Профессор сказал, понимая, что касается очень опасной темы:
– В твоей жизни, может быть, были взрослые, которые делали что-то другое… приближались к тебе с плохими намерениями.
Девушка продолжала молча заливаться слезами.
– Ты подумала, что я – твой дядя, правда? – спросил Профессор. – Твой дядя надругался над тобой?
А она все плакала и плакала, ни да, ни нет! Однако по неуловимым признакам Профессор сделал вывод, что он прав. Девушка не возражала против того, что он сказал. С чувством огромного сострадания, из уважения к ней он больше ничего не спрашивал.
Ему вспомнились его разговоры с Кюршат-беем, судьей, вышедшим на пенсию. Он был дядей Айсель. В анатолийских селах и городах он вел сотни судебных процессов. Профессор спросил у него, с каким типом судебных процессов ему больше всего приходилось сталкиваться в профессиональной сфере. Он ожидал, что тот расскажет про кражи или убийства, но полученный ответ застал его врасплох. Кюршат-бей сказал:
– Конечно, дела, приходящие в суд на рассмотрение, были разными, но среди анатолийских семей очень распространено насилие, и оттого, что девушки стесняются об этом рассказывать, из тысячи дел до суда доходит только одно. Парень, женившись, уходит в армию, а свекор начинает терзать невестку. Молодых девушек лишают чести дяди со стороны отца, дяди со стороны матери, зятья, двоюродные и троюродные братья. Ужасно, но это очень распространено. И весь спрос потом с девушек. Они либо вынуждены кончать жизнь самоубийством, либо их убивают.
Мерьем успокоилась и заснула у него на коленях. Значит, она была одной из тех, кто спасся от самоубиения или убийства. Сейчас, под светом луны, стало лучше видно, какая же она худенькая. Профессор потянулся, стараясь не потревожить ее, взял брюки и футболку и аккуратно укрыл ее тельце. Даже боясь вздохнуть, он ждал, когда девушка очнется…
На обратном пути Мерьем держалась за голову, которая ужасно разболелась. Резиновая лодка бесшумно двигалась вперед, а Профессор попросил у Мерьем прощения: он коснулся ее раны по незнанию, у него были добрые намерения. Но может, все это для нее было к лучшему? Он помог ей избавиться от накопившейся внутренней горечи…
Ему рассказывали о психологических методах, согласно которым, если человек один раз поделится своей тайной, то второй раз для него это уже не будет болезненным.
– У моей мамы есть поговорка, – сказал он, закрывая тему. – Человек забирает у человека горечь. Расскажи, не держи в себе яда.
Девушка молчала. Даже движения не сделала, чтобы показать, что слышит его. Профессор спросил:
– Это твой дядя?
Она не ответила.
– Отец Джемаля?
Мерьем сидела недвижно.
Со страшным шумом Профессор опрокинулся на палубу. Яхта на что-то налетела. Интересно, во что они врезались: греческие это острова, турецкий берег или, может быть, скала, возвышающаяся посреди моря? Он не знал, однако по ужасному скрежету корабельной обшивки понял, что судно разрушается, как бумажный лист. И все же он решил не подниматься с палубы. У него не было потребности, как у Мартина Идена, видеть свет своего корабля. Он не ощущал никакого страха. Он отдался во власть умиротворенной покорности. Немного позже лица коснулась вода, и Профессор ощутил огромную, холодную, величественную тьму Эгейского моря.
Он улыбался.
У каждого есть тайна
Этой ночью Мерьем снова увидела наседающую на нее птицу Анка – с черной бородой и крючковатым клювом, в первый раз после того кошмарного сна в сарае она видела эту птицу. На узкой постели в каюте она корчилась и стонала, умоляла птицу оставить ее в покое, пытаясь спастись, но бесполезно. Птица продолжала долбить клювом между ног, в ее грешное место…
Уже долгое время она не вспоминала о нем, вернее, она уже не считала, что это место – грешное. Поэтому, очнувшись с тяжелой головной болью от страшного сна, она почувствовала уже забытые смятение и удрученность. Все самые плохие воспоминания, которые она старалась выбросить из головы, снова навалились на нее. В сердце опять поселились глубокий страх и чувство вины, которые заставляли ее замыкаться в себе.
Что ни делай, а от греха не избавишься.
Ее душа и плоть погрязли в грехе. Может, лучше было бы закончить все еще тогда, когда она стояла в сарае с надетой на шею петлей? К настоящему времени все это уже бы кануло в прошлое, даже имя бы ее забыли.
Очевидно, грех будет преследовать ее повсюду, куда бы она ни пошла.
Она уже ненавидела эту одежду, которую несколькими днями ранее приняла с таким трепетным волнением и бьющимся сердцем. У нее не было права это носить. Потому что она – другая. Эти брюки, футболка, ремень – часть грешного мира. Она снова хотела закутаться в свою старую деревенскую одежду, надеть старую юбку и резиновые сандалии, а голову туго повязать платком. Мужество и решительность, охватившие ее после того, как они вышли в море, полностью исчезли, и Мерьем снова обернулась маленькой девочкой, боявшейся всего света. Она почувствовала, что зашла чересчур далеко, и испугалась этого.
Некоторое время она продолжала лежать на кровати, свернувшись клубком, стонала, потом потихоньку выпрямилась и стянула с себя купальник.
Надела длинную сорочку, бязевую юбку с выцветшими голубыми цветами, натянула на ноги длинные теплые носки и повязала голову найденным в каюте тонким покрывалом. Так ей стало немного спокойнее.
Она думала о том, что этот городской человек подстрекал ее. Если бы он, как шайтан, не сбивал ее с пути, то разве могла бы она вместе с незнакомым мужчиной, в одном купальнике войти в море?! Она ненавидела этого человека, не хотела смотреть на него.
В старой одежде ее сердце успокоилось.
А какие фантазии рождались у нее по ночам, когда она лежала на узкой кровати в каюте! Вот приедет она в свое село в новой одежде и пройдет по главной улице! Все остолбенеют от изумления, увидев ее в новых брюках, розовой футболке, солнцезащитных очках, спортивной обуви, и станут гадать, кто же к ним заглянул. Совершенно ясно, что это приехала из города или очень богатая дама, или туристка! И неизвестно – то ли это немка, то ли француженка, а, быть может, американка…
На грязной главной улице один за другим опустеют магазины: грузчики, бакалейщики, мануфактурщики, зеленщики, адвокаты – все соберутся вокруг нее. Затем к ним присоединятся мэр, финансовый директор, прокурор и судья.
– Кто это? – будут спрашивать они удивленно. – Кто это? Кто эта богатая женщина?
К ней, хранящей молчание, приблизятся женщины и будут разглядывать с удивлением и завистью эту богатую иностранку. Среди толпы обязательно будет и тетя. Худолицая, с нервным подбородком, закутанная в платок, она будет пялиться, а Мерьем, даже не взглянув на нее, пойдет дальше. Она будет идти, а любопытная толпа, разрастаясь, следовать за ней. Усмехаясь про себя, она подойдет к дому няни. И когда та откроет дверь, она скажет громко: «Няня, это я, Мерьем. Ты узнаешь меня?» – и снимет темные очки.
В толпе попадают от изумления:
– Ах, это, оказывается, Мерьем, наша невезучая Мерьем!
И тетя, раскрыв объятия, пойдет прямо к ней, приговаривая:
– Мерьем, детка моя!
А она повернет голову в сторону тети, которая будет умолять ее, как когда-то Мерьем, словно щенок, а потом повернется к ней спиной.
А после скажет так, чтобы было слышно всем в толпе:
– В этом селе все лжецы, няня. Все улыбаются в лицо, а за спиной роют яму. Они говорили, что провожают меня в Стамбул, но это ложь. Здесь нет ни одного честного человека. И самая плохая – моя тетя. Не Стамбул это был, про который они говорили, а смерть моя. Если бы ты увидела, как живет Якуб, расплакалась бы. Даже собака не согласилась бы остаться в его доме.
Обнявшись с няней, она войдет к ней, оставив изумленную толпу на улице.
Каждый раз она добавляла к своим фантазиям что-то новое: один раз – змееглазую Дёне (Мерьем даже удивилась, как быстро ее позабыла), а однажды ночью в ее грезах принял участие и отец…
Однако сейчас, съежившись в старой одежде, она чувствовала себя больной и напуганной, в ужасе от всего случившегося она дрожала мелкой дрожью.
Междуножие горело – точно как в тот день, когда они ходили к мавзолею Шекер Бабы. Тетя поднесла спичку прямо к ее промежности, и Мерьем почувствовала там жар пламени. Уже и на яхте мерещился ей запах яснотки – очень резкий запах. Словно баба-яга, тетя ощупывала ее везде: «Столько дней не удаляла волосы, надо же, какой грех. Аллах спалит тебя в аду!»
В каюте по соседству Джемаль слышал, как девушка несколько раз застонала, а потом заплакала, всхлипывая. У него был очень острый слух; он лежал, не моргнув глазом, прислушивался ко всему вокруг, так, словно опять оказался в горах.
Не надо было ни в коем случае разрешать, чтобы девчонка поехала с этим человеком, не соглашаться на это! Это было совершенно недопустимым – отпускать наедине с чужим мужчиной девушку, принадлежащую его семье. В деревне могли убить за это. Он был раздосадован тем, насколько изменились условия его жизни за последнее время; ситуация, с которой он столкнулся, связывала его по рукам и ногам, он не знал, что делать, что нужно сказать. Перепуталось все – и то, что правильно, и то, что неправильно.
В селе Мерьем не могла так одеваться, однако на яхте деревенская одежда выглядела бы очень странно… Разве даже он сам не переоделся в шорты?
Джемаль только диву давался, насколько может изменить человека одежда. В облачении спецназовца, с гранатами, с патронной лентой наперевес, спецназовским ножом, в берцах и с винтовкой G3 в руках он выглядел властелином мира! Но в этих смехотворных шортах, с кривыми ногами – это был беспомощный, нелепый человек. Слабый человек, не знающий, что правда, а что ложь. Вдобавок ко всему – в кармане ни копейки, нет ни работы, ни дома, ни места, где можно приклонить голову. Профессорский нахлебник, полная зависимость.
После того, как хозяин яхты и Мерьем уплыли на берег, он осмотрел судно и зашел в каюту этого человека. Естественно, что тот поселился в самой просторной каюте. На стене висела какая-то картина. На ней мужчины в фетровых шляпах стояли в воздухе. Рядом с картиной было прикреплено стихотворение, в котором говорилось о смерти. Джемаль прочитал, стихотворение ему не понравилось. Самое любимое стихотворение было выучено им в армии, и он никогда его не забудет:
Над кровавой землею Развевается флаг[44]. Коли есть за землю погибшие, То тогда ее родиной можно считать!А стихотворение, избранное этим человеком, было полной чушью:
Если ему не понравится смерть, Он может вернуться обратно.Прочитав, Джемаль подумал:
«Да пошел ты куда подальше! Пустить бы тебе пулю в голову, и тогда давай посмотрим, как ты вернешься. Это тебе не детские игрушки».
Он покопался в выдвижных ящиках. В одном из них было только постельное белье, в другом – блокнот и несколько карандашей. Однако в третьем ящике находились деньги, американские доллары. Он не стал считать, было видно, денег много.
Взяв в руки деньги, он присел на кровать и задумался.
А что, если взять да удавить мужчину и девчонку, когда они вернутся? Никто не знает, что они были здесь. Они кинули якорь в безлюдной бухте, чтобы придушить обоих, хватит нескольких минут. Потом он сбросит их в море, положит деньги в карман и скроется на резиновой лодке. Никто его не сможет найти и не предъявит обвинения.
Еще какое-то время он обдумывал детали своего плана. Может, лучше все сделать, пока они не зайдут на яхту? Когда резиновая лодка причалит, ударить их чем-нибудь по голове. Однако и перерезать горло тоже неплохая идея. Его обучали этому в спецназе, вот он и проверит силу смертельного удара.
Положив деньги в нагрудный карман, он вышел на палубу. Зеленые доллары согревали сердце. Он почувствовал себя в высшей степени счастливо и уверенно. С этими деньгами он может создать где-нибудь свое дело и стать таким же уважаемым человеком, как Селахатдин! А может, он вернется в Стамбул и вместе с Якубом откроет шашлычную. Потом он перевезет к себе Эминэ, и они поженятся. В село он не будет возвращаться, потому что тогда деньги надо будет отдать отцу.
Как только он подумал про это, его словно ушатом холодной воды окатило – перед ним выросла фигура его отца! Всю жизнь между ними стояли всякого рода грехи, и сейчас, при виде этого призрака, его сердце затрепетало. Еще бы чуть-чуть – и совершился бы страшный грех! Он совершенно забыл о том, что каждое мгновение даже за черным муравьем на черном камне наблюдает Аллах. И Аллах видит, что он сейчас творит. Он немедленно спустился в каюту Профессора и положил на прежнее место доллары.
А сейчас он лежал на койке, и стоны Мерьем рвали ему душу.
После того, как Джемаль демобилизовался, никто его за человека не считает! В селе немного поговорили: ты герой, ты лев, ты тигр, погладили по шерстке, однако после того, как он отправился в путь, вся связь с прошлым оборвалась. Ни в Стамбуле, ни на Эгейском побережье никто внимания на него не обращает и не оказывает уважения ему как боевому ветерану.
А ведь им объясняли, что солдаты жертвуют собою, воюя в горах, во имя нации, чтобы государство осталось неделимым! Что память о ветеранах и не вернувшихся с поля боя будет свято храниться народом. Они воевали за честь прославленного стяга со звездой и полумесяцем. Однако здесь никому до них нет дела.
Как такое возможно?
И этот учитель – что он возомнил о себе, чтобы так важничать? Этот мужчина, не стесняясь своего возраста, увивается вокруг Мерьем. Да не такая уж умная эта девушка и соображает не быстрее, чем Джемаль! Все это неправда. Разве может какая-то невежественная девчонка быть лучше прошедшего спецназовское обучение Джемаля?! Посмотрел бы он на них в горах, когда над головой свистят пули. Девчонка и секунды не выдержит, а уж этот, набирающийся дни и ночи напролет алкоголик, нечестивый человек, и подавно!
Он, Джемаль, делает все гораздо лучше, но одна только Мерьем стоит в глазах у этого человека, вот он и хвалит ее без остановки.
Он глаз не сомкнул, ожидая, когда они вернутся.
Если что-то окажется не так – он выйдет и сломает шею старикану.
Однако ничего не случилось. Девчонка и Профессор тихо поднялись на яхту и разошлись по каютам.
Джемаль чувствовал ужасную злость по отношению к девчонке и мужчине: они насмехались над ним, унижали его. В тот день, когда он впервые надел шорты, смеялись просто взахлеб. Что теперь, великий спецназовец Джемаль, властелин подлунных гор, будет для них здесь клоуном?!.
Ненависть захлестнула его, и он корил себя за то, что не смог выполнить приказ отца убить Мерьем. Ему постоянно что-то мешало: в поезде были свидетели, потом его разум помутился в Стамбуле, и он разнюнился, увидев, какая она больная и несчастная. Но он – военный и должен был, несмотря ни на что, непременно выполнить поставленную задачу! А сегодня, пока их не было, за спиной Профессора он перевернул шкафы, а потом чуть не совершил убийство, а это большой грех, пусть даже этот учитель и конченый алкоголик!
Вернулся ночной ветер и, ударяя в борта, принялся раскачивать яхту. Тросы скрежетали.
Профессор лежал в кровати, пристыженный и грустный, он никак не мог отделаться от чувства, что стал причиной сильного шока, пережитого девушкой.
Он старался отвлечься, спастись от саморазрушающего чувства вины:
«Тебе-то какое дело до всего этого, Профессор? Какое тебе дело до этой девушки? Если ее дядя учинил насилие, а потом вышвырнул ее, в чем твой грех?»
Он изо всех сил старался быть таким, как раньше – язвительным, безжалостным и насмешливым:
«Однако ты педофил, парень. Кто знает, скольких несчастных ты растлил?!»
Но вздрагивающие нежные плечи девушки, ее измученное худенькое тельце до сих пор стояли у него перед глазами. Почему он чувствует такое сострадание к ней? Неужели Мерьем изменила всю его жизнь и превратила его совсем в другого человека? И вот тот, который раньше только и мог, что насмехаться над другими, теперь старается стать честным и милосердным…
То есть полным придурком.
Дядя, о котором она упоминала, был отцом Джемаля. Но, кажется, парень ничего не знает. Девочка боялась Джемаля, они совсем не разговаривали, отношения между ними были весьма холодными и натянутыми.
Почему они путешествовали вместе? Может, Джемаль влюбился в нее и похитил? Но если похитил, почему ведет себя с ней так жестко и угрожающе?
И вдруг его озарило, он все понял. И окаменел.
От волнения сердце бешено заколотилось в груди. Значит, на судне могло быть совершено убийство. Профессор поверить не мог, что попал в такой переплет!
Он вспомнил о кровавых традициях, рассказы о том, что девушек убивают по решению семейных советов. Он читал об этом только в газетах и воспринимал как реальность, очень далекую от его собственного мира. Если бы кто-нибудь сказал ему, что однажды он сам столкнется с этим, он бы не поверил. Раньше такие вещи случались только в Восточной Анатолии, в очень, очень отдаленных местах, в горных труднодоступных районах. Девушки могли быть приговорены семейным советом к повешению или принуждены к самоубийству даже на основании чьего-нибудь доноса, что ее видели с парнем наедине в безлюдной тополиной роще. Увы, в последнее время с волной переселенцев все эти древние обычаи вместе с традиционными преступлениями докатились и до Стамбула. Девушек сбрасывали с виадуков, расстреливали, душили. И все это совершалось самыми близкими родственниками, братьями.
Когда он читал о таких происшествиях, то больше всего переживал за матерей девушек. Как может женщина дать согласие на смерть ею рожденной и вскормленной ее молоком дочери?! Или они вынуждены соглашаться поневоле?..
В газетах часто выходили публикации с критикой этой кровавой практики, распространенной в Турции. Если бы человек, совершивший умышленное убийство чести, был пойман, его должны были бы осудить по статье 450 Уголовного кодекса Турции. Наказанием за это преступление была смертная казнь. Однако судьи классифицировали преступное деяние согласно статье 59-й, чем смягчали наказание. А правоприменительная практика еще и сокращала период пребывания осужденных в тюрьме: по часто издаваемым законам об амнистии, они выходили на свободу. То есть даже правоохранительная система демонстрировала лояльность к убийствам чести и покровительствовала им.
Друг Профессора, парижский антрополог Алтан, рассказал ему о странном случае, который произошел с ним. Однажды он получил приглашение от суда эльзасского города Кольмара. Некая женщина-судья хотела, чтобы он стал ее консультантом. Дело было связано с убийством девушки. Дочь турецкого рабочего, семья которого жила в Кольмаре, расположенном неподалеку от границы Германии, начала встречаться с молодым человеком – французом. Семья выступила против и постаралась разлучить девушку с возлюбленным. Та заупрямилась, и тогда семья собралась и вынесла решение, по которому девушку было поручено убить ее кузену – сыну старшего брата. Он и его друзья привезли ее на автобан, на окраине которого и задушили. Согласно заключению судмедэксперта, агония девушки длилась пятнадцать минут. Теперь вся семья находилась под следствием.
Женщина-судья не могла относиться к этим подозреваемым так, как к французам, поскольку их культура, обычаи и традиции были другие. Полагая, что в турецкой культуре убийство по законам чести тоже является тяжелым преступлением, судья захотела встретиться по этому поводу с профессором антропологии, связанным с Турцией.
Алтан постарался объяснить женщине, что в каждой культуре во все времена имели место такие преступления. И то, что в данном случае семья является турецкой, не может считаться причиной для смягчения наказания. В итоге женщина-судья, зная, что во Франции этой семье грозит 20 лет тюремного заключения, решила: нечего тут кормить столько времени кучу народу, и принялась добиваться отправки преступников на родину.
– Эти люди не принадлежат цивилизованному миру. Давайте отправим их в родные края, пусть местные власти отвечают за то, что они творят, – заключила судья.
Но Алтан вмешался и настоял, чтобы преступная семья понесла наказание согласно законам Франции, хотя и признавал правоту французского судьи. Он был убежден:
– Все идеи чести в Средиземноморском регионе лежат в женской промежности! На преступления такого рода и до настоящего времени смотрят как на простительные.
Значит, Джемаль должен был исполнить роль палача! Осознание этого привело Профессора в состояние ужасного гнева. Надо постоянно быть начеку! Он спасет эту девочку, не позволит никому уничтожить ее молодое тело и нежную душу. Может даже, ему удастся удочерить ее, кто знает! Да, да, удочерить!
Ветер снова принялся тормошить судно: тросы и мачты скрипели, каюта качалась из стороны в сторону, как люлька.
Если бы хоть какое-то оружие было на яхте! Он, конечно, сглупил, что не взял с собой из Стамбула запертый в сейфе пистолет «кольт» «магнум».
От этих мыслей он запаниковал, стал задыхаться и быстро поднялся на палубу.
Луна исчезла, море потемнело. Ветер завывал, но якорь крепко держал яхту на приколе. Можно было не беспокоиться, опасности посреди ночи не предвидится.
Мерьем с беспокойством слушала, как открылась чья-то дверь и кто-то вышел на палубу, однако она не могла догадаться, кто именно: Профессор или Джемаль.
Немного позже в ее дверь легонько стукнули. Будто кто-то поскребся. Она открыла, и Профессор прошептал, наверное, опасаясь разбудить Джемаля:
– Я услышал шорохи и понял, что ты не спишь. Я тоже не сплю. Пойдем пройдемся на свежем воздухе.
Мерьем последовала за Профессором, они вышли на палубу.
От прохладного ветра девушка продрогла, вся покрылась мурашками. Профессор принес из своей каюты ветровку и накинул ей на плечи. Он будто не обратил внимания, что она надела старую одежду и повязала голову платком.
Волнуясь, он сказал:
– Мерьем, я никогда не дотрагивался до тебя с дурными мыслями. Ты ведь это знаешь?
Мерьем кивнула согласно.
– Я тебе как отец. Ты веришь мне?
Она снова качнула головой.
Это успокоило Профессора.
– Я испугался, что ты неправильно меня поняла, – признался он. – Переживал, глаз не сомкнул! Я хочу тебе кое-что сказать. Ты уже очень далеко от твоего села и от этих людей. Тебе никто ничего не сможет сделать. Никто тебя не тронет.
Мерьем тихо спросила:
– А Джемаль?
– Джемаль тоже.
Какое-то время они помолчали.
Мерьем не поднимала глаз, не смотрела на него. Должно быть, ей было бесконечно стыдно – этот мужчина теперь знал ее самую большую тайну.
Девушка медленно встала и пошла в каюту.
Она не успела закрыть дверь, как случилось что-то удивительное: Профессор взял и легонечко поцеловал руку Мерьем, а та в ответ поцеловала его руку.
Профессор наклонился и прошептал ей на ухо:
– Знаешь, жена мне изменяет.
Потом тихо закрыл дверь и пошел к себе в каюту.
Джемаль слышал, как они шепчутся, но не мог разобрать слов. Уставившись в темный потолок, он ждал утра.
Дом, пахнущий апельсиновым цветом
После того вечера Мерьем уже не была такой радостной и пышущей здоровьем, как раньше. По утрам, когда они пускались в путь, она мерзла, куталась в ветровку, ее часто тошнило: побелев, как лист бумаги, лицом, она бежала вниз, в гальюн, и ее рвало. Джемаль, увидев, что Мерьем надела старую одежду, виду не подал. Однако внимательно следил, хотел понять, что случилось и как все разрешится. У прыгавшей столько дней как жизнерадостный воробей девчонки вдруг развилась морская болезнь. Профессор надел ей браслет, защищающий от укачивания, и достал таблетки драмамина, чтобы ее не тошнило.
На паруснике воцарилась невыносимая атмосфера уныния. Никто не разговаривал, все ходили как в воду опущенные, выполняя только ту работу, которую было необходимо делать. Между Профессором и Джемалем словно пробежала черная кошка.
Профессор все хорошенько обдумал и принял решение не продолжать дальше это бесконечное морское путешествие. Он отчетливо представлял себе, какую цель преследует Джемаль, находясь на паруснике. Он знал, что парень очень силен и умел хорошо драться. Допустим, временно он отложил в сторону мысли о плохом, но если его намерения изменятся – ни Профессору, ни Мерьем головы не сносить, одной рукой он может отправить на тот свет обоих. Надо им всем сойти на берег, пришвартовать яхту и найти гостиницу, где они могли бы остановиться.
На самом деле, размышляя об этом, он понимал, что надо было бы поступить более разумно. Самым лучшим было высадить Мерьем с Джемалем на суше и сказать: идите и делайте что хотите. А потом развернуть штурвал и уплыть подальше от этой парочки!
Но он осознавал и то, что уже не сможет бросить девушку одну перед лицом угрожающей ей смерти.
«Лоция вод Турции» подсказала ему, что неподалеку есть укромная рыбацкая деревушка. Конечно, гавань, описанная в книге как «тихая рыбацкая деревня», в это время года вполне могла превратиться в многолюдный туристический ад, но может, оно было бы и к лучшему…
Судно легло на курс.
Попутный ветер наполнил паруса, и команда яхты двинулась прямо к своему новому местообитанию.
Когда они обогнули мыс и появилась деревня с домами на берегу, Профессор слегка опешил. Потому что он не увидел места, застроенного отелями, как того ожидал: по внешнему виду это была именно «рыбацкая деревня», как то и значилось в лоции: двухэтажные белые дома, увитые пурпурными, белыми и лиловыми бугенвиллеями, глаз радовали вековые оливковые и кипарисовые деревья.
Когда они подошли к берегу, то увидели парочку рыбных ресторанчиков и самодельные пристани. Профессор причалил яхту, и босоногие мальчишки, выкрикивая: «Пожалуйте, пожалуйте!», помогли новоприбывшим причалить судно. Вода сверкала изумрудом.
Это было удивительно спокойное и красивое место.
С пристани виднелся поселок, составленный из небольших коробок-домов. Иностранные туристы здесь все-таки были, скорее всего, англичане: кто-то читал книгу, кто-то пил кофе по-турецки, а кто-то дремал в кафе на тахте под огромным эвкалиптом…
За поселком расстилались зеленые холмы, и там, где заканчивались дома, высились исторические руины. Из любой точки хорошо просматривался полуразрушенный античный театр. Дивный, полный умиротворения рай на земле!
Профессор понял: это то, что нужно, и решил сам сходить на берег. Мерьем лежала, лишь время от времени поднимала голову, чтобы посмотреть, куда они плывут, а потом снова погружалась в сон. Джемаль с виду безразлично наблюдал за происходящим.
Профессор поблагодарил смуглых ребятишек, которые помогли зашвартовать судно, и сказал, что немного позже они придут в ресторан, чтобы поесть рыбы, а пока зашел в кафе, расположенное в тени эвкалипта толщиной в три обхвата, с раздвоенным стволом.
Профессор заказал подслащенный кофе по-турецки. Было так приятно в этот утренний час сидеть в кафе на открытом воздухе и смотреть на зеленеющую морскую гладь! Он вспомнил о смешном мальчишке, общавшемся с ним вот в таком же кафе словами из английских песен, и улыбнулся.
Он сбрил бороду, и теперь его уже не принимали за иностранного туриста.
Парусник маячил у него на виду. С места, где он сидел, Профессор мог видеть Мерьем.
Хотя здесь встречались иностранные туристы, это место еще не стало модным. Что ж, это и к лучшему. Он не любил модные курорты, это был какой-то ад. В маленькие деревушки набивались огромные яхты, в аэропорту непрерывно садились и поднимались самолеты, доставляющие туристов к фешенебельным отелям, владельцы яхт мотались по воздуху на вертолетах, а носы яхт, яростно вспенивая воду, нарезали круги. Это движение напоминало ему атаку на Пёрл-Харбор.
Из каждого отеля и ресторана на побережье неслась своя оглушительная музыка, тяжелые ритмы диско смешивались друг с другом…
И он снова осознал, как сильно изменился с того времени, как вышел в путешествие, до настоящего момента. В прежней жизни они с приятелями часто приезжали и развлекались в разных пафосных местах. А теперь вещи, которые не беспокоили его раньше, так и бросались в глаза. И в уши.
Однако эту деревушку, затерянную на берегах Эгейского моря, еще не успели испоганить. У прибрежного кафе дремали ленивые собаки, время от времени, открыв один глаз, они смотрели на прохожих, но никого не трогали и их никто не трогал. Это было место, где жизнь текла медленно.
Размышления Профессора прервало приветствие хозяина кафе, мужчины средних лет:
– Добро пожаловать!
Профессор в ответ поделился своими мыслями, на что мужчина произнес со среднеэгейским акцентом:
– Да, это так, но и сюда уже начали приезжать. Года через два тут будет все битком…
Профессор понял, что местный житель воспринял его замечание неверно. Уединенность деревни он воспринимал как изъян и хотел, чтобы в один прекрасный день она заполнилась туристами. Тогда здесь положат асфальт, появятся светофоры, а может, и большие отели! Мужчина хотел заработать, и это было естественно.
Профессор сказал хозяину кафе, что ему очень понравилась деревня и он хотел бы остаться здесь на некоторое время. Спросил, можно ли здесь снять дом?
Мужчина ответил, что поблизости нет свободных жилищ, сдаваемых внаем, однако на другом конце деревни есть один старый дом, который купил приехавший из Стамбула один отставной чрезвычайный и полномочный посол, который иногда пускает постояльцев. «Более удобный вариант и придумать нельзя!» – решил Профессор.
– Дом посла, как мы тут его называем, неплох, однако человек он немного со странностями, – предупредил хозяин кафе.
Профессор заинтересовался этим странным послом и решил не откладывая его посетить. Трактирщик послал с ним мальчика, который привел его к дому посла.
Дом был самым крайним на другом конце деревни. Это была постройка из простого камня посреди большой апельсиновой рощи. Вокруг разливался дурманящий запах апельсиновых цветов. В роще росли не меньше пятисот деревьев, и воздух был напоен таким ароматом, что у человека, попавшего в сад, начинала кружиться голова. Для защиты от ветра сад был окружен большими кипарисами и выходил прямо к морю. Внимание Профессора привлекло огромное оливковое дерево, растущее совсем близко у берега, а дальше – пристань. Она была самодельной, доски под ногами гнулись и дрожали. Если глубина позволит, яхту можно поставить здесь. Поскольку перед кафе стояли катера и яхты, глубина там была достаточной, будем надеяться, что и здесь она окажется такой же.
Он обошел дом вокруг, вошел в палисадник и встретился с человеком, который подал знак: «Молчите!» Небольшой человек с тщательно причесанными седыми волосами, хорошо одетый, с безукоризненными чертами лица, склонился над землей рядом с одним из пышных кипарисов. Он одновременно подал знак молчать и показывал, чтобы гость приблизился.
Мальчик трактирщика, повернувшись, убежал. А Профессор, боясь проронить звук, на цыпочках двинулся вслед за поманившим его человеком. Он предположил, что это и есть отставной посол. В руках человек держал очень маленького птенца воробья. Птенчик не то что летать не мог, даже глаза еще не открыл. Маленькие крылышки не трепетали. Посол заботливо положил птенца на ограду и отступил.
Потом он подошел к Профессору и сказал:
– На кипарисе есть воробьиное гнездо. Этот птенец выпал. Его мать очень жалобно кричала. Я положил птенца там, где мать и отец смогут его увидеть. Давайте посмотрим, что будет? Интересно, выпал ли он из гнезда случайно или его выкинули?
Профессор таким же тихим голосом отозвался:
– Хорошо, но если его выбросили из гнезда, что вы будете делать?
– Возьму домой и выращу.
– Значит, вы считаете, что люди могут изменить чью-то судьбу?
– Да, – ответил посол и впервые окинул пришельца цепким взглядом. – А вы кто такой?
Профессор представился (посол до этого не слышал его имени) и сказал, что ищет место, где мог бы остановиться вмете с двумя близкими людьми.
– Это возможно, – кивнул посол. – Но для тех, кто останавливается в этом доме, есть некоторые правила.
– Расскажите, пожалуйста, – попросил Профессор.
– В этом доме нет телевизора, и никогда не будет, радио тоже нет, в дом запрещено приносить газеты. Тем более совершенно не допускается говорить о политике! Не петь модных песен, не обсуждать знаменитостей! Не болеть за футбольные команды и не говорить о результатах матчей. Не допускается никаких действий, которые могли бы дать возможность просочиться в дом идиотам этой страны.
Профессор удивился:
– Идиотам страны?
– Да! В этом государстве настолько распространена глупость, что, даже если закроешь крепко-накрепко двери и окна, она по воздуху просочится. Самым заразным заболеванием в мире является глупость!
Профессор кивнул:
– Понятно.
Никогда еще он не встречался с такими послами!
– Пусть будет так. Сколько стоит аренда?
– Сколько дадите.
– Как это – сколько дам?
– Да вот так. Я не скрываю, что мне нужны деньги, потому что апельсины уже не могут покрыть расходы. Все заполнено вашингтонскими и яфскими сортами, и никто не хочет брать местные. А ведь они более ароматные и вкусные! Поэтому я и пускаю иногда постояльцев. Каждый платит сколько может. Вы выглядите богатым, поэтому дадите много!
– Насколько много?
– Дадите один-два миллиона долларов.
Услышав этот ответ, Профессор решил, что сказанное послом выглядит несколько странно, однако ему это понравилось. От этого странного человека исходила фантастическая энергия. А еще Профессору понравилась какая-то запредельная ироничность хозяина дома.
– А вы и в самом деле, как о вас говорят, странный человек, – произнес он.
Посол улыбнулся.
Чуть позже Профессор осмотрел пристань и решил, что здесь достаточно глубоко. Пешком по песчаному берегу он вернулся к своему судну за десять минут.
Мерьем все еще лежала. Профессор приказал Джемалю выбрать швартовы и потихоньку на моторе привел яхту на новое место. С моря сад тоже смотрелся великолепно, и на палубу доносился умопомрачительный, опьяняющий аромат цветущих апельсинов. Даже Мерьем подняла голову, чтобы посмотреть. Но к увиденному интереса не проявила и снова легла.
На этот раз посол находился в доме и выглядел очень расстроенным. С унылым видом он сидел в старом кресле в полутемной гостиной. Профессор спросил, что случилось, почему его настроение вдруг так изменилось.
С глазами, полными слез, хозяин дома сказал:
– Знаете, что случилось с воробышком?
– И что же?
– А как вы думаете?
– Мать с отцом взяли и унесли его?
– Нет.
– Выяснилось, что птенца выбросили из гнезда, и вы забрали его домой?
– Нет.
– Что же тогда?!
– Птенчика съела кошка.
– А вы что сделали?
– Я открыл огонь и убил кошку. И теперь вот ни птицы, ни кошки.
Профессор попытался его утешить:
– Не расстраивайтесь, господин посол. Вы потеряли одну кошку и одну птичку, зато приобрели троих друзей.
Он понял, что сморозил глупость, но было поздно.
Посол повернул голову и с язвительной усмешкой посмотрел на своих новых постояльцев. Оглядев Джемаля, который стоял, согнувшись, в своих длинных шортах, и Мерьем, одетую в деревенскую одежду, с повязанной платком головой, он спросил:
– А это кто?
– Мои друзья.
– Они тоже профессора?
– Нет.
– Ну, тогда доценты. Впрочем, мне-то что! Ваши комнаты на верхнем этаже. Вы объяснили правила вашим друзьям-доцентам?
– Конечно, можете не беспокоиться.
Когда они поднимали свои вещи на верхний этаж, посол вдруг сказал:
– Господин профессор, несколько раньше вы сказали, что я – странный человек. Но знаете ли… вас тоже нельзя не счесть слегка странным.
– Да, это верно, – ответил Профессор.
И улыбнулся.
Хозяин дома улыбнулся ему в ответ, и Профессор подумал, что посол вовсе не такой чудак, как о нем думают, а совсем наоборот – очень даже умный, и что тот, кажется, решил сыграть с ним в свою игру.
Может быть, в его рассказе про птицу и кошку заложена какая-то злая шутка? И Профессор сказал:
– Ваша игра потрясающа!
Посол парировал:
– Игра «впадение в детство»?
Вечером посол пригласил его к себе. Потягивая ледяной виски под апельсиновыми деревьями, Профессор спросил, что значит «игра впадения в детство»?
Посол улыбнулся и ответил:
– Был верблюжий период, когда человеческое общество, погрузив на себя все предрассудки, тащило их на себе, как стадо идиотов, потом наступил львиный период – люди как львы сражались против предрассудков! Однако есть еще этап детства, который надо пройти. И это – высочайший этап. Смотреть на мир с наивностью ребенка, играть в игрушки, быть открытым любому влиянию. Вновь найти утраченную чистоту… Вот почему я играю в эту игру.
– А мне и в голову не могло прийти, что вы ницшеанец, – сказал Профессор и наполнил бокал.
– Однако я верю только в эту часть его теории, – отмахнулся посол, – все остальное – абсурд.
Запах апельсиновых цветов проникал в легкие, входил сквозь поры и захватывал сердце. Приятный ветер, в котором были смешаны морской запах йода и аромат апельсиновых цветов, ласкал лицо, и так чудесно было пить виски в этом безлюдном саду, пропитанном опьяняющими запахами, на краю света…
Профессор подумал, что мог бы жить в таком доме до конца своей жизни. Мерьем тоже могла бы остаться, однако Джемаля всеми способами надо было убрать отсюда, потому что он начинал действовать ему на нервы.
И тут посол спросил:
– Что с девушкой?
– Больна.
– Чем больна?
– Думаю, она пережила большое душевное потрясение. Поэтому она не поднимается с постели, только и делает, что лежит, свернувшись клубочком…
– Желание возврата в эмбриональное состояние, – констатировал посол.
– Вильгельм Райх, – произнес Профессор с лукавым видом.
Посол снова улыбнулся. Они с удовольствием поддерживали эту игру. Если один что-нибудь процитировал, второй должен был назвать источник.
– Отчего случилось душевное потрясение?
– Возможно, над ней было совершено насилие.
– Ох… и что вы думаете?
– Давайте оставим ее в покое на несколько дней. Может, все образуется.
– А кто этот молодой человек?
– Сын дяди этой девушки, ее двоюродный брат, – ответил Профессор. – Демобилизовался из армии. Насколько я понял, он должен был казнить Мерьем, но не смог.
– Может, он влюблен в нее?
Профессор улыбнулся.
– Это голое голливудское клише, уважаемый. Даже самый выдающийся сценарист не осмелился бы написать эту историю.
Посол не согласился с ним:
– Иногда голливудские сценарии описывают реальную жизнь настолько мелодраматично, что это становятся полным китчем. Но это не отменяет реальности той или иной истории.
– Верно, – кивнул Профессор.
Посол заговорил о том, что предвзятое отношение в Анатолии к женщине как существу виновному, грешному и дурному мешает развитию страны. Поскольку исключает из жизненной сферы половину общества.
Профессор ответил:
– Я согласен с вами, но в западной культуре, представьте себе, женщина не менее виновна и грешна.
– Каким образом?
– Задумайтесь над словом «Evil».
– Да!
– Вам не кажется, что это слово идет от слова Ева?
Посол вскинул брови, задумался на мгновение и сказал:
– Возможно, вы правы, Профессор. Да, evil, то есть первородный грех. Очень правильно! Браво! Не может быть, чтобы у нас тоже не было слов с дурным значением, образованных от имени Ева…
Этим вечером они как следует набрались.
Посол тоже любил холодный виски, но не хотел класть в него лед, считая это варварством, он ставил бутылки с «Джонни Уокером» в холодильник и наполовину замораживал.
Профессор понял по его обрывочным рассказам, что тот в свое время был послом в столицах европейских государств, а после выхода на пенсию, когда умерла его жена, он купил этот дом и поселился здесь.
Считалось, что он покупает не дом, а апельсиновый сад. Потому что каменное здание было построено не для того, чтобы в нем жить, а для того, чтобы упаковывать здесь собранные апельсины и отправлять их на продажу. Но просто жить здесь было гораздо приятнее.
– На протяжении многих лет я думал, что являюсь представителем государства, – говорил посол. – А потом задался вопросом: может ли государство представлять меня? И вдруг увидел, что государство не может быть моим представителем на достаточно честном и порядочном уровне. После чего я решил порвать с миром и, уехав сюда, засесть за мемуары.
– Ну и как, написали?
– Нет. Потому что понял – источниками проблем этого государства не является отсутствие знаний или понимания. Просто нет ничего, чему можно было бы их научить. Они знают все лучше, чем вы или я. Но применяют свои знания лишь для дурных целей. В этой стране, где все решения находятся в руках системы, вы ничего не можете сделать. Народ глуп и наивен. А в стране, где народ глуп, демократия означает диктатуру и выборных королей. Поэтому я оборвал все связи с этой страной. Даже не знаю, кто сейчас у нас стал премьер-министром. Сегодняшний воробышек для меня намного важнее премьер-министра!
– А на самом деле, что с ним случилось?
Посол, хитро-прехитро улыбаясь, заплетающимся языком произнес:
– Идите. Я принес его в комнату. И там в клетке положил птенчика в вату. Я не ошибся, – пригорюнился посол. – Родители выбросили его из гнезда, но я не дам ему умереть!
В это время Мерьем лежала на верхнем этаже, в сумрачной комнатке с маленьким окном, ежась в чужой кровати. Она то впадала в сон, то просыпалась. Почему-то этот новый дом напоминал ей их садовый домик на родине. Как только она закрывала глаза, тут же словно переносилась в этот домик в саду, и, чтобы отогнать от себя склонившуюся над ней страшную чернобородую тень, изо всех сил била и пинала воздух. Однако призрак делал свое гнусное дело, и между ее ног заструилась горячая кровь… Молодая женщина стонала и, вся в поту от ужаса, просыпалась от звуков собственного голоса.
Странно, но часть ее мозга нашептывала ей: то, что случилось тогда, в садовом домике, не всегда – зло, не всегда это плохо…
Мерьем приходила в отчаяние: прошло столько времени, она уже очень далеко оттуда! Что же эти воспоминания, эта мука никак не оставят ее, почему они теперь только становятся ярче, проникают все глубже?!
Она стремилась приглушить воспоминания, выбросить их из головы, так, как это делала раньше, она так хотела остаться невинным ребенком!
А Джемаль, сидя на другом краю сада, наблюдал за двумя пьяными мужчинами и чувствовал, что его переполняет ненависть, которую ему уже трудно сдерживать. Его душила злость. Эти двое говорили на непонятном языке, может, насмехались над ним, и уж точно не считали его за человека! Они смотрели на него как на презренную тварь, которая была даже ниже, чем кто-нибудь из их работников, фермеров или слуг.
А ведь Джемаль и его товарищи жертвовали жизнями во имя того, чтобы они могли жить спокойно в этой стране! Конечно же, если бы эти гниды, эти алкоголики увидели, как Абдулла, наступив на мину, лишился ноги и глаза, они бы сразу обделались и прикоснуться к нему не смогли, чтобы помочь…
Да, они не смогли бы.
Этот человек, так называемый Профессор, был настоящим предателем своего отечества: он вывесил на яхте иностранный флаг, гораздо больше турецкого по размерам! Джемаль каждую ночь менял флаги местами и полностью завешивал эту сине-красную, похожую на пижаму тряпку почетным турецким знаменем. После того, как столько героев отдали свои жизни за честь родного стяга, никакие морские правила не могли помешать ему повесить флаг своей страны так, чтобы он развевался над иностранным флагом!
На следующее утро он принес и показал послу и Профессору стопку фотографий, сделанных в горах. На одной из них был он сам – в одежде спецназовца, с патронташем на поясе, перевязанный патронными лентами, с винтовкой G3, направленной в воздух. Он стоял на вершине горы. А голова Джемаля была гордо поднята прямо к летящим по небу облакам!
Однако старики не заинтересовались фотографиями, они лишь бегло просмотрели их, словно хотели от него побыстрее отделаться.
Теперь ясно, он их не интересует.
А если бы они хоть что-нибудь спросили, он мог бы часами рассказывать, перебирая свои военные воспоминания!..
Что сказал осел?
Из-за того, что на протяжении трех дней стояла влажная погода, весь мир казался омытым дурманным апельсиновым цветом. Голова кружилась не только у Профессора с послом, но и у Джемаля, который то проводил время на яхте, то в каком-то странном отупении дремал в саду.
Окна были распахнуты, но ставни полуприкрыты, и запах, проникая в сумрачную комнату, действовал как лекарство, исцеляя раны Мерьем. Запах апельсиновых цветов просачивался сквозь ставни и будто укутывал ее. Этот плотный дурманящий аромат, словно добрые руки няни, гладил ее по голове, по волосам, ласкал щеки и губы. В редкие моменты, когда она приоткрывала глаза, ей смутно виделись бабочки. Синекрылые с желтыми пятнами, они летали над ее лицом, садились на волосы и покрывали постель…
Целительный запах апельсиновых цветов и синекрылые бабочки за несколько дней привели ее в чувство. Она начала приподниматься и есть еду, которую приносил Профессор, пока она спала.
И однажды утром она проснулась, ощущая невероятный жизненный подъем и прилив животворной энергии. Вырвавшись из болезни, воспоминаний о поте и крови, о боли и позоре, Мерьем встала с кровати. Исчезла головная боль, не ныло тело.
Открыв ставни, она разрешила дневному свету наполнить комнату – словно руки и ноги опустила в родниковую воду!
С правой стороны из-за горы восходило алое солнце. Без устали щебетали воробьи, свившие гнездо на кипарисе.
Все ее существо наполнилось ощущением счастья.
На спинке стула у кровати висело белое платье. Наверное, это был один из приятных сюрпризов Профессора. Она улыбнулась. Надев это легчайшее платье, она посмотрела в зеркало и поняла, что очень красива. Она окинула себя восхищенным взглядом и подмигнула своему отражению.
А потом спустилась на нижний этаж.
Никого не было вокруг. Еще ведь очень рано, должно быть, все еще спят. Она вышла в сад, прогулялась до пристани. Там мерно покачивалась яхта, которую Мерьем воспринимала как свой дом. Как на какое-то чудо девушка смотрела на апельсиновые деревья. Неужели это они распространяют такой упоительный запах? Он даже более возбуждающий, чем запах жасмина…
В стороне от дома она обнаружила курятник. Мерьем обрадовалась, как ребенок. Она собрала теплые яйца. Вернувшись на кухню, принялась готовить завтрак. Сделала чай, сварила яйца и красиво все разложила на столике в саду.
Первым проснулся посол. Сонными глазами он посмотрел на Мерьем, свежую, как утренний бриз, и протянул:
– Ооо! В белом платье ты – совсем другая девушка.
Потом увидел стол с накрытым завтраком и снова произнес:
– Ооо! Как я вижу, ты всему нашла свое место.
– Нашла, – улыбнулась Мерьем и разлила из заварника чай по тонким стеклянным стаканам.
Когда они завтракали, посол спросил:
– А почему ты болела? Тебя что, на море укачало?
Мерьем ответила:
– Наверное.
– Ты никогда раньше не плавала на яхте?
– Нет. Пару раз только каталась на лодке по озеру Ван, но это совсем не то.
– Меня тоже укачивает на воде. Поэтому я не могу бросить сад с домом и выйти в море.
Мерьем с восторгом огляделась вокруг.
– Как здесь красиво, – воскликнула она. – Никогда раньше я не видела такого красивого места. Словно рай.
Немного позже в кухню вошел Джемаль. Бросив украдкой взгляд на девушку, он сел за стол. Следом подтянулся Профессор. Он очень обрадовался, что Мерьем пошла на поправку. Жаль, нельзя касаться девушек, он хотел бы ее обнять.
Показав взглядом на платье, Мерьем улыбнулась:
– Спасибо!
– Тебе очень идет, – сказал довольный Профессор.
Это платье из тонкого хлопка, похожее на свадебное, он купил на выставке в деревне, оно висело в одной из местных торговых лавок, раскачивалось на ветру.
Два дня прошли в состоянии безмятежного счастья. Никто никому не мешал. Посол целыми днями читал в своей комнате, Профессор уходил в деревню и сидел там в кафе, Мерьем пропалывала и поливала взошедшие на огороде у посла базилик, мяту, помидоры и петрушку, а Джемаль ловил рыбу и ходил в деревню поглазеть на местных девушек.
Из-за того, что посол дома запрещал жарить рыбу – «потом три дня все будет вонять рыбным духом», Джемаль не приносил улов домой, а, достав изо рта рыбы крючок, снова отпускал ее в море. Но это не мешало ему рыбачить до самого вечера. Ему было достаточно просто считать, сколько рыбешек он поймал.
Долгие часы на пристани, погрузившись в свои мысли, он думал о том, что же ему делать. Нет ни денег, ни работы, ни крова. Какой ни была бы привольной жизнь в этом доме, она когда-нибудь закончится. Должен ли он вернуться на родину или сделать так, как советовал когда-то Селахатдин – поехать в Стамбул и устроиться охранником в банке? Банки и крупные компании платят большие деньги спецназовцам, воевавшим на Юго-Востоке, за работу в охране. Но правильно ли оставить Мерьем здесь и уехать? Да и еще согласятся ли эти люди на то, чтобы девушка осталась здесь?
В один из таких дней он вдруг понял, что уже не вспоминает об Эминэ и не мечтает о встрече с ней.
Однако, как ни странно, это открытие его не очень расстроило.
Каждый вечер они ужинали все вместе, а потом посол с Профессором, достав из морозильника виски, пили и часами разговаривали, употребляя слова, которые ни Мерьем, ни Джемаль не понимали, и ложились только под утро. Еду иногда готовила Мерьем, иногда Профессор, а чаще всего – хозяин дома. И это почти всегда были макароны. Посол поливал макароны оливковым маслом местного производства и посыпал порезанным базиликом со своего огорода.
Однажды вечером, когда готовилась еда, случилось вот что: как только посол поставил кастрюлю с макаронами на огонь, закончился газ.
– Фу ты, – огорчился он. – Как назло! Как сейчас пойдешь в деревню, чтобы заправить баллон? Все магазины закрыты. Надо будет кого-то найти, кто бы открыл.
Но Мерьем тут же нашлась:
– Но ведь на яхте есть баллон!
Посол удивленно взглянул на девушку.
Джемаль поднялся и, сказав: «Я схожу возьму!», направился в сад, однако Мерьем произнесла:
– Какая нужда снимать баллон и нести его сюда? Можно отнести туда кастрюлю, приготовить и через пять минут принести.
Джемаль рассердился:
– Кто тебя за язык тянет! Понимала бы чего! Баллон надо принести сюда. Позже еще может понадобиться, например, чай сделать.
Девушка и парень смотрели друг на друга как враги. Потом оба повернулись к послу, словно ожидая его решения. Казалось, он должен вот-вот объявить им результаты экзамена. В воздухе повисла странная напряженность. Если хозяин дома скажет: «Ты приготовишь на яхте» – выиграет девушка, а если скажет: «Принеси баллон» – победа будет за парнем.
Однако посол не сказал ни того, ни другого.
– Давайте сегодня поедим не дома, – решил он. – Ну его, этот баллон. Здесь недалеко живет одна семья с Юго-Востока. Они поселились тут недавно. Готовят гёзлеме[45]. Давайте пойдем и поедим гёзлеме.
Таким образом напряжение разрешилось; они вышли на улицу и по песчаному берегу направились в деревню.
Кафе располагалось совсем рядом с деревней. Под навесным тентом с электрическими лампочками без абажуров, свет от которых резко бил по глазам, стояли простые столики. Семья, переехавшая с Юго-Востока, поселилась в ветхом доме, расположенном на склоне, слегка подремонтировала его и принялась кормить туристов. Пожилая, подвязанная ситцевым платком женщина сидела в углу сада над сковородами-сачами и готовила гёзлеме, которые особенно нравились иностранцам. Это была одна из тысяч подобных кафешек на побережьях Эгейского и Средиземного морей. Мать семейства скалкой раскатывала тесто для гёзлеме, жарила их на сачах, двое молодых сыновей обслуживали клиентов, а усатый отец стоял на кассе.
Как только Мерьем вдохнула запах теста, жарившегося на раскаленых сачах, ее охватили странные ощущения. Ей припомнился вкус пастушьих пирожков, приготавливаемых в детстве, и как их складывали треугольничками, смазывая сливочным маслом…
Они ели, слушая шум прибоя. Отец, знающий о привычках уже приходившего к ним посла, сказал сыну:
– Немедленно выключи радио. Клиент не любит его.
Мерьем прислушалась к разговору Профессора с послом.
Первый спросил:
– Что же, война, бойня – это, по-вашему, тоже игра?
– Да, все это игра.
– Массовые убийства, мировые войны, атомная бомба!
– Если вы посмотрите с космической точки зрения, конечно же, все это игры, детские игры. Даже и те, которые не очень известны. Например, вспомните Кардакский военный кризис, разгоревшийся между Грецией и Турцией. Если вы посмотрите с точки зрения двух армий, то война может показаться логичной. Но попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения коз, которые живут на этом безлюдном острове. Люди прибывают в эти места на военных торпедных катерах, с огромным шумом, застилая море мазутом и разрушая хранившееся тысячелетиями спокойствие. Они высаживаются с синими тряпками в руках. А потом снова, с таким же ревом моторов, прибывают другие люди, и в руках у них не голубые, а красные тряпки. Разве это не игра? Человек – один из видов млекопитающих, однако он постоянно старается превратить себя в нечто другое. Но! Ни одно животное не может жить вне биологических законов. Осел должен жить как осел, тигр – как тигр, змея – как змея, а человек – как человек. Но сын рода человеческого приписывает себе какие-то высшие силы. Он старается насильно изменить природу, превратить ее в нечто другое, и в этом – источник несчастья и войн. Короче говоря, дорогой мой, человек должен жить как человек, а осел – как осел, и тогда все будет хорошо.
Профессор вспомнил, что в одном из путешествий он тоже пытался взглянуть на себя однажды с точки зрения коз, однако не сказал об этом послу. Он не хотел признавать, что в словах посла была горькая правда.
Закончив свою речь, посол спросил у Джемаля с Мерьем:
– Вы поняли, что я сказал?
Джемаль повторил:
– Осел должен жить как осел!
А Профессор заметил:
– Мерьем все поняла. Она поняла все, что вы сказали.
Джемаль, раскачиваясь взад-вперед, пробормотал:
– Ну, конечно, она поняла, да-да-да, она все поняла!
Посол примирительно предложил:
– Давайте сыграем в одну игру. Если вы такие умные, то разгадайте до завтра мою загадку.
Профессор посмотрел на него в некотором замешательстве, не понимая, должен ли он сейчас что-то сказать.
– Не смотрите так, мой дорогой, – сказал посол. – Вы тоже можете дать ответ. Вынуждены.
Мерьем вся обратилась во внимание. Джемаль почувствовал, что ему надо тоже притвориться внимательно слушающим.
– Великий султан, находясь на смертном одре, позвал троих своих сыновей. Он объяснил им, что очень скоро умрет, но не хочет делить свою страну на три части. «Вы не должны ссориться из-за трона падишаха, – сказал он. – Завтра все вы, трое, в назначенный час отправитесь отсюда в наш охотничий замок. А через день снова вернетесь в город. Чья лошадь придет в наш город последней, тот и будет падишахом». Услышав эти слова, царевичи призадумались. Если бы это были конные соревнования, то все было бы просто, но как суметь прийти в город самым последним?! С такими думами они отправились в охотничий замок и в итоге нашли выход. И я даю вам время до завтра. Завтра утром, тот, кто умнее, и даст ответ.
Какое-то время никто ничего не говорил, все думали о загадке.
В эту минуту Мерьем, заканчивавшая есть гёзлеме с айраном, услышала ослиный рев. Эти звуки разносились из-за дома. Встав, она пошла в ту сторону. За ветхим домом раскинулся засеянный зеленый огород, на земле лениво лежали две собаки, к колу, вбитому в землю, был привязан осел. Кто знает, из-за чего он вздорно ревел? Мерьем подошла к ослу, погладила его по голове и что-то ему сказала. Пальцы ее ощущали твердую голову осла под кожей, покрытой жесткой щетиной. На огороде пахло так, как пахла тополиная роща у большого дома Оганнеса…
Она услышала, что кто-то подошел. Это был недавно обслуживающий их стройный черноглазый юноша с упавшей на лоб челкой.
– Что ты делаешь? – спросил он ее.
– Не видишь, что ли, с ослом разговариваю, – пошутила она.
Смуглый юноша с челкой улыбнулся:
– Это наш осел, однако я никогда раньше не слышал, чтобы он говорил.
– Значит, он разговаривает только тогда, когда захочет.
Парень спросил, как ее зовут. А потом представился сам:
– А меня – Мехмет Али. Ты откуда?
Девушка объяснила. Мехмет Али удивился, что она тоже с Востока.
– Никогда бы не подумал, – признался он. – В самом деле, язык у тебя немного отличается, но я решил, что ты родственница посла.
Это был очень разговорчивый юноша. Он без остановки что-то рассказывал, задавал вопросы и не отходил от девушки.
За короткий промежуток времени Мерьем успела узнать их историю. Когда стало невыносимо терпеть войну на Юго-Востоке, они эмигрировали, однако не поехали в большой город, как это делали миллионы людей. Один их родственник, шофер грузовика, рассказал им про эту деревню и подал идею продавать туристам гёзлеме. И они, погрузив на грузовик пожитки, приехали сюда. Пока еле справляются, однако в деревне с каждым годом становится все многолюднее. Со временем можно будет хорошо зарабатывать.
Мерьем гладила жесткую, как щетка, шерсть на морде впавшего в глубокую задумчивость осла и слушала льющийся потоком рассказ Мехмета Али. Вдруг она услышала, как ее зовет Профессор:
– Мерьем!
Когда они вышли из темноты в освещенный лампочками сад, и Мехмет Али, и Мерьем почувствовали себя странно – будто они были в чем-то виноваты. Все смотрели на них.
Когда возвращались домой, посол спросил Мерьем:
– И где же ты была?
Мерьем ответила:
– Говорила с ослом.
– Хорошо, и что же сказал тебе осел?
– Он сказал, что вы были правы!
Посол и Профессор взорвались хохотом.
На следующий день Мехмет Али принес лепешки к ним домой. Мерьем не пригласила его войти. Он повернулся и ушел, однако вечером она снова увидела его прохаживающимся вокруг дома. Он теребил рукой челку и с интересом поглядывал на окна дома.
Через день в полдень он пришел снова и сказал, что его мать зовет Мерьем. Приехала большая партия туристов, и она не справляется. А Мерьем как-то сказала, что тоже хорошо готовит гёзлеме, вот она и подумала, что, может быть, Мерьем ей немножко поможет. Мерьем была уверена, что эта идея исходит от Мехмета Али, но ничего не сказала.
В обеденный перерыв она пришла в кафе. На следующий день случилось то же самое, и через день то же.
– Солнечная моя девочка, разве у тебя нет отца и матери?
– Нет, тетушка, – отвечала Мерьем.
– Ах, детка! Да ты – круглая сирота, – огорчилась пожилая женщина и еще раз обняла ее.
Насколько бы хорошими людьми ни были Профессор и посол, но рядом с ними Мерьем чувствовала себя напряженно, она была не такая, как они. А в этой семье с Юго-Востока она испытывала невероятное спокойствие. Так, словно находилась не на Эгейском побережье, а в родных краях, рядом со своей семьей. Кроме того, это были сострадательные люди, которые не могли причинить ей вред.
В один из дней она сказала пожилой женщине:
– Тетушка, а можно я сделаю пастушьи пирожки?
От запаха, распространяющегося от жаренного на саче теста, у нее разыгрался аппетит, и ей очень захотелось пастушьих пирожков.
Пожилая женщина сказала:
– Конечно, делай, дочка, только чтобы не замарать одежду, давай-ка я тебе что-нибудь дам.
Они вместе вошли в дом. Там женщина открыла сундук и достала очень красивые, с фиолетовыми цветами шальвары и верхнее платье.
Мерьем даже удивилась, какое же душевное спокойствие она вдруг почувствовала, взяв в руки эту одежду. Как только открылся сундук, изнутри пахнуло на нее знакомым запахом родины. Мерьем едва сдержалась, чтобы не расплакаться.
Как странно! Одежда, избавляясь от которой она выдержала такую борьбу, сейчас обнимала ее тело, как старый друг. Она никогда не сможет отказаться от новой одежды и всю свою жизнь будет носить эти удобные и красивые вещи, однако нет ничего плохого и в том, что она время от времени будет надевать шальвары!
Мерьем надела передник, повязала голову платком и принялась замешивать тесто в кадушке. За короткое время она побелела от макушки до локтей. Чуть позже она взялась печь на сковороде-саче пастушьи пирожки, складывая их треугольничками и время от времени промазывая их сливочным маслом. Посетителей тоже угостили ее пирожками, и с того дня многие стали с удовольствием заказывать их.
Под вечер она вымыла руки и лицо под краном на заднем дворе, сняла шальвары, надела новое платье и пошла домой. Но на следующий день, как только пришла, тут же опять переоделась.
Шальвары были не единственной переменой. Когда Мерьем ходила по этому двору, она успокаивалась, чувствовала себя защищенной. Она говорила с тем же произношением, что и в былые дни. Исчезало напряжение, которое она постоянно ощущала, общаясь с послом и Профессором.
Можно сказать, она щебетала, не закрывая рта! Что-то рассказывала, улыбалась и перешучивалась с Мехметом Али. Ее самолюбию льстило то, что парень смотрел на нее восторженными глазами и без промедления кидался исполнять любые ее желания.
Все здесь ей нравилось!
Мать Мехмета Али часто, прижав ее к груди, ласково приговаривала:
– Ах ты, моя конопушечка! Ты очень везучая девочка. Как только ты сюда пришла, нам удача улыбнулась, посетителей прибавилось!
Видя, как Мехмет Али исподтишка бросает взгляды на ее грудь, мать хитро прищуривалась. Парень увивался вокруг девушки, не мог пробыть без нее ни секунды. Он был словно опьянен ею. Мерьем доставляло огромное наслаждение осознавать, что причиной этого опьянения была она сама.
В один из дней, когда она одна внутри помещения замешивала тесто, Мерьем услышала, как Мехмет Али тихо приблизился сзади. Собрав все свое мужество, юноша быстро поцеловал ее в открытую шею и опрометью кинулся прочь. Мерьем озорно рассмеялась. Этот поцелуй не напугал ее.
С того вечера, когда посол задал загадку про трех царевичей, с ее лица не сходила улыбка.
На следующее утро за завтраком посол спросил:
– Ну что, готовы ваши ответы? Давайте, Профессор, начнем с вас. Объясните, дорогой мой, а мы посмотрим, смогли ли вы разрешить эту головоломку.
Профессор без большого энтузиазма ответил:
– Во время скачек можно прийти в город первым, однако прискакать последним невозможно. Отец дал им эту задачу, чтобы они поняли, что она невыполнима. Когда они поймут это, один из них удалится, и он-то и будет назначен падишахом.
Посол рассмеялся раскатисто и вскинул брови:
– Милый мой, вы попали пальцем в небо. Ничего подобного.
Профессор пожал плечами, к тому же он уже и забыл сам вопрос. А ответ на него изобрел только что.
Посол повернулся к Джемалю:
– Давай-ка ты, боец. Посмотрим, что ты ответишь.
Мерьем грызла ногти, думая про себя: «Клянусь Богом, он не знает, что бы там ни было, он не знает!»
– Эти трое и с места не тронутся. Будут ждать целыми днями. Кто раньше всех сдастся, тот выйдет из игры. Самый волевой будет держаться до последнего, он и станет падишахом.
Посол снова с улыбкой произнес:
– Нет, боец. Это тоже неверный ответ. Что же они, так годами будут ждать, не трогаясь с места? Давай-ка посмотрим, что скажешь ты, девочка.
Мерьем пересохшим от волнения голосом выпалила:
– Они поменяются лошадьми!
В ответ на это посол принялся аплодировать, а Профессор заулыбался.
Джемаль рассерженно вскочил:
– Как это – поменяются лошадьми?! Что это значит?
Мерьем повернулась к нему и так, словно объясняла урок ребенку, сказала:
– Ты что, не понял? Они сели на лошадей друг друга и, чтобы прийти первыми, стали гнать как сумасшедшие, ведь если бы один сын приехал к финишу первым на чужом коне, это бы означало, что его конь может оказаться третьим, то есть последним, и он таким образом одержал бы победу и получил награду отца. В общем, чья лошадь останется позади всех, тот и будет падишахом.
Джемаль снова возразил:
– Однако ведь падишахом должен стать тот, кто придет в город последним, а не первым?!
– Не он сам, а последняя лошадь, – сказал Профессор. – Это прозвучало в вопросе.
Джемаль поднялся и вышел.
Мерьем от счастья словно летала, приговаривая про себя: «Ты была права, няня!»
Если бы ее няня не рассказывала ей раньше эту сказку, наряду с другими, то она ни за что бы не нашла ответа. Однако она не собиралась ни с кем делиться этой тайной. Вон, Джемаль позеленел от злости, и Профессор с послом удивленно уставились на нее.
И у Мерьем не было никакого желания, сказав правду, нарушить это удовольствие.
– Когда ты придумала ответ? – спросил Профессор.
– Я думала до утра, – соврала она. – А потом вдруг раз, и пришло в голову!
Безумная ночь
В доме, пахнущем апельсиновым цветом, было все так хорошо, все шло так спокойно и мирно, словно оставь этих людей в покое – и они будут так жить до конца своих дней. Даже самый неприкаянный из них, Джемаль, охающий и ахающий, мечтающий о возвращении на родину, убежденный в том, что эти люди – предатели, не видя другого выхода, был вынужден смириться.
Отставной посол наслаждался тем, что нашел друга-единомышленника. Хотя он и сказал в первый день, что никому не позволит говорить о стране, но на самом деле этот запрет действовал только для других. Если кто-то хотел поделиться переполнявшими его идеями и говорил: «Я тоже так думаю», посол отвечал, обрывая собеседника на полуслове: «Ваши мысли тут ни при чем! Я про эти дела полвека думаю, уже голова не выдерживает». Поэтому они слушали его с утра до вечера, а сами очень редко открывали рот.
К тому же Джемаль с Мерьем не понимали многого из того, что он рассказывал.
Мерьем, целыми днями сидевшая в саду, иногда вдруг вскакивала и, сделав парочку шагов, снова садилась на место. Человека, не понимавшего, в чем дело, это могло бы удивить. Такие вскакивания случались довольно часто. Потому что обнаружила, издающие невыносимый стрекот сверчки боятся ее белого платья. Когда она, вскочив на ноги, бросалась к деревьям, все звуки немедленно стихали, и все, кто наблюдал эту сцену, очень смеялись.
Иногда посол просил:
– Давай-ка, Мерьем, прекрати этот гам. Приструни-ка их!
Длинными вечерними часами двое мужчин, сидя за столом под нависающими над головами апельсиновыми ветвями, открывали ледяной виски и, наслаждаясь, пили.
Как-то раз Профессор тоже решил изменить традиционный уклад их совместных вечеров: пригласил всех поужинать не дома.
Профессору надоело есть мучную еду, и он захотел повести всех к рыбакам в деревню. Тем более что он обещал это тем парнишкам, которые помогли ему пришвартоваться в самый первый день их прибытия на остров.
Всем понравилось это предложение. Когда спустился закат, они сели в резиновую лодку, хотя Профессор считал, что было бы гораздо разумнее не плыть туда, а пойти пешком по песчаному берегу. Закатное солнце, как по зеркалу, скользило по пылающей алым цветом ровной поверхности воды.
Профессор думал, что сейчас вот лукавый посол скажет, что море – винного цвета, а он ответит ему, что он тоже Гомер. Однако тот промолчал.
Когда они причалили к пристани, то увидели, что рыбный ресторан заполнен английскими туристами. Молодые люди были уже сильно навеселе, со стаканами пива в руках они распевали песни и кричали, находясь в состоянии необычайной экзальтации. Это была весьма развеселая группа парней и девушек.
Хозяин ресторана предоставил им столик в саду, на берегу моря. Ножки столика увязли в песке, и он раскачивался, как горб верблюда, идущего по пустыне, но рыба и морепродукты здесь были и в самом деле наисвежайшими.
Состоятельным клиентам, которыми он счел Профессора и его друзей, хозяин продемонстрировал весь бывший в наличии ассортимент товаров. Он принес рыбу в лотках и, чтобы показать, какая она свежая, вытаскивал и протягивал им. Он клялся, что рыбаки именно сегодня выловили окуня на рыбной ферме.
Три человека, сидящие за столом, вспомнили рыбную ферму, где они познакомились. Мерьем всей кожей ощутила, как ее атакуют тысячи мошек, комаров и москитов, все тело снова начало чесаться. Какой же это был ад – рыбная ферма!
Рыбаки вылавливали здесь и омаров. Хозяин ресторана показал им лоток с шевелящимися гадами. Посол, с манерами эксперта, сделал заказ: объясняя, как надо приготовить рыбу и как сервировать. Хозяин ресторана поклонился: «Слушаюсь!» и удалился.
Немного позже он вернулся с винными бокалами и хорошо охлажденным белым вином. Вино было местного приготовления, и следовало его сначала попробовать. Посол покачал в руках бокал с вином, потом, подняв, посмотрел долгим взглядом на просвет и произнес, словно оглашая важнейшее решение:
– «II a de la cuisse», то есть «Вино с крепкими ножками»![46]
Наклонив бокал, он увидел маслянистый след на стекле. Сделав церемониальный глоток, подержал вино во рту и только потом проглотил. Подождал чуть-чуть и, с восторгом приподняв брови, сказал:
– Ммм! Очень хорошо!
Хозяин ресторана был весьма удивлен такому обращению с дешевым вином, производимым наверху в деревне, однако и виду не подал, а с уважением наполнил бокалы гостей. Мерьем с Джемалем закрыли свои бокалы ладонями.
Профессор и посол пили холодное вино словно воду. Они поднимали и опрокидывали один бокал за другим. Еще и салат не принесли, как они уже уговорили первую бутылку. И тогда сын хозяина ресторана принес столько вина, что эти двое остались довольны. Может быть, оттого, что посол и Профессор привыкли к ледяному виски и крепким напиткам, это холодное, с мягким вкусом, вино казалось им слабеньким и безобидным.
Этот простой ресторан благоухал сложной композицией запахов, которых не постыдился бы и рай. Преобладал густой и резкий запах жимолости. Казалось, сидящие за столиками находятся внутри огромного куста жимолости. А под ним в эти часы началось царствование ароматов ночной фиалки…
Морской закат медленно угасал, вода потемнела. С наступлением темноты дурманный дух жимолости усилился. Словно цветы, один за другим, подобно пульверизаторам, распрыскивали сверху свой аромат…
Англичане распевали веселые песни, кричали и хохотали, откидываясь назад.
Подоспела первая порция рыбы. Ее поставили на стол вместе с большой тарелкой салата из рукколы.
Джемаль посмотрел на блюдо и сказал:
– А у нас в озере Ван рыбы не живут, потому что там минеральная вода. Но там, где в озеро впадает река Эрджиш, водится жемчужная форель. Она бы вам очень понравилась.
Посол удивился:
– Надо же! Интересно!
А Профессор ничего не сказал.
Неожиданно отключился свет, англичане закричали: «Ааа!», однако для местных это было делом привычным, и они ни капли не удивились. Мальчики-официанты тут же расставили на столах керосиновые лампы, а на ветвях деревьев повесили яркие фонари.
Этим вечером посол говорил без умолку, словно наверстывал за прожитые в одиночестве годы. От вина, которое они с Профессором пили на голодный желудок как воду, его охватило чрезмерное возбуждение. Может быть, оказало свое заразное воздействие и веселье, исходящее от молодых англичан.
Мерьем смотрела на обнимающихся девушек и парней, но уже не чувствовала внутреннего томления по мужскому телу. Перед ее внутренним взором вставали падающая на лоб каштановая челка Мехмета Али, его искренняя улыбка и темно-карие глаза…
За окунем последовали омары, за омарами – маленькие рыбки, бутылки приносились и уносились. Посол смеялся и говорил без остановки.
Профессор, покачивая пальцем, говорил ему:
– Посмотрите, ходжа, посмотрите на эти свечи, как романтично, не правда ли? Романтизм супружества. Тем не менее с браком неизменно связана одна и та же трагедия: «любовь проходит, а скандалы остаются».
Эти слова заставили обоих широко улыбнуться. Продолжил тему посол:
– Романтизм – это европейское изобретение, а здесь стараются следовать традиции. Замужние женщины тоже очень романтичны. Что это значит? Будучи мужем и женой, вы спорите из-за денег, время от времени жалуетесь на расстройство пищеварения, а потом вдруг все это заканчивается, и, глядя друг другу в глаза при свете свечей, вы обмираете от обожания. Это и есть час романтизма. Видели ли вы когда-нибудь такое?
Профессор чуть не свалился со стула от хохота.
– В этом мире у каждой женщины только одна цель: до конца своей жизни властвовать над мужчиной, поставив его на колени!
Посол покачал головой:
– На этот раз я вас застукал. Эти слова вы позаимствовали у Достоевского.
Ближе к полуночи иностранная молодежь совсем разошлась: сначала с ужасным шумом они распевали «Что бы нам сделать с пьяным матросом», потом три девушки, оставив парня, подхватились и кинулись купаться в море. Стягивая намокшую одежду прямо в воде, они, повернувшись к парню, показали ему зад. Видевшие это гости ресторана и хохотали, и возмущались.
Вдруг захмелевший посол сказал:
– С того момента, как человек стал прямоходящим, женские влагалища сузились. Поэтому самка человека рожает очень тяжело. Беременность протекает сложно, она не может сразу же встать после родов, подобно другим животным. Необходимо, чтобы за ней ухаживали. Эх, и кто же будет кормить ее в период этих долгих дней беременности и материнства? Естественно, мужчина. Мужчина, принадлежащий своей семье. Поэтому все женщины в мире задают всем мужчинам три вопроса: «Куда ты идешь? Когда ты придешь? Ты меня любишь?» И вот так с пещерных времен и до наших дней, в Нью-Йорке, Париже, в Стамбуле – везде одно и то же.
Тут на обоих стариков напал такой приступ смеха, что они уже не обращали внимания ни на кого вокруг. Даже изрядно набравшиеся пивом шумные англичане, оглянувшись, посмотрели на них.
Профессор, взявшись за край стола, выпрямился и сказал:
– Значит, говорите три вопроса?! Куда идешь? Когда придешь? Ты меня любишь? Верно, ей-богу, верно! Да здравствует господин посол!
Вдруг в его затуманенном сознании мелькнуло что-то из написанного Четином Алтаном[47], однако он тут же это забыл.
Когда Профессор поднимался на ноги, Мерьем подумала, что он сейчас свалится. Но в последний момент Профессор сумел сконцентрироваться и, опасно раскачиваясь, направился в туалет.
Голова у него кружилась, внутри разлилось чувство безмятежного счастья, он шел, не чувствуя под собой ног. Ему очень нравилось то, что голова как бы онемела. Впервые за долгое время он чувствовал себя спокойно. Он вошел в ресторан, оплатил счет, не обращая внимания на то, сколько лир дает, а потом спросил, где находится туалет.
Над самодельным туалетом за рестораном висел фонарь. Взглянув на себя в зеркало покрасневшими глазами, он приветственно кивнул сам себе и вышел в сад. От смеха у него болела челюсть.
– Куда ты идешь, когда ты вернешься, ты меня любишь? – повторял он. – Браво, мой посол!
Из-за куста жимолости, на котором висела керосиновая лампа, вышел человек. Они едва не столкнулись. В последний момент, почти коснувшись, они с трудом остановились. Фонарь осветил лицо человека. Профессора будто током ударило, он обмер, не веря своим глазам, и пробормотал:
– Хидает!
Волнистые каштановые волосы, тонкие изогнутые губы. Не о таких ли говорил Оскар Уальд Андре Жиду: «Мне не нравятся ваши губы: они совершенно прямые, как у людей, которые никогда не лгут. Я хочу научить вас лгать, для того чтобы губы ваши стали прекрасны и изогнуты, как губы античной маски».
Губы Хидаета были изогнуты, и довольно причудливо. Это был Хидает его молодости. Ему было не больше двадцати. Минувшие годы сделали Профессора пожилым человеком, однако они не коснулись Хидаета.
Тяжелое опьянение Профессора еще больше усилилось, он уже почти не мог стоять на ногах, казалось, вот-вот упадет на землю.
В свете фонаря человек то появлялся, то исчезал.
Молодой англичанин был так же пьян, они едва не столкнулись головами, и парень с изумленным выражением смотрел на Профессора, не отводя глаз.
А потом, то ли ища опору, чтобы удержаться на ногах, то ли от пьяных эмоций, или по какой-то другой причине, они обнялись. Профессор уткнулся в голое плечо парня в спортивной майке и, бормоча: «Хидает», начал плакать. Непонятно почему – то ли от того, что парень вспотел, то ли от своих слез, во рту появился соленый привкус.
Он еще раз прошептал:
– Хидает!
В этот момент он почувствовал глубочайшее наслаждение, которого не испытывал никогда в жизни, обнимая женщину, сейчас он ощущал, что никогда и ни с кем не обнимался с такой страстью.
Снова и снова он восклицал:
– Хидает! Ах, Хидает!
Но молодой англичанин был настолько пьян, что не мог услышать, что он говорит. От разжал руки Профессора, потянулся к нему изогнутыми тонкими губами, преувеличенно звонко чмокнул его в щеку и, раскачиваясь, пошел в туалет.
Профессор где стоял, там и сел. Он сидел на земле и смотрел на море, пытаясь осознать, что же с ним произошло. Он не мог понять – на море ли он смотрел, или в разверзшуюся внутри него бездну.
Еще несколько раз он прошептал:
– Хидает! Где ты?..
Если бы не пришел посол, он так бы и остался там. С помощью хозяина ресторана они подняли здоровенного Профессора и, держа под руки, довели до пристани, прямо до резиновой лодки.
На обратном пути лодку вел Джемаль. Никто не разговаривал.
Когда они подошли к пристани, Джемаль соскочил и привязал лодку. Потом он помог выйти послу и Мерьем. Оставшийся последним Профессор с трудом поднялся на ногах, он был волей-неволей вынужден взяться за руку Джемаля, чтобы сойти на пристань.
Но Джемаль, чуть только почувствовал руку Профессора на своей обнаженной коже, с ужасной силой толкнул его:
– Не прикасайся ко мне, развратник! – закричал он.
От этого сильного толчка Профессор упал назад, в резиновую лодку, и ударился лицом о сиденье. Посол и Мерьем с ужасом наблюдали за происходящим.
Профессор поднялся.
Ему было ужасно больно, из носа, которым он ударился о доску, текла кровь, держась за край пристани, он пытался подтянуться наверх. Изрядно попыхтев, он сумел забраться на деревянный настил и с трудом выпрямился, зажимая правой ладонью нос, из которого текла кровь. Джемаль стоял на пристани, словно поджидая его. Он еще раз пронзительно закричал:
– Не приближайся ко мне, мерзкий извращенец! Все видели, что ты делал в ресторане. Мерзкий извращенец, развратник!
Профессор посмотрел на него с чувством растущего изнутри гнева и, пытаясь унять идущую из носа кровь, сказал:
– Извращенец – твой отец. Потому что изнасиловал родную племянницу.
Он не кричал, он со злостью цедил слова сквозь зубы:
– Бедный идиот, ты так и не понял, что отец твой изнасиловал Мерьем и поручил тебе ее убить?
Услышав это, Джемаль словно ополоумел. Он бросился вперед, чтобы убить этого человека, схватил его пятерней за горло и заорал:
– Ложь! Ложь! Ты сдохнешь за эту ложь!
Профессор, с трудом дыша из-за вцепившейся в его горло ладони, прошипел:
– Спроси у Мерьем. Она объяснит тебе, ложь это или нет.
Джемаль повернулся к ней – не для того, чтобы спросить, а только чтобы посмотреть на ее реакцию, и увидел, что она молчит.
– Говори, девчонка! – приказал он. – Скажи, что этот человек лжет.
Мерьем молчала.
– Давай, Мерьем, говори!
Но девушка все так же молчала.
Профессор сказал Джемалю:
– Ну что, ты до сих пор не понял? Поведение девочки все объясняет. Твой отец – извращенец.
И тогда Джемаль со злостью, накопившейся за все эти дни, бросился на него и начал избивать. Мерьем и посол глазами, полными ужаса, смотрели, как его кулак, опускаясь сверху, врезается в лицо Профессора. Кулаки у Джемаля были словно кувалды. Он бил человека, дико выкрикивая угрозы и проклятия.
Профессор упал на четвереньки, затем растянулся на земле, текущая по лицу кровь заливала деревянную пристань. Посла, увидевшего, как тот выплевывает на помост сломанные зубы, начала бить ужасная дрожь. Наконец Джемаль оставил Профессора и с диким ревом, словно раненый зверь, кинулся к дому.
Профессор перевернулся на досках и растянулся на спине. Немного передохнув, он попытался подняться.
От увиденного посол пришел в ужас, и он истерично зашипел на ухо Мерьем:
– Вот, видишь?! Я был прав, что не хотел никого пускать к себе! Мой дом заполнился варварством этой страны. Какое мне дело до всего этого, какое дело?!
Мерьем опустилась перед Профессором на колени и, не найдя ничего другого, стала вытирать окровавленное лицо мужчины подолом своего белого платья.
Профессор лежал, глядя в звездное небо. В зените стояла самая яркая звезда.
«Должно быть, это Юпитер, – думал он. – Он больше Земли в сорок раз. Интересно, видно ли оттуда Землю, или она слишком мала?»
В этот момент он очень захотел увидеть падающую звезду, но так и не увидел.
В глубине его подсознания ворочалось ощущение мучительной боли, чего-то ужасно неприятного, однако он старался не вспоминать всего, что случилось, думая только о звездах и Юпитере.
И вдруг его начал разбирать смех. Он попытался сдержаться, но ничего не мог поделать и стал смеяться взахлеб. Вытирающая его окровавленное лицо Мерьем и наблюдающий за всем происходящим посол замерли от страха. Профессор, держась за руку Мерьем, выпрямился и сел, вытянув ноги. Он все еще смеялся.
Посол с испуганным выражением спросил, почему он смеется.
– Я побежден, – сказал Профессор. – Без всяких шуток, я побежден. Как сказал генерал Трикупис[48]: «С вашего высочайшего позволения, я возвращаюсь домой». Сейчас я принял решение. Я возвращаюсь. Я должен уйти туда, где мое место.
Из-за того, что два его передних зуба были сломаны, а рот полон крови, он говорил невнятно.
– Это лучшее, что вы можете сделать, дорогой Профессор, – произнес посол и, повернувшись к ним спиной, направился домой.
Войдя в сад, не оборачиваясь, он прокричал:
– Счастливого пути!
С огромным усилием Профессор поднялся на ноги. Придерживаемый Мерьем, он взошел на яхту. Мерьем поднялась за ним. Держась за руку девушки, он спустился по лестнице в свою каюту. Мерьем беспокоилась, зачем он туда идет. Она снова увидела улетевших по воздуху армян и висевшие на стене стихи.
– Я ухожу, – сообщил Профессор. – Больше мы никогда не увидимся.
Мерьем молчала.
Профессор попросил:
– Пойди принеси мне выпить из холодильника.
Мерьем поднялась наверх, открыла холодильник и, не разбираясь, что в какую бутылку налито, взяла одну и принесла мужчине. Когда она вернулась, Профессор стоял над одним из выдвинутых ящиков.
Взяв бутылку с джином, он вылил его себе на голову. А потом сказал:
– Не знаю, хорошо или плохо я сделал, открыв твою тайну, может, если бы это осталось со мной, было бы лучше. Но тебе надо бежать от Джемаля.
Мерьем молчала.
Оба вышли на палубу, на свежий воздух.
– Ты сердишься на меня? – спросил он.
Мерьем покачала головой.
Профессор произнес:
– Когда я включу мотор, брось мне веревку. Сделаешь?
– Да.
– Тогда до свидания!
Он поцеловал руку Мерьем, и Мерьем тоже коснулась руки Профессора легким, едва ощутимым поцелуем.
Она уже почти спустилась с яхты, и вдруг Профессор сказал:
– Минуточку. Возьми это, – и вложил ей что-то в руку.
Мерьем безотчетно сжала пальцы. Услышав шум мотора, она бросила веревку мужчине. Профессор передвигался с трудом, раскачиваясь. Ему удалось вытянуть якорь; удаляясь, он в последний раз помахал Мерьем рукой и прокричал:
– А что произошло в ресторане?
– Ничего, – ответила Мерьем.
Яхта в темноте скрылась из глаз, через какое-то время уже не стало слышно и шума мотора.
Мерьем смотрела вслед яхте. В саду никого не было видно, в доме не слышалось ни звука.
Когда она входила в комнату, то заметила, что ее белое платье залито кровью. Надо бы застирать его холодной водой… Ей вспомнились окровавленные тряпки, которые она стирала тогда, в поезде…
«Кровь не должна запечься», – подумала она.
Она положила конверт, который держала в руках, на кровать, спустилась вниз. Налив в пластмассовый таз холодной воды, она вернулась в комнату. Сняв платье, она замочила его в воде. Вода в тазу тут же стала ярко-красной.
«Надо будет получше прополоскать, – подумала она. – Иначе не отстирать».
Думая о том, что же делать, она присела на кровать. Машинально открыла конверт, лежащий рядом.
Конверт был полон денег.
Там было столько денег, что и не сосчитать, очень много иностранных денег.
Аллах полюбил Мерьем
Поднявшись по лестнице, Джемаль ощутил ужасную слабость в руках и ногах. Где стоял, там бы и упал. Он двигался словно механическая кукла. С трудом войдя в комнату, он рухнул на кровать прямо в одежде и через мгновение, словно камень, брошенный на дно бездонного колодца, погрузился в глубокий беспробудный сон. Он спал без сновидений, без малейшего звука и движения – словно его здесь не было.
На следующее утро посол сказал Мерьем:
– Прошу вас освободить мой дом. Уйдите сегодня же – и вы, и ваш родственник.
Мерьем видела, что худое лицо посла искажено, под глазами появились темные круги, а на тонкой коже выступили капиллярные сосуды. Должно быть, когда он брился утром, то порезался, и кровоточащая ранка на шее была заклеена пропитанной кровью ватой. Руки посла дрожали.
– Пожалуйста, немедленно, сейчас же оставьте мой дом! Оставьте меня в покое! Пожалуйста! Я знал, что так будет. В этой стране все сумасшедшие. Мой дом наполнился сумасшедшими, которых я столько лет избегаю. Пожалуйста, уйдите из моего дома!
Мерьем попросила его не волноваться, сказав, что, как только Джемаль проснется, они уйдут.
Она села в саду и начала ждать. Посол не сводил глаз с внутренней лестницы, ожидая, когда же Джемаль спустится.
Время близилось к полудню, но Джемаль не вставал. Мерьем, уставшая от постоянных вопросов хозяина дома: «Почему он не встает? Почему не встает?», решила подняться на верхний этаж и посмотреть, в чем дело. Она стукнула в дверь Джемаля, но никакого ответа не последовало. Тогда она ударила сильнее – и снова тишина. Девушка принялась стучать в дверь кулаком и кричать: «Джемаль!» Никто бы не выдержал такого шума, обязательно проснулся бы. Однако Джемаль не отзывался. Обеспокоенный происходящим, наверх поднялся посол. От переживаний его лицо перекосилось, его охватила паника: может, в доме произошло самое худшее, к примеру, самоубийство или смерть?!
В страхе он с силой распахнул дверь и вошел внутрь.
Джемаль лежал на кровати. Он был в шортах и футболке. Посол позвал тихонько:
– Джемаль-бей!
Потом повторил громче:
– Джемаль-бей! Джемаль-бей эфенди!
Парень не издал ни звука. И тогда посол слегка потряс его за плечо, потом сильнее. Ничего не произошло. Наклонившись над грудной клеткой юноши, старик прислушался и облегченно выпрямился:
– Дышит!
Он немного успокоился.
В тот день им так и не удалось разбудить Джемаля.
Спустились вечерние сумерки, а юноша находился все в том же состоянии: он спал, не двигаясь, и не выказывая никакой связи с внешним миром.
Посол попытался интерпретировать это с позиции своих обширных познаний.
– Однажды со мной случилось нечто похожее, – сказал он. – Я всегда страдал нарушениями сна, однако в ночь, когда я потерял свою мать, пришел домой и заснул беспробудно, безо всяких сновидений на двадцать четыре часа, не подавая никаких признаков жизни. Это – одна из разновидностей смерти. Может, и Джемаль-бей находится в таком же состоянии.
Мерьем еще несколько раз заходила, чтобы посмотреть на Джемаля. Он спал все в том же положении. Коснувшись его лба, она ощутила, что он горит. У него была очень высокая температура.
Хочешь не хочешь, но в таком состоянии выгнать из дома его было невозможно. И посол разрешил им остаться еще на одну ночь.
Мерьем ушла в свою комнату, легла пораньше и постаралась заснуть. На нее произошедшее произвело совершенно противоположный эффект, она была на диво спокойна. Она чувствовала, что все становится на свои места, и жизнь вот-вот войдет в свое новое русло. Не осталось абсолютно никаких печалей и страхов. Она удивилась своему спокойствию и решимости, но с другой стороны, ей это очень понравилось, она ощущала, что внутри нее скопилась огромная сила.
Рано утром Джемаля разбудило нежнейшее прикосновение. Не открывая глаз, он почувствовал, что его лицо щекочут пахнущие мускусным ароматом волосы, а к его телу прижимается разгоряченное тело с шелковистой кожей. Женское тело ласкало его сверху, и от этих упоительных прикосновений его начала бить мелкая дрожь. От волнения сердце стучало как сумасшедшее. Он обнял девушку и ощутил под своими ладонями сначала гибкую и упругую талию, а потом упругие бедра. Спустя мгновение он почувствовал, что запретное девичье место бьется, словно бабочка крыльями, на его запретном месте, и с чувством неописуемого наслаждения из него низвергся горячий поток. Он боялся открыть глаза, однако это необходимо было сделать. Открыть глаза и в первый раз в жизни увидеть лицо Чистой Невесты.
Дрожа от страха, он открыл глаза – и тут же сомкнул их, проваливаясь в еще более тяжелый, чем сон, мрачный туннель забытья.
Утром Профессор проснулся от того, что по глазам его резанули острые, как бритва, лучи солнца. Из глаз брызнули слезы. Первой его мыслью было: я умер.
Ночью он отринул самого себя и с чувством большого покоя отдался во власть смерти. Однако запах тикового дерева, исходивший от палубы, ласкающий его лицо ветер, солнечный свет, от которого заболели глаза, и очень знакомая, черт бы ее побрал, головная боль были настолько реальны, что он поднялся, чтобы оглядеться и понять, где он находится. Яхта застряла посреди моря, вращаясь вокруг своей оси. Он смутно припомнил, как нажал кнопку и бросил якорь. И вот яхта, вместо того, чтобы сесть на мель и развалиться, как бумажный кораблик, кружила в открытом море.
Он и обрадовался, и расстроился.
Он вышвырнул пустую бутылку из-под джина в море. Рот словно заржавел и не собирался открываться, голову сжимало тисками. Чтобы спастись от этого состояния, существовало лишь одно средство – броситься в морскую прохладу вслед за бутылкой из-под джина. Он так и сделал – словно бутылка, плюхнулся в море. Даже немного наглотался воды, однако почувствовал благодарность к этой синеве, омывшей его и снаружи, и изнутри. Он резвился в воде, как отбившийся от стаи пожилой дельфин…
Когда Профессор поднялся на палубу, он чувствовал себя уже намного лучше. Настолько лучше, что он даже понял, что может противостоять навалившимся на него проблемам. Хотя… а стоит ли бороться?.
Он снова подумал: «Я побежден».
Странное дело, но эта мысль принесла ему ощущение внутреннего счастья. А ведь поражение и капитуляция ничем не похожи на счастье. Значит, это его победа? Закончился период ненасытных желаний и притворства, страхов и саркастических вопросов. Его охватило внутреннее спокойствие полководца, проведшего долгие годы в осажденной крепости и вынужденного сдаться более сильной армии.
Вопросов было много, и самого разного характера: турок или эгеец, средиземноморец ли, американец или европеец, или выходец из Среднего Востока, мусульманин или атеист, богатый или бедный, мужчина или нет, настоящий или фальшивый, милосердный или жестокий, язвительный или чистосердечный, традиционалист или модернист, показушник или философ, ученый или шарлатан, боящийся смерти или нет… И все они сводились к одному: «Кто я?» Ответить на эти вопросы было невозможно. Так чем разбираться в понятиях и идеях, гораздо проще было, согласившись с поражением, сдаться и жить спокойной жизнью.
Сейчас он очень хорошо знал, что надо делать.
Отправиться к человеку, который больше всех любил и ждал его, то есть к своей матери, есть пищу, которую заработает своим трудом, перезнакомиться с любопытными соседями, в праздничные дни по утрам с букетом цветов навещать могилу отца. Возможно, найти в Эгейском университете работу скромного учителя и в этом доме своего детства – возможно, в какой-то другой форме – жить так, как жил его отец. Это было бы самое лучшее.
Он, подобно спящему Эндимиону, выбрал беспробудный сон.
Хотя Профессор думал, что горбатого могила исправит, он не мог избавиться от своей язвительности и тут же вспомнил о статье в журнале «Ньюсвик», которую читал раньше, в которой рассказывалось о том, что в Италии для мужчин преклонного возраста, живущих с матерью, существует специальный термин mammismo.
Он смог перевести его на турецкий язык как «мамочкин сынок». Но ему плевать, кем его будут считать люди – mammismo или мамочкиным сынком. После того как он согласился с поражением, жизнь могла сколько угодно топтать и унижать его. Даже в самой своей низменной части игра имеет вкус. Он улыбнулся.
– Давай, маменькин сынок! – сказал он сам себе. – Только сначала верни яхту и благодари Бога, что заплатил вперед.
Когда Джемаль проснулся в следующий раз, первое, что он увидел, – было бледное лицо Мерьем, сидевшей у его изголовья и смотревшей на него. Он с трудом поднялся на постели, поняв, что абсолютно разбит.
– Мерьем! – пробормотал он. – Ты ночью сюда не заходила?
– Нет, – ответила девушка.
– Сколько я проспал?
– Двое суток. Я ждала, когда ты проснешься. Хозяин дома хочет, чтобы мы немедленно ушли отсюда.
– Хорошо, – сказал Джемаль, – как-нибудь найдем место, куда уйти.
– Ты для себя ищи, – покачала головой Мерьем.
– Почему? Разве ты не идешь со мной?
– Нет!
– А куда ты пойдешь?
– Тебя это не касается, – спокойно ответила Мерьем.
Джемаль смотрел на нее с изумлением. Лицо девушки выражало высшую степень решительности, его даже можно было назвать жестким. Нижняя губа презрительно скривилась. Глаза смотрели прямо, не мигая. Она была абсолютно серьезна. Джемаль испугался:
– Мерьем. Ты не справишься одна. Пойдем со мной.
Мерьем еще раз сказала:
– Нет. Возвращайся домой.
Услышав про дом, он вдруг почернел лицом, даже цвет кожи изменился, а в глазах появилась ужасная боль.
Сквозь стиснутые зубы он прошептал:
– Не вернусь. Никогда в своей жизни я не вернусь в это кошмарное место!
– Тогда отправляйся в Стамбул. К брату или к своему другу. Они найдут тебе работу.
Потом, под удивленным взглядом Джемаля, вытащила из кармана пачку долларов и дала ему:
– Эти деньги помогут тебе. Не беспокойся, у меня есть еще.
Джемаль спросил:
– Откуда у тебя они?
– Ходжа дал, – коротко ответила девушка.
Она повернулась и вышла. Не прощаясь.
Джемаля охватило чувство неведомого ему ранее страха. Осознание того, что Мерьем сейчас выйдет и он ее больше никогда не увидит, снарядом взорвалось в его голове. Первый раз в жизни изнутри поднималось желание расплакаться, как маленький ребенок. Он бросился за ней, схватил за руку и произнес, задыхаясь:
– Ты не уйдешь! Никуда не уйдешь. К этому парню из кафе бежишь, не так ли? Я тебе не позволю.
Мерьем сказала холодно:
– Отпусти мою руку. Делай что хочешь, но ты не сможешь мне помешать.
Джемаль стал сильно трясти ее с угрожающим видом:
– Мерьем! Приди в себя, не то я сделаю что-то плохое!
Он занес руку, словно собирался ее ударить. Девушка пожала плечами.
Джемаль взревел:
– Убью как собаку!
Мерьем бесстрашным сияющим взглядом посмотрела прямо ему в глаза.
Джемаль в жизни не подумал бы, что захочет сделать это: упасть перед ней, обнять ее колени и плакать. Его охватила такая паника, словно как только она выйдет в дверь, оборвется его жизнь.
Он хотел умолять Мерьем, просить, чтобы она его простила, рыдать, уткнувшись лицом в ее белое платье.
Но не сделал ничего такого и остался стоять как каменный.
Мерьем спокойно посмотрела на Джемаля, даже не изменившись в лице, сказала: «Ну, будь здоров!» После чего стала спускаться по лестнице на первый этаж.
Под сенью ароматных апельсиновых цветов она прошла по песчаной дороге и зашагала по кромке берега, на который набегали морские волны.
Одинокая, бесстрашная и свободная!
Белое платье, отстиранное и высушенное, развевалось на ветру, и брызги от волн обдавали прохладой ее голые ступни.
Она услышала жалобный рев осла. Он проревел трижды.
– Иду я, не волнуйся, – сказала Мерьем.
Она мечтала о показавшемся вдали уже таком знакомом кафе, о манящих огоньках внутри, о красивых столиках, стульях и цветах. Коснулась свертка с деньгами в кармане.
Если Мехмет Али так и не решится признаться в своих чувствах, она будет выпекать пастушьи пирожки в недавно открытом сверкающем огнями ресторане наверху до самого конца своей жизни.
Осел еще раз заревел истошно. Его голос эхом раскатился по холмам.
– Да иду же я, ишак! – крикнула она. – К чему спешить?!
Значит, в жизни все же случаются чудеса. Ее лицо осветила счастливая улыбка. Теперь Мерьем почувствовала, что Аллах полюбил ее.
Сноски
1
Шейх суфийского тариката – тарикат, духовное мистическое объединение в суфийской традиции, отдаленно напоминающее европейскую традицию монастырских орденов. Суфизм – мистическое движение в исламе, целью которого является единение с Аллахом. Достигается это единение с помощью различных духовных, физических и психических практик, непременно под руководством наставника – муршида. Нередко наставником являлся и сам шейх, глава общины, в широком смысле глава ордена. Местное население обычно почитало шейхов как святых, иногда прижизненно, часто обращаясь к ним за помощью, лечением, духовной поддержкой.
(обратно)2
Албасты – женские демонические персонажи в мифологии тюркских и некоторых соседних с ними народов. Обычно представляются в виде уродливой обнаженной женщины с длинными распущенными желтыми волосами и обвислыми грудями.
(обратно)3
Теравих, тара́ви́х – желательный намаз, который совершается в месяц Рамадан после обязательной ночной молитвы (иша) и длится до появления зари.
(обратно)4
Местность в турецкой провинции Ширнак, на границе с Ираком и Сирией.
(обратно)5
Ходжа – вежливое обращение к учителю, наставнику, преподавателю.
(обратно)6
Каспар Хаузер – «Дитя Европы» (1812–1833), найдёныш с таинственной судьбой, одна из загадок XIX века. Народная молва упорно его считала похищенным из колыбели наследным принцем баденского престола.
(обратно)7
Константинос Кавафис (1863–1933) – александрийский поэт, который стоял в стороне от словесного канона своего времени и лишь после смерти был признан величайшим поэтом новогреческого языка.
(обратно)8
Mekap – обувь турецкого производства.
(обратно)9
Или «Черный ястреб» – американский многоцелевой вертолет.
(обратно)10
Праздник в конце девятого месяца Рамадан, в этот праздник принято просить прощения у Бога за совершенные грехи и читать Коран.
(обратно)11
Ла́зы – субэтническая группа грузинского народа. Проживает на территории исторической области Лазистан, большая часть территории которой в настоящее время входит в состав Турции.
(обратно)12
Отсылка к «Одиссее» Гомера.
(обратно)13
В течение 200 лет хребет горы Арарат называли «Джуди». Гора Джуди, о которой здесь говорится, лежит в 200 милях к югу от горы Арарат.
(обратно)14
Речь идет, в частности, о гибели шиитского имама Аль-Хусейна ибн Али аль-Кураши – второго сына Али ибн Абу Талиба и дочери Пророка Мухаммада Фатимы. День его гибели во время сражения близ Кербелы с войском омейядского халифа Язида I отмечается шиитами как траур ашура.
(обратно)15
Кикла́ды – архипелаг в южной части Эгейского моря.
(обратно)16
Герой повести Ф. М. Достоевского «Двойник».
(обратно)17
Мачка – город в турецкой провинции Трабзон.
(обратно)18
Стихотворение «Мой лейтенант», посвященное основателю Турецкой Республики Мустафе Кемаль-Паше Ататюрку, было написано турецким поэтом Айханом Хюналпом в 1955 г.
(обратно)19
Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (1207–1273), известный как Руми или Мевляна – выдающийся тюркский поэт-суфий.
(обратно)20
Алеви́ты – субэтническая, религиозная и культурная община в Турции и Албании и Болгарии в количестве нескольких миллионов человек. Место религиозного поклонения алевитов – дом (джемеви), а не мечеть.
(обратно)21
Религиозная церемония алевитов.
(обратно)22
Музыкальный инструмент типа лютни семейства тамбуров.
(обратно)23
Жанр турецких народных песен лирического содержания.
(обратно)24
Али ибн Абу Талиб (599–661) – политический и общественный деятель; двоюродный брат, зять и сподвижник Пророка Мухаммеда, четвертый праведный халиф (656–661), первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов.
(обратно)25
Американский исследователь мифологии, известный своими трудами по сравнительной мифологии и религиоведению.
(обратно)26
Билл Моерс (род. 5 июня 1934) – американский журналист и политический обозреватель.
(обратно)27
Сеть турецких ночных клубов.
(обратно)28
Бебек – исторический район в Бешикташе в Стамбуле, расположенный на европейском берегу пролива Босфор, один из самых дорогих районов Стамбула.
(обратно)29
Стихотворение турецкого поэта Орхана Вели Каныка «Karşı» – «Напротив».
(обратно)30
Ади бен Мусафир, Ад-Дин бен Мусафир, шейх Ади (1073–1163, современный Иракский Курдистан) – основатель и реформатор езидизма.
(обратно)31
Езиды – религиозная община.
(обратно)32
Мелек-Тавус («ангел-Павлин») – глава ангелов в религии езидов.
(обратно)33
Богомильство (богумильство) – одно из крупнейших религиозно-социальных еретических течений на Балканах и в М. Азии в X–XIV вв.
(обратно)34
Лукиан Самосатский (около 120 – после 180 гг. н. э.) – древнегреческий писатель.
(обратно)35
Катары – еретическое течение в христианстве, достигшее расцвета в Западной Европе в XII и XIII вв., тесно связанное с богомилами.
(обратно)36
Округ Эйюп считается одним из самых религиозных в Стамбуле. Он расположен в европейской части города, простираясь по всему берегу Золотого Рога и дальше вплоть до побережья Чёрного моря.
(обратно)37
Турецкий поэт, последователь суфизма. Считается основоположником турецкого стихосложения.
(обратно)38
«Да здравствует Абдулла Оджалан!» (курд.)
(обратно)39
Стиль городской авторской песни, популярный в Греции в 1920-е – 1930-е гг.
(обратно)40
Зейбекико – медленный танец, исполняется, как правило, мужчинами, но в нем могут принимать участие и женщины. Касапико (хасапико) – народный греческий танец, ранее имевший церемониально-прикладное значение и исполнявшийся как воинский ритуал.
(обратно)41
Самые известные греческие музыканты, композиторы и исполнители музыки жанра рембетика.
(обратно)42
В русском языке их называют греками-фанариотами или константинопольскими греками, анатолийскими греками, возможны и другие варианты.
(обратно)43
Особый стиль традиционной португальской музыки, разновидность сольной лирической песни (мужской или женской) под аккомпанемент португальской гитары.
(обратно)44
В турецкой военной традиции место, где во время войны полегло много бойцов и было пролито много крови, красили красной краской, и по ночам белый свет Луны отражался на красной крови, словно цвет турецкого флага.
(обратно)45
Гёзлеме – традиционные турецкие лепешки с начинкой из сыра, творога, брынзы, мяса или овощей, которые готовят на горячих углях на специальных выпуклых сковородах «сач».
(обратно)46
Одним из этапов визуальной оценки вина является осмотр его «ножек». Для этого бокал вращают круговым движением руки, чтобы вино стекало по внутренним стенкам. Помещая его под источником света, дегустатор осматривает капли прозрачной жидкости, которые стекают медленнее, чем остальная часть вина. Эти капли и называют «ножками», «слезами», «свечами» вина.
(обратно)47
Четин Алтан – турецкий писатель, журналист, политик.
(обратно)48
Николаос Трикупис (1868–1956) – греческий генерал и политик, полководец во время второй греко-турецкой войны 1919–1922 гг.
(обратно)
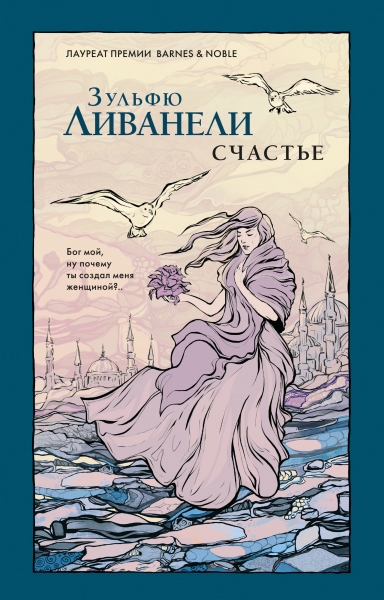



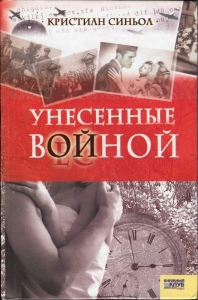




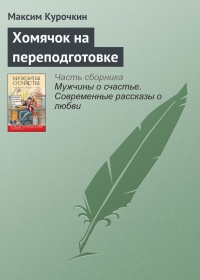
Комментарии к книге «Счастье», Зульфю Ливанели
Всего 0 комментариев