Каталин Дориан Флореску Человек, который приносит счастье
© Кабисов А., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
* * *
И я был тоже одинок, ничто в меня не вело. Меша Селимович. Дервиш и смертьГлава первая
Река мягко принимала мертвых, словно зная, что эти мертвые — особенные. Сколь бурным ни бывал иногда Ист-Ривер, сейчас, в утренних сумерках, он раскинулся широкой свинцовой лентой. Он был терпелив, не желая мешать людям в их деле. Сегодня он больше не получит покойников из гетто, зато получит других. Это было совершенно ясно.
На берегах Манхэттена всегда хватало желающих вверить себя водам Ист-Ривер — отчаявшихся, уставших, сумасшедших. Да и тех, кто вверял им других — жертв грабежей и сведения счетов. Пролив не привередничал. Через несколько дней он избавлялся от тел, вынося их к берегу — от причалов суетливого порта на юге до песчаных пляжей и ветхих мостков Бронкса на севере.
Это не реке приходилось мириться с тем, что город построили именно здесь, а человеку. На этот раз он решил остановиться и безучастно наблюдал, как экипаж небольшого парохода грузит на борт маленькие белые гробики, едва отличимые от снега, который шел со вчерашнего вечера и теперь укрыл все толстым слоем.
Дело для команды было привычное. Дважды в неделю пароход отвозил свежих покойников из гетто на остров Харт. Руки матросов хорошо знали, что делать, и работа спорилась. Капитан, человек мрачный и грубый, следил за погрузкой, стоя у релинга. Он тоже привык покрикивать на подчиненных, чтобы те поторапливались. А мой дед — тогда еще мальчишка лет четырнадцати-пятнадцати — привык смотреть, как пароход отчаливает от пристани, а потом тяжело и лениво берет курс на бедняцкое кладбище.
Обычно дед смотрел на пароход совсем недолго, проходя мимо. Он спешил, ведь нужно было раздобыть несколько центов и что-нибудь забросить в урчащий желудок — например, черствый бутерброд с селедкой или с огурцом, а может, даже съесть несколько кнышей и похлебать наваристого борща на Орчард-стрит в еврейском квартале.
Дед, как и река, не привередничал. Не важно, кто тебя кормит, ирландцы, итальянцы или евреи, главное — чего-нибудь пожрать. А если к вечеру остается шесть центов на ночлежку для разносчиков газет, то день удался. И уж совсем шикарно, если ты заработал еще и на жевательный табачок.
Дед никогда не признался бы, что этот пароход имел для него какое-то значение, хоть он и видел не раз, как тот пыхтит мимо Ист-Сайда со своим никчемным или драгоценным грузом. Это как посмотреть.
На борту было пока всего лишь несколько покойников, их имена никому ни о чем не говорили, а иногда имен у них не было вовсе, например у новорожденных, умерших некрещеными. Часто их никто не провожал на причале. Поскольку они не могли себе позволить даже смерть, их жалкие похороны оплачивал город. Хотя бы раз, единственный раз, город платил за них.
Когда дед чистил сапоги в конце Деланси-стрит, когда стоял на перекрестке где-нибудь между Юнион-сквер и Чатем-сквер и пел сиюминутные шлягеры, когда продавал газеты у ворот завода или синагоги, пароход был для него лишь отдаленным воспоминанием. И когда он дрался за окурок или остатки пива в бочонке возле бесчисленных кабаков — тоже. Всего лишь воспоминанием, но воспоминанием неизгладимым.
Никто из тех мальчишек ни за что не признался бы, что этот пароход для них что-нибудь значит, но каждый раз они себя выдавали. Смотрели на него чуть дольше или сплевывали табак чуть равнодушнее, пробормотав: «Да уж, в ящик сыграть недолго».
Истсайдские покойники проплывали мимо них регулярно. И добавить тут было нечего. В жизни и так хватало трудностей, чтобы еще обременять ее смертью. Но если бы тогда кто-нибудь спросил деда, с глазу на глаз, то, возможно, он сказал бы, что совершенно точно не хочет одного: оказаться там, куда уходит этот пароход. Но никто не спрашивал. Никого не было. Он был один.
«Volevo an impressive funerale»[1], — говорил он уже стариком на своем странном смешанном наречии. Черную карету со стеклянными стенками, чтобы было видно, как он лежит в лучшем костюме из тонкого сукна. А следом — духовой оркестр. Так ирландцы и итальянцы провозили своих покойников через гетто. На это они тратили последние деньги, если таковые были. Вот каких похорон он хотел, но не получил. В итоге за дешевым гробом шли только мама, Паскуале и я.
Первого января 1899 года дед стоял на полпути между Бруклинским мостом и Ратгерс-слип, где он купался летом, и наблюдал за движением на пристани. Он рассмеялся бы в лицо любому, кто сказал бы, что Ист-Ривер на самом деле вообще не река, а вытянутый морской пролив. Обитатели гетто воспринимали его не иначе как реку, которой они доверяли свои отходы, испражнения, своих мертвых. Река омывала людей, и иногда они сидели на ее берегу, чтобы на несколько минут отвлечься от городской тесноты.
Дед был доволен, ведь в последний день прошлого года он продал на Нижнем Бродвее немало газет, хотя основной его клиентуры на улицах почти не осталось — торговцам вразнос всегда была нужна упаковочная бумага, но многие из них спасовали перед воющим ветром и даже не вышли на работу.
Вчера он во всю глотку кричал: «Сенсация! Сенсация!» — это действовало почти безотказно. Столько «сенсаций», сколько он выкрикивал, просто не могло быть на свете. На Элизабет-стрит, где жила в основном ирландская беднота, его сенсации касались англичан, подавлявших Ирландию. На Малберри-стрит сенсации — покушение на короля, засуха; эпидемия в Старом Свете предназначались итальянцам. На Орчард-стрит конечно же было важно ругать русского царя.
Шеф деда Падди-Одноглаз наставлял его: «Если в городе убийство, кричи “сенсация” один раз. Евреев выгоняют из Москвы и Киева? Евреи гибнут от великого голода в России? Дважды “сенсация”! А когда ничего не происходит, кричи “сенсация” три раза, чтобы хоть что-то продать». Кричать «сенсация» — никогда не повредит. Только по умершим в гетто никому не пришло бы в голову кричать «сенсация».
Одноглаз был всего на три-четыре года старше деда, но уже великий знаток сенсаций. Кличку свою он получил не за отсутствие глаза. Нет, ему не хватало трех пальцев на руке, но глаза были на месте. «На этот раз я, так и быть, закрою на это один глаз, — говорил он мальчишке, продавшему слишком мало газет, — но в следующий раз не забывай, что у меня два глаза. Так что поднапрягись». Вот так он каждому давал второй шанс.
Мальчишки боялись не столько тяжелой руки Одноглаза, он редко ее поднимал. В гетто хватало тяжелых рук: у полицейских, у старших парней, у торговцев, если ты что-нибудь стащил с их тачки. У отца тоже была тяжелая рука, если у мальчика был вроде как собственный отец. Если он давно не скрылся в западном направлении, прочитав плакат, обещавший золотые самородки размером с человеческую голову.
Сильнее любых побоев они боялись лишиться милости Одноглаза и потерять работу. Боялись, что он не поставит их на лучшие места — на оживленных перекрестках или перед знаменитыми ресторанами «Дельмонико» или «Люхов». Тогда им пришлось бы голодать еще больше, чем теперь. А что ждет потом, они видели дважды в неделю — чух-чух вверх по реке.
Дед был талантливым, но начинающим крикуном сенсаций, а вот Падди-Одноглаз — некоронованным королем всего, что связано с заработком на улицах: продажа контрабандных сигарет, контрафактного алкоголя, газет и игра в монетки. Если бы не юный возраст, его можно было бы назвать матерым волком.
Большее уважение, чем Падди-Одноглаз Фаули, у мальчишек с улицы вызывал только Гудини. Они обожали волшебника, который мог в мгновение ока освободиться от наручников. Только ради него они соглашались голодать и жертвовали десять центов на посещение убогих театриков Бауэри или «Музея Хубера» на Юнион-сквер. У кого не было и этих денег, тот глазел на афиши с изображением низкорослого, коренастого мужчины: «Гудини — бесспорный король наручников!» Будто кто-то пытался это оспорить. Они смотрели и удивлялись.
Когда ребята побогаче выходили из театра, их осаждали те, у кого денег не было совсем. Если посмотревшие представление ничего не рассказывали, их избивали. Если они рассказывали плохо, их избивали. Так что им приходилось сочинять самые невероятные истории о Гудини. Один говорил, что маг надел на него наручники так, что он даже не заметил. Другой добавлял: «Он не только тебе надел, а всему залу», многозначительно кивал и сплевывал.
Такой, как Гудини, не попался бы ни одному полицейскому. Вывернулся бы из любой беды. У мальчишек даже было выражение «быть Гудини» или «быть как Гудини». Съесть собаку, быть стреляным воробьем, таким, кому ничего не будет. Обладать смекалкой, большой смекалкой. Такой никогда не окажется на корабле для бедняков.
У деда тоже было прозвище, его называли Спичкой. Не потому, что он был тощий. Тощие были все. Большинству приходилось покупать подтяжки, чтобы не сваливались штаны. Подтяжки были в гетто ходовым товаром. Просто дед легко воспламенялся.
Снегопад начался в канун Нового года ранним вечером и преобразил гетто. Грязь, канализационные стоки, канавы, мусор, тина, остатки уличной ярмарки — все это лежало теперь под слоем белого снега, который становился все толще.
Снег падал на черные шляпы евреев-ортодоксов и платки итальянок, искавших немного муки, растительного масла и старой картошки для пончиков зепполе. Снег падал на пожарные лестницы, навесы над лавками и подъездами, а летом, когда жильцы выходили из квартир, спасаясь от жары, на каждом крыльце царила жизнь. Снег отчаянно посыпал прилавки на рынке, коробки и бочки, развешанные костюмы и платья. И все те бесчисленные вещи, которыми пользовались в гетто.
Снег падал на шлюх на Аллен-стрит, вышедших на улицу, несмотря на холод, чтобы завлечь клиентов. Им было все равно, набожный еврей, пьяный ирландец или просто любопытный прохожий с той стороны Четырнадцатой улицы, забредший в гетто в поисках развлечений, они распределяли свою благодать на всех. «Не желаешь ли помолиться со мной?» — взывали они ко всем без разбору. Летом, гуляя в тени железнодорожной эстакады, такая женщина роняла платок, и тот, кто его поднимал, отправлялся с ней «на молитву». Но в этакую погоду шлюхи лишь ненадолго выходили за дверь и вскоре возвращались в подъезд погреться.
Снег падал на иконы святого Роха и Богоматери Кармельской, на распятия, свечи и розовые венки итальянцев, на сидуры, талиты и меноры евреев — все это продавалось с лотков на каждом шагу. Снег шел неумолимо и абсолютно демократично, снега хватало на всех, от Бэттери до Инвуда. Ветер беспрепятственно сквозил по застроенным улицам, словно дыхание сквозь тело лежащего гиганта. Словно яд.
Людям и животным оставалось лишь терпеть снегопад. И если люди подыскивали помещения, где бы погреться, то лошади терпеливо стояли на улице. Их спины, головы и морды постепенно покрывались снегом, как и повозки, что они возили за собой всю жизнь. Животные стояли смирно, они пережили все причуды людей, переживут и причуды природы. Лошади прислушивались к ветру. Изредка они били хвостами, изредка закрывали добрые глаза и прядали острыми ушами, словно желая слышать еще лучше.
Их хозяева теснились в подвальных барах Малберри-стрит и грязных салунах Бауэри. Новый год кое-что значил и для бедняков, да, пожалуй, побольше, чем для остальных. Это был редкий случай, когда можно на несколько часов забыть обо всем. А для пьянчуг — отличный повод выпить. Когда солнце зашло и город готовился отметить большой праздник, люди начали забывать об Ист-Сайде и пить. Или пить и забывать, смотря что получалось быстрее.
К этому времени дед уже давно пересек Бауэри и пробился к Нижнему Бродвею. Он редко выходил из гетто, потому что только там чувствовал себя дома. Это была его территория, здесь он знал правила, здесь он был Гудини. Но к западу от нее, на Бродвее, на Пятой авеню и в северных кварталах, ему казалось, будто он очутился в чужой стране. Он никогда не бывал за границей, но был уверен, что именно так себя там и чувствуешь. Обе руки сразу становились левыми, а лицо приобретало глупое выражение. Пройдешь всего несколько сотен ярдов, несколько шагов за Бродвей — и ты уже в другом мире.
Женщины здесь носили шелковые, бархатные и парчовые платья, ароматные ткани, украшенные кружевами, черные атласные пояса, шарфики из тонкого шелка. Мужчины ходили летом в бледно-желтых соломенных канотье с черной муаровой лентой или в белых фетровых шляпах. Зимой — в выдровых шубах с собольими воротниками. А такие, как дед, — наоборот — в засаленных шапках, рваных, вытянутых штанах и куртках, частенько босиком.
«Если хочешь чистить обувь или торговать газетами там, не плюйся табаком на улице. У меня работают люди с манерами. Зайди в бар и сплюнь в плевательницу. Но главное, не ругаться. Они там все очень набожные. А теперь давай, вали и наторгуй чего-нибудь, черт тебя дери!» — так их наставлял Одноглаз.
По дороге в даунтаун дед продал лишь несколько газет. В последнее время много и не покупали. На мир нельзя было положиться, он бросает тебя в беде как раз тогда, когда тебе голоднее всего. Последние настоящие сенсации кричали в ноябре. Двадцать шестого числа пароход «Портленд» потонул на пути в Кейп-Код, все сто девяносто два человека померли. Пятого ноября в Берлине давали премьеру пьесы какого-то немца по фамилии Гауптман. Дедушка мог выговорить «Берлин», но не «Извозчик Геншель», поэтому в огромном зале немецкой пивной «Атлантик-гарден» он выкрикивал: «Сенсация! Сенсация! Гауптман в Берлине! Бесспорная премьера!» Там ему не повезло, потому что ходили туда уже в основном итальянцы. Зато повезло чуть севернее, на Второй авеню. В тот день он продал без малого сотню газет. Похоже, Гауптмана любили, надо бы ему каждый месяц устраивать несказанные премьеры.
Но самые первоклассные заголовки были в октябре. Когда Теодор Герцль приехал в Иерусалим, все гетто стояло на ушах. Евреи отрывали газеты с руками. Они целовали и обнимали деда, совали ему сладости. За каких-то полчаса он заработал столько, что смог позволить себе праздничный обед в «Долане»: два яйца вкрутую, маринованный язык, соленую телятину с бобами, устричный пирог, кофе и сигару. В тот день он чокался полной пивной кружкой, а не опивками, и пил за здоровье предприимчивого мистера Герцля.
Единственной — к сожалению, жиденькой — новостью декабря было сообщение о машине, которая разогналась до 39 миль в час. В «Таймс» ее назвали словом «автомобиль», но из-за этого дед не смог как следует продать тот номер. Одноглаз был недоволен, но разве дед виноват в провале, если мир не послал приличному мальчишке-газетчику ни одной приличной новости? Виноват мир, а не мальчишка. Но Одноглаз не желал ничего знать и не вернул ему ни цента из скудной выручки.
«Да чтоб тебя, я тебе Гудини, что ли? Если ты не стараешься, то ничего и не получишь». Таков был Падди Фаули. Если мир ничего не подает, значит, надо из него выжимать.
Дойдя до южного конца Бродвея, дед проголодался. Вообще-то голод был его постоянным спутником, он был то сильнее, то слабее, но голодно было всегда. От голода никому не удавалось увернуться, это тебе не полиция, не отцовские побои, не кулак нового любовника матери и не служба защиты детей, то и дело хватавшая кого-нибудь из мальчишек.
«Мы сделаем из тебя человека», — говорили они. Но если дед и знал что-то наверняка, так это то, что он и так уже человек. И не надо было ему вешать лапшу на уши, разъясняя, что значит быть человеком. Он молча слушал, оглядываясь в поисках чего-нибудь съестного. Его кормили, а потом он делал ноги.
Они хотели сделать из него настоящего американца, но и американцем он уже давно был. Сколько он себя помнил, всегда жил на этом берегу океана. Как было раньше, он не знал. Он смутно помнил, как кто-то вроде сказал ему, что родился он за морем, в Европе. Но где именно? Он слышал уже столько россказней о Европе, что в его памяти все смешалось.
Когда какой-нибудь даго рассказывал, что в Италии голодать лучше, чем в Америке, и что тамошние землевладельцы хуже, чем местные Асторы и Вандербильты, дед ему верил и вполне мог себе представить, что родился в Пьетрамеларе. Что его родители жили на крутых каменистых улочках Монте-Маджоре и что они голодали там. Что, наверное, когда он появился на свет, родители поспешили в церковь Святого Роха, дабы святой защитил ребенка от болезней.
И когда кто-то рассказывал ему о чудесном явлении в Пальми, где у святой Девы Марии на иконе три дня кряду двигались зрачки и менялся цвет лица, он считал возможным, что и его родственники при этом присутствовали. «Как Мадонна делала глазами?» — каждый раз спрашивал он. «Вот так», — отвечал мальчишка-итальянец и изображал Мадонну.
А потом маленький хромой Берль — самый громкий и лучший газетчик из них — рассказал деду, как он в три года путешествовал с родителями по Галиции, как на прусской границе они сели на поезд до Гамбурга и дед бережно повторял: «Га-ли-ция», словно пробуя, подходит ли ему эта Галиция. На минуту ему казалось возможным, что он и сам проделал этот путь. Но потом дед отбрасывал эту выдумку. «Ерунда!» — бормотал он.
Когда же Падди Фаули в угольном подвале почтамта, где благодаря его связям мальчишкам разрешали ночевать, рассказывал о голодухе своих родителей, на этот раз ирландской голодухе, дед будто превращался в ирландца. Но и от этих корней он вскоре отказывался. Слишком много хороших историй было, чтобы остановиться на одной. А когда кто-нибудь просил рассказать его собственную историю, дед пожимал плечами. Если любопытный не унимался, то получал по башке. Как я уже говорил, дед был вспыльчивый.
Он собирался как-нибудь подумать на досуге и сочинить себе хорошую историю. Такую, чтобы она стала для него настоящей. Но пока что ему хватало и того, что он человек и американец. Голодный американец. И третье, в чем он был уверен: он — не сын. Иногда, ночуя в каком-нибудь дешевом убежище, в пятицентовой ночлежке, прижимаясь к спине соседа, он никак не мог уснуть от жары или от холода и думал: «Черт, ну не бывает вообще таких, как я. Откуда я взялся-то?» Сколько он ни пытался, ни отца, ни мать представить себе не мог.
Может, он свалился с Луны, он слыхал, что там, наверху, живет человек. Он представлял себе падение с Луны прямо в Нью-Йорк, и тело его тяжелело, а глаза потихоньку закрывались. «Чуть-чуть промахнулся бы и плюхнулся в море. Где-нибудь у Кони-Айленда», — бормотал он, подкладывая руку под голову. Он все еще видел себя падающим: Кони-Айленд становился все больше, виднелись дюны и гигантское колесо обозрения в парке развлечений «Стипл-чейз» — он видел это колесо на картинке в газете. И надеялся в недалеком будущем на нем покататься. Он видел роскошные гостиницы на востоке и запущенный Западный Брайтон с его кабаками, бегами, танцульками и игорными притонами, о которых он тоже много чего слышал.
Сон не давал ему покоя, ведь снилось, что он падает дальше. Направление полета менялось, он летел над Бруклином и, хоть еще ни разу не бывал в Бруклине и никогда не видел его с такой высоты, все равно знал, что это именно Бруклин. Затем он узнавал Манхэттен, высотные здания «Уорлд» и «Манхэттен-лайф» — самые высокие в городе, — эстакады железных дорог на Второй и Третьей авеню, пирсы, теснящиеся доходные дома от Чатем-сквер и до Четырнадцатой улицы. Он видел дым из труб на крышах домов и мачты кораблей в порту. Но каждый раз просыпался перед самым ударом. Как же ему хотелось узнать, где он приземлился — в Ист-Сайде или, может, у богатеньких немцев в Йорктауне. А то и вовсе у Асторов на Пятой авеню.
Дед надеялся, что найдет больше людей на Бродвее, в районе церкви Троицы и ратуши, как всегда бывает под Новый год. Но снегопад и ледяной ветер грозили поставить крест на его расчетах. Он уже час патрулировал окрестности, время подходило к восьми, а продал он всего лишь девять-десять газет. С такой выручкой дед не решался вернуться в почтовый подвал — логово Одноглаза. Он даже подумывал встать на углу и петь песни Стивена Фостера или Гарри фон Тильцера, за них всегда что-нибудь подбрасывали. Однако на таком холоде он не мог долго стоять без движения, а его голос, пусть чистый и теплый, не смог бы справиться с ветром.
Ступни у деда были обмотаны какими-то лохмотьями, дырки в башмаках заткнуты старыми газетами, и это лучшая часть его гардероба. Штаны едва доставали до щиколоток, куртка, на два размера больше, пропитанная грязью и влагой, заледенела. Эту одежду он носил не снимая в любое время года. За шарф и засаленную шапку он побил младшего мальчишку. Дед взял их себе как трофеи.
Он ошибся, людей на улице было еще меньше, чем предполагалось, и вряд ли их могло стать больше. В одном из переулков он зашел в грошовую лавку и получил в обмен на газету чаю с сахаром и джином. Продавец посмотрел на него с сочувствием и подлил спиртного. Так что дед не только согрелся, но и поплыл.
— Ты либо дурак, либо совсем отчаялся, парнишка. С чего это ты продаешь вчерашние газеты? В канун Нового года никому не интересны позавчерашние новости. Все думают только о завтрашнем дне, — сказал продавец и пододвинул деду бутылку с джином.
— Все, что осталось. Либо это, либо ничего, — ответил дед.
Потом они молчали. Дед боялся пошевелиться, надеясь, что про него забудут. Продавец, подперев голову руками, уставился на метель за окном. Изредка мимо проходили люди из высшего общества, джентльмены придерживали цилиндры, чтобы не сдуло, леди слегка приподнимали юбки, чтобы те не тонули в снегу и не мешали идти. Все они были одеты по последней моде, но последняя мода никогда не интересовала деда. Он не видел в моде никакой сенсационной ценности, ведь газеты он продавал не у «Блумингдейлз» на Лексингтон-авеню. Большинство его покупателей довольствовались грубым хло́пком. Проезжали кебы, трамваи и омнибусы, мостовая покрылась льдом, возницам часто приходилось слезать с козел и тащить лошадей под уздцы, чтобы они не боялись идти вперед.
Ни деду, ни продавцу не хотелось нарушать спокойствие, ведь от печки струилось приятное усыпляющее тепло. Газовая лампа на прилавке больше отбрасывала тень, чем освещала двоих людей, явно никуда не спешивших, в отличие от всех остальных. Их никто не ждал. Мальчик не хотел являться с пустыми карманами к Одноглазу, во всяком случае, пока. Его бы воля, так пусть это молчание длится до самой весны.
Около девяти часов, однако, мужчина встрепенулся. Он уперся руками в поясницу и потянулся.
— Пора тебя выпроваживать. Ступай домой, да смотри, чтобы с тобой не приключилось то же, что с моим кузеном Робби в День благодарения.
Спрашивать, что случилось в тот ноябрьский день, нужды не было, дед и так прекрасно помнил. Ледяной шторм убил четыреста пятьдесят пять человек. Сам он тогда вообще не рискнул высунуть нос из подвала.
Выйдя на улицу, дед с сожалением обернулся и посмотрел в окно лавки. Продавец вытащил из-под стойки два мешка соломы и сдвинул их, получилось что-то вроде матраса. Он снял ботинки, подкинул еще несколько поленьев в печку и лег. Накрылся пальто и последним движением погасил газовую лампу, затем почти полностью скрылся под прилавком. В слабом свете уличного фонаря дед видел спину мужчины. И завидовал ему, дед и сам был бы не прочь улечься там и время от времени подливать себе джину. Но ему придется постараться, чтобы не кончить, как кузен Робби.
Наконец деду повезло — у церкви Троицы ждал клиентов хорошо знакомый извозчик. Дед частенько начищал обувь его пассажирам на Юнион-сквер. Извозчик был угрюмый, ворчливый немец. Все называли его Густавом, не зная, так ли его зовут на самом деле. Он все равно почти никогда не отзывался. Густав и капитан парохода, отвозившего мертвых бедняков на остров Харт, были единственные немцы, которых знал дед. Оба мрачные и замкнутые, словно все зло и вся безнадега, что они пережили, погребены в их лицах.
В случае с капитаном это было понятно. Кто возит смерть туда и обратно, кто долго живет с нею бок о бок и даже зарабатывает на ней, тот неизбежно становится странноватым и озлобленным. Но, возможно, в том была и вина людей. Где бы ни появлялся он со своей командой, от них держались подальше. Старушки крестились. В кабаках им всегда отводили самый дальний и темный угол, и никто с ними не разговаривал.
Кое-кто утверждал, что от них пахнет смертью, за счет которой они живут. Мол, связываться с этими людьми — все равно что якшаться со смертью, чуть ли не призывать ее. А она и так всегда неподалеку. Некоторым до нее всего пару дней. Большинство из тех, кто так считал, — не важно, прибыли они в Америку давно или всего несколько часов назад, покинув леса России и Галиции, плоскогорья Ирландии или иссушенную землю Южной Италии, — пересекли океан, чтобы пожить подольше. Но суеверия они привезли с собой.
На Бродвее было очень светло, мистер Эдисон все обустроил. Теплый, мягкий свет поначалу удивлял людей. Всего несколько лет назад они десятками собирались у каждого фонаря и обсуждали новое освещение, как будто это был очередной трюк Гудини.
Густав сидел на козлах, завернувшись во множество покрывал. Он стойко сопротивлялся холоду, как и его лошадь — сильная, послушная гнедая. О Густаве знали не много — только что у него было двое сыновей и что он любит Германскую империю.
«Мистер Густав! — крикнул дед, прыгая от холода с ноги на ногу. — У кайзера дела идут блестяще. Вот что я хотел вам сказать». Нет ответа. «Мистер Густав!» — Он попробовал крикнуть громче. Дед надеялся, что старик купит у него газету. И вдруг он услышал сквозь вой ветра, что кучер храпит. Он, наверное, был единственным в городе, кто мог в такую погоду спать на улице. Тогда дед разыграл козырную карту: «Мистер Густав, проснитесь! Гауптман в Берлине! Бесспорное событие! Вся империя безмерно счастлива!»
Он прислушался, но кучер лишь слегка вздрогнул и едва слышно что-то пробормотал. Последняя пуля деда ушла в молоко. Казалось, Густав примерз к козлам, а может, так оно и было. Только лошадь обернулась к мальчишке, словно желая предупредить его о хозяйском кнуте, хорошо ей знакомом.
Раз уж продать газету не получилось, можно хотя бы погреться в кебе, пока улица не оживится незадолго до полуночи. Он стряхнул с себя снег, осторожно открыл дверцу, но, как только поставил ногу на подножку, услышал громкий, хриплый голос:
— Ежели вас нужно куда-то отвезти, садитесь. Но ежели какое безобразие учинить задумали, лучше не надо, а то новый год для вас скверно начнется.
— Но, мистер Густав, это же я, продавец газет.
— Я газетчиков много знаю. Мало кто из них на что-то годится.
— Я чищу ботинки на Юнион-сквер.
— На Юнион-сквер полно шалопаев.
— Да вы же меня все время лупите, за то что я пытаюсь стащить кошелек у ваших клиентов.
— А, так что ж ты сразу не сказал, парень? Залезай.
Секунду дед сомневался, ведь внутри он окажется в ловушке. Но он промок, замерз, и пойти ему было больше некуда. Опасаясь, что Густав может передумать, он прыгнул в кеб и закрыл за собой дверь. Это, конечно, не назовешь теплым местечком у камина, но хоть не на ветру и сухо. Он услышал, как грузный Густав слезает с козел, и вскоре внушительный живот немца протиснулся в узкий проем кеба.
Места рядом с Густавом почти не осталось. Дед боялся, что это тучное тело вот-вот раздавит его. Густав молча нагнулся и вынул из-под переднего сиденья коробку. Вот тогда-то дед понял свое счастье, ведь там лежало не одно вареное яйцо, а два, не одно куриное бедрышко, а два, да еще хлеб, табак, трубка и пара бутылок пива.
— Ешь! — приказал Густав и сунул ему коробку. Дед и так уже потерял голову, запах еды сводил его с ума.
Пока мальчик ел, Густав молча смотрел на него, потом набил трубку и закурил. Он залпом выпил полбутылки пива и передал своему гостю.
— Куришь, парень? Вы ж, беспризорники, все курите и пьете.
— Я люблю жевать табак.
То и дело мимо проходили веселые люди, о чем-то живо болтающие. Они торопились в салуны и театры-варьете вокруг Чатем-сквер. И хотя дорога туда была неблизкой, никто из них и не думал брать извозчика. Кеб был целиком и полностью в распоряжении деда. Только один раз кто-то открыл дверцу и дунул в свистульку. Никого больше они не интересовали — старик-извозчик и мальчишка, спокойно сидевшие в кебе, окутанные пряным табачным дымом и пресным запахом влажной одежды.
Они могли бы исчезнуть с лица земли, никто бы их не хватился. Другой мальчишка выкрикивал бы сенсации, и другой кучер управлял бы этим кебом. Может, лошадь еще какое-то время помнила бы своего хозяина. А о пареньке не вспомнила бы ни одна скотина. Одноглаз недосчитался бы выручки. Берль, единственный порядочный человек из знакомых ему мальчишек, подумал бы, что приятель уже в одном из тех гробов, что регулярно грузят на мертвецкий пароход.
— А ты почему не дома?
— Дома нет, сэр.
— А родители?
— И родителей нет.
— А где ночуешь?
— Где придется. Когда есть шесть центов, то в ночлежке газетчиков на Дуэйн-стрит.
— Кто родители были, знаешь?
— Не знаю, сэр.
— Но должен же ты хоть знать, откуда они приехали.
— Мне было два или три года, сэр, когда меня принесли в приют Айрин. Женщина сказала, что нашла меня плачущим на углу Бауэри и Деланси. Так мне рассказывали. А еще мне рассказывали, что я бегал голышом по галстучной лавке. Или по салуну Максорли, сэр, а мужики усадили меня на стойку и напоили добрым старым ромом. Или что меня нашли на последнем ряду в Театре Пастора на Четырнадцатой улице. И что я не плакал, а хохотал. Якобы я посмотрел весь репертуар. Мальчишки в приюте коротали время, рассказывая мне такие истории. Один даже говорил, что я сын Лотти Коллинз, сэр. Мол: «Ты же так хорошо поёшь. Конечно, ты сын Лотти Коллинз». Когда «Нормания» стояла в порту на карантине из-за холеры, она была на борту. Мол, там у нее начались схватки. Мне столько всего нарассказывали, что я уже ничему не верю.
— Коллинз? Да она просто чертовка! Как там она пела в самой известной песне?
— Там поется так, сэр:
A smart and stylish girl you see, Belle of good society; Not too strict, but rather free. I’m not extravagantly shy, And when a nice young man is nigh, For his heart I have a try… I’m not a timid flower of innocence, I’m one eternal big expense; But men say that I’m just immense! Tho’ free as air, I’m never rude I’m not too bad and not too good! {1}Что-что, а песни я знаю.
Густав проворчал что-то одобрительное.
— Эпидемия-то в девяносто втором была, тогда тебе было бы сейчас всего семь лет. Не похоже на правду, хоть ты и тощий.
— Да, но я не знаю, сколько мне точно лет.
— На каком языке ты говорил, когда тебя нашли?
— Немного по-итальянски, немного на идише, немного по-английски. На чем в гетто говорят.
— Похоже, помотало тебя по гетто.
— Похоже на то.
— Посмотреть на тебя, так ты и впрямь можешь быть кем угодно. Не удивлюсь, если твой отец был еврей, мать — ирландка, а еще кто-нибудь — итальянец. Или наоборот, — и Густав рассмеялся.
— И я не удивлюсь, сэр.
— Ты что-нибудь знаешь о Германии?
— Только из нескольких заголовков. Почти все немцы уже перебрались из гетто в районы получше. Знаю портовые города, откуда корабли с русскими приходят: Бремен и Гамбург. «Патриа» из Бремена сегодня на якорь встала в Южном порту. Завтра наверняка причалит.
— А больше ничего?
— Кайзера знаю, сэр. Прекрасный человек этот кайзер. А еще Гауптман в Берлине.
Густав долго смотрел на деда, отстранясь.
— Знаешь, может, ты вообще с Луны свалился.
— Я уж давно так думаю.
— И ты никогда не хотел узнать, что за женщина тебя в приют привела? Может, это и была твоя мать.
— Такую в Нью-Йорке второй раз не сыщешь. А если она меня отдала, то уж точно назад не возьмет. У меня дела поважнее. Надо все время думать, как бы разжиться деньгами.
Еще никто и никогда не задавал деду столько вопросов сразу. Если старик вообразил, что может за куски и табак расспрашивать его сколько влезет, он ошибается. Дед уже собирался выскочить из кеба и убежать, но вдруг кучер задал вопрос, который его потряс и заинтересовал:
— Знаешь, парень, почему я каждый раз тебя бью, когда ты воруешь?
— Может, потому, что я дурной?
— Не потому, что ты дурной, а для того, чтобы ты не стал дурным. У меня двое сыновей было. Старшого несколько лет назад море забрало. Он рыбак был, ловил сельдь в Северном море. Так уж случилось, и ничего не поделаешь. Меньшой был твоих лет, когда помер. От туберкулеза. Тоже ничего не поделаешь, так ведь?
— Да, сэр, ничего.
— Ежели Господь решил, что твоим сыновьям суждено сгинуть, то они сгинут. Всю жизнь в церковь ходишь и молишься, а для Бога это не в счет. Но ты ж еще не понял, почему я тебя бью. Меньшой мой тоже воровал. Каждые две недели приходилось его забирать из участка на Элизабет-стрит. И каждые две недели я его бил до синяков. Но не потому, что зла ему желал, а потому, что любил. Хотел, чтобы он человеком стал.
Кучер несколько раз громко кашлянул и немного отвернулся от деда. Он теребил усы и вроде как собирался выйти из кеба. Но, открыв дверцу, тут же ее закрыл.
— Под сиденьем одеяло. Можешь часок здесь полежать и поспать. Я пока не буду брать клиентов. Вот тебе деньги за две газеты. Потом протрешь газетами пол, что-то тут грязно. Спи спокойно, я прослежу, чтоб тебя не тревожили. — Дверь за Густавом закрылась, но вскоре он опять заглянул: — И вот тебе еще десять центов, завтра поешь как следует. Спрячь их хорошенько, да не потрать на пиво или табак.
Ошеломленный, не веря своему счастью, дед улегся и накрылся одеялом. Но едва он задремал и начал падать с луны на землю, как его разбудил бас Густава:
— А что там еще за атаман в Берлине? Там что, война началась?
— Нет, сэр. Гауптман — это просто фамилия какого-то театрала, ничего такого. Старая новость, ноябрьская.
Снегопад пошел на убыль, только холодный бриз продолжал свое дело. Все больше людей проходило по Южному Бродвею. В основном молодежь. Только молодые люди решались выйти из дому в такую погоду. Они шли, шаркая по льду, поскальзывались и падали, весело поднимались. Громко дудели в дудки. Люди были возбуждены, как обычно бывает перед самым Новым годом. Теперь сюда съезжались многочисленные кебы и конки, чтобы после традиционного звона колоколов церкви Троицы отвезти людей на Чатем-сквер или в театральный квартал. Беззаботные пешеходы, обходя скользкие места, выскакивали на проезжую часть и мешали повозкам. Лошади вставали на дыбы, а кучера ругались.
Но мальчик ничего этого не слышал. Пока мир готовился к чему-то большому и важному, к самой главной новости, дед спокойно спал на сиденье повидавшего виды кеба. Он, как всегда, положил руку под голову, шапка укрывала лицо, грудь мерно поднималась и опускалась. Он спал так сладко, что могло показаться, будто он лежит на самом мягком и удобном матрасе города. Этот темный уголок, эта пещера принадлежала только ему. Никто не знал ни о нем, ни о старике и лошади, оберегавших его сон.
Мир игнорировал их и крутился дальше, все быстрее. Но и эти трое, объединившись на целый час, тоже игнорировали мир. Три актера в центре спектакля, где для них не было ролей.
— Просыпайся, парень! — крикнул старик. — Приберись тут да проваливай. Скоро полночь, у меня клиенты будут.
Когда дед вышел на улицу, Густав наклонился и заговорил тихо, но так отчетливо, что дед запомнил его слова на долгие годы:
— Послушай хорошенько! Сейчас ты малолетка, тебе ничего не стоит жить на улице. Через несколько лет может быть уже по-другому. У меня тебе всегда будет тарелка супа и ночлег. Сможешь выучиться кучерскому ремеслу. Ну да, учиться тут особо нечему, да и доход невелик, но хватит, чтоб не голодать. Где меня найти, ты знаешь.
Никто не обращал внимания на деда и не хотел покупать газету за несколько минут до шага в будущее. Ему тоже уже ни к чему было стараться. У него в кармане была кругленькая сумма в двадцать два цента, его тело оттаяло, он был сыт. Заканчивался почти идеальный день, будь он канун Нового года или нет. Но счастливая полоса деда все еще продолжалась. Предпоследняя удача ждала его всего в нескольких кварталах, скрываясь за высокими, солидными дверями пресс-клуба.
Там служил швейцаром Паскуале, и если дед в чем-то был уверен в детстве, то в том, что все немцы мрачные, а всех итальянцев зовут Паскуале. Таковы были вечные городские истины, которым учили в гетто: ирландцы все неотесанные, пьют и дерутся; евреи себе на уме, не поддаются цивилизации и привозят с собой из Европы холеру; итальянцы держатся вместе, водой не разольешь, глупые и чуть что хватаются за стилет, и всех их зовут Паскуале. Когда полицейские искали итальянца, чьего имени не знали, то всегда спрашивали о Паскуале.
Этот Паскуале, напротив, был добродушным великаном с душой ребенка. Ему дали кличку Десяток, потому что он десяток раз выходил на боксерский ринг в «Атлетик-клабе» на Кони-Айленде и десяток раз повисал на канатах в первом раунде. Но гетто простило ему это, особенно когда он стал швейцаром в роскошном пресс-клубе, где собирались все газетные магнаты и журналисты. Ведь кто еще мог похвастаться, что каждый день видит таких важных людей? Так он добился уважения в гетто, хоть и очень тернистым путем.
Когда Паскуале после службы шел по Малберри-стрит в униформе с золотыми пуговицами и в роскошной шляпе, все почтительно здоровались с ним. Он нравился им, а ему нравился мир. Малберри-стрит была совершенно особенным миром. С утра до вечера эта улица была битком набита лоточниками. Старушки продавали большие, круглые, тяжелые сицилийские хлебы, разложенные на больших платках. С тележек торговали подтяжками и дешевой одеждой, кожаной галантереей, посудой. Вялые овощи опрыскивали водой и натирали, чтобы они казались свежее. Женщины и дети бегали за телегами с углем, в надежде отхватить хоть немного себе.
Прибыв в Нью-Йорк, любой итальянец искал работу на Малберри-стрит. Раньше такими были ирландцы, теперь стали даго — доступной, дешевой, легко заменимой рабочей силой. Патрон посылал их или в угольные шахты Пенсильвании, или на юг, во Флориду, на строительство Восточной железной дороги. Для многих находилась работа и в городе: они прокладывали туннели, линии подземки, строили мосты; они прочесывали городские свалки, собирали и сортировали полезные отходы и очень дорожили своим исключительным правом рыться в мусоре.
Паскуале хоть и бывал побит, но достиг успеха своими силами. От него не воняло, разве что одеколоном клиентов. Рост и униформа придавали ему блеск. Только дети были безжалостны: «Паскуалино! Какой же ты красавчик, когда висишь на канатах!» — кричали они ему вслед. Дед в одиночку защищал великана от мальчишек и мутузил их до искр в глазах. Вот почему в новогоднюю ночь Паскуале, заметив своего защитника в толпе перед пресс-клубом, решил ему помочь. Швейцар радостно обнял мальчишку, так что тот не успел увернуться, и затащил его в просторный мраморный холл.
— Спичка, покупаю у тебя три газеты, — сказал он.
— Серьезно? — удивился дед.
— Одной начищу ботинки, другой — пуговицы, а третью положу перед собой на стол, чтобы все думали, будто я грамотный. Наторговал сегодня чего-нибудь?
— Не густо.
— Ну вот видишь. Ты сегодня ел?
Дед ответил осторожно, в предвкушении радужных перспектив:
— Да так, что нашел.
— Подожди здесь! — скомандовал Паскуале и скрылся за дверью, откуда доносился звон посуды.
Дед оглядел великолепный холл с двумя рядами колонн и увидел дверь со стеклом. Оттуда доносились музыка, смех и гомон. Почти как в угольном подвале, когда его собратья-газетчики сбивались потеснее, чтобы согреться. Когда кто-нибудь — обычно он, Спичка, — пел, а остальные топали ногами, хлопали в такт, а потом все бурно и радостно обсуждали песню.
Хоть он толком и не умел читать, на плакате рядом с дверью узнал слово «vaudeville». Это слово было у всех на устах и красовалось на множестве афиш, ведь водевиль был в самой моде. Водевили давали в десятках нью-йоркских театров — для богатых и для бедных. Но такие, как дед, на водевили не ходили. Они предпочитали десятицентовые театришки с фрик-шоу и представлениями уродцев. Мир горбатых, одноглазых, карликов, одноруких и прочих уродств и чудес. Вот где они развлекались, а не в Театре на Геарльд-сквер, где, очевидно, выступал какой-то Эндрюс. «Энн-дрю-сс» — прочитал дед по слогам. Неважное место досталось Эндрюсу на плакате.
Такие, как дед, любили ирландскую скрипку, а не мандолину, на которой играл человек по имени Энрико Гаикульо, написанный чуть выше. Такие, как он, ничего не знали о басах в сопровождении фортепиано, с А. Пирсол и Мэри Будворт, напечатанными на афише посередине и большими буквами. И был еще подражатель птицам, Фред Хензел. Рядом с его именем стояло слово «благословенный», но все равно ему досталось место в самом низу афиши.
Дед чуть приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Зал за дверью был украшен пестрыми лентами и бумажными флагами, за столиками сидели женщины в длинных, закрытых вечерних платьях и мужчины во фраках. Присмотревшись, он заметил у некоторых юных леди неприкрытые щиколотки. Сквозь синеватый дым он разглядел и небольшую сцену, на которую только что поднялся старик, представившийся магом Лефевром. Время приближалось к полуночи, оставалось всего несколько минут, большинство зрителей уже не обращали на сцену никакого внимания.
На афише рядом с именем мага, напечатанным мелкими буквами, не было никаких эпитетов. Но ведь ключ к успеху — это сильное преувеличение, яркий заголовок. Дед знал это, ведь он продавал газеты и ходил в десятицентовые театры. В Америке далеко не уедешь, если напишешь просто: «Маг Лефевр из Франции». Так семью не прокормишь. А вот подражатель птицам этот урок усвоил и выжал из своего никчемного таланта все, что можно.
Может, этот маг был просто скромнягой, но тогда зачем он вообще приперся в Америку? Скромняги сюда не приезжают и уж тем более не выступают в варьете. «Америка — не для скромных. Они тут помирают с голоду», — однажды сказал Одноглаз. Скромным можно стать, только когда сможешь себе позволить такую роскошь. Или когда все другие способы уже испробованы. Тогда можно быть всем довольным и ждать смерти. Но для деда жизнь была большим, длинным, жирным заголовком. И о ней надо было ежедневно возвещать миру.
Округлый, полный жизни мужчина с улыбкой во весь рот запрыгнул на сцену и оттеснил старичка в сторону, как раз когда тот собирался показать свой первый номер. Словно по команде, весь зал встал и начал обратный отсчет: десять, девять, восемь, семь, шесть… О маге уже все забыли. Так ему и надо, подумал дед. Надо было идти в ногу со временем, а время однозначно любило Гудини, а не мага Лефевра.
Пять, четыре, три, два, один, ноль… Люди бросились обниматься, и в этот момент на плечо деда легла тяжелая рука Паскуале. Дед испуганно обернулся и увидел первую картинку 1899 года — дымящееся блюдо с такими кушаньями, каких он еще никогда не то что не пробовал, а даже не нюхал. Разве что видел на витрине ресторана «Дельмонико». Через несколько секунд дед сидел за столом Паскуале и торопливо поглощал все подряд, словно зверь, который боится, что у него отнимут добычу.
— Как ты уломал повара? — спросил дед.
— Он ирландец и любит итальянских девчонок. А я знаком с двумя-тремя девчонками, которые могли бы полюбить его.
Когда дед закрыл глаза и смачно облизал пальцы, он испытал такое же благостное чувство, как в кебе Густава. Нечто неописуемое, о чем он мог сказать только «экстра-класс». Экстра-классом могла быть девушка, стакан рома и вот такое состояние. Внутри у него было тепло и спокойно, ему хотелось остановить мгновение. Но если уж год так славно начался, то бояться нечего. 1899-й будет бесспорным событием.
Открыв глаза, он заметил опасливые взгляды Паскуале. Посмотрев в ту же сторону, он увидел, что к ним идет очень хорошо одетый джентльмен. Наверное, он только что приехал — за окном стоял шикарный экипаж. Поодаль, у стеклянной двери бального зала, ждали несколько человек, очевидно, спутники джентльмена. Он постучал по плечу Паскуале кончиком трости.
— Паскуале, мои друзья интересуются, сколько раз ты побывал в нокауте, — сказал он холодным тоном. Сразу видно: привык командовать. — Ну что ж ты молчишь?
— Десять раз, сэр, — пробормотал швейцар.
Люди у двери засмеялись.
— Впечатляющая цифра. Ты вообще когда-нибудь выдерживал хоть несколько ударов? Держу пари, ты всегда оказывался на полу в первом же раунде.
— Так и было.
Снова смех компании.
— Ну да ладно. — Только сейчас джентльмен заметил мальчика, которого Паскуале пытался загородить своей широкой спиной, и тростью отодвинул швейцара. — А это еще кто? Ты что же, теперь кормишь всех окрестных беспризорников за наш счет?
— Нет, сэр.
— Смотри, как бы тебе самому вскоре не оказаться на улице. — И джентльмен обратился к деду: — Поди сюда, мальчик. Ты продаешь газеты?
Дед быстро вытер рот рукавом и поспешил повиноваться.
— Да, сэр.
— И мою газету тоже?
— А это какая?
— «Сан».
— О, «Сан» продается лучше всех остальных.
— Видишь, Паскуале, даже этот чумазый мальчуган полезнее тебя. Ты тут просто стоишь, а он продает мою газету. А там у тебя что?
— Тут, сэр? — переспросил дед. — «Трибьюн». Но вчера и позавчера я продавал «Сан». Клянусь вам.
— И сколько же газет ты продал сегодня?
— Очень мало, штук пятнадцать или шестнадцать.
— Так мало? За весь день? Да ты либо глупый мальчишка, либо тебе почему-то не нравится эта газета.
— Конечно же я глупый.
— Что-то не похоже. Мне кажется, это газета никудышная, не так ли?
— Да, сэр, газета никудышная.
— Вот тебе доллар, мальчик. Я покупаю все, что у тебя осталось.
— Доллар? Но у меня не найдется сдачи.
— Ничего. Сдачу оставь себе. Это тебе за то удовольствие, что я получу, когда суну их под нос владельцу газеты.
Не дожидаясь своих спутников, джентльмен схватил пачку газет под мышку и поторопился в зал. Прежде чем дверь за ним закрылась, раздался его голос:
— Томас, где ты прячешься? Я принес тебе пачку газет. Даже уличные мальчишки жалуются, что твою газету никто не покупает. Иди сюда и забери этот хлам, а то нам придется пустить их на чистку галош.
У почты было тихо, люди разошлись кто куда. Изредка мимо проезжал кеб, еще реже слышались голоса, словно вместе с новым годом в мир пришла тишина. Ветер успокоился, улегся на деревья, на животных и людей, в снег. Может, он хотел восстановить силы, набушевавшись злобно и неистово. Он кое-что перевернул, перехватил дух у людей, когда они как раз собирались набрать воздуху на весь будущий год. Напомнил им, кто здесь главный. Гонял перед собой шляпы, бумажки и тела, как дети гоняют колесо на палочке. Пока не решил, что пока хватит.
Мальчик, мой дед, который тогда не знал даже, переживет ли он следующий день, не говоря уж о том, что когда-нибудь влюбится, что у него будет дочь и внук — я, Рей, — мой юный дедушка с триумфом вернулся домой. Хотя ему частенько приходилось спать в приюте для газетчиков, в доме для бездомных на Аллен-стрит или в дешевых ночлежках в окрестностях Бауэри за пять центов на полу или за два — на стуле, все-таки подвал огромного почтамта напротив часовни Святого Павла был для него чем-то вроде дома. Пускай этот дом и стоял по ту сторону воображаемой границы, которая отделяла гетто от всего цивилизованного, чистого, безопасного, американского. Ему приходилось каждый раз делить подвал по меньшей мере с двадцатью такими же мальчишками.
Он был сыт, при деньгах, ему не надо было бояться Падди Фаули. Прошедший первоклассный вечер был полон чудес. Никто его не побил, даже подзатыльника не дал. Вечер — как заголовок в лучшей газете. А какая лучшая — «Трибьюн», «Геральд» или «Сан», — ему все равно. Богатые джентльмены могут чистить галоши, чем им вздумается.
Дед на всякий случай оглянулся и толкнул калитку. Пригнувшись, он торопливо пересек двор и по следам на снегу понял, что в ночлежке будет тесно. В крайнем случае придется спать сидя, прижав колени к груди и опустив на них голову. Он привык приспосабливать свое тело к небольшому пространству, которое ему доставалось для сна, умащиваться между другими телами.
Дед открыл люк и съехал по желобу для угля. Он ожидал увидеть темный подвал, освещенный только одной свечой, и услышать лишь дыхание, постанывание и храп соседей. Но мешок с сюрпризами все еще не иссяк. Мотня схватил деда за шиворот и приподнял: «А, явился. Где ж тебя носило так долго? Такой праздник нам портишь!» Он взял Спичку под локоть и провел его в середину подвала.
Мотня получил такую кличку за то, что каждое утро напоминал мальчишкам почистить брюки сзади, чтобы в них можно было показаться на улице. Умыть рожу и почистить брюки, ведь и то и другое было черным от сажи. Вообще-то его звали Хью Макхью, но кто бы дорожил таким именем? Если над его именем кто-то смеялся, тут же знакомился с его кулаками, ведь Хью был такой же вспыльчивый, как дед, а то и хуже. «Я ваша мамочка, а Одноглаз — отец родной, так что ведите себя прилично!» — кричал он им вслед.
В слабом свете керосинки дед увидел пятнадцать — двадцать мальчишек, сидевших вокруг Одноглаза. Они курили трубки и папиросы, накурено было, хоть топор вешай. Мальчишки пили пиво и джин, некоторые были уже вусмерть пьяны, и дед спотыкался о пустые бутылки. «Ты что, дрейфил вернуться, потому что опять ничего не продал?» — крикнули из угла. Мотня удержал деда. Затем кто-то встал и подошел к нему. Это был Падди Фаули.
Дед еще ни разу не видел Одноглаза вне подвала. Можно было подумать, что тот никогда оттуда не выходит и сидит во чреве земли. Словно ждет, когда земля выносит его и родит заново. Или же он просто не видел причин выходить на свет Божий. Ему это было ни к чему, ведь мир сам приходил к нему. Мотня приносил спозаранку свежие газеты, и Одноглаз выбирал новости, заголовки, сенсации, которые потом вдалбливал своим подопечным. Все, что Одноглазу нужно было на поверхности, Мотня делал за него.
Ходили слухи, что отец целый год продержал Одноглаза в подвале, потому что тот отказывался молиться. Теперь его светлая ирландская кожа постепенно принимала цвет того, что его окружало. Все его тело почернело, за исключением сияющих голубых глаз. У Одноглаза были люди для любых районов. Ирландцы для ирландских улиц, евреи — для еврейских, черные — для района Адской кухни и такие, которых можно было послать куда угодно, потому что они, как и мой дед, говорили на всех языках понемногу.
— Я уж и не знал, что еще рассказать пацанам. Рассказал все, что знал об Ирландии. Рассказал, как отец отрезал мне палец, два пальца, три пальца. Потом Мотня рассказал все, что знает о своем старике. По полной программе. Только тебя ждали, чтобы ты взбодрил наш праздник. Без тебя нам пришлось бы лечь спать без песен. Так что давай, Спичка, спой нам что-нибудь, осчастливь нас!
— Да, спой что-нибудь! — подхватили остальные.
Падди Фаули, конечно, отлично умел продавать газеты, но еще лучше он рассказывал истории. Бывало, на улице дождь льет как из ведра, а Падди, на глубине пяти-шести метров под землей, рассказывает об ирландских краях своего отца. Того самого, который отрезал ему три пальца. Или в августовскую жарищу в глубоком прохладном подземелье перед глазами изумленных пацанов расстилались зеленые поля Ирландии, что побурели за одну ночь. Три года подряд неурожаи, в графстве Керри — на родине отца Одноглаза — люди голодали и умирали.
Падди рассказывал о тощих трупах в домах и на улицах. Рассказывал, как его дед отправился в Корк на поиски работы, и лишь год спустя от него получили коротенькое письмо из Нью-Йорка. Он советовал старшему сыну последовать за ним. Как отец, мать, старшие братья и сестры Падди сварили последние три картошки и разделили их на шесть ртов. Как отец настолько ослаб, что едва мог подняться с постели. Они пытались утолить голод чаем с джином. Точнее, джином с чаем.
Когда вся семья умерла, отец из последних сил добрел до богадельни. Однажды там объявился арендатор земли и отобрал его на отправку в Америку на всю жизнь, лишь бы с глаз долой. Его привезли в Корк, и после полутора месяцев плавания на судне «Сэр Роберт Пил» он сошел на берег в Нью-Йорке. На корабле ему приходилось драться за спальное место и ежедневную тарелку водянистой похлебки. Разразилась эпидемия тифа, и лишь половина пассажиров пережила путешествие.
Снаружи могла царить лютая стужа, но внутри, в теплом подземелье, кто-то рассказывал о прибытии отца на Саут-стрит, о том, как он целыми днями растерянно бродил по набережным и в парке у ратуши. Падди даже знал наизусть несколько строк из тогдашнего «Геральда»: «Горько видеть, сколько несчастных бедняг без гроша в кармане и возможности прокормиться ежедневно приносит на наш берег океан. Вчера на Бродвее видели толпы новоприбывших ирландцев, являвших собой картину отчаяния, голода и нищеты».
Об этих оборванных, исхудавших людях, которых повсюду видели на улицах, еще долго говорили в городе.
— Ну и что, нашел он тогда своего отца? — каждый раз интересовался кто-то из пацанов.
— Ты про моего деда? — Одноглаз делал паузу, чтобы подогреть интерес. — Отец ходил от двери к двери и расспрашивал. Но так и не нашел деда. В утешение многие ему что-нибудь наливали.
— И что он потом стал делать?
— Что он стал делать? Ну а что делать ирландцу на чужбине? Пил, конечно. Пил, как и все мы.
Тут, как по команде, чары рассказа рассеивались, и все хохотали. Падди был поздним ребенком. Отец приехал в Америку в 1851-м, тогда ему было пятнадцать, а сын у него родился только через тридцать лет.
Но было и другое волшебство, посильнее рассказов Падди. Мальчишки обожали музыку, любили песни — и старые, и те, что были тогда в самой моде. И деда они любили, когда тот начинал петь. Пускай он был ничьим сыном, свалившимся с Луны прямо на Манхэттен, пускай средненько продавал газеты, но, когда он пел On the Sidewalks of New York, время для всех останавливалось:
Down in front of Casey’s old brown wooden stoop On a summer’s evening we formed a merry group Boys and girls together we would sing and waltz While Jay played the organ on the sidewalks of New York There were Johnny Casey, little Jimmy Crowe Jakey Krause, the baker, who always had the dough Pretty Nellie Shannon with a dude as light as cork She first picked up the waltz step on the sidewalks of New York Things have changed since those times, some are up in» G« Others they are wand’rers but they all feel just like me They’d part with all they’ve got, could they once more walk With their best girl and have a twirl on the sidewalks of New York…{2}Эта была дедушкина магия, отличавшая его от всех остальных. Жилистый мальчишка с недоверчивым взглядом, в грязной шапке, вечно голодный, но с шикарным голосом.
Желание Одноглаза было законом, так что дед быстренько состряпал программу выступления. Он мысленно пробежался по всем романтическим песням, по песням об умерших матерях и пропавших отцах, о разлуках, о смерти вообще и всему прочему в таком духе. Затем он встал в центр круга, широко расставив ноги, и распростер руки, подражая второсортным певцам, которых видел в десятицентовых театрах и на перекрестках.
Дед выждал несколько секунд. Предвкушая триумф, обвел взглядом публику и в мерцающем свете керосинки увидел блеск в глазах своих сотоварищей, почувствовал их напряжение. Он откашлялся, сделал глубокий вдох и начал петь:
The night that Paddy Murphy died is a night I’ll never forget Some of the boys got loaded drunk and they ain’t been sober yet That’s how they showed their respect for Paddy Murphy That’s how they showed their honor and their pride They went into an empty room and a bottle of whiskey stole And kept that bottle with the corpse to keep that whiskey cold They emptied out the jug but still they had a thirst Than they stopped the Funeral Hearse outside Sundance Saloon They all went in at a half past eight and staggered out at noon They went up graveyard so holy and sublime And realized when they got there they’d left the corps behind…{3}Каждый из слушателей знал, что такое может случиться и с ним, даже Одноглаз, который сидел, погруженный в себя, то и дело одобрительно кивал и слушал, как какого-то другого Падди несли к могиле. Смутный намек на то, что и он скоро сгинет. Но остальным песня очень понравилась, ведь они точно так же прощались с умершими товарищами, и мальчишки подхватывали припев во всю глотку. Нестройный, хриплый хор весь вечер подпевал деду, которому пришлось много чего исполнить на бис.
Голос деда не пробивался на поверхность земли, не нарушал тишину улиц, он оставался в подземелье. Но он заполнял этот жалкий приют так, как было под силу только освещению мистера Эдисона. Берль даже сказал: «Это было электричественно!» Когда все наконец вдоволь нахвалили Спичку, он улегся спать рядом со своим другом. Керосинку погасили, и Берль прижался к нему. «Ты же просто настоящий Карузо! Я никогда не слышал его пения, но ты точно поёшь как он. Тебе надо этим зарабатывать», — прошептал он. А Падди был так доволен Спичкой, что оставил ему в награду всю дневную выручку.
Прежде чем уснуть, дед пролистал в памяти собственную подборку лучших сенсаций прошедшего года. Год выдался так себе, однако несколько ярких событий все же припомнилось. Бруклин и Манхэттен объединились, а лампочки мистера Эдисона осветили весь город. Дед прекрасно помнил парад, флаги и конфетти, а еще колокольный звон на обоих берегах Ист-Ривер. Газеты он распродал все до одной за десять минут.
В Лейк-Сити линчевали чернокожего почтальона, а его жену и дочерей застрелили. Смерть негра сама по себе обычно не была сенсацией, но газету с этой новостью хорошо покупали негры из Адской кухни. А когда какой-то итальянец убил австрийскую императрицу, газеты расхватывали и немцы, и даго. В сентябре сотни нью-йоркских евреев осаждали кошерный ресторан, открывшийся в Йом-Кипур — день строгого поста. Негры Уокер и Уильямс, придумавшие танец кекуок, выступали во всех пяти нью-йоркских театрах водевиля.
В ночь на 1 января 1899 года деду уже не снилось падение с Луны. Во сне он видел себя великим, величайшим, бесспорным певцом — во фраке, с бабочкой, с модной стрижкой, с идеальным пробором. Он жил в отеле «Джилси-Хаус» и выступал с концертом в «Театре на Пятой авеню». В первом ряду сидели Густав, Паскуале, Одноглаз, Мотня, Берль и не меньше дюжины городских знаменитостей. Зал приветствовал его бурными аплодисментами.
Тишина разлилась по угольному подвалу. Наверху крепчал мороз, а спящих мальчишек земля защищала от холода. Они дышали спокойно, и земля дышала с ними.
Глава вторая
Чрево беременной женщины принадлежит Богу или дьяволу. Рыбацкие жены в дельте Дуная прекрасно это знали. На протяжении девяти месяцев они надеялись и боялись одновременно. Карты лучше у Бога, но и у дьявола есть шанс выиграть. Ведь как ни осторожничай, а все равно что-нибудь да сделаешь не так. Только этого и ждет некуратул, нечистый, как здесь называли дьявола.
Если беременная раздует огонь в печи, то заболеет лихорадкой и потеряет ребенка. Если повесит себе на шею шерстяную нитку, то новорожденного задушит пуповина. Если, увидев труп, не перекрестится и не пробормочет «Я не вижу мертвеца», то дите родится мертвым. Но хуже всего будет ночью, если дьявол, с девятнадцатью именами, способный на девятнадцать гадостей, проберется в дом. Если женщина вдруг просыпалась среди ночи измученная и вся в синяках, значит, он навестил ее.
Чтобы защититься, беременная всегда носила с собой листочек с именами некуратула: Avizuha, Abaroca, Ogarda, Nesuca, Muha, Aspra, Hluchica, Sarda, Vinita, Zoita, Ilinca, Merana, Feroca, Fumaria, Nazara, Hlubic, Nesatora, Gentia, Samca. Ведь и днем подстерегала опасность. Злые духи могли явиться в обличье птицы, кошки, мухи, козы, паука или жабы. Между небом и землей, между небом и водой все было распределено. Но у человека всегда оставался шанс уберечься.
Все это знала и Лени, заметившая летом 1919 года, что беременна в четвертый раз. Дважды она теряла детей до родов, одного — после. Лени жила в деревне Узлина, на болотистом берегу в излучине дунайского рукава Сфынту-Георге, иначе — Георгиевского гирла. Деревенские женщины ее избегали. Боялись, что она принесет в дом горе и бесплодие. Их с мужем уже давно никто не навещал. Но Лени это не беспокоило, во всяком случае не так, как ее мужа, которому всегда приходилось пить в шинке в одиночку. Никто не хотел ехать с ним в дельту на рыбалку. Из-за жены его тоже считали бесплодным.
Так что Лени обрадовалась своему открытию и рассказала мужу. Но тот даже не поднял глаз от сетей, которые чинил у мутной воды, и проворчал: «Этого ты тоже потеряешь. Лучше уж я сразу куплю доски для гробика». Но она чувствовала: на этот раз все иначе.
Ей хотелось все сделать правильно, поэтому она послала добродушного чудака Ваню за бабкой. Та жила в деревне Кришан, на берегу среднего рукава Дуная — Сулинского гирла, но бо́льшую часть времени проводила в убогой рыбацкой лачуге на озере Богдапросте. Ваня был высокий, сильный, молодой блондин, появившийся несколько лет назад словно ниоткуда. Все ждали, что однажды он так же никуда исчезнет, но он остался.
Ваня был сыном липован, русским, его лицо не оставляло в этом сомнений. Робкий и дружелюбный, он коротал время с детьми и собаками рыбаков. Сначала Лени ставила миску с кукурузной кашей и остатками рыбы в лодку, привязанную к мосткам перед их домом. Потом чуть ближе, у изгороди, еще ближе — во дворе, и наконец — на шаткую скамейку у крыльца. Так она приучила Ваню к себе.
Никто не ведал, есть ли у него где-нибудь родственники или даже родители. Его имя знали только потому, что он рассказывал обо всем, что собирался делать: «Ваня идет ловить карпов на кукурузную кашу». Всем было известно, что карпов на кукурузу не ловят. Или: «Ваня идет на Узлинское озеро дрейфовать». Или: «Ваня идет смотреть, как серая цапля стоит на одной ноге». Каждый знал, что цапля может так стоять очень долго.
Когда маленькая, коренастая, решительного вида Лени подозвала Ваню и объяснила, что нужно сделать, он просто сказал: «Тогда Ваня лучше пойдет». Парень с готовностью слушался ее, с тех пор как она взяла его к себе. Единственным, кому все это не нравилось, был муж Лени. «Он уже не ребенок. Смотри, а то скоро полезет к тебе под юбку», — говорил он. Или: «Лучше бы ты постаралась и своего ребенка родила, чем этого усыновлять».
К концу лета уровень воды в прудах, заводях и озерах упал. Дельта лежала словно измученное, обескровленное животное и ждала благодати весеннего половодья. Или нескольких хороших ливней, которые пробудили бы к жизни растения и зверей. Ване приходилось следить, чтобы лодка не села на мель и не застряла в траве, но он все же добрался до места. Через несколько часов бабка стояла в жилище рыбака и его жены.
Она принесла из колодца чистой воды, омыла икону Богоматери и той же тряпкой — живот беременной. Обтерла ступни, икры, бедра, скользнула и между ног. Круговыми движениями бабка омыла женщине грудь, руки, плечи и лицо. И вдруг заметила, что муж и Ваня стоят в дверях, как завороженные.
— Чего вылупился-то? — прикрикнула она на мужа. — Свою бабу-то уж чай знаешь. А ты… — Она посмотрела на Ваню. — Такому дурачине, как ты, тут и глядеть нечего.
Бабка захлопнула дверь у них перед носом, и мужчины прислушивались к ее заговорам. Сами они не решались произнести ни слова, будто это могло нарушить таинство, помешать союзу беременной женщины с Богом. Когда дверь отворилась, бабка протянула Ване жестяной тазик с водой:
— Я смыла с нее все грехи. Отнеси это подальше и вылей в Дунай. — А рыбаку объяснила: — Я еще и ладаном твою жену окурила. Кто знает, что лучше подействует. В прошлый раз дитя померло, потому что вы меня не привели вовремя. Присылай за мной этого паренька утром каждую пятницу, я буду еженедельно все это повторять, до самых родов.
Бабка собралась в обратный путь и повязала косынку, которую сняла, придя в дом. Она одарила растерянного рыбака такой милой улыбкой, на какую только был способен ее беззубый рот, и сказала:
— Юлиан, ну, сколько ты сегодня наловил? На первый раз, так и быть, давай половину улова и несколько монеток. Это еще по-божески, а то в дельте нынче столько рожениц, у меня дел невпроворот. А нечистый не дремлет. То у вас тут в Узлине набедокурит, то в Кришане или в Малюке. Мои знания всем нужны да важны, только никто не спросит, есть ли мне что покушать. Так что скажи Ване, пусть погрузит мою долю в лодку и отвезет меня домой.
Юлиан бросил взгляд на Ваню — тот уже успел вернуться с реки, — но липованин не тронулся с места. Он глядел в открытую дверь. Лишь когда Лени вышла и кивнула ему, паренек радостно убежал и стал готовиться к отплытию.
— Беременные — странные люди, — продолжала бабка. — Едят все подряд: грызут мел и соль, бывает, что и кирпичи лижут. Твоя жена, Юлиан, раньше глину и штукатурку ела. Это оттого только, что ты ей мало еды давал. Теперь придется тебе позаботиться, чтобы у нее было все, что захочет. А то ребенку до рождения не хватит, и помрет опять. Слышишь, что я тебе говорю? — Рыбак встрепенулся и торопливо кивнул. — Хорошо. А ты, Лени, должна беречься! Грех не щадить себя, когда Бог хочет подарить тебе дитя. Увидимся через неделю.
Она зашагала со двора и забралась в лодку, полную рыбы. Ваня придержал лодку, залез вслед за бабкой, приладил весла, и вскоре они скрылись за надломленной ветлой, склонившейся над каналом. Рыбак Юлиан — простой мужик, без образования — почесал в затылке и оглянулся на жену. Он хотел было что-то сказать, но она его опередила:
— Ступай, купи смальцу и меду. Я проголодалась.
— Смалец в сельской лавке есть. Но меду-то я тебе где возьму?
— Слышал, что бабка сказала? Ты должен исполнять любое мое желание. Я сейчас сварю уху, а к ней хочу хлеба со смальцем, а потом меду. Много меда. Да поторапливайся. Или хочешь рискнуть жизнью своего ребенка?
Все следующие месяцы Юлиан был постоянно занят поиском продуктов, чтобы накормить прожорливую жену. Чуть свет он отправлялся в дельту проверять сети, в восемь утра продавал бо́льшую часть улова на рыбном рынке «черхане» в Малюке, а к полудню возвращался домой и принимал заказы Лени. Она словно хотела отомстить ему за те долгие годы, когда он больше не уважал, а лишь презирал ее.
Теперь у него даже не оставалось времени пропустить пару стопок цуйки после работы, как раньше. Лени же, напротив, все больше прибавляла в весе, будто хотела заполнить собой все тесное, темное пространство их низенького домишки. Чем толще она становилась, тем больше хотела есть. Юлиану приходилось доставать яйца, муку, варенье, которое Лени ела руками прямо из банки. Она опустошала целую банку за один присест. Рыбы — их ежедневной еды с самого детства — ей уже не хватало. Теперь она уплетала дорогую телячью вырезку, баранину и целых кур. И все это Юлиану приходилось покупать на свои скромные доходы. Иной раз он отправлялся аж в Сулину за плиткой русского шоколада, турецкой халвой или рахат-лукумом.
В своей убогой рыбацкой одежде — потертых рабочих штанах, заправленных в грязные сапоги, и засаленной рубашке с пятнами — Юлиан обходил все магазины портового города, где бросали якорь суда со всего мира, он искал такие сладости, о существовании которых прежде и не догадывался. Горький шоколад румынского производства, который продавался и у них в деревне, его жене теперь был не по вкусу.
Потом он греб домой, по нескольку часов, и на душе у него было паршиво. Половина его надеялась на рождение отпрыска, другая же половина не верила, что жена способна родить жизнеспособного ребенка. Ему казалось, что жена все время издевается над ним, хочет уморить его своей ненасытностью. Но еще он знал, что, быть может, это его последний шанс обрести удовлетворенность и покой. Последний шанс снова стать полноценным человеком и как нормальный мужик выпивать с другими мужиками. Так что он не жаловался.
А Ваня каждую пятницу ходил на веслах за бабкой, привозил ее к Лени, потом отвозил обратно и возвращался, так проходил день. Зимой каналы и озера замерзли, почти все птицы из дельты улетели, а Ване приходилось волочь лодку от одной свободной воды до другой. На обратном пути он еще и нес бабку на своем горбу. Ваня осторожно двигался по широкой ледяной равнине Исаковского озера, и северо-восточный ветер хлестал и его, и бабку. Они брели по бесконечному, застывшему ландшафту, а серое небо наблюдало за ними.
Весной дельта вновь разлилась. Устье Дуная было для рыбаков устами реки. Так они его и называли: gurile Dunării. По их понятию, они жили у рта Дуная, а не в устье. То есть не у задницы.
Дунай был кишечником Европы. Он принимал в себя все, что в него сбрасывали на его долгом пути через континент, и вываливал это на востоке: человеческие испражнения, отходы и стоки тысяч предприятий. Он омывал тела купающихся детей и уносил их грязь. На его берегах мужчины многих стран с гордостью надраивали до блеска свои автомобили — те немногие счастливцы, у кого они уже были. Остальные водили к реке скотину на водопой.
В Дунай прыгали самоубийцы, смывало кладбища, ручьи и притоки приносили мусор. Река все терпеливо принимала. Она служила огромной сточной канавой и выносила в дельту все, что ей доставалось далеко на западе. В одном месте Европу подмывало, а в другом намывало заново. Тина, камни, щебень — континент с каждым днем прирастал в сторону моря. А на дне озер и рукавов дельты с каждым половодьем оседал новый тонкий слой песка, чье путешествие началось за тысячу километров отсюда, в глубине материка.
Под сапогами рыбаков, под их лодками, под тростником, между корней ив, под ногой терпеливой серой цапли земля год от года омолаживалась и неуклонно менялась. Хотя край, где жили Ваня, Юлиан и Лени, словно выпал из времени, всегда оставался неизменным и равнодушным к внешнему миру. Казалось, он не менялся с тех пор, как Бог его создал. Возможно, именно здесь Бог отделил небо от воды.
Весной у Вани возникли новые трудности при доставке бабки. Ветер поднимал на Исаковском озере такие волны, будто это не озеро, а внутреннее море. Ваня греб изо всех сил, мышцы рук набухали, но лодка едва продвигалась. Когда он вез старуху домой, та вставала в лодке, словно назло ветру и волнам. Скукоженная фигура и морщинистое лицо делали ее похожей на призрака. На бабу-коаджу, убийцу некрещеных детей. На стригу, которая высасывает кровь из младенцев. Ваня всем сердцем верил в сказки, что рассказывали в дельте. И когда бабка бормотала под нос что-то непонятное и вода перед ними успокаивалась, Ваня боялся старуху еще сильнее.
На этот раз Лени хорошо подготовилась. Каждую неделю бабка ее мыла и окуривала. Лени пила святую воду и натирала ею живот. При ней всегда были девятнадцать имен дьявола и железка от сглаза. Ежедневно она била четырнадцать поклонов перед иконой Богоматери и молилась. Вместе с бабкой она брызгала водой на тростниковую крышу и повторяла вслед: «Чтоб я родила так же легко, как эта вода стекает на землю».
Поэтому в середине мая 1920 года, почувствовав, что приближаются роды, Лени была во всеоружии. Она вышла из дому, неуклюже, как гигантский безобразный сом на суше, и осмотрелась в поисках Вани. Его нигде не было, тогда она подозвала мальчишку, рыбачившего с мостков:
— Найди Ваню! Скажи, что скоро начнется. Пусть привезет бабку. Беги уже!
Затем обратилась к мужу, одной рукой опираясь на стену дома, а другой — поглаживая живот:
— Скоро ребеночек выйдет.
— Ну, значит, выйдет. Пойду гробик сколочу.
Не слушая мужа, жена поковыляла на опухших ногах обратно в дом, зажгла новую свечу перед вымытой иконой и приготовила кровать для родов. Юлиан отправился в сарай, вытащил доски и начал в уголке двора мастерить гроб своему ребенку. Лени легла на кровать и стала ждать, а снаружи до нее доносились звук ножовки и стук молотка. Она улыбалась, она была готова.
Твой дедушка, Рей, ничего не знал о мире Вани и Лени. О тех краях, где люди жили всего в одном пальце от Бога и в одном пальце от дьявола. Там он узнал бы такую тишину, какую едва ли мог представить себе в мегаполисе. И шум, совсем не такой, как в суетливом городе. Там шум начинался с тихого, сухого шороха тростника, с клекота аистов, с шелеста ив, тополей и ясеней. Он нарастал с плеском волн на больших озерах и достигал вершины с криками и свистом многих тысяч птиц. У дельты было свое дыхание. Она вдыхала весной и выдыхала в конце лета. Это дыхание можно было услышать, если набраться терпения.
Единственная дельта, о которой слышал Спичка, была дельта Миссисипи, потому что она замерзла суровой зимой 1899-го. Но для многих нью-йоркских газет это была чрезвычайная новость. Для Спички же устье этой реки находилось за границами его воображения. Оно было за границами всего, что он знал и что он мог увидеть в жизни. Для него Дунай с его дельтой и ее обитателями был бы все равно что на Луне. Лунная река. Единственное, что его могло заинтересовать, это есть ли там газеты и какие новости доходят до ушей рыбаков. До самых глухих, защищенных от вращения времени деревень.
Мальчик-рыбак знал, где у Вани наблюдательный пост — в нескольких сотнях метров за деревней был пригорок на краю тростниковых зарослей, у границы Узлинского озера. Оставив лодку неподалеку от этого места, он и впрямь скоро заметил Ванину спину. Тот так сосредоточенно наблюдал за тем, что скрывалось в тростнике, что не заметил, как мальчик подошел совсем близко.
— Ваня! — окликнул его мальчишка.
Детина обернулся и расплылся в улыбке. Он прижал к губам палец и махнул мальчугану подойти ближе.
— Что ты тут делаешь?
— Говори тише, а то вспугнешь ее.
— Кого?
— Серую цаплю. Я уже два часа за ней наблюдаю.
— Это зачем?
— Хочу посмотреть, как долго она может простоять на одной ноге и не упасть.
— Эх, Ваня, не зря говорят, что ты блаженный, — сказал мальчишка и рассмеялся.
— Ну вот. Теперь ты ее вспугнул. Я же говорил.
Но парнишке уже было не до Вани и цапли. Он исследовал хижину, построенную на самой макушке пригорка, чтобы ее не затапливало. Здесь часто останавливались городские рыбаки. Незатейливое убежище изнутри было обклеено газетами. Мальчик, такой же грамотный, как Ваня, стал водить пальцем по строчкам и с трудом складывать слова по слогам. Ваня услышал бормотание, подошел к хижине и присел рядом.
— Читай громче! Мне тоже интересно, что творится в мире.
— Да тут прошлогодние новости. За девятнадцатый год. С тех пор уже много чего случилось.
— Об этом мы узнаем через год. Читай давай!
— Но я плохо читаю, — запротестовал мальчик.
— Раз серая цапля умеет стоять на одной ноге, то ты умеешь читать.
Мальчик взглянул на Ваню с удивлением, ведь на этот раз в его словах был какой-то смысл.
— Вот новость из Гер-ма-нии, — прочел он.
— Я о такой стране еще не слыхивал. Что ж там случилось?
— Роза Люк-сем-бург убита. Пятнадцатого января.
— Кто знает, в какой компании она вертелась. Дальше!
— Вос-ста-ние спар-та-кис-тов в Берлине. Тоже в январе. Дальше что-то о каких-то берлинских мартовских боях. Тысяча двести человек казнены.
— Да ведь это столько народу, сколько живет в Малюке, Кришане, Узлине и Муригьоле вместе! — воскликнул Ваня.
— А ты знаешь, что такое восстание? — спросил мальчик.
Ваня наморщил лоб:
— Восстание, — сказал он, подумав, — это когда встает кто-нибудь, кто перед этим упал. Вот что такое восстание. — Довольный своим определением, он скомандовал: — Читай дальше!
— Вот за май. Вой-ска рейх-с-вера вошли в Мюн-хен и сражаются с ком-му-нис-та-ми. А вот тут за февраль: Ха-би-бул-ла-хан, пятнадцатый эмир Аф-га-нис-та-на, убит во время охоты.
— Опять убийство? На охоте? Такое и у нас однажды случилось. Один тут застрелил своего соперника на перепелиной охоте. Но это где же такая страна, откуда этот эмир?
— Ваня, я не знаю, как и ты. Смотри-ка, вот тут новость получше, июньская: гер-ман-ска-я де-ле-га-ци-я подписывает Вер-саль-ский мирный договор. Никто не умер.
— Теперь я вспомнил: Германия — это страна на западе, которая начала Великую войну. Так говорят мужики в шинке.
— До или после выпивки? То, что они говорят пьяные, Ваня, яйца выеденного не стоит. Может, Германия начала войну, а может, и нет. Мне-то откуда знать?
Они еще долго упивались прошлогодними новостями. То Ваня прикладывал палец к газете, то мальчишка. Чаще читал мальчик, но и липованин упражнялся в трудном искусстве чтения вслух. Они узнали, что какой-то кайзер отправился в ссылку в Швейцарию, а Южный Тироль стал итальянским. Но где все эти края, они ни малейшего понятия не имели.
Узнали, что в той же Италии некий Муссолини основал партию. Французский премьер-министр едва остался жив после покушения, а баварский, наоборот, скончался от двух выстрелов в голову и в спину. У берегов Шотландии пошел ко дну корабль HMY Iolaire, и двести шесть пассажиров утонули. О кораблях и штормах они знали больше. Узнали, что украинская армия убивала евреев, а английская — сикхов и индусов. Оба читателя только диву давались.
Недавняя эпидемия гриппа миновала, и это было само по себе хорошо, только знать бы еще, что такое эпидемия. Они прочли, что 29 мая где-то в мире потемнело солнце и что из-за этого удалось получить больше сведений о свете. Как можно что-то узнать о свете, когда стало темно, для них осталось загадкой. А в августе человек по имени Шарль Годфруа пролетел на своем биплане под Триумфальной аркой в Париже.
Нашли они и заголовки о родной стране. Румыния освободила свою западную часть от венгерских войск. Румыны захватили Будапешт, а потом отступили. И присоединили Трансильванию.
Тогда же Ваня впервые услышал об Америке. Одному воздушному кораблю потребовалось одиннадцать дней, чтобы долететь оттуда до Европы, другой — сгорел над городом под названием Чикаго. В Америке арестовывали анархистов и убивали негров. Взрывались бомбы на улице, видимо важной — Уолл-стрит. От мощного урагана в Мексиканском заливе погибло шестьсот человек. Теперь они хотя бы знали, что Америка выходит к морю, может быть такому же большому, как Черное.
Всего этого было еще недостаточно, чтобы Ваня невзлюбил Америку. Решающим стало известие, что там запретили спиртное. Этого он одобрить никак не мог. К тому же «сухой закон» должен был вступить в силу в январе 1920 года, то есть четыре месяца назад. От напряженной попытки постичь мир оба читателя устали и осовели. Они улеглись на влажную теплую землю.
— Знаешь, Ваня, лучше уж всю жизнь смотреть на цаплю, — сказал мальчик, едва ворочая языком.
— Ты прав. Лучше оставаться здесь, в дельте. У нас же тут есть все, что нужно.
Ваня уже почти уснул, но тут мальчик вдруг вскочил и стал его тормошить:
— Ваня! Тебе надо срочно в путь! Ты должен привезти бабку! Ребенок родится!
Он греб как угорелый через Литковский и Чамурлинский каналы, по густому ковру водяных ирисов и кувшинок. Его резкие движения вспугивали птиц, те взлетали перед носом лодки и летели за ней. Водяной ужик пересек канал и скрылся в зарослях. Колпицы, чернозобые гагары, ходулочники, камышницы усердно охотились за личинками, улитками, лягушками и рыбами. Тысяча поводов бросить весла и плыть по течению, но липованину было не до них.
Наконец Ваня вышел в Сулинское гирло, сплавился вниз по течению еще несколько сотен метров до Кришана и привязал лодку к причалу почтового судна, которое останавливалось здесь дважды в неделю по дороге из Тулчи в Сулину. На скамейке, где обычно ждали пассажиры, еще лежала пачка газет, выгруженных с парохода утром. Единственная деревенская лавка была закрыта, а в шинках никого не волновало, что пишут газеты.
Да и зачем? Осетры год за годом идут на нерест вверх по реке. Летом птичьи стаи затмевают небо, а осенью покидают дельту до следующего сезона. Зимой краснозобые казарки, белые цапли и большие бакланы останутся и составят компанию человеку, когда задуют холодные ветра. Когда рыбаки будут мерзнуть в своих лачугах, бросив дельту на волю штормов, льда и дьявола.
Так было всегда, и так будет всегда. Им не нужны были газеты, чтобы это узнать. Нужна была цуйка для сугреву — и зимой, и летом. Так что мужики сбивались потеснее в шинках, а мир жил сам по себе.
Однако в тот день в газете была новость, которая, наверное, могла бы успокоить Ваню. На первой полосе красовались две фотографии. На одной — знаменитый испанский тореадор Хоселито, объявивший, что 16 мая в последний раз выйдет на арену. Это Ваню вряд ли заинтересовало бы. А вот на второй — папа римский, который в этот день должен был канонизировать француженку по имени Жанна. В такой день Господь уж точно не прибрал бы душу новорожденного. Но Ваня прошел мимо стопки газет, его любопытство на сегодня было удовлетворено.
Бабки в ее домишке на краю деревни не оказалось, и соседи посоветовали поискать ее в рыбацкой хижине на озере Богдапросте. Это означало еще два часа пути, а дело было уже к вечеру. Ваня преодолел сильное течение гирла и на другом берегу зашел в тихие воды старой излучины.
Старуха лежала на полу хижины, пьяная до бесчувствия. Ваня взял ее на руки и отнес в лодку. Бабка пришла в себя только на полпути к Узлине. Вокруг был сумрак, потому что все небо заволокло темными, тяжелыми тучами. Любой другой на месте липованина заблудился бы. Но темнота была не единственной трудностью — с минуты на минуту могла разразиться буря. На Исаковском озере уже поднялись волны. Нужно было поскорее укрыться от шторма в ближайшем канале.
Тут он услышал в темноте за спиной голос очухавшейся бабки: «Ты кто? Ты куда меня везешь?» Ваня молчал, он уже порядком устал, а лодка едва продвигалась вперед. «Матерь Божья, я на небесах или в преисподней?» — закричала перепуганная старуха. Не успел Ваня ответить, как бабка встала в лодке и стала вопить и причитать. Она так дергалась, что чуть не перевернула лодку.
Ваня схватил бабку и заставил сесть. «Я в аду! В аду!» — повторяла она. Издали донеслись приглушенные раскаты грома, во второй и третий раз прогремело уже ближе. Первая молния едва осветила небо, вторая — ударила в одну из окрестных пойм. В свете вспышки Ваня увидел гримасу ужаса на лице бабки, упавшей на дно лодки. Наверное, она тоже разглядела его лицо, потому что закричала: «Так это ты! А я думала, что сижу в одной лодке с чертом!»
Вокруг все замерло в ожидании, словно прислушиваясь. Новые молнии осветили озеро и кроны деревьев на берегу. Ване оставалось пройти еще сотню метров до входа в канал, который вел к небольшому Узлинскому озеру. В повторяющихся всполохах были видны и темные силуэты бесчисленных птиц: бакланов, пеликанов, лебедей-шипунов — они ждали, когда разразится ливень. Ваня понимал, что нужно спешить. Если ветер прибьет ко входу в канал тростниковый плавень, они окажутся заперты на озере. В любую другую ночь это его не расстроило бы, но не в эту.
Ветер стих, гром и молнии отступили к морю. Двое в лодке поверили, что опасность миновала, но затишье продолжалось недолго. Люди и птицы вокруг сидели в полной темноте, будто мир еще не был сотворен. На воду упало несколько капель, затем несколько секунд снова ничего. Дождь не спешил, он дурачил людей и зверей, давая надежду, что все позади. Но он лишь затаил дыхание перед ударом.
Когда лодка подошла к тростнику, Ваня и бабка уже промокли до нитки. Бабка молилась, но шум дождя заглушал ее голос. Казалось, от ливня нет спасения. Вдобавок опять поднялся ветер. Ваня не мог найти вход в канал. Сколько он ни шарил рукой в темноте, перед ним была только непроницаемая стена тростника. Делать было нечего. Пришлось ждать.
Юлиан не решался зайти в дом. Почти всю ночь он просидел на скамеечке под козырьком крыши, рядом стоял прислоненный к стене гробик. Его жена стонала, иногда кричала и часто молилась. Когда ливень шел во всю мощь, он ничего не слышал. Юлиан бормотал себе под нос то, что всегда повторяла она: «Чтоб дитя родилось так же легко, как течет вода».
Но, похоже, у дитяти были другие планы. Оно мучило свою мать, причиняло боль, оно откладывало рождение, чтобы причинить побольше страданий. Может, оно хотело убить мать. Или та боролась с некуратулом? Юлиан не хотел знать, свою работу он уже сделал — гроб.
Когда крики стали невыносимыми, он побежал к соседям, просить помощи, но никто не хотел идти. В конце концов он пошел в летнюю кухню и достал бутылку цуйки. Там его и застала утренняя заря. Тогда Юлиан принялся возиться с сетями, но толку было мало. Ведь при каждом крике он вздрагивал, прислушивался, не раздастся ли голос его сына. Он не мог себе представить, что родится девочка. Он мог быть отцом или мертвых детей, или сыновей.
Наконец Юлиан уснул, и разбудили его звуки со стороны канала. Он решил побить Ваню, но, увидев его и бабку, обессилевших, мокрых насквозь и дрожащих от холода, рыбак забыл о своем намерении. К тому же успех этой затеи был бы крайне сомнителен, ведь липованин хоть и был добряком, но ростом и силой дал бы фору любому в деревне. Юлиан помог бабке вылезти из лодки и спросил ее, что случилось. Она, не ответив, зашагала прямо к дому и остановилась у гроба.
— Да он слишком велик. Ты кого в нем хоронить собрался? Себя самого? — усмехнулась она, не зная, что окажется права. — Может, он тебе и пригодится, если я опоздала. Все твой дурачина виноват. Слишком поздно приехал и греб медленно. Мы всю ночь на Исаковском озере проторчали, а он все причитал, что это он виноват.
Тут же забыв о мужчинах, бабка сняла сапоги, босиком зашла в дом и закрыла за собой дверь. Когда она вышла через час с лишним, было уже совсем светло. Юлиан и Ваня сидели неподвижно. Бабка снова скрылась в доме, какое-то время было тихо, и мужики испугались, что не только ребенок, но и мать умерла. Рыбак уже смотрел на гроб, когда Лени начала кричать и плакать, словно пробил ее последний час. Так продолжалось довольно долго, потом опять все стихло.
Наконец в дверях появилась бабка.
— Ну, скажи что-нибудь, — потребовал Юлиан. — Оба умерли?
— Никто тут не умер.
— Слава богу! А почему тогда мальчишка не плачет?
— Ребенок жив, но поздравить мне тебя все равно не с чем, и не чокнемся.
— Это еще почему? — осторожно спросил новоиспеченный отец, потому что уже догадывался, какой будет ответ.
— Может, когда-нибудь у тебя будут внуки-мальчишки, но сейчас у тебя родилась дочь.
— Девочка? — в отчаянии воскликнул Юлиан. — Что мне с ней делать-то?
— Девочка! — радостно крикнул Ваня и улыбнулся во весь рот.
— Не дури, — старуха одернула Юлиана. — Девочка, хоть и не мальчик и не будет с тобой рыбачить. Но она будет тебе носки штопать, держать дом в чистоте да вкусную уху варить. А теперь ступай к окну, я ее тебе передам.
— Почему через окно?
— Иначе нельзя, коли хочешь, чтобы она выжила. Через дверь-то вы уже мертвых детей выносили.
Через несколько минут бабка появилась у окна с крошечным свертком. Она торжественно подняла его к небу, словно хотела показать ребенка сперва Богу, а уж потом отцу. Трижды прочитав «Отче наш», она положила девочку в руки Юлиану. Тот откинул уголок пеленки и увидел светлое личико с голубыми глазами и несколькими светлыми волосенками.
— Это ничего не значит, — пробормотала бабка. — Многие дети рождаются светловолосыми.
— Но не у таких же смуглых отцов, как я.
Бабка пожала плечами, Юлиан сделал несколько шагов назад и если бы не Ваня, то уронил бы ребенка. Он потер лицо, будто хотел проснуться, а потом взял курс на шинок.
— Почему она не плачет? — спросил Ваня.
— Потому что женщины умнее мужчин. Это ты чуть что в слезы. А она знает, что силы для жизни надо беречь.
В это мгновение ребенок закричал ужасно громко, аж соседские собаки залаяли. Из темного чрева дома раздался голос Лени:
— Ваня, принеси мне мою дочку.
Бабка еще раз выкупала новорожденную. В воду она бросила яйцо, чтобы дитя оставалось так же невредимо, серебряную монету — чтобы ребенок не знал ни в чем нужды, меду — чтобы жизнь была сладкой, плеснула молока — для гладкой кожи, и опустила веточку ладанного дерева — чтобы отпугнуть злых духов.
— Ты знаешь, что до крещения с нее глаз спускать нельзя. Дьявол любит некрещеных деток. Так, вот и с этим кончили, — сказала бабка и передала девочку матери. — Осталось только имя.
— Я думала… — начала было Лени.
— Вам с Юлианом ее нарекать нельзя. Вы уже троих детей потеряли, это к несчастью.
— А кто же тогда? — спросила обессиленная женщина и приподнялась на локтях.
Бабке долго думать не пришлось:
— В таких случаях дитя выносят на улицу, и первый встречный должен сказать, как его назвать.
Бабка долго торчала на улице в ожидании прохожего, ведь дом Юлиана и Лени стоял в дальнем конце деревни, ближе к воде, чем все остальные. Первым встречным оказался голодный и блохастый тощий пес. Увидев бабку, он лениво полаял, поджал хвост и продолжил свои вечные поиски еды. Вторым прошел пьяный рыбак — оттуда же, где любил посидеть Юлиан.
Третьим был мальчик. Он испугался, когда его окликнула старуха, — он слышал о ее колдовских способностях и подумывал, не стоит ли пройти мимо, как и та собака. Но все же остановился как вкопанный.
— Да ничего я тебе не сделаю. Поди сюда и подержи девочку.
Бабка уже собиралась передать ребенка мальчику, но тут ее взгляд упал на Ваню, который что-то делал на узких, хлипких мостках.
— Ладно, мальчик. Ступай. — Она снова подняла ребенка к груди. — Пройди по всем дворам и скажи: у рыбака Юлиана и его жены Лени родилась здоровая дочка.
— А что мне за это будет? В деревне-то тридцать три двора.
— А ты подумай, что тебе будет, если не сделаешь, что я прошу.
Мальчик тут же убежал. Бабка несколько минут наблюдала за Ваней. Бог любит блаженных. Девочке не повредит, если он станет ее крестным, подумала она. Старуха прошла несколько шагов до мостков, но остановилась на берегу и подозвала Ваню. Тот взял ребенка, поднял повыше и нарисовал пальцами крестик на лбу девочки, как велела бабка.
— А теперь дай ей имя!
— Что?
— Как назвать девочку?
Он задумался, наморщил лоб, но в голову ничего не приходило.
— Ну должно же быть имя, которое тебе милее других.
Ваня облегченно вздохнул, его лицо засветилось радостью и вдохновением:
— Да, Ваня знает красивое имя!
— Так скажи его, Бога ради!
— Пусть девочку зовут Елена, как ее маму. Это самое красивое имя на свете.
Так моя мать получила имя моей бабушки, а через сорок лет передала его мне. Я третья в цепочке Елен, Рей.
Но я забегаю вперед, ведь, прежде чем у меня будет возможность появиться на свет, моей матери предстоит сначала пережить первые шесть недель ее жизни. Юлиан умрет, а бабушка, доказав свою способность рожать здоровых детей, потеряет интерес к дочери. Ваня проживет еще несколько лет, а потом заболеет и навсегда затеряется на просторах дельты.
Бабушка не хотела приглашать священника, чтобы тот прочитал очистительную молитву, очистил ее дом и тело, передал ребенка под покровительство Господа. «Он три раза не пришел, когда у меня рождались мертвые дети, вот и теперь пусть не утруждается». И все-таки по настоянию Юлиана Ваня привез батюшку в Узлину.
Крупная фигура священника внушала рыбакам такой же страх, как и бабка, потому они снимали шапки, когда мимо проходил поп с Библией у груди — ворчливый, со спутанной седой бородой, которая частенько пахла немытым телом и спиртным. Рыбакам казалось, что своим острым взглядом поп проникает в их души и из-за того, что он там видит, стал таким мрачным и грубым. А может, он просто заглядывал в свою душу?
На мостках батюшку встретил Юлиан, они уже собирались зайти во двор, но бабушка доковыляла до ворот и преградила им путь.
— Церковь ко мне в дом не зайдет, — заявила она.
— Но это же грех, дура-баба! — возмутился батюшка.
— Грех не грех, а вы трижды не явились, теперь вы мне не нужны. Бог меня поймет.
— Коли ты детей теряешь, то церковь тут ни при чем. Надо было прийти ко мне и отмолить свои грехи, а не ведьму в дом приводить.
— Да какие грехи, батюшка? Нету у меня грехов-то. Я ж своих детей не убивала. Господь их просто забрал. Вы ко мне в дом не войдете.
Они еще долго препирались, верный Ваня тоже встал перед священником, и стало ясно, что тому хода не будет. В конце концов Юлиан предложил решение, которое всех устроило. Пускай батюшка прочтет свои молитвы во дворе. Так и сделали. Поп достал из кожаной сумки распятие и бутыль со святой водой. Бутыль он передал Ване:
— Пойдешь в дом и окропишь полы крестом.
Ваня ушел, а батюшка поднял распятие и начал торжественный распев молитвы:
— Господи Боже Вседержителю, Отче Господа нашего Иисуса Христа, Тебе молимся, и Тебе просим: Твоею волею спаси еси рабу Твою Елену из Узлины, очисти от всякаго греха, и от всякия скверны. Да спаси ее от козней диавола, от искушения сатанинского корыстью, завистью и… — батюшка на секунду задумался, — неразумием. И от нее рожденное отроча Елену, Господи, благослови и защити от всякия проклятий и от всякаго колдовства, да будет она верной рабой церкви и да будет славить Имя Твое во веки веков. Аминь.
Батюшка молился обстоятельно, но кое-что он все-таки упустил — грех равнодушия, которому вскоре предалась бабушка. Но поначалу она следила за дочкой, не спускала с нее глаз и почти не спала по ночам, чтобы случайно не повернуться спиной к ребенку, что только привлекло бы дьявола. Если же ей все-таки приходилось выходить из дому, за младенцем присматривал Ваня. Девочка смотрела на него из колыбельки и улыбалась ему, когда он робко напевал колыбельную. Уже тогда они были похожи как две капли воды.
Юлиан умер месяц спустя. О нем батюшка тоже забыл помолиться: Господи Боже, Отче наш, спаси раба твоего Юлиана от чрезмерного пития. Спаси его от того, чтобы идти ночью пьяным домой вдоль берега. Спаси его, не умеющего плавать, как многие рыбаки, от падения с обрыва. Спаси его от Дуная, пожелавшего утащить его за ноги в омут.
Его нашли только на третий день. Река вернула его, ибо слишком тощ он был, чтобы им напитаться. Труп прибило к берегу как раз там, где стояла хижина с прошлогодними новостями. О смерти рыбака никто не напечатал бы ни заголовка, ни строчки мелким шрифтом на последней полосе. Такие, как он, рождаются, живут как умеют и исчезают — без всякой шумихи. Юлиану не суждено было увидеть, как растет его дочь, как ее волосы становятся все светлее, глаза — все синее, а кожа — все белее.
Во многом Ваня занял место Юлиана еще до его смерти. Юлиан никогда не стремился быть незаменимым, и потому его заменили. Он не оставил после себя ни пустоты, ни памяти, ни скорби. Даже реке он не сгодился на приращение европейской суши.
Ваня не мог купить доски на гроб по росту покойника, ведь Юлиан в последнее время мало рыбачил и ничего не заработал. Последние гроши они отдали священнику. Липованин беспомощно оглядывался в огороде, пока ему на глаза не попался детский гробик, стоявший в углу двора. Чем дольше Ваня смотрел, тем яснее видел решение проблемы. Оказалось, Юлиан хоть и не вырыл сам себе могилу, но сколотил собственный гроб. Ну, или полугроб.
Для новорожденного ящик был слишком велик, а вот сухощавый, низенький Юлиан мог поместиться в него по пояс. Ваня пропилил в тонкой торцевой стенке два отверстия, с помощью соседского мальчишки уложил в гроб тело Юлиана и с трудом просунул его ноги в отверстия. Открытый гроб установили во дворе на двух стульях — Юлиан так плохо пах, что бабушка не захотела класть его рядом с колыбелью дочери. Попрощаться зашли только два-три собутыльника, больше никто. Бабушка не возражала против участия священника в похоронах, если он не будет заходить в дом.
Мальчик-сосед нес распятие во главе похоронной процессии, следом — батюшка, за ним несли гроб. Деревенские рыбаки, их жены и дети пришли поглазеть, но держались поодаль. Гроб погрузили в Юлианову лодку, туда же сели Ваня и священник. В Ванину лодку села бабушка с ребенком на руках, на весла — мальчик.
Обе лодки отплыли и прошли словно парадом по каналу вдоль всей деревни. Рыбаки снимали засаленные шляпы и прижимали их к животам. Женщины доставали из приготовленных ведер рыбу и бросали ее в реку, когда лодка с гробом проплывала мимо. Это значило, что земля должна принять тело Юлиана так же, как Дунай принимает рыбу.
Когда лодки вышли в Георгиевское гирло, Ване и мальчику пришлось налечь на весла, чтобы поперек течения догрести до Муригьола, где было кладбище. Все это время из гроба торчали окоченевшие ноги Юлиана в сапогах.
Мама пережила первые шесть недель. Наверное, некуратул на время насытился смертью Юлиана. Девочку крестили в церкви Муригьола, неподалеку от Юлианова креста. Бабушка понимала, что лишь после крещения Бог примет ее дочь под защиту. О том, что этой защиты не хватит на всю жизнь, никто не мог знать.
Здесь ее история могла бы закончиться. Ведь о жизни женщины у рта реки, где никогда не происходит ничего особенного, и рассказывать нечего. Она научилась бы ткать, чистить рыбу и варить вкусную уху на дунайской воде. Она была бы узницей родного куска суши в большей мере, чем мужчины, ведь женщинам не хватало сил, чтобы грести через стремнины.
Она выучилась бы кое-как читать и писать. Ровно настолько, насколько это необходимо. Дважды или трижды в год она выбиралась бы в Муригьол, еще реже — в Тулчу или Сулину. Поводов для поездок почти не было. Как и другие девушки, она рано вышла бы замуж и боялась бы родить мертвого ребенка. Она пригласила бы ту же самую или другую бабку и совершала бы те же обряды. Подобно почве дельты, обновлялся и страх. Зато все остальное в жизни речного народа оставалось неизменным.
Однако на этом история не закончилась. Дьявол замыслил кое-что сделать с Еленой, и от этого ее не мог защитить даже Господь. Ей суждено было пережить такой жестокий поворот судьбы, которого невозможно было ожидать в медленном, размеренном мире дельты.
Каждые пару часов к груди моей бабушки приливало молоко, напоминая, что у нее есть дочь. В остальное время казалось, что молодая мать просто забыла о ребенке. Она делала все, что нужно, но только машинально. Она избегала взглядов малышки, искавшей ее глаз. При малейшей возможности оставляла ее колыбели и Ване.
Лени победила в споре с дьяволом, доказала всей деревне, что может нормально родить. Наконец-то к ней стали приходить соседи, чтобы посмотреть на ребенка, но она их не пускала. Она принимала подарки во дворе, а Ваня наливал гостям цуйки. К подношениям она почти не притрагивалась. Поскольку рыбаки были небогаты, то дарили в основном еду. Ваня ел до отвала. Бабушка словно возненавидела мир, как раз тогда, когда могла бы с ним примириться.
Ваня в девочке просто души не чаял. Когда ей исполнилось восемь, девять или десять лет, он стал брать ее на озера. Иногда они оставались там на всю ночь, когда тростниковые плавни закупоривали каналы. Мама спала, а Ваня смотрел в небо и никак не мог насмотреться. Целый день они сидели в лодке и старались распознать птиц по хлопанью крыльев. Ведь узнавать птиц по трелям и крикам в дельте умел каждый.
Они проводили много времени у рыбацкой хижины на пригорке, уже обветшавшей, и смотрели на цаплю. Газеты на стенках пожелтели, многое было уже трудно разобрать, но Ваня не сдавался и старательно читал девочке о событиях 1919 года. О некоторых из них уже мало кто помнил, но мамина фантазия восполняла пробелы. Так она узнала, что существуют самолеты и дирижабли, бомбы и Эйнштейн, Германия и Афганистан, черные и белые, императоры и президенты.
Мама кое-что слышала и об Америке, но Ваня ее предостерегал. Эта страна была ему не по душе, потому что не давала человеку промочить глотку. Девочка задавала много вопросов, на которые он не мог ответить. В таких случаях Ваня смущенно подходил к берегу, раздвигал тростник и шептал: «Пока ты задаешь вопросы, мы упускаем главное. Серая цапля опять здесь».
По весне он брал ее с собой в протоки Дуная. Там он привязывал лодку к толстому дереву или каким-нибудь мосткам и давал девочке знак перегнуться через борт и посмотреть в бурую, мутную воду.
— Глубоко под нами осетры идут на нерест против течения. Их тысячи. Прислушайся к воде. Слышишь их разговоры?
— Но, Ваня, рыбы не умеют говорить!
— Еще как умеют. Они рассказывают друг другу о морских приключениях, иначе им было бы ой как скучно долго плыть на запад. Послушай хорошенько.
Мама ни в коем случае не хотела расстраивать Ваню и делала вид, будто напряженно прислушивается, а потом восторгалась:
— Они и правда говорят!
Когда ей было лет четырнадцать, пятнадцать или шестнадцать, Ваня встречал ее после уроков, которые один учитель время от времени давал рыбацким детям, и увозил в лабиринт озер, проток и каналов. Там он учил ее рыбачить. Он показывал ей, какая рыба водится в мутной воде основных рукавов: например, сом и карп, а какая — только в чистой воде проток и озер: щука и судак.
Он объяснял ей, что, когда вода поднимается, сом покидает свои норы под корнями прибрежных деревьев и заходит в озера. А в конце лета его опять надо ловить в каналах и заводях. Она узнала, что в окрестностях их деревни до первого льда ловится отличная щука — если повезет, то можно поймать рыбину кило на десять. А хороший сом может весить и все тридцать. А уж если вытащишь стокилограммового — на всю жизнь запомнишь.
Оказалось, что рыбы умные, они умеют маскироваться. Карпы желтели в основных рукавах, а в озерах были черные. Сом, темный в озере Богдапросте, приобретал бурый оттенок, как только ливень выше по течению намывал в Дунай глину. У щуки по бокам черные полосы, и ее не видно на фоне илистого дна.
Чтобы перехитрить осторожных рыб, человек придумал пики, гарпуны, трезубые остроги, верши в виде воронки, сачки, донные ярусы с острыми крючками и плетеные морды. Рыба хитрая, а человек еще хитрее. Но человек не всегда выигрывал.
Девочка по мере сил помогала разбирать сети и выгружать рыбу на черхане. Ваня так представлял себе дальнейшую жизнь: с утра они будут рыбачить, потом отвозить улов на приемку, а остаток дня — дрейфовать. Но вышло иначе.
С тех пор как мама поговорила с девушкой из Сулины, навестившей ее родителей, она переменилась. Гостья пахла, одевалась и двигалась не так, как рыбацкие жены, которых только и видела мама. Сулина была совсем близко и все же почти недосягаема. Лучшие времена этого города на песке, служившего некогда пиратским притоном, уже прошли.
По прямой до Сулины было всего несколько километров, но по запутанной сети проток добираться приходилось без малого полдня. Для многих рыбаков этот городок был краем света. Они не задерживались там дольше, чем нужно, да и вообще приезжали, только если надо в больницу или достать вещи, которых больше нигде не найти.
Старые рыбаки рассказывали о пароходах и четырехмачтовых парусниках из Севастополя, Стамбула, Кардиффа и Роттердама, что прежде заходили в устье Дуная и вставали на якорь у городских причалов. О русских крейсерах, греческих торговых судах, об английских фрегатах. О шлюхах из Брэилы и Галаца, даже из Бухареста, работавших тогда в борделях Сулины. Имелись дорогие дамы для морских офицеров, торговых представителей, чиновников Европейской дунайской комиссии и дешевые девки для пьяных английских и немецких моряков, портовых рабочих и тех маленьких людей, что жили на этом клочке земли, как в заключении. Город был окружен: с севера тростниковыми полями, а с юга — дюнами и болотами. Если кто-то хотел попасть в город или покинуть его, он либо прибывал с моря, отдав много денег за билет, либо — из Тулчи на почтовом судне, что ходило дважды в неделю. Зимой же в Сулину было никак не попасть по нескольку недель.
Когда-то в Сулине были приличные рестораны для капитанов, старших офицеров, консулов и торгпредов, для градоначальника, докторов, судьи, управляющего таможней, директора школы и начальника порта — с испанским вином и апельсинами из Малой Азии, с английским чаем и египетскими сигаретами. Были и винные бары для греков, англичан и немцев.
В середине тридцатых в Сулине еще оставались торгпредства и консульства, виллы с укромными террасами и дворец штаб-квартиры Европейской дунайской комиссии с теннисными кортами, домами для служащих, геометрически правильными садами и с ухоженными кустами. За зелеными оградами, обозначавшими государственную границу Румынии посреди города, все выглядело идеально, чисто и организованно. Однако все это было похоже на фрагмент уже прошедшей эпохи, словно время там остановилось.
Еще работали кабаки для носильщиков, крановщиков, матросов и юнг, для авантюристов, аферистов и прочих сомнительных типов. Еще стояла на старом месте кофейня для лоцманов, в любое время готовых к работе — проводить суда в порт. Но все остальное исчезло, город и порт утратили свою важность, иностранцев здесь оставалось все меньше.
Город состоял всего из трех-четырех улиц, параллельных реке, причем последняя, самая дальняя, служила бастионом от болот и комаров. Поэтому там и насыпали дюны. Почти все дома — за исключением тех, что на первой береговой линии, — были простые и скромные, многие — из неоштукатуренного красного кирпича, с тростниковыми крышами, встречались и мазанки из глины с соломой.
Мать загорелась увидеть Сулину и не отставала от Вани, пока он не согласился ее туда отвезти. Бабушка не возражала, лишь проворчала что-то нечленораздельное и повернулась в кровати на другой бок. Ваня всю дорогу жаловался. Мол, раз Елена хочет посмотреть город, значит, потом она захочет там жить. А если она туда переселится, то больше не захочет вернуться в сердце дельты и к Ване.
— Сегодня Сулина, завтра — Америка, — недовольно ворчал он, с трудом налегая на весла. — Но там людей вешают на деревьях и спиртное запретили. С чего ты вообще вздумала уехать из дельты?
— С того, Ваня, что я хочу посмотреть мир. Ты мне читал всякое из газет в хижине, вот я и стала любопытная. Аура рассказала мне, сколько всего интересного в мире.
Ваня тяжело дышал. В последнее время ему часто нездоровилось, он с трудом вставал на ноги и отлеживался с температурой в своем убежище.
В Сулине они проплыли мимо длинной цепи пригородных домов, солидной водонапорной башни из красного кирпича, мимо ржавых кораблей и барж и высадились на причале для почтового корабля, прямо у набережной. Площадь перед гостиницей «Интернациональ», кафе и прилегающие улицы пустовали, выглядели брошенными и осиротевшими — всех прогнал летний полуденный зной.
Мама отправилась на поиски молодой женщины, с которой она говорила в деревне. Ваня заговорил с несколькими рыбаками, которые тщетно ждали покупателей утреннего улова. Большое грузовое судно медленно прошло мимо. По запаху Ваня понял, что оно везет свиней. Корабль направлялся на запад, в другие порты, процветавшие в ущерб Сулине. В тот день в сулинском порту не ожидалось вообще ни одного судна.
Мама вернулась лишь через несколько часов, и оказалось, она успела не только увидеть море и маяк в нескольких сотнях метров от берега, но и найти жилье и работу. Ее новая подруга Аура, жившая в городе уже несколько лет, познакомила ее с парикмахером Ахиллом Петрашку. Наполовину румын, наполовину грек, он теперь был известен как ярчайший пример интернациональной атмосферы Сулины.
Парикмахер долго оглядывал Елену и отвернулся к клиенту. Когда девушки уже хотели отступить, он сказал:
— Я не могу себе позволить нанять кого-то ленивого.
— Она не ленивая, — вступилась Аура.
— Или кого-то с двумя левыми руками.
— Она не такая.
— Или кого-то, кто воняет рыбой, как она.
— Она помоется.
— А она сама говорить не может?
— Я помоюсь.
— Я не могу платить тебе много.
— Мне почти ничего не нужно.
Только тогда Ахилл расслабился и стал насвистывать себе под нос. Мама не была красавицей, но обладала некоторыми прелестями. Если ее помыть, привести в порядок и приодеть, она могла оказаться полезной для его салона. Парикмахерская, доставшаяся Ахиллу от француза, знавала лучшие времена. Денег у горожан становилось все меньше, и клиенты всё больше скупились. Пожалуй, можно будет повесить на улице плакат, что теперь им помоют голову нежные ручки.
— У меня бывают в лучшем случае один капитан корабля и три-четыре офицера в месяц. И чаще всего они хотят только побриться. В остальное время клиенты у меня вроде этого. — Ахилл кивнул на мужчину в кресле, и тот осклабился им в зеркале. — Они без работы, стригутся в кредит. Но сначала я их стригу, а уж потом весь день болтаюсь без дела. У меня ты научишься приличной профессии. Ко мне заходят и несколько клиенток, и если ты талантлива, то годика через два-три сможешь стричь сама. Ты уже нашла жилье?
Мама беспомощно посмотрела на Ауру:
— Да, нашла. Я знаю семью, которая сдает комнату.
— Как тебя звать?
— Елена.
— Вот как. Ахилл и Елена — это же прямо древнегреческая история. Если из тебя выйдет толк, то через пару лет я напишу на витрине большими буквами: «Ахилл и Елена. У нас вам не грозит трагедия».
Все рассмеялись, хотя никто, кроме парикмахера, шутки не понял.
Комнату мать нашла у одной семьи на окраине города, у самых дюн. Хозяин мялся, пока наконец не объяснил, чем зарабатывает на жизнь. За это его избегали, хотя он был в порту не последним человеком. Он занимался санитарной обработкой кораблей: поднимался на борт вместе с портовым врачом, и без их разрешения никто не мог покинуть судно. Сан-инспектор забирался в самые темные, самые грязные уголки камбуза и кают, спускался в трюм и в машинное отделение, а команда напряженно ждала его приговора. На палубу он возвращался весь в саже и вонял, как клоака. Он уничтожал крыс, тараканов и клопов. Особенно тщательно приходилось обследовать корабли, прибывшие из тех городов, где еще случалась чума. К нему относились со страхом и в то же время с брезгливостью. Однако хорошо платили только врачу, поэтому санинспектору приходилось сдавать комнату.
— Мы чистоплотные люди. Чистые и здоровые, — поспешила добавить его жена, показывая комнату.
Хозяева были разочарованы, услышав, как мало будет получать Елена. Но Аура и здесь подсказала выход:
— У тебя же есть Ваня, он тебя так любит. Пускай он привозит им по три ведра рыбы каждый месяц.
На том и порешили.
На обратном пути в Узлину маме пришлось утешать Ваню, который плакал как дитя: «Не плачь, Ваня! Я буду каждый месяц приезжать домой, и мы будем ходить на озера. Будем слушать осетров и смотреть на цапель. Будем читать газеты девятнадцатого года. Не плачь, в мыслях я всегда буду с тобой». Но Ваня был безутешен — даже он понимал, что на этом заканчивается часть жизни.
Он греб изо всех сил, чтобы вернуться домой до темноты, и тогда у него впервые отнялась левая рука. Он сильно потряс руку и быстро забыл об этом случае из-за своего великого горя. Но паралич вернулся.
Глава третья
Нью-Йорк постепенно пробуждался от похмелья новогодней ночи. Несколько буксиров, барж и пароходов уже плыли по Ист-Ривер. В очагах разгорался первый утренний огонь, и тонкие струйки дыма из труб поднимались в воздух, словно пар от дыхания домов. Время подходило к семи, стоял штиль.
В кабаках на Саут-стрит первые выпивохи уже с трудом держались на ногах. Переночевавшие на суше моряки пошатываясь проходили мимо молчаливой толпы, собравшейся у причала. Двое мужчин во фраках и соболях стояли в нерешительности.
— Смотреть на мертвых в первый день нового года — это к несчастью. К тому же район небезопасный. Давай поскорее уберемся отсюда, — сказал один и потянул другого за собой.
— Капитан, куда вы их везете? — поинтересовался второй.
— На остров Харт, — нехотя проворчал капитан, стоявший у релинга.
— Они умерли за эту ночь?
— За несколько дней.
— Но их не так уж много. А говорят, что в гетто высокая смертность.
— Сегодня мы забираем только детей. Если немного подождете, увидите, сколько их. Сейчас еще рановато.
Жители гетто, собравшиеся первого января у причала, прощались со своими детьми. Некоторые пригласили священника или раввина, но большинство семей стояли молча вокруг маленьких, простых гробиков. Слез и причитаний было немного, ведь дети пока оставались с родителями. Плотины еще не прорвало. Команда ждала новых поступлений, они знали, что пароход будет загружен полностью.
Гробы, выставленные на пирс ночью, уже погрузили на борт. Их приходилось выкапывать из снега. Времени оставалось немного — по расписанию вскоре ожидалось судно с Кубы, груженное кофе и строевым лесом, а потом — пароход из Ирландии с овцами, коровами и солониной.
Мой дед только что подошел и остановился в сторонке, никем не замеченный. Он часто наблюдал отсюда за капитаном и его командой. На Спичке были сапоги и пальто паренька, которого он нашел замерзшим под эстакадой надземки. Безжизненное тело было покрыто снегом, так что дед чуть не споткнулся об него.
Он сразу понял, что уже ничем не поможет бедняге. Стряхнул снег с бледного, закоченевшего лица и перекрестился — он часто видел, как это делают другие. Затем посмотрел по сторонам — не придется ли защищать свою добычу. Но этим морозным январским утром на улице никого больше не было. Пальто и хорошая обувь достались ему. Иногда такие случаи решали твою судьбу — выживешь или отправишься на остров Харт. Дед не хотел быть следующим, с кого стянут сапоги.
Рядом с трупом он нашел пивную кружку, которая рассказала ему всю историю умершего. Частенько родители, желавшие выпить, посылали детей за пивом, а на обратном пути те отпивали по глотку, пока кружка не пустела. Что случалось потом, дед видел своими глазами.
Начался новый день, и снова надо было зарабатывать деньги. Мотня по приказу Падди спозаранку отправил мальчишек на улицу, и до вечера каждому приходилось самому думать, где укрыться от стужи. Дед бродил по району, чтобы согреться, а потом ноги понесли его привычной дорогой к порту. Иногда он помогал там разгружать корабли и баржи, таскал мешки с картошкой и бочки с селедкой на склады или грузил на телеги.
На пристани собрались мужчины и женщины разного возраста, дети смотрели на немую скорбь взрослых. Перед каждой группкой людей стоял гроб. Живые принадлежали мертвым, и наоборот. Все они были одной семьей. Когда-нибудь в гробу будут лежать другие их дети, когда-нибудь — они сами. Гробики были совсем маленькие, а тела такие легкие, что их мог нести один человек.
В воздухе стояла дымка, бруклинский берег с доками, заводами и складами едва виднелся, словно через плотный занавес. Иногда из тумана выплывали катера с дымящими трубами и снова растворялись. Густой воздух приглушал все звуки: пронзительные гудки корабельных сирен, крики птиц, грохот повозок по плохо мощенной набережной.
Капитан с возрастающим нетерпением наблюдал за перекрестками ближайших улиц. Он знал, что наплыв мертвых еще не начался и что уже прибывшие не могли быть всей добычей за последние дни. На мертвецов из гетто всегда можно было положиться. И капитан не ошибся. Словно по команде, поток мертвых хлынул к пирсу с прилегающих улиц, сначала осторожно — два-три гроба с провожающими, потом сразу около сорока. Как будто где-то открыли шлюз.
Их везли на телегах и тачках или тащили по снегу. Некоторые мужчины несли гробики под мышкой. Гробы евреев были некрашеные, из грубо отесанных досок, остальные — белые. Только этим еврейская смерть отличалась от других. Кому не хватило денег даже на дешевый гроб, использовали ящики от апельсинов или просто заворачивали труп в покрывало.
Дав людям несколько минут на прощание, команда начала грузить гробы на борт. Вскоре с этим было покончено, и паровые машины уже набирали обороты, как вдруг на углу Черри-стрит появилось странное существо, которое отчаянно жестикулировало.
Низкорослый человечек на коротких кривых ножках изо всех сил бежал к пирсу, размахивая такими же короткими толстыми ручонками. Добежав, он так запыхался, что не сразу смог говорить. Его появление на несколько секунд отвлекло людей от горя. На карлике была синяя форма с золотыми пуговицами, в одной руке он держал цилиндр, а в другой — роскошную трость с круглым набалдашником.
Дед узнал карлика. Он работал в «Музее Хубера» на Юнион-сквер, выступал в программе как «самый маленький человек в мире». Нередко они выступали вместе с женой, у них был хороший, добротный, но не блестящий номер. На афише у входа в «Музей» ее имя было написано в нижней части, шрифтом среднего размера.
Мегаполис предлагал жителям богатый ассортимент аномалий: русалки, люди с волосатыми лицами, сиамские близнецы. Их показывали в дешевых театрах Манхэттена. Они были отрадой для усталой, жаждущей развлечений публики этих театров. Зрители хотели видеть тех, кому приходится еще хуже. У лилипута было много конкурентов.
— Моя жена! — чуть отдышавшись, сказал самый маленький человек в мире.
— Что с ней? — спросил капитан.
— Она тоже поедет.
Люди на пирсе смотрели на него во все глаза. Никто не заметил, как к ним приблизилась небольшая процессия. Маленькую женщину положили в ее же сундук для реквизита, на котором было написано, за кого она себя выдавала: «Прекраснейшая карлица с Фиджи». Многие зарабатывали тем, что были самыми высокими, толстыми, уродливыми в каких-нибудь краях. Это их кормило, приносило известность и награждало аплодисментами. Варьете принимало всех, как добрая мать, не обделяло никого из своих детей. В итоге оно же приносило их к реке в ящике для реквизита.
Гроб сопровождали горбатые, однорукие, с татуированными лицами и люди неприметные: гуттаперчевые, заклинатели змей, глотатели шпаг, возможно, фокусники. Нес гроб огромный мужчина, который мог сойти за первого силача Кони-Айленда. Толпа молча расступилась, пропуская процессию.
Силач наклонился, и карлик постучал тростью по крышке сундука, будто хотел показать трюк — воскресить жену из мертвых, а окружающие затаили дыхание. Двое матросов приняли ящик и водрузили его на вершину пирамиды из гробов.
Капитан отдавал приказы команде, он потерял не меньше четверти часа. Могильщики в такую погоду долго ждать не будут. Если они уйдут, то у него останется полный корабль мертвецов, которых некуда девать. Завтра земля, наверное, уже так промерзнет, что никого не закопаешь.
Как только пароход отдал швартовы и отошел от причала, послышался поначалу тихий, но все нарастающий плач. Из дюжин глоток раздалось причитание на ирландском, итальянском, идише, оно пеленой раскинулось во все стороны и накрыло людей, лодки, реку и сушу. Пока пароход шел к фарватеру поперек реки, гробы было хорошо видно. Затем корабль повернул к северу, его груз слился в единое белое пятно и наконец исчез в тумане.
В то же мгновение жизнь вокруг взорвалась. Город стал шумным и суетливым. Рабочие чуть позже обычного разошлись по заводам, бойням, пивоварням и верфям на берегу реки. Открылись магазины, начали разгружать товары, лошади скользили по ледяной корке и опрокидывали повозки с грузом. Ист-Ривер устал терпеть человека и снова стал своенравным, бурным потоком, которого все боялись.
Дед знал, что скорбящие родители — лучшие клиенты маленького попрошайки, и протянул руку. Он не прогадал и на этот раз. Когда он пересчитывал собранные монеты, извозчик, на которого дед часто работал, крикнул ему:
— Ты что здесь делаешь?
— Деньги зарабатываю.
— Тогда отправляйся на Гудзон. Через час пристанет «Патриа». Там еще больше заработаешь.
Само собой, подумал дед. Он просто подкараулит пассажиров первого класса, когда те будут сходить на берег. Эти всегда подавали, ведь они были счастливы, что путешествие осталось позади и у них под ногами твердая земля. Они прибыли в город — второй пуп земли после Лондона. Другие пассажиры — больные, измученные эмигранты — его не интересовали. Им дадут сигарету, сэндвич, конфету и отвезут на остров Эллис. Если повезет, разрешат остаться. Если нет, то через несколько дней отправят обратно.
С одной стороны Манхэттена, с реки Гудзон, в Нью-Йорк прибывали живые; с другой — с берега Ист-Ривер, город покидали мертвые. Мертвые и живые никогда не видели друг друга. Они ничего не знали друг о друге, никогда не встречались, но вместе питали вечный круговорот жизни. Нью-Йорк принимал людей на западе и выбрасывал их на востоке. В промежутке он немногим дарил хорошую, сытную, уютную жизнь, а остальных выжимал, как лимоны.
Дед отправился в путь. Теперь у него была цель.
С крыши доходного дома на Орчард-стрит дед видел как на ладони всю свою территорию и гораздо дальше. От такого простора можно и опьянеть. Надо было только подняться на несколько этажей, пройти по узким скользким лестницам и темным коридорам, перешагнуть через несколько спящих забулдыг, подышать тухлым, спертым воздухом, но зато наверху перед тобой открывались небеса. Небеса, в которые люди не очень-то верили и о которых забывали, передвигаясь по улицам и дворам-колодцам Ист-Сайда. И вдруг ты оказывался наверху и терял дар речи, даже если ты такой немытый, одичавший, не привыкший много говорить мальчик, каким был мой дед.
Он забрался сюда, потому что Мотня посоветовал ему спрятать деньги в этом доме. Дед не доверял Мотне, но еще меньше он доверял улицам гетто. Ему нужен был более-менее надежный тайник, и он нашел такой за брошенной голубятней, где один из кирпичей можно было вытащить — но не слишком легко.
Ошеломленный видом, дед стоял на краю крыши, широко расставив ноги и сунув руки в карманы раздобытого пальто.
На востоке частая сетка зданий становилась все плотнее, а во дворах некоторых кварталов теснились убогие домишки, в которые едва проникал солнечный свет. Их построили в спешке, чтобы где-то разместить наводнивших город эмигрантов. Там и сям великанами среди карликов высились одинокие семи-, восьмиэтажные кирпичные дома. Ближе к Ист-Ривер жилые кварталы сменялись мебельными фабриками, а за ними располагались верфи, но от них дед видел только верхушки мачт.
К северу простиралось целое море домов, там здания были выше и новее. Виднелся даже Томпкинс-сквер-парк, единственное незастроенное место на востоке города. У реки располагались бойни, пивоварни и дровяные склады. На южном конце Манхэттена было видно купол ратуши и несколько церковных колоколен. А вокруг них на руинах пресловутых Пяти углов рос новый административный район, очищенный от пороков и грязи прошлых десятилетий.
На западе находились салоны, рестораны, театры и пивные залы Бауэри. Некоторые из них были такие большие, что могли вместить несколько тысяч человек. За ними угадывался Бродвей, самая широкая улица города, вечная соперница Бауэри, именно на Бродвее стояли лучшие магазины и лучшие театры.
Дед так увлекся зрелищем, что поначалу вовсе не услышал тихий женский голос. Но потом очнулся и обернулся. Он прежде видел палатки только в Бэттери-парке, когда набирали рекрутов в армию. Да еще в коротеньких фильмах о поселенцах на западе, которые показывали в театрах-варьете. Но он еще никогда не видел палатку на крыше дома посреди Манхэттена. Перед палаткой сидела в шезлонге исхудавшая, обессиленная женщина, укутанная в несколько слоев одежды. Она внимательно смотрела на деда.
— Любуешься видом? — спросила женщина. — Или ты просто воришка и прячешь здесь свою добычу? — Мальчик упорно молчал. — Ты что, язык проглотил?
— Я не вор! — вырвалось у него. — Я честно заработал. Ваше счастье, что вы — леди, а не то…
Она рассмеялась, но тут же сильно закашлялась.
— Я уж точно не леди. Стало быть, ты хотел спрятать деньги.
— Мне сказали, что здесь не живут дети, только слабые старики, которые никогда не забираются на крышу.
— Как видишь, в этом есть доля правды. Я не старая, но слабая. А что, если бы я разорила твой тайник?
Ответ был прост и ясен:
— Тогда я вас убил бы!
Женщина внимательно смотрела на него, словно проверяя, так ли он крут на самом деле или только притворяется. Она постоянно кашляла, все ее тощее тело сотрясалось, и на снег капала тягучая мокрота. Слишком много таких людей повидал дед — таких же бледных и похожих на собственную тень, — чтобы не понять, чем она больна.
— Ты сегодня уже ел? — спросила женщина.
— Сегодня нет, зато вчера — дважды.
— Тогда пойдем-ка.
Чахоточная с трудом поднялась и с таким же трудом прошла по крыше, затем они спустились на пятый этаж. С каждой ступенькой становилось все темнее, пока не остался лишь слабый отблеск света сверху, а внизу — полный мрак. Женщину впереди было почти не видно. Дед ориентировался только по ее тяжелой поступи и кашлю. А потом случилось несколько вещей, благодаря которым тот день стал одним из самых ярких в тогда еще короткой жизни моего дедушки.
На каждом этаже располагалось по четыре квартиры. Женщина открыла дверь справа, зашла в квартиру, не оглядываясь, и зажгла керосинку. На полу в коридоре появилось пятно света. Женщина позвала мальчика, и только тогда он переступил порог. Вся квартира, насколько он видел, пустовала, обстановка состояла лишь из широкой кровати, шкафа и стола со стульями. Деду это показалось чудом, ведь он никогда прежде не видел столько свободного места.
Дед ожидал увидеть в этой квартире человек десять — пятнадцать, живущих и работающих в жуткой тесноте; думал, что здесь крутят папиросы, шьют штаны или изготавливают искусственные цветы для шляпок дам из северных кварталов. Но он мог бы догадаться: из квартиры не доносилось ни тарахтения швейных машинок, ни запаха табака.
— Я могу себе это позволить, — сказала хозяйка квартиры, как будто прочитав мысли мальчишки. — С меня хватило жизни в загаженном подвале. Имя у тебя есть, мальчик?
— Зовите просто мальчиком.
— Откуда ты?
Женщина снова ужасно закашлялась.
— С Луны, — дерзко ответил он.
— Ладно, с Луны так с Луны. Буду с тобой откровенна. Врачи дают мне месяца два, самое большее — полгода. Единственное, что мне еще помогает, говорят они, это свежий холодный воздух. Вот я и сижу там наверху круглыми сутками, в любую погоду. На крышу я пока могу подняться, но не спуститься на улицу с пятого этажа. И мои девочки тоже не могут. У меня тут хорошо налажен бизнес, но нам нужен помощник.
— Где же ваши девочки? — спросил дед и озадаченно огляделся.
— Они не здесь, а в соседней квартире. В общем, никто из нас не может спуститься — лестница слишком крутая и скользкая. А нам ведь нужны продукты, одежда, всякие мелочи. Мои девочки много едят, метут все подряд. Еще нам нужно стирать белье, мы же все-таки женщины. А колонка во дворе. Нам нужен керосин для ламп, иногда газета. Надо выносить мусор, приносить дрова и уголь. Короче говоря, нам нужен шустрый парень вроде тебя. Ты здоров?
— Я часто голоден, но здоров, — испуганно сказал дед.
Он все еще не понимал, что за бизнес она имеет в виду.
— У меня в доме ни крошки. Вот тебе полдоллара. Купишь на них свиных ног, картошки, квашеной капусты, макарон и джина на девять человек.
— Сколько же у вас девочек?
— Когда пять, когда десять. Иногда и больше. Сейчас только ирландки и итальянки. Они не привередливы. С еврейками сложнее, они едят только кошерную пищу.
— И все они болеют тем же, чем и вы?
Хозяйка вытаращила глаза и рассмеялась:
— Нет, они болеют не тем же, они болеют другим. Их болезнь проходит через девять месяцев. Пойдем, я тебя познакомлю с ними. Но мне нельзя к ним через порог, чтобы не заразить. Кстати, ты можешь называть меня «мэм».
Восемь молодых беременных женщин умолкли, когда мэм отошла в сторону и подтолкнула мальчика в их квартиру. Восемь круглых и угловатых животов словно уставились на него. Ему казалось, что эти животы заполнят всю комнату и раздавят его, если он сделает еще шаг вперед. Он испугался.
Беременных он повидал сколько угодно — итальянок, евреек, ирландок, черных. В гетто их было полно, многие беременели уже в четырнадцать-пятнадцать лет. Но восемь беременных сразу — об этом зрелище надо было обязательно рассказать мальчишкам в угольном подвале.
Три или четыре беременных стояли в нижнем белье и, дрожа от холода, мылись над жестяным корытом. Он увидел не только щиколотки, но и икры, голые руки, шеи, почти всё. Он видел их кожу и бедра так ясно, что у него закружилась голова. Сквозь приоткрытый халат он заметил сжатые худые ляжки той, что сидела в кресле-качалке, а у той, что завернулась в одеяло, когда он вошел, — были толстые. Он глазел на безупречные плечи, на которые ниспадали рыжие, светлые и темные волосы. Он увидел даже подмышки с кустиками кудрявых волос.
Лишь увидев все это, но еще не осознав, он посмотрел на их лица. Заметив его удивление и смущение, девушки расхохотались и никак не могли остановиться. Все без исключения были молоды, едва ли старше двадцати. «А он хорошенький, мэм. Жаль, что еще слишком юный», — сказала одна.
Дед заметил, что не все девушки так веселы. Одна лежала в постели бледная, со впалыми глазами. Другая смотрела в окно отсутствующим взглядом, у нее под глазами были большие темные мешки от слез. А третья была так слаба, что едва подняла голову с матраса на полу, чтобы посмотреть на него.
— А ты только глазеть умеешь или еще что-нибудь? — спросила низенькая коренастая девка.
— Я продаю газеты.
— Это каждый может.
— Мигом начищаю сапоги до блеска.
— Тоже ничего особенного.
— Я умею петь!
Все согласились, что это чудесно, и заставили его тут же, прямо сейчас что-нибудь исполнить. Они провели его в комнату, показали, где ему встать, и расселись по местам в предвкушении. Но деда пришлось долго уговаривать, ведь он еще никогда не пел перед таким количеством женщин. Для них же это было прекрасным развлечением, в холодном, тесном помещении, где они оказались в заточении. Беременные все время рассказывали друг дружке о своей жизни, пока не стало нечего больше рассказывать. В конце концов дед снял шапку, встал в позу и запел:
I have come to say goodbye, Dolly Gray It’s no use to ask me why, Dolly Gray There’s a murmur in the air, you can hear it every where It is the time to do and dare, Dolly Gray Don’t you hear the tramp of feet, Dolly Gray Sounding through the village street, Dolly Gray ‹Tis the tramp of soldier› true in their uniforms so blue I must say goodbye to you, Dolly Gray … Hear the rolling of the drums, Dolly Gray Back from war the regiment comes, Dolly Gray On your lovely face so fair, I can see a look of fear For your soldier boy’s not there, Dolly Gray For the one you love so well, Dolly Gray In the midst of battle fell, Dolly Gray With his face toward the foe, as he died he murmured low «I must say goodbye and go, Dolly Gray»{4}Он замолчал, уверенный, что этой краткой пробы его голоса вполне достаточно, и оглянулся. Но по лицам девушек понял, что ошибается. Так быстро они не отстанут от него и его голоса, который привел их в такое состояние, в каком они уже давно не бывали. Через мгновение они все хором стали бурно уговаривать его спеть еще. Дед собрался с духом, несколько раз откашлялся и затянул следующую песню:
O Father dear, I often hear you speak of Erin’s Isle Her lofty scenes, her valleys green, her mountains rude and wild They say it is a lovely land where a saint might dwell Oh why did you abandon it? The reason to me tell. O son, I loved my native land with energy and pride Til a blight came over my crops, my sheep and cattle died My rent and taxes were too high, I could not them redeem And that’s the cruel reason that I left old Skibbereen. O well do I remember the bleak December day The landlord and the sheriff came to drive us all away They set my roof on fire with cursed English spleen And that’s another reason that I left old Skibbereen…{5}Певцу приходилось то и дело останавливаться, потому что некоторые слушательницы тихонько плакали, а то и рыдали в голос, и он не знал, что ему делать. Однако ему никто ничего не говорил. Наоборот, девушки ободряли его взглядами, чтобы он ни в коем случае не прекращал петь. Дед временами косился на мэм, стоявшую у двери, но и она мечтательно смотрела в невидимый для него мир. Одна из беременных спросила:
— А ты знаешь какие-нибудь песни о любви? — и погладила его по голове.
— Конечно, знаю! Например «Дейзи Белл». Ее все знают. Если хотите, можете подпевать.
There is a flower Within my heart, Daisy, Daisy! Planted one day By a glancing dart, Planted by Daisy Bell! Whether she loves me Or loves me not, Sometimes it’s hard to tell; Yet I am longing to share the lot — Of beautiful Daisy Bell!{6}Теперь зазвучали и голоса девушек — поначалу робко, затем увереннее и веселее, — и все вместе они спели припев:
Daisy, Daisy, Give me your answer do! I’m half crazy, All for the love of you! It won’t be a stylish marriage, I can’t afford a carriage But you’ll look sweet upon the seat Of a bicycle made for two.{7}Дед уже хотел запеть новую мелодию, как вдруг его перебил истошный крик женщины, словно она сошла с ума. Пока за ним не захлопнулась дверь, он видел, как другие беременные пытались удержать кричавшую.
Мэм отвела его в сторонку: «Скорей беги на Эссекс-стрит, девяносто, найди доктора Уилла Мэлоя и скажи, что началось. Пусть поторопится. Рядом найдешь лавку, где продают и уголь. Купи из тех денег, что я тебе дала, столько, сколько сможешь донести. Нам нужно нагреть много воды. Ступай!»
Но у деда были другие планы. Эта беременная и ее схватки его не касались. Мир, за порогом которого он стоял, был не его миром. Мэм сама виновата, что дала столько денег такому, как он. Тем более она смертельно больна. Он повидал многих, кто умер от чахотки, и не хотел стать следующим. Пусть мертвецкий корабль подождет еще немного.
Дед опять поднялся на крышу, чтобы положить еще полдоллара в тайник к остальным монеткам в мешочке. Щель за голубятней была такая узкая — не шире ладони, — что мэм точно не смогла бы добраться до его денег. Даже если вообще когда-нибудь выбралась бы на крышу.
В нем поднималось смутное теплое чувство. Дед ощущал себя магом. Он поднялся на парапет, расставил ноги, поднял руки, и из его горла вырвалось только одно-единственное слово. Его голос полетел над крышами и по улицам гетто, проникая в квартиры портных и табачников, в лавки сапожников и пекарей, в притоны и бордели на Аллен-стрит. Эхо донеслось до Бауэри, и его заглушил грохот надземки. «Гудини!»
— Берль, расскажи-ка мне о своей жизни! — попросил дед.
— Да я уже сто раз рассказывал. Тем более я не такой мастак рассказывать, как Одноглаз, — прошептал Берль.
— Ну и что? Расскажи. На кровати слишком мягко, я не могу уснуть.
— Назад в подвал мне сегодня все равно не хочется.
Они получили спальные места в приюте для продавцов газет на Дуэйн-стрит. Дед заплатил за них обоих, ему нравился Берль — единственный из мальчишек, на кого можно было положиться. Им выдали по куску мыла и полотенцу, и они умылись, помыли подмышки и ноги. Потом дед заплатил еще, и они даже прилично поужинали.
Январь был месяц неурожайный. Ни войн, ни катастроф, только убийство на Чатем-сквер, в котором подозревали банду Монаха-Истмена. Одноглаз как сквозь землю провалился. Кому было интересно, узнал, что он получил письмо от отца и отправился к нему на запад. Впервые за долгое время он вылез из угольного подвала. Иные считали, что Падди и впрямь вылез из подвала, но только затем, чтобы пойти в Миссию на Пяти углах, откуда детей регулярно отправляли к приемным родителям на Средний Запад.
Его долго изучали и сочли непригодным для усыновления: слишком взрослый, слишком грубый, слишком опытный. Но смекалистый Падди пошел другим путем. Он притворился набожным, упал на колени, наизусть цитировал Библию, обхватил ноги чиновника и умолял, пока тот не сдался. В конце концов его зачислили в группу с семи-, восьмилетками и посадили на поезд до Канзас-Сити в сопровождении воспитателя.
Якобы на каждом вокзале по дороге дети выстраивались в шеренгу и пели церковные песни. И в каждом городе пары забирали приглянувшихся детей. С каждым разом группа уменьшалась, пока наконец не остался один Падди. Его никто не хотел брать. В Канзас-Сити он сошел с поезда, и его след затерялся. Кое-кто поговаривал, что он остался под землей, но теперь уже навсегда.
Как бы то ни было, дед и Берль потеряли работодателя. Дед помогал разгружать корабли на Саут-стрит, а на берегу Гудзона раздавал визитки и проспекты гостиниц и пансионов, когда причаливали пароходы из Европы. Он чистил сапоги состоятельным джентльменам, ожидавшим на Юнион-сквер, пока их супруги или любовницы вернутся с покупками из магазинов одежды. Чистил он и обувь актерам театров, расположенных в этом районе. Так что дед почти всегда мог заработать за день на койку и полную тарелку себе, а иногда и Берлю.
Они сдвинули свои койки и лежали, прижавшись друг к другу, как привыкли в угольном подвале.
— Что было первое, что ты можешь вспомнить, Берль?
— Помню, как мама лизала мои воспаленные глаза. Они опухли и слиплись. Она боялась, что я ослепну.
— Она правда так делала? А что второе?
— Лиско, в Галиции.
— Га-ли-ция, — прошептал мой дед и причмокнул, как будто только что попробовал изысканное блюдо.
— Мы жили всего в нескольких километрах от этого города. А, ну еще Карпаты тоже помню. Это горы неподалеку от Лиско. Ты когда-нибудь видел гору?
— Еще нет. Мотня как-то говорил, что раньше на Манхэттене вроде были холмы, реки и озера, а вокруг — густые леса. Он знал одного индейского мальчишку, чей дед рассказывал такое. Но о горах он никогда не говорил. Ты можешь себе представить здесь, у нас, такие огромные леса, что в них можно заблудиться? Я нет.
— И я нет, — ответил Берль. — Но так же было в окрестностях Лиско. Я помню, говорили, что за несколько лет до моего рождения весь город сгорел, потому что все дома были деревянные. И наш дом тоже был из дерева и стоял на дороге, которая вела из Лиско в Карпаты. В одной комнате жили мы, а в другой отец на зиму запирал овец, чтобы они не замерзли. Я помню их запах.
— Ты помнишь, как они пахли?
— Я много чего помню. У нас был шинок прямо рядом с домом. Вся округа ходила к нам выпить. Зимой мужики сидели там в тесноте, играли в карты, курили и пили. Летом окна и двери отворяли настежь, и я даже в постели слышал, как гости смеются и поют. Дед разливал картофельную водку и венгерское вино. У нас и вишняк был. На Рош а-Шана он подавал его вместе с медовым пирогом. Помню, что над прилавком висели кошерные колбасы.
— Теперь и я чувствую их запах… Расскажи еще!
— Однажды в шинок зашел мужчина в роскошном костюме. Он сел у стойки, выпил что-то и достал из кармана золотую монету. И сказал, что в Америке такие валяются на каждом углу. Он показал всем фотографию статуи, говорил, это статуя Свободы. Сказал, что Америка для евреев лучшая страна в мире, потому что там нет бедности и страха. Он призывал не валять дурака и не оставаться до конца дней в Богом забытой долине. Люди ему не поверили, тогда он стал читать вслух из двух писем, от людей, которые благодарили его за то, что он надоумил их уехать. Он пустил по кругу конверты с заграничными марками и штампами. И фотокарточки, на которых люди чокались в пивной или красовались пригородные домики с палисадниками. Казалось, все чин чином, и в конце концов люди ему поверили. Кто хочет в Америку, должен купить билеты в морском агентстве в Лиско, сказал он.
— И тогда твой отец поехал в это агентство?
— Не сразу. Сначала газеты начали писать плохие вещи о евреях. Потом один священник сказал, что евреи травят христиан спиртным, и устроил шествие с крестами и иконами. Перед нашим шинком они установили крест и побили все окна. Вот тогда отец понял, что нам пора в Америку. — Берль помолчал. — Из Лиско он вернулся с билетами до Освенцима, потому что денег на всю дорогу не хватило. Он продал три козы и корову и опять поехал в город, но и на этот раз денег хватило только на три билета до Гамбурга. Постепенно отец продал все: дом, землю, шинок, лошадь, телегу, вторую пару ботинок, свой парадный костюм. Так он по кусочкам собрал наше путешествие в Америку.
— Можешь дальше не рассказывать. У меня уже глаза слипаются.
— Что? Ты не хочешь слушать дальше? Не хочешь узнать, как мы приехали в Освенцим, а билеты оказались недействительны?
— Потом.
— Как в нью-йоркском порту чиновник из миграционной службы нарисовал отцу на пальто мелом букву «H» и ему не хватило смелости вывернуть пальто наизнанку? Что они решили, что у него больное сердце, и отправили обратно? Что мы с мамой его больше никогда не видели?
— Об этом лучше расскажешь завтра. А вот скажи-ка: что бы ты сделал, если бы у тебя была такая куча денег, как у Вандербильтов или Асторов?
— У меня? Куча денег? — испуганно переспросил Берль и задумался. — Я бы поехал в Лиско и выкупил бы обратно все, что продал отец. А ты?
— А я вообще не хочу столько денег. Я только хочу стать великим певцом.
Прошло несколько минут, и весь зал ночлежки уже спал. Сотня мальчишек лежала под теплыми одеялами и была в безопасности на эту ночь. На несколько часов они были вдали от всего, что угрожало их жизни и здоровью. Тогда дед не мог знать, что он видит Берля живым в последний раз.
И все-таки он никак не мог уснуть, его спина не привыкла к такому удобству. Он пытался представить себе этот грязный, вонючий, шумный город, где они живут, необитаемым островом. Где деревья стоят так же тесно, как теперь кирпичные дома в гетто. Дед еще никогда не видел много зелени, до Центрального парка он не добирался. В порту, где он крутился большую часть времени, в небо высились только мачты кораблей.
Он не мог вообразить на Манхэттене волков и медведей, и озера с чистой питьевой водой. И топи на месте гетто, которые все время заливал Ист-Ривер. И тра́вы по колено, щекотавшие ноги. На месте площади Лонгэйкр, которую потом переименовали в Таймс-сквер, когда-то сливались три ручья. Наверное, тогда было много места, и он старался представить себе все это пространство. В мыслях он ложился на траву, но понятия не имел, что при этом чувствуешь.
Труднее всего ему было представить тишину — тот покой, который царил, когда еще не было ничего из того, что теперь составляло его жизнь, и только ветер шевелил листья на деревьях. Когда не существовало и магазина фотографий Чарльза Айзенманна на Бауэри, где дед прижимался носом к витринам, разглядывая изображения альбиноски Эммы Норрис, силача Питера Самсона, сиамских близняшек Милли и Кристины, братьев Робинсон ростом по семь с половиной футов, женщины с питоном на плечах и мужчины с полностью волосатым лицом.
Фотографии Айзенманна когда-то пробудили в нем охоту тоже принадлежать к миру театральных подмостков и бурных аплодисментов. Было бы жаль, если бы Бауэри или Юнион-сквер остались бы всего лишь кучей деревьев. С такими мыслями он наконец уснул.
Юнион-сквер была для деда особым местом. Она как нельзя лучше подходила для того, чтобы чистить обувь. Нескончаемая вереница кебов, трамваев, надземных поездов выплевывала людей на площадь каждую минуту. Мужчины шли от Бродвея к Мэдисон-сквер, чтобы купить женам модные обновки. Другие мужчины — а частенько и те же самые — проходили в другую сторону, чтобы повеселиться на Бауэри с женщинами, которые не были их женами.
Хотя к 1899 году расцвет Юнион-сквер был уже позади, вокруг все еще хватало театров, ресторанов и магазинов, чтобы обеспечить усердному чистильщику работы в избытке. Там был ресторан «Люхов», куда деда часто приглашали почистить обувь посетителям. Там был Театр Тони Пастора на Четырнадцатой улице, где показывали отменные водевили по один или два доллара со зрителя.
Дед читал имена знаменитостей на афишных тумбах перед входом в театр. Он даже видел, как заходят и выходят звезды. Один или два раза он видел Лотти Джилсон, которую называли «маленьким магнитом», ее песни он при случае тоже пел. И Лотти Коллинс, которую дети в приюте хотели назначить его матерью. Лишь однажды дед отважился зайти в вестибюль театра после представления и встал в очередь ожидающих людей. Ведь владелец театра славился своей щедростью.
Тони Пастор одевался как директор цирка и раздавал публике швейные машинки, мешки угля, посуду, шелковые платья и дамские шляпки. Дед отхватил бутылку макассарского масла и долго считался самым ухоженным чистильщиком обуви на Юнион-сквер, потому что намазывал волосы, как звезда.
Дед стоял на сцене лишь однажды. В Майнерс Бауэри-театре был вечер любительских выступлений, и дед назвался Маленьким Карузо, ведь он слышал, что в Европе певец по имени Карузо заставлял таять женские сердца. Но в Майнерс-театре ему сразу же выпала плохая карта — в зале сидели только мужчины. Его вывели на сцену около полуночи, но едва он спел полторы песни, его не захотели больше слушать. Он стоял растерянный, сжав кулаки, а в зале свистели все громче.
Деда недаром прозвали Спичкой: он присмотрел в первом ряду мужика, свистевшего особенно рьяно, и набросился на него. Лишь когда деда изо всех сил отдернул Берль, который пришел с ним за компанию, он отпустил жертву. Мальчишек, конечно, вышвырнули вон — публике разрешалось нападать на артиста, но не наоборот. По дороге в угольный подвал Берль сказал: «Тебе нужен хороший костюм. Пока ты выступаешь в таких лохмотьях, тебя никто не будет уважать. Надо выглядеть респектабельно. Рес-пек-та-бель-но», — повторил он где-то услышанное словечко.
Там же на Юнион-сквер находился и «Музей Хубера». Главным его отличием от других варьете был Профессор Хатчинсон. Он мог бы и сам выступать с номером — таких древних стариков дед еще не видывал. Хатчинсон служил церемониймейстером и перед каждым представлением величественно входил в зал.
Он садился в первом ряду, и каждый раз как будто случайно на его жилете отрывались две пуговицы и вываливался огромный живот. И так же «случайно» какой-нибудь ребенок из зала спрашивал, почему у него такой большой живот. «Потому что я съедаю плохих артистов, — отвечал он. — Они все сидят у меня в животе и урчат. Но не бойтесь: те, кого вы сейчас увидите, — это самые сливки».
Для каждого карлика, дикаря, укротителя и чревовещателя Профессор находил доброе слово, нередко даже два или три. Несколько лет назад он представлял Маленькую Египтянку, впервые в Америке исполнявшую танец живота, — и Фредерика Кука, о котором даже дед выкрикивал: «Кук вернулся из Арктики! Он привез эскимосов!» Но для того чтобы выступить перед Профессором Хатчинсоном, деду действительно был нужен костюм.
В один погожий февральский день 1899 года из «Музея Хубера» вышел низкорослый человек, которого дед видел на пристани двумя месяцами раньше, он перешел улицу и подозвал деда, чтобы тот почистил ему ботинки. Артист был в одной рубашке, дед тоже снял пальто. Люди радовались лучам солнца, не догадываясь, что ледяной шторм уже подбирается к Нью-Йорку и всего через неделю накроет город толстым слоем снега и погубит десятки людей. Что он парализует жизнь мегаполиса на несколько недель.
— Я вас знаю, сэр.
— Часто ходишь в варьете?
— Да почти все, кого я знаю, ходят. Я видел, как вы принесли вашу мертвую жену на корабль. Раньше я видел вашу жену на сцене и думал: вот самая красивая маленькая женщина из тех, что я знаю. Готово, сэр, два пенни.
— А ты недешево берешь.
— Жизнь тоже недешевая, сэр. Но с вас достаточно и одного пенни.
— Вот тебе два, за то что ты считал мою жену самой красивой карлицей. На самом деле она была совсем не красавицей. Потому ее номер и продержался двадцать лет. Она была такой уродливой, что волей-неволей приходилось задумываться, не поэтому ли она так красива. Знаешь, важно не то, кто ты есть, а только то, за кого ты себя выдаешь. Если ты сам искренне веришь в это, то и другие скоро поверят.
— Сэр, я не просто выдаю себя за хорошего певца. Я и правда хорошо пою. Женщины плачут, когда меня слушают. Вы бы не потратили время зря, если бы представили меня Профессору Хатчинсону.
Карлик посмотрел на него испытующе.
— Хорошо, я представлю тебя Профессору, но для этого тебе нужен хороший костюм. Если он тебя возьмет, я буду полгода получать половину твоего гонорара.
Деду казалось, что наконец все налаживается. Он встретится с Профессором Хатчинсоном, и начнется его карьера. Дед даже знал, где взять костюм напрокат, — в магазине «Мисфит — костюмы, которые хорошо сидят» на Деланси-стрит, по соседству с табачной лавкой, перед которой стоит деревянная фигура индейца. Только фотографии Айзенманна привлекали больше мальчишек, чем этот индеец. Толстый, приземистый хозяин магазина встретил деда с подозрением:
— Ты собрался здесь что-то украсть?
— Да что вы, сэр. Мне нужен костюм.
— Костюм стоит пять долларов. У тебя вообще есть такие деньги?
— Я хочу не купить костюм, а всего лишь взять напрокат.
— Да я ж тебя больше не увижу, так что либо покупай, либо забудь.
— Это ваше последнее слово?
— Да.
Дед раздобыл жевательного табаку и вернулся в подсобку грошовой лавки. У прилавка несколько ребят репетировали номер, с которым собирались выступить в «Майнерсе». Многие дети гетто мечтали о том же, что и дед. Кто-то у входа пел голосом Берля, но дед не обернулся. У него были дела поважнее, надо было хорошенько подумать. Найти способ начать новую жизнь чисто. Без воровства, разве что слегка припугнув. В ту ночь витрина магазина мужской одежды разбилась вдребезги. Утром дед снова стоял перед хозяином и широко улыбался ему.
— А если я позову полицию?
— Полиция не сможет охранять вашу витрину каждую ночь.
— Что тебе надо на этот раз?
— То же, что и вчера. Но сегодня я возьму костюм напрокат за полдоллара.
Ледяному шторму оставалось до Нью-Йорка всего несколько дней пути. По ночам уже шел снег, но днем на солнце все таяло. Небольшой снегопад остался незамеченным в мегаполисе, и никто не догадывался, что ему предстоит. Город продолжал предаваться скорости, удовольствиям, грехам. Днем и ночью ездили омнибусы, кебы и трамваи, всё непрестанно стремилось вперед, к следующей удаче, к следующему дурману. Миллионы ног оптимистично спешили по грязи и слякоти навстречу светлому будущему.
Поздним утром в следующую субботу дед достал костюм из шкафчика, арендованного в приюте для продавцов газет. Мальчишки в коридоре, игравшие в монетки, обсмеяли его и сочинили ему романс. Деду хотелось, чтобы рядом был Берль, тот бы оценил его внешний вид и помог советом. Но Берля он не видел уже несколько дней. Он намотал на шею шарф, натянул кепку на лоб и вышел на улицу.
Кварталы Манхэттена продувал прохладный бриз, но это не могло испугать паренька, продававшего газеты даже в минус десять и начищавшего сапоги до блеска закоченевшими руками. По дороге в «Музей Хубера» ему попался мальчишка-газетчик, который кричал, что Средний Запад завален снегом. Что вода замерзла даже в порту Нового Орлеана и в дельте Миссисипи.
А у деда на душе все равно было тепло. Там, в душе, сидел старенький Профессор во фраке, прислушиваясь к его пению и покачивая носком ботинка в такт мелодии. Насвистывая, дед шел навстречу своему счастью.
Когда он спросил, где найти низкорослого, вахтер отправил его вверх по лестнице. В здании царил покой, не слышалось ни звука, великий прилив моряков, мальчишек-газетчиков, торговок, рабочих, респектабельных и не столь респектабельных мужчин и девушек легкого поведения был еще впереди. На втором этаже в зале «кунсткамеры» кресло Профессора Хатчинсона стояло рядом со сценой, где вскоре должны были происходить невероятнейшие вещи на глазах изумленной публики.
Безногие будут прыгать, безрукие — стрелять. Некоторые так скукожатся, что поместятся в коробочку. Будет выступать и полумужчина-полуженщина, а тот, кто сможет рассмешить женщину с каменным лицом, получит бесплатный билет на следующее представление. В дальнем, затемненном углу сцены из-за кулисы появится женская пяточка и заслужит несколько одобрительных свистков. Не успеет еще показаться коленочка, а по залу уже разнесется гомон.
На третьем этаже в каждом углу стояли чучела экзотических животных, а в стеклянных витринах расположились змеи и ящерицы. Здесь висели фотографии пигмеев и индейцев, фонографы за один цент едва слышно играли песни, а кинетоскопы показывали через смотровое отверстие виды пульсирующего города: огромные толпы людей в постоянном движении или трамваи, неудержимо несущиеся на зрителя.
В одной из витрин лежало письмо, которое якобы Линкольн написал женщине, потерявшей в Гражданскую войну всех четверых сыновей. Еще там был песок из Африки и страусиные перья, восковые фигуры знаменитых убийц и самоубийц. Но самым ценным экспонатом была щепка от креста Иисуса, охраняемая суровыми мужчинами.
«Музей Хубера» был местом паломничества, мягкий дневной свет попадал в его залы, словно через церковные окна. Даже лицо восковой фигуры отравителя источало столь нежное сияние, что казалось красивым и одухотворенным.
В конце узкой лестницы дед услышал голоса и смех. Он остановился, не решаясь идти дальше, как вдруг кто-то подкрался к нему сзади, схватил за шею и втолкнул в дверь. Из-за простыней и одеял, служивших занавесками и разделявших помещение, вышли обитатели чердака: горбатые и слепые, телепаты, двойники знаменитостей, акробаты. Для всех них всегда было место в варьете. Но если бы они исчезли, никто бы их не стал искать. Хватало других горбунов, слепых и сумасшедших, готовых пополнить ряды. Всегда нашелся бы другой популярный убийца, которого можно изобразить.
Если бы дед осмотрелся, то заметил бы убогие нары и пожитки, сохнущие лохмотья, развешанные на веревках. Но он лишь инстинктивно сунул руку в карман, где всегда держал складной нож.
— Покажи руки! — приказал ему человек за спиной. — Я поймал его снаружи. Он точно хотел что-нибудь украсть.
— Украсть у нас? Должно быть, тебе и впрямь туго, если ты до такого додумался, — отозвался другой.
— Для вора у него слишком шикарный костюм, — заметил третий.
— Я не собирался ничего красть, мне нужен карлик! — крикнул дед.
Тут одна из простыней отодвинулась, и вышел низкорослый артист. В руке он держал форменную ливрею, которую как раз зашивал.
— На днях я чистил вам ботинки! — крикнул дед.
— Возможно, — невозмутимо ответил маленький.
— Вы обещали представить меня Профессору Хатчинсону, если я надену хороший костюм.
— Я помню.
— Так вот, костюм на мне. Я мог бы что-нибудь спеть Профессору прямо сейчас.
— Хорошо. Наш договор в силе.
Спустившись на два этажа, низкорослый — его звали Пол — дал знак деду остановиться и прислушался у двери. Он постучал, ответа не последовало, тогда он открыл дверь, и они вошли. Казалось, они разбудили Профессора — ноги его распухли, подтяжки болтались, а пояс брюк скрылся под пузом. Безуспешно пытаясь встать с кресла, он пнул пустую бутылку на полу. Наконец, чертыхаясь, поднялся и посмотрел на деда.
— Чего ты так пялишься, парень? — прикрикнул он. — Думаешь, я выдержал бы все это без бренди? — Затем спросил Пола: — Это вообще кто?
— Он говорит, что умеет петь, так что женщины аж плачут. Может, вам стоит его послушать. Кстати, как ты себя называешь?
— Маленький Карузо, сэр. Есть великий Карузо в Европе и маленький — здесь. Это я. Я знаю песни о войне, о разлуке, романсы, спою все, что пожелаете.
— Да спой что угодно, — сказал старик.
Дед пел долго, и его не перебивали. Он вложил всю душу в свое выступление, это был его первый, единственный, величайший шанс. Он пел с таким чувством, какое, наверное, испытывает приговоренный к казни, вкушая последнюю трапезу. Он обольщал Профессора, как возлюбленную. Старик долго смотрел на него молча, затем велел подойти ближе. Он приказал мальчику повернуться, нагнуться, выпрямиться, как будто искал что-то конкретное. Наконец недовольно отвернулся и подтянул носки.
— У тебя многообещающий голос, мальчик. Уже как у взрослого, это хорошо. Меньше всего мне здесь нужен певец, у которого ломается голос. — Он подмигнул Полу, и оба громко расхохотались. — И все-таки я не могу найти тебе применения. Ты вырос слишком прямым. У тебя нет никакой болезни, ни горба, никакого уродства. Ты слишком нормальный, а певцов у меня хватает. У меня есть слепой с ангельским голосом, парализованный, которого мы выносим на сцену ради его пения, и глухой, что называет себя «Бетховеном вокального искусства». Даже Пол иногда поет. Ступай домой и не возвращайся, пока не отрастишь горб.
С этими словами Профессор отвернулся, а дед еще долго простоял бы как вкопанный, если бы не Пол, который взял его за плечо и увел.
— Но я не хочу быть горбатым, я хочу петь! — протестовал дед, спускаясь по лестнице.
— Тогда тебе дорога в водевиль. Там ты сможешь быть тем, кем хочешь.
На следующий день дед опять оделся в свои лохмотья, вернул костюм и взял с фургона пачку газет «Уорлд», за которую пришлось подраться с черным пареньком. Он начал искать сенсации и вскоре понял, что в этот день был только один важный заголовок: во всей Северной Америке так похолодало, что в Техасе люди замерзали насмерть, а в Огайо скотина околевала на пастбищах. В Вашингтоне навалило такие сугробы, что родители привязывали к себе детей веревками, чтобы они не потерялись.
Дед был в ярости, что ему не оставили ни одного шанса, и во всю глотку орал против ледяного ветра: «Кто не примет меры, замерзнет насмерть! Читайте, как спастись от мороза! Читайте “Уорлд”!» Ярость согревала деда, и он несколько часов не чувствовал холода. К тому же он искал Берля, который словно растворился в воздухе.
Если бы Спичку спросили, чего он так прикипел к этому бледному, болезненному пацану, ему не пришлось бы долго думать. Каждому беспризорнику нужен верный друг, который поможет в случае чего. Берль сделал для него куда больше: он научил Спичку немного читать и писать и всегда объяснял, когда тот не понимал слов песни, которую хотел спеть.
Дед искал Берля по всем притонам Бауэри, где таким, как они, разрешали посидеть на стуле, но ни в коем случае не давали спать. Приходилось постоянно двигать рукой или ногой в подтверждение того, что ты не спишь. Монетки, что им изредка совали, попадали в карман хозяина заведения. За это мальчишке давали сэндвич и остатки пива из бочки. Берль даже говорил, что научился одновременно спать и шевелить ногой.
Было уже темно, когда дед сдал оставшиеся газеты и получил свою долю выручки. Берля он так и не нашел, а мороз крепчал, и надо было срочно найти укрытие. Даже ярость больше не спасала от стужи. Куда бы он ни стучался, его никуда не пускали. Все дешевые гостиницы и ночлежки, все притоны были переполнены — люди спешили укрыться от ледяного урагана, — а до приюта на Дуэйн-стрит дед уже не дошел бы. Поздно вечером, пытаясь найти в одном дворе незапертый вход в подвал, он вдруг наткнулся на сарай, который вроде как пустовал.
В сарае оказалось теплее, а пол был устлан соломой. Две лошади повернули головы к мальчику, но возмущаться не стали. В слабом свете дед различал силуэты животных, стоявших неразлучной парой, прислушиваясь к вьюге. Он разглядел и контуры кое-чего еще, очень хорошо ему знакомого, — карусель с лошадками, принадлежавшую одному итальянцу. Сколько же раз дед садился на этих лошадок и катался несколько кругов за одно пенни!
Он завернулся в две попоны, что нашел в сарае, и зарылся в солому между лошадьми. Те не возражали, поскольку привыкли, что люди ищут укрытия в их сарае. Теперь все трое навострили уши и прислушивались к стихии, сорвавшейся с цепи.
Дед не знал, долго ли он проспал, когда кто-то потянул за его попоны, и он вскочил, готовый дать отпор. Оказалось, это старая женщина — точно уже за тридцать, подумал он, — тоже спасается от ненастья. После того как она угостила его джином, он согласился поделиться с ней попонами. От холода они все время просыпались, так что женщина начала рассказывать о своей жизни.
Она приехала из Ирландии, и ее ирландский голод продолжился на Ист-Сайде. В ночь перед ее отъездом в доме устроили ночное бдение, словно она была живым мертвецом. Все танцевали, пили и молчали. Плакали и обещали когда-нибудь увидеться. Это было пятнадцать лет назад.
Продолжение истории он знал заранее, как будто пережил ее сам. Люди поднимались на борт корабля и дрались за хорошее место на средней палубе — у иллюминатора или рядом с тем местом, где кок каждый день выставлял котел с кашей. Некоторые мужчины и женщины во время плавания сходились так близко, что между ними было не вставить и лист бумаги. Вывески на стене с предупреждением «Половые сношения на борту запрещены. Нарушение ведет к лишению рациона» они не понимали, ведь большинство не умело читать. А вот любиться они умели, да еще как, даже угроза голода не удержала бы их от этого дела. Многие уличные мальчишки считали, что были зачаты именно так.
Если эмигранты во время плавания заболевали и умирали, их сбрасывали в море. В океане покоилась небольшая ирландская армия мертвых. Ну а для тех, кто все-таки добрался до пункта назначения живым, начинался американский голод, такой же смертельный, как раньше ирландский.
Лошади тоже слушали, но предпочитали молчать. Они проявляли такт. Голодная родина их хозяина-итальянца была каменистой, засушливой и малярийной. Какой-то чужой зеленый остров Ирландия их никак не касался. Постепенно дед и ирландка пододвигались все ближе друг к другу, пока наконец не оказались совсем рядом. Женщина обняла мальчика сзади и прижалась к нему. Внутри у него разлилось незнакомое, возбуждающее тепло, подобное доброму, очищающему огню. Дед на всю жизнь запомнил ее голос, но не лицо.
Но следующий мороз словно резал кожу ножом. Дышать и идти вперед было почти невозможно, ветер сорвался с цепи, а стужа заставляла людей прятаться в самых дальних, самых теплых углах жилищ, постоянно топить печи и камины и озабоченно проверять запасы дров. Под тяжестью снега валились телеграфные столбы, прогибались деревянные крыши, улицы покрылись толстым слоем льда. На релингах кораблей в порту висели огромные сосульки. Нью-Йорк превратился в причудливый, тихий, безлюдный мир.
Безуспешно поискав место у очага в нескольких ночлежках и кабаках, дед вспомнил об угольном подвале почтамта. Во времена Падди грузчики, выгрузив уголь, всегда оставляли люк открытым, может, ему повезет и на этот раз. Он уже довольно долго не чувствовал пальцев рук и ног и давно ничего не ел. Он попрыгал и похлопал руками по туловищу. Люк подвала был заперт. Дед уже собирался уйти, как вдруг заметил маленький холмик в снегу.
Он откапывал скрюченное тело голыми руками. Как и несколько недель назад, он рассчитывал на одежду мертвого. Это был подросток, укрытый несколькими слоями газет. Последняя, бесполезная попытка спастись от холода. Постепенно из-под снега выступал саркофаг из замерзшей бумаги, и чем больше деда одолевало плохое предчувствие, тем быстрее двигались его руки. В вечерних сумерках он увидел восковое лицо Берля.
Дед долго смотрел на друга, пока собственное тело не напомнило ему об опасности. Он снял пальто и накрыл им Берля, словно желая согреть труп. Он не знал, как молятся евреи, и второпях прочел «Отче наш», растерянно перекрестился и ушел. Уже выйдя на улицу, он вспомнил о пальто. Вернулся, надел пальто и оставил тело Берля беззащитным перед непогодой, вечностью, Господом.
Теперь он блуждал вслепую. Пускай сам он ничейный сын, но ведь Берль был его единственным другом. Этот узкогрудый парнишка, которого он столько раз защищал от других пацанов. Который вместе с ним пел, попрошайничал и голодал, который целыми ночами рассказывал ему о Галиции, о Карпатах и о семье, которой у деда никогда не было.
Вдруг дед очутился на Юнион-сквер и стал высматривать Густава. Он надеялся, что старый возница еще помнит о своем обещании. Однако на площади не было ни души, ни кеба, ни трамвая. Дед прислонился к фонарю, чтобы отдохнуть, и по колено провалился в снег, но мысль о мертвецком пароходе придала ему сил.
В конце концов ноги понесли его обратно на восток, по Четырнадцатой улице, обычно очень оживленной, но сейчас абсолютно обезлюдевшей. Затем его ноги избрали другое направление и принесли его на Деланси-стрит. Пройдя несколько шагов, он вновь оказался на Орчард-стрит, узнал дом с беременными, толкнул дверь подъезда и стал подниматься по лестнице, пока не упал без сил.
Глава четвертая
В Сулине теплое время года начиналось с самоубийства птиц. Каждую весну перепела слетались к устью реки и в сумерках описывали широкие круги над водой и пляжем. Некоторые птицы отделялись от стаи и летели прямо на зеленый маяк. Он стоял на конце одной из береговых дамб, продлевавших гирло на несколько сотен метров в глубь Черного моря. Старику Дунаю, страдающему диареей, не давали испражняться прямо на берегу моря и засорять устье.
Вообще-то было два маяка — по обе стороны гирла, но ловушкой для птиц становился только правый. Перепелки со всего размаху налетали на стекло и падали в воду оглушенные или кое-как добирались до пляжа. Море меняло цвет от зеленого к черному, оставалось спокойным и абсолютно гладким.
Люди из города всегда приходили на пляж в одно и то же время, чтобы посмотреть зловещее представление. Женщины отворачивались, закрывали глаза ладонями, но вообще-то они тоже просто хотели посмотреть. Только дети были честны. Они вылавливали птиц из воды или подбирали на песке и разбивали им черепа или ломали шеи. Они складывали перепелок в мешки и хвастались друг перед другом, кто сколько на них заработает.
Маяк равнодушно посылал свои лучи в море. Вдалеке виднелись корабли на рейде, вынужденные ждать утра, чтобы зайти в порт. Шум огромной черпалки, установленной на барже и роющей дно реки, заглушал голоса гуляющих, сирены кораблей, крики чаек, споривших с детьми за мертвых перепелок, и мамины мысли.
День за днем человек углублял русло реки. В своем рвении и усердии он не мог пустить реку на самотек, русло надо было постоянно расчищать. Если человек уступит, если его машины остановятся, то пасть реки закроется. Человек знал это, и река тоже. Это было соревнование, борьба — кто быстрее. Кто кого перехитрит. Это была первая и последняя линия обороны человека перед могущественной природой.
Жители Сулины рождались и умирали с холодным, пронзительным скрежетом в ушах. Если их город когда-нибудь вновь станет процветать или окончательно придет в упадок, одно останется в любом случае неизменным — металлическая мелодия на последних метрах усталой реки, прежде чем она утонет в море.
Что любил народ в таком месте как Сулина, так это новости. Люди были одержимы новостями. Чем меньше они принадлежали к миру, тем больше хотели о нем знать. Они с нетерпением ждали кораблей и моряков, которые рассказывали о дальних странах. И хотя все рассказы матросов были похожи и чаще всего состояли из перечисления портовых городов, где они пьянствовали и блядовали, это все равно привлекало любопытных сулинских слушателей.
Те собирались в кофейнях на набережной, как только на маяке включался зеленый свет, что означало «вход в порт разрешен». Вскоре после проверки судна к местным жителям присоединялись офицеры и матросы. Они искали доступных женщин, а заодно и утоляли жажду новостей сулинцев. Чем больше они выдумывали, тем сенсационнее казались их рассказы, тем чаще их угощали выпивкой.
Некоторые особо талантливые рассказчики могли этим зарабатывать. Они приукрашивали описания, умело подводя слушателей к кульминации, однако не раскрывали ее, пока не выпивали рюмок девять-десять. Остальным — неумелым, торопливым — приходилось напиваться за свой счет.
Другим источником новостей были газеты, приходившие в город два раза в неделю. Многие горожане были не слишком грамотны или не могли себе позволить купить газету, так что за столиками кофеен кто-нибудь усердно читал вслух. Однако наиболее увлеченно этому занятию предавались в парикмахерском салоне Ахилла.
Здесь газетные заметки были важнее плохой стрижки Ахилла. «Когда вы не платите, то я и не стараюсь», — каждый раз оправдывался он. Однако на стрижку жаловались редко — другого мастера в городе все равно не было. Его клиенты любили жаловаться на мировые события. А 1937-й во многих странах мира стал годом, когда скорби и боли хватило на всех.
В начале мая мама начала работать в парикмахерской. Тогда посетители еще жили воспоминаниями о новостях из Испании — десять тысяч жертв резни в Малаге, сражение при Гвадалахаре, бомбардировки Дуранго и Герники. Все это произошло только с февраля по апрель, столько событий, что голова шла кругом. Сулинцы повторяли названия Дуранго, Герника, Гвадалахара, и каждый произносил их на свой манер. Только в количестве жертв не было разночтений.
На стену парикмахерской прикрепили карту Испании и отмечали на ней ход войны. Клиенты тоже разделились на два лагеря: убежденных республиканцев и франкистов. Пока Ахилл в этом захолустье мыл, стриг и прыскал одеколоном головы мужчин и женщин, те смотрели в зеркало на карту у него за спиной и следили за развитием событий на другом конце Европы. В тех краях, что остались бы такими же безвестными, как Сулина, если бы им не навязали тысячи смертей. Но Ахилл всегда был сдержан и оставался убежденным демократом — он стриг всех, даже тех, у кого и вовсе не было мнения об этой войне.
Были и политически нейтральные новости, которые всех объединяли в удивлении. Крупнозернистая фотография горящего «Гинденбурга» у причальной мачты в Нью-Джерси. В марте одна летчица попыталась облететь вокруг света на «Локхид Электра». Говард Хьюз совершил перелет Лос-Анджелес — Нью-Йорк всего за семь с половиной часов. Сулинцев, привыкших иметь дело только с кораблями и лодками, новости о полетах особенно волновали. За семь часов, которые понадобились богатому эксцентрику, чтобы пересечь целый континент, они прошли бы на лодке от силы четверть дельты.
Однако больше всего их интересовала новость об изобретении нейлона. Не из-за рыбацких лесок и зубных щеток, которые из него собирались производить, а потому что они представляли себе женские ножки в нейлоне.
Мама — мне все еще трудно так ее называть — в основном помалкивала и быстро училась. Ахилл был ею доволен, и не без оснований — он считал, что к нему стало ходить больше мужчин с тех пор, как появилась Елена. Она была не красавица, зато блондинка, высокая и жилистая, и уже поэтому вызывала интерес. Клиентам-мужчинам нравилось, что она моет им голову и намыливает щеки. Терпеливая и скромная, она довольствовалась малым и для каждого находила доброе слово, в отличие от Ахилла, который только и делал что ворчал.
По обстановке в салоне было заметно, что и он знавал лучшие времена. Здесь стояли раковины из фаянса, кресла с регулируемой высотой и широкие, теперь уже рваные кожаные диваны для ожидающих клиентов. Десятки пустых флаконов из-под духов и туалетной воды для волос остались от прошлого владельца. Если в Сулине время шло медленнее, то в салоне Ахилла оно почти остановилось.
Каждый месяц Ваня привозил три ведра рыбы. Его никогда никто не видел, он оставлял ведра под дверью еще до рассвета. Первые полгода мама, как и обещала, регулярно навещала его в Узлине. Елена переодевалась в бабушкином доме, но, чтобы поговорить с матерью, нужно было сначала вынуть из сумочки деньги и положить ей на кровать, иначе она не отвечала.
— Тебе это наверняка пригодится.
— Сколько?
— На пару бутылок цуйки хватит. Я смотрю, опять пустые везде валяются.
Мама собирала бутылки, прибиралась в доме и на дворе. Потом садилась на край кровати и смотрела на мою ужасную, распухшую бабку.
— Давно у тебя запой?
— Не твое дело. Ты что, упрекать меня вздумала, что ли?
— Ты права, не мое дело. Где мой отец?
— На кладбище.
— Не этот. Где Ваня?
— Он тебе не отец. Он просто несчастный дурачок.
— Я давно все знаю. Мне в зеркало посмотреть достаточно. Так где он?
— Он здесь больше не появляется.
От соседского мальчика, который за эти годы обзавелся собственной лодкой, домом и детьми, мама узнала, что Ваню уже давно не видели в деревне. Скорее всего, он жил на плаури — тростниковых плавнях, перемещавшихся по воде. Угадать, где Ваня окажется в следующий раз, было невозможно, ведь у ветра нет расписания.
Говорили, что он странствует по дельте и соседствует с выдрами, норками, лисами, кабанами, ондатрами и енотовидными собаками, которые тоже предпочитают маленькие плавучие острова. Словно призрак, он появлялся то там, то тут, едва его замечали в тростнике, как он исчезал. Тот, кто видел, сомневался, видел ли он вообще что-нибудь. Но хуже всего, добавил сосед, что и по виду Ваня все больше становится похож на призрака.
Сосед возил Елену по каналам, бросал весла у входов в озера и заводи, и они звали Ваню. Однажды, когда они уже собрались возвращаться, из зарослей на берегу вдруг послышался слабый Ванин голос. Сосед не хотел к нему приближаться, высадил Елену, а сам погреб на середину озера, чтобы подождать ее за рыбалкой.
— Стой, где стоишь. Ваня болеет.
— Покажись же! Что с тобой? Я отвезу тебя в Сулину. В больнице тебе наверняка помогут.
— Ни один врач не поможет.
Мама продолжала его уговаривать, даже сделала несколько шагов туда, где прятался Ваня, но он запретил ей приближаться. Она в ужасе присела на корточки среди зарослей. Она не знала, что теперь делать. Ваня был единственным, к кому она испытывала что-то похожее на любовь. Только он всегда был с ней. Никогда прежде ей не доводилось терять близкого, важного для нее человека, не приходилось прощаться. Когда она уезжала в Сулину, расставание с матерью далось ей легко.
Прошло много времени, и никто из них не говорил ни слова. Сосед несколько раз приплывал за Еленой.
— Ваня? — прошептала она. — Отец?
Но отозвались только птицы.
Сосед торопил Елену, она села в лодку и, пока они медленно удалялись, до последнего смотрела на то место в тростнике, надеясь хотя бы напоследок увидеть Ваню.
Еще полгода Ваня подавал признаки жизни. Ведра с рыбой появлялись у двери ее дома в последний день месяца, но уже не такие полные, как раньше. Со временем вместо трех ведер он стал оставлять два, затем одно, и то заполненное лишь наполовину.
Так мама поняла, что Ваня слабеет. Она много раз отправлялась его искать вместе с соседским парнем, но так и не нашла. Иногда им казалось, что за ними наблюдают, но, сколько бы они ни высматривали, не могли никого заметить. Потом она решила не спать всю ночь, чтобы подкараулить, когда он принесет рыбу, но каждый раз засыпала раньше.
Хозяева дома были недовольны, требовали платить больше, она платила и голодала. К середине 1938 года Ванины ведра перестали появляться вовсе, и мама поняла, что он умер. Или совсем обессилел от болезни. Она снова искала его в тростниках несколько дней подряд, но не нашла и следа.
— Может, его унес Дунай, — предположил сосед.
— Нет, не унес! — крикнула она и упрямо продолжала поиски.
— Лучше уж так. Он болел страшной болезнью, — сказала бабушка.
— Ваня не умрет!
Когда она наконец вынуждена была признать, что скорее всего он все-таки умер, больше всего ей хотелось убежать прочь. Но из Сулины бежать было некуда. Сразу за домом, где она жила, начинались дюны, а со всех остальных сторон люди были заперты рекой и морем. В этом деле река и море были заодно. Они разделили зоны влияния и формировали дельту каждый на свой лад.
Лучше всего их единство проявлялось у маяков в конце дамб. Там мутный, коричневый Дунай вливался в более чистую воду Черного моря. Туда мама и убежала, и ее рыдания утонули в скрежете черпалки.
Из газет мама узнала о существовании Испании. Когда смертоубийство там утихло, оно началось в Китае. Появились новые названия: Тяньцзин, Пинсингуань, Нанкин. Новые поля сражений, новые жертвы, смертям не было конца. Чтобы остановить наступление японцев, китайцы взорвали дамбы. В парикмахерской Ахилла все целый день повторяли число погибших: один миллион.
В Европе дела обстояли, похоже, не лучше. Австрия вдруг стала принадлежать Германии, той самой Германии, что вошла в Чехословакию и отправила домой двенадцать тысяч поляков. Но Польша не захотела их впускать, и они остались жить на нейтральной полосе между границами.
— Что такое «нейтральная полоса»? — спросила мама.
— Это ничейная земля, как у нас здесь, — ответили ей, и все горько рассмеялись.
В Румынии фашисты укрепили свои позиции, и это многих радовало. Потом король наделил себя абсолютной властью, за это его хвалили другие. Новости приходили с опозданием на несколько дней или недель, как эхо давно прошедших событий. Как волны, что поднимались далеко в море и лишь через несколько часов достигали берега. Когда эти новости поднимали переполох среди узников дельты, история уже уходила далеко вперед.
После исчезновения Вани мама стала все больше узнавать об Америке. Казалось, только на нее еще можно положиться. Рузвельт объявил, что его страна не будет вмешиваться в возможную грядущую войну. В Америке было безопасно, там никто не погибнет из-за господина Гитлера, которого «Таймс» в конце 1938 года объявила человеком года. И еще Америка привносила в мир какую-то легкость. Только там появлялись сумасшедшие, желавшие пролететь вокруг света. Даже американки были настолько отчаянные, что отваживались на это.
Американцы строили такие тоннели под реками и мосты через реки, каких не видывал свет. Они вырубали в скалах головы своих президентов. Их боксеры, пускай и черные, отправляли немцев в нокаут уже в первом раунде. А еще они объявили по радио, что марсиане хотят завоевать землю. Будто Гитлер для них недостаточно страшен. Они были чудаковатые, легкомысленные, чокнутые, но если у них оставалось так много времени на всякую ерунду, значит, дела там идут неплохо. И у американцев был Ирвинг Берлин.
Один старик, ежедневный посетитель Ахилла, как-то утром сел на пароход до Тулчи. Никто не знал почему. Может, потому, что тамошние бордели лучше. А может, ему захотелось хоть разок вырваться из сулинской тесноты. Через два дня он вернулся на почтовом корабле, а следом за ним двое носильщиков тащили какую-то штуковину, похожую на мебель. Они гордо прошагали по городу до парикмахерской и поставили свой груз перед входом. Клиенты, Ахилл и мама вышли, благодарные судьбе за развлечение.
— Зачем тебе это? — спросил кто-то.
— Зачем мне это? Погодите-ка минутку. Я сейчас вернусь, — сказал старик и пошел к своему дому.
Все растерянно переглядывались. Через несколько минут старик вернулся, прижимая к груди конверт с грампластинкой. Из ящичка на задней стороне устройства он вытащил шнур и вставил вилку в розетку внутри парикмахерской. Теперь люди начали догадываться, к чему все это. Возбужденный, как жених, раздевающий невесту в первую брачную ночь, старик достал пластинку и открыл крышку, под которой находился проигрыватель.
— Это «Браун». Немецкая технология. Новейшая модель, во всяком случае, из тех, что можно купить в Тулче. А эту пластинку мне прислал сын из Нью-Йорка. Вы же все знаете моего мальчика Петру. Он, похоже, забыл, что у меня нет граммофона, и написал: «Послушай. Это и есть Америка». Так что давайте послушаем.
Музыка Ирвинга Берлина — ритм Америки — ворвалась в жизнь сулинцев так внезапно, так громко, что у них дух захватывало. Cheek to Cheek, Let’s Face the Music and Dance, Puttin’ on The Ritz, Blue Skies[2] и еще много песен, каких они прежде не слышали. Ахилл забыл о стрижке, а мама — об уборке. Недовольные забыли о своем недовольстве, старики — о жалобах на здоровье. Здоровые забыли о хвастовстве, а мужчины — о юбках.
Мелодии разнеслись по улицам и дворам, удивив старых гречанок на пути из церкви, двух-трех липованских мальчишек, чинивших лодку на пристани, и хозяина маминой комнаты, возвращавшегося домой после инспекции турецкого судна, весь черный от мазута. Эту музыку слышали и шахматисты в маленьком кафе у гостиницы «Интернациональ», и смертельно больной, который открыл окно и, слушая песни Берлина, скончался с улыбкой.
Музыку Ирвинга Берлина услышал осанистый, довольный собой капитан дальнего плавания, возвращавшийся на корабль после новой любовной победы. Шумная стайка школьников и рыночные торговки, громко хвалившие свои товары, сразу умолкли и прислушались. Замолчали и ссорящиеся супруги, которых до этого ничто не могло остановить. Клиентура Ахилла слушала пластинку весь день, и каждый раз кто-нибудь вздыхал и тихо говорил: «Вот это Америка».
А старик время от времени заявлял:
— Мне Америки уже не видать, зато мой сын стал настоящим американцем. Какую карьеру он сделал! Был простым рыбаком на краю света, а стал старшим официантом в знаменитом ресторане «Московиц и Луповиц» — в Нью-Йорке! Он подает блюда с серебряными приборами и в белых перчатках. Если б только знать, что он еще и счастлив, тогда можно и помереть спокойно.
— А он не счастлив?
— Ему не хватает жены. Он пишет, что американки никуда не годятся. Слишком независимые. Хотят замуж, а готовить не хотят. Хотят детей, а в голове одни развлечения.
Америка была бо́льшим, чем музыка. Теперь страна принимала немногих эмигрантов, но если уж кому повезет остаться, тот будет хотя бы прилично зарабатывать. Газеты писали, что Рузвельт добился всеобщей почасовой оплаты труда от двадцати пяти центов и рабочей недели в сорок четыре часа. Эти цифры ничего не говорили маме, но другие комментировали их с таким одобрением, что ей пришлось посчитать это хорошей новостью. Да, было много безработных, но тот, кто нашел работу и не ленился, мог уже через несколько лет купить автомобиль. И еще раньше — такой аппарат, как у старика.
Когда Ваня исчез, мать уже ничто не держало в Сулине. Для молодых, как она, в этом проклятом месте не было ничего, кроме мириад комаров, летней жары и ледяных ветров зимой. Когда было слишком жарко или слишком холодно, город вымирал. Стрелки часов прилипали к циферблату. Люди старели, а время не двигалось. Множество рассказов и фотографии из Нью-Йорка, что показывал старик, разжигали ее любопытство.
Старик все время таскал с собой альбом, куда вклеивал свежие фотографии из Нью-Йорка, присланные сыном. Всегда находились желающие посмотреть, ведь все любили помечтать. Так мама увидела статую Свободы, склады и пирсы на Ист-Ривер, хорошо одетую публику на Пятой авеню, рыбный рынок на Фултон-стрит, куда Петру поначалу устроился на работу благодаря своим рыбацким корням. Бродвей с театрами и неоновыми вывесками, с рекламой зубной пасты, туалетной воды для волос, автомобилей и фильмов. Вид на южную оконечность Манхэттена с Бруклина. Кони-Айленд и набережная с колесом обозрения, а на заднем плане американские горки, которые Петру называл «Циклон». И почти на всех снимках она видела невзрачного молодого человека, смотревшего с серьезной миной в объектив уличного фотографа.
Мать раздумывала ночи напролет, прежде чем призналась Ауре. Та не хотела уезжать, ведь один старпом, с которым она часто плавала в тростники, обещал скоро жениться на ней и увезти в Тулчу. Надо было только подождать еще годик-другой. Она не любила его и, отдаваясь в шлюпке, дыша его табачищем, представляла, чтобы отвлечься, как будет обустраивать свой дом. Или же глядела в воду, а рыбы удивленно глядели на нее.
Не этот мужик, так другой однажды увезет ее отсюда, в этом Аура не сомневалась. Необязательно прямо сразу в Америку. Но если Елена хочет попытать счастья, и если она туда доберется, и если ей попадется приличный, симпатичный американец, который оценит достойную грудь, широкие бедра и мясистый зад, то в таком случае Аура, конечно, еще подумает.
Мать собрала всю свою смелость в кулак и, дождавшись спокойного вечера, когда Ахилл уснул в парикмахерском кресле, заговорила с отцом Петру. Старик, как всегда, держал альбом на коленях, то и дело шлепал себя по лицу и шее, спасаясь от комаров, и вытирал пот наглаженным носовым платком. Елена робко присела рядом с ним.
— Я тебе уже показывал последние фотографии?
— Показывали, господин Гро́за. У вас хороший сын.
— Теперь он написал, что ищет комнату в Куинсе. Один Бог знает, где это, но я желаю ему найти то, что он ищет. Он работящий, но такой несчастный.
— Можно мне еще раз на него взглянуть? — Господин Грозавеску передал ей альбом. — И внешность приятная. Он там действительно не может никого себе найти?
— Ни одной подходящей.
— А что же должна уметь девушка, чтобы ему понравиться? Какой она должна быть?
Старик посмотрел на нее нерешительно.
— Ну, как женщина была чтобы. Чтоб вела хозяйство и немножко поупитаннее была… Вот, например, как твоя подружка Аура. Ну и благочестивая, конечно, тоже.
Мама перешла в наступление:
— А сколько ему лет?
— Двадцать пять. У меня в его годы уже трое детей было.
— Господин Грозавеску, — осторожно начала мама, — а почему бы вашему сыну не найти себе жену здесь? Такую, что и говорит на его языке, порядочную, домовитую и верующую?
Старик повернулся к девчонке и внимательно посмотрел ей в глаза.
— У тебя что, есть кто-то на примете?
— Я, господин Грозавеску! Я! Я хочу уехать отсюда, а он ищет жену. Ведь все сходится.
— Ты? Сколько же тебе лет?
— Скоро двадцать. Но вы же знаете: женщины всегда чуть взрослее мужчин.
— А что ты вообще умеешь?
— Скоро я смогу сама брить и делать модные стрижки. Там такие мастера наверняка нужны.
— Никому там такие мастера не нужны.
— И еще рожать детей, господин Грозавеску. Рожать я тоже могу. Он же этого хочет. Я быстро схватываю и прилежно тружусь. Я люблю учиться полезным вещам. Ну и еще я довольно веселая.
— Веселая? Ты? Да ты и не разговариваешь почти никогда.
— Значит, буду говорить больше.
— Ему нужна хорошая хозяйка.
— Значит, буду хорошей хозяйкой.
— Такая, чтобы в Бога верила.
— Значит, буду верить в Бога и ходить в церковь.
— Но нельзя же вот так. Верить нужно от всего сердца.
— У меня большое сердце, господин Грозавеску. И там хватит места и Богу, и нескольким детишкам, и вашему сыну. Пожалуйста, напишите ему… Напишите, что здесь есть девушка, которая…
— А ну-ка встань, девушка. Хм, да ты слишком худая. Вот такую б, как Аура…
— Но Аура не хочет никуда ехать, а я хочу. Напишите ему. Он получит все, что захочет. Захочет, чтобы я была полная, значит, буду есть, пока не располнею.
— А если ему нужна брюнетка, а не блондинка?
— Тогда покрашу волосы.
Старик рассмеялся, потом снова принял серьезный вид.
— Он точно не сможет полюбить такую худышку, как ты. Тут он весь в меня.
— А ему и не надо меня любить, надо только хотеть.
Сначала старик не знал, что и думать, но уже через несколько дней господин Грозавеску появился в парикмахерской с запечатанным конвертом и помахал им перед Еленой.
— Я написал ему о тебе и несу письмо на почту. Нам останется только ждать. Я написал, что ты хоть и не красавица, но приличная девушка. Что ты ничего не умеешь и худая, как швабра. Если это его не отпугнет, то он твой.
— Можно мне его фотографию, чтобы я могла смотреть на него, когда захочу?
Не дожидаясь ответа из Нью-Йорка, мама сразу перешла к делу — начала есть все, что попадалось под руку. Она набивала живот с большим энтузиазмом. Она ходила в церковь, садилась там на скамью и наблюдала за другими. Она не умела разговаривать с Богом — ни мать, ни Ваня не научили ее этому, — зато умела делать как все. Она вставала на колени перед алтарем, крестилась, целовала иконы и ставила свечки.
Мама села на корабль до Кришана и разыскала ту самую бабку, теперь уже совсем дряхлую, которая помогла ей родиться. Бабка сидела у печки и гладила кошку, что лежала у нее на коленях. Грязные, пожелтевшие пальцы утопали в шерсти. Когда мама подошла к бабке, та схватила ее за запястье и притянула к себе, заставив наклониться.
— Я твою мать знала. Как у ней дела?
— Я уже давно ничего о ней не знаю.
— А у отца?
— Один умер сразу после моего рождения.
— Я про настоящего отца спрашиваю. Вы же с ним — одно лицо.
— Он недавно умер… наверное.
— От чего умер?
— Не знаю. Он все больше прятался в тростниках, а однажды совсем пропал. Не хотел, чтобы я его видела.
— Ах, вот что за болезнь, — вздохнула бабка и тут же резко отдернула руку. — А ты к нему прикасалась?
— Я никак не могла понять, почему он вдруг не хотел, чтобы я его трогала. Хотя мы часто ели из одной тарелки. Я еще маленькой поняла, что он мой настоящий отец. Он был как ребенок, но все равно отец мне. Чем бы он ни болел, я бы этим не заразилась.
— Поверь мне, девочка, еще как заразилась бы. Смотри не трогай тут ничего. А зачем пришла-то?
— У меня эта дельта уже вот где сидит. Как в тюрьме тут. Хочу отсюда уехать. Я нашла одного парня, он в Америке живет. Родом отсюда. Он некрасивый, но мать всегда говорила: мужик должен быть чуть красивей черта. Вот он как раз такой. У меня фотография с собой. Вот он. Пускай теперь он захочет этого так же, как я хочу.
— Поставь на стол.
— Ваня всегда говорил, вы знаете заклинания на все случаи жизни. Есть у вас что-нибудь на такой случай?
Старуха расхохоталась:
— Ко мне ходют и бабы, которым их мужики надоели, и такие, которым бы хоть какого заполучить. Иногда и такие бывают, что сперва хоть какого найти, а потом скорей бы избавиться хотят. Оставь портрет тут, ступай домой и жди. Я бабка старая, но мои заговоры и до Америки дотянутся. Как расплачиваться будешь?
Мать вернулась в Сулину и стала ждать. При этом она продолжала есть так много, будто у нее не рот, а горловина бездонного мешка. Она ходила в церковь и молилась, слушала песни Берлина, без конца пересматривала фотоальбом старика, каждый раз нахваливая его сына, и чувствовала, как сердце замирает от страха, когда видела господина Грозавеску на пути к парикмахерской. Она помогала своей хозяйке стирать или сжигать одежду ее мужа, смотрела, как она готовит, и училась всему тому, чему собственная мать ее не научила. Она делала успехи у Ахилла, проявила себя трудолюбивой и любознательной.
Однажды на работе она прищемила правую руку выдвижным ящиком и поняла, что рука не чувствует боли. Дома она со всей силы ударила по руке дверью шкафа — все так же ничего. С тем же результатом она держала руку над свечой, от пальцев до плеча.
Спустя месяц, к концу 1938 года, пришел долгожданный ответ. Петру объявил, что летом приедет в Сулину. Елене он написал на отдельном листке таким же ухабистым детским почерком, как у всех рыбаков, которые учились в школе не дольше необходимого. Он рассказывал, что теперь живет в Куинсе, в районе, где полно таунхаусов с небольшими газонами, перед некоторыми стоят автомобили. У него, конечно, тоже скоро будет автомобиль.
Вот только бы ему наконец скопить денег на собственные четыре стены! Но пока приходится снимать комнату в поднаем у одной пожилой польки, которая иногда угощает его наваристым борщом и целыми вечерами рассказывает о сыне, погибшем из-за аварии на шахте в Пенсильвании. Еще он писал, что ему ехать до Манхэттена час с лишним на метро, станция которого всего в нескольких кварталах от дома. Мама не знала, что и представить, читая про все эти таунхаусы, метро и кварталы. Она понятия не имела, какое расстояние в Нью-Йорке можно проехать за час. В дельте единицей времени служила половина дня.
Петру обещал, если они действительно подойдут друг другу, найти ей место в «Московице и Луповице». Возможно, на первых порах судомойкой на кухне, а потом, когда она немного подучит английский, — на кассе. Но если у них родятся дети, то она, конечно, будет сидеть дома. В общем, она могла на что-то надеяться, и это для мамы было самое главное.
В начале 1939 года ей стало хуже. Рука не только ничего не чувствовала, но и едва шевелилась, как будто ее парализовало. Мать все больше уставала, чувствовала слабость и недомогание, а когда Ахилл давал ей какое-нибудь задание, она его тут же забывала. Иногда у нее так поднималась температура, что грек отправлял ее домой. Начались сильные головные боли, которые не позволяли подняться с постели.
Но бывали и хорошие дни, когда она чувствовала себя почти как раньше, порхала между клиентами, выполняя свою работу, а по вечерам прогуливалась с Аурой до маяка, болтая о Петру и Нью-Йорке. Вскоре в дельту должны были вернуться перепелки, кружить в сумерках вокруг маяка. Многим из них суждено погибнуть, и все же на будущий год птицы прилетят снова.
В марте на руках и шее у матери появились первые буровато-фиолетовые пятна. Она прятала их, как только могла. Все реже она могла выдержать целый рабочий день, не выронив швабру или бритву. Ахилл все еще платил ей полную ставку и требовал, чтобы она обратилась к врачу, но она все время откладывала. Хозяева дома тоже заподозрили неладное и разрешали ей заходить в ее комнату только прямо с веранды, запретив входить в дом.
Лишь через какое-то время ей пришлось признать, что она все-таки нуждается в помощи. На каждое письмо от Петру она добросовестно отвечала, хоть это и давалось ей все труднее. Она рассказала ему о своей матери и о Ване, но в ее жизни было немного такого, о чем ему стоило знать. И чего он — тоже дитя дельты — не знал и без нее.
Так что мама писала ему о том, как она представляет их общий дом, какую мебель хочет, как они будут проводить досуг. И конечно, никогда не забывала упомянуть, на сколько килограммов она поправилась за время с прошлого письма, а также что регулярно и от всего сердца молится за него и за них обоих. Какие чудесные блюда она будет ему готовить. Она была уверена, что у него там, в загадочном Куинсе, просто слюнки текут. При этом она поддерживала больную правую руку левой.
В тот день, когда мама в конце концов обратилась в больницу, она еще не знала, что лишь несколько минут отделяют ее от второй жизни. От жизни столь необычной и болезненной, что это трудно себе представить.
Маму проводили в скудно обставленный смотровой кабинет на первом этаже больницы, там она дождалась неприветливого, сутулого человека, которого знала вся Сулина, потому что он был единственным на всю округу, помимо портового доктора, кого вообще можно было назвать врачом. Раньше в городе было еще два-три медика, но те давно уехали. Так сказать, конкурентов у этого врача не было. Он знал это и даже не пытался любить людей, которых лечил.
Он помогал рождаться детям горожан и выдавал морфий тем, кого мучили боли. В его практике были и мертворожденные, и несколько самоубийц. Утопленники и застреленные. Искалеченные жертвы производственных травм. Больные, чье тело насквозь сожрал рак. Но, слушая, как мама описывает ему симптомы, он становился все серьезнее. Когда она показала ему пятна на руках и плечах, он вскочил и подошел к ней, но остановился на безопасном расстоянии.
Врач положил на письменный стол иглу и велел матери взять ее и провести по руке. Он расспросил ее о пальцах на руках, скрюченных и жестких, как когти. Затем ей пришлось подойти к окну, чтобы врач мог как следует рассмотреть пятна на ее коже. «Стойте здесь, но ничего не трогайте!» — приказал он и вышел. Вскоре из коридора послышались взволнованные приглушенные голоса.
Мать слышала, как врач тихо — однако недостаточно — объявил персоналу о своем подозрении: morbus Hansen. Кого-то послали за жандармами на случай, если она будет сопротивляться. Кто-то сказал, что ее надо изолировать, пока не будет однозначного диагноза.
— Что со мной не так? — испуганно спросила она, когда врач вернулся в смотровую и задумчиво сел за стол. — Что такое «морбус хансен»?
— Сохраняйте спокойствие. Еще нет никакой определенности, нам нужно сделать несколько анализов, — хладнокровно ответил врач.
Она сделала шаг в его сторону.
— Не приближайтесь!
— Что такое «морбус хансен»? Скажите мне! Мне надо знать.
— Это лепра. Здесь, в Сулине, уже много лет не было ни одного случая. Но в глубине дельты эта зараза появляется снова и снова. Всех зараженных отвозят в изолятор под Тулчей. Если мой диагноз подтвердится, вам придется провести остаток жизни там.
Она пошатнулась.
— Но ведь через две недели приезжает Петру, чтобы забрать меня в Америку. Мне нужно быть здесь для него.
— Если у вас действительно лепра, то вы больше ни с кем не сможете встретиться. Мне очень жаль.
— Вам очень жаль? Мне в Америку надо, господин доктор. Петру приедет со мной познакомиться. Мы понравимся друг другу, я уверена. Мы уже многое знаем друг о друге. Господин доктор, мне нужно уехать. Я не останусь здесь на всю жизнь. Дайте мне лекарства, я буду принимать все, что вы скажете.
— Боюсь, с Америкой ничего не получится. Надо взять у вас кровь и еще немного подождать. Но симптомы налицо. Вы даже не сможете остаться в Сулине. Изолятор — единственное место в мире, где вас примут. — Врач откашлялся. — Может быть, вы знаете, как вы заразились? Нам нужно найти этого человека. У кого-нибудь были похожие симптомы?
Мама вытаращила глаза. Она не могла ответить, она силилась осознать свое положение. Врач несколько минут уговаривал ее, но в конце концов его терпение кончилось.
— Если вы не хотите рассказать мне, вам придется рассказать жандармам.
Она оглянулась, увидела открытое окно и в один прыжок оказалась возле него.
— Не делайте этого! Стойте здесь!
— И как же вы мне помешаете?
Следующие два месяца мать жила на длинной — в несколько километров — песчаной косе, образовавшейся в месте слияния Дуная с Черным морем. На косе стояла деревня, и, если приближались люди, мать уходила в глубь рощи, где росли дубы и ясени. Когда же никого поблизости не было, она срезала по берегам протоки длинные черешки белых кувшинок и собирала их. Вернувшись в лес, она ела плоды, которые в дельте называли «водяными фигами». Прячась в высокой прибрежной траве, она ловила макрель и сельдей.
Раньше она никогда не бывала в этой части дельты, и деревья, увитые лианами, были ей чужими. Однажды она проснулась ночью и испугалась, потому что полые, трухлявые ивы фосфоресцировали зеленоватым светом. Они росли на краю косы, где берег часто затапливало. Корни этих деревьев, толщиной с человека, образовывали на земле причудливый узор.
Как-то раз она набрела на высокие дюны, но вскоре ландшафт снова сменился подобием степи. Там паслись дикие лошади, они издали учуяли Елену и забеспокоились. Темный жеребец подошел к ней метров на двадцать — тридцать и постучал копытом по земле, предостерегая.
Однажды весь табун пришел в движение и поскакал галопом прямо на нее, так что она не могла тронуться с места. Мама закрыла глаза и стала молиться, как умела: «Отче наш, сделай так, чтобы все произошло быстро и я не мучилась!» Открыв глаза, она увидела, что табун разделился перед ней и проскакал мимо.
На широкой пустынной равнине, где росли по большей части лишь песчаная овсяница и хвойник, паслась тощая скотина деревенских жителей. Когда маму мучил голод, она решалась вечером выйти из своего укрытия, ложилась под корову и жадно пила жиденькое молоко. Или осторожно пробиралась в деревню. Там жили в основном липоване, и голубые домики стояли торцом к улице. Дворы заросли виноградом, а на задах обычно были огороды.
Часто она находила то, что нужно, уже в первых дворах на окраине деревни: нож, удочку, сапоги, спички. Крала она и рыбу из коптилен, овощи, яблоки. Собаки чуяли ее и лаяли во всю глотку, но никто из людей не выходил из дома в темноту. В этом уединенном месте слишком велик был страх перед дьяволом и злыми духами.
Однажды она подобралась к одному рыбаку и его сыну так близко, что смогла подслушать их разговор. Отец рассказывал мальчику об огромном соме, что водится в протоках, и если вдруг откуда ни возьмись поднимаются большие волны, значит, сом этот совсем рядом. Если рыбак или ребенок упадет с лодки, сом его проглотит, так же как глотает целиком лебедей, пеликанов и даже телят, которые пьют на мелководье. Однажды такую тварь поймали и вытащили на берег, а в животе у него оказалась целая телега вместе с лошадьми и возницей.
Мама присела на корточки за сараем и тихонько заплакала, ведь, когда она была маленькой, Ваня рассказывал ей такие же байки, чтобы она не заходила в воду слишком далеко. Но мальчик бесстрашно отвечал: «Если такое чудище захочет проглотить меня, оно будет иметь дело с тобой, так ведь?» Отец рассмеялся и увел сына в дома.
Мать схватила мешок из-под картошки, по-быстрому сунула туда немного хлеба, яблок, сыра, даже бутылку вина и с трудом поволокла все это через равнину к себе в лес. Ела она жадно, как звери, которым всегда приходится опасаться, что кто-нибудь позарится на их добычу. С бутылкой под мышкой она доковыляла до опушки леса. По небу скользили лучи света от одного из сулинских маяков. Прикончив бутылку, она повалилась навзничь и осталась лежать.
Поодаль замерцали призрачным светом ивы. Она никак не могла к этому привыкнуть, наоборот — свечение нагоняло на нее все больше жути. Она пыталась убедить себя, что это просто деревья. Но слишком сильно в ней было наследие дельты, чтобы не верить и в нечто иное.
Она проснулась, оттого что поблизости что-то шевелилось. Она боялась кабанов и змей, однако на сей раз оказалось, что к ней приблизилась всего лишь обычная домашняя свинья с поросятами. Свиньи, как и коровы, здесь бродили на воле и иногда навещали Елену. Они питались птенцами, улитками, дохлой рыбой, которую прибивало к берегу, корнями тростника и водяными орехами. Только перед забоем или по осени хозяева загоняли свиней домой и откармливали кукурузой и картошкой, чтобы мясо не отдавало рыбой. Для свиней мама уже стала старой знакомой, они спокойно продолжали искать желуди и коренья, не обращая на нее внимания.
Раньше она пыталась ловить свиней, но те всегда были быстрее. Теперь они не боялись ее, усвоив, что этот человек не представляет опасности. На этот раз она встала и попробовала накинуть плащ на поросенка, но хрюшки лишь немного отошли, даже не обратив на нее внимания. Она поковыляла за ними следом, но ей так и не повезло.
Лучше удавалось охотиться на полевых жаворонков и авдоток, гнездующихся на земле. Она подбиралась к ним очень медленно, с бесконечным терпением, и иногда у нее получалось схватить птичку. Если же не получалось, то она забирала яйца. Редко бывало, чтобы она поела досыта. Из-за температуры и истощения она часто целыми днями лежала — где-нибудь между корней дуба, укутавшись во много слоев одежды. В такие дни она все время думала о Ване, ведь под конец он стал отшельником, как и она теперь.
Когда мама чувствовала себя получше, она брела в деревню, но унести оттуда могла все меньше. Когда было совсем плохо, она сидела в своем убежище, откуда могла видеть все, оставаясь незамеченной. Пока она скользила взглядом по однообразному пейзажу, в ней все сильнее зрела мысль, что никто в мире не может ее защитить. Она была одна.
Выпрыгнув на улицу из окна больницы, она побежала на пляж, чтобы успокоиться и подумать. Только после обеда она решила вернуться в город и пошла к дому, где снимала комнату. Хозяин стоял во дворе у колонки по пояс голый и мылся. По воздуху плыл темный дым, в дальнем углу двора она увидела кострище — огромную кучу пепла и догорающие остатки мебели и ткани.
Первой Елену заметила хозяйка. Из дома она крикнула что-то мужу, и тот оглянулся. Он схватил деревянный брусок и встал прямо перед воротами. Из-за влажных волос он был похож на мокрую собаку, и каждый мускул его дряблого тела напрягся.
— Стой, где стоишь! Если подойдешь ближе — пришибу! Жандармы были здесь и все рассказали. Нам приказали сжечь все, что было в твоей комнате. Кровать, матрац и постельное белье мы уже почти спалили. Теперь на очереди твое барахло…
— Вы не можете этого сделать! У меня больше ничего нет!
— Ты нам должна еще кучу денег, девчонка. В придачу мы теперь на карантине. Думаешь, меня волнует, есть у тебя что-то или нет?
Она ухватилась за ворота, открыла их и вошла.
— Я заберу то, что принадлежит мне.
Хозяин перехватил брусок, дворовый пес залаял и натянул цепь. Мама частенько кормила его, но даже он ее предал. Хозяин уже взмахнул палкой над головой, но вдруг из дома вышла его жена с чемоданом. Она швырнула чемодан как можно дальше, стянула с рук перчатки, пересекла двор и бросила их в огонь.
— Забирай все и исчезни, несчастная. До сих пор мы были бедные, но все же чистые. А теперь он из-за тебя может потерять работу. — Она кивнула на мужа.
— Работу я не потеряю. Кроме меня, никто на такое не согласится, — пробормотал муж.
— Помолчи. До сих пор нас терпели, но теперь того и гляди выгонят из города. Люди болтают, через несколько часов узнают все. А ты проваливай, иначе собаку натравлю!
Мама попыталась найти приют у Ахилла, но он прогнал ее, даже не впустив в парикмахерскую. Она постучалась к господину Грозавеску, но никто не открыл. С улицы она видела, как слегка отодвинули штору. Она искала утешения у батюшки, который жил рядом с православным храмом, но как только он услышал, в чем дело, тут же захлопнул дверь у нее перед носом.
Мама барабанила в дверь кулаками, но священник так и не открыл. Она должна молиться и верить, что Бог послал ей столь тяжкий недуг не без причины, испуганно крикнул он. Пусть сомневается не в Боге, а в себе самой. Не надо пытаться понять, надо верить. И больше ни слова.
У нее был выбор между болотами, что за дюнами, и старым кладбищем. Она выбрала кладбище — за городом, на полпути к пляжу. Кладбище тоже знавало времена почище, когда там хоронили итальянцев, греков, англичан, немцев и русских. Здесь покоились владельцы магазинов, коммерсанты времен расцвета Сулины, путешественники, внезапно заболевшие и умершие, консулы и торговые представители. Матросы с кораблей, затонувших у берега. Капитаны, их старшие и младшие помощники. Благородные дамы и их горничные, благородные мужи и бездельники. Приличные, добрые люди, всю жизнь прожившие в Сулине. Когда наступал их час, они уходили из города, чтобы лечь в могилу неподалеку от того мирка, где они жили.
После провинциальной, медленной жизни, за которую мало что происходило, они были уставшие, и напоследок им оставалось пройти лишь совсем немного. Несколько метров от вечности постоянного ожидания каких-то событий до вечности непреложной.
Среди памятников, часто выветренных и поросших мхом, стоял старый списанный катафалк, который мать приметила еще во время прежних прогулок. В нем она провела много часов, а когда кто-то приходил к своим мертвым, она ложилась на дно повозки. В остальное время она слонялась по пляжу, всегда готовая спрятаться за дюной.
Ее постоянно мучила жажда, но вода из колодца на кладбище была слишком соленая. Нередко у нее не хватало сил встать. Руки опухли. На ладонях и ступнях фиолетовых пятен стало больше, и некоторые из них воспалились. Через два дня голод, жажда и любопытство привели ее обратно в Сулину. Она подождала в темноте, пока Аура вернется домой, и постучала в окно.
— Ты ужасно выглядишь, — прошептала Аура.
— Я уже несколько дней не мылась.
— Да не поэтому. Пятна. Я вот все время думаю, надо ли мне теперь бояться за себя.
— У тебя не найдется чего-нибудь поесть и попить?
Вскоре Аура принесла полную сумку.
— Возьми это и скажи, где тебя найти, я потом принесу еще.
— Ищи меня на кладбище. Еще один вопрос…
— Только быстро, а то хозяйка дома что-нибудь заподозрит.
— Что тете известно о Петру? Он приедет? Корабль скоро должен прибыть.
— Ты все еще надеешься. Нет, Петру не приедет. Отец послал ему телеграмму. А теперь ступай, а то тебя кто-нибудь увидит, и тогда мне тоже не поздоровится.
В пыльном катафалке, полном песка, мать проплакала всю ночь. Ей и самой казалось невозможным ее желание, но все-таки она до сих пор еще надеялась, что Петру увезет ее отсюда и что в Америке найдется лекарство. Казалось, в Америке возможно все, даже излечение от проказы.
Аура на кладбище не появилась. Зато появились жандармы. Мать отошла подальше, чтобы облегчиться, и увидела, что по узкому проселку к кладбищу идут люди в форме. Она едва успела забрать свой чемодан и скрыться через задние ворота. Спрятавшись в дюнах, она издалека наблюдала, как жандармы ищут ее за каждым кустом и деревом, в катафалке и в часовне.
Люди в форме бродили в высокой, выцветшей траве, которая росла из грудных клеток покойников, погребенных в сыпучей земле. Ветер доносил до нее ругательства жандармов и еще кое-что — ее имя.
— Елена, мы знаем, что вы прячетесь здесь! Вас наверняка мучают голод и жажда, у нас есть вода. Вы не выживете здесь в одиночку. Вам станет только хуже. Будьте благоразумны!
— Елена, — кричал другой голос, — нам приказано застрелить вас в случае сопротивления! Но если вы добровольно пойдете с нами, вам ничего не будет.
Потом ветер переменился, и она слышала только крики чаек. И думала о предательстве Ауры.
Раз Петру не приедет, то ей больше нечего делать в Сулине. Она спрятала, как могла, пятна под одеждой и еще до рассвета отправилась к пристани. К ее удивлению, ей удалось без проблем сесть на почтовый корабль. Когда судно отчалило и поплыло мимо домов на набережной, а восходящее солнце окрасило воду багрянцем, мать еще не знала, что никогда больше не вернется в Сулину.
В Кришане она стала искать бабку, но та теперь проводила почти все время в хижине на озере Богдапросте. Мать купила две бутылки цуйки и одну отдала рыбаку, чтобы он отвез ее на озеро. Она вышла на берег прямо перед убогой лачугой, но рыбак отказался идти с ней и пообещал дождаться ее на озере. Войдя в темную хижину и увидев на полу слабое, бесчувственное от алкоголя тело старухи, мать подумала о том, о чем ей придется думать еще бесконечно много раз в последующие десятилетия: «Мне нельзя к ней прикасаться».
В углу она нашла клочок газеты, обмотала им руку и долго трясла тощее тело. Бабка приподнялась на локте, подняв другую руку к глазам, чтобы лучше видеть против света из двери.
— Пресвятая Богородица, где это я? Я что, в аду?
— Вы нет, — ответила мать. — Я вам цуйку привезла. Подожду на улице. Мне нужна ваша помощь.
Наконец бабка, шатаясь, вышла из хижины и махнула в сторону рыбака на озере.
— Это он тебя привез? Не любят они меня. Только боятся. Приходят ко мне, когда во мне нужда, а за моей спиной крестятся, будто я сатана. — Бабка перевела взгляд и внимательно поглядела на мать. Она силилась припомнить, и вдруг ее осенило: — Да я ж тебя знаю. Ты та девчонка, что в Америку хотела. Что, не получилось? Хочешь теперь деньги вернуть? Не повезло тебе, денег уж нету.
— Нет, я не поэтому пришла.
— Где цуйка?
— Я поставила бутылку на землю вон там.
— А почему там?
— Мне больше нельзя ничего трогать.
— Но бутылку-то ты тронула.
— Мне больше нельзя ни к кому прикасаться.
— Но ты ж ко мне прикоснулась.
— Я запуталась.
Взгляд старухи прояснился. Она сделала несколько шагов к бутылке, причмокивая, будто в мыслях уже проверяла качество содержимого. Но остановилась в нерешительности:
— Кто тебе это сказал?
— Врач. Он говорит, с этим нельзя ничего поделать. — Мамин подбородок задрожал, и она разрыдалась. — У вас есть лекарства от всего. Вы моя последняя надежда. Помогите мне!
— Этого я не могу. Никто не может. За то, чем ты больна, отвечает только Бог или дьявол. Твоя мать слишком поздно послала за мной, или ваш идиот греб слишком медленно. Так или эдак, но мои заговоры уже не могли тебя уберечь. Ты родилась беззащитной. Так-то вот. Тут и бабка уж ничем не поможет.
— Но ведь можно же хоть что-то сделать! — в отчаянии воскликнула мать.
— У тебя теперь только три возможности. Либо ты пойдешь в воду и утопишься. Либо сдашься сама, и тебя упекут в лепрозорий, откуда уже не выйдешь. Либо найдешь себе укромное местечко, вроде как у меня тут, и попробуешь выжить. Ты молодая, жизнь еще не кончилась, хоть тебе сейчас так кажется.
Бабка подождала, пока рыбак с прокаженной скрылись из виду. Она подошла к бутылке с манящим напитком и поднесла руку. Несколько раз она нагибалась и все-таки не решалась взять бутылку. Но жажда оказалась сильнее. Бабка шепнула: «Да ну ее к черту!» — схватила бутылку, вытащила пробку зубами и стала жадно пить, пока снова не упала без чувств.
Оставшись на длинной песчаной косе, мать поначалу хотела умереть. Она вставала на пути у лошадей, но те ее пощадили. Она заходила в реку, но и река не хотела ее принять. Она не отдернула ногу, когда на нее заползла гадюка. Но и гадюка не стала лишать ее жизни. В конце концов она решила, что больше не хочет умирать.
В августе матери стало хуже. Она так ослабла, что уже почти не могла вставать и искать пропитание. На коже образовались язвы, они кровоточили и болели. Она едва ощущала свои руки и лишь с большим трудом могла что-то взять окоченевшими пальцами.
Ей казалось, что все-таки придется помереть, поэтому она почувствовала чуть ли не облегчение, проснувшись однажды утром от горячечного сна и увидев двух склонившихся над ней жандармов. Она уже давно не видела своего отражения, но лица этих мужчин сказали ей больше, чем любое зеркало.
Сначала маму доставили на полицейском катере в Тулчу, а потом — тщательно отгородив от зевак, собравшихся на набережной, — посадили в карету «Скорой помощи». Ей приказали все время держать руки под мышками. Извилистая дорога шла вдоль широкой полосы тростника, которую регулярно заливал Дунай. С другой стороны шли то кукурузные, то подсолнуховые поля, а за ними плавно поднималась цепь пологих холмов. Пыльные проселки вели в их складки и борозды, словно в какой-то таинственный мир. Мама смутно различала все это через маленькое грязное окошко.
Через полчаса с лишним машина сбавила ход. Мама посмотрела направо и в последний раз увидела речной простор, затем слева показался белый крест — знак поселения прокаженных. «Скорая» повернула налево, следом за ней — жандармы. Они проехали еще два километра по гравийной дороге и остановились. Мама слышала, как водитель с кем-то разговаривает, затем заскрипели ржавые ворота, машины проехали, и позади снова заскрипело.
Она осталась одна, с чемоданом, матрасом, одеялом и кульком продуктов. Жандармы отказались выходить из машины, а водитель «Скорой» объяснил, что теперь ей надо искать место в поселении. Что время от времени будет приезжать врач, осматривать и промывать раны. Ампутировать пальцы рук и ног, носы, кисти и ступни, если надо. Он будет привозить перевязочные материалы и лекарства. Иногда будет появляться даже батюшка — для утешения. Обо всем остальном ей надо договориться с обитателями поселения.
— Желаю удачи! — сказал шофер и машинально протянул руку.
Но мама не вынула рук из-под мышек. Через минуту она осталась одна на гравийной площадке посреди барачного поселка, построенного на дне узкой лесистой долины. Слева и справа круто поднимались склоны холмов, а впереди — в конце долины — стояла недостроенная церковь. Позади — там, откуда она только что приехала, — была натянута колючая проволока. В сумерках она видела, как охранник закуривает сигарету.
Вокруг было так тихо и пусто, что она подумала, будто, кроме нее, здесь никого нет. Но она ошибалась. Словно дождавшись, пока они останутся в своем кругу, начали появляться жители, порождения долины. Мать попала в окружение. Казалось, что холмы ожили, они кишели людьми, которые жили на лесистых склонах и вдруг пробудились от летаргии.
Они приближались со всех сторон, чтобы, хоть и в сумерках, поглядеть на новенькую. Одни подходили робко и нерешительно, другие — уверенно, всего человек двести. В колонии поднялся переполох, здесь редко бывали гости, еще реже появлялся кто-то, кому придется остаться навсегда. Новеньких привозили несколько раз в год, в том числе перепуганных детей и стариков. У некоторых еще не было заметно явных признаков болезни, других проказа уже успела пометить. А вот посмотреть на молоденьких девушек там доводилось редко.
В наступающей темноте было трудно понять, кто к ней подходит и чего от нее хотят все эти люди. Она видела скрюченные, хромающие фигуры, опирающиеся на палки и костыли. Некоторые ползли на коленях, потому что у них не было ступней, других вели под руку, потому что они были слепые, а третьих несли на себе те, кому еще хватало сил. Однако большинство из них были истощены и слабы.
Кольцо вокруг нее сжималось все теснее, но, казалось, больные не опасны, а лишь любопытны. Лишь с расстояния в несколько метров она могла как следует рассмотреть этих людей. У некоторых от носов и ушей остались только обрубки, не хватало бровей и губ, зияли пустые глазницы. В эту минуту она ужасно разрыдалась, тут одна женщина из толпы вышла вперед и отогнала любопытных.
— Да оставьте вы в покое бедную девочку. Вы ее пугаете! — крикнула она.
Но женщина ошибалась — мать плакала не от страха. Она внезапно и отчетливо поняла, что видит свое собственное будущее.
— Пойдем со мной. У меня в комнате пока есть свободное спальное место, — сказала ей женщина.
Мать плакала всю ночь и еще несколько дней. Она забилась в свой уголок, и все утешения тети Марии были тщетны. Мать смотрела на тело соседки, все в кровавых язвах, которые та промокала овечьей шерстью. На ее почти беспалые руки, не способные ничего удержать и все-таки пытавшиеся застегивать юбку, мыть посуду и поддерживать чистоту и порядок в тесной темной комнатушке.
— Ты посмотри, меня это нисколько не беспокоит. Через пару недель ты тоже привыкнешь. Нам всем поначалу приходилось нелегко. Вот увидишь, однажды ты здесь почувствуешь себя свободной, ведь ты такая же, как все остальные.
— Я не такая, как вы, — пробормотала мать.
— Да нет, такая же. Ты думаешь, тебе сейчас плохо, но будет гораздо хуже. Возможно, у тебя отвалятся пальцы на руках и ногах. Может быть, ослепнешь. Бог к нам безжалостен. Единственные, кто будет с тобой, это мы. Так что тебе лучше привыкнуть к мысли, что ты здесь дома.
Тетя Мария каждый день приносила маме еду. Из кухни на другой стороне площади она осторожно несла в культях жестяную миску. Немного жидкой каши, а сверху два куска черствого хлеба. Каждые несколько шагов она останавливалась, чтобы ничего не расплескать. Каждый раз ей приходилось шугать любопытных, столпившихся у двери поглазеть на новенькую или задать неизменные вопросы: «Ты привезла сигареты? Тебе не сказали, когда нас отпустят? От этого еще не изобрели лекарство? Когда нам наконец привезут мяса? Там вообще знают, что мы есть? Что сейчас происходит в мире?»
Старания тети Марии оградить мать были напрасны, поскольку через несколько минут толпа снова собиралась у двери. Бесконечная, монотонная череда вопросов, на которые не было ответов, начиналась сначала. Мать не всегда могла разглядеть вопрошающих против света, но даже то, что она видела, ужасало ее. У большинства не было зубов, лишь у немногих целы руки и ноги.
Ей казалось, что в этом месте собралось все несчастье мира, все его уродство. Просторы дельты, яркий солнечный свет — исчезли. Рыбы, что прячутся в мутной реке от человеческой хитрости. Птицы, что проводят всю жизнь на одной ноге. Дикие, пугливые лошади и гигантские ночные бабочки. И краски тоже: голубые дома липован, желтые и белые кувшинки, зеленые пруды и отливающая бурым река. Непрестанный шум пульсирующей, борющейся, голодной, спаривающейся и боящейся жизни.
Тетя Мария, которая была всего на несколько лет старше матери, пыталась сделать комнату хоть немного уютнее, украшая ее настенными коврами и расшитыми скатертями, глиняной посудой и картинками. Она сидела на краю кровати, опустошая мамину нетронутую миску, потом вытерла рот рукавом, все это время ее внимательные глаза следили за каждым движением молодой соседки.
— Ковром любуешься? Его мне сестра в тридцать пятом привезла. А приборы — от моего мужа. С тех пор я о них ничего не слышала. Они меня забыли, но меня это больше не волнует. Я их теперь тоже едва помню. Не хотелось бы мне, чтобы они меня такой видели. Пускай уж лучше живые живут с живыми, а мертвые — с мертвыми.
Целыми днями женщина что-то рассказывала, а мама не решалась выйти наружу. Она узнала, что в колонии не хватает всего и что людям приходится перевязывать глубокие раны и гниющую плоть шерстью, потому что нет бинтов.
Узнала, что они держат овец, кошек, птиц и собак и у каждого в доме есть животное, за которым человек ухаживает и разговаривает с ним, чтобы утешиться. Никому не приходило в голову убить и тем более съесть питомца, несмотря на постоянную нехватку мяса в рационе. Их болезнь требовала обильного и здорового питания, но как раз оно-то и было в дефиците.
Многие начали сажать огороды, но корчевать лес беспалыми руками было трудно. Церковь должны были вот-вот достроить. Когда строители приезжали в колонию, больным приходилось целыми днями сидеть дома. Батюшка уже объявил, что приедет и освятит церковь. Потом он собирался приезжать каждый месяц и проводить богослужения. Тетя Мария решила на них не ходить. Раз Бог допустил такое, то пусть и он остается в одиночестве.
Некоторых больных иногда навещали, к другим уже десятки лет никто не приходил. В колонии не было радио, о движении мира они узнавали только по обрывочным воспоминаниям редких посетителей. Да по рассказам охранников. Прокаженные слышали, что есть такие Гитлер и Муссолини и что на родине тоже бузят фашисты. Они знали, что назревает война, но это мало кого заботило.
Ведь начнись война, то она была бы по ту сторону колючей проволоки, а они — по эту. Если будет война, то они — в самом безопасном и мирном месте на свете. Ни одна армия — ни своя, ни вражеская — не рискнет зайти к ним. «Армия не зайдет, а вот голод… — комментировала тетя Мария. — Если в стране нечего будет есть, то мы тут умрем с голоду».
Они знали, что в Америке строят дома до облаков и мосты из железа; что туда летают самолеты и плавают огромные пассажирские корабли. Кое-кто мечтал перебраться туда, но над ним смеялись. «Прекращай, а то и нам захочется. Такие мечты ни к чему», — говорили ему. Вслед за хохотом всегда наступало долгое молчание, ведь каждый надеялся. Каждый был на пути к какой-нибудь Америке.
— Нас когда-нибудь вылечат, тетя Мария? — спросила мама как-то вечером, когда они уже легли спать.
— Это вряд ли. Здесь мы живем, здесь и останемся. Здесь нас примет земля. Но теперь все не так плохо, ведь мы нашли друг друга.
Через две недели после маминого приезда у колючей проволоки разгорелся оживленный разговор. Тетя Мария и мама, впервые вышедшая на разведку местности, увидели, как охранники просовывают сигареты через сетку забора. Но в этом не было ничего особенного, причиной переполоха послужило другое. Накануне грянула война в Польше.
Тетя Мария ни на минуту не оставляла маму одну. Она показала, где находится курятник, а где кухня, объяснила координаты предстоящей жизни. Она отгоняла назойливых мужчин, ведь те, несмотря ни на что, остались мужчинами. Одного за другим тетя Мария представляла маме жителей лепрозория. И постепенно они приняли ее.
Однажды вечером тетя Мария повела маму в столовую, где ели те, кто еще мог туда доплестись. Она считала, что и Елене лучше есть там, а не в тесной комнатушке. Единственная лампочка освещала тусклым светом узкую площадь, которую они пересекали. Мама поддерживала подругу, но все равно они продвигались очень медленно. Прошла целая вечность, пока тетя Мария перевязала себе ноги и смогла натянуть башмаки. Мать наблюдала за ней, затем молча взяла и помогла. Так же молча соседка приняла ее помощь.
На другой стороне площади, в окне рядом с кухней, горели несколько свечей. Мама и тетя Мария прошли по узкому коридору туда, где горел свет. Он был теплый, желтоватый, но слишком слабый, чтобы осветить все помещение целиком. На стенах мелькали беспокойные тени. Там собралось человек десять — двенадцать, они ждали, когда принесут дымящийся котел. Перед каждым стояла жестяная миска, но ложек не было.
Когда две кухарки, не сильно изъеденные болезнью, внесли котел, кто-то крикнул:
— Мясо есть, в конце-то концов?
— Сегодня даже кости есть, — ответила одна из кухарок и засмеялась.
Все были голодные и нетерпеливые, но сдерживались, пока последняя миска не наполнилась фасолью и костями. И тогда набросились на еду. Одни брали миски предплечьями и подносили ко рту, другие попросту уткнулись лицами в похлебку. А кто-то даже научился держать ложку пальцами ноги.
Чавканью и прихлебыванию не было конца. Мать хотела сбежать, но тетя Мария ее удержала:
— Лучше посмотри. Скоро тебе тоже придется так есть.
Мать смотрела на едоков, а заодно и на тени на стенах. Но тени молчали, они ни за что не выдали бы людей.
Год спустя два события изменили монотонную, размеренную жизнь матери. Колония решила выделить ей участок земли под огород и подарить овцу. На следующий день из Кришана прибыл батюшка, чтобы освятить церковь. К общему удивлению больных, собравшихся у церкви, он первым делом велел отвести его к дому Елены и тети Марии. Батюшка был уже глубоким стариком, стал еще неопрятнее, еще толще, еще ворчливее и скупее.
Потоптавшись перед дверью, он все же решился войти и отправил тетю Марию на улицу. Тяжело дыша, он опустился на стул всей тяжестью своего и тела и своей веры. Несколько секунд они с матерью смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец, священник спросил:
— Что ж ты здесь прячешься? Церковь освящают. Не хочешь пойти помолиться?
— А какой смысл?
— Да что ты такое говоришь? — вскричал священник.
— Вот скажите мне, батюшка, какой рукой креститься, когда у меня пальцев не останется?
Старик задумчиво погладил бороду:
— Ты меня не знаешь, а вот я тебя знаю. Я благословил твою мать и дом после твоего рождения. Я тебя крестил. Твоя мать не хотела ничего знать о Господе, и это наказание. Но я здесь не поэтому. Матушка твоя преставилась. Повесилась в вашем доме.
Оба молчали, и священник наблюдал маленькими злобными глазками, какое впечатление произвели его слова.
— Тебе нечего сказать? Она была грешница, но ведь она тебе мать.
— Я едва знала эту женщину. По мне, так она могла бы повеситься и раньше.
Поп, словно дождавшись подходящего повода, вскочил и завопил в ярости:
— Да что вы за люди такие? Вы как звери. Эта дельта вас портит! Суеверия вас портят! Вы все время оскверняете промысел Божий своим невежеством, ленью, жестокосердием!
Он подбежал к двери и закричал над головами ожидающих людей:
— Вы не любите Господа! Вы видите только себя и свое горе. Но чтобы Господь вас спас, вы должны служить Ему от всего сердца. А вы блудите и пьянствуете, живете в грязи. Вы все время хотите, чтобы Господь для вас что-нибудь сделал, а что вы делаете для Него? Вы — варвары. Неблагодарная чернь. Вы думаете, Бог виноват в ваших бедах. Да, Господь может вас покарать, может даже наслать на вас проказу. Он может вас искалечить, кусок за куском лишать вас частей тела. Но не он в этом виноват, а вы и ваши грехи. Ваш отказ пустить Господа в свое сердце. Ведь Господь может карать, но Он может и спасти вас. Пятьдесят лет я проповедую это, но мои проповеди попадают только в глухие уши глупых рыбаков. — Священник вновь повернулся к матери и приблизился к ней. — А ты? Кто знает, с кем ты блудила, что подцепила такую болезнь. Твоя мать уж точно блудила, а твой отец пьянствовал. Да что я говорю — «твой отец»? Твой настоящий отец был идиот. Теперь твоя мать повесилась. И к лучшему. Так она скорее встретится с дьяволом. Церковь самоубийцам все равно помочь не может. Я вас ненавижу! Ненавижу вас!
Дальше священник говорить не мог. Задыхаясь, он оперся на спинку стула. На улице никто не решался прервать молчание. Мать слушала этого человека с возрастающим удивлением, и ей казалось, что он пытается нарушить спокойствие, которое она обрела лишь недавно. Он словно хотел разрастись в ее мире, хотя его об этом никто не просил.
Священник уже собирался уйти, но вдруг вспомнил что-то, сунул руку в карман рясы, достал конверт и бросил его на койку Елены.
— Это тебе шлет некий господин Грозавеску из Сулины. Мне передал тамошний священник.
— В следующий раз, когда вы придете, — сказала мать спокойно и твердо, — я с удовольствием дотронусь до вас моими прокаженными руками. Тогда вы сможете сразу остаться у нас и служить свои молебны каждый день.
Из конверта выпало несколько купюр. Прочитав письмо, мама узнала, что у старика все хорошо, как и у Ахилла и всех знакомых посетителей парикмахерской. Поначалу все боялись, что она их заразила. Но теперь ей скорее сочувствуют, чем осуждают. На волю Божью человеку нельзя сетовать. Петру, его сын, тоже счастлив, продолжал старик. Он приехал в Сулину и все-таки нашел себе невесту. Вместо Елены его встретила на пристани Аура. Она действительно подходит ему лучше, они сразу друг другу понравились. Они уже там, в Куинсе, в Нью-Йорке. Скоро они справят свадьбу в еврейском ресторане, хоть они совсем и не евреи. Они передают ей привет. А она должна положиться на Господа.
Мать машинально порвала письмо на мелкие клочки.
— Что там было? — спросила тетя Мария.
— Ничего, что еще было бы важно. Знаешь, кажется, я придумала хорошее имя своей овечке.
— Какое же?
— Аура.
Она рассмеялась и никак не хотела остановиться. Тетя Мария смеялась с нею, радуясь, что у ее подопечной все хорошо. Заливистый смех из их темной крошечной норки разнесся над площадью и разбудил спавшую там собаку. Этот пес еще щенком решил жить среди прокаженных.
Матери повезло дважды в жизни. Впервые — когда она встретила тетю Марию, ставшую ее неразлучной спутницей. Их стали называть не иначе как сестричками. И в 1960-м, когда она влюбилась и родила дочь.
Меня, третью Елену.
Глава пятая
Дед очнулся не в квартире беременных и не у чахоточной женщины. Он очнулся на кровати у одного приветливого еврея, который выхаживал его много дней. Дед видел его морщинистое лицо, его рука подносила к губам больного ложку с теплым супом-крупником. Уже ради вкуса мяса и грибов, петрушки и лука стоило выжить.
В те редкие моменты, когда дед пробуждался от лихорадочных снов, старый еврей всегда был рядом с ним. Часто старик сидел к нему спиной и, казалось, молился, склонившись над хлебом и стаканом вина на столе. На голове у него было что-то вроде шарфа с бахромой на четырех углах, а на левую руку намотан кожаный ремешок. Вокруг него, словно пыль, парило облако серого и белого пуха.
Дед был слишком слаб, чтобы задумываться, реально ли то, что он видит. Он пробовал приподняться на локтях, но падал обратно на подушки. Однажды ему даже привиделось, будто перед ним стоит кашляющая мэм. Она еще больше исхудала, выглядела почти как скелет и смотрела на него с упреком.
— Где я? — спросил он в тот вечер, когда смог сесть.
— Ты у еврея Гершеля. Я нашел тебя полумертвым на лестнице.
— На Орчард-стрит?
— Прямо напротив двери квартиры круглых женщин, с которыми ты уже знаком. В тот раз ты разбил им сердце своим пением. Они там живут в тесноте, как мои гуси в подвале.
— Ваши гуси?
— У меня внизу гусиная ферма. Я кормлю и воспитываю их, будто они мои родные дети. Каждый четверг и пятницу по утрам и всегда перед Ханукой приходит резник, кошерный мясник, после того как мои покупательницы выберут себе птиц. Я люблю своих гусей, но что мне остается? Каждому нужно с чего-то жить. Я продаю гусей польским, русским, немецким евреям, даже покупатели из Йорктауна специально приходят ко мне в гетто. Я зарабатываю достаточно, чтобы не пускать к себе еще пятерых жильцов. Как и моя соседка, у нее гешефт тоже очень прибыльный.
— На чем же она все-таки зарабатывает?
— Боюсь, что ты довольно скоро и сам это узнаешь. Хотя я бы предпочел, чтобы ты туда не ходил. Сделай одолжение старому Гершелю.
— Я сильно болел?
— Я уже думал, что придется читать по тебе поминальную молитву, хоть и не знаю, еврей ты или нет. А проверять не стал. Теперь спи и набирайся сил.
Открыв глаза в следующий раз, дед получил горячий чолнт и жадно его съел.
— Вот и хорошо. Кто может так кушать, тот уже не умрет. — Гершель помедлил и спросил: — А имя у тебя есть?
Дед перестал жевать. Даже в таком состоянии он понимал, что от его ответа зависит многое. Вполне возможно, его имя решит, сможет ли он провести остаток зимы в теплом местечке и есть такую же вкуснятину, или его отправят восвояси.
— Спичка, — ответил он.
— Не бывает таких имен. Есть у тебя человеческое имя?
На этот раз без сомнений и с полной уверенностью его губы произнесли:
— Берль!
— Ах так, значит, ты все-таки еврей. Откуда ты?
— Из окрестностей Лиско. Отец держал шинок на полпути к Карпатам. Это такие горы.
— Я знаю, что такое Карпаты. Где твой отец?
— Его отправили назад из-за сердца, и мы больше никогда ничего о нем не слышали.
— Со мной тоже чуть не случилось такое из-за воспаления глаз. А мать у тебя есть?
— Говорят, она сошла с ума и бросилась под телегу. Мне тогда всего пять было.
— Эх ты, бедняга. Значит, ты остался сам по себе.
— Так точно, сэр, можно так и сказать — совсем один.
Казалось, Гершеля вовсе не огорчило то, что он услышал. Он налил себе вишняку и тихо сказал:
— Ну, теперь у тебя есть я. Приляг, полежи еще немного.
Когда дед проснулся в третий раз, за окном было темно, а в доме ни души. В воздухе летало еще больше гусиного пуха, в квартире Гершеля словно шел снег. В другой комнате, где спал старик, стояли несколько мешков с пером и несколько недонабитых подушек, еще там была швейная машинка, подсвечники на семь и восемь свечей, необычный шарф с бахромой по углам. На полке стояли зачитанные книги, какие дед часто видел у набожных евреев возле синагоги, а в шкафу — несколько костюмов, рубашки и вторая пара обуви. Книги деда не заинтересовали, а вот содержимое шкафа рассказало ему все, что нужно: дела у его благодетеля шли совсем не худо.
От скуки дед сел на край кровати и начал набивать подушки пером. Он работал так сосредоточенно, что не услышал, как пришел Гершель. Вдруг увидев, что старик наблюдает за ним, дед вскочил, и перья высыпались на пол.
— Так держать, Берль. Хорошо, что ты хочешь приносить пользу. Бог дает только трудолюбивым. Кстати, ты говоришь на идише? Я хоть и знаю английский, предпочел бы идиш.
— Только чего на улице нахватался, сэр: тромбеник, любче, нафке, шмегегге, ганеф, шлимазл.
Старик рассмеялся.
— Ну самое полезное усвоил, так ведь? Но ты не шлимазл, иначе был бы уже в земле. И больше не называй меня «сэр», зови меня «Гершель».
Затем старик пошел в переднюю комнату и стал накрывать на стол.
— Сэр Гершель, у вас нет жены, которая могла бы сделать это за вас?
Хозяин пропустил вопрос мимо ушей.
— Гусь — лучший друг еврея-ашкеназа, как собака — лучший друг гоя. На гусином пере нам хорошо спать. Я знаю в гетто людей, которым есть нечего, но спят они на гусиных перьях. Некоторые привезли подушки с собой из Галиции. А гусиная печень — это же деликатес. Печень у меня покупают все рестораны — немецкие, еврейские, ирландские. Но кое-что вкусно только евреям — гусиный смалец. Нам нельзя использовать свиное сало. Гусиный смалец я продаю на рынке на Хестер-стрит.
Гершель развернул принесенную еду, разложил все по тарелкам и подозвал Берля.
— Послушай-ка еврейские благословения перед вечерней трапезой, мальчик. Может, когда-нибудь ты тоже захочешь их произнести: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, дающий хлебу вырасти из земли, сотворивший плод виноградной лозы и плод земли. Благословен Ты, по слову Которого существует все». — И они сели за стол. — Однако о самой большой пользе от гусей я тебе еще ничего не рассказал. Зимой, на Хануку, ашкеназы любят кушать гусей. Ты уже прикинул, сколько ашкеназов живет в Нью-Йорке? Так что работы нам хватит, скорее гуси переведутся, чем покупатели. — Тут Гершель пояснил: — Я имею в виду, если ты однажды пожелаешь перенять у меня дело. Доедай все, Берль! Женщина, что нам готовит, недешево берет.
Повторять дважды Берлю было ни к чему.
Позже Гершель снова подозвал его:
— А теперь, мальчик, послушай молитвы на ночь. Может, однажды и ты захочешь их произнести: «Благословен Ты, га-Шем, Бог наш, Царь вселенной, смежающий сном глаза мои, дремотой — веки. И да будет угодно тебе ниспослать мне мирный сон. И пробуди меня назавтра для благополучной жизни и мира. И пусть не тревожат меня мысли мои, и дурные сны, и греховные помыслы. И верни свет глазам моим наутро, чтобы не уснул я смертным сном». Таких красивых молитв, как у евреев, нет больше ни в одной религии, правда, Берль?
Берль подтвердил от чистого сердца.
Гершель был человек очень занятой. Вместе с несколькими помощницами он откармливал гусей, относил мертвых птиц покупателям, а живых — резнику, если тот не мог зайти сам. Он снимал с гусей кожу и вытапливал из нее жир, раскладывал смалец в баночки и продавал на рынке. Гершель постоянно искал желающих купить подушки, которые Берль набивал пухом и пером, а он зашивал на машинке. Но несмотря на свою неутомимость — а может, как раз из-за нее, — Гершель становился все более хрупким, и Берлю приходилось ему помогать — поднимать по лестнице покупки, продукты, мешки с пером.
Вернувшись вечером в квартиру, умывшись водой, принесенной Берлем, благословив еду, принесенную Берлем или им самим от одной из соседок, поужинав и позволив себе рюмочку кошерного вишняка, Гершель начинал свои долгие монологи. Он рассказывал пареньку о шестистах тринадцати еврейских заповедях и запретах, от которых Берлю становилось дурно. Для беспризорника вроде него и одной-единственной заповеди было уже чересчур.
Гершель рассказывал, что скоро они будут праздновать Новый год, что, если быть точным, евреи отмечают Новый год дважды в год — весной на Песах и осенью. В апреле они будут есть пресный хлеб, который евреи взяли с собой, убегая из страны, о которой дед еще никогда не слышал. Берль узнал множество чудесных историй: море разверзлось перед предками Гершеля и сомкнулось над головами их преследователей. Берль попробовал представить, каково бы это было у Кони-Айленда, когда он упал с Луны на землю. Очень-очень было бы больно, думал он, пока старый еврей просвещал его дальше.
Дед кое-что узнал об очень важном человеке по имени Моисей и о множестве бедствий, которыми Бог наказал врагов евреев. Он узнал, что перед праздником им надо будет сжечь весь оставшийся в доме хлеб. Берль был против такого расточительства и не соглашался, пока Гершель не уверил его, что голодными они все равно не останутся, ведь евреи очень ценят пищу. Лишь тогда Берль успокоился и примирился с верой своего спасителя, требовавшего есть пресный хлеб и непрерывно произносить благословения, вместо того чтобы просто наброситься на еду.
Больше всего Берля волновало, что с ним будет в сентябре. Что Гершель отмечал Новый год два раза в год, его не смущало, хоть он и не понимал, в чем тут смысл. Но вот оттого, что на праздник надо не только сжечь хлеб, но еще и от чистого сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, Берль очень беспокоился. Ведь несмотря на юный возраст, в его жизни уже случилось довольно много такого, в чем можно было бы покаяться. Но как это — покаяться от чистого сердца?
Гершель уже очень нравился деду — он его не бил, ничего не отнимал, а, наоборот, все время что-то давал: фаршированную рыбу в шабат, теплое белье, советы. Никогда прежде у деда не было возможности к кому-то по-настоящему привязаться, пожалуй, кроме как к Берлю. По-своему он полюбил и странную еврейскую религию, но причины этой симпатии Гершелю не понравились бы: дед не хотел каяться от чистого сердца, не хотел стать богобоязненным, но уж очень вкусная была еда.
Каждые несколько недель отмечался какой-нибудь религиозный праздник — волосы надо было то отстригать, то опять отпускать. Надевать и снимать свой саван. Полагалось то бояться, то снова радоваться и танцевать в синагоге, как сумасшедший. Все эти праздники были очень сложны, а обычные праздники деда — очень просты: пиво, табак, кости и песни. И все-таки соблазн полакомиться дольками яблок с медом осенью, а зимой — нежной гусиной грудкой и латкес был весьма велик.
Несмотря на такие радужные перспективы, Берль решил остаться у Гершеля самое позднее до конца лета, а когда дело дойдет до покаяния от чистого сердца, сделать ноги. Берль не подозревал, какие планы на него у Бога и что список его грехов до сентября станет куда длиннее. И еще он не знал, что Господь вскоре приберет Гершеля к себе.
Берлю тогда жилось хорошо. Так хорошо, что он мог бы привыкнуть к такой жизни. Ему не приходилось напрягаться, чтобы утолить голод. Больше не надо было все время быть начеку. Уличная жизнь проходила вдалеке от него. Лишь иногда он ходил с Гершелем на рынок на Хестер-стрит, толкая тачку с гусями в клетках, окунался в суету гетто и видел свой прежний мир.
Гуси отчаянно гоготали, словно знали, какая их ждет судьба. Или же он таскал мешки, набитые мертвыми птицами, и бочонки смальца, а Гершель торговался с продавцами. На завтрак Берль получал стакан пахты и кусок хлеба, а на ужин — наваристый борщ. Днем он мог есть сколько угодно хлеба со смальцем. Он не понимал, почему Гершель так о нем печется, но ему это было ой как по душе.
Но кое-что привязало Берля к дому на Орчард-стрит сильнее доброты старика Гершеля — квартира толстух. Как только дед выздоровел, он стал бродить по дому — то от скуки, то ходил в подвал за пухом для подушек. В подвале две толстые бабы откармливали гусей.
С лестничной клетки ему были хорошо видны дородные ляжки, сжимавшие птиц. Эти бабы работали в любое время дня, казалось, они и живут там же, с гусями. Через узкие оконца в подвал проникало лишь немного света, по дому распространялась вонь и раздавался возмущенный гогот.
Берль время от времени играл в мяч во дворе, в кости — у подъезда и забирался на крышу проверить свой тайник. Гершель рассказал ему, что мэм стала слишком слаба, чтобы осилить подъем на крышу. Дед нарезал круги у двери, за которой скрывались беременные женщины, однажды с большим трудом поднявшиеся по лестнице. Каждая сжимала в руке клочок бумаги с именем и адресом мэм.
На этаже была и четвертая квартира. Там днем и ночью рожали, вопли рожениц раздавались так громко, что Гершелю и Берлю мешали спать. Таких пронзительных криков Берль прежде не слышал. Но во всем этом кое-чего не хватало — детей. За все время Берль не видел ни одного новорожденного, лишь иногда слышал краткий плач. Уходя из этого дома, женщины — одни с явным облегчением, другие подавленные — никогда не выносили с собой младенцев.
Однажды, лежа в постели и прислушиваясь, Берль шепотом спросил Гершеля:
— А где же дети?
— Приходит какой-то мальчишка и уносит их сразу после родов. Больше ничего и знать не хочу.
Однажды случилось так, что Берль столкнулся с мэм на лестничной клетке. Чтобы добраться до двери напротив, больной женщине приходилось держаться за стены и перила.
— Мальчик, ты должен мне денег. — Она сильно закашлялась, зажав рот платком. — Ты все еще умеешь петь или после воспаления легких голос у тебя уже не тот?
— Кажется, у меня еще получается.
— Ты здоров?
— Здоров.
— Тогда заходи как-нибудь по-соседски. Сможешь у нас еще подзаработать.
Берль снова стал петь. Он пел во все горло для новых женщин, ведь никого из тех, что он видел в прошлый раз, там уже не осталось. Но и эти встретили его с воодушевлением. Они плакали, подпевали, прижимали его к себе и целовали после каждого куплета. Некоторые, как и тогда, были уже больны и истощены, но многие сияли здоровьем — жизнерадостные, пухленькие, кровь с молоком.
С тех пор Берль проводил вечера с Гершелем, а дни — у беременных. Старик продолжал рассказывать ему о заповедях и запретах, скорбных и веселых еврейских праздниках, о нескончаемых стараниях иудеев жить безгрешно. Что казалось Берлю утомительным, бесполезным и невыполнимым стремлением. Ведь он целыми днями предавался греху. Как только Гершель выходил из дому и сворачивал за угол на Деланси-стрит, Берль спешил к двери напротив, и беременные встречали его охами и вздохами: «Вот и он, наш маленький Карузо!», «Вот он — человек, который приносит счастье!». Так его окрестила Бетси, маленькая рыжеволосая ирландка, которой пришлось пройти от дома на Элизабет-стрит всего несколько кварталов, чтобы избавиться от позора. «Человек, который приносит счастье» — для него эти слова были даже приятнее крупника и чолнта, которыми его потчевал Гершель.
Дед, конечно, не понимал, почему это женщины плачут от его пения, но при этом счастливы. Однако он помнил слова Одноглаза, который был их наставником и в таких делах: «Женщины — странные существа. Когда у них слезы брызнут — не угадаешь. То они плачут от тоски, то от боли, а то вдруг от счастья».
Запах этих женщин преследовал Берля, пока он бегал по лавкам, покупая мыло, чулки, кофе, чай, мед, свечи, сигареты, джин и еще тысячу мелочей, что ему заказывали. Беременные были помешаны на еде: мясные паштеты, устрицы — в те времена доступные всем, — блинчики с селедкой, с творогом, с сардинами или со сметаной, свиные ножки, капуста.
Вернувшись с покупками, Берль пел. Если бы Профессор Хатчинсон увидел его в окружении женщин, он точно пожалел бы, что не дал шанса мальчишке. Беременным нравились грустные песни, слушая их, они могли наконец-то поплакать. Он пел песни о прощании с Ирландией, о покойных ирландских матерях, песни об ирландцах, отправившихся в Америку и оставшихся несчастными здесь:
I’m a decent boy just landed From the town of Ballyfad I want a situation, yes, And want it very bad. I have seen employment advertised, «It’s just the thing», says I, «But the dirty spalpeen ended with ‹No Irish Need Apply›.{8}Но женщины хотели и веселых песен, таких, чтобы хлопать в такт и подпевать. Дед уже перестал смущаться и не ломался:
Oh! The night that I struck New York, I went out for a quiet walk; Folks who are «on to» the city say, Better by far that I took Broadway; But I was out to enjoy the sights, There was the Bowery ablaze with lights; I had one of the devil’s own nights!{9}Тут все вместе подхватывали припев, который выучили в кабаках, где эту песню очень любили:
The Bowery, the Bowery! They say such things, And they do strange things On the Bowery! The Bowery!{10}В такие моменты они смеялись, обнимали и целовали мальчика, он был им всем немножечко сыном — юный певец, способный заставить их грустить или веселиться, а иногда и грустить, и веселиться одновременно. Перед ним они не стеснялись безудержно рыдать и хохотать. Своим пением он напоминал им, что они живы. А уж когда он пел им о любви, лица их становились нежными и мечтательными, и даже не зная слов, они подпевали мелодию:
When first I saw the love light in your eye I dreamt the world held nothing but joy for me And even though we drifted far apart I never dream, but what I dream of you…{11}Когда Бетси прижала его к себе и спросила, как его настоящее имя, он не колеблясь ответил: Падди, а когда тот же вопрос задала итальянка, он назвался Паскуале, а еврейке — Берль. Его не волновало, догадываются ли девушки, что он их обманывает, казалось, девушкам тоже на это наплевать. Обман считался там самым легким из грехов.
Для беременных итальянок он исполнял отрывки неаполитанской песенки, которую где-то слышал. Он рассказывал им, как в Пьетрамеларе крупный земле-владелец раз в год, на Рождество, приезжал в деревню верхом на коне и швырял крестьянам куски мяса. Как родной отец продал его какому-то человеку и тот таскал его из порта в порт: из Неаполя в Геную, из Генуи — в Марсель, заставляя петь на улицах. На дорогу до Америки он заработал буквально голосом.
У родильниц болели набухшие груди, и они стали кормить своим молоком Берля. Молоко текло по коже ручейками, но избавить женщин от боли было некому. Их организм срабатывал как положено, но работал вхолостую. Бетси первая нашла выход. Это произошло легко и естественно. Ей нужен был сосущий рот, и лучше всего годился рот Падди. Рот, умевший так петь, наверняка мог так же хорошо сосать.
По вечерам дед жил жизнью еврейского мальчика Берля, а днями — пил ирландское, итальянское, еврейское и иногда немецкое молоко. Он насасывался молоком евреек, которых заманили в Америку, пообещав с три короба, но здесь они стали нафками — шлюхами. Пил молоко негритянок, которые работали в богатых домах на Вашингтон-сквер и понесли от господ. И молоко матерей двоих-троих детей, которые не могли себе позволить еще одного ребенка.
Он был Берлем, Падди или Паскуале, как кому хотелось. В него текло молоко бездетных матерей. Оно струилось из многих источников и питало его, при этом он порой становился сонным, как младенец, и задремывал. Одна прижимала его к груди нежно, другая — яростно, с чувством огромной вины. Родильницы спорили за него, за время, которое могли провести с ним. Времени этого все равно было немного, ведь через три-четыре дня после родов они должны были покинуть эту квартиру. Но в эти дни они кормили «маленького Карузо» грудью, и их молоко смешивалось в нем в единый, сладкий, дарующий жизнь поток.
А Гершель водил его с собой в синагогу, чтобы он постепенно привыкал. Там Берль слушал, как старик истово читает «молитву о росе». Дома они ели мацу — еврейский хлеб свободы — и даже сожгли несколько кусочков старого хлеба. Из-за того что в стародавние времена погибло двадцать четыре тысячи учеников некого рабби Акивы, Берлю целый месяц нельзя было ни стричься, ни брить редкую щетинку на подбородке. В ночь тиккуна он открыв рот смотрел, как евреи в синагоге на Норфолк-стрит молятся, читают Тору и страстно спорят. Только на рассвете они — усталые, но довольные — обнялись и разошлись по домам.
Берль узнал, что каждый еврей стоял на горе Синай, когда Бог даровал Тору этому чудно́му народу. Он давно уже ничему не удивлялся. Казалось, для Гершеля не было ничего странного в том, что он хоть и живет сейчас, тогда стоял на горе. «Бог заключил с нами союз. С каждым евреем». Берль и верил, и не верил ему.
Гершель теперь поглядывал на Берля с подозрением и недовольством. Он за версту чуял двойную жизнь воспитанника, ведь запах дешевых духов беременных не выветривался с его одежды и волос. Старик наблюдал за ним во время ужина и как будто боролся с собой, но однажды он выпалил:
— Не думай, что я не знаю, где ты шляешься! Я это чую от самой Деланси!
— Хотите, чтобы я ушел?
— Нет, не хочу. Я хочу, чтобы ты стал порядочным евреем. Твои родители наверняка хотели бы этого. — Гершель помолчал. — Берль, мальчик мой, послушай меня. Не хочешь ли ты стать моим сыном? Я убежден, что тебя привел ко мне Бог. — Помолчав еще и собравшись с мыслями, он продолжал: — Моя жена не могла зачать ребенка, но я все равно остался с ней, хоть еврею и положено всегда стараться завести детей. Она умерла десять лет назад по дороге сюда, и с тех пор я не искал новой жены. Пока я не нашел тебя полумертвого на лестнице, я думал, что уже не хочу ни к кому привязываться. — Он запнулся. — Берль, это отличное предложение для тебя. Мне недолго осталось жить, я это нутром чую. Когда Рифки не стало, я думал, что умру от разрыва сердца, но прошло десять лет, а оно все еще держится. Берль, мне нужен сын, чтобы после моей кончины он отсидел шиву и одиннадцать месяцев читал кадиш. Ты должен умилостивить Господа, ибо я тоже грешил. За это ты сможешь унаследовать мой гусиный бизнес, да и на банковском счете у меня кое-что есть. Что скажешь, мальчик?
Гершель смотрел на Берля, ожидая ответа, но тот не ответил, ни сразу, ни потом.
Роль сына еврея и дюжины матерей, которые постоянно менялись, была заманчива, но Берль предпочел промолчать. Ночью они опять слышали стоны, причитания и вопли. Поскольку они все равно не спали, Гершель впервые рассказал ему о своей жизни странствующего сапожника и портного в окрестностях Городенки, в Галиции.
Летом Гершель починял толстые мохнатые овечьи тулупы и сапоги крестьян, а зимой — заштопывал их летнюю одежду. Вдобавок при нем всегда были товары, нужные крестьянам: ножницы, ножи, иголки, пуговицы, мази от легких ран.
Он сообщал людям новости о войнах, об их начале или окончании; о мирных договорах и перемириях, которые нарушались; о королях, женившихся и умиравших; о покушениях, неурожаях и множестве других бедствий. Крестьяне не могли наслушаться, словно желая убедиться, что не только в их мире все плохо.
Гершель кое-что рассказывал им и об Америке — то, что сам услышал, странствуя по округе. Священники и раввины учили народ, что нужно вложить свою жизнь в руки Господа, но они никогда не говорили, надолго ли. Так что многие решали снова взять жизнь в свои руки и отправлялись в путь. Постепенно он и сам начал в это верить.
Он не видел Рифку по нескольку недель. Когда дела шли плохо, то ему доставалось лишь немного каши. Когда лучше — то головка сыра или горшочек меда, которые можно было продать на рынке. А если уж совсем повезло — то еще и получал несколько монет за работу. Когда Гершель возвращался домой, ему приходилось чинить собственные башмаки. Постепенно он стал все больше нахваливать Америку жене. Долгое время она притворялась глухой, потом начала прислушиваться. Гершель до сих пор не мог себе простить, что уговорил столь хрупкое, болезненное существо решиться на эмиграцию.
Путь в Америку был долог и усеян трупами. Сначала они наткнулись в Вербовцах на целую кучу пристреленных и заколотых лошадей, которых крестьяне не могли прокормить после великой засухи 1889 года. Одичавшие собаки, свиньи, вороны и коршуны дербанили туши без шкуры. Птицы и животные оспаривали друг у друга падаль, дрались за гниющее мясо. Гершель и Рифка знали, что на запах придут волки, и постарались поскорее уйти из долины.
Они были еще не так уж далеко от дома и шли налегке, с собой они взяли только семисвечную менору, молитвенное облачение талит, несколько фотографий, портняжные ножницы, нижнее белье. Продвигались они быстро и через две недели уже стояли на немецком побережье. Во второй раз Гершель увидел трупы в Гамбурге — среди эмигрантов свирепствовала холера. В третий раз трупом стала его жена. Голос старика задрожал, и на этом он закончил свой рассказ.
На следующее утро Гершель осмотрел одежду и обувь Берля. Стоя спиной к нему, он пробормотал:
— Сегодня зашью тебе штаны и починю ботинки. — Затем он замер и сказал: — Не тяни с ответом на мое предложение. Если ты его принимаешь, можешь остаться здесь. Тебе надо решить поскорее, чтобы я мог отвести тебя к раввину, тогда ты сможешь покаяться в грехах уже этой осенью на Рош а-Шана. Если же ты не хочешь, тебе придется уйти. Тогда мне надо найти кого-то другого, кто помолится за меня.
На дворе стояла уже середина июля, зной давил на город и на людей. От него невозможно укрыться, уж точно не в гетто, где было повсюду тесно и душно. Уже несколько дней воздух совсем не двигался, ни малейшего ветерка, и люди на улицах падали в обморок. Ночью площадки пожарных лестниц заполнялись спящими, которые спасались от жары в квартирах.
Берлю приходилось чаще обычного таскать воду для беременных и мэм, страдавшей от жара. Она теперь почти не выходила из комнаты и, если ей что-то было нужно, громко звала Берля. Иногда она совала ему пятицентовую монету и смотрела на него потухшими глазами. Когда он пел, его голос проникал сквозь стены, разносился по коридору и ее жилище тоже наполнял музыкой.
Берлю жилось так хорошо, как никогда прежде, на пятом этаже неприметного кирпичного дома, каких в городе были тысячи. Он даже решил отпраздновать здесь Новый год и смиренно сделать тешуву. Он покаялся бы от чистого сердца, что бы это ни значило, а потом совершил бы ташлих — пошел бы к Ист-Ривер и вывернул карманы, избавившись таким образом от грехов. Он уже был уверен, что Бог закрыл бы оба глаза на парочку детских грешков. Ведь Бог — не Падди Одноглаз, Он милостив. А потом Берль наелся бы халы с медом до отвала и радовался бы радости Гершеля. Но случилось иначе.
Однажды мэм позвала его к себе в комнату. Она была не одна. Невысокий, но крепкий мужчина с седой бородой стоял на безопасном расстоянии от кровати. Когда Берль вошел, они умолкли, и он с трудом разглядел их в сумерках. Гость зажег керосиновую лампу, и Берль узнал капитана, который два раза в неделю отвозил мертвецов из гетто на остров Харт. Мужчина достал гребешок и причесал бороду, не спуская глаз с Берля. Затем сдвинул фуражку на затылок.
— Мальчик, это мой приятель. Он хочет тебе кое-что предложить, так что послушай его хорошенько, — сказала Мэм.
У капитана не было морщин и возраста, невозможно был сказать, молод он или стар. Он не торопился начинать разговор, посмотрел на карманные часы и набил трубку. Лишь после этого он подошел к деду и протянул ему табакерку.
— Куришь? Конечно, куришь. Все уличные мальчишки курят. Или жуют табак. Я тебе кое-что принес, так сказать, подарочек, — сказал он и выудил из кармана брюк вторую, маленькую табакерку.
— Спасибо, сэр.
— Перейду сразу к делу, чтобы не тратить время. Мне нужен новый посыльный. Прежний смылся, а ирландская девчонка вот-вот родит.
— Посыльный для писем? — спросил дед.
Капитан запнулся и расхохотался.
— Нет, не для писем. Доставлять нужно младенцев этих несчастных девушек. Надо только взять младенца у той двери и отнести его по адресу, который я скажу. Все остальное — моя забота.
— Детей отдают в хорошие семьи, сэр?
Капитан ухмыльнулся:
— В прекрасные семьи. Мы очень стараемся.
— Сэр, мне это не нужно. Мне и здесь хорошо…
Капитан подошел совсем близко, так что дед почувствовал его прокуренное дыхание.
— Ты ведь живешь у еврея Гершеля, так? Набожный человек, любезный Гершель. Для него ой как важен Бог и вся эта чушь. Думаешь, он обрадуется, узнав, где ты торчишь днем? Думаешь, он и дальше будет тебя кормить?
— Он уже знает, сэр, — на этот раз ухмыльнулся дед.
— Думаешь, ты самый умный. Как тебя звать?
— Берль, сэр.
— Берль, вот как. А я слышал, что тебя зовут не то Паскуале, не то Падди. Ты и впрямь еврей?
В тот же миг капитан протянул руку и прижал его к двери. Дед попытался сопротивляться, но тщетно. Другой рукой капитан расстегнул его штаны, и те свалились. Затем он стянул и кальсоны, отошел на два шага, схватил лампу и посветил на пах деда.
— Так я и думал. Мошенник. Это разобьет Гершелю сердце. Что же он сделает, если узнает? А может, я еще скажу ему, что ты уже кое-что сделал для меня. Знаешь, я отлично травлю байки. Сейчас лето, но скоро опять зима. Ты будешь мерзнуть и голодать и, если тебе не повезет, отправишься в ящике на Харт. — Вдруг он заговорил мягко и доверительно: — Берль, я не плохой человек. Тебе со мной будет хорошо. Ты всегда заработаешь несколько центов, а иногда я подкидываю и полдоллара. Думаю, мы поладим. Ты будешь работать днем, когда Гершеля нет дома, а я — в ночную смену.
В конце лета 1899 года мой дед начал убивать детей. Поначалу ему просто отдавали их у двери четвертой квартиры. Первым был ребенок Бетси. Берль как можно скорее отнес его по адресу, который ему сказали, но совершил ошибку — поднял край покрывала и посмотрел на крошечную, сморщенную красную головку. Эти глаза он так и не смог забыть. Впредь он всегда следовал совету зажимать младенцам рот и никогда не смотреть им в глаза. «Если ты посмотришь ему в глаза, ты засомневаешься, а сомнения нам нужны меньше всего». — объяснил капитан.
Дверь всегда лишь немного приоткрывалась, иногда дед успевал разглядеть потную, обессиленную родильницу, протягивавшую руки вслед ребенку. Со свертком в руках он бежал со всех ног, всегда опасаясь, что Гершель вернется домой раньше обычного. Он до сих пор не дал старику ответа, и тот больше не спрашивал. Они слишком привыкли друг к другу, поэтому Гершель уже не хотел принимать окончательного решения.
Дед относил новорожденных в доходный дом, еще хуже того, где жил он. Частенько на этажах спали нищие и пьяницы, и ему приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Через двери квартир было слышно, как жильцы ссорятся и любятся, пахло капустой, рыбой и жареным луком. Он тихонько стучал в дверь на третьем этаже, та тоже лишь приоткрывалась, и женские руки забирали ребенка. Дверь закрывалась, и он оставался один. Дед гнал мрачные мысли, убеждая себя, что на Среднем Западе наверняка много семей, которые очень хотят ребенка.
За первый месяц он отнес много новорожденных. Он чувствовал под покрывалом маленькие, скользкие тельца. Он замечал, как они шевелятся, и еще крепче прижимал к себе. Иногда из свертка выбивался сжатый кулачок, иногда — ножка. На случай, если кто-нибудь спросит, его научили говорить, что он несет больного ребенка к врачу. Но никто его не останавливал. Никто никогда не обращал внимания на подростка с младенцем.
В гетто было полно маленьких детей. Некоторые мамаши снова попрошайничали уже через несколько часов после родов, с ребенком на руках. Часто новорожденных находили в подъездах, в лавках и на задних дворах с запиской: «Пожалуйста, позаботьтесь о моем ребенке. Я не могу». Большинство найденышей в гетто были безымянные.
В конце августа друг за другом умерли мэм и Гершель. Дед увидел старого еврея за столом, уткнувшимся лицом в одну из его священных книг. Берль долго смотрел на него, потом посадил прямо. Он просидел рядом с покойником молча, пока не стемнело, и сидел всю ночь напролет. Гершель прожил недостаточно долго, — у него не было сына, который мог бы за него помолиться, замолвить за него слово перед Господом. Но Господь рассудил иначе.
Однако Берль мог хотя бы посидеть шиву. Ножницами, которые старик привез из Галиции, он разрезал кусочек своей одежды так, как его научил покойный. Всю ночь, весь день и следующую ночь Берль сидел и скорбел о человеке, чье сердце отказало под натиском жаркого американского лета. Даже Берль в свои пятнадцать лет понимал, что это его долг перед стариком, но сидеть шиву целую неделю он не мог.
Гершель не успел покаяться в своих грехах, так как умер до праздника Рош а-Шана. Бог должен был проявить снисхождение. Гуси, которых Гершель держал, мучил, насильно откармливал и убивал в темном подвале, уж точно не пожалели бы о нем. Смерть Гершеля перечеркнула и покаяние деда.
После смерти мэм дела у капитана пошли хуже. Все меньше беременных приходили сюда, некоторые из уже пришедших собрали вещи и ушли. Постепенно пятый этаж опустел, явился домовладелец и пригрозил вышвырнуть Берля и последних двух беременных, поскольку у него есть новые квартиросъемщики. В последний раз Берль взял новорожденного, в последний раз закрыл за собой дверь квартиры Гершеля и сбежал по трухлявым ступенькам.
Выйдя из подъезда, он протиснулся сквозь толпу новоприбывших переселенцев, ждавших, словно стадо скота, пока их впустят. Скоро они поставят в этих квартирах швейные машинки, натащат рулонов ткани, и пятый этаж, как и все остальные, наполнится рабочей суетой и тарахтеньем машинок. Спины работников начнут болеть, блеск в глазах потускнеет, есть они будут мало и торопливо. Однажды их выкосит туберкулез, но следующая партия квартиросъемщиков уже будет ждать у подъезда.
Торговля на уличном рынке шла полным ходом. Сотни торговцев продавали с тележек и импровизированных прилавков, из корзин и с земли все, что могло понадобиться в гетто. Очки, подтяжки, добротную одежду, фетровые и дамские шляпы, обувь. Вялые овощи опрыскивали водой, чтобы придать им товарный вид. Куски тухлого мяса подкрашивали краской. Старую картошку прятали под тонким слоем хорошего товара. В гетто можно было даже купить поштучно битое яйцо и куриные окорочка.
Был на рынке и шарманщик, который играл вальсы, ирландские баллады и южноитальянскую тарантеллу. Его дрессированная обезьянка забиралась по стенам домов за каждой монеткой, которые ему хотели отдать домохозяйки. Обезьянка была главным капиталом шарманщика, и, если она болела, он выхаживал ее заботливее, чем собственных детей.
Берль беспрепятственно прошел весь путь с последней посылкой, поднялся по лестнице и постучал в знакомую дверь. На этот раз вместо женщины открыл сам капитан. Он молча втянул Берля внутрь, забрал ребенка и передал его тощей женщине в платке и с пустыми глазами. Ее выдубленное ветром и солнцем лицо и грубые руки говорили о том, что когда-то она была крестьянкой. Она положила сверток на стол и открыла крошечную головку.
Капитан подвел деда к столу.
— Действовать всегда надо быстро, сынок. Не раздумывать и не смотреть им в глаза. Возьми подушку, я направлю твои руки. Так будет верно.
Мощные лапы капитана легли на неумелые руки деда.
Когда дело было сделано, капитан отвел деда в бар и разрешил заказать все что угодно. Дед безвольно повиновался и машинально следовал за капитаном. Он не помнил, как они пришли в бар, не помнил тяжелую руку капитана у себя на спине. Лишь когда мужчина сильно потряс его и на столе появилось множество дымящихся тарелок с едой, он пришел в себя.
— Ничего, скоро привыкнешь, — пробормотал капитан с набитым ртом. — А теперь ешь!
Когда оба наелись, капитан набил трубку, довольно затянулся, наблюдая, как вокруг расплывается голубой дым, и только тогда заговорил:
— Я не горюю о своей капитанской должности. Там уже ничего нельзя было заработать, в гетто все меньше покойников. Бизнес с роженицами тоже стал приносить гроши. Они платили все меньше. Теперь все эти бабы думают, что их дети где-нибудь в Оклахома-Сити. Но нам обоим, сынок, предстоит кое-что новенькое. Смерть стала ненадежной. Молоко теперь не такое заразное, мясо — не такое дрянное, и вода чище. Покойников все меньше, а похоронщиков — все больше.
Он отпил большой глоток пива и предложил деду, перед которым тоже стояла большая кружка, последовать его примеру. Капитан с удовольствием вытер пену с губ, а дед сидел молча, смотрел на свои руки и слушал его с поникшей головой.
— Я знаю несколько владельцев похоронных бюро, готовых хорошо заплатить, если у них будет больше клиентов. Они с тоской вспоминают последние эпидемии холеры и гриппа. Мы с тобой, Берль-Падди-Паскуале, оба знаем, что время нельзя повернуть вспять. Но если постараться, то все-таки можно заработать. Так ведь?
Дед ответил, только когда капитан дал ему подзатыльник.
— Так точно, сэр.
— Ну вот! — Теперь капитан погладил его по голове, почти что нежно. — Бедняки много платят за хорошие похороны, но за похороны своих детей они готовы отдать последнее. Так что мы раздобудем детей.
Он помолчал, отломил кусок хлеба, помакал его в остывший соус от жаркого и сунул в рот.
— Знаешь, что для этих людей самое главное после их детей? Угадай-ка, — сказал он с набитым ртом.
— Не знаю, сэр.
— Письма с прежней родины. Письма от родных, что остались дома. Если я прав, то скоро у нас будет новый бизнес, парень. Действовать будем по плану, всегда только по одному дому в районе за день. Я остаюсь внизу, на улице, а ты поднимаешься. Чем выше, тем лучше. У самых бедных дети самые больные, и живут они наверху, под крышей. К тому же им дольше спускаться и подниматься. У тебя будет полно времени. Знакомые врачи будут сообщать мне, где болеют дети. Понимаешь, о чем я?
— Да, сэр.
— Ой, да хватит все время называть меня сэром. Называй капитаном, мне так больше нравится. — Он снова набил трубку. — Когда тебе открывают, шапку долой — и строишь сердобольную рожу. Над этим надо поработать. Спрашиваешь, здесь ли болеет ребенок. Если нет, извиняешься и уходишь. В этом доме больше ни к кому не заходишь. Но если попал в яблочко, говоришь, что внизу ждет твой отец с письмом от их родни. К сожалению, у него больная нога и он не может подняться сам, но очень хотел бы вручить письмо лично. Если спросят, откуда ты знаешь о больном ребенке, говоришь, что соседи сказали, пока ты их искал. Ты следишь за мыслью? — капитан ткнул деда локтем под ребра.
— На дело будем выходить днем, так больше вероятность, что дома только мать. Правда, тут мало у кого есть настоящая работа. Но если дома с ребенком только один из родителей, то, считай, тебе повезло. Ты говоришь человеку, что он может спокойно идти к твоему отцу на улицу, а ты хотел бы помолиться у кроватки несчастного малыша. Мол, вы с отцом очень набожные. Если тебя подведут к больному, падаешь на колени и молишься по четкам. Молишься истово, от всего сердца. Сумеешь?
— Я еще никогда не молился от всего сердца.
— Я тебя научу, как это делается. Читаешь «Отче наш» или еще какую чушь. Когда хозяева уйдут, берешь подушку и делаешь, как сегодня. Или зажимаешь рот и нос. Эти дети совсем слабенькие, они едва ли будут сопротивляться, а может, и вовсе не поймут ничего. Если что, давишь сильнее. Что надо делать?
— Давить сильнее.
Капитан полез в карман и достал несколько мятых конвертов.
— У меня тут поддельные письма из Италии, Ирландии и Галиции. Эти люди малограмотные, так что мне придется читать им вслух. А читать я буду долго. Я расскажу им все, что они хотят услышать, ведь сначала я их порасспрошу. Они будут так волноваться, что ничего не поймут. Если ждут вестей от больной мамаши, то скажу, что мамаша выздоровела. Если родственница на сносях, значит, ребенок благополучно родился. Если на родине был голод, неурожаи, то окажется, что наконец-то все сыты и довольны, а поля уродили вдвое больше обычного. У меня есть письма на все случаи жизни — о смерти и о рождении, о свадьбе и о разводе. Рассказывать я мастер, сынок, самому Шекспиру со мной не тягаться. А ты, как все сделаешь, спускаешься по лестнице и кричишь, что больной ребеночек преставился. Тогда я начну причитать и утешать родителей. И поскольку я добрый христианин, то не оставлю их в тяжелейшую минуту жизни. Я не отойду от них ни на секунду, пока ты не вернешься. Ведь ты в это время бежишь и сообщаешь новость нашим деловым партнерам — либо ирландскому, либо итальянскому, либо еврейскому похоронщику. Хоть я и не говорю на идише, и писем на идише у меня мало. Тут придется импровизировать. Так что лучше сосредоточимся на итальянских и ирландских покойничках.
— А по-итальянски вы говорите, капитан?
— Более-менее. Я долго просидел в камере с одним даго.
— А если еще кто-то взрослый дома или братья-сестры?
— Тогда попросишь чего-нибудь поесть и попить. Они не откажут голодному мальчишке в куске хлеба, когда собственное дитя при смерти. Если другие дети совсем маленькие, все равно убьешь. Наклонишься над колыбелькой, чтобы они не видели. А если и увидят, не поймут, что ты делаешь. Если же они постарше, отошлешь их из комнаты, чтобы помолиться одному. Если никак не получается, что ж, тогда уйдешь.
— А что, если они умеют читать и поймут, что письмо не им?
— Тогда я очень вежливо извинюсь. Но представление продолжим, ведь ребенок уже мертв, а мы хотим заработать. Хорошо, что ты тоже соображаешь, парень. Но вообще предоставь это мне.
— Капитан, а почему бы нам просто не раздавать визитки похоронных бюро?
Мужик ударил кулаком по столу.
— Я что, похож на того, кто тратит жизнь на раздачу визиток? Я, по-твоему, за этим в Америку приехал? Я хочу многого добиться. Хочу стать предпринимателем, пусть даже и в похоронном бизнесе. Через несколько лет я накоплю денег на собственное похоронное бюро. И если ты будешь хорошо работать, возьму тебя в партнеры. Как тебе: «Капитан и его мальчишка. Для особых похорон»?
Он откинулся на спинку и расхохотался.
— Ты представляешь себе, сколько похоронщиков в Нью-Йорке? Сотни! И все конкурируют за одних и тех же покойников, но мы будем конкурировать ловчее — целенаправленно. Это и есть капитализм: труд плюс гениальная идея. Визитки тут никак не помогут, люди их домой не принесут, это же не визитка хорошего ресторана. Никто не хочет все время помнить о своих похоронах. А мы будем получать комиссионные за каждого мертвеца, о котором сообщим. Мы будем жить за счет покойников — и жить хорошо! Можно добиться чего угодно, надо только постараться как следует. А не будешь стараться — я тебе все кости переломаю.
Позже, в комнате, которую капитан снимал у одной старой вдовы, когда каждый лег на свой топчан, дед не мог уснуть. Он все время ворочался и никак не мог успокоиться. Наконец он сел и посмотрел на силуэт капитана, слабо проступающий в сумерках.
— Значит, я должен убивать детей? — прошептал он.
— Почему убивать, мальчик мой? Ты никого не убьешь. Ты просто поможешь им умереть. Через несколько часов каждый из них так и так умрет, только Бог знает, в каких муках и болях. Ты избавишь их от мук. Да, именно. Ты — избавитель!
На этом месте дед всегда умолкал, рассказывая мне о своей жизни много десятилетий спустя. Он начал рассказывать в 1964-м, когда я был в том же возрасте, что и он, когда повстречал Гершеля, мэм и беременных женщин. Его не заботило, что я слышу вещи, о которых и взрослым-то не стоит знать. Иногда мне казалось, что для него вообще не имеет значения, слушает его кто-то или нет. Его губы просто начинали шевелиться, желая закончить рассказ, прежде чем умолкнут навсегда.
Ночь за ночью мы лежали в темной комнате нашей убогой квартирки у Манхэттенского моста, пока мама в своей комнате принимала гостей. Может быть, он рассказывал еще и для того, чтобы отвлечь меня от голосов за стенкой. В основном его жизнь сводилась к одному этому году — 1899-му. В 1967-м он умер, и я потерял все, что любил в своей жизни.
Однако, если я спрашивал, что было дальше, иногда дед рассказывал кое-что еще. Когда капитан впервые послал его на дело, он сразу же попытался сбежать через черный ход. Но едва он оказался на заднем дворе, сильная рука схватила его, прижала к земле, и на него обрушился град ударов. На шум из окон выглянули несколько женщин.
— Он хотел залезть в квартиру, но я вовремя его поймал! — крикнул капитан и нанес деду еще несколько ударов кулаками.
— Может, полицию вызвать?
— Ни к чему. Это мой сын, я с ним сам разберусь. Если б вы знали, что я с ним уже только не делал.
— Да кому вы рассказываете? — отозвался кто-то.
— Отделаю его до полусмерти. Впредь будет наука.
— Главное, не торопитесь останавливаться!
Несколько раз дед пытался найти на Юнион-сквер Густава, но тщетно. Если бы Густав согласился, дед не раздумывая остался бы с ним. Наконец один извозчик рассказал ему, что Густава уже почти девять месяцев нет в живых. Он так сильно простудился в новогоднюю ночь, что больше не поднялся с постели. Его кеб давно продан, а лошадь досталась мяснику. Каждый раз дед возвращался в квартиру вдовы к капитану.
Однажды, дождливым летом 1902 года, дед отправился на Луну. Он как раз обедал в «Долане», когда зашел мальчишка с газетами и прокричал: «Сенсация! Сенсация! На Кони-Айленде теперь можно полететь на Луну! Не пропустите статью в этом номере!»
Кони-Айленд был местом, полным противоречий. На востоке, в отеле «Манхэттен-Бич», можно было за четыре-пять долларов поесть из китайского фарфора серебряными приборами. Люди там отдыхали на длинных тенистых верандах и гуляли ранним вечером вдоль роскошных цветочных клумб, а потом танцевали в большом танцзале.
В вечерней прохладе по променаду фланировали дамы, пахнувшие дорогими духами, в элегантных жакетах и роскошных шляпках, под руку с железнодорожными магнатами, стальными баронами и биржевыми спекулянтами. Их приталенные блузы и облегающие сюртуки, их пальто и перчатки были сшиты из таких тканей, о которых дед даже не слышал. Сколько бы он ни убивал, все равно никогда не смог бы позволить себе ничего подобного.
Когда океан подобрался к гостинице на расстояние нескольких метров, ее разобрали, упаковали в сто двадцать железнодорожных вагонов и перевезли в глубь острова. При этом не треснуло ни одно стеклышко. Благодаря газетным заголовкам об этом узнал весь Нью-Йорк.
Кони-Айленд был еще и местом скачек. По выходным бухгалтеры, игроки и жокеи занимали лучшие отели в восточной части острова. В те времена почти все забеги выигрывала лошадь по кличке Золотые Копыта. Ее владелец, Брильянтовый Джо, который зарабатывал на сомнительных сделках, становился героем заголовков так же часто, как и его лошадь.
Если многие считали грехом скачки, азарт и невоздержанность, то происходящее на западе острова они сочли бы грехом невообразимым. Здесь находились лачуги и кабаки самого низкого пошиба, которых никто не хватился бы, если бы их однажды поглотил океан. Тут цвели буйным цветом пьянство, похоть и игромания. Работали притоны для игроков и морфинистов, почасовые номера и кабаре. Танцовщицы танцевали, а официантки обслуживали клиентов, но их настоящая работа начиналась потом, за шторами отдельных кабинок и в комнатах на втором этаже.
У владельцев этих заведений было два способа обобрать пожелавшего развлечься мужчину: простой и рискованный. В первом случае официанты просто не отдавали клиенту сдачу. Если тот протестовал, его избивали и выносили на свежий воздух. Рискованный способ — подобрать правильную дозу хлоргидрата, чтобы усыпить клиента, но не убить его на месте. Чуть-чуть пересыплешь порошка в напиток — и у тебя в заведении труп.
Эти миры перемешивались лишь тогда, когда богатые джентльмены из восточной части, — заскучав от роскоши, своих жен и нескончаемых балов, — отправлялись на запад. Как раз на границе двух миров стоял парк развлечений «Стиплчейз», и, услышав новость о полете на Луну, дед захотел попасть в этот парк.
Он вышел из конки в Бруклине, у Проспект-парка, и пошел по Оушен-Парквей. Дед хотел сэкономить деньги на проезде, к тому же день выдался чудесный, наконец-то без дождя. Он шагал по красивой, широкой аллее, мимо множества домов с палисадниками и полей подсолнечника, щебетали птички. Главное, вокруг был простор. На Манхэттене такого не увидишь, так что дед не хотел торопиться.
Он свернул с широкой дороги и пошел через жилые кварталы. Люди на своих участках ухаживали за цветами и овощными грядками, стояли у заборов и болтали с соседями. Все дышало таким покоем, какого дед даже не мог себе представить. Он смотрел по сторонам, то и дело присвистывая от удивления, и даже чуть не угодил под колеса экипажа, остановившись прямо посреди улицы.
Дед с удовольствием поглазел бы еще, но забеспокоился, что может опоздать. Он побежал и стал высматривать впереди океан и первых чаек. Затем вскочил на подножку трамвая линии Калвер и проехал последний отрезок пути до самого Кони-Айленда.
Дед слышал столько рассказов о Кони-Айленде, что ноги сами несли его к океану. Он пересек Сёрф-авеню, прошел мимо железной башни — говорили, будто с ее верхней площадки видно даже Манхэттен, — прошелся по променаду и побежал по широкому, длинному пирсу, к которому обычно причаливали прогулочные пароходы. Остановился он лишь за несколько шагов до конца пирса. Столько простора он еще никогда не видел. Огромное пространство, в котором не было ничего, кроме воды.
Насмотревшись досыта, дед прислушался к урчащему животу и пришел в «Фельтманс», сидел в пивном саду и благодушно принимал услуги поющих официантов. Они кружили вокруг него, чисто вымытого, приодевшегося и щедрого на чаевые. Официанты пели те же песни, что и дед, и он быстро смекнул, что даже средненькому певцу здесь легко заработать. А уж тому, кто может назвать себя «маленьким Карузо», и подавно. Главное, не поддаться соблазну обирать пьяных клиентов. Он постарался запомнить это на случай, когда снова понадобится работа, и двинулся дальше.
Такому молодому человеку, как он, на Кони-Айленде было чем заняться и на что посмотреть — столько чудес и сенсаций, что на время дед даже забыл о цели своего путешествия. Он много потратил на сладости и тиры, на карусели и русские горки — целое состояние для мальчишки-газетчика, кем он был когда-то. Лишь когда начало смеркаться, он вспомнил о своем плане и побежал ко входу в парк «Стиплчейз». С него взяли двадцать центов и уверили, что за них он может посетить все аттракционы. Но его интересовал только один — аттракцион экстра-класса.
Парк уже постепенно пустел, зажглись электрические фонари. Издалека слышалась танцевальная музыка. Механические лошадки интересовали его не больше, чем венецианские каналы, причальная мачта дирижабля или павильон, в котором находились такие странные развлечения, как человеческая рулетка, трясущаяся лестница, тоннель любви и карусель «рэзл-дэзл», с которой, если повезет, тебе в объятия может свалиться девчонка.
Дед же смотрел только на гигантский синий купол, перед которым собрались последние клиенты дня, отважившиеся полететь на Луну. Люди были взволнованы, ведь прежде их ноги отрывались от земли, только чтобы подняться в квартиру. Или один-два раза в год пересечь Ист-Ривер.
Они взошли на борт двухмачтового корабля, на котором были не только паруса, но и крылья как у летучей мыши. Я не знаю, можете ли вы представить себе такое, но, скорее всего, уже тогда это выглядело старомодно. И по меньшей мере так же абсурдно, как выдуманное Жюлем Верном пушечное ядро для полета на Луну. Однако в этом отношении люди тогда были невинны как дети и радовались, когда их обольщали, удивляли и пугали.
Капитан поприветствовал пассажиров с капитанского мостика:
— Добро пожаловать на борт «Селены», леди и джентльмены! Наше путешествие продлится двадцать минут. Держитесь крепче, когда мы взлетим, у вас может закружиться голова. К тому же наш путь лежит через мощнейшие бури, что бушуют в космосе. А когда мы прилунимся, не уходите далеко от остальных. Обитатели Луны дружелюбны, но стопроцентной гарантии безопасности никто не даст. Вы все еще готовы лететь с нами?
Семьдесят голосов отозвались хором, радостно и громко, и дед тоже воодушевленно крикнул: «Да!» — ведь ему представилась возможность наконец-то узнать, каково там, откуда он, возможно, попал в Нью-Йорк.
— Держите ваши шляпы, леди и джентльмены, а то они свалятся на Землю и прибьют какую-нибудь деревенщину в Огайо или вашу тещу в Бруклине, — продолжал капитан.
Толпа возбужденно рассмеялась, женщины и дети сели на сиденья, и мужчины остались стоять у релинга. Поднялись паруса, и красные крылья начали взмахивать все сильнее. Когда корпус корабля дернулся, некоторые пассажиры вскрикнули.
— Не бойтесь. Пока бояться нечего. Мы подняли якорь и медленно взлетаем. Посмотрите на Землю у вас под ногами.
Только тогда все заметили, что палуба корабля — из стекла, а внизу съеживается Кони-Айленд, затем Бруклин, Манхэттен и все Восточное побережье. Показались Аппалачи и огромные леса, большой водопад (капитан назвал его Ниагарским), реки и озера, фермы и города — и все это уменьшалось по мере того, как корабль набирал высоту. Под прозрачной палубой все быстрее разворачивались длинные холсты с нарисованными на них и подсвеченными картинами. Несколько пассажиров зашатались, чуть не падая с ног, но их поддержали.
Когда корабль летел сквозь облака, ветер усилился и раздул паруса. Засверкали молнии, раздался гром, разразилась световая гроза, «электрический шторм» — объяснил капитан. Теперь картины скользили туда-сюда вокруг корабля и над головами зрителей. Шторм сотрясал судно так сильно, что некоторые женщины и дети заплакали. Но вот тучи остались позади, корабль летел среди множества звезд, и все поражались такому обилию красоты.
Все стихло, когда «Селена» приближалась к Луне, которая становилась все больше. Показались потухшие вулканы, равнины и русла рек. Капитан объявил о подготовке к прилунению, отдали якорь, и тот воткнулся к лунный грунт. С новым толчком они остановились возле кратера и сошли с корабля в сопровождении двух матросов, вооруженных пистолетами.
— Леди и джентльмены, вскоре вас встретят лунатики. Они лилипуты и называют себя селенитами. Они проводят вас в свой город, и вы сможете посетить дворец Лунного человека. Не торопитесь, как следует все рассмотрите, лишь немногие земляне побывали в этом месте до вас. В заключение лунные женщины отведут вас в такой зал, какого вы еще не видывали. Его стены сделаны из превосходного зеленого сыра. Возьмите немного с собой. Вам нечего бояться, наши матросы — меткие стрелки.
Зажглась вереница ламп. Они осветили тропинку, которая терялась на горизонте, где мерцали огни городка. Вдруг из темноты появились карлики в странной зеленой одежде. На Луне зеленый цвет пользовался популярностью. Некоторые дамы прижались к своим спутникам, а матросы сняли пистолеты с предохранителей. Но лунатики оказались миролюбивыми, капитан не ошибся. Каждый из них взял за руку землянина и повел к городу.
Каково же было удивление деда, когда один из инопланетян внимательно посмотрел на него, подошел и поздоровался. Присмотревшись, дед узнал Пола — карлика из «Музея Хубера», тот сделал ему знак не торопиться и заговорил:
— Ты ведь маленький Карузо. Еще поёшь?
— Я теперь в похоронном бизнесе.
— Похоже, дела у тебя идут неплохо, — заметил Пол, кивнув на одежду деда.
— Да уж. А ты как?
— Профессор Хатчинсон меня уволил. У него вдруг стало слишком много карликов. Здесь я прилично зарабатываю, и комната есть. Некоторые селенитки то и дело составляют мне компанию. Можно сказать, на Луне я нашел свое счастье.
Это был один из лучших дней в жизни деда, но закончился он совсем не хорошо. После закрытия парка Пол повел деда в кабак, где все время заказывал джин и бренди и приглашал к столику милых дам. Из этого кабака они отправились в другой, и каждый раз, когда дед хотел распрощаться, Пол уговаривал его остаться. В салуне «Серебряный доллар» они за кружкой милуокского пива смотрели на полуголых танцовщиц, а в «Перрис» — на женщин, которые в кабинке раздевались до подвязок. Они даже попытали счастья в фараона. Хором распевали самые популярные песни.
Наутро дед проснулся в канаве на обочине Сёрф-авеню. Голова у него гудела, и лишь через какое-то время он понял, что его обокрали. Он пришел на пирс, сел на его дальнем конце, свесил ноги и просидел в раздумьях весь день. Вечером он подкараулил Пола, проследил за ним до квартиры, вышиб дверь, поднял карлика и швырнул на кровать, не слушая его оправданий.
Дед склонился над Полом и, держа одной рукой, другой обыскал. Потом схватил подушку. Он заглянул в испуганные глаза лилипута и на мгновение замер. Отбросил подушку, сунул кошелек в карман и ушел.
Дела у капитана тогда шли уже неважно. И 1903 год не сулил ему ничего хорошего, ведь эпидемия гриппа свирепствовала весь апрель. Покойников снова стало хоть отбавляй, и похоронщики радовались наплыву клиентов. Днем и ночью их катафалки катились по гетто, непрерывно стуча колесами по брусчатке. От этого звука невозможно было избавиться, даже заткнув уши. И однажды капитан исчез из жизни Спички — так же внезапно, как когда-то возник.
Долгое время я считал эту историю последней важной в жизни деда, хотя еще в детстве чувствовал, что должно быть продолжение. Однако дед упорно отказывался рассказывать дальше. Только в 1967-м, вскоре после его смерти, я узнал от матери, что в его жизни было кое-что еще, возможно, более масштабное и разрушительное, чем все известное мне на тот момент. А то, что я знал, было лишь подступом, длинной увертюрой к тому событию 1911 года, что заставило деда замолчать и навсегда изменило его жизнь.
Глава шестая
В 2001 году мама все-таки добралась до Нью-Йорка, в стеклянной банке. Банку я как следует отмыла, но запах соленых огурцов никуда не делся. В Тулче, по дороге на вокзал, в поезде до Бухареста и в такси до аэропорта я то доставала банку из чемодана, то совала ее в сумку, то опять вынимала. Я пыталась придумывать убедительные ответы на вопрос, почему я везу банку из-под огурцов с человеческим прахом. Так ничего и не придумала, но никто и не спросил.
Перед посадкой самолет совершил несколько кругов над городом. Если бы мы с мамой ориентировались в Нью-Йорке, то узнали бы с высоты Нэрроуз — узкий пролив, который ведет к порту. Через это игольное ушко должны были пролезть все, кто прибывал по морю, не важно, богатые или бедные. Через шейку матки.
Пассажиры кораблей всегда сначала видели Кони-Айленд и огромное «Чудо-колесо» обозрения. Во времена твоего деда, как ты сказал, оно было украшено лампочками, и его огни светили далеко в море. «Чудо-колесо» предвещало переселенцам лучшую жизнь еще до того, как они могли увидеть землю. А еще там были горки «Циклон» — в двадцатые и тридцатые они были главным аттракционом. Когда мы с мамой пролетали над Кони-Айлендом, на них уже почти никто не катался — пережиток забытой эпохи.
— Вы знаете кладбище в Бруклине? — спросила я у таксиста в аэропорту Кеннеди.
— Леди, тут вам не какая-нибудь вирджинская деревня. Здесь много кладбищ, в том числе в Бруклине, — ответил таксист.
— Вы знаете хоть одно?
— Я индуист. С чего бы мне знать кладбища? Там похоронены только иудеи и христиане. — Через зеркало заднего вида он посмотрел на мою растерянную физиономию. — Как-то я возил одну пожилую даму на кладбище Голгофа. Но это в Квинсе, на границе с Бруклином. Отвезти вас туда?
— Голгофа — хорошее название.
Мы долго ехали по бесконечной асфальтированной безнадеге Южного Бруклина. Я достала банку и задумчиво гладила крышку, словно ребенка по голове. От монотонного ландшафта я почти что задремала. Чуть более суток назад я еще была на краю дельты и за моим окном уютно тек Дунай. Мимо одной из несметного множества серых панельных многоэтажек, построенных коммунистами для непритязательной, сутулой жизни.
Узнав от тети Марии о смерти матери, я еще месяц оставалась в Тулче, пока не решила, как быть с прахом. Таких многоэтажек я за жизнь много повидала. В девять лет я переехала из детского дома в Тулче к семейной паре в Бухарест. Школьная директриса и профессор, оба — заслуженные партийцы. Когда у них родились собственные дети, меня передали паре пролетариев в Брашов, от них — старой колхознице в Бакэу.
В конце концов в восемнадцать лет меня направили в Тимишоару, работать на швейной фабрике. Я должна была шить дешевую коммунистическую одежду для нового человека. Люди, с которыми я провела детство, не были плохими: пожалуй, один был вечно недоволен и черств, другой — алкаш и трепло, третий — завистлив и зол, четвертый — хвастун и пустозвон. В общем, показательный срез общества.
Короче говоря, к восемнадцати годам меня уже помотало по стране. Время от времени я всем им посылала одежду с нашей фабрики. То брюки в Бухарест, то рубашку в Брашов, то свитер в Бакэу.
По обеим сторонам эстакады раскинулось кладбище Голгофа. Мне не с чем было его сравнить, ничего подобного я раньше не видела. В наших краях большим считается кладбище шириной в один-два «квартала». Даже деревенское кладбище можно назвать большим, если его границы размыты, когда непонятно, где кончается кладбище и начинается поле. Но Голгофа была во много раз больше. Кладбище в превосходной степени. «Как же я здесь кого-то найду?» — подумала я.
— Тут за углом ворота и контора. Высадить вас там? — спросил таксист, которому не терпелось от меня отделаться.
Могилы были даже у самой ограды, покойники могли наблюдать за происходящим, им было не так уж скучно. Только не слишком оживленная улица под эстакадой Куинс-Мидтаун-экспрессуэй отделяла их от скромных таунхаусов живых. Так они и стояли друг напротив друга почти две сотни лет, враждебно, в лучшем случае равнодушно. Ты говорил, только после сильного дождя или снежной зимы вода вымывает землю с кладбища на дорогу. Но ты все равно еще навещаешь могилу деда в новой части Голгофы.
Между цветочным магазином и мастерской каменотеса я увидела ворота кладбища, широко распахнутые, а за ними — красную постройку. «Пожалуйста, не уезжайте. Не оставляйте меня здесь одну», — умоляла я таксиста. Я несколько раз обошла вокруг постройки, стучала в двери и окна, но никто не показался. Сумку с маминым прахом я прижимала к груди, хотя чемодан оставила в машине. Бог с ним, с чемоданом, но я не могла снова потерять мать.
— Нет никого? — спросил индус, опустив стекло. — Будьте добры, расплатитесь, и я поеду.
— Погодите! — Я задумалась. — А здесь можно ездить на машине по кладбищу? В американских фильмах все так делают.
— Если можете заплатить, то можно все.
— Деньги у меня есть.
— А кого вы ищете вообще?
— Одного мужчину и одну женщину.
— Тогда можете смело оставаться тут на несколько лет.
Мы посмеялись.
Многие памятники стояли, словно сутулые, низко и незаметно, а то и вовсе только плита лежала на земле. Иные же были массивные и широкие, занимали много места, стремились ввысь. Стелы с крестами, обелиски с ангелами — небоскребы мертвых.
Мы проехали через седьмой, восьмой и девятый участки, мимо могил Пальмери, Ла Роза и Маццарелла, Уолшей, Сэвиджей и О’Нилов. Ирландская и итальянская смерти перемешались. Это были старые памятники, в основном XIX века, самые новые — 1920-х. Эмигранты первой волны. Они голодали бок о бок, а теперь вот лежат тоже бок о бок.
Колмен, Макколем, Петрочелли, Руджьери, Коппола, Фицпатрик, Киган, Гроссо, Сиракузе, изредка попадался какой-нибудь Домбровский, Гоменюк или Тойбнер. Но я не встретила ни одной известной мне фамилии. Снова и снова я просила водителя остановиться и бежала к одному из памятников, но каждый раз возвращалась ни с чем. Порой я просто медленно шла впереди, а машина катилась за мной.
— Как зовут людей, которых вы ищете? Может, я вам помогу.
— У них одна фамилия, кончается на «еску», как и у многих моих соотечественников. Среди всех этих итальянцев и ирландцев должно быть заметно.
— Откуда же вы приехали?
— Из Румынии. Слышали о такой стране?
— Не приходилось. Но на свете столько вещей, о которых я даже не слышал. Я по четырнадцать часов в день за баранкой. За лицензию платить надо. Времени на самообразование не много.
Дорога пошла в горку, и мертвые теперь лежали лицом к Манхэттену, как будто хотели поддерживать связь с живыми. Были и такие могилы, которые выбивались из строя, словно искали солнца, чтобы их обитатели погрелись. Луи Бонсиньоре, Эмма Беренс, Жозеф Карузо, Луиза дель Мондо, Бриджит Хэмилтон, Игнасио ди Раймондо. С сорок седьмого участка открывался хороший вид на Мидтаун. Здесь лежали привилегированные покойники.
У меня оставалось все меньше надежды, я давно уже поняла, что здесь вряд ли может лежать кто-то на «-еску». И тот, кого похоронили в семидесятые. Добравшись до вершины холма, я попросила таксиста остановиться под деревом. Издалека небоскребы Манхэттена казались продолжением кладбища. Ограду, соседние районы, мост, Ист-Ривер было не видно.
Водитель вышел, достал из багажника две бутылки воды и одну протянул мне. Я молча взяла. Только теперь, когда он стоял передо мной, я заметила, какого маленького он роста. Он подкладывал на сиденье две подушки, чтобы как следует видеть дорогу.
— У вас в Индии есть семья?
— Большая семья. Но здесь я один.
— Почему вы приехали сюда?
— Все хотят в Нью-Йорк. Вы ведь тоже здесь. Родители хотели, чтобы я стал монахом. Определили меня в монастырь, но это оказалось не мое. Дисциплины мне не хватает. Я оттуда сбежал, а потом оказался здесь.
— А ваши родители? Что они на это сказали?
— Им приходилось платить, чтобы я оставался при храме. А теперь я трачусь на них. Приходится регулярно посылать деньги домой. Я полдеревни кормлю. Они обещали найти мне жену, но свадьба мне не по карману. Сначала надо оплатить лицензию.
Мы помолчали.
— А как в Индии хоронят мертвых?
— Индуисты сжигают покойников. Вы не знали? Так что с прахом я имел дело. Кого вы тут возите в стеклянной банке?
— Женщину.
— От чего она умерла?
Тут показался какой-то человек, первый живой, которого мы встретили на этом кладбище. Местных покойников теперь редко навещают. Они составляют компанию друг другу. Это был садовник. Он ехал на маленьком грузовичке с газонокосилкой в кузове. Когда он поравнялся с нами, таксист остановил его и я подошла спросить.
— Новых могил вы здесь не найдете, — сказал садовник, выслушав меня. — Это старая Голгофа, новая — на другой стороне эстакады. Я здесь начал работать в шестидесятые, и уже тогда здесь сорок лет как никого не хоронили.
Когда я хотела сесть в такси, садовник окликнул меня:
— А те, кого вы ищете, они вообще католики? Иначе не стоит и время тратить. Здесь нет ни одной некатолической души. Другие лежат на кладбище Грин-Вуд.
— На Грин-Вуд поедем? — спросил таксист.
Я задумалась.
— Да, поедем.
— Это недешево.
— Я знаю. Но надо.
На Грин-Вуде я тоже никого не нашла, точнее говоря, никого уже не застала. Мне сказали, что два человека с такой фамилией действительно были там похоронены, одновременно, в 1978 году. Причина смерти не указана. Но могилу использовали для повторного захоронения.
— Похоже, не судьба мне сегодня развеять мой прах, — сказала я, вернувшись к машине. — Уж и не знаю, что теперь делать. Отвезите меня, пожалуйста, в отель у Центрального парка.
Когда мы съехали с холмов кладбища, когда оставили позади рощу и свернули на аллею к выезду, вдалеке отчетливо показались высотки Южного Манхэттена. Похожие на стадо животных, спустившихся на водопой к реке.
— Красивый вид, правда, леди? — спросил индус.
— Красивый, — рассеянно кивнула я.
— Вон там «близнецы». Два самых высоких здания города.
— Близнецы, — машинально повторила я.
— На верхушке южной башни есть смотровая площадка. Вид оттуда просто сказка. В ясный день обзор на восемьдесят километров.
— Я сюда не видами любоваться приехала.
— Вы меня невнимательно слушаете. Там наверху терраса. Совершенно открытая. Внизу вы получаете гостевой пропуск, поднимаетесь на лифте с одной пересадкой, и через несколько минут вы на высоте четыреста метров над городом. Что там делать, вы решите сами. Можете любоваться видом, а можете развеять прах этой женщины над Нью-Йорком. Наверняка она будет не против. Понимаете меня?
Я медленно повернула голову к водителю. Я поняла.
Следующим утром началось мое путешествие к башням-близнецам. Когда я вышла на площадь Коламбус-Сёркл, восход окрасил окна высоток красным. Остекленные здания стояли бок о бок с белоснежными каменными башнями, безликие офисные центры — с коричневыми жилыми домами. Мне сказали: «На Коламбус-Сёркл сверните на Восьмую авеню и идите прямо пятьдесят кварталов. Вы увидите впереди башни-близнецы. Или поезжайте на метро».
Я решила пойти пешком, хотя понятия не имела, какое расстояние означают «пятьдесят кварталов». Особенно для женщины за сорок, то есть уже немолодой, с лишним весом, грузноватой и страдающей одышкой. Я хотела незаметно подобраться к башням, все время видеть их и наблюдать, как они становятся все больше и внушительнее.
Я хотела выиграть время, то единственное время, которое могла провести с матерью. Если накануне я торопилась исполнить свою миссию, то теперь я так же отчаянно медлила. До даты вылета домой оставалось еще несколько дней.
Я несколько раз повернулась на месте, дома высились прямо над моей головой. Таких зданий я прежде не видела. Вход в Центральный парк напротив и идеально ровная линия жилых домов вокруг парка напомнили мне о родном городе. Хотя в Тулче нет ничего даже отдаленно похожего на Нью-Йорк.
Тулча стоит на нескольких лысых холмах, и во время сильного дождя вода ручьями течет по плохо асфальтированным улицам окраин. Там где махрится центр города, в окрестностях набережной Дуная, Тулча похожа чуть ли не на деревню. За деревянными заборами лают собаки, во дворах тень от виноградных лоз. Всего в нескольких кварталах дальше Тулча уже похожа на город, днем там шумно и суетно, но после захода солнца даже там наступает такая тишина, будто находишься на краю света. Дунай течет всегда, и в темноте тоже. Он тихо скользит мимо, чтобы не беспокоить горожан.
За прибрежной улицей — Страда-Исаккеи, — за причалами, за прогулочными судами и несколькими бетонными коробками, что построили на набережной, в последний месяц в Тулче мне было видно реку. По ту сторону темной ленты Дуная виднелась зеленая чаща, в которой почти полностью утопает деревня Тудор-Владимиреску. Она словно защищается и скрывается от города. Деревню часто затапливает. Тогда туда можно добраться только на лодке или пароме, сначала преодолев сильное течение. Только церковь упрямо стоит там, где властная река сворачивает налево.
Было глупостью увидеть в Центральном парке что-то общее с тем диким, таинственным лесом ив и тополей на дунайском берегу. В детстве, по дороге из школы в детдом, я всегда оттягивала возвращение. Я смотрела за реку и воображала, что там живут мои родители. На мысе, который уже за чертой города, но еще не дельта. Такая вот резервация для потерянных родителей. Они были невидимы, но не далеки. Как и многие детдомовские, я не имела ни малейшего понятия, кто меня зачал и родил.
Не менее абсурдно было сравнивать ровную линию панельной застройки на Страда-Исаккеи с линией домов вдоль Центрального парка — бесспорным архитектурным шедевром: здания, элегантные до последнего плинтуса, пронизывал свет. Эти дома давали жильцам почувствовать, что их жизни полны грации и смысла, а в тулчинской панельке чувствуешь себя в лучшем случае вытолкнутым за пределы. За пределы всего, что стоило бы увидеть и испытать за короткую жизнь.
Наверное, это еще одна глупость, но кто знает, быть может, за широким окном роскошного фасада тоже стоял ребенок и представлял, что где-то в Центральном парке живут его невидимые родители.
Я ощупала банку через кожу сумки, затем наконец прошла несколько шагов по Восьмой авеню. Уже на следующем углу мне бросился в глаза причудливый небоскреб — с косым, многократно изломанным фасадом, — построенный поверх старого каменного здания. Это сооружение мне не с чем было сравнить. На всех четырех углах перекрестка высились узкие башни, словно поддерживая небо. Или отталкивая его подальше.
Я вспомнила сказку, в которой кто-то карабкался на небо по стеблю огромного растения, а навстречу ему спускались всякие сказочные существа. Как раз для этого годились здания вокруг меня. Пока я изумленно глазела на них, меня чуть не задавил грузовик с надписью «Make the better move»[3]. На одной из витрин предлагали «красоту и приятность круглые сутки». На вывесках я читала названия, о которых никогда раньше не слышала: Wendy’s, Starbucks, City Bank, Duane Reade, Gotham Pizza, HSBC. Я увидела многоэтажный гараж, Matt’s Grill слева, а справа — широкий и высокий жилой дом без балконов.
Мне вспомнились колоссальные фасады панельных многоэтажек на перекрестках Бухареста. Они похожи на отлитые из цемента утесы, о которые разбиваются волны городской жизни. Эти здания годились только для одного: вешать на них огромные плакаты, расхваливающие красоту, автомобили, виски и сигареты. Они отнимали у жильцов свет, вид из окна и рассудок.
Но вот чего не хватало нью-йоркским жилым башням, так это балконов. Люди жили за иллюминаторами, как пассажиры корабля, который должен их куда-то везти, но не трогается с места.
Я видела Cosmic Diner и Worldwide Plaza, Express-Wash-and-Blow с эпиляцией воском и удлинением ресниц, а еще Bikram Yoga, Vishara Video, Bar and Grill прямо рядом с New York Sightseeing: Hop On and Hop Off — The only way to see Big Apple… Целый Вавилон названий, ни о чем мне не говоривших.
Между вывесками то и дело попадались остатки прежних времен — дома из красного кирпича, где располагались многочисленные заведения, желавшие что-нибудь продать одинокому, голодному, мучимому жаждой, больному, усталому, скучающему человеку: аптеки, стейк-хаусы, бары, магазины деликатесов и алкоголя.
То и дело я поглядывала и на горизонт, куда уходила Восьмая авеню, но все еще никак не могла разглядеть башни Всемирного торгового центра — единственное, что имело для меня значение. На Сорок четвертой улице я свернула и прошла к Седьмой авеню, потому что увидела крупные вывески с названиями театров: Schubert, Majestic, Helen Haynes — и подумала, что я всего в одном квартале от пупа земли, который все называют «Таймс-сквер». Я вернулась на Восьмую авеню.
Мне хотелось найти место, где можно посидеть, — например, в какой-нибудь открытой церкви, — и я прикидывала, не лучше ли оставить банку с прахом на алтаре и улизнуть. Однако на Восьмой авеню, как мне показалось, церквей было негусто. Я нашла только одну, свернув в сторону Гудзона, она возвышалась между зданием с вывесками Burger King и Donkin’ Donuts с одной стороны и автостоянкой с другой. Церковь Святого Креста оказалась закрыта.
Мимо проехал автобус с надписью: «You can win the biggest prize in game show history»[4], на другом я прочитала: «We’ll take you anywhere»[5]. После Тридцатой улицы ущелье из зданий постепенно становилось все ниже, Восьмая авеню преобразилась — стала шире и просторнее.
Слева тянулась сплошная вереница чугунных зданий и кирпичных домов, справа — невзрачные коричневые доходные дома. Конечно, мне никогда не пришло бы в голову так их назвать, ведь они были куда чище и ухоженнее, чем те, что у меня на родине. Лишь оттуда я увидела вдалеке башню, гораздо выше, чем все остальные, и прохожий подтвердил, что это одна из башен-близнецов.
Ноги у меня отекли, я обливалась потом, мне было тяжело. Странная усталость мешала мне идти вперед, и я решила, что скоро поверну назад. Я хотела подбираться к башням постепенно, как хищник к своей жертве. Но все-таки я поднапряглась и прошла еще несколько кварталов. На одном из перекрестков кондитерская рекламировала лучший чизкейк в мире, а в доме напротив, на втором этаже, находился Нью-йоркский спортивный клуб. Люди приводили себя в форму, глядя на эту рекламу. Все было вечным, непреодолимым круговоротом.
Когда Восьмая авеню закончилась, я прошла еще немного по Хадсон-стрит, окаймленной десятиэтажными складами, невысокими жилыми домами и деревьями. Я видела только верхушку одной из башен, потом она исчезала, но вскоре появлялась снова. Башни словно играли и смеялись надо мной. Там окончательно прервала свое паломничество и на метро вернулась в гостиницу. Я улеглась на узкий, тоненький матрас и — пока не уснула — думала о первой встрече с тетей Марией.
За несколько недель до Нью-Йорка я даже не знала, что моя мать жива. Я давно перестала думать о ней. Я жила спокойной, предсказуемой жизнью швеи, которая умеет шить нижнее белье, юбки, блузки, пиджаки, брюки, пальто, да что угодно. За двадцать три года работы я успела одеть полстраны.
Каждое воскресенье я гуляла по вымершему городу с уверенностью, что монотонная жизнь мне по душе. Кому я была нужна такая — никого никогда не жалела, меньше всего — себя. Была строга ко всему, в первую очередь к правде. Избегала хвастовства, болтовни, пустословия, так что с годами стала молчаливее, упрямее, противнее. Всегда ненавидела то, что другим людям жизненно необходимо, — вранье о собственном положении и успехах. Я знала, что эта строгость, эта безжалостность наложили отпечаток и на мое лицо.
Письмо из лепрозория как гром среди ясного неба вдруг принесло в мою жизнь тревогу, сомнения и множество вопросов. Я до сих не имею понятия, как тетя Мария меня нашла. Мне понадобилось некоторое время, чтобы решиться и сесть на поезд до Тулчи. Переночевав в городе, с утра я поехала на такси в колонию.
Ворота были гостеприимно распахнуты, но я ужасно боялась и никому не подавала руки, хоть таксист и объяснил мне, что теперь больным дают такие лекарства, что они больше не заразны. Я ждала ее в затемненной общей комнате, медсестра сказала, что книги и мебель им кто-то пожертвовал очень давно.
Оказалось, что и здесь телевизор служит главным развлечением, — поздним утром перед экраном собралось несколько жителей колонии. Я видела только силуэты, не могла разглядеть их ран и увечий, но тем подробнее могла все это представить. Я взяла полистать какую-то книгу, и тут на инвалидном кресле привезли ее. Помню как сейчас. Это не так уж давно было.
— Книг здесь давно уже никто не читал. У нас нет пальцев, чтобы их открывать и переворачивать страницы, — сказала она. — Я тетя Мария. А ты, наверное, дочь Елены.
— Так вы мне написали.
— Давай выйдем отсюда, здесь мы только мешаем другим. — Когда мы вышли во двор, она сказала: — Я ждала тебя раньше. Уже неделя, как твоя мать умерла.
— Раньше я не могла приехать.
— Но я же тебе написала, что она умирает?
— Я же сказала, что не могла приехать раньше. Откуда мне вообще знать, что она на самом деле моя мать?
— Ты Елена, родилась двадцать шестого августа шестидесятого года. Ты росла в детском доме в Тулче, а потом — в семье истовых коммунистов в Бухаресте.
— А потом у покладистых пролетариев, а потом у тупых колхозников. И всех их пережила. Уже двадцать лет я народ обшиваю: коммунистов и некоммунистов, доносчиков и отсидевших по их доносам. Тех, кто живет одной болтовней. В этой стране таких полно. После того как коммунистов скинули, стало чуть лучше, но болтовня и вранье все так же невыносимы. Я как подумаю, кто мою одежду носит, так аж тошнит. Да, это я. Но это еще ничего не доказывает.
Моя жесткость удивила и смутила ее. Это было очевидно. Она не знала, как продолжить разговор.
— Ты на нее похожа.
— До или после того, как она стала монстром?
Я хотела спровоцировать, задеть ее, но она пропустила это мимо ушей.
— Ты хочешь что-нибудь услышать о своей матери?
— Мне сорок лет. С чего бы мне этого хотеть? Ее просто не было рядом. Этого более чем достаточно.
— Нечего ее осуждать. Коммунисты не разрешали оставлять детей при нас. Тебя забрали в воскресенье, погожим свежим утром. Как сейчас помню. Они были в защитных костюмах и перчатках. Тебе всего годик исполнился. Она вцепилась в тебя что было сил, но пальцев у нее уже тогда не хватало. До самого забора за машиной ковыляла. Потом диктовала тем, кто еще мог писать, письма чиновникам, но ни одного ответа не получила. Она все перепробовала, ты уж поверь мне.
Я отвела глаза.
— Ладно.
Мы долго молчали.
— У твоей матери было две мечты: встретиться с тобой и побывать в Америке.
— И ни одна не сбылась. Зачем вы меня вообще вызвали?
— После революции я уговаривала ее связаться с тобой…
— Не надо мне об этом рассказывать! Я не хочу знать!
— Но она боялась. Не хотела, чтобы ты увидела ее такой.
— Прекратите!
Она опустила голову и посмотрела на свои культи, под ними у нее на коленях лежала коробка. Мне очень хотелось плакать, но я давно научилась владеть собой.
— Просто скажите, зачем вы меня сюда вызвали. Только чтобы она увидела меня перед смертью?
— Нет, не только. Ты должна выполнить ее последнюю волю. У меня это уж точно не выйдет.
— И какова же ее последняя воля?
— Попасть в Америку.
— В Америку? Я? С ней?
— Не беспокойся, я ее кремировала, как она и хотела. Она ненавидела церковь и попа, который только и делал, что рассказывал нам, будто это воля Господа, раз мы такие, какие есть. Что мы грешники и должны смириться. Не любил он нас, и мы его не любили. Когда старый поп умер, вместо него пришел молодой, но и он говорил все то же, что и старый. В нашей вере запрещено кремировать покойников, но мысль о том, что церковь не получит ее даже после смерти, очень нравилась твоей матери. Так что тебе нужно только отвезти ее прах. И деньжат я немного скопила.
Она подняла коробку и протянула мне.
— К сожалению, я не нашла ничего лучше.
— Я никуда не поеду и не прикоснусь к этому! — закричала я. — С чего вы вообще взяли, что я должна это сделать? Через столько лет?
Я хорошо помню, как топнула ногой и убежала к низкой оградке вокруг церкви. Я открыла калитку, зашла и села на траву. «Что же это за ад такой?» — подумала я. Несколько десятков местных жителей разглядывали меня с таким же любопытством, как и я их. Все оборачивались на меня.
— Ты дочка Елены? — спросил один мужчина.
— Нет, я ничья дочка!
— А, я так и подумал, Елена-то ни за что не подошла бы к церкви, — ответил он.
Я вышла из такси у вокзала с твердым решением уехать, но вместо этого осталась сидеть в зале ожидания. Я долго просидела в раздумьях там, потом — в номере гостиницы на набережной. Смотрела на Дунай и на утопающий в зелени другой берег, пока не стемнело.
Наутро я без колебаний прошла через ворота лепрозория, спросила, где найти тетю Марию, и остановилась только у ее дома. Помню, она разговаривала с мужчиной, у которого ноги гноились и кровоточили, он старался очистить раны кусочком ваты и перевязать старыми бинтами.
— Нам тут всего не хватает, — сказала тетя Мария между делом, не жалуясь, а словно убедившись, что земля еще вертится. — Лекарств мало, бинтов нет, главное — надежды нет. Живем на то, что нам пожертвуют, да на пенсию маленько.
— Где мой отец? — спросила я.
— Лежит на нашем кладбище, у самого склона, в третьем ряду. Он умер где-то в начале семидесятых.
— Как его звали?
— Георге. Как гирло реки, где стоит родная деревня твоей матери.
— Что вы о нем знаете?
— Хороший был человек, рыбак из местных. Очень любил ее.
— Он был тоже… То есть у него тоже…
— Был ли он тоже болен проказой? Ну конечно, разве бы кто притронулся к твоей матери, если не такой же, как она?
Тетя Мария рассказала, что отец попал сюда примерно через семнадцать лет после матери. Они переселились в домик выше по склону и, пока могли, работали в огороде. По словам тети Марии, они были счастливы вместе.
— А почему именно в Америку? — спросила я.
— Твоя мать ненавидела церковь, но еще сильнее она ненавидела эту страну. Нас сюда засунули и забыли, ни одной душе не было до нас дела, кроме одного врача, который иногда наведывался. Елена всегда говорила: «Когда помру, не хочу лежать в этой земле». Она до последнего хотела уехать, живой или мертвой, как говорится.
— Почему в Америку?
— Садись-ка рядом, девочка.
— Не надо. Я прекрасно стою.
— Как хочешь. В молодости твоя мать хотела выбраться из дельты. Хотела посмотреть мир. Тогда много говорили об Америке, и все это ее очень соблазняло. Она даже нашла одного приличного молодого человека, родом из дельты, как и она, который жил в Нью-Йорке. Они много переписывались, и она даже немножко влюбилась в него. Ну дело-то молодое. Но тут она заболела проказой, и ее подружка увела хорошего жениха. Елена потом назвала овцу именем этой женщины. Когда овца состарилась, мы ее зарезали и съели. Вкусная была овечка. — Тут тетя Мария так рассмеялась во весь беззубый рот, что никак не могла продолжить рассказ. — Елена долго ненавидела их обоих, но со временем смягчилась. Прежде всего потому, что те начали ей писать и присылать посылки с консервами, сигаретами и шоколадом. Сигареты мы всегда отдавали охраннику, чтобы он покупал нам теплую одежду. Мы вечно мерзнем, знаешь ли. Благодаря им нам с ней жилось не совсем уж худо. Они издалека заботились о нас, иной раз тот, кто спит с тобой в одной постели, столько не сделает. Когда во всей стране начался дефицит и продукты продавали только по талонам, нам все равно хватало на жизнь. Однажды ненависть Елены иссякла. В самом начале она говорила: «Если я умру раньше тебя, сделай так, чтобы мой прах попал в Нью-Йорк, чтобы последнее слово осталось за мной». Потом, когда узнала, что они умерли, пожелала, чтобы ее прах высыпали на их могилу. «Так я буду рядом с ними и не дам покоя», — говорила она и смеялась.
— Как их звали?
Тетя Мария с трудом достала из кармана кофты клочок бумаги.
— Вот здесь фамилия. Они лежат на кладбище в Бруклине, в этом районе они жили последние годы. Не знаю, насколько большие в Америке кладбища, но ты их наверняка найдешь.
В такси до Тулчи я поставила обувную коробку на сиденье рядом. Всю дорогу я то отодвигала ее на несколько сантиметров от себя, то опять придвигала ближе. Когда трясло, клала руку на крышку.
В Тулче я сняла маленькую меблированную квартиру и позвонила на фабрику, взяла отпуск за свой счет. Коробку я поставила на стол, потом в шкаф, потом на балкон.
В течение нескольких недель, что понадобились мне на принятие решения, коробка ежедневно меняла место. Порой меня охватывала ярость, я брала коробку под мышку, пересекала Страда-Исаккеи и подходила к реке. Но дальше я никогда не шла. Я возвращалась домой, и путешествие коробки по квартире начиналось сначала. Через три недели я купила банку соленых огурцов, а вскоре и билет на самолет до Нью-Йорка.
На следующий день смелости и авантюризма у меня прибавилось. Я перешла на Десятую авеню и сразу же наткнулась на человека, который стоял рядом со старым «кадиллаком» и предлагал автоэкскурсии по следам звезд. В его прейскуранте были звезды живые и умершие, из мира кино, спорта и музыки.
Чуть дальше на Десятой копия Мэрилин Монро объявила мне, что именно на этом месте находился Мэдисон-сквер-гарден, где Мэрилин песенкой поздравила с днем рождения президента Америки и тем самым лишила сна не только его, но и еще кучу мужчин. Я никогда об этом не слышала. Она предложила мне поездку по местам самых известных измен. Еще кто-то пытался впарить мне знаменитые преступления. Я убегала от них, прижав сумку к животу, будто предложения их были непристойны и аморальны.
Еще южнее снова пошли старые приземистые жилые дома, в которых, если память меня не подводит, располагались магазины с чудны́ми названиями: Happy Joy — Chinese Food, Happy Pet и Happy Lamb — Prime Choice Meat[6]. Помню, я смеялась в голос — так много счастья редко увидишь. Над витриной одного магазина деликатесов еще угадывалось полслова Fact. Оно сохранилось с тех времен, когда в Адской Кухне — именно по этому району я шла, сама того не зная, — работали фабрики по пошиву дешевой одежды. Там трудились люди, которые, как ты сказал, к сорока годам превращались в измученных стариков на пороге смерти.
На Пятидесятой улице мне попалась болгарская церковь, похожая на наши, — хоть что-то знакомое, впервые за несколько часов. Но у нас церкви после обеда оживают, туда непрерывным потоком идут помолиться прихожане, а эта стояла никому не нужной сиротой. Слева и справа церковь подпирали узкие кирпичные дома, поддерживая ее, как старушку. Или как шатающегося забулдыгу.
Я шла дальше по Десятой авеню, но башни-близнецы все не показывались. Чем ближе я подходила, тем дальше они отступали. К тому же на этот раз я не чесала прямиком к башням, а брела, озираясь, словно я туристка, заблудившаяся на западе Манхэттена. В Адской Кухне никто не строил небоскребов, только редкие жилые многоэтажки, в основном же здесь стояли заколоченные, заброшенные кирпичные дома из позапрошлого века.
Времени мне хватало. Это была первая и последняя в моей жизни прогулка с матерью. Как будто мы с ней вместе поехали в незнакомый город. Я сворачивала на поперечные улицы и доходила по ним до Гудзона, чтобы отдохнуть и подумать у воды.
На Сорок третьей улице я зашла в закусочную Market Diner, пристроенную к большому складскому зданию. Над старой стойкой, отполированной до блеска множеством стаканов, бутылок и локтей, светились оранжевые стеклянные шары. Диваны у столиков обиты черно-белой имитацией змеиной кожи. Не там ли ты просиживал ночи напролет в семидесятые и пел за несколько центов городским полуночникам, патрульным полицейским, жуликам из Нью-Джерси и усталым таксистам?
— Леди, что вы здесь забыли? — спросил меня сморщенный старик-официант. — К нам редко забредают туристы.
— Я не туристка. У меня здесь дела.
— Поверьте мне, ваша большая дамская сумочка и растерянный взгляд делают из вас идеальную жертву грабителя. Вы разве не читали в путеводителе, что в Адской Кухне не стоит бродить в одиночку? — Не дожидаясь ответа, старик продолжал: — Конечно, теперь уже не так страшно, как раньше, в семидесятые-восьмидесятые. Тогда мы процветали. Здесь днем и ночью сидел Фрэнсис Физерстоун со своей бандой. Гангстеры давали щедрые чаевые, а когда выясняли отношения, шли на стоянку, чтобы у нас не возникало неприятностей. Копы, убийцы, политики, проститутки — все бывали здесь, и я всех обслуживал. О нас можно говорить что угодно, но было время, когда после полуночи мы становились центром этого города. Не то что сейчас, обслуживаю по три человека в день, — сказал старик с потерянным взглядом. — Здесь Физерстоун всегда пил джин, расчленив тех, кто с ним не рассчитался.
Увидев мое лицо, официант расхохотался.
— Я же говорю, теперь поспокойнее. Видите фотографию на стене? Узнаете его? Вот именно, я обслуживал Синатру, в кабинете, который всегда был забронирован для него. Не каждый может таким похвастаться. И наш мэр Джулиани бывал у нас, вот, посмотрите. И трансвеститов хоть отбавляй. А теперь я часами стою и пялюсь в окно.
Казалось, он сомневается, стоит ли продолжать монолог. Его нисколько не волновало, понимаю ли я вообще, что он говорит.
— А еще, судя по вашему виду, вам не помешает компания. Мне нравятся молчаливые женщины, от других у меня только голова болит. Выпьют стаканчик джина и уже болтают со мной без умолку. А говорить-то мужикам с женщинами особо не о чем. Все разговоры так или иначе ведут либо к постели, либо к скуке. Но вы, кажется, не такая.
— Погодите, пока я выпью стаканчик.
— Если вы не торопитесь… У меня скоро кончается смена, и живу я недалеко.
Я отодвинула тарелку, встала и расплатилась. Уже в дверях я опять услышала голос официанта:
— Поверьте мне, здесь не место даме вроде вас. Ваш страх за милю учуять можно. На этот запах сбегаются местные собаки. Возвращайтесь на Десятую авеню или еще дальше. Туда, где вам место.
Я сделала шаг назад.
— Вы называете то, что подаете, едой? Неудивительно, что в вашей забегаловке пусто. Тот бандит, о котором вы говорили, мог бы с успехом травить этой стряпней своих врагов.
Я изо всех сил хлопнула дверью и поспешила прочь.
Наперекор его предупреждению я пошла по Одиннадцатой авеню, мимо пустых автостоянок, рельс, складов и бывших фабрик. Мир тревоги и суеты большого города остался на востоке. Я чувствовала не опасность, а покой. Вспомнила, что хотела дойти до Гудзона, и поспешила направо, мимо вагонных депо, гаражей, паркингов и заброшенных пакгаузов.
Наконец добравшись до реки, я перегнулась через парапет и смотрела на воду усталого, старого Гудзона, которому оставалось всего несколько миль до моря. Я достала банку из сумки, задумчиво открыла крышку, затем закрыла. Но темная чужая река, о которой я ничего не знала, не хотела принимать мой прах. Вот Дунаю я бы доверила мать без раздумий, но она пожелала иначе.
Я вернулась на Десятую авеню и наткнулась на очередную закрытую церковь, жавшуюся к соседним жилым домам. Границы веры проходили ровно по стенам храма, дальше были магазины, мусорные мешки и прочий балаган жизни. Церковь находилась под плотным конвоем соседних зданий. Ей пока не отказали в гостеприимстве.
Направляясь на юг, я прошла мимо железнодорожного депо длиной в два квартала и видела отрезок бывшего моста или эстакады, висящий над улицей. Там, где черный остов терялся в глубине параллельной улицы, двое черных мужчин сторожили кучу списанных офисных кресел. Они сами сидели в двух креслах, беспрерывно вращаясь. Дальше пошли пустыри, огороженные мусорные контейнеры, склады с грузовиками на рампах, запущенные кирпичные дома с заколоченными дверями и окнами, свидетели давно ушедшей эпохи.
Над одним продуктовым магазином красовалась вывеска: «Open soon»[7]. И все же чувствовалось, что этот район переживает безвременье. Ветхие небольшие домики чередовались с массивными многоэтажными складскими зданиями. Мужчина с отекшими руками, сгорбившись, толкал перед собой тележку из супермаркета со своими пожитками. Седая как лунь женщина в широкополой шляпе глядела на индустриальные руины.
Словно удерживаемая какой-то таинственной силой, я продвигалась очень медленно. Я искала причины, чтобы затормозить свое путешествие. Было тепло, слишком тепло для этого времени года, и город застыл под куполом сияющего света. Каждая скамейка, каждый бар, каждый клочок зелени были хорошим поводом остановиться и еще немного отсрочить мгновение, когда придется расстаться с матерью.
Я купила кусок пиццы за девяносто девять центов и жевала как можно медленнее. Я растягивала время, как некоторые растягивают удовольствие от тающего во рту шоколада. Пытаясь сунуть кошелек в сумку, я выронила его, и несколько монет покатились по асфальту. Лохматый, скверно пахнущий человек всё подобрал. Как улитка, все свое он носил на себе: на рубашку надет пуловер, на него — тонкая куртка, а сверху — зимнее пальто. Готов к любой погоде.
Наши взгляды встретились. Я крепко сжала сумку, потому что куда охотнее рассталась бы с деньгами, чем с прахом матери. Бродяга сунул монеты себе в карман, но кошелек отдал мне.
— Далеко еще до башен? — спросила я, чтобы скрыть волнение.
— Башен здесь много.
— В смысле, до башен-близнецов.
— А, эти!.. А что мне за это будет?
Его беззубый рот расплылся в улыбке.
— То, что вы уже взяли, — ответила я.
— Так это было за одну башню. На две не хватит.
Я рассмеялась:
— Где одна, там и другая.
— Вы думаете? Ну ладно, все равно я вам ничем помочь не могу. Я только здесь бываю. Башен я уже много лет не видел. Может, их и нет вовсе, а люди всё болтают.
Я перешла на другую авеню, побродила по кварталу с неасфальтированными улицами. Казалось, по этой брусчатке только что проезжали экипажи девятнадцатого века и первые грузовики двадцатого. Перед большими черными пастями приземистых обшарпанных ангаров стояли рефрижераторы. То и дело тяжелые занавесы на входе раздвигались, и на рампу выносили целые штабеля аккуратно разделанного и тщательно упакованного мяса. А из фургонов выгружали полутуши свиней и коров и заталкивали их в темные проемы. Будто кормили невидимое чудовище.
На одном из ангаров висел плакат с полным перечнем мясных продуктов, которые поставляла фирма «Цукер». Иногда из ангара выходил покурить рабочий, одетый в шапочку, перчатки, пуловер, горные ботинки и белый халат. Луис Цукер специализировался на свинине и говядине, Джон Уильямс поставлял баранину, а London Meat — птицу. Отсюда кормили весь город. Каждый мясник прекрасно знал, какое именно мясо он режет.
В тот день я добралась только до угла Шестой авеню и Тринадцатой улицы. Там я остановилась, зачарованная гигантскими, величественными башнями, которые наконец показались вдалеке. Взглянув налево, в глубь Тринадцатой улицы, я увидела несколько тенистых деревьев. Но не пошла к ним, иначе, не пройдя и сотни метров от перекрестка, я заметила бы подвальный театр, где ты, наверное, как раз готовился к вечернему представлению. Нам суждено было встретиться только через полтора дня.
Вернувшись в свой номер, я поставила прах на стол. Подтянула крышку банки, а то она немного разболталась. Включила телевизор, прикрепленный к потолку. Назавтра обещали грозу. Сама того не замечая, я начала разговаривать с мамой. Погружаясь в сон, я бормотала: «Завтра точно сделаю. Завтра я исполню твою волю».
На третий день, ближе к обеду, я остановилась перед баром «Рудис» — маленькая вывеска на витрине обещала бесплатный хот-дог к каждому пиву. В затемненном помещении сидели и стояли черные, белые, китайцы, великая жажда собрала их вместе, объединила пеструю толпу случайным образом. Когда входил новый посетитель, знакомый присутствующим, его громко приветствовали, а на меня никто не обратил внимания. Полный стакан пива уже стоял на стойке, прежде чем новоприбывший успевал сесть. Руди — или кто там работал за стойкой — тоже рассказывал, что здесь бывали Синатра и еще дюжина знаменитостей, о которых я никогда не слышала. Не знала я и что такое проибишн[8], о котором рассуждал бармен.
— Во времена проибишн у нас тут был ужаснейший алкоголь, но прекраснейшая публика! — крикнул он нескольким полуденным выпивохам.
— Значит, ты еще тогда тут работал? Вот это да! — удивился один из них, и другие подняли его на смех.
— Не я, а мой отец. Ты лучше пей больше. Когда пьяный, можешь сказать что-нибудь умное.
— Это что же, мы для тебя плебеи какие-то, раз ты о старых временах мечтаешь? — спросил второй. — Может, нам перейти на красное вино и парле по франсе?
— Плебеи не плебеи, какая разница, главное, пьете.
— Вот и правильно!
Они чокнулись.
Я наконец-то собралась довести дело до конца. Нашла ближайшую станцию подземки и доехала до Чеймберс-стрит. Но вместо того чтобы пойти прямиком к Южной башне, я решила обойти вокруг близнецов. Я ухаживала за ними. И понимала, в какую игру играю. Отдавать прах абы кому мне не хотелось.
Я прошлась по улицам Нижнего Манхэттена и с каждого угла смотрела на башни. Чаще всего они были хорошо видны, хотя бы их верхние трети. Иногда перед ними оказывались другие небоскребы и закрывали мне вид.
Я отступила на угол Вест-Бродвея и Гринвич-стрит, потом еще дальше. Отсюда башни казались миражом на небе. Ближе к парку Вашингтон-Маркет их снова стало видно лучше. Несмотря на обилие небоскребов, там еще встречались кирпичные дома, чьи пожарные лестницы заменяли орнаменты и лепнину домов побогаче. Это было единственным украшением бедняцких домов. У меня на родине многоэтажки стояли голышом, так как ни украшений, ни путей отхода предусмотрено не было.
С Саут-стрит я спустилась в городское брюхо, в низинную часть Нижнего Манхэттена. Энн-стрит повела снова наверх и к свету, как по родовому каналу. Прилегающие улицы тоже были узкие и темные, застроены замками из стекла и стали, суровыми и безжизненными. Я странствовала по внутренностям города. На коротком пути к Бродвею я шептала: «Я вас не вижу. Где же вы?»
И все-таки брюхо Манхэттена оказалось обитаемым. Здесь я увидела спа-салон, 7 Eleven, цирюльню, табачный магазин, гелевый маникюр за 20 долларов, Ricky’s Halloween — Holiday with Personality — Shop now[9]. Даже там, в этих тесных, душных лавочках был некий Соломон, чинивший обувь и обещавший начистить ее до блеска. Я обнаружила парикмахерскую «Даниэла» и ателье «Алекс», а еще скупку золота и брильянтов. С берега Ист-ривер казалось, будто башни Всемирного торгового центра выглядывают из-за других небоскребов, чтобы хоть одним глазком посмотреть вдаль. Чтобы наконец вздохнуть свободно.
Миновав глубокие ущелья даунтауна, куда не проникал солнечный свет, я заметила, что небо заволокло тучами. Когда я спросила прохожего на Либерти-стрит, где вход в Южную башню, грянул первый гром. Когда я пересекла площадь у юго-восточного угла близнецов, раздался второй раскат и сразу пошел дождь. Крупные, тяжелые и блестящие капли выглядели как жидкий металл.
Я забежала в закусочную «Чарлис», где предлагали бургеры, стейки и буррито. Ты говорил, это одно из нескольких зданий, которое пережило снос квартала в конце шестидесятых, когда там собрались строить нечто большое, монументальное. Нечто такое, что должно было спасти даунтаун, откуда постепенно съезжали магазины и фирмы, — Всемирный торговый центр.
Так и представляю, как тебе, шестнадцатилетнему пареньку, каждый день приходилось катить твоего деда на инвалидной коляске в район Рэдио-роу, потому что старик хотел еще раз увидеть эти дома, пока их не снесли.
Через некоторое время дождь стал потише. С Либерти-стрит я вошла в вестибюль Южной башни. На этот раз погода помешала мне подняться на сто десятый этаж, где находилась смотровая площадка, и наконец выполнить задание. Терраса Top of the World[10] оказалась закрыта для посещения до конца дня.
Ранним вечером, когда на Манхэттене вновь стало темнеть, я уже возвращалась в отель. Мне оставалось только надеяться на следующее утро — мой последний шанс, если смотровая площадка будет открыта. Иначе, может, и правда придется воспользоваться помощью одной из двух местных рек. Но я не могла себе представить ни одну из них последним прибежищем матери, все-таки она прожила всю жизнь у такой великой реки, как Дунай.
Мне это ничего не стоило бы, всего несколько секунд, я наверняка нашла бы подходящее место на каком-нибудь пирсе, где мне никто не помешал бы. И все же это казалось мне слишком простым, слишком банальным, слишком небрежным. А вот высшая точка одного из самых высоких зданий мира, только чистое небо наверху и людская суета внизу — вот это было бы достойным венцом жизни, в которой не исполнились мечты.
Когда я, как и накануне, проходила угол Шестой авеню и Тринадцатой улицы, опять ливанул дождь, еще сильнее вчерашнего. Я узнала деревья, которые росли всего в нескольких шагах от перекрестка, и решила спрятаться под ними. Кроны небольших деревьев от такого ливня не спасали, так что я огляделась в поисках укрытия понадежнее, увидела узкую маркизу какого-то театрика и встала под нее. Но дождь и порывистый ветер преследовали меня и там.
Я спустилась по ступенькам и сквозь единственное цветное окошко заглянула в подвальное фойе маленького театра. На противоположном конце помещения как раз закрыли дверь, которая, наверно, вела в зрительный зал. У входа я заметила в витрине афишу, с которой мужчина, немного наклонив голову, смотрел на зрителя большими детскими голубыми глазами. Он слегка приподнял шляпу-канотье, словно приветствуя прохожих.
«Сегодня вечером у нас: Человек, который приносит счастье. Не пропустите!»
Такой человек мне сегодня и нужен, подумала я. Вытерлась в фойе, тихонько открыла вторую дверь и села в темном зале на последний ряд. Сумку я осторожно поставила на соседний стул. Прямо надо мной, на деревянном помосте с узкой лесенкой, я услышала шаги и тихое покашливание. Тут включился прожектор, и следующее, что я услышала, был твой голос.
Глава седьмая
Я стоял на помосте и возился с освещением, когда услышал, как тихонько открылась дверь и кто-то вошел. Одним зрителем больше, подумал я, вот и хорошо.
— Леди и джентльмены! — начал я. — Он король подражателей, кудесник среди комиков, танцор, которому позавидовал бы сам Джин Келли. После множества аншлагов в Орландо, Атлантик-Сити и Лас-Вегасе он наконец-то снова в нашем городе!
Лучи трех софитов под моим управлением шарили по сцене.
— Встречайте человека, которого ждет вся Америка! Даже в такой ненастный вечер его магия заставит вас смеяться. Мужчины, держите женщин крепче, ведь их сердца устремятся к нему. Поприветствуем аплодисментами человека, который приносит счастье!
Я установил софиты так, чтобы один светил на середину занавеса. Второй луч освещал магнитофон и стопку кассет, третий — вешалку с множеством костюмов. Спустившись по лесенке, я прошел мимо тебя, но видел только смутный силуэт в последнем ряду. Помню, я еще подумал, что ты должна мне за билет. Мое финансовое положение не позволяло пренебречь ни долларом.
Через узкий потайной ход я пробрался за сцену и начал оттуда говорить разными голосами, так, будто за кулисами ждет множество артистов. Сначала я бормотал, потом заговорил громче и, наконец, устроил несусветный гвалт. У публики должно было сложиться впечатление, будто артисты спорят о том, кому выходить на сцену первым. Затем я надел шляпу набекрень, посмотрелся в зеркальце на стене, как всегда, прошептал: «Сияй, молодой человек! Сияй!» — и просунул голову между крыльями занавеса.
По жидким аплодисментам я понял, что в зале сидит не больше семи-восьми человек, однако на прошлых представлениях публики было еще меньше. Теплый конец лета перечеркнул мои планы так же, как теперь гроза.
— Там за кулисами черт-те что творится, — начал я свой монолог. — Куча звезд, и все хотят лучшее место в программе. За сто лет ничего не изменилось. Дайте мне еще минутку, и я буду весь ваш!
Я спрятал голову, и за кулисами снова разгорелся спор. Ты помнишь?
— Вас же публика слышит! — сказал я своим обычным голосом. — Вы избалованы, как дети, ревнивы, как влюбленные, и склочны, как целая толпа тещ и свекровей. Джек, оставь Эла в покое. Ты выйдешь на сцену, когда тебя захочет увидеть публика. И ты, Эл, тоже. Всегда решает зритель.
— Да ведь зритель всегда хочет видеть меня! — отвечал голос Эла. — Я же и есть само шоу!
— Ой, да замолчи ты! — прикрикнул на него Джек.
Постепенно за кулисами все стихло, я опять натянул свою лучшую улыбку и вышел на сцену. При этом я споткнулся о невидимое препятствие. Подойдя к краю сцены, я заговорил:
— Дамы и господа, я знаю, что спотыкаться, выходя на сцену, не слишком оригинально. Милтон Берл, который тоже стоит за кулисами, раньше часто спотыкался на выходе. Мать посоветовала ему делать так, чтобы сразу же привлечь внимание зрителей. Человека, которого потом прозвали Мистер Телевидение, поначалу считали идиотом. Но он и его мать были очень терпеливы. В пятидесятые люди покупали телевизор, только чтобы посмотреть на него. Мой дед называл его вором плохих шуток, потому что Берл любил использовать чужой материал. Эх, мой дедуля мог бы вам столько всего рассказать!
Я повернулся к залу спиной.
— Милтон, ты там? Не хочешь поприветствовать зрителей?
— Привет, зрители!
— Зрители, поприветствуйте Милтона как следует!
— Привет, Милтон! — крикнули зрители.
— А правда, что ты воровал шутки?
— Чтобы я и воровал? Я лишь подбирал то, что плохо лежало.
— Он неисправим, правда? — Я снова повернулся к публике. — Дамы и господа, этот жанр появился больше века назад, причем здесь, в Америке. Точнее, здесь, в Нью-Йорке. Его назвали «водевиль». Открывались такие театры, каких раньше не бывало, на тысячи зрителей, и шоу не прекращалось с утра до вечера. Проктор, один из великих импресарио того времени, придумал лозунг: «После завтрака я иду к Проктору, после Проктора — спать». В знаменитом театре «Ипподром» на Шестой авеню были опускающаяся сцена и бассейн со стеклянными стенами для представлений ныряльщиков. Там Гудини заставил исчезнуть несколько слонов вместе с дрессировщиком. Гудини даже тонул в Ист-Ривер и висел вниз головой на подъемном кране. И всегда оставался жив. Но в итоге погиб от удара одного из своих поклонников кулаком в живот. Он не упускал случая показать, в какой хорошей форме находится, однако на этот раз переборщил. Мучаясь от боли, он в последний раз поднялся на сцену, чтобы не разочаровать своих зрителей. Через несколько часов он умер. Великий Гудини, которого так любил мой дед. Эх, дедуля, он мог бы вам столько всего рассказать!
Я опять повернулся спиной к залу и подошел к занавесу.
— Парень, заканчивай-ка уже! — сказал я голосом Джека. — Не надо портить нам весь вечер своим Гудини. Мы хотим наконец оказаться под светом софитов!
Я повернулся к зрителям:
— Не слушайте их, они такие ворчуны. Но они правы. Давайте лучше поговорим не о смерти звезд, а об их лучезарной жизни. Ведь на самом деле они не умирают. А лишь делают перерыв. Они заставляли смеяться несколько поколений. Они боролись за лучшее место на афише — тогда оно было в середине программы. В варьете первый номер был подготовительным, разогревом, чтобы последние опоздавшие зрители расселись по местам. А последний номер должен быть откровенно плохим, чтобы зрители ушли. Вообще, я помню только один плохой номер, который стал успешным. Сестры Черри пели так плохо, что импресарио выдавали слушателям яйца и помидоры. Сестрички сколотили состояние тем, что давали себя освистывать. Все артисты всегда хотели выступать в середине программы. И что же им было нужно, чтобы создать идеальную иллюзию? — Я указал на вешалку. — Немного таланта в танце и пении. Обаяние. Эксцентричность. Энтузиазм. Ведь если артист вообще ничего не умел, но выступал энергично, публика прощала ему почти всё. Ольга Петрова…
Я снова отвернулся.
— Заткнись уже и давай начинать, — проворчал я на этот раз голосом Эда Винна.
— Это Эд. Еще чуточку терпения! Сейчас начнем! — И продолжил шепотом: — Ольга Петрова, которая на самом деле была англичанкой, но выдавала себя за великую русскую певицу, сказала однажды: «В варьете добиваются успеха только шумные аферисты». А Эдди Кантор говорил: «Что действительно нужно, так это костюм, визитки и хороший номер». В общем, обязательно надо было придумать что-нибудь такое, что отличало бы тебя от всех остальных. У Чаплина были усики и трость, у Граучо Маркса — кустистые брови и сутулая походка с руками за спиной, у Бастера Китона — плоское канотье и каменное лицо, у Эда Винна — крошечная шляпка и круглые очки, а у Эла Джолсона — белые перчатки. Нужна была деталь, хотя бы всего лишь спотыкание. Ну ладно, хватит! Пусть лучше звезды сами расскажут о себе. Все они стоят за кулисами и нервничают, как кучка дебютантов. Не будем же заставлять их ждать ни минуты больше. Сэр, вы, в первом ряду. Как вас зовут?
— Даг.
— Откуда ты, Даг?
— Из Миссури.
— А что делаешь в Нью-Йорке?
— Развлекаюсь.
— Значит, ты оказался в нужном месте. Даг, на твоем кресле лежал список прославленных имен. Посмотри на него. Кого ты хотел бы увидеть первым?
— Эла Джолсона, конечно!
— Элу это очень польстит. Он был величайшим американским шоуменом, пока не умер в пятидесятом. Слухи о нем наверняка дошли и до Миссури, правда, Даг? Леди и джентльмены, примерно сто лет назад тысячи эмигрантов, приехавших в Америку и живущих в гетто, заново учились смеяться и мечтать. И учили их этому артисты, которые сейчас выступят перед вами. Многие их них сами были приезжими или из эмигрантских семей. Они меняли свои имена, приспосабливая их к новой, американской жизни. Эла Джолсона на самом деле звали Аса Йоэльсон. Но какое нам до этого дело, раз они так хорошо нас развлекали? Джолсон был феноменом. Убедитесь сами.
Я вернулся за занавес и подвернул штаны, чтобы публика видела белые носки. Намазал лицо черной краской, а рот — белой. Надел белые перчатки, снова выбежал на сцену и остановился только у самого края, широко расставив руки и притопывая одной ногой в такт воображаемой мелодии. На следующие десять минут я стал Элом Джолсоном.
— Вы, конечно, удивлены таким началом, но на пороге двадцатого века в этом не было ничего особенного. Меня любили даже черные. Двадцатого марта одиннадцатого года я выступил с черным лицом в театре «Винтер-Гарден». Я плясал, топал, кричал, плакал и пел. Через полгода я стал звездой. Белый еврей, выдающий себя за негра, — это Америка. Иногда я кричал публике: «Хотите дальше смотреть на меня или желаете увидеть другие номера?» И все хотели смотреть только на меня. У меня в жилах текло электричество, я все время носился по сцене, падал на одно колено, хватался за грудь и пел «Мэмми». Публика плакала. Люди вставали с мест и скандировали мое имя: «Джолсон! Джолсон!» Однажды в Театре на Пятьдесят девятой улице я выходил на бис тридцать семь раз. Я весь дрожал, полыхал огнем. Для раннего джаза и регтайма я был тем же, кем Элвис стал для рок-н-ролла. В девятьсот девятом я спел в Колониал-театре «Привет, малышка». Говорят, это был первый номер про секс по телефону. Что ж, возможно.
Эл поставил кассету с музыкой и запел:
Hello, ma baby! Hello, ma honey! Hello, ma ragtime gal! Send me a kiss by wire, Baby, my heart is on fire If you refuse me, honey, you’ll lose me Then you’ll be left alone So telephone and tell me, I’m your own.{12}— Я олицетворял свое время, как никто другой: всегда в движении, вечно галопом, всегда на сто восемьдесят ударов. Ритм современного города, ритм Нью-Йорка. Без меня из Гершвина ничего бы не вышло. Тоже еврей, сменивший имя. Однажды на какой-то вечеринке меня отвел в сторону еще никому не известный молодой человек. Он сунул мне в руки ноты «Суони». После того как я спел эту песню, было продано два миллиона копий. Пусть кто-нибудь попробует повторить.
Отец вставлял мне в рот спички, чтобы научить петь громко и отчетливо. Он мечтал сделать из меня кантора в синагоге. Им я и стал, да только на свой лад. Когда я пою, я молюсь. Я всегда боялся публичных выступлений. На случай, если меня стошнит, за кулисами всегда стояло ведро. Ко мне в гримерку частенько присылали танцовщиц, чтобы я расслабился. Но было и кое-что похуже. Я умер в Сан-Франциско за игрой в карты. Мои последние слова были: «О, я исчезаю». На Бродвее на десять минут погасили огни. Там знали, чем обязаны мне. Не слишком-то надейтесь, что я исчез навсегда, может, я и правда всего лишь взял паузу. Леди в последнем ряду, кого вы хотели бы увидеть после меня? Только не ждите от них многого, они все так себе.
— Я? — недоверчиво спросила ты. — Я никого не знаю из этого списка.
— Тогда просто ткните пальцем наобум.
В тот вечер я изображал и Эда Винна, называвшего себя «совершенным дураком», поскольку он всегда находил ужасно неуклюжих персонажей. Крошечную шляпку он носил в память о своем отце, который хотел, чтобы сын стал шляпником. Узнав о планах отца, Эд сбежал из дома. Однажды он сказал: «Я никогда не хотел быть реальным человеком». Еще ребенком я думал так же.
Затем я перевоплотился в Джо Фриско и станцевал фриско-шаффл. Отец Фриско выбросил танцевальные туфли сына, поэтому Джо сел на первый попавшийся поезд и в следующий раз увидел старика только на его похоронах.
Был я и Джеком Бенни с его знаменитыми паузами. Перед ключевой фразой шутки он всегда выжидал несколько секунд.
— Кошелек или жизнь? — спрашивал его грабитель в номере варьете.
Джек молчал.
— В чем дело?
— Я думаю.
Джек Бенни выступал на Эн-би-си. Я даже помню рекламу спонсора его шоу: «Летайте с “Истерн”! Номер один до солнца. Тихо, как в библиотеке. Любимая авиакомпания Америки».
Джимми Дуранте за его нос картошкой прозвали Шноцолой. Он шутил по этому поводу: «У меня такой колоссальный нос, что его надо показывать в музее». Когда Шноцолу спросили, почему он решил стать шоуменом, тот сказал: «С такой рожей я мог стать либо преступником, либо шоуменом». Его показывали по Эн-би-си каждую субботу в девять тридцать вечера. Но сначала шла реклама: «“Хейло” — шампунь, который прославит ваши волосы! / “Колгейт” — очищает дыхание, очищая зубы! / “Палмолив” — для более гладкого и комфортного бритья!»
Зрители хотели увидеть и Бастера Китона. Я нахлобучил на лоб канотье Бастера, достал плакаты и стал показывать их один за другим:
«Аплодисменты, пожалуйста! / Ну вы и лентяи! Громче! / Это немое кино, но я не глухой. Громче! / Уже лучше. / Меня зовут Бастер. / Аплодисменты! / В детстве отец всегда швырял меня в зал. / Такой у нас был номер, людям это нравилось. / Я был как кошка, всегда умел приземляться. / Если только отец не упускал момент. / А такое случалось часто, ведь он по-ирландски усердно пил. / Но падения мне не вредили. / Мы же занимались шоу-бизнесом. / Приходилось чем-то рисковать. / Аплодисменты! / А потом я ушел в кино. / И стал проделывать трюки один. / Я прославился, не сказав ни слова. / Тут Элу Джолсону со мной не потягаться. / Аплодисменты! / Еще! / Теперь я счастлив. / Если разрешите вас обнять, я кое-что скажу вслух».
Я спустился в зал и обнял парня из Миссури и еще двух-трех зрителей. Поднял над головой плакат: «Исторический момент. Бастер говорит». Слегка пошевелил губами. «Слышали? / Нет? / Не повезло вам».
Я действительно был каждым из этих и многих других артистов. Они жили со мной и во мне. Представление получилось одним из лучших, два часа я держал зал на крючке. Я рассказывал и кое-что о смерти некоторых артистов водевиля. Велоакробат Джо Джексон умер на сцене, после того как публика в пятый раз вызвала его на бис. Последнее, что он сказал: «Господи, они все еще хлопают». Силач Юджин Сандов скончался от инсульта, перед этим вытащив автомобиль из канала. Маг Чэн Ляньсу — на самом деле чистокровный ирландец У. Э. Робинсон — случайно погиб на сцене, ружье выстрелило слишком рано.
Мастера женских ролей Берта Савойя ударило молнией во время прогулки по пляжу. Незадолго до этого он заметил приближение грозы и сказал: «Сегодня Бог готовит нам неладное». А смертельно больная Нора Бейс, к тому времени уже давно забытая, попросила импресарио знаменитого театра «Пэлас» на одну ночь повесить в витрине театра ее старые фотографии и зажечь огни. Ее привезли туда, она посмотрела на старые афиши через открытое окно автомобиля и через несколько дней умерла.
Я был так возбужден, что едва расслышал вопрос одного мальчика из зала: «Почему вы подражаете только мертвым?» Приложив одну руку к груди, а другую — к щеке, как делал Джек Бенни, я выждал положенные несколько секунд. «Потому что мертвые не могут меня засудить».
В тот вечер публика много смеялась и аплодировала. Незадолго до конца представления ты встала и так же тихо, как пришла, выскользнула из зала. Помню, я тогда подумал: «Опять двадцатка ушла». Я никак не ожидал, что познакомлюсь с тобой уже на следующий день.
Когда последние зрители ушли, я запер дверь, умылся в крошечной гримерке, подъел остатки из холодильника и лег на матрас. Еще один день прошел, я заработал сто сорок долларов, половину отдам за аренду зала. Но все-таки в ближайшие дни я мог себе позволить несколько раз поесть горячую пищу и выпить пива.
С улицы в помещение без окон не проникало ни звука. Словно города не существовало, а только сцена, ряды кресел, я и чувство, что шоу удалось на славу.
Когда твое представление закончилось и я снова оказалась на улице, гроза уже прошла, но у меня отекли ноги, все тело требовало сна, так что я опять раскошелилась на такси. В маленьком душном номере, больше похожем на тюремную камеру, я упала на кровать и заснула. Прах матери всю ночь охранял мой сон.
Когда я на следующее утро шагала по Коламбус-Сёркл к станции метро, свет был так чист, хоть пей его. Я собиралась тайком пронести мать мимо охраны, подняться с прахом на сто десятый этаж и там наконец развеять его. Я представляла, как хлопья пепла поплывут по воздуху и ветер погонит их до обеих рек, а может, даже и до Бруклина. Кое-что долетит и до Нью-Джерси.
Маму разнесет по улицам даунтауна, она осядет во чреве города, на пирсах, на локонах детишек и лысых головах стариков. Собака щелкнет зубами, и мама залетит ей в пасть. Пара туристов сядет на паром до Стейтен-Айленда, и мама проскользнет в открытый чехол фотоаппарата. Так она доберется до Японии, а может, всего лишь до Колорадо.
Она закружится в прохладном воздухе сентябрьского утра и ляжет едва заметным серым пятнышком на торопливо накрашенное лицо женщины, спешащей к любовнику. Она ляжет на двубортные пиджаки биржевых маклеров, на форму полицейских, дворников и уборщиц. В салоне такси она исколесит весь город и окажется в маленьких бедняцких квартирках Бронкса или в фешенебельных апартаментах квартала Марри-Хилл.
Она упадет на землю и будет погружаться все глубже. Пройдут века, пока она опустится на несколько метров и достигнет слоя сланцев, из которых состоит этот остров. Там она упокоится на сером камне и приготовится к вечности. Но однажды она услышит стук и бурение, затем к ней проникнет свет, и вскоре над нею построят новую башню, со шпилем на вершине. Словно для того, чтобы пронзить брюхо небу и защитить от него землю.
Этот город обуздал ветер, направил его по своим улицам. Город покорил реки, отвоевал и засыпал их болотистые берега, чтобы расти дальше. Наконец он ежедневно осваивает землю, постоянно ковыряет ее нутро, строя новые тоннели, подземные гаражи, небоскребы. Лишь небо пока не подчинилось городу. Но если однажды небосводу вздумается опуститься пониже, его удержит множество подставленных спин.
Южная башня обрушилась в 9.59. Я только поднялась из метро и очутилась среди развалин. Земля была устлана металлом, стеклом, бетоном, гипсом и обрывками бумаг, кусками пластмассы и ковров, обломками здания, деталями компьютеров и офисной техники. Пахло гарью, по стенам струился керосин. Взрывались машины. Я увидела самолетные шасси и сиденья, двигатель, изувеченное туловище, обугленную руку. Высоко надо мной зияли гигантские пробоины в обеих башнях, полыхали огненные стены.
Я увидела то, что не должна была увидеть никогда. Я видела, что и другие тоже видят то, что никогда не должны были увидеть: люди падали по десять секунд. Десять секунд последней, окончательной, бесповоротной свободы. Я слышала, как тела врезаются в асфальт. Ты не можешь себе представить, каково это. Глухой, но громкий удар.
Машинально открыв сумку, я ощупала банку с прахом, словно чтобы чем-то занять руки. Чтобы ухватиться за маму. Вдруг по башне прокатилась волна скрежета и грохота, по стенам побежали трещины, и кто-то закричал: «Она падает! Бегите!» Последнее, что я увидела перед бегством: стекло полилось каскадами, как вода. Единственное, о чем я могла думать: остаться в живых. Ни о чем другом в такие моменты думать невозможно. Все остальное приходит потом. Я старалась бежать как можно быстрее, но далеко не убежала.
На ближайшем перекрестке меня догнала стена пепла. Серая, немая стена, следовавшая за мной по пятам. Она гнала перед собой людей и надвигалась со всех сторон. Я хотела взбежать по ступеням церкви и укрыться внутри, но не успела. За несколько секунд до того, как меня накрыла туча пепла, ноги у меня подкосились и я упала. Какой-то мужчина оттащил меня за пожарную машину и накрыл своим телом. Я молилась. Впервые в жизни.
Даже когда мужчина уже скрылся, я осталась лежать, едва дыша. Никогда не забуду тяжести его тела. Наконец я поднялась, откашлялась, меня чуть не вырвало. Ноги по щиколотку утопали в пепле. Все время мерцали красные и синие огни, слышались пронзительные сирены. Помню, каким тускло-молочным казалось солнце сквозь бетонную пыль.
Я подняла руки и посмотрела на них. Они были светло-серые, ноги и одежда тоже. Мимо прошел мужчина, поддерживая обессилевшую женщину. Старик, прижав к носу клочок одежды, осторожно шарил рукой по земле, будто что-то потерял. Тогда я вспомнила про свою сумку, не смогла ее найти, в панике опустилась на колени и стала искать.
Сумка нашлась под пожарной машиной, я вытащила ее и увидела, что банка выкатилась, а крышка открылась. Мамин прах высыпался. Я смотрела на полупустую банку и не знала, что делать. Лишь когда полицейский крикнул мне: «Не останавливайтесь!», я вздрогнула. Тогда я откатила банку на первоначальное место и стала рукой сгребать в нее пепел с дороги.
Прижимая банку к груди, я дошла до угла Чемберс-стрит, но полиция отправила меня дальше, потому что там все было перекрыто. Я видела, что грязные, изможденные люди молча бредут на север, и присоединилась к ним, хотя не знала, куда податься. Тлеющий оранжевый свет солнца просачивался сквозь поредевший дым.
Дальше к северу люди кучковались возле машин и слушали радио. На Юнион-сквер многие остановились и смотрели на экраны магазина Virgin Megastore. Очевидно поняв, откуда я иду, люди расступились и дали мне дорогу. Один таксист протянул мне бутылку воды. Оказавшись, как и накануне, на углу Шестой авеню и Тринадцатой улицы, я машинально посмотрела направо и узнала маркизу театра.
Устала я, как еще никогда в жизни не уставала. Мне было необходимо отдохнуть в безопасном месте, я больше не хотела оставаться на улице. Напоследок я обернулась, словно чтобы удостовериться, что башен действительно уже нет. Даже меня, никогда не жившую в их тени, не проходившую мимо них каждый день, ошеломил этот зияющий пробел в небе. Это была чужая страна, чужой город, чужая история, и все-таки я стала ее частью.
С банкой в руках я опять направилась к театру с маленьким фойе. Идеальное место для отступления. Наверняка я придумаю подходящую причину, почему оказалась тут.
В тот сентябрьский день, когда ты во второй раз пришла в театр, чтобы укрыться и отдохнуть, я был на сцене, репетировал номер, с которым уже довольно давно не выступал.
Ты, наверное, поняла, что мне куда больше нравится пародировать, чем петь. Я мог бы изобразить даже камень, ожидающий, пока его источит время. В детстве я подражал всему, что видел по телевизору. Только от этого дед смеялся, и это подстегивало меня, я продолжал, пока не падал без сил. Так продолжалось до его смерти в 1967 году.
Я люблю влезать в чужую шкуру, воплощать новый характер. Когда получается действительно хорошо, это как наркотик — будто у меня две, три, четыре жизни. И когда я изображаю звезду, все мои жизни наполнены чудом и величием.
В девяностые я составил программу, которую назвал «Проповеди человека, который приносит счастье». Название должно быть простым, ясным и кратким, но ничего лучше я не придумал. С этим шоу я выступал по вечерам, когда не работал, сначала в Орландо, а потом еще в полудюжине городов, где жил, пока не вернулся в Нью-Йорк насовсем. Ричард Бёртон умер незадолго до того, но Берт Ланкастер и Карл Молден были еще живы. Ради них я нарушил свое правило копировать только мертвых. Они произнесли лучшие проповеди в истории кино из тех, что я слышал.
Выступал я в барах, кафе, маленьких театрах и предоставлял публике решать, что она хочет услышать. Иногда я забирался на стойку бара, порой вставал на колени, мои выступления всегда пользовались успехом. Во время представления в этих обычно шумных местах воцарялась полная тишина, и каждый раз меня награждали бурными аплодисментами.
Бёртон произвел на меня впечатление в роли пьющего священника в фильме «Ночь игуаны». С церковной кафедры он кричит пастве, пришедшей, как оказалось, лишь для того, чтобы увидеть его нервный срыв:
«Вытаскивайте свои томагавки! Вытаскивайте свои ножи! Точите свои ножи. Снимите с меня скальп! Я не хочу, не могу больше проводить службы во славу и поклоняться злобному, брюзгливому старику, в которого вы верите. Вы отвернулись от любящего и сострадательного Бога и придумали для себя жестокого, дряхлого злодея, который винит мир и свое творение в собственных ошибках. Замкните окна, замкните двери, замкните ваши сердца перед правдой о Господе!»[11]
Но больше всего мне нравилась проповедь из «Элмера Гантри». Элмер — лучшая роль Берта Ланкастера. Он самый обаятельный, самый бессовестный авантюрист, величайший обольститель, какого я видел в кино. Когда ты пришла ко мне, я репетировал как раз эту сцену. Я стал не так строен и пластичен, как раньше, волосы поредели, но нерв у меня был такой же, как у Ланкастера-Элмера. У меня по-прежнему хорошо получалось его сыграть, если немного порепетировать. Ведь способность подражать — это как мышца, которая требует постоянной тренировки.
«Вы думаете, религия — это только для легковерных, для дурачков, для ханжей? Вы думаете, Иисус был тихоней? Так знайте же! Иисус ворвался бы в этот бар, в любое увеселительное заведение, чтобы проповедовать Евангелие. Иисус не был трусом. Вы думаете, этот нападающий у вас на стене — классный парень. Знаете, что я вам скажу: сегодня Иисус был бы лучшим нападающим в мире, с большим отрывом. Он заработал бы целое состояние на боксерском ринге. А все почему, друзья мои? Все из-за любви. У Иисуса была любовь в обоих кулаках… Послушайте меня, грешники. Нельзя молиться «да приидет царствие Твое» и сидеть в баре, играть в покер. И тебе, мамаша, нельзя петь псалмы, а на Господа смотреть сквозь дно пивной кружки. Или проворачивать какие-нибудь темные делишки. Мы найдем дорогу домой, к Тебе, Господи! Мы найдем дорогу! Аллилуйя!»
Доиграв сцену до конца, я запыхался. Я не слышал, как ты вошла. Посмотрев в слабо освещенный зал, я заметил лишь смутный силуэт, но все же разглядел, что ты была с головы до ног покрыта чем-то серым. Казалось, ты только что проснулась от кошмарного сна или все еще видишь его. Ты держалась за банку с пеплом твоей матери.
— Театр закрыт. Если хотите посмотреть на меня, приходите в семь. Не пожалеете! — крикнул я тебе.
Ты молчала.
— Леди, вы меня слышали?
Ты все равно молчала.
— Ладно, если хотите посидеть, сидите. — Я сначала решил было не обращать на тебя внимания, но вдруг у меня возникла идея: — Судя по вашему виду, вам не помешает хорошее шоу. Я сыграю для вас одной. Один зритель лучше, чем ни одного. Я человек, который приносит счастье. У меня наверняка получится наколдовать улыбку на вашем лице.
Я старался как мог, но ты сидела неподвижно. Я пел одну песню за другой, играл разные роли — ничего не помогало. Твое молчание уязвляло мое честолюбие, и я продолжал. Я слышал сирены вдалеке, однако не обращал на них внимания. Не родился еще тот зритель, которого я не могу растормошить.
Когда я уже потерял надежду, что ты хоть как-то отреагируешь или заговоришь, ты начала тяжело дышать, потом зарыдала и, наконец, стала кричать — невыносимым, почти нечеловеческим криком. Наверное, так женщины кричат в родах. И когда их дети гибнут на войне. Так кричит тот, кто понимает, что сходит с ума.
Я умолк на полуслове, спустился со сцены и подошел к тебе. Увидел ужас в твоих широко раскрытых глазах. Принес тебе стакан воды.
— Я могу вам помочь?
— Мне?
— С вами что-то случилось?
— Со мной? Вы что, не слышите сирены?
— Слышу, но это ведь Нью-Йорк. Здесь все время что-нибудь происходит. Нельзя же из-за этого прерывать шоу.
— Вы правда не знаете?
Я пожал плечами.
— Вы не выходили сегодня на улицу?
— Рано утром я купил кое-что поесть. А теперь репетирую вечернее шоу.
— Шоу не будет.
— Несколько человек наверняка придут. Не может быть, чтобы совсем никто.
— Вы не хотите понять.
— Что?
— Что все рушится.
— Если у вас неприятности, это еще не значит, что весь мир рушится.
— Именно так и происходит.
Меня не было, наверно, с час, а может, и дольше. Я подошел к людям, которые стояли на углу и разговаривали, удивляясь и не веря своим ушам. Сколько я ни тер глаза, башен-близнецов просто не было. Я пробежал несколько кварталов на юг, но все же решил вернуться, вспомнив, что театр остался без присмотра. Всего в одном квартале к северу Шестая авеню была перекрыта.
Я вернулся в театр, уверенный, что ты ушла, но ты по-прежнему сидела на том же месте, словно слишком напуганная и растерянная, чтобы вообще куда-то идти. Я объявил, что ты можешь оставаться сколько хочешь, и показал, где можно помыться, где сварить кофе.
Я арендовал театр на четыре дня, и за исключением — желанным — нескольких зрителей вечером, сюда никто не заходил. Первые три выступления меня не расстроили. Расстроить может только то, от чего ты расстраиваешься, однажды объяснил мне дед. Как-то раз он сказал: «Мальчик мой, я часто выступал перед людьми, которые еще долго хлопали после окончания песни, и перед такими, которые даже не замечали, что я пою. Но я никогда не расстраивался, ведь я всегда любил свое дело».
Ты можешь поставить добротное камерное шоу, можешь дать рекламу в газете «Виллидж-Войс», идеально подготовиться, но в последний момент разверзнутся небеса и дождь польет как из ведра. На следующий день ты опять делаешь все возможное, опять готовишься, и опять кто-то тебе мешает. Несколько сумасшедших берут и врезаются на самолетах в башни-близнецы. Слишком дорого мне обошлась аренда, чтобы я оставил надежду на то, что несколько человек все-таки появятся.
По словам полицейского, многие хотели выбраться из Южного Манхэттена. Но сколько людей остались и ищут место, где вечером можно посмеяться? Да еще в такой день? Сколько было не прочь отвлечься? Ведь именно это я предлагаю. Я решил ждать.
Я принес тебе сэндвич и вернулся на сцену. В театре не было телевизора, и, кажется, никто из нас об этом не жалел. До вечера мы с тобой больше не разговаривали. Лишь незадолго до времени начала представления я посмотрел, где ты. Может, ты уже ушла, думал я, но ошибался — ты спала на диване, свернувшись калачиком. Я вернулся в зал, поставил на сцену стойки с одеждой и магнитофон, проверил софиты и микрофон, надел костюм и шляпу, уселся на краю сцены и стал смотреть в фойе через открытую дверь.
Так началось долгое ожидание публики. Опоздание на несколько минут или на полчаса теперь было не в счет. В тот вечер я мог простить своему зрителю все. Не важно, что произошло, сколько людей погибло всего в нескольких милях к югу, кто-нибудь все равно захочет посмотреть хорошее шоу. Минул час, но никто так и не пришел.
Ты появилась на пороге зрительного зала с одеялом на плечах и сделала несколько шагов ко мне.
— Никого?
— Держу пари, что сегодня и в оперу никто не пошел.
— Я опоздала на самолет.
— Так сразу теперь ни один самолет из Нью-Йорка не вылетит.
— У меня почти кончились деньги.
— Но у вас осталась жизнь.
Мы помолчали.
— Куда вы собирались лететь? — спросил я.
— Домой.
— Где ваш дом?
— В Румынии. Знаете такую страну?
— Да нет, пожалуй. Кажется, Эдвард Г. Робинсон был оттуда родом. На самом деле его звали Эмануэль Гольденберг. Он сказал: «Приехав в Америку, я родился заново». Вы когда-нибудь видели его на экране? В районе Ту-Бриджес, где я вырос, Джеймс Кэгни и Эдвард Робинсон были нашими кумирами. Показать вам что-нибудь из его репертуара?
— Нет, пожалуйста, не надо мне ничего показывать.
— В самом деле? Я мог бы что-нибудь сымпровизировать для вас. Нам все равно нужно как-то скоротать ночь. Манхэттен перекрыт.
Вдруг ты вздрогнула, уронила одеяло и побежала в фойе.
— Мой пепел исчез! — крикнула ты.
— Ваш пепел?
— Банка с пеплом. Что вы с ней сделали?
— Поставил на столик за диваном, чтобы она не упала. Зачем она вам?
Вернувшись в зал, ты села в первом ряду с банкой на коленях.
— Я хотела развеять прах с Южной башни.
— Вы так носитесь с этой банкой, как будто там ваша родная мать.
— Так и есть.
Мы помолчали.
— Она была стара?
— Она была больна.
— Чем?
— Она болела, и все, — настойчиво повторила ты.
— Вы привезли ее с собой оттуда?
— Именно так.
— Зачем понадобилось так далеко лететь?
— Это долгая история.
— У нас вся ночь впереди.
— Долгая история, я же сказала.
— Вы любите повторяться.
— А вы чересчур любопытны для того, кто ничего не говорит о себе! Вы же совсем ничего о себе не рассказываете, все время о каких-то знаменитостях, как будто только это важно.
— Но это действительно важно.
— Хотите, чтобы я рассказала? Но я даже не знаю кому… — Ты осеклась. — Извините, иногда я просто невыносима. Вы приютили меня здесь, а я себя так веду. Вчера я была на вашем представлении. Я должна вам за билет. Вот, здесь пятнадцать долларов, это все, что у меня осталось. Должно было хватить на поезд до аэропорта.
— Не надо.
Мы помолчали.
— Где вы выучили английский?
— У нас в стране многие женщины хотят заработать денег за границей, там нужны сиделки. Мне сказали, надо выучить английский, вот я и учила последние десять лет. И каждый год ездила на месяц в Сассекс, ухаживала за одной старушкой, чтобы ее дочь могла поехать в отпуск.
— Значит, вы и этому научились?
— Со временем да. Я научилась кормить и мыть людей, стричь им ногти, знаю, как говорить о хорошем и успокаивать, если они просыпаются ночью и не понимают, где находятся. Если вообще еще понимают, что теряют память. — Потом ты посмотрела на свою банку. — Я теперь даже не знаю, здесь ли мама. И сколько ее здесь. Когда башня обрушилась, я побежала и упала, банка открылась. Я сгребла прах обратно, но вся улица была покрыта пеплом.
— То есть вы теперь даже не знаете, кто у вас в банке?
Ты растерянно посмотрела на меня.
— Я даже не знаю, как это выяснить.
— Как бы то ни было, ваша мама теперь не одна.
— Вы правы. Кто знает, кого я сюда насыпала. — Твое лицо стало спокойнее. — Расскажите что-нибудь о себе.
— Ну, обо мне рассказывать особо нечего, а вот о моем дедушке… Того, что он пережил, хватило бы на несколько жизней.
— Просто расскажите что-нибудь, чтобы я отвлеклась.
— Прошедший век для него начался не в тысяча девятисотом году, а двадцать пятого марта тысяча девятьсот одиннадцатого. Тогда в Нью-Йорке произошло кое-что похожее на то, что случилось сегодня. Вы уверены, что хотите об этом послушать? Но мне придется начать издалека. Надо рассказать историю деда с самого начала…
В 1902 году деду было семнадцать или восемнадцать лет, он сам точно не знал. Пощадив жизнь обокравшего его лилипута, он вернулся в свое убежище на Ист-Сайде. Капитана дома не было. Деда все еще трясло, это и радовало, и пугало его. Он долго смотрел на свои руки, которыми убил уже несчетное количество детей.
Дед подошел к окну и окинул взглядом район: верхушки мачт в порту, дым из труб домов и пароходов, суета рабочего дня на улицах, торговцы вразнос нахваливали свои товары, сгорбленный старик кричал: «Покупаю одежду!», на ступенях у подъездов играли десятки детей. Дед посмотрел на небо, где ничего не происходило, и опять на землю: у обочины лежала издохшая лошадь.
Домохозяйки с наточенными ножами выбежали из окрестных домов, чтобы отхватить себе кусок получше. С ними конкурировал мясник из лавки, расположенной всего в нескольких шагах. Ради такого зрелища на улицу вышли пьяницы из салунов и лавочники, торговавшие четками, иконами и менорами. Дети следовали примеру матерей. Вроде бы никто не видел, как сюда забрела лошадь, но через полчаса от животного остались только лужа крови, шкура и несколько костей.
Дед принял решение, но исполнить его смог только в 1903-м, когда эпидемия гриппа наводнила гетто покойниками и услуги капитана оказались никому не нужны. Тот все чаще и дольше отсутствовал, пока однажды не пропал окончательно. Дед нашел лишь записку на столе: «Отныне ты должен заботиться о себе сам». Как будто он когда-нибудь жил иначе. Он сел, выждал два-три дня, собрался с духом и приступил к осуществлению своего плана.
Хорошенько вымывшись, дед пошел на Орчард-стрит и сразу же нашел дом, где прожил полгода. Дверь подъезда открылась легко. К его удивлению, мешочек с деньгами в тайнике на крыше остался цел и невредим. Если сложить с заработанным у капитана, выходила кругленькая сумма. С этим капиталом он отправился на Деланси-стрит и зашел в магазин мужской одежды, где когда-то уже бывал. Хотя с тех пор прошло несколько лет, все тот же продавец узнал его и испугался:
— Опять хотите устроить погром?
— На этот раз у меня есть деньги. Мне нужен приличный костюм. Такой, как подобает молодому человеку в начале карьеры.
Дед переоделся прямо в магазине и отдал старые вещи продавцу за несколько центов. Насвистывая, он двинулся дальше и остановился только в начале Западной 28-й улицы, между Пятой и Шестой авеню. Это была улица музыкальных издательств. Дед спросил какого-то юношу, тоже одетого с иголочки, не нужен ли здесь кому-нибудь хороший певец.
Парень расставил ноги и упер руки в пояс.
— Здесь больше никто не нужен. Теперь тут я. Можешь попытать счастья на другом конце улицы.
— Ноты уметь читать надо?
— Нет, надо уметь их продавать. И петь там, где целая шайка смеется, шумит и выпивает.
— Я думал, что певец-продавец исполняет новейшие песни только для избранных клиентов.
Парень было рассмеялся, но дед тут же прижал его к стене.
— Да успокойся! Ты что о себе возомнил? Чистую работу выполняют опытные певцы. А тебе дадут грязную. Если есть талант и тебе повезет, то лет через пять-шесть споешь что-нибудь и звездам.
— Спою, не сомневайся.
Деду потребовалось всего два года, чтобы стать штатным певцом музыкального издательства «Фишер-энд-Санс» — одного из последних оставшихся на Западной 28-й улице. Эти места знавали времена получше, когда из десятков открытых окон раздавались звуки фортепиано. Молодые композиторы искали издателей для новых песен. Гонорары они спускали на выпивку, карты и девочек здесь же, неподалеку, в злачном квартале Тендерлойн.
Под железнодорожным мостом на Шестой авеню, где дед вскоре снял комнату, располагалось множество кабаков, игорных притонов и заведений для мужчин с толстыми и худыми кошельками. Настоящее логово порока. Благородным джентльменам нужно было пройти всего один квартал на запад от Пятой авеню. Или проехать несколько станций по городской железной дороге.
Когда дед начал работать в том районе, там уже стало поспокойнее. Чернокожих прогнали на север, в Гарлем, игорные дома тоже выселили. Времена, когда даже полицейские работали на преступный мир и приглашали клиентов в притоны, заканчивались. Уже построили Пенсильванский вокзал и новый почтамт, сровняв с землей несколько жилых кварталов. У шального района вырвали сердце, однако на долю деда еще оставалось довольно прелестей.
Сначала его посылали на улицу завлекать клиентов. Он соперничал с юношами из других магазинов, дрался с ними, запугивал, и его тоже запугивали. Как и все остальные, он кричал: «Заходите к нам и послушайте новейшие музыкальные чудеса нашего издательства!» Ему всегда удавалось приводить клиентов, несколько раз — даже знаменитостей, например Еву Тенгуэй и Билли Мюррея.
У деда был свой метод. Он не приставал к людям, а ждал, пока они — раздраженные навязчивостью его конкурентов — пойдут прочь, и тогда присоединялся к ним. Дед вкрадчиво заговаривал с человеком, и обычно ему хватало сотни шагов, чтобы тот согласился заглянуть в «Фишер-энд-Санс». Благодаря деду издательство продало столько нот и восковых цилиндров для фонографа, сколько никогда прежде не продавало. Эти песни звучали не только дома у честных обывателей по воскресеньям, но и в театрах «Виктория», «Олимпия», «На Пятой авеню».
Затем ему поручили сопровождать композиторов издательства в окрестных салунах и борделях, обкатывать новые песни. Тогда уже было известно: если барышни пускают слезу, значит, композитор на верном пути к шлягеру. Одинокие женские сердца служили безошибочным барометром.
Девушек так трогало пение деда, что они не только раскрывали ему свои сердца, но и развязывали корсеты. Жилось деду так же хорошо, как тогда, когда его кормили грудью роженицы. С его талантами можно было жить припеваючи.
Теперь другие мальчишки-газетчики выкрикивали на улицах новости дня. В начале XX века было спокойно, но деда это мало тревожило, ведь он думал только об одном: наконец должна начаться его вокальная карьера.
Когда директор издательства, старик Фишер, пожелал пойти с ним в бордель «Хеймаркет», чтобы лично убедиться в его таланте, дед подумал: вот это и будет настоящее начало. Его ничуть не смутила импозантная внешность шефа, всегда носившего дорогой котелок и отличные костюмы, да еще и трость с позолоченной рукояткой.
Дед устроил лучшее представление в жизни, заставив продажных женщин и их кавалеров молчать и вздыхать. Старик угостил его джином и посулил большое будущее, если он еще немного поработает на его бизнес. А уж потом Фишер позаботится, чтобы дед стал звездой водевиля, ведь среди его друзей немало театральных импресарио.
— А у тебя вообще есть документы, парень? Надо тебя официально оформить штатным певцом.
— Есть, — не задумываясь ответил дед.
Он знал, как просто заказать фальшивый паспорт в Тендерлойне.
— Кстати, как тебя зовут? — спросил Фишер, которому прежде не было до этого никакого дела.
— Падди, сэр. Меня зовут Падди Фаули.
Так дед стал тем, кем я знал его всю жизнь, — дедом-ирландцем, который мог говорить с ирландским, итальянским или даже идишским акцентом. Тем самым дедом, который присматривал за мной, пока мама принимала клиентов, который спал со мной в одной комнате и душными летними ночами просил открыть окно, только чтобы вскоре потребовать его закрыть. Грохот метропоездов, проезжавших по Манхэттенскому мосту, походил на рев стального чудовища, вздымавшегося прямо над нами. Дед уверял, что он всегда засыпает с улыбкой на губах, а я всегда старался не заснуть, пока не увижу это чудо, но у меня ни разу не получилось.
Падди был слишком хорош, чтобы Фишер отпустил его. Благодаря его работе продажи фирмы выросли вдвое. Фишер каждый раз обещал Падди устроить его будущее в следующем году, а потом опять — в следующем. Времена настали трудные, продавалось все меньше нот и все больше восковых цилиндров и даже грампластинок. Однако в этом новом бизнесе другие опережали Фишера, например мистер Эдисон.
Прощаясь с клиентами, Падди просил у них рекомендаций и всегда слышал одни и те же ответы, либо: «Довольствуйся тем, что имеешь. Не так уж ты и хорош», либо: «Ты чертовски хорош. Не приведу же я врага в свой дом». До 1910 года Падди оставался тем же, кем и был, — талантливым первым голосом тонущего музыкального издательства, его ждало светлое будущее, но почему-то оно никак не хотело наступать.
И снова, в последний раз, к деду проявило благоволение то, что некоторые называют судьбой, но сам он предпочитал называть подходящим моментом. Он влюбился. Однажды промозглым вечером в ноябре 1909 года он проходил, подняв воротник и засунув руки поглубже в карманы, мимо здания «Купер-юнион-фонда». Дед слышал о недавних беспорядках в городе, о недовольстве текстильщиц своей участью. Он был слишком молод, чтобы помнить пламенные речи Эммы Гольдман на Юнион-сквер. Но даже он знал, что год назад во время массовой забастовки на этой площади взорвалась бомба. Новость была на первых полосах всех газет.
Условия труда на швейных фабриках были все так же невыносимы, молодые итальянки и еврейки, работавшие там за гроши, все так же за несколько лет превращались в исхудавших старух. И все так же на фабриках регулярно возникали пожары, пожиравшие горы ткани, одежду работниц и их тела. Но все это деда не касалось, ведь он занимался шоу-бизнесом. Пока он еще не добился, чего хотел, но оставалось совсем немного.
В большом зале «Купер-юнион-фонда» собралось несколько тысяч женщин. После бесконечных речей, всех утомивших, одна молодая еврейка встала, поднялась на сцену и сказала усталым голосом на идише: «Mir iz nimes gevorn fun dem geployder, lomir tsutreten dem shtrayk»[12]. Прошло несколько секунд, пока ее слова перевели, и весь зал возликовал и взорвался аплодисментами. Все были согласны присоединиться к всеобщей забастовке. Во всяком случае, так потом рассказывала деду Джузеппина.
Горячо споря, полные надежды, женщины огромной толпой устремились на улицу, взявшись за руки. Среди них были и тридцатилетние, уже увядшие, и шестнадцати-семнадцатилетние девушки, исполненные того оптимизма, что заставляет человека верить, будто он держит жизнь свою в собственных руках.
В общей суматохе Джузеппина потеряла шляпку, ей понадобилось несколько минут, чтобы ее найти. А дед не сразу отыскал дом клиента, которому должен был доставить заказанные ноты. Не случись этих кратких промедлений, дед уже прошел бы дальше, когда открылись двери «Купер-юнион-фонда». Или же какая-нибудь другая девушка позвала бы его: «Пойдем с нами, товарищ, нам нужен каждый человек!» Но именно Джузеппина столкнулась с дедом, наконец выйдя на улицу, и обратилась к нему.
Товарищи коммунисты до сих пор не интересовали Падди, но даже он понимал, что не стоит возражать, когда девушка с такими живыми большими глазами называет тебя «товарищ». Она взяла его под локоть и увлекла с собой в ту жизнь, какой он прежде не знал. По дороге к Юнион-сквер, среди людского моря, дед спросил Джузеппину, за что они выступают.
— Да как же ты не знаешь? — смеясь, пристыдила она. — За то, что мы люди! — Но ее попутчика этот ответ не устроил, и она добавила: — За восьмичасовой рабочий день. За право делать перерывы. И чтобы двери всегда были открыты, тогда мы сможем спастись в случае пожара.
На митинге Падди кричал вместе с Джузеппиной до хрипоты, а после спросил, можно ли проводить ее домой.
— Нельзя. Но завтра утром можно подождать меня у дома и помочь отнести швейную машинку на фабрику. Завтра мой первый рабочий день. Меня взяли только потому, что у меня есть швейная машинка. Там мало платят, но все же хоть какая-то работа.
К собственному удивлению, Падди так и сделал. Каких только женщин у него уже не было: проститутки с Аллен-стрит и из Тендерлойна и нравственно безупречные компаньонки; покупательницы, терявшие голову от его пения, и много таких, которых даже не знаешь, к какой категории отнести. Однако ни для одной из них он не поднял бы и листочка бумаги, если только она не хотела его купить.
Теперь же, побывав и евреем, и ирландцем, дед чуть не стал еще и коммунистом. Всю снежную зиму 1910 года он таскал швейную машинку Джузеппины каждый раз, когда ее увольняли или принимали на новое место работы. Когда ее долго никуда не брали, она стирала одежду одному священнику: четырнадцать вещей за шестнадцать центов. Причем уголь, мыло и крахмал она оплачивала сама. Этому священнику стирала еще мать Джузеппины, грязных вещей у него все прибавлялось, а плата оставалась прежней. «Ничего, — говорила она, — маме приходилось волосы по помойкам собирать, чтобы на жизнь заработать».
Падди и Джузеппина спали под одним тонким одеялом в его мансарде в Тендерлойне.
— Знаешь, как я зарабатывала первые деньги? — прошептала Джузеппина, когда они прижались друг к другу под предлогом, что так просто теплее. — Я выключала свет в шабат у одной старой еврейки. Я была слишком мала, чтобы дотянуться до керосинки на столе, так что вставала на стул. За это старушка давала мне сладости и пару монет. Однажды я нашла ее мертвой и сильно перепугалась. Лампа очень странно освещала ее голову. Она никогда со мной не разговаривала, поэтому я даже не помню ее голоса. Но ее мертвое лицо никогда не забуду. А ты? Ты уже много покойников повидал?
Дед ответил уклончиво:
— В гетто скорее покойники спрашивают друг друга, видели ли они живых.
— Вот видишь. За это и надо бороться. Чтобы такие, как мы, не умирали так рано.
Джузеппина была невысокая, коренастая и местами с жирком, прямо как деду и нравилось. Она рассказала, что ее отец прыгнул за борт в порту Нью-Йорка от страха перед проверяющими. Паника оказалась сильнее рассудка — он не умел плавать и утонул.
Когда сотрудники миграционной службы спросили мать Джузеппины, есть ли у нее работа в Америке, она ответила «да». Она думала, что работящего человека, который не будет никому обузой, пропустят. Но ответ оказался неправильным: государство не хотело, чтобы приезжие отнимали работу у американцев. Мать и дочку отправили назад с первым отплывающим судном. Через полгода они снова стояли перед окошком иммиграционной службы, и на этот раз мать ответила: «Нет, но есть знакомая семья, которая о нас позаботится».
Служащий пристально посмотрел ей в глаза.
— Вы врете, — сказал он по-итальянски.
— Я вру только потому, что пытаюсь выжить ради моего ребенка, — сказала она и кивнула на Джузеппину.
Она поставила на карту все, и ее пропустили.
Той же зимой 1910-го издательство «Фишер-энд-Санс» разорилось, и Падди остался совсем без заработка. Джузеппина работала только от случая к случаю, и потому они много времени проводили, лежа головой на животе другого и прислушиваясь к голодной буре.
А еще они заглядывали в пустые кастрюли и представляли себе вкуснейшие блюда: дымящуюся свиную щечку с капустой, которую так любят ирландцы; еврейский чолнт, крупник или щавелевый суп шав; итальянские ziti al sugo, braciole, cartocci fritti, arancini di riso[13]; ветчину из Цинциннати, устрицы из Чесапикского залива; селедочный салат с черным хлебом; фрикасе из телятины с клецками. Падди и Джузеппину дурманили запахи капусты, лука и картошки, от голода у них кружилась голова.
Тогда Джузеппина мазала кусочек хлеба смальцем и давала его Падди. Или макала черствый хлеб в горячее молоко, намазывала чуточку масла и обваливала в сахаре. Падди казался ей очень худым, поэтому она кормила его смесью из сырых яиц, молока, сахара и марсалы, как когда-то ее кормила мать. «Мама каждое воскресенье готовила два куриных окорочка на случай, если придут гости. Конечно, если в доме было мясо».
Когда деду приходилось рассказывать о себе, он импровизировал и собирал декорации из услышанных где-то историй. Но часто его история совпадала с биографией настоящего Падди Фаули, которую он знал наизусть. Он не хотел быть для Джузеппины ничейным ребенком. Правду он откладывал на потом. Только прошлое разносчика газет и чистильщика ботинок не нужно было скрывать. Почти каждый проходил через это в свое время.
Джузеппина пыталась привить Падди коммунистические идеи, но он был плохим учеником. Ее груди привлекали его куда больше власти рабочего класса и владения средствами производства. Пока она говорила о ленивых буржуях, он стягивал с нее ночную рубашку и шептал, тяжело дыша:
— Вот моя частная собственность. Никакому рабочему классу я ее не отдам.
— Ах ты жалкий буржуй, — смеялась она. — Если так дальше пойдет, то скоро у нас будет ребенок.
В апреле 1910-го, когда Падди положил голову ей на живот, она прошептала:
— Скоро ты почувствуешь, как там толкается твой сын.
Падди замер.
Родилась девочка. Моя мать.
Через месяц после рождения моей мамы бабушка Джузеппина пошла работать на швейную фабрику «Трайенгл» в нескольких шагах от парка Вашингтон-сквер. Швейные машины там были — свою носить не приходилось, — но строгие и жадные владельцы запирали все двери, чтобы на фабрику не проникли профсоюзники и никто не вышел из цеха до конца рабочего дня.
Дед часто провожал Джузеппину до фабрики, и перед входом в десятиэтажное здание она отдавала ему сверток с младенцем. А вечером Падди с дочкой встречали ее после работы. Кормила малышку соседка, у которой молока хватало на несколько грудничков.
Вечером 25 марта 1911 года дед, как обычно, отправился к фабрике встречать бабушку. Но его везение кончилось. Он прибыл одновременно с первой пожарной командой. Густые клубы черного дыма окутали три верхних этажа здания, временами из разбитых окон вырывались мощные языки пламени. Те, кто работал на самом верху, смогли спастись через крышу. Положение всех остальных было безнадежным, ведь пожарные лестницы на стенах были сломаны. Лестницы пожарных доставали лишь до пятого этажа, а струи брандспойтов — до седьмого.
Дед стоял с дочкой на руках и впервые в жизни начал молиться: «Боже милостивый, сделай так, чтобы она работала на самом верху. Если хочешь отомстить мне, возьми лучше мою жизнь, я много грешил, но она не согрешила ни разу. Сделай так, чтобы она выжила ради этой девочки, ведь ей нужна мать. Господи, если она выживет, я пойду в полицию и во всем сознаюсь. Пусть меня повесят. Но она должна жить».
Однако Бог не услышал. Слепой, глухой, дьявольский Бог убрал свою десницу, до сих пор защищавшую сто сорок молодых женщин. Кто-то в ужасе крикнул: «Они прыгают!» Толпа в истерике кричала, чтобы они подождали, но огонь не оставил им времени. Дед видел группки по три-четыре работницы, иногда только пары, видел, как они берутся за руки и прыгают вниз.
На глазах Падди из окон высовывались девушки и женщины с пылающими волосами, они крестились и выпрыгивали. Мой дед, мой чудесный дед, который после этого не мог ни говорить, ни петь, видел их короткие, но долгие полеты вниз. Они махали руками, словно надеясь превратиться в птиц.
Репортер рядом с ним бормотал себе под нос и записывал: «Вот так хорошо: “Сегодня я услышал новый звук. Звук живых тел, врезающихся в землю”». Дед потом ненавидел этого человека всю жизнь и больше никогда не притрагивался к газетам.
Но сначала он плакал. Пока не выплакал все слезы. Когда мама после смерти деда рассказала мне эту историю, я представлял себе реки слез, пролившиеся из его глаз. Они текли по улицам Ист-Сайда и Даунтауна, мимо церквей и синагог, мимо небоскребов и рынков, мимо скромных бедняцких домишек и роскошных дворцов Асторов и Вандебильтов на Пятой авеню и становились все шире и полноводнее. Они смывали грязь, смерть, порок и впадали в Ист-Ривер.
Покойники, которых исторгает Манхэттен, оказываются в Бруклине. Они выходят из убогих доходных домов Ист-Сайда и Адской кухни или спускаются на лифтах стеклянных и каменных небоскребов Мидтауна, идут по улицам, в последний раз пересекают Ист-Ривер и ложатся на кладбищах Голгофа, Грин-Вуд и Сайпрес-Хиллс. Они укрываются землей, делают последний вздох и успокаиваются.
Лишь очень старым покойникам нашлось место на острове Манхэттен. Несколько евреев на крошечных клочках земли на юге. Один из таких клочков расположен совсем близко от квартала между Бруклинским и Манхэттенским мостами, где я вырос. Этот район называется Ту-Бриджес, Два Моста. А еще на Манхэттене упокоились сотни рабов. Им отвели болото за пределами городских палисадов.
Рабы — самые усталые из мертвых, ведь это они строили набережные и улицы города, копали котлованы, разгружали суда. Они кормили и обеспечивали своих господ, приносили им богатство. Когда рабы умирали, их выносили из города. «Я здесь! — каждый раз объявлял кто-нибудь из их родных. — Вы тоже здесь?» — «Мы здесь!» — отвечали гости. «Мы тебя знали, — продолжал первый, обращаясь к покойному, — но теперь ты наш предок. Нам придется оставить тебя одного и уйти». Теперь на костях рабов стоит небоскреб. Они все еще приносят пользу.
Английская колония росла быстро. Она раздувалась на север, уничтожая все на своем пути. Леса вырубались, реки и озера осушались, холмы срывались. Человек терпеливо делал свое дело и застраивал один свободный участок за другим. Он возводил дома, мостил индейские тропы и прокладывал новые дороги, загонял местность в прямые углы. Потом все это ветшало, сносилось и отстраивалось снова и снова. Процесс нельзя было остановить.
Но человек боялся Бога, поэтому через каждые несколько кварталов строил церковь. Приостанавливал расширение и ждал, возьмет ли Бог взятку. Бог брал. Тогда человек продолжал свое дело, пока не остановился на северном краю острова, на берегу заводи Спайтен-Дайвил-Крик. Теперь там район Инвуд. На это ушло почти двести лет. Но затем он преобразил и все окрестности по образу и подобию своему. Наконец-то человек почувствовал себя дома.
Тысячи покойников под парком Вашингтон-сквер — жертвы желтой лихорадки — оказались в черте города. С тех пор они стали ньюйоркцами. Для других городских мертвецов на острове места не осталось, и они переселились в Бруклин. Незримая армия официантов, владельцев салунов, портных, поваров, докеров, безработных, воров, проституток, биржевых спекулянтов, политиков и авантюристов. Эмигранты первой волны, их дети и дети их детей. Для многих переезд в Америку стал благом. Для многих — нет. У них Америка забрала последние деньги, здоровье, жизнь.
На следующий день в дверь Падди постучал полицейский и отдал ему помолвочное кольцо. Джузеппина задохнулась, ее нашли прямо у запертой двери. «Наверняка все произошло очень быстро», — смущенно сказал полицейский. «Задохнулась», — пробормотал дед, словно самому себе.
Через несколько дней дед отвез Джузеппину через реку в Бруклин. Когда он стоял над ее могилой, беспомощно теребя кольцо в руке, его прежняя жизнь кончилась, и началась новая эпоха. Она началась для деда солнечным, сияющим днем в марте 1911 года. До самой смерти он твердо верил, что это Бог с ним рассчитался.
Мы уже давно перешли в фойе и сидели на старом потертом диване. Весь свет, кроме настольных ламп, был выключен. Дело шло к утру. За окном было тихо, теперь не слышалось ни голосов, ни торопливых шагов, ни сирен. Я ненадолго вышел на улицу. Можно было бы подумать, что все вокруг — просто дурной, но скоротечный сон, который рассеется вместе с темнотой. Если бы не множество светящихся окон, за которыми люди не спали всю ночь. И едкий запах жженой пластмассы. Для многих эта ночь стала самой долгой в жизни — я знал.
Когда я вернулся, ты уже перестала плакать о Джузеппине, о моем дедушке, о своей маме и о покойниках Нью-Йорка.
— Я плакала даже о вас, — сказала ты.
— А обо мне-то что плакать? Со мной же ничего не случилось.
— Кто-то должен поплакать за вас, ведь вы хотите только отчаянно веселиться.
— Вы можете думать что хотите, но моя жизнь прекрасна. Меня встречали в Орландо, Лас-Вегасе и Атлантик-Сити, на моих шоу были аншлаги. Как раз позавчера мой агент сказал, что сейчас лишь временный спад. Вы знаете, что даже с Синатрой такое случалось? Но скоро я отправлюсь к новым берегам. Обо мне никому не стоит плакать и о моем дедушке тоже. Его жизнь была такой же, как его время.
Мы помолчали.
— Когда он рассказал вам, что убивал детей?
— Он не убивал! — крикнул я. — Они были уже практически мертвы.
— Мне очень жаль. Я не хотела…
— Он не был убийцей!
— Успокойтесь.
— Никогда больше так не говорите!
— Хорошо, больше не буду.
Ты растерянно огляделась, и снова наступила тишина. Я налил нам кофе и разделил пополам последний сэндвич из моих запасов.
— Я видела, как люди прыгали. Никогда этого не забуду.
— Дед тоже не забыл, по словам моей матери.
— Когда же он все это рассказал вам, если стал таким молчаливым?
— В перерывах между поездами метро. Дом, где мы жили, не снесли только потому, что так близко к Манхэттенскому мосту все равно нельзя построить ничего нового. Поселившись там, мы обнаружили на стенах газеты начала века вместо обоев. У нас было две комнаты. В дальней мать спала и принимала клиентов, а в передней спали мы с дедом. После окончания телепрограммы я всегда помогал ему встать с коляски и переодеться. Его мучили сильные боли. Дед спал на раскладном диване, а я на полу, на тоненьком матрасе. В начале шестидесятых, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, он вдруг заговорил. Когда над нами с грохотом проезжал поезд, он умолкал. Думаю, он хотел все это рассказать хоть кому-то, пока не умер.
— Это у него вы научились так живо рассказывать? — Я пожал плечами. — Отчего его мучили боли? Что с ним случилось?
— Про это у меня тоже припасена история… После смерти бабушки дед больше не мог хорошо петь. Он пробовал работать поющим официантом в «Фельт-мансе» на Кони-Айленде. Ресторан был солидный, с немецким пивным садом. Дед разносил по столам хот-доги, жареную свинину и пиво и при этом пел. Но его пение всегда нагоняло тоску на гостей, которые приезжали на Кони-Айленд развлечься. Голос его постепенно слабел, и в конце концов его стали освистывать. Тогда дед попробовал петь в притонах, где его почти никто не слушал, потому что все были заняты выпивкой и продажными дамами. Но и для этого он уже не годился. Хозяева заведений после первого же вечера подзывали его к себе, расплачивались и увольняли. «Ты либо нагоняешь на клиентов тоску, либо отпугиваешь их», — говорили они. Он пытался петь даже в мелочной лавке «Оазис» на Вашингтон-сквер. Лавочник нанимал певцов, чтобы привлечь покупателей, но у деда, очевидно, это так плохо получалось, что уже на второй день лавочник выволок его на улицу за воротник. «Молодой человек, что ты видишь вон там, справа, на краю площади?» — спросил он. — «Деревья, сэр». — «А ты знаешь, что раньше на них вешали городских преступников? Палач жил тут, прямо в этом доме. Если ты еще раз сюда явишься, я самолично вздерну тебя на одном из этих деревьев! А теперь убирайся». В конце концов он уже не мог найти совсем никакой вокальной работы. Но и он обрел покой. Вам интересно где?
— А вам обязательно сразу рассказывать целую историю, да? Или история, или вообще ничего.
— Иначе какой тогда смысл отвечать?
— Например, чтобы рассказать что-нибудь о себе.
— Но я и так говорю о себе. Вы что, не понимаете? Это же мой дед.
— Ну давайте послушаем.
«В тридцатом году дед с дочкой поехал на Кони-Айленд. В то чудное воскресенье моя мама, которой тогда было лет девятнадцать-двадцать, хотела наконец прокатиться на «Циклоне». «Циклон» был королем русских горок. Кстати, он все еще стоит на том же месте. Полмили в длину и восемьдесят пять футов в высоту, наклон в пятьдесят восемь градусов, максимальная скорость тележки шестьдесят миль в час. Дед стоял в нерешительности перед кассой, так как пятьдесят центов в те трудные времена были немалыми деньгами. Он уже несколько месяцев сидел без работы и едва сводил концы с концами. Довольно часто они с мамой голодали, но и соседям, и всем их знакомым тоже приходилось туго. Мама только недавно устроилась в дансинг, где требовались “такси-партнерши” — девушки для танцев с клиентами за деньги. Конечно, и мама, и дед понимали, что часто речь идет не только о танцах, и дед попытался ее удержать, но она вырвалась и крикнула: “С меня хватит! Я не хочу больше голодать и думать, не выкинут ли нас завтра на улицу!” И зашла в дансинг прямо через главный вход. Вы еще помните Паскуале?» — «Боксера-неудачника? Швейцара?» — «Именно. Значит, стоит дед перед кассой, и тут к нему подходит человек, которого он не сразу узнаёт. Паскуале крепко обнял деда сильными ручищами, как будто тот Новый год, когда они виделись в последний раз, наступил только вчера. Потом итальянец отступил на пару шагов, оглядывая деда.
— Ты плохо выглядишь, — сказал он. — Но кому сейчас хорошо? Что ты тут делаешь?
— Дочка хотела выбраться за город.
— У тебя есть дочь? Так где же она?
— Да только что здесь была, — смущенно ответил дед.
— Судя по виду, работы у тебя нет? — предположил Паскуале.
— Сейчас нет, но я что-нибудь найду.
— У меня есть кое-что для тебя. Надеюсь, ты не боишься высоты?
— Пока не замечал такого за собой, — осторожно сказал дед.
— И еще пить нельзя.
— Что же это за работа такая?
— Вчера смотритель свалился с высоты. Всю ночь пьянствовал.
— Но я в этом ничего не понимаю.
— Я тебе все покажу.
Так дед стал смотрителем знаменитого “Циклона” и приобщился к его славе — на пятнадцать лет. Он всегда находил несколько минут, чтобы задержаться там, наверху, посмотреть вдаль, выкурить папироску, одним из первых в городе поприветствовать восход солнца или прибытие очередного корабля с мигрантами.
“Мальчик мой, в самой высокой точке там восемьдесят пять футов, — говорил дед. — Не сказать, чтобы я достиг каких-то вершин в музыке, но на самой вершине “Циклона” сидел только я. Я был в своем роде звездой. Это был самый захватывающий и самый пугающий аттракцион в своем роде”. Дедушка любил преувеличить.
На первых порах Паскуале каждый день сопровождал деда ранним утром во время долгого обхода всей конструкции аттракциона. Они мало разговаривали, ведь ничего особенно не происходило. Паскуале показал деду, как распознавать следы износа и устранять повреждения. Потом дед стал выполнять работу самостоятельно, и они с Паскуале сменяли друг друга. Лишь когда дед разрешал эксплуатацию аттракциона, открывалась касса для первых посетителей. Он мог закрыть “Циклон” на несколько дней, даже владелец его побаивался». — «А потом произошел несчастный случай?» — «Да. Однажды во время ремонта на верхотуре он увидел, как его дочь целуется с клиентом у всех на глазах. Что она делает на своей танцульке, он проверить не мог, но чтобы на улице, средь бела дня, перед людьми — это ни в какие ворота. Тогда нравы были такие. Дед пришел в ярость, начал спускаться, но поскользнулся на масляной лужице. Он упал с тридцати футов и сломал таз. Помню, когда я был маленький, Паскуале часто заходил к нам, забирал деда и вез его в коляске к реке. Двое стариков, один склонился над другим».
Мы помолчали.
— Уже светает, — сказала ты, — а вы так ничего и не рассказали о себе.
— Вы о себе тоже не рассказали… или о вашей маме.
— Да нечего мне рассказывать. Я ее не знала.
— Но вы носите с собой ее прах.
Ты пожала плечами.
— Вы всегда такая скрытная? — спросил я.
— А вы?
— Я? Да меня же не заставишь заткнуться.
— Ну что мне рассказать о себе? Я при коммунистах жила. Там мало что происходило. Кто-то рождается, кто-то умирает. Ты устаешь, когда-нибудь тоже умираешь. Как на бесконечном конвейере. Я не знала своих родителей, только два месяца назад выяснилось, что моя мать умирает. Ее зовут Елена. То есть звали Елена. Я ее не помню. Тут и сказочке конец. К тому же я не такая хорошая рассказчица, как вы. Там, откуда я приехала, было опасно что-то рассказывать. Никогда не знаешь, кто подслушает. Можно было оказаться за решеткой, если расскажешь что-нибудь нежелательное. Вы здесь в Америке можете выдумывать что угодно, это все равно ни на что не влияет. — Ты осеклась. — Простите. Похоже, мне судьба все время извиняться. Я совсем невыносимая.
— У вас есть семья, дети? Сколько вам лет?
— Нельзя спрашивать такое, пока не задашь правильный вопрос.
— Какой же это вопрос?
— Мы с вами провели вместе всю ночь, а вы даже не знаете моего имени.
За окном рассвело, и я выключил лампы. Начался новый день, не похожий на все остальные. Новое летоисчисление.
— Ну хорошо. Как вас зовут?
— Елена, как и мою мать. Как ту женщину, что я ношу с собой.
— А меня Реем кличут.
— Что теперь будешь делать, Рей?
— Подожду, пока буря уляжется. А ты?
— Отвезу маму домой. Похоронить ее в Нью-Йорке я теперь не могу. Город превратился в братскую могилу, а мама заслужила собственное, отдельное место.
— Но теперь ты, значит, увезешь еще несколько человек. Кто знает, чей прах у тебя в банке. Ты задумалась, хотят ли они лететь с тобой?
Тихая, робкая улыбка скользнула по твоим губам.
— Я буду скорбеть по ним всем.
— Мы могли бы подыскать для твоей мамы другое место в Америке. Можем поездить, я буду выступать…
— Она хотела оказаться не просто где-нибудь в Америке, а в Нью-Йорке.
— Возьми вот, сто двадцать долларов. Это все, что у меня при себе. Ты не сразу сможешь улететь. Тебе нужно где-то ночевать.
— А тебе деньги не нужны?
— У меня еще под матрасом заначка есть. И большая, красивая, светлая квартира в Бруклине. С видом на порт. Меня ждет мягкая постель. Если я потороплюсь, то через два часа буду дома. Там и подожду, пока все устаканится. Дела у меня не так уж плохи и скоро совсем наладятся. Скоро будет прорыв. Агент уверяет, что у меня отличные перспективы.
Мы вместе вышли на улицу.
— Кажется, мне налево, — сказала ты.
— А мне направо. Может, когда я проснусь, окажется, что ничего этого не было.
— Как вернуть тебе деньги?
— Напиши свой адрес. Я сам приеду и заберу, как только смогу.
— Чудак ты, Рей. Если тебя правда так зовут.
— Я бы тебя проводил немного.
— В следующий раз. Твоему деду Джузеппина тоже не разрешила провожать ее в первый же вечер. У меня дома есть швейная машинка, дам тебе ее поносить. Если и впрямь соберешься навестить меня в Румынии, расскажу о своей жизни и о жизни мамы. Кстати, ответ: нет!
— Ответ на что?
— На вопрос, есть ли у меня семья и дети. Я одна. Сколько себя помню, я всегда одна.
Глава восьмая
Я буду рассказывать тебе все от начала до конца, тетя Мария, хоть и не знаю, сколько ты еще сможешь понять. Свернув на следующем углу на Пятую авеню и пройдя один квартал, я вдруг пожалела, что взяла у него деньги. Я побежала как можно быстрее обратно к Тринадцатой улице, в надежде догнать его. Добежав до театра, я заметила, что внутри горит свет, и подошла к окну.
Я увидела его: из нескольких предметов мебели он соорудил в фойе нечто вроде ширмы и обустроил спальное место. Раздевшись, он лег на матрас и укрылся поношенным пиджаком. Последнее, что я запомнила о нем перед отъездом в Тулчу, были его вздрагивающие пальцы.
Снова и снова я буду рассказывать тебе, как блуждала по Нью-Йорку, как обрушился мир и как я встретила Рея, хоть ты и слышала все это уже сто раз, с тех пор как я вернулась. Я буду промывать и бинтовать твои кровоточащие язвы. Буду соскабливать корку с твоих подошв и мазать их кремом. Буду мыть твои беспалые руки, лицо без носа. Это будет больно, иначе не получится. И буду рассказывать.
Буду массировать твою дряблую кожу, а если ты опять начнешь мерзнуть, надену на тебя второй свитер и толстые носки. Буду провожать тебя в столовую и обратно в постель или сажать на лавку перед твоим домом, чтобы ты полюбовалась цветочными клумбами. Ты стала такая легкая, что мне совсем не тяжело тебя носить. А в Тулчу буду уезжать последним автобусом. Ты довольно сделала для мамы, теперь пора, чтобы кто-то позаботился о тебе.
Хоть ты уже много раз все это слышала, говоришь ты, все равно не можешь наслушаться, как я искала в Нью-Йорке место для мамы. Как я увидела небо, полное небоскребов. Они там растут, словно огромные холодные сталагмиты в древних пещерах. Люди в этих зданиях громоздятся друг над другом и упражняются, готовясь к смерти. Они уже на полпути наверх, но и до дна такое же расстояние. Они эффективны, они не хотят терять времени. Оттуда можно быстро подняться ввысь и так же быстро отправиться в преисподнюю.
Я всегда буду здесь, когда понадоблюсь. Тебе не надо бояться. Я буду рассказывать о Берле-Падди-Паскуале-деде и о Джузеппине, которую ты успела полюбить, потому что она верила, что нужно что-то делать. За прошедшие два года после Нью-Йорка я научилась неплохо рассказывать, правда? Ты даже можешь влюбляться в героев моих рассказов, так же как я влюблялась в них, когда рассказывал Рей. Наивный человек, полный фантазий и с детской душой, который не хочет замечать ничего плохого.
В Тулче я частенько сижу в интернет-кафе. Что такое Интернет, ты не поймешь, но он позволяет узнать кое-что о мире, что иначе невозможно, если живешь в таком захолустном городке. Когда я не с тобой, не мою, не одеваю и не кормлю тебя, не читаю тебе вслух книги из библиотечки в общей комнате, когда не работаю в бутике одежды, то сижу в интернет-кафе и читаю все, что могу найти, о Нью-Йорке и всех тех звездах, о которых впервые услышала на представлении Рея. Кажется, будто я ищу его.
Но тебе нечего бояться, что я уеду к нему в Америку, а ты опять останешься одна. Хоть у него и самые теплые глаза, что я знаю. Когда он смеется, в его глазах умещается весь мир. Он много смеется, но слишком мало плачет, поэтому я ему не совсем доверяю. Мужчин у меня было не много, а точнее, вообще ни одного, но их смех я всегда изучала. Их губы, что мне хотелось целовать, но потом я себе все-таки запрещала.
Две недели назад он объявился на набережной Тулчи. Я увидела его издали и не поверила своим глазам. Я развешивала на балконе белье, ведь после сильной грозы опять выглянуло солнце. Люди в мягком вечернем свете прогуливались вдоль Дуная. Я подняла глаза и увидела явление, причудливее которого трудно представить себе в нашем городе.
Рей шел по набережной во фраке и цилиндре, с чемоданом и тростью. Он, пританцовывая, сколь-зил сквозь толпу гуляющих, будто был легок, как перышко. Хотя вообще-то сразу видно, что несколько килограммов у него лишние. Одни смеялись над ним, другие удивленно отходили в сторону, но большинство хлопало его выступлению.
То и дело он останавливался и пел, иногда ветер доносил обрывки его песен до меня. Затем он высоко подбрасывал трость, снимал цилиндр и кланялся так, словно выступает на главной мировой сцене перед избранной публикой. Наконец он протягивал шляпу, и зрители бросали в нее банкноты. Люди его любят, он как будто вышел прямо из телевизора.
Рей перешел Страда-Исаккеи, остановился прямо под моим балконом и посмотрел наверх.
— Вот видишь? Все-таки получается, — сказал он, тяжело дыша.
— Что ты здесь делаешь? — спросила я, смеясь.
— Я приехал забрать свои деньги. И еще ты мне должна свою историю. Спускайся, давай прогуляемся по старому доброму Дунаю.
Вечером местный телеканал показал репортаж о Рее. У нас в городке мало что происходит, и журналисты всегда рады, когда есть материал для рубрики «Особые события» между сводками об уровне воды в Дунае и ДТП за день. «Американец в Тулче». Ведущая объявила сюжет так, как раньше объявляли о приезде цирка.
«Он несет нам дух Америки. Он называет себя “Человек, который приносит счастье” и каждый день в хорошую погоду выступает на набережной, — говорила она. — Он имитатор великих звезд и потому сам звезда, стильный певец и танцор. Дегустацию своего искусства он устроил нам сегодня вечером. Публика была впечатлена. Он танцует как Фред Астер, играет как Джеймс Кэгни и поет как Фрэнк Синатра. Когда мы задали вопрос, не имитирует ли он живых звезд, которых мы, вероятно, знаем лучше, он секунду подумал и ответил дерзко: “Мертвые хотя бы не засудят меня”. На родине он всегда выступал перед полными залами. Мы спросили, что он делает в Тулче. И вот его ответ:
— Ищу женщину.
— Вы наверняка найдете здесь нескольких женщин, готовых уехать с вами в Америку, — заметила репортерша.
— Кто сказал, что я хочу увезти ее к себе? Я ищу одну конкретную женщину. Я уже месяц в Румынии, протанцевал от Бухареста до Тимишоары, но там ее уже не было. Ее соседи сказали, что два года назад она уехала в Тулчу, и дали ее новый адрес. Так что я отправился танцевать и петь дальше, пока не оказался здесь, у вас».
И тут Рей выхватил микрофон из рук репортерши.
— Елена, ты меня видишь? Я здесь. Я иду к тебе!
Я потеряла дар речи. От Нью-Йорка до Тулчи найдутся женщины поинтереснее меня, но он проделал такой путь ради меня одной. Кто знает, что творится у мужика в голове? То он вообще ни о чем не думает, то вдруг о какой-то чепухе, а потом — о прекраснейших историях.
Посмотрев репортаж, Рей вскочил и потащил меня танцевать по комнате. «Мне начинает нравиться твоя страна! Всего месяц я здесь, и уже попал в телевизор. В Нью-Йорке мне за столько лет этого не удалось. Да кому нужен этот Бродвей, если есть Тулча?»
Рей сдержал слово. Каждый день после обеда он складывал свой реквизит, накладные усы, шляпы, трости, перчатки и очки в чемодан и выходил на набережную. Мамаши с детьми, влюбленные парочки, рыбаки в ожидании оказии, чтобы вернуться в деревню в дельте, подозрительные быковатые парни в спортивных костюмах, вышедшие на дело, рыночные торговки, рабочие с верфей, попрошайки, голодные цыганята, бездомные собаки и редкие туристы, рискнувшие добраться до конца света, — все они были публикой Рея.
Казалось, он нашел среди них свое место и нисколько не скучал по суете, дурману, возможностям большого города, откуда был родом. Даже ребята в спортивных костюмах аплодировали и клали ему в шляпу купюры. Мы не привыкли, чтобы к нам приезжали американцы, обычно это мы мечтаем добраться до них.
На заработанные деньги Рей покупал хлеб, молоко, яйца — в общем, все, что я заказывала. На улице с ним стали приветливо здороваться, город принял его как своего. Лучший местный отель предложил ему выступать на свадьбах, а одна из служб такси попросила разрешения использовать его изображение в рекламе. Вскоре на машинах этой фирмы появились наклейки с сияющим лицом Рея в надвинутом на лоб цилиндре: «Даже человек, который приносит счастье, ездит с нами!»
Рядом с ним я чувствовала себя легко и в то же время странно. Румынский мужчина, конечно, не кружил бы меня по комнате в танце, зато ел бы мою чорбу и сармале и дал бы покой. Насколько проще все было бы!
Я провела его по всему городу, но это не заняло много времени. Мы поднялись по Страда-Исаккеи до Монумента героям, и нам открылся вид на дельту. По ухабистым гравийным улочкам мы поспешили вниз, потому что за нами гналась стая собак, которых Рею не удалось успокоить песнями.
Я даже заплатила рыбаку, чтобы он вывез нас в дельту на своей моторке. Поэтому в последние дни я не могла приглядывать за тобой, тетя Мария, и ты испугалась, что я тебя брошу. Я никогда тебя не брошу, ты можешь на меня положиться.
А вчера я его обидела. Так сильно, что он хотел уехать. Он уже вынес свои вещи за дверь. Он приставал ко мне, требовал объятий и поцелуев. Другая была бы польщена, но только не я. Он опять хотел влезть в мое прошлое, поковыряться в моей жизни. Хотел обосноваться у меня, хорошо устроиться. Может, он думал, маленькая румыночка должна быть благодарна, что американец проехал из-за нее полмира. Но ты меня уже прекрасно знаешь, на такое я не куплюсь. Никому не позволю на меня давить.
— Чего ты ко мне прицепился? Я же не спрашиваю, почему ты один? — спросила я. — Что ты сотворил со своей жизнью, что спишь в фойе театра и устраиваешь дурацкие представления перед почти пустым залом? Изображать других, да кому это вообще нужно?
— Не смей так говорить. Я сделал карьеру.
— Карьеру он сделал. Да ты просто передразниваешь других, вот и все. Но кто ты на самом деле? Что ты из себя представляешь? Я этого не знаю. И неправда, что пустые залы — это лишь временно. Ты делаешь свое дело с любовью, но это больше никого не интересует. Хватит заниматься тем, что не получилось еще у твоего деда! Хватит жить его жизнью! Дай ему умереть. Иди дальше, Рей. Просто иди дальше.
Он нервно метался по квартире.
— Не говори так со мной! Залы всегда были полные — в Лас-Вегасе, в Атлантик-Сити.
— Что это были за номера?
— Я открывал съезды врачей, адвокатов, автодилеров. Я открывал концерты, тематические парки, дискотеки, парковки, рестораны, отели. Да, это не каждый сможет. Я выступал перед евреями в Майами и перед ирландцами в Чикаго. Я повидал Америку. Я жил настоящей жизнью.
— Ты был просто развлечением перед десертом, Рей. Многие для других — лишь небольшое развлечение перед десертом.
— И что в этом плохого?
Я вздохнула:
— Ничего. В этом нет ничего плохого. Просто я научилась не обманывать себя. Извини уж. Знаю, иногда я слишком резка.
— Ты заперла свою маму в чулане. Я видел там банку.
— Да, я знаю.
Я подошла к двери и внесла его чемодан.
Рей положил голову мне на колени.
— Мы уже ссоримся, как давняя пара, — пробормотала я.
— Чего ты от меня хочешь?
— Твою историю, твою, а не твоего деда. Кто был твой отец?
— Сначала ты расскажи о своей маме.
Я погладила его по голове и подумала: «До сих пор у меня не было ни мужчины, ни ребенка. Теперь есть и то, и другое».
Мне было тесно между прахом матери в чулане и Реем в гостиной. Настало время отнести маму к ее мужу, моему отцу, о котором я почти ничего не знала. Отнести ее домой и наконец похоронить; хоть я теперь и не знала точно, чей прах находится в банке и смешается с румынской землей.
Несколько дней назад ранним утром мы сели на теплоход до Сулины. Я решила, что там рассказывать о маме лучше всего. За всю дорогу Рей не произнес ни слова, только глазел на бесконечную вереницу тополей и ив на берегу реки.
Если Сулина еще во времена моей мамы была заброшенным городком, то теперь она погрузилась в заброшенность полностью. У причалов стоят ржавые краны и корабли, не поднимавшие якорь уже десятки лет. С панельных многоэтажек осыпается штукатурка, а церкви держатся только на подпорках. Вера в Сулине заключена в корсет из дерева и железа.
Мы вместе искали дом, где жила мама, но его погребли дюны. Мы нашли место, где была парикмахерская Ахилла, но от нее тоже не осталось следа. Мы пошли на кладбище, где мама пряталась. Только мертвые остались на том же месте. На них всегда можно положиться. Все это время Рей молчал, был внимателен, и ни разу ему не пришло в голову с кем-нибудь заговорить. Хотя жители Сулины в этом очень нуждаются.
Меня оставило мужество, я все дольше оттягивала момент рассказа о своей матери. Наконец мы пошли гулять по дамбе, с которой мама наблюдала за перепелами, врезающимися в маяк. Баржа с черпалкой по-прежнему вычерпывала внутренности реки. Продолжала вечную борьбу человека с рекой, которую нельзя прекращать, пока люди хотят жить в устье реки.
Я рассказала Рею все, что узнала о маме от тебя, и даже то, что вообще-то рассказывать нельзя. То, что скрывала с детства от себя самой.
Ведь я, тетя Мария, давно узнала, кто моя мать, а не только из твоего письма. Мне рассказал кто-то из приемных родителей. Может, работяга, вернувшийся домой пьяным. А может, профессор, когда я слишком упрямилась. Я никогда не проявляла особой общительности, особой благодарности, поэтому меня все время отправляли дальше. Кто-то из них в конце концов назвал меня «дочерью чудовища». С тех пор такой я себя и считала.
Я могла приехать гораздо раньше и не сделала этого. Всю мою юность я скучала по маме и в то же время питала к ней отвращение. Я любила ее на расстоянии и все-таки хотела ее наказать, за то что она меня отдала. Я видела это так: она меня отдала. Ты можешь это понять?
Я ненавидела себя, ведь я считала, что проказа есть и во мне, хотя врачи уверяли, что я здорова. Я не подпускала к себе ни одного мужчину, я была так жестока с ними, что они быстро сдавались. Я не хотела рисковать.
Получив твое письмо, я поняла, что нужно торопиться, иначе уже не увижу маму живой. Но и она не увидит меня. Поэтому я медлила с отъездом. Часть меня спешила ее увидеть, другая же часть — хотела наказать. Час за часом и день за днем я металась по квартире, как в клетке, курила, смотрела телевизор, ходила на работу, ела и спала. Я радовалась, что наконец могу отомстить. Слышишь? Я радовалась. Вот так все было, и уже не могу ничего изменить.
Теперь Господь, судьба или — как сказал бы Реев дед — удачный момент послал мне мужчину, столь необычного для своего пола. От него никак не отделаешься. Мне хотелось, чтобы он все узнал, иначе нельзя начинать отношения. А может, я хотела его спугнуть. Чтобы он в отчаянии улетел обратно в Америку.
Однако Рей все спокойно выслушал, а потом, вместо того чтобы отвернуться и посмотреть вдаль, как я боялась — или надеялась, — очень тихо сказал: «Ну и когда же мы переспим?» Вот такой он. Утверждает, что приносит в мир счастье, и, возможно, он даже прав. Чтобы отвлечь его внимание и выиграть время для правильного ответа, я попросила его рассказать о нашей ночи на Манхэттене.
— Я хорошо помню теракт, но теперь уже смутно помню, что было потом. Я была так потрясена, — сказала я.
— Ты испытала шок. Ведь ты выжила чудом.
— Просто рассказывай.
— Хорошо, это будет кстати, ведь так началась наша общая история.
На сулинской дамбе возникли образы Тринадцатой улицы, театрального фойе и меня, покрытой пеплом. Рей упомянул, как я прижимала банку к груди и как вдруг закричала. Каждый раз, когда я в нетерпении хотела его перебить, он говорил: «Я скоро дойду до того момента, когда влюбился в тебя. Потерпи немножко». Вот такой он.
Пока он рассказывал, я внимательно смотрела на него и поняла, как он мне нравится. Из-за его рассказа мы чуть не опоздали на вечерний теплоход до Тулчи, но до того самого момента он так и не дошел. Обещал рассказать в следующий раз. Так может продолжаться несколько десятилетий.
Теперь ты готова ко сну, тетя Мария. Красивая, как Мадонна. Я еще причешу тебя и принесу стакан воды на ночь. Попозже заглянет медсестра, на случай если тебе что-нибудь понадобится. А я скоро пойду, чтобы успеть на последний автобус в город. Через несколько дней я навещу тебя вместе с ним. Он должен это увидеть.
Вчера вечером я приготовила Рею ужин по всем правилам кулинарного искусства. Никогда еще я не кормила мужчину такими вкусными блюдами. Я раньше вообще ни для кого не готовила. Когда мы с ним, сытым и довольным, вышли прогуляться по набережной и — как еще полгорода — насладиться вечерней прохладой после жаркого летнего дня, я рассказала ему о намерении взять его с собой в колонию. И опять он отреагировал не так, как я ожидала:
— Я уж думал, ты никогда не предложишь.
— Ты не боишься? Не брезгуешь?
— Я устрою им лучшее шоу, какого они еще не видали.
— Они вообще никаких шоу не видали.
— Значит, мое будет первым. Они заслужили немного смеха.
— Там люди простые, Рей. Им хватит, если ты просто расскажешь о себе, о том, как живут в Америке, о своей жизни. Они довольствуются малым.
— Зачем же довольствоваться малым, когда можно получить многое?
Я посмотрела на воду.
— Тебе не стоит особенно напрягаться.
— В смысле… совсем без шоу? — разочарованно спросил он.
— Немножко шоу, если хочешь.
— Что же им может быть интересно про меня?
— Все.
— Я даже не знаю, с чего бы начать.
— Начни со своего настоящего имени. Тебя правда зовут Рей? Мы практически живем вместе уже больше двух недель, а я все еще не знаю твоего настоящего имени. Может, у тебя два-три имени, на любой случай, как у твоего деда? Может, у тебя на совести тоже несколько человек, как у него? И ты только ждешь момента, чтобы меня…
По выражению его лица я поняла, что ляпнула лишнее, и тут же пожалела.
— Он не был убийцей, я тебе уже говорил. Ему было четырнадцать или пятнадцать лет, когда это началось.
— И семнадцать или восемнадцать, когда закончилось. Он мог бы пойти в полицию… Или сбежать и не возвращаться.
— Нет, не мог! Ты не понимаешь!
Рей замолчал, казалось, он борется с собой.
— Две недели я здесь, — наконец продолжил он. — Ты мне нравишься, таких, как ты, я еще не встречал. Мы уже немолоды, поэтому я не хочу поступить легкомысленно и просто уйти. Я все еще здесь, хотя ты как раз этого добиваешься. Хотя ты рассказала мне свою историю и, конечно, думала, что я сбегу. Но я здесь и все еще жду, что ты упадешь в мои объятья.
Ну что тут еще скажешь, тетя Мария. Вот такой он. Рей ушел в свою комнату и хлопнул дверью. Я подошла, коснулась дверной ручки, помедлила секунду, но так и не открыла. Я слышала его беспокойные шаги за стенкой, пока не уснула. Наверное, было уже глубоко за полночь, когда я вдруг проснулась. Он стоял у моей кровати с подушкой в руках и смотрел на меня.
Я подумала: «Если я сейчас умру, то не выполню свою миссию». Он крепко держал подушку, как будто без нее упал бы. В тусклом свете уличного фонаря он походил на героя какого-нибудь из его фильмов. Должно быть, он заметил мой испуг и прошептал:
— Это всего лишь я. — Но его-то я и боялась. Он сел на край кровати. — Я часто спрашивал деда, почему он не сбежал, но он всегда отмалчивался. Однажды, когда он был уже очень слаб и понял, что скоро умрет, он велел матери позвать меня. Чуть приподняв голову с подушки, он едва слышно прошептал мне на ухо: «Это был мой отец». — Рей помолчал. — Теперь ты понимаешь? Капитан был не просто каким-то негодяем, а его отцом. Стоя у причала, дед смотрел не просто на какой-то корабль, а на корабль, которым командовал его отец. Вот в чем дело.
— Господи, его родной отец?.. То есть он все врал?
— Врал? Нет. Для него это была правда. В памяти всегда все правильно. Кому нужна правдивая история, если можно рассказать поинтереснее?
— Мне. Мне нужна правда.
— Пусти меня к себя.
Я подняла одеяло и подвинулась. Мы шептались как дети, которые доверяют друг другу тайны ночью под одеялом, пока весь мир самозабвенно спит.
— Что ты помнишь первое в жизни? — спросила я.
— Телевизор! Телевидение родилось примерно тогда же, когда и я. Мы ровесники — нам пятьдесят. Ну, может, телевидение старше на год или два. Артистов, которых дед застал в начале века на сценах Нью-Йорка, я видел стариками и старухами на мерцающем экране. Едва родившись, я уже сидел перед ящиком и смеялся. А ящик смеялся мне в ответ.
Мне было, наверно, лет пять или шесть, и, хоть я мало что понимал из происходящего на экране, телевизор дарил мне легкость и поднимал настроение. Дед просыпался из своей летаргии, только когда показывали Colgate Comedy Hour или Шоу Эда Салливана. Громко и радостно он приветствовал звезд, словно они его старые знакомые. После передачи он снова умолкал.
Джимми Дуранте всегда начинал свое шоу словами «Good evening, folks!»[14] Дед из инвалидной коляски и я отвечали хором: «Добрый вечер, великий Шноцола!» Именно песням Дуранте дед научил меня в первую очередь. Я и сегодня еще помню несколько строк:
Give my regards to Broadway, Remember me to Herald Square, Tell all the gang at Forty-Second Street, That I will soon be there; Whisper of how I'm yearning To mingle with the old time throng… Say hello to dear old Coney Isle, If there you chance to be, When you're at the Waldorf have a «smile» And charge it up to me; Wish you'd call on my gal… Old pal, when you get back home… Give my regards to old Broadway And say that I'll be there ere long.{13}От телевизора исходили мир и покой и еще некоторое бодрящее возбуждение. Дед всегда говорил: «Малыш, не важно, как паршиво прошел твой день, вечером ты можешь включить этот аппарат, и у тебя дома окажутся Дуранте, Эдди Кантор и Милтон Берл. Ты всегда уснешь с улыбкой на губах». «Дедушка, но ведь ты почти не улыбаешься», — возражал я. «Вот и нет, перед тем как уснуть, я всегда улыбаюсь. Но в это время ты уже давно спишь».
Мама обычно была занята в другой комнате, но, когда клиентов не было, она присоединялась к нам. У нас была маленькая квартирка в кирпичном доме прямо под Манхэттенским мостом. Это был один из немногих доходных домов, сохранившихся со времен юности деда. Еще оставались те же улицы, с теми же названиями, но большинство старых зданий уже снесли, как ненужные кинодекорации. На их месте возвели Ту-Бриджес — район из высоких коричневых многоэтажек, в тени которых мы жили.
Мы отличались от соседей тем, что не могли себе позволить переселиться в одну из этих многоэтажек или переехать в красивый дом на периферии города — в Куинс или Лонг-Айленд. У нас не было машины, мы не ездили на море по выходным. Мы застряли посреди Манхэттена. Но у нас был телевизор — один клиент подарил его маме. У мамы были клиенты, которые могли делать такие подарки. Мы сидели перед телевизором, покачивая ногой, как и все остальные. Мы стали нацией телезрителей.
Все детство я представлял себе, как дед улыбается, когда засыпает. В это время над нами грохотали поезда на Бруклин, а в промежутках квартал погружался в полную тишину, и всего в нескольких сотнях ярдов тек молчаливый Ист-Ривер.
Еще помню: мне лет семь-восемь, мать ставит меня на кухонный стол, потому что к ней пришел клиент. Недавно она узнала, что я люблю и умею петь. Она говорит: «Будешь стоять здесь и петь как можно громче. Если замолчишь, я выйду и выпорю тебя». Теперь твоя очередь.
— Мне лет шесть-семь, я делаю кораблик. Пишу на носу свое имя: Елена. Несу его на Дунай и спускаю на воду. Надеюсь, что он доплывет до другого берега. Туда, где живут мои воображаемые родители. Теперь опять твоя очередь: кто твой отец?
Рей долго молчит.
— Мамин клиент. Тот, который подарил телевизор. С тех пор он больше не появлялся. Но я никогда и не скучал по нему. У меня был дед. А теперь ты: из всех тех мест, что ты повидала, где тебе понравилось больше всего?
— У колхозницы. Она не болтала. Могла молчать неделю, месяц, год. Мне это нравилось, я тоже любила молчать. Как ты жил дальше?
— Вторую половину шестидесятых — то есть лет с пятнадцати-шестнадцати — и бо́льшую часть семидесятых я провел на Вашингтон-сквер. Дед всегда говорил: «When you go to Washington Square, don’t forgetta watta mess you walk on»[15], напоминая мне о похороненных там покойниках. Я смешивался с толпой и среди банджоистов, гитаристов, флейтистов, народных музыкантов и блюзменов пытал счастья как певец и имитатор.
Я клеился к хиппушкам, но безуспешно, потому что я носил костюмы, в которых мог ходить еще мой дедушка, в придачу фетровую шляпу и белые перчатки. В моем репертуаре не упоминались ни вьетнамская война, ни гражданские права, не было песен Джоан Байз, Пита Сигера, братьев Клэнси и Боба Дилана, не шла речь о правах чернокожих и ненависти к Никсону, а были только песни Тони Беннетта, Перри Комо и Нэта Кинга Коула. В общем, песни с душой.
Я останавливался перед людьми на скамейках и парочками, валяющимися на траве, и спрашивал: «Кто ваш любимый актер из пятидесятых? Или любимый певец?» Одни смеялись надо мной, другие спрашивали: «А ты не слишком молод для пятидесятых?» «С чего-то ведь нужно начинать», — отвечал я. «Тогда начни с The Kinks или Jefferson Airplane!» Я улыбался им, ведь это был их мир, а не мой. Я хотел начать ровно там, где закончил мой дед. А это было намного, намного раньше. Похоже, я еще тогда выпал из своего времени.
Семидесятые стали кошмаром для Нью-Йорка. Каждую ночь горели дома, люди гибли, повсюду громоздились горы мусора. Ист-Сайд выглядел заброшенным. Люди думали, что город уже не спасти. Все, кто мог, уезжали. Кому-то семидесятые запомнились как веселое время, но я не участвовал в демонстрациях против войны во Вьетнаме, не ругал Никсона, меня не интересовали права женщин, я не захватывал университеты, не тусовался на Бликер— и Макдугал-стрит, в клубах «Биттер-Энд» и «Кафе Уо?». Дед умер, мы больше не получали его пенсию. Мать состарилась, и клиентов у нее осталось не очень-то много.
Я поступил в школу актерского мастерства, но после года обучения мне сказали, что я не умею интерпретировать, а могу только имитировать. Мы бедствовали, нужно было зарабатывать деньги. Сначала я работал в холодильной камере мясной лавки в районе Митпэкинг. С двух ночи до семи утра я разделывал туши. Я и сегодня могу это делать с закрытыми глазами.
Потом я нашел работу поющего официанта на Таймс-сквер. Тогда площадь была настоящей свалкой, вокруг обитали отбросы общества. Там я начал заниматься в принципе тем же, чем занимаюсь до сих пор.
Я жил на Шестой авеню, напротив женской тюрьмы Джефферсон-Маркет, и каждое утро, когда я, усталый до смерти, возвращался домой, у стены моего дома стояли цепочкой мужчины, пришедшие поговорить с заключенными женщинами. Ровно в шесть женщины подходили к окнам, и начиналось. Я лежал на кровати и прислушивался к их голосам. Испанский, итальянский, китайский, английский — весь мир собирался у меня под окном. Я понимал лишь немногое из того, что они кричали. Наверно, мужчины рассказывали о детях, о своей работе, о семье. Женщины — о тоске и желании поскорее вернуться к ним. Больше всего меня удивляло, что, несмотря на одновременные крики, неописуемый гвалт, они могли расслышать важный для них голос.
Помню одну парочку, которая распаляла друг друга. Она кричала ему всевозможные слова любви из тюремного окна, он отвечал ей с другой стороны улицы. Они орали как мартовские коты. Весь квартал не спал и слушал их любовный диалог. Сколько раз я при этом трогал себя и возбуждался вместе с ними. И наверняка не только я, но и сотни людей в соседних домах. Ну да, времена были другие.
— А потом? Что еще тебе запомнилось?
— Потом? В восьмидесятые я выступал поющим официантом в Орландо, в тематическом ресторане. Темой моего ресторана была ностальгия, а в соседних — Дикий Запад и путешествие по Миссисипи. Гости сидели за длинными столами, а я появлялся на балконе высоко над ними. Оттуда я с песней пролетал на канате над их головами и приземлялся на одном из столов. Пел я что-нибудь вроде этого:
Catch a falling star and put it in your pocket Never let it fade away Catch a falling star and put it in your pocket Save it for a rainy day For love may come and tap you on the shoulder Some starless night Just in case you feel you want to hold her You’ll have a pocketful of starlight{14}Мне было слегка за тридцать, я был вдвое моложе большинства гостей, но пел с таким чувством, что некоторые плакали. Я пел о лучших годах их жизни — о пятидесятых, когда я родился, а они могли не только мечтать о хорошей, сытой, обеспеченной жизни, но и жить ею; когда они, как и мы с дедом и мамой в нашей крошечной квартирке, слушали по телевизору, как поют Перри Комо, Тони Беннетт и Бинг Кросби.
Восьмидесятые — хорошее время. Я жил в маленьком доме под Орландо, на берегу реки Сент-Джонс. Когда я не пел, то часами катался на веслах по лабиринту проток. И некоторые немолодые барышни из тех, что слышали меня в ресторане, любили кататься со мной. Теперь опять твоя очередь: почему ты держишь прах матери в чулане?
— Потому что я пока не могу с ним расстаться. Но теперь я приняла решение.
Сегодня утром не успела еще развеяться дымка, а мы уже ждали автобуса до колонии. Мы ехали молча, одной рукой я держала под руку Рея, а другой — сумку с банкой из-под огурцов. Рей вез с собой чемодан с реквизитом. Водитель высадил нас прямо на развилке. Чем дальше мы отходили от дороги, тем тише становился шум машин, пока окончательно не стих. Недавний ливень оставил глубокие лужи, которые мы никак не могли обойти и вскоре даже не старались, а шлепали прямо по воде. Иногда мы спугивали птиц из кустов, а иногда пугались их сами.
Проселок сначала плавно идет в гору, а потом — круто вниз. На растениях еще лежит утренняя роса. Часть пути идешь по густому лесу, затем — через колючие кусты с кислыми ягодами. Идешь и идешь, и вскоре кажется, что заблудился. Слышишь только жужжание насекомых и уже начинаешь сомневаться, существует ли еще остальной мир.
Ты ведь уже не помнишь дорогу от колонии до трассы, правда, тетя Мария? Однажды ты сказала, что никогда не выходила из долины. Даже когда стали выпускать, когда подтвердилось, что вы больше не заразные.
Мы с Реем прошли через открытые ворота, и я посмотрела на него, чтобы понять, что у него на душе. Может, он сомневается или вообще хочет повернуть назад. Однако он очень внимательно разглядывал кое-как замощенную маленькую площадку, цветочные клумбы перед низким длинным жилым корпусом, кухню, он даже заглянул на минутку в общую комнату. Ну вот такой он.
Медсестра сказала нам: «Они все очень взволнованы. Не каждый день их навещают такие гости. Ради американца они нарядились, как могли. Я поставила стулья там, перед церковью. Десятка хватит, остальные предпочитают сидеть в своих комнатах, но оставят двери открытыми, чтобы слушать. Тетя Мария тоже останется в постели, она слишком слаба, чтобы вставать. По пути можете заглянуть к ней, она будет очень рада».
Вот я и зашла. Рея я отправила вперед, потом приведу его к тебе. Я попросила медсестру немножко походить с ним, чтобы несколько минут побыть с тобой наедине. Чего тебе хочется? Ты говоришь слишком тихо, я тебя едва слышу.
Отсюда, сверху, мне их всех хорошо видно — последних жителей долины, последних их тех, кто провел здесь всю жизнь. Они надели все самое лучшее, как на праздник. Может, даже покойники на холмах приподнимут головы, чтобы получше видеть.
Я вижу Рея, но, кажется, ему не противно, он даже не удивлен. Он копается в своем чемодане и как раз достает фрак. Кладет обратно, опять вынимает.
Теперь все расселись по местам. Встает Паску, он же самый молодой и самый сильный из вас. По нему не скажешь, что он болен. Он мог бы прогуляться воскресным вечером по тулчинской набережной, и никто ничего не заметил бы. Мало ли как можно потерять несколько пальцев. Он снимает шляпу и торжественно кланяется.
«Мы хотели бы сердечно поприветствовать Рея! Мы рады, что он принес немного Америки в нашу долину. — Надевает шляпу и оглядывается. — Нам будет полезно развлечься, а то сидим тут целыми днями и смотрим на лес. Рей может рассказать, как живут люди у него на родине. Торопиться ни к чему, времени у нас очень много. Мы терпеливые. Пожалуй, самые терпеливые люди на свете. — Паску секунду помолчал. — Мы никогда не путешествовали, не видели мир. Я только однажды ездил в Тулчу, а другие даже там не бывали. Но пора бы мне умолкнуть и уступить сцену вам. Мы слушаем во все уши. — Публика смеется. Паску смущен, вытирает пот со лба. — Хоть у нас ушей не так уж и много».
Теперь мне пора оставить тебя, тетя Мария, я обещала Рею, что буду переводить. Я нужна ему, без меня он не справится. Перед тем как я пошла к тебе, он спросил, что ему рассказывать, а я ответила: «У тебя есть выбор: твоя жизнь или шоу».
Он хотел отложить решение и предложил сначала отнести маму и всех, кто в банке, на кладбище, к отцу. Но это еще успеется. Раз уж они смогли подождать несколько лет, то какой-то час ничего не значит.
Рей закрывает чемодан. Я пойду, но не бойся, я не исчезну, не пропаду больше никогда. Можешь на меня положиться. Я обязательно вернусь. Если хочешь, я буду тебе дочерью.
Слышишь, по долине разносится звук?
Аплодисменты изувеченных рук оглушительны.
Благодарности
Автор искренне благодарит город Цюрих за предоставленную финансовую поддержку, а также кантон Цюрих, фонд «Landis & Gyr» и Кальвский фонд им. Германа Гессе за стипендии на проживание. Все это сделало возможным создание этого романа.
Особая благодарность монастырю Каппель в коммуне Каппель-на-Альбисе, в библиотеке которого написана большая часть книги.
Литературное агентство «Liepman» в лице Ронит Цафран и Марианны Фрич сопровождает автора уже много лет, терпеливо и упорно, помогая советом и делом. Отдельное большое спасибо им!
Примечания
1
«Хочу пышные похороны» (ит., англ.). (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
«Щека к щеке», «Встретим музыку и танец», «Одеться по моде», «Голубые небеса» (англ.).
(обратно)3
«Сделай ход получше» (англ.).
(обратно)4
«Ты можешь выиграть самый крупный приз в истории телевикторин» (англ.).
(обратно)5
«Мы отвезем тебя куда угодно» (англ.).
(обратно)6
«Счастливая радость — китайская кухня», «Счастливый питомец»… «Счастливый ягненок — отборное мясо» (англ.).
(обратно)7
Скоро открытие (англ.).
(обратно)8
Prohibition — сухой закон в США (1920–1933).
(обратно)9
Хэллоуин Рикки — праздник с индивидуальностью — покупайте прямо сейчас (англ.).
(обратно)10
«Вершина мира» (англ.).
(обратно)11
Закадровый перевод фирмы «СВ-Дубль» по заказу ГТРК «Культура», 2002 г.
(обратно)12
«Меня тошнит от этой болтовни, давайте присоединимся к забастовке» (идиш).
(обратно)13
Макароны с соусом, отбивные котлеты, трубочки с рикоттой, рисовые зразы (ит.).
(обратно)14
«Добрый вечер, народ!» (англ.)
(обратно)15
«Когда идешь по Вашингтон-сквер, не забывай, что у тебя под ногами» (англ.).
(обратно)16
Также означает «деньги».
(обратно)



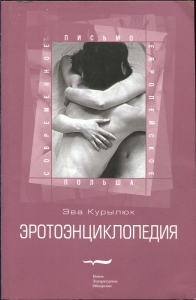





Комментарии к книге «Человек, который приносит счастье», Каталин Дориан Флореску
Всего 0 комментариев