Сергей Лебедев. Гусь Фриц
…Сюда пригнал он связанных друг с другом быков, собак и белорунный скот. Тут началась расправа: тех в затылок он поражал, тех в горло, тех мечом он надвое рубил; иных в оковах он истязал – людей он, верно, видел, а не животных бессловесных, в них. Софокл. «Аякс»Информация от издательства
Лебедев С.
Гусь Фриц: роман / Сергей Лебедев. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1714-3
Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и трагические связи. Русские немцы – люди промежутка, больше не свои там, на родине, и чужие здесь, в России. Две мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории человечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жерновами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничтожать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные идентичности, – история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопатии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур, опасное наследство немецкого происхождения, немецкой крови; история рока как такового, досягающего от XIX века до наших дней.
© C. Лебедев, 2018
© «Время», 2018
Гусь Фриц. Роман
Звук.
Звук воды, отвесно падающей в дождевую бочку, стоящую за стеной дома.
Опрокинутый гейзер струи бьет до самого дна. Ошалев, мечутся мелкие, в половину ладони, караси, принесенные накануне с рыбалки. Кружатся желтая от пыльцы пена, розовые соцветия яблонь, прошлогодняя бурая листва и ссохшиеся, с черными пятнами тлена, яблоки, смытые из трубы напором ливня; паутина и уловленные ею букашки, – гляди, блеснуло слюдяным изломом крыло стрекозы!
Гроза срывает, уносит все, что увяло, отжило, – и то, что только что родилось, еще не окрепло, нетвердо держится; остатки минувшего и завязи будущего.
Утром, когда гроза иссякнет, вокруг бочки на смятой траве останется отрыжка перехлестывавшей через край ночной стихии: скукоживающиеся хлопья пены, измочаленные, вымытые до смертной прозрачности соцветия. Караси всплывут белыми брюшками кверху, смерть лишит их единственного достоинства твари – быть верно расположенной в пространстве.
А ты будешь стоять, маленький ребенок, еще помнящий щекой тепло подушки. И никого и ничего тебе не будет жаль: ни рыб, ни соцветий, ни сбитых завязей, будто ты видел это уже десятки раз, в разное время и в разных местах; будто среди многих звуков земли тебе люб только один.
Звук воды, отвесно падающей в дождевую бочку.
* * *
Кирилл глотнул еще вина, закурил сигарету, свернул файл с начатым текстом, отодвинул ноутбук.
Да, теперь в доме никого нет, и можно курить внутри. Вот он, тот угол, где он спал в детстве. Только диван передвинули. И дождя нет. Хотя время то же самое: начало июля.
Почему он начал текст именно так, с воспоминания о грозе?
Вдалеке, на станции, заныла электричка – последняя, наверное, в сторону Москвы… До утра… Электричка пошла, значит, сейчас закроют переезд.
Кирилл вспомнил, как шесть часов назад сам стоял в очереди на этот переезд.
Холодный вечер, остывающий росой на траве, набухающий каплями на горячих капотах машин. Слева – дома за глухим забором, молчаливые, без огней. Справа – речушка в низине, петляющая в зарослях камыша, окруженная лугами. Оттуда-то, с лугов, куда еще не выгоняли коров – топкая почва не просохла с весны, – наползали клубы густого тумана, играющего обманными радугами в отблесках фонарей.
Стояло безветрие. Туман поглощал звуки. Вдруг внутри тумана, осветив изнутри его зыбкие пелены, проступило расплывчатое сияние, превратившееся в ярко-желтый движущийся шар света. Все водители обернулись. Из полумглы надвигалось нечто столь же мистически-грозное, как гало вокруг солнца, – знак грядущих событий, настолько зловещих, что они могут исторгнуть из немой материи косноязычный символ.
Миг – и жуткое ощущение пропало. Притормозив в густом тумане, московская электричка тихо подкатывалась к переезду; ярко светилась лобовая фара.
Шар света. Это он по цепочке ассоциаций отправил мысль Кирилла к воспоминанию о ночном дожде.
Шар света. Этот образ связан с бабушкой Линой. Кирилл закрыл глаза, пытаясь вспомнить ту давнюю грозовую ночь.
Он снова был ребенком, снова слышал, как приемник объявляет сквозь шуршание помех и певучие стоны радиоволн: «В Московской области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до двадцати двух – двадцати трех метров в секунду».
Та гроза собиралась неделю или больше, томила жарой и вялостью. У бабушки Лины ныли кости, но она ходила и ставила подпорки под яблони, осыпанные плодами. Год выдался урожайный, бабушка говорила, что не помнит такого множества яблок, разве что перед войной, в июне сорок первого.
И вот в день седьмой, когда уже казалось, что гроза рассеется, исчерпает себя в слишком долгой натуге или пройдет стороной, прогрохочет за горизонтом, радио с утра передало: «В Московской области ожидается сильный штормовой ветер с порывами до двадцати двух – двадцати трех метров в секунду».
Кирилл не поверил объявлению: небосвод был блеклым, движения трав и ветвей безжизненны; даже вода, казалось, притихла, ослабела от жары, и еле-еле струился лесной ручей.
После полудня вдали показалась сизая стена облаков. Заметив ее, бабушка Лина прекратила обедать – событие немыслимое, ибо она исповедовала законченность всякого дела, движения, жеста, фразы, – и поспешила в огород убрать инструмент и вещи, а Кириллу велела накрепко запереть окна; каждый шпингалет.
Что-то проступило в ней, чего Кирилл не видел раньше. Ее будто преследовали по пятам призраки страшных, непостижимых для него бед: войн, пожаров, наводнений. Но все же бабушка не металась, а собирала вещи скупыми, точными движениями, и траектории ее шагов пролегали по самому короткому, экономному пути, словно были загодя просчитаны и отрепетированы.
Она словно своих уводила от опасности – старую плащ-палатку, в которой носили сено, скамеечку, на которой сидели, собирая крыжовник. У крыльца отирался приблудный кот, но на него бабушка не обращала внимания – невидимый купол ее заботы накрывал только людей и людское.
Кирилл пробежался по комнатам, проверил задвижки на окнах; вышел на крыльцо, недовольный бабушкиной тревожной предусмотрительностью, – дождь и дождь, чего бояться?
Потом накрывали парники. Кирилл таскал гладкие булыжники, чтобы придавить пленку, – и через их тяжесть в него постепенно вошла весомая сила будущей бури; когда огурцы и помидоры были укрыты, он, распрямившись, обернулся – и обомлел.
Обособленной гряды облаков, идущей с севера, уже не было. Само небо меняло цвет и материальность, будто гиблая, скоротечная гангрена пожирала небосвод.
Из нее метнулся, как изо рта змеи, фиолетовый язык, лизнул что-то за лесом.
Ударил гром; заложило уши.
Лениво вращавшийся флюгер, выточенный из алюминия на военном авиационном заводе, – подарок армейских друзей деда – вдруг ретиво запел, его пропеллер загудел, слился в светлый мерцающий диск.
Ветер мягко толкнул стены. Прянули, звякнули укрепленные гвоздиками стекла. Слитно качнулись кроны.
Флюгер замедлился, замер, словно катушка спиннинга, когда щука тронула приманку и ушла.
Закапал дождь – тук, тук, тук, тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук… Чистые крупные капли зашумели в листве и на крыше. Ничего страшного. Летний ливень, ну, может, чуть сильнее обычного.
Если бы не сизый нарыв небес!
Бабушка Лина, набросив дождевик, ходила по двору, собирала все железное – тяпку, забытую на грядке, совок, помойное ведро, залитую мыльной водой сковородку.
В грозу она всегда опасалась молний.
Она давно упрашивала сына, отца Кирилла, спилить большие березы, росшие на участке. Высокие деревья притягивают молнии, говорила она. И казалось, она почему-то думает, что грозовое электричество ищет ее, пытается настичь.
Это считали причудой: мало ли у кого какие страхи. Да и сама бабушка в погожие дни смеялась над своим испугом. Но вот приближалась буря, и Кирилл почувствовал, что бабушкин страх имеет под собой какое-то основание. Она как будто знала, что именно может произойти, и убирала все вещи, способные притянуть недоброе, стать его – в буквальном и небуквальном смысле – проводником.
Дождь, смочив траву и листья, почти перестал. Флюгер крутился с ленцой.
А небо остекленело, выгнулось брюхом к земле, и внутри сгущалась чернильная ядовитая муть.
Раз – и флюгер снова запел; так поет катушка спиннинга, когда щука заглотила блесну и уходит в глубину.
Кирилл инстинктивно посмотрел на самодельный громоотвод, торчащий выше телевизионной антенны: ошкуренную лесину с металлическим стержнем наверху и проводом, уходящим в землю. Ему передалось бабушкино напряженное ожидание, он почувствовал, что неуклюжая эта конструкция – единственная их защита сейчас.
Дрогнул свет ламп. С высоты, с размаху на дом обрушилась стена воды. От сырости мгновенно запотели стекла. Из водосточных труб устремились в бочки бурлящие потоки, по окнам хлестало так, что вода стала просачиваться сквозь трещины в замазке.
Бабушка Лина в прихожей снимала дождевик. Кирилл поднялся на чердак, этажом выше к грому.
Свет конвульсивно моргал. Синие молнии вспарывали муть. В водовороте ливня кружило листву яблонь.
Обломилась ветвь аркада, которую бабушка лечила от лишая на коре. Раздвоенная антоновка разломилась пополам, осела, подпрыгнула от удара о землю, разбросав в разные стороны яблоки. Кроны огромных берез метались на высоте, недосягаемой взгляду, и было только видно, как ходят, кренятся под ветром неохватные стволы. Любая береза могла рухнуть на дом, сокрушить его тонкий, поддерживаемый стропилами конек.
Погас свет.
Град. Ледяные комочки, странный летний сахар. Бьет, барабанит по стеклам.
Капает вода с потолка, течет из-под рам – старый дом не рассчитан на такую бурю.
Мыши забегали, лезут наверх по лестнице; наверное, заливает подвал; сколько же их!
Первобытный огонь бросает долгие тени – бабушка на первом этаже зажгла свечу.
Вроде бы множество людей вокруг, в соседских домах. Но они с бабушкой наедине с ветром, мглой и дождем.
Обычно Кирилл чувствовал, что бабушка Лина знает, где он в доме, держит его в поле рассеянного, но чуткого внимания; сейчас это поле исчезло. Бабушка Лина ходит со свечой, снова проверяет шпингалеты. Ее фигура отражается в запотевших стеклах. Она движется как лунатик.
Удар – разлетелось окно, выбитое ветвями яблони. Свеча упала из бабушкиных рук, покатилась по полу, но не погасла. Бабушка схватила кухонный поддон, закрыла пролом, словно ждала, что снаружи кто-то полезет. Он поднял свечу, не чувствуя, как горячий воск обжигает пальцы, и встал за ее спиной. В соседнем окне отразилось свечное пламя – но не узким, острым язычком, а светящимся радужным шаром. Бабушка вздрогнула – и стала отступать, держа перед собой поддон как щит: она в страхе защищалась от этого мерцающего шара.
Ветер влетел в разбитое окно и погасил свечу; шар света, отраженный в окне, исчез.
Бабушка Лина осела на пол. Кирилл бросился к ней. Дыхание было слабым, тихим, но легким и чистым, словно дышала не старая, болеющая астмой женщина, а та маленькая девочка, которой она когда-то была.
Минута. Вторая. Третья. Дыхание не менялось.
Он заметил на стене белый шкафчик с домашней аптечкой; в голове возникло бледное слово «обморок», а потом – резкое, пахучее, молодцеватое «нашатырь».
Кирилл поднес смоченную нашатырем ватку к носу бабушки. Он вспомнил, как бабушка выводила нашатырем застарелые пятна, чистила серебряное кольцо, сводя патину. Он верил тогда в эту жидкость, как алхимик, верил, что она изгонит из бабушки то, что вселилось в нее и не дает дышать полной грудью. И нашатырь не подвел, бабушка открыла глаза, отвела его руку с ватой, слабо проговорила:
– Хватит, папочка, хватит, жжется…
Кирилл тогда не заметил этого «папочка», оно прозвучало для него как «лапочка» – бабушка называла его так, когда он делал что-нибудь слишком рьяно, теряя за усердием изящество и точность; лапочка. Он был слишком рад, чтобы разобрать, что слышал П вместо Л.
– Принеси, пожалуйста, воды, – попросила бабушка; если бабушка, как всегда, вежлива, значит, она полностью пришла в сознание, сгинул ее странный страх.
Кирилл помог ей подняться. Он хотел спросить, почему бабушка испугалась светящегося отражения в окне, но ощущал, что она не хочет вопросов.
– Я пойду спать, – сказал он и поцеловал ее в щеку.
– Иди, мой хороший, – сказала она нежно. – Буря стихает.
Он закрыл за собой дверь.
Дождь уже не хлестал, а стучал дробно, ровно; из его звуков ушло неистовство. Кирилл устал, будто ураган возносил его в воздух, бросал оземь, разламывал, скручивал, стегал внезапными порывами. Мускулы ныли. И Кирилл понял, что прожил эту бурю вместе с яблонями; мыслью и чувством боролся, подпирал стволы, удерживал ветви; все силы были исчерпаны, и телесные, и душевные. Не расстилая постель, он повалился на свой диван в углу и уснул; вода гулко падала в дождевые бочки; он чувствовал, как натяжены их металлические обручи.
Кирилл спал без сновидений – на них тоже нужны силы; провалился в глубину несуществования.
Он проснулся ближе к полудню; открыв глаза, прислушивался к телу, ставшему пустым и новым, будто необжитым еще.
Когда он вышел на крыльцо, ему показалось, что он еще спит и поэтому шагнул в хаотический мир, где вещи еще не успели вернуться в состояние яви, занять свои места, собраться в привычный порядок.
Выход с крыльца преграждали ветви упавшей яблони. На месте крон и стволов зияла пустота, будто кто-то зловещий изъял их, утащил в другое измерение, вынув тем самым привычные подпорки зрения, сознания, памяти.
Из разломленных стволов вытекал, пенясь, сок, но листва уже увяла; еще вчера она была исполнена жизни, а теперь жизнь ушла – вся и сразу. Только сбитые ветром яблоки блестели в траве, омытые дождем.
У забора повалило тополь. Его листва, пусть прореженная, осталась глянцевитой, упругой. Казалось, если тополь поднять – он легко врастет на прежнее место. Яблони, истощенные созреванием яблок, погибли мгновенно, а неплодоносное дерево оказалось более стойким; какой-то отвратительный закон жизни открылся Кириллу в этом.
В саду все было порушено. Пленка парников, которую кропотливо штопали, берегли, разлетелась лоскутьями. Снесло смородину, сливы, только мелкий, злой крыжовник уцелел, вцепился в колючие ветки. Грядки размыло, из земли торчали жалкие, детские тельца недозрелой моркови, репы, свеклы. Огуречные плети были вбиты в грязь; младенческие – еще вчера в серебристой испарине рождения, в нежном пушку, – маленькие огурцы плавали в грязных лужах.
Соседи не успели вчера снять белье с веревки. Теперь старое ситцевое платье с пунцовыми розами висит на заборе, детские распашонки белеют в траве, словно свидетельства отчаянного бегства: кто-то спасался во мраке, а по пятам неслась погоня, бесы ночи; взвихренный след этой погони еще читался в воздухе, ощущался ноздрями.
Только теперь Кирилл заметил, что в промытом после грозы, родниковом воздухе пахнет гарью; над деревней поднимался дымок дотлевающего пожарища.
Он понял, из какого места тянет дымом, чей дом сгорел.
Дом Старшины, недавно оставшийся без хозяина.
* * *
Кирилл и десятилетия спустя помнил давно умершего старика так, будто вчера видел.
Был вокруг Старшины особый, запоминающийся ореол.
Хотя роста он был среднего, фигура ничем не примечательная, лицо обычное, ну рябое, так мало ли рябых; одежда слегка неопрятная – пуговица оторванная, манжеты на рубашке протертые, пятно на штанине, – так многие деревенские мужики ходили.
Но все в деревне и на дачах знали, что дважды представляли его к Герою и дважды не дали Золотой звезды. Орденами и медалями, что имелись в избытке, он не форсил, в коробке под верстаком держал; не показывал зазря никому – свое, кровное, – но и значения особого не придавал. Не звали его выступить перед пионерской дружиной и венок к обелиску над братской могилой возложить.
Только самые проницательные догадывались, что снедает Старшину лютая зависть к командирам, которые его кровью «Красные звезды» и «Красные знамена» получали, а еще Хмельницких и Суворовых, какие ему, младшему чину, по статуту не положены; ко всем, кто вдосталь урвал славы и достатка от победного большого пирога, кто грузовиками да эшелонами домой добро немецкое гнал, а потом мемуары писал про славный боевой путь дивизии, что-нибудь вроде «Под гвардейским знаменем» или «Фронтовыми дорогами»; а он что – старшина, таких старшин миллион в землю лег.
В деревне этой Старшина родился, в войну служил в разведке, в родную деревню и вернулся. Поговаривали – глухо, тайком, – что пошаливал Старшина после войны, благо Москва близко, с такими же, как он сам, ухорезами. Но потом завязал, устроился сторожем на овощебазу; кормился от «левых» грузовиков – но это все слухи; бывало, милицейская машина стояла у его дома, начальник районной уголовки приезжал бутылку распить, такой же разведчик, на одном фронте воевали.
Конечно, уважала деревня Старшину за то, что ордена всем под нос не сует, но этого мало. В другом дело было. Скажем, рубит мужик топором дрова; мирная картина. А Старшина что ни возьми – топор, пилу, стамеску, нож кривой садовый, – другое значение в его руках железо приобретает; немирным оно становится, недобрым. Зубья пилы, лезвие топора, острие стамески, наевшиеся березы да осины, сытые лубом да корой, вдруг словно скалятся хищно, возникает в них жажда крови соленой, горячей, а не сока древесного невинного; это-то и чувствовали деревенские, потому-то и был Старшина Старшиной, с большой буквы.
Только ближняя соседка его Федосеевна, городская, на работу в деревню присланная, комсомолка бывшая, идейная, по-своему о Старшине судила. Вышла она до войны замуж за его соседа, тракториста-ударника; ударник тот в танке сгорел уже за Одером, когда счет «тигров» и «пантер» на последние десятки шел, – однако ж подловили его две «кошки» из засады, спалили весь взвод, пока они у канала оросительного тыркались, переправу искали.
Федосеевна траур по мужу носила так долго, как в деревне не принято. А потом завучем стала – преподавала она историю – и музей краеведческий при школе придумала создать, земляков опрашивать, как воевали они, что видели.
На этом у них размолвка со Старшиной и вышла. Прежде жили они ровно, здоровались по-соседски, Старшина ей даже парники ладить помогал, дело-то вдовье, он к этому строго относился. Уважал он ее по-своему за траур, за то, что верной покойнику двадцатипятилетнему осталась, дружку его детских игр, от которого только пепел да копоть похоронная команда из танка выскребла. И черт же ее дернул с него-то свои расспросы и начать, да еще двух пионеров с собой привести, парня да девчонку, – беседу записывать.
– У мужа своего, покойника, спроси, – сказал Старшина Федосеевне в ответ на просьбу ее рассказать, какая она, война, чтобы детишек на примерах ветеранских воспитывать. И дверь закрыл.
Будь на ее месте мужчина, набил бы Старшина ему физиономию. И себе Старшина признаться не мог, что крепко задела его Федосеевна: ведь на самом деле он хотел бы душу задубелую исповедать. Получалось, поняла она его тайное желание, это Старшину и бесило. И нависала над этой размолвкой-ссорой тень беды, которой пока еще никто не видел.
Деревенские знали, что в июле, в день, когда Старшину ранило в битве на Курской дуге, он закрывает ставни в доме и пьет. Одни говорили, что снимает он со стены портрет Сталина, наливает стакан, ставит под самые усы и чокается с Вождем. А другие толковали, что берет его в этот день скверная обида за единственное ранение, вроде как не боевое – осколком мины шмат мяса с ягодицы срезало. Пил он в закрытом доме, полную мерку давней ненависти к врагу себе наливал; но не брала его, сердцем ожесточившегося, сивуха; а под вечер выходил на улицу, не шатаясь, твердым шагом – и начинал немцев искать.
Деревенские с пониманием относились, не сообщали, что война почти сорок лет назад кончилась. Говорили, что были-де немцы, но выбили их наши, соколики, аккурат тому неделя как, а сами на запад ушли, гарнизона не оставили, бо деревня-то невелика, всего один колодец. Подносили ему как герою-освободителю стакан самогона под яичко, вкрутую сваренное, и горбушку с солью крупитчатой, серой. Самая сила от нее, говорил Старшина, который белой, мелкой магазинной соли не признавал.
Дети по канавам и кустам прятались, бесплатное развлечение, а взрослые серьезно относились. Никто потом Старшине не пенял, что ходит он по деревне и народ будоражит. Однажды Старшина почтальона нового зашиб: племянник чей-то на лето устроился, раскатывал на велосипеде во френчике модном, на мундир немецкий издали похожем, вот Старшина и решил, что это немецкий связной заплутал, немцы-то на двух колесах часто ездили, да и велосипед был блескучий, ненашенский, откуда-то из Прибалтики. Старшина почтальона как «языка» взял, мозги ему сотряс основательно, но деревня его сторону приняла, и тетка племяннику строго-настрого заказала заявление в милицию писать.
Одной весной Федосеевне нового гусака привезли, то ли польского, то ли венгерского, – дальний ее родственник, что в соцстранах работал, порадовал старуху. Гусак и вправду был на племя хорош – белизны отличительной, будто у свежего зимнего снега взятой; клюв оранжевый ярче мандарина; тулово мощное, но не тяжелое, словно летать ему больше впору, чем ходить; злой, свирепый, старого гусака забил, хоть моложе был и на вид слабее; в общем, исключительный гусь.
Федосеевна его Мартыном назвала – нахальное звучание имени понравилось, подходило оно гусю. Но Старшина гуся по-своему перекрестил. Вышел он в свой самогонный день на деревенскую улицу, а гусак ему дорогу заступил, зашипел. Старшина домашнюю скотину и птицу, зверей лесных за живое не считал; звали его свиней резать и палить, птицу бить, зайчишек в окрестных лесах он ради чистого смертоубийства постреливал, к друзьям фронтовым в Сибирь ездил медведя брать с берлоги, а тут гусь какой-то. Но Старшина, пьяный до страшной трезвости, посмотрел на гуся и сказал с улыбкой нехорошей, с изумлением живодерским:
– Ну чистый фриц! Фрииииц! – И добавил, словно взглядом гуся ощипал, шею его длинную поласкал: – Ты подрасти, фриц! Подрасти! Вот тогда…
Гусак отступил – наверное, впервые в жизни, ни от собак он не бегал, ни от котов; замотал головой растерянно, но потом все-таки зашипел Старшине вослед, шею напружинив.
Так появилось у гуся новое имя – Фриц. Мальчишки пересказали, бабки посудачили, и вся деревня стала так гуся звать в отместку за нрав задиристый и холеность чужеродную. Федосеевна посопротивлялась, но гусь сам стал кличку прежнюю забывать, мальчишки его дразнили: «Фриц, Фриц, снеси яиц!» – а он распалялся, но крыльями не хлопал, шею тянул и норовил цапнуть. Федосеевна поплакала – вроде украл сосед у нее гусака, в свою масть перекроил, а после привыкла, даже загордилась и сама стала гуся немецким считать, хотя он ни ГДР, ни ФРГ отродясь не видел.
Года через три это случилось, когда Фриц в силу вошел. Всякую мелкую тварь он к своей силе приучил, уже гусята у него подрастали – в отца характером, склочники, только колер его белоснежный им не передался, сероватыми все выходили; эх, видать, порченая порода, злорадствовали деревенские.
Кирилл в тот день все видел своими глазами; он с товарищами на песочной куче играл в саперов. Дороги в песке проложены, «вода» – как бы шофер немецкий – за веревочку грузовик игрушечный по ним ведет, а партизаны мины закопали, веревочки с палочками привязанными. Успел вовремя дернуть – палочка снизу в днище грузовик ударит, перевернет; не успел – песок во все стороны полетит, конвой немецкий дальше едет. Куча у пруда была, где дома Старшины и Федосеевны.
Выпил Старшина в тот день июльский, когда осколок немецкий ему, ползущему по-пластунски, зад распорол. Вышел за ворота, уставился на детей, и сразу расхотелось «воде» дальше грузовичок вести; подошел, осмотрел диспозицию, хмыкнул: партизаны хреновы, – и взгляд с одного на другого переводить стал. Не любил он детей, звал заморышами, но не трогал никогда. И впервые Кирилл заметил, какие у Старшины огромные руки, словно для великана роста двухметрового были сделаны, а Старшине их в госпитале пришили; увидел седой волчий волос, растущий на пальцах, толстые желтые ногти.
– Брысь отседова! – скомандовал Старшина. Все Кирилловы дружки деревенские порскнули вдоль забора, по канавам; а ему нужно было в другую сторону, на дачи, чуть замешкался он, а Старшина уже отвернулся; знал, что после его слов никого и ничего не останется.
Кирилл вжался в песочную кучу.
Старшина пошел к пруду; и снова Кирилл видел огромные ладони, которые не поместились бы, кажется, в карманы; не человечье что-то было в них, а бычье, медвежье.
Гусыни Федосеевны плавали в пруду; Фриц шагал по топкому бережку, охранял пробующих воду гусят. Увидев Старшину, гусь развернулся и пошел навстречу; зашипел, а потом глаза стали остервенелые, узнал он обидчика – Старшина, когда трезвый, часто его дразнил. Показалось – Старшина отступит, увернется, а то и побежит прочь, потому что пьяный с хитрым и вертким гусем не совладает; злоба в нем, в Старшине, вялая, сопрелая, как соленый огурец прошлогодний; а гусак чистой ярости полон, будто давно ждал случая поквитаться.
Но Старшина, оказывается, только и ждал, что гусь бросится. Неуловимым движением руки, вдруг ставшей слишком длинной, телескопической, схватил гусака за шею и поднял в воздух, ладонь сжал, перекрыл кислород. Гусь затрепыхался, крыльями забил, весу в нем было килограмм пятнадцать – как такую тяжесть на вытянутой руке держать? Но Старшина держал, и Кирилл осознал, какая сила живет в стариковском теле, медленная, давящая сила, как у тисков; осознал, словно сам был тем гусем, сам чувствовал на шее стальные пальцы.
Гусь обмяк, кончики крыльев мелко подрагивали. Глаза, из которых ушло бешенство атаки, стали кроткими, начали закатываться; а Старшина левой ладонью погладил гуся по голове, приговаривая:
– Ну вот и все, Фриц. Попался ты. Все, Фриц, все. Не рыпайся. Хуже будет. Вот и все, Фриц. Пришло твое время. Пришло.
Смотрел Старшина прямо в глаза гусю. И Кирилл понял, что не птицу видит Старшина сейчас, а ефрейтора какого-нибудь немецкого или кашевара тылового, которым понесчастилось невовремя от блиндажа отойти. И важно, чтобы умер этот немчик тихо – проку от него нет для разведчиков, чином маловат, – не крикнул, не всхлипнул, и потому Старшина немчика в смерть провожает, слова шепчет почти ласково, чтобы не сбился тот на смертной дороге, не захотел на секундочку обратно вернуться, умирал послушно, безо всяких взбрыкиваний ненужных.
Кирилл хотел выбежать, вцепиться в руку Старшины, освободить гуся. Но чувствовал, что и его, мальчишку, Старшина примет за кого-то другого: он вообще не видит сейчас ни пруда, ни гусей, ни домов деревенских; он целиком там, на войне, в приднепровских болотах или в немецком городке каком-нибудь. И нет возможности вырвать его оттуда, ибо все смещено в его голове; и когда он увидит вместо тебя солдатика из фольксштурма, он вправду так видеть будет; не смутно, как во сне обманном, а с последней ясностью – память его сама тебя переоденет, лицо изменит, фаустпатрон в руки даст.
Многого Кирилл боялся, но так боялся в первый раз. Почувствовал, как обмочился. Царь страхов пришел в обличье Старшины, что душил гуся Фрица. Старшина по-настоящему верил, что убивает всамделишнего немца; и ужас был в самой возможности этому произойти, ибо тогда нет ничему никаких основ, нет меж людьми никаких законов.
А Старшина двумя руками за шею Фрица взялся, сцепил пальцы – и голова гуся стала поворачиваться. Только сейчас Кирилл расслышал, что гусь кричит, не шипит, не гогочет, а именно кричит, и вопль его близок к человеческой речи, словно Фриц тщится объяснить убийце, что не солдат немецкий он, и мир призывает в свидетели. Но голова уже двигалась неестественно, так, как живое двигаться не может. Потом хрустнуло, оборвалась суровая ниточка жизни, голова упала на бок; зеленая утробная кашица потекла из клюва.
Старшина гуся на землю аккуратно опустил, постоял, на дохлую птицу пристально глядя. Потом обвел взглядом округу, увидел как бы наново остальных гусей, у пруда сгрудившихся, клекочущих тихо. Сын Фрица, второй по старшинству гусак в стае, согнал их вместе, а сам чуть впереди встал, чтобы и главенство обозначить, и Старшину лишней смелостью не раздразнить.
Кирилл хотел крикнуть – летите, бегите, спасайтесь! – но язык отнялся. А Старшина с холодным воодушевлением пробормотал:
– Фрицы! Ууу, сколько вас! Фрицы! – и пошел к своему дому, только повторяя: – Уууу! Уууу! – словно ни человек, ни простой зверь лесной, словно глубокая, большая, как желудок динозавра, плотоядная бездна открылась в нем, и оттуда доносилось это: – Уууу!
Кирилл понадеялся, что Старшина уходит выпить еще стакан и можно будет загнать гусей в кусты, в камыш или кликнуть кого-нибудь из взрослых. Старшина в доме скрылся; Кирилл хотел бежать, но словно чутье солдатское у него появилось, подсказало: не спеши, не высовывайся. И точно – вышел на крыльцо Старшина с карабином охотничьим, на котором прицел оптический стоял; у забора присел, ствол меж штакетин просунул, в прицел смотрит. Подумал Кирилл, что прицел приблизит гусей, наведет взгляд Старшины на резкость – оптика, стекло чистое, врать не умеет – и очнется тот, поймет, с кем воюет в жаркий июльский день, кто у пруда засел, шеи белые вытягивает; и вдруг заметил, что карманы штанов у Старшины топорщатся, запасными патронами набиты.
Первый выстрел – словно бич пастуший хлестанул. Пуля у карабина остроносая, гуся насквозь пробила; выстрел, выстрел, выстрел – гуси падали, клочья перьев окровавленных летели; Старшина не промахивался. Потом заело карабин, подвели все-таки пальцы, заплелись от самогонки, криво патрон вставили. Подергал он магазин и застыл – словно от сопротивления механизма безотказного и в нем самом что-то перекосило.
Федосеевна выбежала, к гусям кинулась; те валяются на траве, один крылом подергивает, промазал чуток Старшина. Крови не заметишь издали, но видно, что мертвые они; человек погибший может и в смерти живым быть, а птица лежит как куль, все пуля забрала – и грацию, и характер.
Старшина встал, повернулся – и посмотрел прямо на Кирилла, спрятавшегося за песчаной кучей. Кирилл хотел зарыться в песок, но понимал, что поздно – Старшина увидел его, увидел тем зрением, что превращает гусей в немцев. Кирилл опять почувствовал себя гусем Фрицем, ощутил руки на своей шее. И понял, что убьет его Старшина, ему нет разницы, что мальчишка, что гусь.
– Что ты наделал, ирод! Ирод! – Федосеевна налетела на Старшину, толкнула в грудь. – Ирод! Ирод! Ирод!
Ирод; это слово, не знакомое Кириллу, ударило Старшину, проникло в пьяную его голову. Может, запомнил он в детстве слова священника, ведь не Чапаевкой раньше деревня называлась, а Часовней, была в ней часовенка над ключом родниковым и церковь кирпичная, где теперь склад колхозный помещался.
Кирилл думал, что зашибет Старшина Федосеевну. Никому он не позволял к себе прикасаться, а она его за отвороты рубахи взяла. Но Старшина на бревна осел, замотал головой, а потом набок завалился. Федосеевна про гусей забыла, в дом побежала, несвежую нижнюю юбку стоптанными каблуками подбрасывая; вернулась с ведром и с размаху Старшину водой колодезной, ознобной, окатила.
Очнулся он. Люди из-за заборов глазели, но на улицу не показывались, поняв, что дело между двумя решится. Старшина рукавами мокрыми тряхнул брезгливо, огляделся, будто не понял, кто он и где; увидел Федосеевну с ведром и мирно, с недоумением только спросил:
– Сдурела, старая? Мой день сегодня. Выпить имею право.
Такой Старшина стал тихий, что Кирилл из-за кучи вылез, чтоб получше старика рассмотреть: где тот убийца, что три минуты назад в гусей стрелял? Сидит безобидный старик, на солнышке обсыхает, вроде как Кирилл дурной сон видел, который не повторится больше.
Но вдруг Кирилл понял: повторится. Будет другой день, такой же ясный, беды не предвещающий, и выйдет Старшина, от самогонки ополоумев, и кто б ему ни встретился – пес дворовый, теленок-сосунок, электрик с лестницей раскладной, – всякий будет фашист. И опять он, Кирилл, не успеет убежать, потому что другие ловчее, сметливее, смелее его, а он – тот, кто должен остаться Старшине на расправу, чувствовать себя гусем обреченным.
Кирилл возненавидел Старшину за это знание, которое теперь никогда не даст ему покоя; словно вся судьба наперед решилась.
А Старшина тем временем гусей побитых заметил. Помолчал, спросил у Федосеевны хмуро:
– Я?
– Ты, – ответила Федосеевна и заплакала вдруг, не так, как обычно плакала, слезами пресными, а навзрыд, горько и беспомощно; и младенец бы понял, что любит она Старшину.
Старшина икнул, раз, другой, третий, словно большие бесы уже оставили его, а теперь через рот полезли щекотные бесенятки, безвредные, но докучливые, как мухи; рыдать не прекращая, стукнула его Федосеевна по спине, прорыдала:
– Не ты, не ты это! Это война твоя проклятая в тебе сидит!
И Кирилл почувствовал, что простила Старшину Федосеевна, совсем простила – и простит еще десяток раз, пусть он хоть всю деревню спалит, всю животину безвинную перережет. И если бы Старшина его, Кирилла, застрелил, Федосеевна оплакала бы – но простила.
Старшину отпустила икота. Приобнял он Федосеевну, в дом к ней повел, но глаз при виде гусей убитых не опускал – дескать, моя вина, знаю, но виноватить себя не позволю.
* * *
На следующую весну, когда Кирилла привезли на дачу, Старшины уже не было в живых. Говорили, пошел он зимой на охоту и погиб. Много снегу было, зайцы забор, сугробами заметенный, перемахивали, чтобы у яблонь молодые веточки погрызть. Под снегом Старшина и не заметил старый ход сообщения, с войны оставшийся, одной лыжей в него угодил, упал и ногу сломал; открытый перелом. Но не сдался, лыжи отцепил, пополз назад к деревне; стрелял из ружья, думал, услышит кто и поймет, что в беде он.
И дополз бы, но пурга сильная началась, перемело лыжню, сбился он со следа, заплутал. После пурги мороз ударил, выстудил лес; воздух промеж елей застыл, ни звука, ни шороха, все морозной хваткой сжато, только вода замерзшая в стволах расширяется, ломает изнутри стылую древесину.
Мороз сердце Старшины и остановил. Нашли его закоченелым, из леса вытаскивали на саночках, как дрова возят. Пошептывались в деревне, что ход-то сообщения был немецкий, и выходило, что немец, зимой сорок первого убитый, с того света Старшину за ногу схватил и за собой в погибель уволок.
О смерти Старшины Кирилл узнал случайно, разговор соседский услышал. Ему показалось, что мир стал просторней – словно почивший старик занимал в нем огромное, великанское место; словно зловещая туча с небосвода ушла.
Но пруд с гусями Кирилл стал обходить стороной, больше не играл на песочной куче. Гуси все так же паслись, новый гусак, отпрыск Фрица, стал вожаком, и Кирилла поражало, что гуси ничего не помнят, живут своей гусиной жизнью, для которой минувшее лето – где-то за горизонтом; нет памяти – нет страха. Он хотел научиться не помнить, заставлял себя забывать какую-нибудь мелочь, например что в воскресенье ели на завтрак, – и в отчаянии чувствовал, что память, наоборот, становится все более цепкой, глубокой, самовластной, будто Кирилл – лишь ее слуга. И он мечтал, чтобы у него была власть стирать дурные воспоминания, уничтожать вещи и места, которые напоминают о страхе.
Оттого Кирилл, догадавшись, что именно пустующий дом Старшины сгорел, и бежал во всю прыть – тропка водой залита, брызги летят, лягушки в стороны скачут, – крючок с калитки смахнул, цепь звякнула, собака из-за забора вслед пролаяла. Вот поворот, вот три сосны – уцелели в грозу, устояли; а вот…
Груда черных, страшных бревен; огонь уже погашен, но внизу, в кирпичах фундамента, в углях и золе, жив еще жар; грязный, вонючий пар поднимается над пепелищем.
Дом выгорел дотла. Кирилл догадывался, что, скорее всего, взорвался газовый баллон. Но чтобы дотла…
– Молния, молния ударила, – шептал кто-то. – Ровно в антенну.
Кирилл чувствовал, что люди не знают твердо, была ли на самом деле молния или соседям почудилось. Но люди уже верили; не случайный уголек выкатился из печи – молния, так выходило значительнее и жутче.
– Видишь, как Господь рассудил, – сказал кто-то из стариков, сказал без грусти, без сочувствия, словно признавая высший приговор.
И Кирилл стоял, не в силах поверить в случившееся. Федосеевна рыдала на руках у подруг, а он, хотя и знал, что стыдно это, нехорошо, – благодарил грозу и видел гусей, как ни в чем ни бывало пасущихся у пруда, и ему казалось, что одолели они вместе Старшину и страха точно не будет больше.
Но через неделю он с матерью ехал с дачи. На «Белорусской» в вагон метро вошел старик, одетый не по сезону тепло; наверное, ревматизм его мучил. Люди его заслонили, и Кирилл видел только руку – на фоне старой шинели и щегольских бурок белого войлока, полковничьих или генеральских, понизу лаковой кожей обшитых и швом тройным, фигурным, простроченных. И Кирилл узнал эту руку, неподвижную, как бы устало опущенную, но старой, матерой силы полную, силы, которая не в мясе – в самой кости, окаменевшей, древней.
Кириллу показалось, что это Старшина, он на самом деле жив – или ожил, приехал в город, сошел с электрички, пересел на метро; Кирилл в страхе спрятался за мать, стал смотреть украдкой: ему казалось, что Старшина явился за ним, его ищет.
Толпа схлынула, и Кирилл увидел, что старик – другой, ничуть на Старшину не похож. Старик вышел через две остановки, опираясь на палку и шаркая бурками; а у Кирилла перед глазами стояла его рука. И снова все вернулось:
– Ты подрасти, Фриц! Подрасти! Вот тогда…
И страх, и холод, и предчувствие обреченности – и обновленное знание, что есть меж людей Старшины, а есть гуси Фрицы, сводит их жизнь, ибо предназначены они друг другу, и ничего со смертью одного, дачного, Старшины не закончилось.
Так все окончательно сцепилось, уложилось в памяти. Когда шел дождь с грозой, с градом, – где бы он ни был – Кирилл вспоминал ту ночь на даче… ураган… падающие яблони… бабушку, стоящую у окна, охваченную страхом… запах гари со стороны деревни… опаленные потроха сгоревшего дома… Федосеевну и Старшину… кучу песка, за которой он прятался… мертвых гусей… голос Старшины: «Ты подрасти, Фриц, подрасти, вот тогда…»… огромные руки Старшины… И ему казалось, что все на свете – взрослые, а он остался ребенком, чувствующим свою незавершенность; что-то важное для достижения взрослости вынул из него Старшина, когда на его глазах убивал гусей, которых считал немецкими солдатами.
Ночь на даче… Ураган… Звук воды, отвесно падающей в дождевые бочки…
Он заснул – словно нырнул с водой в темный омуток бочки, в кружение пены и сбитой ветром листвы.
* * *
Кирилл проснулся рано, за окнами едва светало. Похмелья не было, только странная зыбкость, слабость в теле, будто прошлое выпило его силы сквозь узкую трубочку памяти. И тем отчетливее Кирилл ощущал, как что-то сдавливает правое запястье – будто каменная ладонь Старшины поймала и не отпускает.
Кирилл вытащил руку из-под одеяла, суеверно боясь увидеть отпечаток костяных пальцев мертвеца.
Нет, ничего. Это память. Память о наручниках.
Кирилл с бесстрастным удивлением понял, что вчера впервые за полгода не думал постоянно о том, что с ним произошло. Об аресте. О заключении, сменившемся подпиской о невыезде. Он уже не представлял себя без этих мыслей, привык без конца прокручивать в голове всю последовательность событий, судорожно прощупывать, проверять каждый стык – можно ли было поступить иначе, предугадать, избежать? А по дороге на дачу Кирилл забылся; он давно не был тут, дом помнил его еще свободным, и воздух в комнатах, запертых с осени, кисловатый простуженный воздух, пахнущий мышами, сушеным зверобоем, старым деревом, тоже был давний, прежний, как антикварная мебель в комнатах, черно-белые портреты родных; густой, будто колдовской настой забвения.
Но теперь мысли снова побежали по кругу. Майский день, митинг, тысячи человек; флаги, плакаты, наивное чувство победы, которому Кирилл поддался, хотя пошел на митинг как историк, чтобы увидеть в действии ту стихию, которую изучал; потом – полицейские, щиты, шлемы, дубинки, десятки телефонов, снимающих людское месиво, чересполосицу ног, рук, дым от горящего файера, кого-то волокут, кто-то отбивается от полиции – и где-то среди тел и лиц не замеченный тогда зрачок видеокамеры в руках одетого в штатское оперативника; там, в зрачке, пойманный в линзу, мечется уменьшенный, оцифрованный Кирилл, словно пытается докричаться до себя-большого, предупредить об опасности.
Аэропорт, рейс из Берлина, странная задержка на паспортном контроле – пограничник долго листает паспорт; наконец Кирилла пропускают, и тут же подходит полицейский; «пройдемте» – и он идет, спрашивает, в чем дело, но уже идет… Допрос, дорога в СИЗО – темнота, ничего не помнит, будто внутри погасили свет; только едут, едут перед глазами чемоданы на ленте транспортера.
И снова митинг, лица, лица в зрачке камеры, из которых потом следователи будут выбирать обвиняемых, приписывая им сопротивление полиции; и снова мысли – почему выбрали его, по каким тайным причинам? Кирилл знал, что это случайность, но поверить в чистую случайность было еще страшнее, чем думать, что он где-то оступился, где-то неверно себя повел и лишь поэтому события повернулись так, как повернулись.
Он вновь ощутил то чувство, что преследовало его в СИЗО: что арест, заключение происходят не с ним, Кириллом, а с каким-то составляющим отдельную часть него Кириллом-внуком, Кириллом-правнуком; не с индивидуумом, а с единицей рода, наследником родового рока. Иногда Кириллу даже казалось, что это чувство спасительно, оно дает объяснение случившемуся, дает ответ на вопрос «почему».
Когда объявили, что он амнистирован, несообразно моменту Кирилл вспомнил, как однажды в детстве гулял один в лесу – и вдруг его охватил невыразимый страх. Ему казалось, что нечто огромное, бесплотное и слепое движется через лес, проницая собой деревья, и это огромное почуяло присутствие Кирилла внутри себя, как человек чувствует колкую еловую иголку, попавшую под рубашку; нечто остановилось и пытается ощутить его; сам прохладный лесной воздух, овевающий кожу, стал прикосновением этого существа. Секунда, две, три – и нечто продолжило движение, растворилось в лесу, оставив только память о касании и страх.
И при известии об амнистии Кирилл испытал что-то подобное; такое же слепое нечто коснулось его судьбы – и ушло; а он остался стоять, вслушиваясь в звуки леса.
Кирилл медленно прошелся по дому, заглянул в кабинет, где накануне вечером сидел у компьютера.
При свете дня кабинет выглядел иначе. Косые лучи освещали книги, снятые в библиотеках копии документов, папки, фотографии, карты – его труд, его замысел последних лет; десять раз перечитанные, пересмотренные, знакомые каждым загнутым уголком; все, что он сумел найти об истории семьи.
Но теперь благодаря ярким лучам солнца Кирилл чувствовал, что произошедшее с ним как бы иначе осветило прошлое, бросило на него новый, смещающий тени блик; и будто бы буквы, цифры, изображения под обложками очнулись, ощутили между собой новые, не бывшие прежде связи смыслов; сами собой сложились в книгу, которую он так долго хотел написать и не мог даже приступить к ней.
Многие годы он был в позиции автора, собирателя чужих жизней, обладающего ретроспективным прозрением в прошлое. Но, как и его герои – его предки, Кирилл был слеп в отношении будущего, нового будущего, не продлевающего, а упраздняющего нечто старое. И настал момент, когда он узнал все, что хотел узнать, был готов начать свою книгу; но именно в этот же момент он из автора стал персонажем; жизнь подхватила его текст и своенравно вписала новую главу.
Он еще не решил, уедет ли из страны, останется ли. Но теперь отчетливо ощутил, что путь в будущее лежит через книгу.
Здесь, в загородном доме, хранятся бумаги из семейных архивов разных лет, письма, дневники, фотографии, те материалы, что он собрал: документы, статьи, выписки; тысячи, тысячи страниц, рукописных и печатных, еще открытые, готовые говорить с ним, с Кириллом, связанные с ним сотнями нитей памяти, удерживающих единство замысла, хранящие в себе недопонятое, не увиденное, ждущее быть узнанным и сослужить свою службу. И нужно пройти дорогой книги – от замысла, от самого детства, когда он впервые почувствовал свою особую связь с прошлым, – чтобы семейный рок отпустил его.
С чашкой кофе Кирилл вышел на крыльцо.
Глотнул кофе, прикурил сигарету. Ему предстояло совместить все сюжеты, факты, воспоминания чужие и свои, окружающие его, как галактика; галактика, берущая начало, распространяющаяся на четыре стороны света от одной-единственной вехи, соединяющей времена: старого, покрытого зеленым и черным мхом известнякового памятника на Немецком кладбище в Москве.
* * *
В детстве раз в месяц, не реже, бабушка Лина говорила Кириллу: в субботу поедем на Немецкое кладбище.
Она загодя собирала сумку: совок, чтобы окапывать цветы, огрызок веника – вымести листву, коробочка с зубным порошком – протереть мраморную плиту, быстро темнеющую от сырости и прели. Дед предлагал поехать на машине, бабушка отказывалась; по каким-то внутренним причинам она предпочитала путь пешком от метро «Авиамоторная».
Дед, отец и мать ездили с ней редко. Но когда Кирилл пошел в школу, бабушка Лина стала ненавязчиво, будто стесняясь, просить его помочь, говорила, что с ним ей будет легче идти. Родители и дед не перечили, а сам Кирилл, хотя и чувствовал странность в том, что бабушка избрала в постоянные спутники именно его, скоро нашел в этих поездках таинственную притягательность ритуала.
И вот они шли по Авиамоторной улице мимо необычных домов послевоенной постройки: четырехэтажек с остроугольным крышами, неуловимо немецких, и Кириллу казалось, что это бывшая Немецкая слобода распространяет в округе свои флюиды, меняя архитектуру. Салатово-зеленые, крытые шифером, дома эти, по рассказам бабушки, раньше были белеными и крытыми черепицей.
Потом поворачивали налево, проходили мимо школы, ямы от бывшего пруда. Из-за густых тополей показывалась красно-лилово-бурая – такого цвета Кирилл больше нигде не видел, он казался ему нездешним, привезенным из-за границы, – высокая стена. В ней – три ряда неглубоких кирпичных ниш, похожих и на кресты, и на абстрактные человеческие фигуры; множества упокоенных душ. За стеной росли такие же деревья, но чуткое сердце уже приписывало им иное значение – это были клены и липы кладбища, смотрящие с высоты своих крон в темную бездну могил.
Еще поворот направо, по асфальтовой дорожке, и за лотками с искусственными цветами появлялись ворота: краснокирпичные, с пятью остроугольными башенками, с посеребренными шпилями, похожие на фасад кирхи.
Проходя через ворота, Кирилл вздрагивал. Город, где все ему было привычно, и старые особняки, и новые панельные дома, оставался снаружи, за кладбищенской оградой. За воротами открывалось пространство, к которому привыкнуть невозможно, словно неведомая сила перенесла издалека огромный кусок земли, прижились на нем московские травы, пустили корни московские клены, а все ж ощущаешь: это чужая земля.
Своя, но чужая. Чужая, но своя.
Беря пример со старших, Кирилл никогда никому не рассказывал, что их семейная могила на Немецком кладбище. Так было принято в семье; и Кирилл дорожил причастностью к непонятной ему тайне, похожей на проклятие.
Бабушка Лина никогда не вела его к могиле прямым и простым путем, по главной аллее. Они поворачивали то влево, то вправо, шли узкими дорожками среди обветшалых заколоченных склепов, покосившихся памятников с надписями на немецком, английском, французском. Иногда бабушка останавливалась перевести дух – дорожки карабкались по склонам холма над забранной в трубы речкой Синичкой, – словно отдавала дань памяти кому-то неведомому. Скоро Кирилл заметил, что останавливается она всегда в одних и тех же местах – то ли сил ее каждый раз хватало на одинаковые отрезки пути, то ли вправду она безмолвно поминала кого-то. Кирилл стал присматриваться к этим местам, но ничего не мог понять: черные, похожие на слитки темноты, добытые во мрачных глубинах ночи, диабазовые памятники хранили чужестранные имена, ничего не говорящие ему, и даже всей силой воображения он не мог связать эти имена с бабушкой.
Потом они приходили к низкой, вросшей в землю оградке; там среди папоротников стояла небольшая могильная плита серого мрамора: Софья Уксусова, 1884–1941. Это была могила прабабушки Кирилла, матери бабушки Лины. А справа и слева – тоже внутри оградки – высились два известняковых монумента. Правый был похож на комод, на нем едва проступали полустертые, выеденные морозами, дождями и ветрами буквы готического шрифта. Левый был как алтарь; с каменной тумбы спадало каменное алтарное покрывало с кистями, поверх лежала вырезанная из камня раскрытая книга.
Кирилл не понимал церковных символов, в семье не молились и в церковь не ходили. Он лишь чувствовал тяжелую значительность каменной Книги и, когда бабушка Лина отворачивалась, смотрел украдкой: нет ли на каменных страницах букв? Кирилл знал, что нет, но почему-то верил, что буквы есть и однажды явятся.
Надпись же на правом обелиске Кирилл никогда вплотную не рассматривал; ему казалось, что те буквы отталкивают взгляд, не позволяют себя читать, словно тот, кто упокоен под камнем, замкнулся в своей смерти и ничего не хочет от мира живых.
Книга. Его глубоко волновала только каменная книга в назидательной простоте ее пустых страниц.
Кирилл чувствовал смутный вызов, исходящий от нее: имеющий право да прочтет. И он ходил с бабушкой на кладбище ради этой книги, как будто книга звала его к себе, о себе напоминала, в каком-то смысле растила – для себя.
А еще Кирилл не мог понять: почему прабабушка похоронена именно на Немецком кладбище? В чуждой земле? Кто и почему провел ее душу через иномирные врата с башенками?
Бабушка Лина отвечала: прадедушка работал в военном госпитале, что наискосок через дорогу от кладбища. Вся семья жила в госпитальном флигеле. Когда прабабушка Софья умерла, ее похоронили рядом с домом, там, где власти выделили кусок земли как бы поверх старых могил.
Объяснение было правдоподобным: среди старинных памятников часто попадались новые, советские – генералы и офицеры, умершие в госпитале, инженеры, профессора, артисты; русские, украинские, белорусские, еврейские фамилии смешивались с немецкими в многослойный спорящий палимпсест.
Кирилл верил объяснению, совершенно убедительному, – и все же верил не до конца; каменная Книга как будто подсказывала, намекала, что есть и другая правда. И Кирилл подсознательно ждал, что эта правда когда-то откроется: буквами на известняковых страницах.
Иногда на следующий день, в воскресенье, бабушка ездила еще и на Донское кладбище. Туда она не брала с собой Кирилла, и лишь изредка сопровождали ее родители. Это была просто «поездка на кладбище» – как бы ни к кому, так, провести время. Бабушка говорила, что там похоронены друзья ее юности, но не называла кто; впрочем, на Донское она отправлялась нечасто. Лишь один раз, ранней осенью, она взяла с собой Кирилла; это был, кажется, восемьдесят второй год.
Они проехали на трамвае от «Шаболовской». Бабушка, обычно бережливая до скуповатости, купила большой букет красных гвоздик. Букет нес Кирилл. Он чувствовал тяжесть угасающих цветов, долго пивших мутную воду в магазинной вазе, отравленных этой водой, уже незримо начавших гнить; чувствовал, как слабеют позвонки стеблей, уходит их упругость, и ему казалось, что гвоздики вот-вот расползутся, вытекут из рук клейкой, похожей на скользкое лыко кашицей.
Они прошли прямо к крематорию. Кирилл издали заметил его: индустриальная машина смерти, модернистский павильон, увенчанный зловещей зубчатой башней. Скорбные фонари у двери, тяжелая грубая арка, ведущая в сумрак портика; конструкция, противоположная по облику и смыслу светлым, праздничным, украшенным колоннами и лепниной, цветами и снопами павильонам метро. Кирилл узнал его – мрачный вход в подземное царство, в Метро мертвых.
Это Метро мертвых Кирилл придумал сам.
Иногда какие-то здания в городе, ничем особо не примечательные, – заброшенный особняк, трансформаторная будка, поросший травкой горб бомбоубежища – бросали его в необъяснимую дрожь. Ему чудилось, что они – входы в потусторонний мир и соединены между собой темными подземными путями.
Наверное, Кирилл слышал слухи о секретных ветках метро, ведущих из Кремля на ближнюю сталинскую дачу, в тайные военные бункеры под Москвой.
В его сознании эти слухи превратились в образ другой, опрокинутой Москвы, куда можно попасть через мавзолей Ленина или другие, неприметные, станции; Москвы, где в призрачных вагонах по призрачным рельсам, проницая само вещество камня, вечно едут мертвецы, и вагоны эти очень старые, с пухлыми диванами, с желтыми панелями внутри, какие дослуживали свой срок на старых линиях.
Что за мертвецы, почему они обречены вечно скитаться под землей, в отличие от той же прабабушки, честно спящей в могиле, Кирилл не знал. Он редко вспоминал про Метро мертвых: только когда видел очередное странное здание, которое могло быть входом туда, или сталинскую высотку у Красных ворот, где на первом этаже сделан выход обычного метро, – и представлял точно такие же пирамидальные высотки, зеркально опрокинутые под землей, где живут – существуют – те, кто когда-то населял верхний мир, надземные этажи; дома с магазинами, где продают мертвую восковую еду, с окнами, распахнутыми в земные недра.
Крематорий на Донском показался Кириллу вторым после Мавзолея Ленина парадным входом в Метро мертвых. Вокруг толпились люди, сдавал задом кургузый желтый автобус, не специальный из морга, а обычный пассажирский, – наверное, кто-то из сослуживцев покойника договорился, «выбил» транспорт. В толпе стояли в основном мужчины; в нелепых костюмах, громоздящихся поверх фигуры, седые, лысоватые, мрачные и суетливые, не знающие, как лучше встать, как вести себя, словно на этот счет не существовало никаких инструкций и потому они чувствовали себя потерянными.
Проглатывая матерщину, шестеро с траурными повязками вытащили гроб через пассажирский вход; зацепившись за дверь, оторвалась алая витая лента. Служитель в синей спецовке отворил двери зала прощания.
Провожающие нестройно пошли внутрь – и с ними бабушка Лина. Она незаметно встала в очередь прощающихся и положила букет гвоздик в изножье гроба. Кирилл не понимал, что происходит, но бабушкина ладонь легла на его плечо: стой, смотри. Их букет вместе с другими цветами закрыли крышкой, и гроб по маленьким, игрушечным рельсам, подрагивая на неровностях, поехал внутрь крематория, за все двери, за стальные заслонки, в печь – в смерть.
После они гуляли по дорожкам кладбища. Кирилл, привыкший к тому, что бабушка – всегда бабушка, мякотка, бархотка, бархатная подушечка для иголок, мелькающие спицы, вяжущие шерстяной ласковый шарф, байковая, обшитая по краям, тряпочка – протирать очки из черепахового очечника, – вдруг ощутил, что привычная старость ее – отчасти напускная, что в ней существует другой человек, старый неведомой ему, мальчику, твердой, как слоновая кость, старостью, старостью упорных вещей, переживших войны, эвакуации, лишения, и не потому, что их берегли, спасали, увозили в чемоданах, узлах, – а потому, что в них изначально была способность уцелевать, не зависящая от усилий владельцев; способность противостоять рассеянию, не растрачиваясь в противостоянии.
А бабушка шла по дорожкам, будто разговаривала с кладбищем, со всеми могилами, деревьями, падающими листьями, стенами колумбария, церковью, домами за кладбищенской оградой, оплывшими башнями монастыря, отчужденно шумящими дорогами, уводящими прочь из города, к осенним редеющим лесам, где зарождается смертный сон зимы, к мелеющим, утихающим рекам.
Кирилл чувствовал, что слова ее ищут кого-то, чей призрак мог мелькнуть здесь, на кладбище – и в сотне других мест; он шагал молча, отложив все вопросы, догадываясь, кому были отданы гвоздики, сгоревшие уже, ничего не добавившие к дыму, поднимавшемуся над крематорием.
Прадед Арсений. Тот, кого не было в могиле на Немецком кладбище. Он как бы подразумевался там, но отсутствовал; Кирилл знал только, что он был военным врачом и погиб на фронте. Могила затерялась в отчаянной суматохе отступлений, а когда спустя три года Красная армия, наступая на запад, пришла в эти места, некому было опознавать, где и кого хоронили: и рядовые, и офицеры ранних призывов были выбиты подчистую, все легли в землю.
Кириллу показалось, что бабушка, сжигая цветы в печи крематория, возносит заупокойную жертву пропавшему отцу, будто часть его души еще живет в воздухе и способна уловить этот горький дым. И – что поражало Кирилла потом, взрослым – он не нашел ничего удивительного или загадочного в ее поступке, так как всей предшествующей жизнью был приготовлен изобретать не слишком правдоподобные, но тем не менее работающие, сопряженные с реальностью объяснения странным действиям взрослых, их непонятным ритуалам, их умолчаниям о прошлом.
Год за годом Кирилл ездил с бабушкой на Немецкое кладбище, год за годом – до подросткового возраста – ощущал чары каменной книги на каменном алтаре.
Бабушка Лина старела, теряла силы. Теперь он поливал цветы, сгребал листву, а она сидела на маленькой скамеечке чугунного литья, как раз для одного человека, пришедшего погрустить о милых сердцу. Порой бабушка просила протереть оба известняковых монумента – когда пауки развешивали на них паутину или растаявший снег оставлял грязные разводы.
Выходило так, что Кирилл – по научению бабушки – ухаживал за осиротевшими памятниками, потерявшими своих живых. И все чаще она оставалась дома, а он ехал на кладбище один.
Иногда Кирилл и не заходил на семейный участок, просто гулял, глядя в лица статуй, усмехаясь тщеславным эпитафиям, серьезным фотографиям в овальных рамках – одним и тем же и для доски почета, и для могилы. Здешние жители уже не имели привычек советских людей, вышли из партии, не участвовали в демонстрациях на Первое мая и Седьмое ноября, не читали репортажи «Правды» об уборке урожая, не слушали речь генсека – и Кирилл отдыхал с ними, как с приятными необременительными соседями.
Немецкое кладбище стало частью его внутреннего ландшафта: он вспоминал его деревья, аллеи, памятники, когда в нем искали себе образов размышления о судьбе, истории, связи поколений, о любви, родстве, отчуждении, одиночестве.
Кирилл изучил историю кладбища – писаную и неписаную. На одном из склепов была мозаика: Харон везет душу на скалистый остров, поросший кипарисами. И кладбище казалось ему таким островом, с которым даже советская власть ничего не смогла поделать. После путча, после распада Союза он подсознательно ждал чего-то подобного возвращению, воскрешению мертвецов – ибо кончилась загробная власть фараона, лежащего в гранитной пирамиде на Красной площади.
Однажды той осенью бабушка Лина сказала Кириллу, что завтра нужно ехать на кладбище, убрать листья. Листопад еще не закончился, но Кирилл не обратил внимания на эту деталь: накануне бабушка прихварывала, а если предложила ехать, значит, дела ее пошли на поправку.
Наутро они отправились привычным маршрутом, но у кладбища бабушка повела его к цветочному магазину, делившему пристройку с гранитной мастерской.
В семье Кирилла никогда не носили цветы на могилы, даже в дни поминовения. Изредка привозили с дачи, обернув во влажную тряпицу, букет полевых цветов – ромашек, лютиков, колокольчиков, иван-да-марьи. Непритязательный этот букет подчеркивал, что нашим мертвым ничего не нужно, они скромны в своих просьбах к живущим, не ждут ни роз, ни гиацинтов, ни хризантем; только ничтожные цветы полей, где они любили гулять при жизни, только робкие, недорослые соцветия, не знавшие ласки и ухода, которые вянут так же, как росли – не имея единичного достоинства и красоты.
Кирилл с бабушкой зашли в магазин. Гвоздики, тюльпаны – и розы, несколько сортов. Особенно хороши были одни, бордовые, крупные, свежие, с крупными крючковатыми шипами на стеблях, словно пришли они не из райского сада, где растения обитают в согласии, а из преисподней, где цветы сражаются друг с другом, рвут шипами чужие листья, запускают острый шип в сердце нерожденного бутона.
Бабушка, к удивлению Кирилла, выбрала именно эти розы – и купила весь букет, тридцать, сорок штук. А ведь розы она не привечала, если дарили – отставляла вазу подальше на подоконник. Ее любовью были фиолетовые ирисы, их она вышивала на подушках, словно переносила из давнего счастливого лета памяти.
Продавец перевязал розы бечевкой. Они двинулись сквозь немецкие ворота с острыми башенками, покрытыми серебряной чешуей, с простым чужим крестом без нижней диагональной поперечины; невеселые ворота красного кирпича.
Накануне в городе был ураган. Кладбище, средоточие покоя, преобразилось. В сплетении крон зияли прогалы, торчали меж могил сломанные стволы – ветер был так свиреп, что не валил, постепенно раскачивая, а одним ударом ломал деревья. Погнутые прутья оград, скорчившие металлические гримасы, опрокинутые тяжелыми ветвями памятники; кладбищенские рабочие пилят выворотень старого тополя, корнями выволокший из могилы истлевший гроб и кости мертвеца.
Кирилл никогда не опасался, что с могилами на кладбище может что-то произойти. Квартиру могли затопить соседи, дачу – сжечь молния. Но потемневшая мраморная плита, известняковый алтарь с Книгой – все события тут уже произошли, и длилось только вековое старение камня. Однако он почувствовал, что ураган – лишь эхо загробной бури; на день, на час – кладбище пробудилось.
Они прошли с бабушкой мимо часовни, исписанной суеверными пожеланиями взаимной любви и просьбами об удаче на экзаменах; мимо оплетенной кандалами могилы тюремного врача немца Гааза, мимо указателя «Нормандия – Неман» – к братской могиле французских летчиков из воевавшей с Люфтваффе истребительной эскадрильи, похороненных – то ли случайность, то ли ирония – рядом с огражденной пушечными стволами стелой над захоронением солдат Наполеона, умерших в московских госпиталях.
Наверное, неподалеку жгли упавшие ветви, но Кирилл воспринимал этот запах как дым истории, дым московского пожара 1812 года, после которого был отстроен новый город, куда и приезжали в XIX веке открывать дело или поступать на службу все те, кто покоится на кладбище: генералы, чья грудь увешана каменными орденами, шоколадные короли-фабриканты, похороненные под черными диабазовыми тумбами; инженеры, врачи, торговцы, священники, служившие в иноверческих церквях.
В советском детстве он воспринимал посмертные следы их бытия как тщетные символы давно ушедшего времени. А тут внезапно ощутил, что кладбище живо. Витиеватым шрифтом на немецком, французском, английском, на десятке других языков мертвые говорили, что родились в городке, которого, может быть, уже не существует или он принадлежит другой стране, и дома того нет, разрушен бомбой с «юнкерса» или «летающей крепости», снесен корабельной артиллерией, уничтожен гаубичными снарядами или ракетами «катюш», и церковный архив с актами о рождении сгорел, и последние родственники эмигрировали за океан, погибли в Освенциме, были депортированы в Сибирь, – мертвецы сокрылись тут, на случайно уцелевшем кладбище, как в ковчеге, и теперь свидетельствовали перед лицом Господа и о себе, и о несчастных погибших потомках, разбросанных по свету, лишенных надгробных камней, не присоединившихся к отцам, дедам и прадедам под сенью фамильного склепа.
Сиротство мертвых. Ошеломляющее, вопиющее сиротство мертвых увидел Кирилл, впервые осознав, сколько тут брошенных могил, на скольких памятниках последняя дата смерти начертана еще до революции – и все, обрыв, провал… Он вспомнил ничейный, заросший мхом могильный камень на их участке – чей он, чье имя на нем выбито?
Бабушка Лина шла медленно, опираясь на его руку. Он чувствовал грузность ее тела, шелестящие шумы, шорохи ее усталой крови, всхлипы легких. Вот он – груз существования, подумал Кирилл и впервые представил, что бабушка будет здесь, на кладбище, навсегда. Он мгновенно устыдился этой мысли – и догадался по ее взгляду, что она понимает, о чем он подумал, но не оскорблена; с ее конца жизни эта мысль выглядит иначе, чем с его.
У поворота с главной аллеи лежали грудой обломанные ветви клена. Листья, еще вчера свежие, начали подсыхать, превращаться в пергамент, их прожилки – сгибаться и костенеть, как птичьи лапки; листья пахли так остро, что казалось, с запахом отлетает их зеленое, легкое бытие.
На повороте бабушка пропустила Кирилла вперед – дорожка была слишком узка для двоих. Он пошел, припоминая, что прежде она всегда вела его; случайно ли теперь он первый?
Здесь, на дорожке, как в своем подъезде, он уже знал всех соседей. Слева – генерал-лейтенант, заслуженный артиллерист, имевший в советское время негласное право на роскошное, нетиповое надгробие – остроугольную плиту лабрадорита; справа – провизор немецкой аптеки Карл Готлиб Шульц и потомство его, в третьем поколении потерявшее немецкую фамилию; затем инженер-полковник Вотякин; англичанка – домашняя учительница, мэтресса в пансионе? – скончавшаяся в первый год нового XX века, напротив безымянный проржавевший крест, потом семейство Симпельсон, которых Кирилл помнил потому, что их дочка Радочка умерла в сорок первом одиннадцати месяцев от роду; крестьянские лица Семеновых, чьи имена выбиты поверх прежних немецких на старом обелиске; снова британец, «Зачем покинул ты родной Уэльс?» – написано так, словно это строчка из песни – а может, так оно и есть; заросшая сорной травой могила поляка Людвиковского – кто хоронил его в тридцать седьмом? – а дальше приветный куст бузины, родная, ушедшая в землю чугунная оградка с воротцами, с башенками на столбиках, с тяжелым засовом, который нужно смазывать маслом для швейной машинки, – пришли, пришли, пришли.
Он отпер воротца – раньше это тоже делала бабушка. Она села передохнуть на маленькую, горевательную, как она ее называла, скамеечку; Кирилл привычно вытащил веник.
– Погоди, – сказала бабушка. – Не сейчас.
Она достала из сумки новую блестящую металлическую сеточку, какими драили посуду. Кирилл спохватился – а все ли с ней в порядке, зачем здесь нужна эта вещь? Что мы собираемся мыть?
А бабушка решительно встала, подошла к чужому памятнику, к известняковому монолиту, обрамленному по граням резьбой, похожему на увеличенные в размере старинные настенные часы. От дождей, пыли, грязи камень был дик, порос лишаем и мхом, покрылся зеленоватой патиной, и лишь с большим трудом можно было разобрать, что на нем вообще что-то написано.
Бабушка подошла к нему так, словно имела право, словно известняковый монумент ждал ее. Она уже не была привычной, знакомой бабушкой, матерью отца – а кем-то, кто состоит в связи с неведомым, кто супруга пропавшего без вести, сестра ночных пустошей, дочь Гражданской войны, внучка Цусимской катастрофы, правнучка освобождения крестьян.
Бабушка с усилием провела сеточкой по камню, раз, другой, третий; посыпался присохший лишай, мелкая известковая пыль. Под ее рукой, счищающей коросту времени, возникали ясные, твердо вбитые в камень буквы немецкого алфавита: Ba; Baltha; Balthasar; Balthasar Sc; Balthasar Schwe; Balthasar Schwerdt; 1805—1; 1807–1883.
BALTHASAR SCHWERDT
1805–1883
Бабушка чуть отошла в сторону – деликатно, чтобы не затоптать папоротники на могилах, – посмотрела на монумент, будто сверяясь с памятью, а потом снова провела сеточкой по известняку ниже первой надписи, ближе к земле, где мох и лишайник гуще, грязь чернее; и снова под ее рукой за скрежетом металла о податливый мягкий камень стали возникать глубокие внятные буквы.
CLOTНILDE SCHWERDT
1818–1887
ANDREAS SCHWERDT
1856–1917
Бабушка глазами показала Кириллу – подойди; пропустила ближе к надгробию, положила руки на плечи, развернула грудью к памятнику, жестко удерживая, как в детстве, когда она вправляла ему осанку, – и не замечая, что делает больно, пальцы ее давят на плечи с нестарческой силой.
Казалось, огромная внутренняя энергия, что десятилетия держала под замком знание об именах в камне, теперь должна была быть выплеснута в одно мгновение – и бабушка Лина не знала, что с ней делать, не умела справиться и потому сжимала, сжимала плечи Кирилла, а он, будто впервые читая буквы латиницы, пробовал на вкус это шоркающее SCHW, не понимая, как верно прочесть.
– Швердт, – сказала бабушка. – Бальтазар Швердт. Так звали одного из волхвов. Каспар, Бальтазар, Мельхиор. Клотильда Швердт. Андреас Швердт. Ш-ве-р-дт, – повторила она, и Кириллу показалось, что эти звуки опьяняют ее нёбо, пузырятся шампанским в альвеолах. Ш-ве-р-дт – отверзается камень, приваленный ко входу в пещеру, и выходит воскресший в погребальных пеленах, тронутый тлением, но невредимый.
Бабушка Лина что-то прошептала по-немецки, словно хотела удостоверить, закрепить явившиеся буквы, не дать им исчезнуть.
Кирилл никогда не знал, что бабушка говорит по-немецки, и потрясение было таково, как если бы заговорил камень; а камень и вправду заговорил.
– Это твой пра-пра-прадед, – сказала бабушка, испытывая, кажется, странное удовольствие от повторения «пра-пра». – И пра-пра-прабабушка, и их сын. Господин и госпожа Швердт. Schwerdt, – повторила она, но именно по-немецки, не по-русски, и Кирилла еще раз поразило совершенство ее произношения.
И только потом он понял, что сказала бабушка, как связала себя, его и безымянный прежде памятник.
BALTHASAR SCHWERDT
CLOTНILDE SCHWERDT
ANDREAS SCHWERDT —
навсегда, на всю жизнь, до самой смерти, которая случится здесь же, под этими деревьями, в этой земле.
– Дай мне цветы, пожалуйста, – сказала бабушка Лина.
Теперь Кирилл понял, почему она выбрала именно эти розы. Торжествующие, умением селекционера лишенные знания о неизбежной смерти, которое живет в покорных, несмелых линиях простых цветов; и не ирисы из летнего сада памяти, а победительные розы, знаменующие не ностальгию, а триумф, викторию, одержанную над забвением.
Кирилл достал перочинный нож, чтобы разрезать бечевку на розах. Лезвие соскочило, чиркнуло по указательному пальцу, из ранки выступила капля крови. Кирилл завороженно смотрел на кровь – впервые не просто физиологическую субстанцию, алую, невинную влагу тела, а средоточие темных тайн. Раньше его кровь была его кровью, на которую иногда имеют право медсестры, набирающие ее в шприц; а теперь стала словно чужой, текущей в его жилах, но не до конца принадлежащей ему.
Кровь вдруг предстала как смесь, микстура кровей, несущих разное наследство, разный заряд судьбы, вскипающих от соприкосновения, вечно ссорящихся в споре за главенство. И вся его жизнь, неустойчивая, разнонаправленная, не знающая, куда себя приложить, полная суеты, бесталанного времени, вдруг получила объяснение в этом споре кровей.
Стоя у могильной ограды, он увидел каменную книгу на алтаре, ту, от которой ребенком ждал чуда, верил, что однажды на пустых страницах проступят буквы. В детстве он считал ее единственной в мире; теперь понимал, что это жанровый памятник, на кладбище есть точно такие же, с каменным алтарным покрывалом и витыми шнурами по углам. Но, по удивительной случайности или упущению, страницы других книг были с назидательными надписями, например «Придите ко мне все нуждающиеся в покое» или «В поте лица твоего будешь есть хлеб, пока не возвратишься в землю». А их, его книга – одна! – была пуста.
И уже не детским, а взрослым трудным чувством Кирилл уловил, что наитие ребенка было верным: эту книгу, открывающую тайну фамилии Швердт, собирающую, созывающую всех, кто лежит здесь, на Немецком кладбище – и в землях разных стран, кто ушел на дно морское, кто рассеян с дымом, о ком ничего не ведают даже мертвые, ибо он не явился на загробный пир, – предстоит писать ему.
Отведя глаза от каменной книги, Кирилл вдруг увидел кладбище новым взглядом. Оказалось, прежде он смотрел поверхностно, замечал, оставлял в памяти формы и цвета: деревья, аллеи, склепы, обелиски, цветы, кресты. Теперь же, будто бабушка стерла патину, серый мох со всего пространства, придала взгляду Кирилла резкость и глубину, он стал различать то, во что никогда не вглядывался раньше. Кладбище попыталось заговорить с ним, обнаружив все свои скрытые символы. Они были всюду, смотрели из тени, из-за ветвей, с монументов.
Первым он заметил масонский треугольник со Всевидящим оком, оком Бога, помещенный в центр каменного солнца с остроугольными, похожими на старинные мечи, лучами; заросшее рыжеватым мхом, покрытое зеленоватой ряской, Око – не больше ладони размером – пряталось под рельефной аркой памятника, скрывающей его в тени.
Кирилл вздрогнул: ему показалось, что каменный зрачок действительно смотрит на него. И, встретив взгляд-из-камня, он стал различать иные знаки, разбросанные вокруг.
Звезды, вписанные в круг; звезды барельефные и горельефные; кресты готические, романские и кельтские, выбитые в камне; кресты, перевитые тканью с лентами; кресты, перевитые лозой; колосья, снопы пшеницы и грозди винограда; листья дуба и листья клевера; цепи; медальоны с ангельскими крыльями; лиственные и цветочные орнаменты; мраморные венки, где различим каждый цветок – вот ромашка, вот роза, вот колокольчик; трезубые якоря, подвешенные к венкам; амфоры, сосуды скорби, утончающиеся книзу и перевитые лентами на узком горле; величавые кубки; шестиугольные звезды, вписанные в венок; лавровые ветви, масличные ветви, пальмовые ветви – тоже перевитые лентами у чисто срезанного черенка; цветные мозаики – синие квадраты, зеленые ромбы, черные треугольники, синие треугольники; скрещенные мечи и скрещенные ятаганы; львы рычащие и львы спящие; распростершие крылья орлы; плывущие рыбы; молоты, топоры и кирки; переплетающиеся кольца, стрелы, колчаны, летучие мыши; иные знаки, чей смысл Кирилл не мог разобрать.
Кирилл понял, что для него все эти символы так же далеки, как египетские иероглифы или шумерская клинопись; он нем для этого языка, он может назвать его знаки – крест, перевитый лозой, лист клевера, амфора, скрещенные мечи, – но не знает, что они означают. Он впервые видел кладбище глазами бабушки, для которой, как он догадался, эти образы были естественной частью жизни, но для него, родившегося в Советском Союзе, знавшего только красные звезды, серпы и молоты, они – предыдущие, старшие – были мертвы.
Он понимал советские символы; читая надгробную надпись: «Первый зам. министра среднего машиностроения», умел расшифровать зловещую абракадабру МИНСРЕДМАШ, обозначающую на языке государственных тайн ведомство, ответственное за атомный проект СССР, или взвесить на весах иерархии какого-нибудь генерал-лейтенанта – по его орденам, выбитым в камне; но, даже прочитав Библию, не мог сказать, что означает увитый лозою крест, не мог принять его в сердце.
Бабушка подарила ему не только нежданных предков. Перед ним открылся мир иной культуры, молчащий, но живой, мир, к которому он принадлежал по долгу наследства, по праву бешеной, неутомимой крови, в которой текут все времена и звездное небо. И Кириллу предстояло выучить этот старый язык, заговорить на нем, ибо он был дорогой в прошлое, туда, где на бледных лугах асфоделей бродили тени Бальтазара Швердта и Клотильды Швердт.
Бабушка смотрела на Кирилла с пытливым ожиданием: поспешит ли с вопросами? Упрекнет ли в молчании? И он, хотя слова уже готовы были сорваться с языка, промолчал, поняв, что не только бабушка оценивает его сейчас – Око Бога и десятки других незримых глаз. Тот ли? Справится ли? И он с внезапной твердостью пообещал себе, что справится, – последний из рода, знающий теперь, зачем родился на свет, к чему предуготавливала его жизнь, посылая знаки, расставляя ловчие сети.
Бабушка показала, что пора уходить; Кирилл закрыл чугунные воротца, оглянулся на букет роз, багровеющий у подножья памятника, еще полчаса назад бывшего просто глыбой камня, а теперь ставшего осью мира, точкой отсчета.
Бабушка пошла по тропинкам, которыми она водила Кирилла в детстве, как бы невзначай останавливаясь в нескольких местах. Кирилл теперь догадывался, что каждая остановка и вправду что-то значила, что-то отмечала. Кладбище превращалось в загадочный лабиринт, в призрачный светский раут, будто все, с кем были родственны, дружны или знакомы Бальтазар и Клотильда Швердт, с кем встречались они в московском кругу, – тоже лежащие здесь, – очнулись, потянулись к живому, спустившемуся в их царство.
Покинувши недра Эреба, К яме слетелися души людей, распрощавшихся с жизнью. Женщины, юноши, старцы, немало видавшие горя, Нежные девушки, горе познавшие только впервые, Множество павших в жестоких сраженьях мужей, в нанесенных Острыми копьями ранах, в пробитых кровавых доспехах. Все это множество мертвых слетелось на кровь отовсюду, —вспомнил Кирилл. Абсолютная память на тексты, его университетский навык, курс греческой и римской литературы, зачет по «Илиаде» и «Одиссее», он вытащил неинтересный билет и рассказывает вместо него о метафизической топографии Гомера, о том, как герои, погибая, перемещаются из верхнего мира в нижний, и можно представить повествование, где встречаются во второй раз убившие друг друга, предавшие, отравившие, обесчестившие, – и встреча эта вечна, ибо только вечность у них впереди, но вечность без христианских мук.
Тогда он лишь чувствовал дивную легкость памяти, остроту мысли. А теперь впервые подумал, сколькие же его предки учили Гомера на разных языках, оттачивая навыки, которые достанутся ему в наследство; сколькие уповали на будущее, молились о нем, жили ради него, отринув и прошлое, и настоящее, – и вот Кирилл и есть это будущее. Тот, на ком все замкнуто, все сошлось, к кому ведут все провода.
Бабушка остановилась. Узкая дорожка, густая влажная тень. Похожее на трон надгробие серого гранита: высокая стела – как спинка; слева и справа, как подлокотники, увенчанные бронзовыми вазами гранитные блоки. Четыре ступени ведут к площадке перед стелой, усыпанной сухими веточками и листьями. А на самом верху стелы – ниша, откуда смотрит бронзовое лицо, лицо короля Темных веков, ведущего родословную от варварских вождей, поклонявшихся огню и омеле. Густые бронзовые кудри, зачесанные назад, дремучие усы, в которых можно спрятать пару маркграфств, сытый подбородок, неандертальские, дикарские уши, ловящие звук охоты и рев зверя; узко прищуренные глаза, смотрящие в неустроенное пространство с мыслью о мостах, дорогах, войсках, послах из чуждых стран; монументальный, горою, нос, изрытый оспинами металла, чующий запах сражений и запах золота; бугристая равнина лба, губы, готовые высосать мозговой сок из кости, – и странной, нелепой деталью бронзовая манишка с галстуком, охватывающие широкую, как древесный ствол, шею. Тевтон, лесной владыка в манишке, покоритель Рима, повелитель, чьи статуи легко представить стоящими по всей стране, конные, пешие, с мечом или скипетром, укрощающим льва или указующим путь за океан, в страну Эльдорадо (Кириллу даже показалось, что он мог бы представить его на месте Ленина), – поверженный бог, чья кумирня забыта, чьи адепты рассеяны, но здесь, в святилище, еще живет отзвук давней веры.
Никогда Кирилл не встречал более чуждого себе человека. И не случайно он не замечал этого надгробия во время их прогулок с бабушкой – так не замечают слишком роскошный автомобиль именно потому, что он не из твоего мира.
GUSTAV SCHMIDT
1839–1915
Шмидт… Кирилл внутренне перевел дух, его внимание было сконцентрировано на фамилии Швердт, ее он искал, ее ожидал встретить. А тут Шмидт, какой-то чужой Шмидт, судя по надгробию – богач и миллионщик, раблезианский персонаж, съедающий десять перепелок, герой душещипательных производственных романов начала века, властелин фабрик, где трудились прикованные к горну и печи бедолаги. Наверное, бабушка знает о нем какую-то историю, подумал Кирилл. Он не мог представить себя в родстве с кем-либо владеющим больше чем квартирой, простым загородным домом, машиной, десятитысячным вкладом в сберкассе.
– Никогда не понимала, зачем лицо сделали бронзовым, – сказала бабушка. – Он же был Железный Густав. Эти похороны я не застала, я была с папой на фронте. Но самого Густава помню. Тебе он пра-пра-дедушка. Это отец моей мамы, жены Андреаса. В девичестве ее звали Елизавета Шмидт, а потом она стала Елизаветой Швердт… Я бы сделала барельеф из стали.
Кирилл смотрел в бронзовое лицо, ошеломленно ища хоть какие-то черты сходства и родства. Перевел взгляд на бабушку. Снова на памятник. Ни-че-го. Потом он понял: сколь ни своевольна порода, с какой силой ни проявляется она, ее все равно можно скрыть, проводя своего рода естественный отбор, селекционерскую работу над самим собой. В советское время его ближайшие предки жили, изгоняя из себя наследство Шмидта, боясь быть его внуками, и, видимо, преуспели в этом самооскоплении; отказались от первобытной мощи, от таланта владеть и управлять, поскольку им некуда было пойти с этим талантом, разве что сделать карьеру советского управленца, генерала-директора, владыки гигантской стройки, завода, канала, а то и целого края; но, слава богу, на такую роль они не прельстились, ибо тогда Кириллу достались бы совсем иные грехи предков.
– Я показала тебе все, – сказала бабушка Лина. – Тут есть еще могилы тех, кого я знала, но это потом.
Кирилл не знал, что ответить. Внезапно ему захотелось, чтобы время открутилось назад, чтобы машина сломалась и они не доехали сегодня до кладбища.
Раньше он был охранен невинностью незнания, а теперь над его судьбой стали властны все те же силы, что владели судьбами предков. Кирилл не мог достоверно знать, что это за силы, каковы их суть и природа, но ощущал, что они подобны грозе, бушующей за стенами, прорезающей небо молниями, гонящей путников на ночных дорогах, обугливающей до корней стволы старых дубов; не имевшей прежде входа в дом его жизни – и вдруг его получившей: случайно открыли форточку, может влететь шаровая молния – и испепелить все.
Гроза. Гроза. Шум воды, отвесно падающей с крыши в дождевые бочки. Свежесть и холод слезящихся стекол. Сникшая трава. Небесный сахар града, падающий в забытые на улице чашки и стаканы, звякающий, тающий, исчезающий. Безумие мятущихся крон, фиолетовые разрезы молний, слепящие зрачки, заставляющие зрение обратиться внутрь, в испуганные потемки души.
Это воспоминание было отзвуком урагана, пронесшегося над кладбищем, оставшегося в сломленных ветвях, упавших оградах. Слабым толчком изнутри памяти пришел отклик: запах горелого дерева, упавшие яблони, зеленые яблоки, ударившие в траву, как крупная шрапнель; бабушка, ее смертный страх, шаровой отсвет свечи в дрожащих стеклах…
– Пойдем, – сказала бабушка. – Пора уже. Солнце заходит.
Кирилл посмотрел на небо. Солнце, конечно, уже продвинулось за полдень, но было еще высоко в небе. И он понял, что они с бабушкой живут с разной скоростью, ее время течет гораздо быстрее, ее внутреннее солнце уже клонится к закату, клонится давно, и уже почти закатилось, и именно его видит она сейчас, его закатным светом освещена, скудными лучами тронута, но не согрета.
Те, кого нет на кладбище, кто нигде не получил надгробия, кто лишь призрачной нитью бабушкиной памяти связан с именными монументами, – бабушка была с ними сейчас, их видела, с ними вела разговор.
– Завтра съездим на Донское, – сказала бабушка.
Кирилл уже не мог удивляться и согласно кивнул. Они вышли на главную аллею, прошли через кладбищенские ворота, под скорбным ликом Богоматери, изображенным на них, – и шум улицы, воробьиное чириканье, дальние удары мяча, звон трамвая, прыжки через скакалку, лай собак, обрывки разговоров, звук моторов, дробь отбойного молотка, цоканье каблуков – все раскатилось, как мелочь из прохудившегося кармана, оглушило, окружило гомоном и стрекотом, располосовало покровы тишины – будто они и вправду вышли на свет из царства мертвых.
Кирилл завел машину и представил, как бабушка, маленькая девочка, уезжала отсюда в конном экипаже, сильные лошади тронули слаженно, с охоткой взяли под горку, и мостовая звучала под копытами вместо асфальта. Маленькая девочка, закутанная в меха, – почему-то Кириллу виделась лисья шуба, – любимица покойных, еще дочь, еще сестра, внучка, правнучка и племянница, крестная; еще не знающая, что железный ветер вскоре унесет всех старших и близких и она останется один на один с веком.
Дома бабушка Лина никак не показала перед родителями Кирилла, что она рассказала на кладбище. Он догадался, что бабушка хочет дать ему время освоиться с новым, ошеломительным знанием, пережить его без общих разговоров и обсуждений; к своему удивлению, Кирилл осознал, что и не хочет делиться узнанным, – будто знание это принадлежало им всем, но судьбинно относилось только к нему одному.
Наутро они вдвоем отправились на Донское. Шел мелкий дождик, звенели на бульваре трамваи, у магазина «Рыболов» старики на складных стульчиках продавали мотыля. Все это – и дождь, и мотыль – было такое мелкое, незначительное, будто бы нужное лишь немногим людям в городе, что Кирилл перенял это ощущение, и поездка – после вчерашнего ошеломительного открытия – стала казаться ему частностью, ненужной тавтологией: тот же охряно-красный кирпич кладбищенских стен, те же поблекшие пластмассовые цветы…
Кирилл знал, что на Донском не будет той густоты символов, что поразила его на Немецком, там не водятся львы и грифоны, не растет каменная лоза и не смотрит из глубины камня заключенное в масонский треугольник Око Бога. Ему мнилось, что бабушка повторяет их давнюю прогулку, хочет поставить избыточную, в общем-то, точку; а он ждал ее рассказа, откровения об истории семейства Швердт, и досадовал, вел машину чуть резче, чем следовало, но бабушка не обращала на это внимания, и постепенно Кирилл проникся ее скрытым, но твердым намерением.
Они вошли на кладбище. Тут были русские имена; старые могилы дворян, сановников, артистов – но в них не чувствовалось тайны, взгляд ровно скользил по плитам, с лету узнавая родной язык, знакомые образы.
Дождь припустил сильнее; вокруг было так много полированного камня, что звук дождя выходил странно сухим, будто тысячи кузнечиков-барабанщиков ударили палочками по слюдяным барабанам; звук напоминал приливы траурного марша, усиливался, стихал, вступал ветровым порывом. Внезапно Кирилл почувствовал, что внутри в такт занимается колкая дрожь; звук, почудилось, теперь идет снизу, из-под земли.
Он вспомнил Метро мертвых, выдуманное в детстве; когда бабушка ребенком привела его на Донское, он «опознал» здание крематория как вход в это метро. И теперь ему показалось, что он слышит, как покойники мерно колотят в крышки гробов, требуя правды и возмездия. Это уже не дождь шумит, падающий с неба, а глухой стук костей доносится из-под земли. Он размягчает почву, предуготовляя оползни, разгоняет крыс, проницает фундаменты, выворачивает брусчатку. Его уносит вода подземных рек, заключенных в трубы, он перетекает в рельсы и провода, он заставляет вибрировать Шуховскую башню – и срывается с ее верхушки, летит до Уральских гор, до сибирских болот, до края материка, обрывающегося в Охотское море и Ледовитый океан у Магадана и Певека.
Кирилл чувствовал, что болен, что сходит с ума, – и все же переживал этот стук с необыкновенной ясностью; словно мир открылся ему ирреальной, но действительно существующей стороной; и ему казалось, что бабушка тоже слышит звук, знает о нем.
Он хотел раскрыть зонтик, но бабушка остановила его. Она всегда была подчеркнуто опрятна, аккуратна, не терпела сырости и грязи, словно в них ей чудился призрак лет нищеты, когда негде найти приют, обсушиться, достать новое платье или ботики взамен испорченных. Но сейчас бабушка не хотела иметь защиты, препон, отделяющих ее от голоса мертвых, притворяющегося дождем.
Они прошли за крематорий, повернули налево – Кирилл смутно помнил эту дорогу, – потом снова налево, туда, где за кронами высились разрушающиеся башни старого монастыря, и остановились на перекрестке кладбищенских аллей, у гранитной клумбы, где росли невзрачные, самосевом угнездившиеся цветы. Клумба словно обозначала какое-то недовершенное намерение: то ли хотели поставить фонтанчик с водой, то ли соорудить павильон, где можно отдохнуть; а в результате сделали клумбу – просто чтобы заполнить пустоту.
– Где-то здесь папа, – тихо, печально сказала бабушка, смотря прямо на клумбу.
Кирилл не понял, о каком папе говорит бабушка. О своем? О прадеде Арсении? Он погиб на войне и похоронен на поле боя. Где-то там, в воображаемом пейзаже, где лесок и речка, нива и деревня; где кружит ястреб, взмывая в потоках жаркого воздуха, а зимой лисица выходит мышковать, ловить серых-маленьких, подъедающих оставшиеся с жатвы зерна.
– Он здесь, – сказала бабушка. – В могиле неопознанных прахов. Я узнала лишь много лет спустя. У нас на работе был куратор от КГБ. В большом чине. Он служил еще в тридцатые. И уцелел. И вот он, – бабушка запнулась, подбирая слова, – он знал, что я наполовину немка, хотя я взяла фамилию Кости. Это все было в анкетах. И он… – бабушка запнулась снова, – ему доставляло удовольствие со мной играть. Однажды он сказал, что знает, где мой отец. Прошло двадцать лет, как папу арестовали. А я все верила. Верила, что, может, он где-то, откуда нельзя подать весточки. Лечит людей. А этот полковник сказал, что папа на Донском. Расстреливали в тюрьмах. Сюда свозили тела. Жгли в крематории. И хоронили здесь. Где-то тут, – бабушка глубоко вдохнула. – Под этой клумбой.
Кирилл вспомнил их детский приезд сюда, цветы, которые бабушка подложила в чужой гроб, чтобы они сгорели в печи, рассеялись с дымом по округе. Бабушка сначала лгала своему сыну, рассказывая легенду о пропавшем без вести дедушке, чтобы тот не задавал ненужных вопросов, жил без тени за спиной; потом ложь досталась в наследство ему, внуку. Открывшийся обман разделил их, разорвал установившиеся с детства нити взаимности. Но Кирилл чувствовал, что бабушка Лина ничего больше не скрывает, она измучилась жить в молчании.
Кирилл обнял ее, зашептал: бабушка, бабушка, – желая только, чтобы она поняла, как он ее любит и не осудит. Он ощутил, как сидит в ней, будто отравленный осколок, давний страх быть обвиненной, разоблаченной, в мгновение потерять все, страх, обкрадывающий неделю на день, отнимающий вкус у питья и свечение у света.
Теперь Кирилл понимал, почему на Донское они не взяли цветов, – любые цветы были бы слишком выспренни здесь, пред пустой клумбой, скрывающей прах тысяч человек. Где-то там, в немыслимом смешении атомов, было то, что осталось от прадеда Арсения, человека в военной фуражке с красной звездой на кокарде, смотрящего с домашней фотографии. Прадед уже был неотделим от других сожженных, утрамбованных.
И все же Кирилл чувствовал, что судьба может существовать как бы отдельно от того, кто был жив ею, судьба может длиться и за смертью.
Быть тайно расстрелянным, тайно сожженным и брошенным в общую яму означает не умереть, а погрузиться в Метро мертвых, в подземелья призраков, скитающихся душ, лишенных похорон, лишенных той смерти, что происходит в сердцах живущих, в открытом обряде прощания. И в этом смысле судьба прадеда Арсения еще не была свершена; ему, Кириллу, предстояло довершить ее.
– Швердт, – внезапно сказала бабушка. – Меня звали Каролина Швердт, пока я не вышла за Константина.
Кирилл понял, что она – не Лина Веснянская, какой он знал ее, чью фамилию – Веснянский – привычно носил сам; а именно Каролина Швердт, взявшая фамилию мужа, как ради спасения, ради побега надевают чужую, меняющую до неузнаваемости облик, одежду. Каролина, отбросившая «Каро», ставшая просто Линой, чтобы имя звучало по-русски.
– Швердт, – повторила бабушка. – Швердт. Раньше я старалась не произносить эту фамилию даже про себя. Из-за нее все погибли. Папа. Мама. Сестры. Братья. Густав с Андреасом. Все. Когда в сорок пятом я стала Веснянской, поменяла документы, – бабушка провела ладонями по лицу, будто отбрасывала несуществующую вуаль, – я поклялась, что никогда больше не скажу Швердт. Буду помнить их только по именам.
Я много лет не приезжала на кладбище, боялась, что кто-то увидит меня у могилы, кто-то поймет, что я Швердт, а не Веснянская. Много лет… Могила заросла. После войны за кладбищем не ухаживали. Ночью в склепах собирались бандиты, днем шпана. Люди боялись туда ходить. И мне хотелось, чтобы так было всегда. Чтобы памятник провалился сквозь землю. Чтобы надпись Швердт на нем исчезла.
Потом все-таки стала приезжать. Как воровка. Пораньше утром. Или вечером, когда никого нет. В самую непогоду, в дождь, снег. Чтобы никто не увидел. Шла по главной аллее так, будто просто срезаю путь к Госпитальному валу.
И другие женщины приходили. Тоже в ненастье. С одной мы столкнулись у колонки, обе подошли воды набрать. Я заметила, куда она потом пошла: к старой могиле полковника императорской армии, немца. А она за мной наблюдала исподтишка.
Бабушка замолчала.
– Все погибли по-разному, – сказала она просто. – Может быть, погибли бы в любом случае. Я не знаю. Это пустая игра ума. А факт, факт… Факт в том, что погибли именно потому, что носили фамилию Швердт. Она была камнем, который тянул на дно. Доказательством, которого не нужно придумывать. Поводом, чтобы не спасать. Оправданием предательства: чего немцев жалеть.
Бабушка снова замолчала. Кирилл смотрел на клумбу, на мелкую беспризорную травку. Он заслонялся от бабушки, внезапно ставшей Каролиной, а не Линой, как бы слушая все еще Лину, а не Каролину; сам перед собой притворялся, что бабушка говорит о чьем-то чужом, не ее, прошлом, ужасном, тревожащем, обязывающем откликнуться, но все-таки не неизбежном, не единственном, какое есть; о прошлом, которое по своей воле можно открыть и закрыть, как книгу, прицепить и отцепить, как вагон поезда.
И, чувствуя, наверное, состояние Кирилла, бабушка сказала, не глядя на него:
– Они все погибли, а я осталась жить. Как мне умирать, если со мной умрут и они? Я обещала папе, в мыслях обещала, хотя он уже был мертв, что я не забуду.
Кирилл понял, что слышит завещание. Он хотел невинно отшутиться, дескать, бабушке рано еще думать о смерти, – но вдруг осознал, как невыносим вид этой пыльной, скучной, малорослой травы, произросшей на людском прахе, будто и трава – от семени – была поражена скверной, будто и трава знала горе и зло; и он тихо взял бабушкину руку в свою, поднес к губам, поцеловал, как целуют крест.
* * *
Бабушка Лина умерла на даче. Поехала осенью промыть марганцовкой клубни пионов и пересадить флоксы; цветы были ее связью с мужем Константином, умершим давно, еще когда Кирилл учился в школе. Розовые флоксы, бордовые пионы были для деда, антиквара, способного битый час говорить об узоре на мейсенской фарфоровой тарелке, великолепным исключением из его чувства прекрасного; он любил их, лохматые, растрепанные ветром, в каплях дождя, – словно в этом находило отдушину его простонародное воспитание, – и бабушка после его смерти продолжала сажать их вдоль дорожки.
Бабушка уехала утром, в один из тех редких октябрьских дней, что на самом деле августовской породы: в них еще бродят, как сок в перезревших яблоках, последние неизрасходованные силы лета. Ясное утро сменилось жарким днем, к вечеру разразился дождь, занудный и холодный.
Вечером следующего дня бабушка не возвратилась. Телефон в дачной сторожке не отвечал, в такую погоду сторож уходил в свой деревенский дом греть на печи ревматизм. Кирилл поехал в ночь на старой дедовой «Волге» с барахлящим карбюратором, на «барже», как он ее называл, дважды заглох, дважды заводился – «Волга» любила шаманство, постукивания, паузы в езде, – и наконец свернул на знакомый проселок, из-за рябин у калитки мелькнул свет родных окон. Он даже успел обрадоваться, прежде чем понял, что означает свет в окнах в три часа ночи, горящий, наверное, еще с прошлого вечера.
Бабушка, понял Кирилл потом, ушла как бы раньше, чем ей было отпущено. И эту сдачу дней, драгоценный остаток жизни она вложила в дачный дом, в деревья участка, в лесную округу; использовала недожитое, чтобы создать непроговариваемые, не облекаемые в слова узы; не вина, не долг – лишь странное тянущее чувство, что она, равно присутствующая в шорохах дома, возне ос под застрехами, в появлении грибов на старых грибницах, которые она показывала в детстве Кириллу, в земляничном обмороке лесных полян, – о чем-то вежливо напоминает, о чем-то просит, являясь то лучом света, рассекающим лес, дробящимся о еловые лапы, то падением сухого старческого листа, то скоротечным увяданием флоксов, роняющих лепестки на закатившиеся в водосточную канавку яблоки.
Когда ее хоронили, погода успела поменяться. На Немецком кладбище шел редкий крупяной снег, не тающий на отваленных лопатой пластах рыжей супеси. Когда умер дед Константин, Кирилл был в летнем лагере и не успел приехать; так что впервые на его памяти земля Немецкого кладбища отверзалась, и Кириллу казалось, что гробокопы стучат лопатами в крышки гробов Бальтазара и Клотильды.
Бабушкин гроб был плохонький – семья жила уже бедно, – и закапывали его неглубоко, могильщикам не хотелось долбить землю, а Кириллу чудилось, что там, снизу, подпирают мертвецы, положенные один на другого; и снова он видел знаки, масонское Око Бога, листы клевера, скрещенные мечи, – и понимал, что никто другой не замечает их, никому нет дела до каменной Книги на известняковом алтаре; все это есть завещание, предназначенное только ему одному.
Смерть бабушки Лины как бы распустила семью; так распадается заколотая спицей неоконченная пряжа. Ни отец, ни мать, ни Кирилл не понимали, насколько их связывает бабушка; казалось, живет она незаметно и тихо, перечитывает книги, ухаживает за старинными вещами, оставшимися от деда, и сама уже вроде старинной вещи. А оказывается, именно бабушка – не словом, не советом, а одним присутствием – смогла сбалансировать разности чужих характеров, помноженные на превратности жизни.
С ее смертью в семью пришли несчастья. Начались сокращения в научном институте отца, он потерял работу, затем мать поскользнулась в гололед и долго лежала в больнице, где уже нужно было покупать и лекарства, и дежурства нянечек. Потом – впоследствии Кирилл увидит в этом прямую параллель с историей семьи во время революции семнадцатого года – пришли бандиты, чтобы отобрать пятикомнатную в сталинском доме у «Октябрьской», наследство деда Константина, пришли, как революционные матросы заходили в дома мироедов, чтобы поживиться краденым. Бандиты явились по наводке, знали, что в квартире жил антиквар, коллекционер старины, и, собственно, поэтому хотели именно ее, а не соседскую. Семью выручил генерал госбезопасности, один из покровителей умершего деда Константина, но выручил «по понятиям» нового времени: из пятикомнатной пришлось съехать в трехкомнатную в худшем районе, но имущество, коллекция деда и жизни остались при них.
Отец стал понемногу приторговывать антиками, влез в дела, в которых мало что смыслил, не раз бывал обманут. Да и деньги, вырученные за трофеи давней войны, – дедова коллекция состояла в основном из них, – не держались в руках, не приносили ни радости, ни достатка.
Кирилл не замечал бедности, мирился даже с бандитами, пришедшими выбрасывать их на улицу, – бандиты искупались для него ощущением второй, запоздалой, настоящей юности.
Когда он спустя полтора десятилетия думал о своем поколении, чей взрослый возраст пришелся на девяностые, он чувствовал, что древняя алхимия истории еще жива. Огонь, вода, воздух, земля – и они были детьми воздуха и огня, не знавшими воды и земли. Детьми великих миражей, вставших над Россией; поколением промежутка, когда монстр российской государственности почти издох, сделался слаб, призрачен. И когда атмосфера поменялась, а потом кислород для дыхания вообще исчез, выяснилось, что опереться им не на что, они – порождения игры воздухов.
Союз развалился без большой крови, будто сам собой, и они были развращены легкостью распада, а потому не готовы к сопротивлению. Они думали, что все зло заключалось в СССР и теперь, когда Союза нет, события пойдут по правильному пути; не понимали, что зло есть часть истории и демократия – система минимизации зла, а не торжества добра. Ныне они были дважды бесприютны, потому что страны, в которой родились, нет, и страны, в которой взрослели, тоже нет.
Кириллу было хорошо в девяностые; словно с вещей и явлений сдуло пыль, сняло поволоку и они обрели свободу. Он работал, писал, преподавал, получал гранты, выступал на научных конференциях, не будучи в силах выстроить умную стратегию, взять одну тему, занимался то историей коллаборационизма во время Второй Мировой, раскулачиванием в национальных республиках, то Коминтерном.
Отец его в советское время был близок к диссидентским кругам, читал «Архипелаг» и даже однажды, кажется, участвовал в сборе денег в чью-то пользу. И Кирилл со рвением, удивлявшим его самого, желал, чтобы все, о чем говорили вполшепота на кухнях, прозвучало в полную силу, чтобы были книги, фильмы, памятники; но на самом деле он просто пытался избежать своей личной миссии. Отстаивать абстрактную правду истории, толковать о других ему было комфортнее, чем спуститься – до самых бездн – в прошлое собственной семьи.
Семья – из-за детерминизма родства, причинности рождений, образующих неотменимые связи, – стала олицетворять для него то, чего он больше всего в жизни боялся: невозможность управлять, контролировать – в данном случае прошлое. Кирилл опасался, что в его жизнь ворвется хтоническая стихия прошлого, темная его, донная вода; то, что невозможно изменить и невозможно принять.
Еще в детстве, испытывая болезненные приступы мечтательности, он представлял, что он ничей сын, ничей внук, никто не рождал его на свет, он как бы дополнительный, всем чужой, ни с кем не связанный, даже с любимой бабушкой Линой.
В юности он стал испытывать неприязнь к словам, обозначающим отношения родства. Тесть, сноха, золовка, деверь, теща – они казались ему дремучими, косматыми, пришедшими из родоплеменной тесноты языка. Кирилл не мог представить, чтобы он стал субъектом этих слов, будто это означало зарасти звериным волосом, лесным мхом, обратиться в получеловека-полузверя, связанного языческими узами не только с подобными ему, но и с рощами, источниками, полями, деревьями, животными.
И Кирилл опасался, что, спустившись по лестнице родословной хотя бы в тридцатые годы, в пыточный подвал, пахнущий кровью, он узнает что-то такое, что украдет у него право распоряжаться собственной жизнью, сделает его человеком – он встречал таких, – что ходят, заживо умерщвленные страшными истинами прошлого, являясь другим, как призраки совести; вынуждены жертвовать собой, чтобы искупить грех отцов.
Изредка Кирилл открывал бабушкину конторку с раздвижными деревянными дверцами, где она хранила бумаги, уцелевшие за столетие. Открывал – и не прикасался к бумагам, смотрел на замусоленные, прохудившиеся уголки конвертов, и ему казалось, что из этих дыр, как из письма ассасина, может вытечь ядовитый воздух. Он закрывал конторку – и возвращался к книгам, статьям, лекциям, обещая себе, что однажды он обязательно прочтет архив бабушки и напишет некий текст.
Кирилл думал, что сперва он должен позаботиться о собственной судьбе, обрести независимость. Он упорно работал, защитил кандидатскую диссертацию по РОА, обрел имя, репутацию. И был приглашен в Америку с проектом о депортациях евреев в Российской империи во время Первой Мировой войны.
Это была не его тема. Кирилл написал проект как бы на полях других своих штудий и отправил, говоря себе, что ни на что не надеется, но вполне понимая конъюнктурную выигрышность заявки.
Пришел ответ: Гарвард, два года, огромная зарплата, возможность продлить работу и пребывание; статусное предложение, высшая научная лига. Кирилл немедленно согласился, говоря себе, что эти два года позволят ему окончательно состояться как ученому. Но втайне знал, что не вернется в Россию, отделит себя океаном от судеб Европы, в которые вплетены судьбы семьи, откажется от идеи книги, завещанной бабушкой Линой, будет заниматься чуждым, ненужным для него, но значимым для других, напишет совсем другую книгу, переберется на иной материк – навсегда.
Образ бабушки Лины все же напоминал ему о завещании и обещании. И Кирилл, не замечая, стал реже думать о ней. Принадлежавшие ей вещи внезапно стали нежеланными свидетелями; ее лампа, стол, книжные шкафы, даже сахарница на кухне, куда клала она наколотый щипчиками с птичьим клювом кусковой сахар, – стали казаться ему отжившими, ненужными, захламляющими дом, хранимыми ради нелепой, фетишистской материальности памяти. И он под разными предлогами стал избавляться от свидетелей: спрятал сахарницу в буфет, а другие предметы убрал в кладовку или перенес в ее комнату, стоявшую пустой. Он сам не видел этой скрытой войны, представлял ее как простую заботу о функциональности пространства; думал – как легко думать от имени мертвых, – что бабушка Лина больше других радовалась бы его успеху, его предстоящей поездке в Америку.
В предотъездных заботах Кирилл чувствовал, что упустил что-то, но полагал, что ощущает объяснимую тревогу сборов. Однажды вечером, недели за две до вылета, отец сказал ему как бы невзначай:
– Может, ты бы съездил на кладбище? На дорожку?
Кирилл устыдился. Простая мысль, что нужно побывать на могилах, попрощаться, вообще не приходила ему в голову. Он знал, что раньше обязательно подумал бы о кладбище сам, это случилось бы естественно; а теперь – что же с ним произошло? Кирилл по-другому посмотрел на отца, казавшегося ему выпавшим из времени, и вдруг понял, как отец любит его, и любовь дает ему точное зрение, недостающее сейчас самому Кириллу.
Он обнял отца. Теперь ему казалось, что нужно отправиться на Немецкое, постоять у могил, и внутренняя тревога исчезнет, она вызвана просто несоблюдением ритуала, отступлением от долга памяти и почтительности.
Отец же посмотрел вбок, в темноту коридора, и ничего не сказал, только закрыл глаза и покачал головой.
Кирилл поехал на кладбище в начале весны, когда дни теплы, а ночи еще морозны. Поехал, как ему казалось, в хорошем настроении – проститься надолго или навсегда с родными в солнечный этот, веселый день и такими запомнить могилы, дорожки, ворота. Но чем ближе он подъезжал, тем неуверенней себя чувствовал. Чудилось, нужно повернуть обратно, или купить цветы, или не покупать цветов – цветы будут выглядеть как неточная попытка извинения; замигала лампочка двигателя, он знал, что мотор в порядке, датчик сбоит, но разозлился, как злился от любой неисправности. У входа стояла гробовая тележка, родственники в черном ждали, когда привезут гроб, дворник посыпал дорожку солью; и тележка была заржавленная, и соль падала крупными комками, и старуха в черном пальто посмотрела искоса, будто ее оскорбила зеленая Кириллова куртка.
Кирилл прошел по аллее, спустился по дорожке вниз. Наметенные за зиму сугробы уже оплыли, из-под снега показались побелевшие, раздавленные пластиковые цветы.
Каменный монумент Бальтазара и Клотильды виден издалека. Вот и алтарь с книгой, вот и скамеечка, вот и…
Бабушкина мраморная плита была расколота надвое. Трещина разделила имя и фамилию, дату рождения и дату смерти.
Сначала Кирилл подумал, что в камне была каверна, во время оттепелей туда попадала вода, потом вода превращалась в лед, и в конце концов от расширений и сжатий мрамор треснул.
Он испытывал только жалость об испорченной вещи, так хорошо знакомую детям: мгновенный переход от целости к осколкам вызывает ощущение предательства материи, оказавшейся с тайным изъяном, и желание открутить время на три секунды назад, чтобы ваза не была случайно задета рукавом.
Кирилл размышлял, что надо зайти в контору кладбища, найти мастера по камню, пусть тот решит: чинить плиту или заказывать новую.
И вдруг – неподалеку скрежетнули о камень санки уборщика – резкий, неприятный звук перестроил его восприятие как картинку калейдоскопа: Кирилл стал видеть облупившуюся краску ограды, грязь на снегу, перья мертвой птицы, надломленные снегом ветки, а главное – линию трещины, случайную и определенную, как зигзаг молнии; черноту внутри трещины, самое вещество черноты, будто не принадлежащей этому миру.
Вдалеке прозвенел трамвай, звон был прощальный, будто трамвай уезжал куда-то в смерть, будто знал, что сегодня кого-то зарежет тяжелыми колесами. И с этим звоном, – обратно с кладбища они возвращались с бабушкой на трамвае, красном трамвае с бежевой полосой, с круглыми желтыми фарами, – Кирилл понял, какой знак ему явлен, что значит эта расколотая плита. Он не верил в материальность духов, в то, что покойная бабушка буквально где-то существует и может вмешиваться в события этого света. Страх его был в том, что это просто вода оттепели набралась в каверну, развалила пополам мраморную плиту, – но для него именно рациональность объяснения лишь подчеркивала тончайшее, живущее жизнью блика совпадение его отъезда и появления трещины.
Кирилл понял, что никуда не поедет, сдаст билеты, соврет что-то руководителям гарвардской программы – иначе эта чертова трещина не отпустит его до конца жизни, будет отпечатываться на всем, что будет полагать он прочным и цельным, станет раскалывать чувства, отношения, привязанности, черной змейкой бессмыслицы пробегать через строки, смотреть из глубины зеркал, мучить провалами, ущельями без мостов во снах, сторожить в старых домах, где потрескались стены, являться в асфальте, в древесных стволах, разбитых морозом, несущих вертикальные бугристые шрамы, обметанные струпьями коры.
Ему стало легко. Кирилл провел рукой по каменным складкам покрывала, наброшенного на известняковый алтарь, по каменным пустым страницам открытой книги. В старый известняк уже давно вгрызались морозы, вода и солнечные лучи. Кирилл смотрел на его поверхность как на страну, на материк; приблизил глаза к темному камню, к его выщербинам, кратерам, гуртинам мха, к долине разломленных на переплете листов – и стал различать горы, леса, дороги, города, туманные тени прошлого и грядущего, движущиеся, как тени облаков на равнине. Книга Судеб привиделась ему, и он ощущал, различал все времена сразу, зрел самого себя, стоящего на кладбище, которое одно было неизменным и неподвижным; все остальное мерцало, скрывалось в тенях, возникало и пропадало; туманные моря омывали материк Книги, и туда отправлялись корабли; строились и исчезали города, шли по дорогам войска. И только каменный алтарь, укрытый каменным покрывалом, с каменной книгой поверх, стоял среди мерцания, дыма, искр, смены дней и ночей, – как ось мира.
Кирилл обернулся. Бабушка смотрела с фотографии на расколотой плите. Взгляд ее был радостен.
Кирилл еще долго бродил по кладбищу. Он чувствовал себя в Большом зале консерватории, где занял свои места оркестр и чудные инструменты изготовились производить звук. Он ощущал, что музыка где-то рядом, словно сквозь шум дня действительно могло прорваться пение органных труб, скрытых завесой солнечных лучей.
Отец и мать с облегчением приняли известие о том, что он не едет в Гарвард. Мать просто была рада, что он не уезжает от нее. Отец уговаривал обдумать решение, не рубить с плеча. Но Кирилл видел, что отец тоже рад, только по иной причине, и причины этой Кирилл не мог понять.
* * *
Потом, вечером, Кирилл думал об отце.
Думал как о человеке глубоко ему чуждом – настолько, что в этой чуждости была заложена парадоксальная близость: ведь это отец – благодаря отталкиванию, отторжению – сделал его тем, кто он есть. Думал, перебирал даты, обстоятельства, исторические контексты, неспешно пытаясь дистиллировать из них алхимию судьбы.
Отец рос, видя номенклатурных знакомцев Кириллова деда. Кабинетные генералы, снабженцы, специалисты по репарациям восхитили мальчика пошитыми по спецзаказу мундирами, богатыми орденами, наградным оружием, трофейной обстановкой.
Бенефициары победы, получившие по «Победе», они – хотя бы в глазах ребенка – хотели казаться настоящими солдатами, речи их были полны бахвальства, преувеличенных или небывших подвигов. Дед Константин знал этим людям цену, но вынужден был пускать в дом; бабушка презирала, но не смела перечить мужу. И они приходили пировать, брали мальчика на трибуны на Красной площади смотреть парад, возили в тир, дарили роскошные, не по возрасту, подарки.
Восемь лет прожившие после войны под Сталиным, боявшиеся его даже мертвого, запивавшие водкой, заедавшие жирным антрекотом свой ужас перед ним, они в своем кругу продолжали праздновать день рождения Вождя – ибо опасались, что он вернется, достанет и с того света, сотрет в лагерную пыль.
Во время войны они вымещали свой страх перед Сталиным на подчиненных, унижая, избивая, расстреливая. А после, когда Вождь умер, они стали радостно «подпевать» эстрадным песням, фильмам и мемуарам старших по званию, изображавшим их бесстрашными героями.
Они пытались заклясть свой страх, завалить его трупами, оглушить киношными залпами «катюш», победить его, в конце концов. Но сколько бы ни играли на экране бравурные марши, ни проносились черно-белые танки мимо указателя «На Берлин» – страх всегда был рядом, носил френч, курил трубку и разговаривал голосом актера Михаила Геловани.
Мальчик не знал. И потому считал старших рабов Хозяина за достойных людей; приятельствовал с их отпрысками, учился с ними в элитной школе, а потом и в университете.
Но была в нем – наверное, от матери, от Кирилловой бабушки – повадка одиночки, умение вести себя так, чтобы не оказаться в первых рядах, в активистах, в героях; не мужество, но способность быть, если понадобится, неудобной добычей, как черепаха или рыба-еж.
Никому не перебегал дорогу, ни с кем не соперничал, состоял в комсомоле, вступил в партию. Поддерживаемый связями отца и знакомых, не был, однако, карьеристом; не умел и не хотел есть людей, был хладен к большим идеям, но упорен в науке. Занимался своей археологией, словно желал спрятаться глубже во время, в историю, укрыться в разрушенных дворцах и храмах среднеазиатских правителей, в домах купцов, погибших во время монгольского нашествия, уменьшиться в размере, уйти в угли давних пожаров, в глину, в песок.
Мать никогда не говорила ему о немецких предках. Но он и сам благоразумно не углублялся в семейную историю, словно не видел последних исторических эпох, обладал врожденной исторической дальнозоркостью, хорошо различая лишь то, что отделено веками. В своих археологических экспедициях в Азии он встречал и археологию новейших времен, недавние руины лагерей, поселения высланных народов, карьеры и шахты, построенные рабами ГУЛАГа, но нельзя было сказать, что он об этом думает, что чувствует.
Там же, в Азии, он встретил жену, будущую мать Кирилла. После института ее отправили по распределению высаживать ветрозащитные полосы, бороться с суховеями, уничтожающими целинные черноземы, распаханные по указу Хрущева. Отец ее умер вскоре после войны от ран, а мать, надорвавшаяся в эвакуации, скончалась незадолго до свадьбы дочери.
Ветрозащитные полосы плохо спасали от жестоких ветров; деревья худо приживались, болели, засыхали на корню еще саженцами; но мать Кирилла сажала полосы снова, ругалась с районным начальством, требовала неустанного труда от рабочих, словно схватка с дыханием пустыни стала для нее служением памяти родителей. Там, на краю земли, ее и встретил отец Кирилла.
Фактически он украл ее, без ее ведома устроив перевод молодого специалиста в Москву, – кто-то из военных приятелей деда Константина был большой шишкой в Министерстве лесной промышленности; украл, полюбив ее простоту и твердость, чувствуя, что ему, беглецу от настоящего времени, нужна жена, могущая взять на себя сегодняшний день, оставив ему далекое и безопасное минувшее.
Она сначала дичилась их московского дома, дедовской большой квартиры. Впервые оставшись там одна, рыдала – не от страха, а от чувства чуждости старинных вещей. Но вскоре родился Кирилл, и мать через него, не имеющего представления о старости или ценности вещей, ползающего, ходящего, лазающего, – дед переживал за сохранность антиков, но ничего не запрещал внуку, – стала осваивать мир московской квартиры. А когда дед Константин умер, заняла его место хранителя дома.
Но Кирилл догадывался, что этот дом, эта жизнь так никогда не стали ее. С тем же упорством, с каким сажала ветрозащитные полосы, она потратила множество сил, вживаясь в мир мужа, его родителей, сына. Однако – так чувствовал Кирилл – она потратила внутренних сил слишком много, и когда придет время ее старости, ее слабости, она не найдет в этом доме, в этих вещах себе настоящей опоры.
И Кирилл надеялся, что его книга, как спасательная лодка, как ковчег, возьмет на борт и отца, и мать.
* * *
Кирилл открыл конторку с бумагами бабушки Каролины – теперь он не мог звать ее, как прежде, Линой – на следующий день. Теперь конторка не выглядела такой маленькой, какой он помнил ее в детстве. Он переставил ее на стол. Деревянный короб казался тяжелее, чем бумага в нем, словно что-то еще весили сами буквы, мириады букв; события, судьбы, смерти, запечатленные на листах.
Там были потертые сафьяновые альбомы с открытками, подборки писем в конвертах и без. Аккуратные записные книжечки, старые школьные тетради, обтянутые потрескавшейся кожей альбомы фотографий. Газетные вырезки, школьные аттестаты, гербовые имперские бумаги, деньги – имперские ассигнации, миллионные бумажки времен революции, советские рубли. Маленький кляссер с марками, видно срезанными с конвертов; рукописные листы с машинописью на обороте – кто-то брал уже использованную в каком-то учреждении бумагу. Какие-то и вовсе невнятные обрывки, скомканные и потом разглаженные утюгом, записки с расплывшимися от влаги слез чернилами, трамвайные билетики, пробитые пятизубым компостером, математические расчеты делением в столбик – и снова блокнотики, старые телефонные книги с короткими еще номерами, каких при своей жизни уже не помнил Кирилл, советские поздравительные открытки с флагом и гербом, школьный дневник отца за третий класс, детские каракули – рисунки, детсадовские аппликации из цветной бумаги на Восьмое марта, характеристики с работы, отпечатанные на машинке с западающей буквой И, удостоверения, пропуска, закончившиеся сберегательные книжки, значок с Гагариным. Выкройки свадебного платья с приколотым куском зябкого кружева, выписанные на листочках рецепты супов и пирогов, исписанные, протертые до дыр листы черной копировальной бумаги, где одни строчки накладывались на другие, образуя странное сплетение слов-призраков; два использованных, с оборванными квиточками, билета в планетарий, два неиспользованных билета в Большой театр на «Евгения Онегина», чертежи дачного дома на вощеной бумаге, обертка от шоколадной конфеты «Полет», – кто съел ее, зачем сохранил фантик? – рецепты на лекарства, вырезка из газеты с некрологом деда Константина. И снова бабушкины письма, фотографии ее братьев и сестер, несколько тетрадей с обрывочными записями; толстая тетрадь, исписанная незнакомым Кириллу почерком с ятями и ерами, облигации государственного займа, старая схема движения московских трамваев; опять тетрадка, бабушкин почерк, ровные строчки – писала от руки, без помарок, наверное переписывая с исчерканного черновика; снова документы, снова письма, конвертик с негативами, библиотечный абонемент, квитанция на ремонт часов…
Вообще-то в бабушкином не терпящем беспорядка характере было бы разобрать все эти бумаги по темам и годам, разложить по конвертам, надписать каллиграфическим, словно в пособии по чистописанию, почерком. Но почему-то она этого не сделала. Откладывала на потом? Нарочно все перемешала, чтобы создать путаницу, головоломку?
Кирилл думал, что, вероятнее всего, она не хотела упорядочивать прошлое, то есть в каком-то смысле хоронить его, наряжать в парадный костюм мертвеца. В этом смешении всего со всем, важного с неважным, случайного с серьезным прошлое еще жило, мелодически дышало – и бабушка Каролина хранила его таким.
Несколько месяцев Кирилл разбирал, рассортировывал, перечитывал бумаги, раскладывал по стопкам, придумывал классификации: по людям, по эпохам, по жанрам. Но любая классификация рассыпалась: о годах до революции, о Гражданской войне бабушка писала своему возлюбленному в тридцатые – безвестная трагедия, письма были ей возвращены, уже без конвертов, стопкой, и осталось только имя Аркадий – разлюбил, арестован, погиб на войне? О девятнадцатом столетии рассказывал дневник прадеда Арсения, страницы, написанные в зиму семнадцатого-восемнадцатого годов, а о событиях той зимы – позднейшие рукописные воспоминания бабушки Каролины в отдельной тетради и несколько фотографий. Немногие уцелевшие письма сестер и братьев друг другу то сообщали о сегодняшних заботах отправителя, то отсылали одним абзацем к детству или юности адресата, к событиям, известным состоящим в переписке, но скрытым от Кирилла.
Почтовые открытки, подписи под фотографиями в альбомах – все друг друга окликало, дополняло, перескакивало через время, аукалось, как потерявшиеся в лесу грибники, зияло пропусками, обрывами линий; близоруко щурилось стертыми штемпелями, прятало вырезанные, вырванные страницы, темнело перечеркнутыми строками, разбегалось в разные стороны света, пропадало, пропадало, пропадало…
Кирилл посадил зрение, разбирая чужие почерки, старые машинописные шрифты, следя за переменами в правописании, за пропажей одних слов и рождением других. Он замечал: чей-то язык остается чист, чей-то засоряется словами из газетных передовиц; меняются интонации в отношениях, разнолико отражаются в зеркалах мнений одни и те же события, забывается, зарастает сорной травой, исчезает из писем, воспоминаний давняя семейная легенда о Бальтазаре Швердте и его потомках.
Кирилл догадывался, что получил лишь малую часть некогда существовавшего целого. Он видел это по разрывам в переписках, по упоминаниям других, не доставшихся ему, дневников. Уцелела, наверное, лишь двадцатая, тридцатая часть, и среди бумаг не было ни одной на немецком. Кирилл понимал, что архив пережил много чисток, вызванных разными, большими и малыми, чистками в стране, идеологическими кампаниями, показательными процессами – от раннего таганцевского дела двадцать первого года до «дела врачей» пятьдесят третьего. С разных направлений – будто акулы на плот потерпевших крушение – накатывались волны угрозы, требующие изъять, уничтожить то один злосчастный листок, то целый пласт жизни. Безопасное вчера становилось сомнительным сегодня, сомнительное сегодня – смертельным завтра; архив уменьшался, горел по частям, горел все эти годы, будто служа топливом для неубывающего, прорывающегося горячечными вспышками страха.
Чья-то жизнь уцелела наполовину, чья-то на треть или четверть. От кого-то, как от бабушкиных братьев, вообще остались только обрывки, частицы, малые доли биографии – как убитые, искромсанные лежат на поле боя после разрыва тяжелого гаубичного снаряда.
Кириллу было бы легче читать, если бы он знал, что действительно случился взрыв снаряда, исторический катаклизм, в секунду исковеркавший судьбы и память. А он видел, как люди десятилетиями вырезали, выскабливали из себя куски биографий, абортировали прошлое; чувствовал, что стал свидетелем преступления, совершенного из смертного страха и малодушия. Именно это преступление ему предстояло избывать.
Завесив стену листами ватмана, он чертил схемы и графики. Перед ним вставали проекции семейного древа – с надломленным стволом, упавшими ветвями, унесенной листвой; такие он видел на фотографиях с мест боев. Этот призрак древа начал являться ему во снах, пророс в него, как неупокоенная тень.
И он, чуждающийся семейственности, в глухих ночных кошмарах стал ощущать себя последней ветвью того призрачного древа, последним побегом, связанным черенком с потусторонним, призрачным бытием, как бы из него, из несуществования, растущим, присутствующим в мире яви и в мире посмертия. Он просыпался с мучительным отвращением к этой древесной метафоре, к растительной ее буквальности, уподобляющей человека ветви или листу; но чувствовал, что должен прожить эту уподобленность, принять отождествление, ибо оно, как маска – актеру, даст силы, необходимые в пути, и ключи к сотне запертых дверей, ждущих впереди.
Месяцы, годы Кирилл шел расширяющимися кругами поисков. Выписал все имена, встреченные в архиве, искал эти имена в мемуарах, исторических исследованиях; прошерстил сотни книг, архивных дел, рукописей, извлекая оттуда драгоценные крупицы упоминаний, утерянные, казалось бы, фрагменты его головоломки. Ездил в те места, где жили предки, искал свидетелей, а если не находил – делал свидетелем само место, пытаясь по нему восстановить абрис былого. Письма с ответами на его вопросы приходили из Сибири, из Европы, из Австралии, из обеих Америк, где внуки и правнуки так же хранили остатки бумаг, доставшихся от дедов и прадедов, бумаг, увезенных под полой, в чемодане, спасенных от ночных обысков, огня, артиллерийских снарядов и торпед подводных лодок в Атлантике.
Все постепенно сходилось, смыкалось, восстанавливались оборванные нити; Кирилл писал черновики, наброски – но не мог уловить ни темперамент, ни жанр будущей книги; она как бы оставалась каменной, не отзывалась его усилиям. Он преподавал в университете, писал статьи, защитил докторскую – рано, вопиюще рано по меркам постсоветского научного мира, но знал, что делает все это в треть, четверть способностей; силы его были связаны книгой, как бы авансом вложены в нее, в саму необходимость удерживать в сознании, памяти, в яви разномастный сонм призраков. Книга все время была с ним, зрела, пересочиняла себя, и он стал ее данником, но не мог ее начать, будто она сама говорила: не время.
А время, большое время, подсказывало: беги. Уезжай.
Закрылись две газеты, где он вел рубрики об истории. Когда он отказался подписать лизоблюдское открытое письмо, ему сократили часы преподавания. Закончились гранты. Все реже приглашали на российские конференции. Недоброжелатели уже поговаривали за спиной, что он – очернитель российского народа, клеветник; его диссертацию по РОА назвали «антипатриотичной».
Кирилл чувствовал, как давит, сжимает облавное кольцо время, уподобляя его героям ненаписанной книги; и думал порой, что, может, никакой книги не было и нет, она – греза, Грааль, она лишь выражает его острое, безошибочное чувство, что его судьба – тоже роковая, однако маскирует это чувство, дробит на десятки оттенков, отражает в обстоятельствах прошлого, вменяет персонажам повествования – то есть делает это чувство переносимым, пригодным для чувствования, поскольку в чистом, неразведенном виде оно убивает, как взгляд Горгоны.
* * *
Кирилл давно понял, о ком будет книга.
О ликах и масках, о дробных, текучих личностях, о Янусах истории. О тех, кому открыты сквозные двери. О непохожих, растущих как бы вбок побегах семейного древа, приносящих диковинные плоды. О странных отпрысках, в которых род заканчивается – и одновременно разворачивается в полноте возможностей, не связанных условностями и традициями. О людях, уходящих прочь от старых связей, в неизвестность. О тайных героях истории, незримо для человечества впряженных в ее приводные ремни. О тех, чья судьба – письмо в бутылке. О необычных звеньях в цепи событий – другой цвет, другой материал, – как рифма, как троп, соединяющих несоединимое. О тех, чьи поступки определяют судьбу последующих поколений, вовлекают их в метафизические водовороты.
…Кирилл видит чертеж семейного древа. Он помнит все ответвления, все имена, и дальнюю, и близкую родню, сотни человек. Корни древа уходят в пятнадцатый век, но Кириллу не нужно так глубоко. Для его семейной истории это доисторическая эпоха, подобная отрицательному времени до Рождества Христова, до нашей эры.
В 1774 году новое время еще не наступает; но в Анхальт-Цербсте рождается тот, кто сделает его возможным: Томас Бенджамин Швердт, сын церковного пастора и племянницы Готлиба Рихтера, маститого профессора медицины.
Томас изучал медицину в Йене, где жил у своего дяди, профессора анатомии и хирургии Лодера; другим его медицинским наставником был Кристоф Вильгельм Хуфеланд.
Рихтер, Лодер, Хуфеланд – первейшие медицинские умы эпохи, собеседники и врачеватели августейших персон, друзья Гете и Шиллера. Члены тайных обществ, магистры масонских лож, исследователи нетрадиционных практик вроде тибетского врачевания, авторы ученых трудов; учителя целых поколений врачей в разных странах Европы; участники великих событий, связанных с Россией: Хуфеланд лечил смертельно больного Кутузова, Лодер организовывал госпиталя русской армии в войне с французами, стал лейб-медиком императора Александра Первого, Рихтер обучал их обоих; и все трое великих, как музы или повивальные бабки, имели отношение к медицинской карьере Томаса Швердта.
Разумеется, при такой протекции будущее его было обеспечено. Впрочем, он преуспел бы и сам благодаря своим лекарским умениям, среди которых первейшим было искусство акушера: многие родовитые и богатые фамилии были обязаны ему своим потомством.
Однако выдающихся талантов своих наставников он не перенял. Был принят в их домах, участвовал в беседах, но никогда не встал с ними вровень ни в науке, ни в светской жизни. Несколько раз его судьба как бы давала осечку: рано умерла первая жена, племянница Рихтера, и он не смог вылечить ее; в 1812 году его едва не расстреляли французы за саботаж – накануне казни, когда он уже сидел в каземате и его причастил священник, город освободили прусские войска.
И Томас менял города, кафедры, медицинские специальности, словно надеялся наугад отыскать место, где его дар расцветет, принесет достойные учителей плоды. Всюду он оставался под их опекой, всюду был зван принимать роды у благороднейших семейств, – но с каждым годом все яснее чувствовал, что не войдет в пантеон небожителей от медицины.
В 1805-м родился старший его сын, Бальтазар. С этого момента и начиналась «наша эра» семьи Кирилла, ибо Бальтазар был тот, кто ступил впоследствии на русскую землю.
И Томас, и Бальтазар были частью Большой семьи, чьи границы обширны и зыбки; частью переменчивого союза нескольких семейств, объединенных, помимо разной степени родства, интересами клана. В этих интересах переплетались протекции, политика, деньги. Разные ветви Большой семьи входили в разные иерархии, сословные круги, профессиональные корпорации, состояли на службе у разных государей, поколение за поколением строили карьеру в армии, на флоте, в заморских колониях. Родившийся в Большой семье как бы был ее органом, принадлежал ей, как пехотинец приписан к своей роте, и старшие могли распоряжаться им – женить или выдать замуж, с рождения приписать к армейскому подразделению, определить в священники, врачи, адмиралы, ученые. Большая семья постоянно вела карьерную игру, продвигая своих, укрепляя позиции, захватывая новые источники ресурсов и посты, рассчитывая на два, три, четыре поколения вперед, конкурируя с другими Большими семьями, – и Бальтазар, как и его младшие братья, как и отец Томас, был фигурой в этой игре.
Кирилл научился видеть семейное древо и в этом ракурсе: не только как сеть родства, но и как сеть взаимной поддержки, схему приумножения влияния, капитала, светского «веса», карту географической, социальной, профессиональной экспансии; крона древа иногда представала для него роем, роем золотоносных пчел, собирающих земные и небесные сокровища в сокрытый улей семьи.
И Бальтазару, естественно, было предназначено занять свое место в этой игре, стать пешкой, офицером, ладьей. Но он разорвал отношения с отцом – продолжая пользоваться определенной поддержкой Большой семьи, клана – и отправился в Россию. Это объем знаний, которые были доступны прадеду Арсению и бабушке Каролине; не исключено, что Бальтазар, рассказывая детям о прошлом, в силу определенных причин приуменьшил свои стартовые позиции, поэтому потомки воспринимали его как простого доктора, а не посланца могущественных сил.
Кирилл же видит дальше.
Бальтазар закончил медицинский факультет Лейпцигского университета. Отец его – хирург и, что более важно, акушер, практиковавший при дворе Цербста, принимавший вельможные роды, имевший прекрасные знакомства среди знати. За спиной отца, как бы уже в тени вечности, фигуры трех титанов – Рихтер, Лодер, Хуфеланд, великие медики, попечители здоровья тех, кто управлял судьбами Европы. Наверное, были и другие покровители, те, кто остался за кулисами семейной истории. Великолепное начало, грандиозная будущность: только следуй предначертанию, опирайся на благосклонность Творца, и сам, возможно, к преклонным летам станешь титаном, обогатишь медицинскую науку, прославишь имя семьи.
И Бальтазар становится помощником отца, входит в его практику – отец стареет, руки, держащие скальпель или акушерские щипцы, уже не так тверды, как прежде, и ему нужен наследник. А еще отец, младший товарищ великих, ясно осознающий свои способности, знающий, что ему не встать с ними вровень, – наверняка надеется, что Бальтазар превзойдет его, сумеет не просто быть достойным покровительства, но исцелить уязвленное самолюбие отца, доказать, что Швердты способны на большее, что двор Цербста – не их предел.
Бальтазар оправдывает ожидания отца. Он еще очень молод, но – тем слаще слава! – умел и даже дерзок как врач. Три года он трудится с отцом, кропотливо готовит диссертацию – что-то об излечении грыжи, подробнее Кирилл не запомнил, – пишет статьи; защищает диссертацию, и отец готовится отойти от дел, передать Бальтазару свою практику, ввести его в круг старых друзей уже не как сына, а как медика. И Бальтазар, кажется, весь рвение, весь стремление следовать отцовской опеке и советам; средний брат, Бертольд, учится на том же медицинском факультете в Лейпциге, младший, Андреас, пока мал, и он, Бальтазар, вскоре будет доктор Швердт; в будущем – знаменитый доктор Швердт.
И вдруг, когда уже дело решено, Бальтазар порывает с отцом, с традиционной медициной, с аллопатией – и становится гомеопатом. Необъяснимо. Прадед Арсений пишет, что в Бальтазаре произошел внутренний переворот, но не может сказать почему: для него это тайна.
Арсений не знал того, что благодаря работе в архивах знает Кирилл: до переворота Бальтазар, возможно с подачи отца, был критиком, даже гонителем гомеопатии: выступал на диспутах, писал язвительные статьи о «шарлатанах», оттачивая на противнике научную аргументацию, создавая свое медицинское кредо. Гомеопатия была для него в тот период чем-то вроде опасной ереси, извращающей Святое Писание, и Бальтазар действовал с жаром инквизитора, видимо, – прямых свидетельств тому не было, но Кирилл так предполагал, – не гнушаясь цеховых или светских интриг; вероятно, отец, имевший долгую школу придворной жизни, давал Бальтазару ее первые уроки.
Но почему именно гомеопаты были избраны жертвой обличений Бальтазара? На этот счет молчали и архивы. Почему не алхимики, не целители всех видов и мастей? Кирилл полагал, что здесь не обошлось без влияния отца: возможно, некий гомеопат увел у него выгодного клиента. Но все же Кириллу казалось, что одной бытовой ссорой такую страсть не объяснить. Дело скорее было в том, что сам Бальтазар верил в медицину как в божество, верил в профетическую роль врача, посредника между божеством и страждущими людьми. И гомеопатия, возникшая недавно, распространяющаяся как модное поветрие, действительно казалась Бальтазару святотатством, ложным откровением о тайнах естества, каковые должны были открыться ему, приверженцу истинного учения. И он преследовал гомеопатов, свидетельствуя истину медицины, поклоняясь скальпелю, отсекающему бренную плоть.
И вдруг, словно Савл на пути в Дамаск: «внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?»
Ложное стало истинным, прежде истинное – ложным.
Кирилл долго искал хотя бы намек на то, как произошло преображение Бальтазара. Сначала он думал, что Бальтазар проиграл некое врачебное состязание: не сумел вылечить того, кого излечил гомеопат, и прозрел пред явленным чудом. Но чего-то не хватало Кириллу в этой гипотезе, какой-то последней точности, соответствующей масштабу самоотречения и перемены.
Бальтазар написал впоследствии несколько статей о гомеопатии, написал о том, как пребывал в потемках незнания, отлученный от истинного света, пока Провидением Господним не обрел верную меру вещей. Но – ни в одной из статей не указал, как именно Господь явил ему откровение. Стеснялся? Не мог объяснить некий смутный знак? Или – не считал нужным открывать публике глубину своего потрясения, полагал произошедшее существующим только между ним и Богом?
Бальтазар щадил в статьях чувства отца, его профессиональное эго… Эта догадка, ни на чем не основанная, позволила Кириллу проникнуть, как он думал, в давний замысел судеб. Бальтазар смертельно заболел. Болезнь могла свести его в могилу или, в лучшем случае, оставить калекой – слепым или глухим, безногим или уродом. И отец, Томас, не смог его вылечить – своего сына, свою надежду. Отец не смог, друзья отца не смогли, а гомеопат, которого, скажем, втайне пригласили родственники, – сумел. Гомеопат. Проклятый еретик.
Жестоковыйный отец предпочел бы, чтобы сын умер, – будто этим излечением тот продал душу дьяволу. А молодой Бальтазар, бесстрашно вызывавший смерть на бой, когда дело касалось чужих жизней, впервые познал на себе тяжкую ее печать – и поменялся в болезни, ибо прежде верил в великую свою будущность и мнил себя неуязвимым. Спасшись же, он не просто признал истинность гомеопатии – он увидел в ней свое поприще, свой путь.
«Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? – и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил».
Кирилл много раз перечитывал эти строки, пока в голову не пришла мысль, запоздавшая потому, что сам он вырос атеистом в атеистической стране: Бальтазар, внук пастора и сын набожного отца, наверняка прекрасно знал Библию – и наверняка осмыслял происходившее с ним сквозь призму «Деяний святых апостолов», случая на пути в Дамаск. И даже, наверное, будучи натурой пылкой, экзальтированной, мог в бреду болезни, в отраде исцеления вообразить себе некий Голос – или услышать так речи врача-гомеопата.
Но почему новый Бальтазар, Бальтазар-гомеопат, отправился в Россию? Потому что северная держава дика, в ней не слишком развита медицина, и ее легче будет обратить, чем европейцев, закосневших в старых медицинских предрассудках?
Какую роль тут сыграли три титана, Рихтер, Лодер, Хуфеланд, и Большая семья, которая могла извлечь пользу из внезапного порыва молодого врача, счесть его новое поприще достойным внимания – и определенным образом направить паладина?
Итог странствия Бальтазара был известен Кириллу, а вот истинные, внутренние начала его терялись во мраке. И Кирилл отправился в путешествие по городам, где жил Бальтазар, меняя места вместе с отцом, прежде чем обратиться в гомеопата и отправиться на Север. Лейпциг, Гримма, Цербст, Виттенберг – где-то там сложился его характер, завязался узел его судьбы, и Кирилл надеялся разгадать этот узел, но не в городских архивах, а на тех улицах, которыми ходил Бальтазар, в его домах, церквях, среди его рек и холмов – по тем вещам жизни, что создают силы судьбы, ее притяжения и отталкивания, ее тайные зовы, шепоты, ночные фантомы, звездные чертежи.
* * *
Кирилл несколько дней бродил по Лейпцигу. Но город ничего не хотел рассказать ему. Раскрыв широкие пасти, выпятив трехпалые когтистые лапы, выпучив слепые глаза, смотрели на него позеленевшие от купороса химеры, сидящие на карнизах церкви на улице рядом с отелем; они виделись ему воплощением уродливой мощи забвения, ибо их пасти, казалось, издают бессмысленный, конвульсивный рев твари, не знающей, для чего и какими причинами рождена.
Известняковые грифоны с бараньими витыми рогами, собачьими хвостами и сложенными за спиной крыльями, поддерживающие балконы и потому придавленные массой камня; круглоглазые демоны с птичьими когтями и львиными гривами, вмурованные в медальоны над входными арками дверей, тщащиеся выбраться наружу, окаменевшие от собственной злобности, – город глядел на него десятками адских зрачков, будто хтонические силы были при его созидании замешаны каменщиками в самый строительный раствор и теперь лезли изо всех щелей, сливаясь в одну глумливую дьявольскую маску с длинным, изощренным в деле лжи языком.
Кирилл уже хотел уехать. Оставалось только одно место, где он еще не побывал, – памятник Битве Народов. Заранее тоскуя от того, что будет окружен экскурсантами, пытаясь развлечь себя мыслями о том, что Озеро Слез на Мамаевом кургане в Волгограде Вучетич скопировал с лейпцигского монумента, он с утра приехал к памятнику. Шел сильный дождь, ветер выворачивал зонт; у кассы никого не было.
Он поднялся на смотровую площадку. Пока поднимался, дождь перестал, небо над башней очистилось. Облокотившись на парапет, он смотрел на низкие дома с черепичными крышами, кирпичную водонапорную башню, телевышку вдали, в хмуром дождевом тумане… И постепенно, всматриваясь, понял, что выбрал верное место; то, что город должен был сказать ему, могло открыться лишь отсюда, с высоты и со стороны.
Битва Народов… 1813 год… Отец Бальтазара, Томас Бенджамин, едва не расстрелянный французами… Внезапно зрение его будто переменилось, и он увидел, как выглядела простирающаяся внизу равнина после десятилетия наполеоновских войн – сожженные дома, отравленные трупным ядом реки, истоптанные войсками пашни. Равнина эта была беззащитна, открыта всем ветрам войны, всем проходящим армиям; город был словно распят на перекрестке торговых дорог, обречен быть разграбленным – раз за разом.
Так вот в чем рос Бальтазар, вот откуда он уезжал, вот что было его детскими воспоминаниями. Кирилл бессознательно приписывал предку отъезд из сегодняшней Германии, а тот уезжал из маленького королевства Саксония, разоренного войной; из меньшего, раздробленного мира – в больший, устойчивый и безопасный.
– Казавшийся устойчивым и безопасным, – автоматически поправил себя Кирилл.
Видение исчезло. Он стоял на квадратной вершине гранитной башни. Снова начинался дождь, окрестности заволокло моросью.
К полудню он вернулся в центр. День, казалось, был исчерпан тем, что случилось. Он слонялся по улицам, думал позвонить отцу, но почувствовал, что не стоит делиться догадкой, иначе тропа открытий оборвется. А Лейпциг еще не все рассказал ему; оставалась какая-то деталь, малая, но важная.
Но где искать ее? Найдется ли она? Внезапно Кирилл решил пойти туда, куда не собирался, – в музей городской истории. Еще утром он думал, что музей ничего не сообщит ему именно потому, что это музей, где собрано то, что город хочет показать; а теперь ему казалось, что его проверяют на тонкость чувствований – сумеет ли он отказаться от собственного предубеждения?
Плюшевый мишка с нацистской нарукавной повязкой. Полицейские ГДР в шлемах с пластиковыми забралами. Советский плакат «Мы победили». Старинное бюро из дуба, покрытое лаком – на полированной крышке внутренний рисунок роста дерева исполнен той же бессознательной мощи, что и движение Господней руки в «Сотворении Адама». Мухобойка-переросток, сделанная из стеганого грубого брезента, – тушить огонь, распространяющийся от зажигательных бомб.
Кирилл бродил по залам музея, смешивая эпохи, ни на чем пристально не останавливая взгляд. Он ждал, чтобы изнутри какой-то вещи, как из шкатулки с секретом или настенных часов с кукушкой, показался на секунду тайный ее житель – посмотреть, не закрылся ли уже музей, не ушли ли смотрители, можно ли резво спрыгнуть на паркет и отправиться в гости к соседу, мальчику-угольку, живущему в старом пожарном шлеме с латунными крыльями. Конечно, Кирилл только настраивал свое внимание с помощью этого образа, хотя ему и доставляло простое удовольствие воображать, как перемигиваются портреты сановных стариков или жалобно плачет о своих трещинах переживший бомбежку сервиз. Он ждал от вещей, как бы приговоренных к своим материальным ролям, к немоте очевидности, – вот масляная лампа, вот печатный станок, – какого-то проблеска, преодолевающего косность материи, дающего вещи способность свидетельствовать о чем-то, что не равно ей.
Красные штаны. У мужчины на картине были красные штаны. На заднем плане – толпа, за ней Старая ратуша, та самая, где сейчас музей, в котором стоит и смотрит на полотно Кирилл.
Красные штаны; что-то в них было настолько задорно-нелепое, что Кирилл остановился.
Influenced by the July Revolution in Paris… Demonstrations in Leipzig… Furious citizens wrecked the apartment of high-ranking police official… September 1830.
Кровавое эхо французской революции. Горожане с саблями, солдаты с ружьями. Матрона спешит увести детей. Собака мечется под ногами. Бюргеры скрестили, подняв вверх, клинки – клятва, обет? Ребенок с игрушечной шпагой не хочет уходить. Матрона в голубых лентах смотрит на него с укором.
Через месяц с небольшим Бальтазар Швердт уедет из Лейпцига в Россию.
Ребенок с игрушечной шпагой не хочет уходить.
Швердт уедет.
– Что это было? – спросил себя Кирилл. – Последняя капля? Последний довод в пользу решения об отъезде? Нет. Решение было принято задолго до. А свара на городской площади оказалась лишь знаком, что все решено верно. Знаком, после которого у Бальтазара стало легче на душе. И он отправился в путь, не отягощенный сомнениями.
– Красные штаны, – Кирилл рассмеялся, – красные штаны.
От веселых и опасных красных штанов – на полюс холода, в николаевскую Россию, где император назначает кушанья по сословиям и чинам; имеет власть над костюмами обывателей, где никому не позволены вольнодумные красные штаны; к холодной вечности власти, к северному ее безжизненному сиянию.
На ум пришли строки из тютчевского послания декабристам:
…Что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить! Едва, дымясь, она сверкнула На вековой громаде льдов, Зима железная дохнула — И не осталось и следов.Тютчев написал эти стихи в Мюнхене в 1827-м, через два года после восстания. Юный Бальтазар вряд ли читал их, но мог смотреть на северный престол с тютчевской немецкой перспективы: как на источник замораживающего, рождающего кристаллические формы порядка, который защищает аристократию от стихии городских низов, выплескивающей на площади, от лютости черни, не желающей знать истин высокого ума; порядка, который можно обратить к вящей пользе гомеопатии, если использовать его как инструмент просвещения.
Красные бунтарские штаны, призрак красного петуха, поющего огненной тягой под сухими крышами. Красными штанами будут награждать в советской России революционных командиров Красной армии. Красные штаны в двадцатые годы высыплют красной сыпью на полотнах советских баталистов вместе с алыми стягами и красными лентами на папахах. Красные штаны, заправленные в солдатские сапоги, придут к потомкам Бальтазара выбрасывать их из усадьбы и квартиры, грабить добро немчуры, проклятых германцев, чужеземных кровопийц, – от них, от красных штанов, бежал Бальтазар к российскому императорскому престолу, казавшемуся ему, как и Тютчеву, незыблемым.
Кирилл вспомнил, как поразил его простой эпизод из записок французского посла Палеолога, передававшего с чужих слов, что взятый под стражу в Царском селе отрекшийся император Николай Второй развлекался на исходе холодов тем, что колол пешней лед в бассейне. И солдаты охраны, издеваясь, кричали бывшему самодержцу: а что ты будешь делать, когда растает лед?
А что ты будешь делать, когда растает лед? – Кирилл на всю жизнь запомнил этот вопрос, как постскриптум к тютчевской уверенности, что вековая громада льдов, основание северного трона, не растает никогда. И теперь он чувствовал, что эти же строки были ретроспективным эпиграфом к отъезду Бальтазара в Россию.
Гримма, Виттенберг, Цербст.
Гримма, Цербст, Виттенберг.
Виттенберг, Гримма, Цербст.
Цербст, Гримма, Виттенберг.
Кирилл тасовал названия городов, думая, в каком порядке их посетить. Он выбрал самый простой путь – следовать биографии Бальтазара и его отца Томаса, переменам их судьбы.
Гримма, Цербст, Виттенберг, сказал он себе, засыпая, будто повторял детское заклинание, магическую считалку, вызывающую старика-домового, живущего в подвале, знающего все о прежних жильцах дома, о строителях его и о том, что было на этой земле, на этом поле, прежде чем в основание фундамента лег краеугольный камень.
* * *
В Гримма он был единственным, кто сошел с поезда, – или ему так показалось? Заколоченный, исписанный граффити вокзал. Советский памятник в парке рядом – жалкий, заброшенный, такой, что увидишь – и не запомнишь, то ли стела, то ли звезда…
Памятник гусарскому полку. Человек с зеленым, болотным лицом – чувствуется близость реки, камень покрывается мшаной порослью – положил руку на холку коня, шинель распахнута, открыв богато вышитый, обвешанный шнурами мундир; след голубиного помета на виске, как шрам; характерный абрис Железного Креста на груди.
И что ему эта скульптура, что Железный Крест на груди гусара Первой Мировой, – а все ж задевает, поднимает внутри волну отчуждения.
Развернулся, пошел в другую сторону. Школа на холме. Бальтазар учился в другой, эта новее, буржуазнее, помпезнее.
Башенки, эркеры, готические трилистники, мраморная Сова Минервы над входом. И вдруг – словно старого знакомого узнал в толпе: бюст Розы Люксембург, привычный унылой манерой изображения, абстрактностью бетонного лица, которое должно было выражать безграничный гуманизм и любовь к прогрессивному человечеству, а не выражает ничего.
Странно, но Кириллу стало легче. Он не мог представить себя родившимся в таком городе, учащимся в такой школе, живущим в одном из таких, похожих на песочный торт, особняков. В Гримма было не только единство стиля, но и плотность стиля, и он не мог войти в эту плотность, как не мог бы погрузиться в насыщенную солью воду Мертвого моря. Тут все было слишком настоящим – оконные обводы из розового песчаника, бронзовые флюгера и цеховые знаки, орнаменты с белыми пляшущими грифонами, идиллическими девами.
Родившийся под красной звездой, серпом и молотом, сделанный – в той мере, в которой жилец перенимает изъяны дома, – из сыплющегося цемента, негодных трескающихся кирпичей, сырой штукатурки, из которой ушла связующая сила вещества, – Кирилл ощущал, что беспородность дает ему свободу. И ему казалось, что он понимает одно из начал судьбы Бальтазара Швердта: желание вырваться в легкий мир, где твоя биография не обусловлена судьбами предков, их громоздкими домами, полными добра, их эмблемами и гербами, самим веществом их жизни – дуб, золото, шелк, – столь же добротными, столь и тяжелыми.
– До свидания, – сказал Кирилл и поцеловал Розу Люксембург в бетонную щеку.
Он прошел мимо городского архива. Хотел зайти, но передумал, сказал себе – в следующий раз, зная, что следующего раза не будет.
Архив предстал перед ним квинтэссенцией городского существования; словно город жил, чтобы производить посмертную упорядоченность документов на полках, где, как и при жизни, рядом друг с другом почивают бумаги добрых соседей; где сын наследует отцу, внук – деду и соприкасаются пожелтевшими страницами завещания бывших возлюбленных, как когда-то – слишком тесно – соприкасались их балконы.
Архив внезапно показался беззащитным перед его вторжением, как вещи в доме перед новыми хозяевами. К тому же он больше верил своей способности вникнуть в чужую судьбу, понять самый ее дух, чем архивным сведениям, самому жанру архива.
Вниз по улице, к располневшей ратуше с золотыми часами, отмеченными 1515 годом. Сколько минут насчитано за пять столетий, а в ратуше по-прежнему кабачок в подвале, и смотрит на часы золотой лев, лежащий под голубым небосводом арки дома напротив.
Вниз, вниз, к старому гранитному мосту. Вправо будет фабрика, а за ней – гимназия, где преподавал Томас, отец Бальтазара, и учился в ранние годы он сам.
Кирилл перешел реку, чтобы увидеть гимназию издали, – настолько та была велика.
Здание гимназии смотрело в пустоту противоположного берега. Отрезанное рекой, оно открылось взгляду целиком; три этажа, тридцать окон на каждом. Какой же длины там коридоры, подумал Кирилл; гимназия была больше города, больше узкой речной долины, выше гранитных скал.
Фасад гимназии, разлинованный белыми карнизами, был сам по себе урок начертательной геометрии. Берег напротив бугрился каменными кручами, там рос старый лес, еще не проснувшийся после зимы; грубые скалы были увиты плющом. И гимназия смотрела фасадом, будто старинный линейный корабль – всеми грозными пушками борта, на эти хаотические формы природы, говоря, что каждое вещество будет исчислено, всякой материи будет указано ее место. В гимназии, как в огромном Ковчеге, было все – кроме тайны мироздания; ее мироздание было конечным, постижимым.
И Кирилл представил, как маленький Бальтазар тосковал в гимназии; как хотел, чтобы над ним не были властны эти окна и эти коридоры.
Кирилл прошел несколько километров вдоль реки, вверх по течению, мимо плотины и подвесного моста. Он думал о гимназии, о мрачном ее могуществе, о кирпичном строгом здании, вытянутом вдоль берега, как здешние бумажные фабрики. О том, что человек действительно может сбежать на край света от этой фабрики биографий, оседающих потом жухлыми листами в архиве с чешуйчатой башенкой и флюгером-штандартом, который единственный движется в городе; он и река.
Но почему Россия? В гимназии наверняка был огромный глобус на бронзовой дуге: выбирай любой материк, любую страну. Кирилл знал ответ. Он ждал его в следующем городе, в Цербсте. Он снова прошел по мосту из розового песчаника, мимо синих, зеленых, фиолетовых пасхальных яиц в витринах, за серую бетонную стену, которой город заслоняется от наводнений, сквозь стальные тяжелые ворота, мимо отметок уровня половодья в разные годы, нанесенных на угол разрушенного дома, графика катастроф, вошедших в привычку, – к красному поезду, который отвезет его в Лейпциг.
* * *
Цербст был известен Кириллу лучше остальных городов на его маршруте; естественно, благодаря Екатерине Второй, Софии Фредерике Августе Анхальт-Цербстской.
Хотя она жила в Штеттине, где ее отец состоял на службе у прусского короля, а не в Цербсте, ее брак с наследником российского престола в 1744 году и восхождение на трон в 1762-м наверняка соединили цербстский княжеский и российский императорский дворы десятками, сотнями разнообразных нитей.
Наверняка, думал Кирилл, кто-то из вельмож маленького княжества бывал в Санкт-Петербурге, был ослеплен (как некогда будущая императрица) роскошью империи, пользовался милостями владычицы и привозил обратно истории о могущественной северной державе, о просвещенной правительнице, прислушивающейся к советам мудрецов и состоящей в переписке с самыми выдающимися умами Европы.
Кирилл приехал в Цербст около полудня. Улицы были пустынны, а в домах, казалось, поплотнее прикрыли ставни, задернули занавески, опустили жалюзи.
Направо, потом налево, по Пушкинпроменаде, к старому княжескому дворцу. В Германии Кириллу всегда было неловко идти по этим Гагариналлее, Пушкинпроменаде, Лермонтовштрассе, заместившим исконные немецкие имена улиц. Но именно здесь, на пути к родовому гнезду Екатерины, Пушкинпроменаде была уместна. «Иностранные писатели осыпали Екатерину похвалами, – вспомнил Кирилл цитату из пушкинских заметок. – Очень естественно: они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, кому она позволяла путешествовать».
Рассказы, рассказы, рассказы… Кирилл миновал башню на торговой площади, свернул в дворцовый парк, к малому, реставрированному, и большому, разрушенному, дворцам, к новодельной статуе Екатерины.
Лживая бронзовая весталка в платье, расшитом невинными цветами, как бы невзначай тянущая руку к скипетру и короне империи, лежащим на постаменте. «Старушка милая жила приятно и немного блудно», – сказал про себя Кирилл, радуясь ироническому водительству Пушкина.
Екатерина умерла двести пятьдесят лет назад. Но, похоже, клятвопреступница и убийца мужа до сих пор вызывала какие-то иллюзии у просвещенных европейцев; или – ее фигура придавала значительность месту, делая его не захолустьем, а родиной великой императрицы.
Кирилл представил, как изощрялись в льстивых речах немцы и русские, как несли восторженную околесицу бургомистр и земельные чиновники; какую-нибудь чушь про «мост культуры» и «многовековое единение», как замшелые дворяне, представители каких-нибудь обществ дружбы и памяти, пили шампанское под фейерверк, отражавшийся в замковом пруду. Он погуглил и нашел, что на торжества приезжали даже организаторы общества памяти Петра III в Киле; хорошенькая же история, думал он, душеприказчики убитого приезжают чествовать убийцу; Екатерина бы вдоволь посмеялась!
Но, помимо грустного презрения, Кирилл чувствовал, что он на верном пути мысли. Вся эта посмертная суета, дележ дивидендов славы два с половиной столетия спустя показывали, какой культ императрицы существовал тут во времена Бальтазара и его отца.
Кирилл смотрел на разрушенный Большой дворец, зияющий провалами окон верхнего этажа, на почерневшие статуи над фронтоном, и представлял, какими глазами на те же окна смотрел юный Бальтазар. Отец его принимал роды в этом дворце, был вхож ко двору, где звучали разговоры о немецких карьерах в России, о губернаторах и генералах, ученых, принятых в Академию наук, о Палласе, учившемся неподалеку в Галле, а ныне совершающем экспедиции на Восток, в места необитаемые, сулящие открытия для всех родов наук; об Эйлере, которому императрица подарила дом в столице; о прочих, именитых и безымянных, спешащих в Россию, чтобы извлечь пользу из ее дикости, бескрайности, встретить чудеса, которые если где и сохранились, то в том неисследованном краю.
В четырнадцатом году нового, девятнадцатого столетия в Германию приехал Николай, внук Екатерины, брат победителя Наполеона Александра. Вскоре состоялось венчание Николая и Шарлотты, дочери Фридриха, перешедшей в православие и ставшей Александрой Федоровной. Россия обручилась с Пруссией; и все это толковалось и перетолковывалось в Цербсте, где правил уже другой род, не связанный кровными узами с покойной императрицей, но хранивший память о золотых, жемчужных, изумрудных миражах с Востока.
Кирилл пришел к гимназии, где учился Бальтазар. Узкие и высокие готические витражи делали ее похожей на собор, а нижние ряды камней, грубых булыжников, словно вырастали из земли, чем выше, тем явственнее обретая обработанные, обтесанные формы. Справа стояла башня, заглядывающая за городскую стену. На фасаде, обращенном к городу, остались, отпечатались в кладке следы того, как здание росло, трижды увеличивалось в размерах. На другом фасаде были окна: узкие, монашеские внизу и одно широкое, витражное, с цветным стеклом и готическим четырехлистником наверху. Кирилл узнал четырехлистник, он видел его на могилах Немецкого кладбища; вот где рождались эти знаки, чтобы украсить могильные плиты в далекой северной стране.
Бальтазар был ученик этой школы, не изменившейся со Средневековья. Ученик, воспринявший всерьез не только ее уроки, но и самый ее дух, сумрачный, упорно-монашеский, стремящийся и к высшим тайнам, сокрытым в материи, и к мистическим откровениям небес; исчезающий дух времени, когда люди полагали существующими и Святой Грааль, и кракенов, и ведьм, алхимики искали философский камень, а волшебники тщились поймать саламандру или найти мандрагору, дарующую бессмертие.
Конечно, в годы ученичества Бальтазара в гимназии читали уже совсем другие лекции; ясный свет новой науки разогнал по углам тени прежнего мистического знания. Но оно жило в самих ребрах ее стен, закопченных свечами сводах, камнях фундамента и абрисе колдовской башни, надмирного приюта мудрецов. И, попав сюда после гимназии в Гримма, гимназии нового времени, Бальтазар сделал первый шаг к будущему преображению в гомеопата, шаг к способности сочетать знание и экзальтированную веру.
Но где Бальтазар получил силы для преображения? Что вырастило в нем апостольскую силу, превратило гомеопатию в мессианскую страсть? В Цербсте ответов на эти вопросы не было. Завтра Кирилл ехал за ними в Виттенберг, куда переселились Швердты после Цербста.
* * *
Lutherstadt Wittenberg – прочел Кирилл на вокзальной вывеске.
Ему казалось, что в любом немецком городе, где он бывал, жил, проповедовал или учился Лютер, о чем сообщали городской путеводитель и мемориальная доска; в СССР так отмечали каждый дом, где бывал Ленин, и знакомый пафос отталкивал Кирилла.
Когда-то он читал лютеровские тезисы, по случайности – сразу после трех томов собрания сочинений Ленина, статей 1916–1917 годов. И его поразило сходство двух мощных, но узких умов, сам стиль риторических конструкций; восстание против капитализма духовного, обращения индульгенций, у Лютера, и восстание против капитализма материального у Ленина. Он думал написать статью о лютеровском начале в русском социализме, но, как часто с ним бывало, поленился пойти дальше гипотезы.
И, как бы сбитый с толку привязчивой мелодией шлягера, он бродил по городу. Лютер смотрел с пивных бутылок и витрин кафе. Лютер был магнитом на холодильник. В цветочной лавке продавали луковицы гладиолусов «Лютер». На главной площади фермеры торговали Luther-tomaten, и неистовый реформатор с грустью смотрел с портрета на ценнике на мелкие помидорки по восемь евро за килограмм. Лютер живее всех живых, сказал себе Кирилл. Ему было тесно на узких улочках, где каждый знал, что ты еще один турист, приехавший в город потому, что это Lutherstadt Wittenberg.
Придавленный громадой собора – уже не места Бога, а места Лютера, – Кирилл пошел прочь от старого города, вдоль реки, в пустоту полей. Был полдень, солнце светило почти отвесно, и деревья будто росли из края собственной тени. Отойдя километра два, наблюдая только течение реки между мощеных скатов, колыхание красных и зеленых бакенов, он забыл о Лютере, о Виттенберге, оставшихся за спиной.
Только что подмеченный образ волновал его: дерево, растущее из края собственной тени, будто тень – его корни. И вдруг он понял, что дерево – это Бальтазар, а тень – это Лютер; первый невозможен без второго.
О, как ясно Кирилл увидел юношу, жившего в городе Лютера, в городе, где учился Джордано Бруно. В маленьком городе у реки, где совершилось преображение в пророка и началось новое время истории; где слово и вера перевернули мир.
То, что в эпоху Кирилла превратилось в отрыжку культуры, в магнитики и памятные значки, в эпоху Бальтазара еще было живо как подвиг духа. Еще передавалась в поколениях память о войнах за веру, о победе над Тилли и Валленштейном; еще отправлялись в дикие земли миссионеры, а за океаном возникал Новый Свет, материк протестантской веры, увенчанный евангельским городом на вершине горы.
И Бальтазар – неизвестно, глубоко ли он верил в Бога, какой природы была его вера, – мог увидеть в самом прибытии в Виттенберг провиденциальный знак, вообразить, влекомый искушением духа, что он избран, подобно Лютеру, и поверить в избранничество, став гомеопатом, апостолом новой медицинской истины.
Стоя на берегу тихой реки, слушая ветер в полях, шорохи сухой покорной травы, Кирилл впервые – краем, эхом – ощутил масштаб и силу искушения, заставившего Бальтазара отправиться в Россию. Ощутил, как нечто непредставимое, чужеродное для современного человека, который назвал бы это чудачеством, самообманом, наивностью, тогда как для Бальтазара это было страстью.
Кирилл думал о разновидностях человеческих страстей, движущих историю. О том, что есть среди них особый вид: не темные страсти тиранов, предателей, палачей – и не светлые страсти святых, борцов за правду, защитников угнетенных.
Это особые страсти, порожденные иллюзиями. Бальтазар, отправляясь обращать русских в новую медицинскую веру, полагал встретить непросвещенность, дикость, то есть несуществование, необладание самостью. Он будет принят при дворе, скажет истинное слово (при помощи или устами монарха) – и все преобразится в одно мгновенье, ибо не своезаконно, а лишь дозрело до того, чтобы стать, пребыть.
Но мнимое несуществование ответило Бальтазару. Он думал, что русские переменятся, станут его паствой, – а почва отразила его намерения в кривом зеркале, и переменился он, стал заложником ее.
Кирилл представил, словно воочию видел сцены из греческих мифов, как совокупление неверных грез, обманчивых иллюзий с местной почвой рождает совсем иных существ – зловещих химер, рождает рок, как посеянные в борозды поля зубы дракона рождают убийц.
Рок. Кирилл ощутил новый для себя смысл слова. Он чувствовал, что жестокая по своей сути апостольская мечта Бальтазара, возникшая не повелением Господа, а силой лукавого соблазна, обольщения образами пророков прошлого, мечта о покорении и преображении варварской страны – вызвала той же силы ответ места, которое не отвергло мечту Бальтазара, но покорило его ответно, сделало частью своей судьбы.
Семейный рок, как чудовищное дитя от браков героев или божеств с хтоническими силами, которые породили циклопов, Аргуса, Тифона и им подобных, терзающих род людской монстров, возник на свет из этой попытки оплодотворить мнимую пустоту, мнимое невинное лоно.
Рок. Призрачное чудовище, которому Бальтазар невольно скормил детей, внуков, правнуков и праправнуков своих. Рок, исторически являвшийся в образах многоглавой германской Гидры, опутавшей Россию, пьющей ее чистую народную кровь, крадущей ее капиталы; в образах фашистской Гидры, рассылающей шпионов, «хитрых змеев болот», проникающих в Страну Советов, отравляющих колодцы, ищущих черные души предателей, сплетающих сети коварства и лжи.
Рок.
Стоя у входа в старое университетское здание, глядя на барельеф над воротами – пухлый младенец, играя, обнимает череп, а над ним пересыпают минуты песочные часы, – Кирилл думал: не есть ли он такой младенец, беззаботно играющий с костями мертвых, тогда как некие часы уже отсчитывают время его судьбы? Не есть ли его попытка восстановить прошлое такая же опасная химера?
Просто работай, сказал себе Кирилл. Пиши книгу. Ты не в ловушке, тебе открыт весь мир. Ты, в отличие от предков, всегда можешь уехать, сменить страну, жизнь, биографию. Ты не в ловушке идентичности. Поэтому трагедии не случится.
Он развернулся и пошел к вокзалу.
* * *
Возвратившись в Москву, Кирилл с новым, неизведанным чувством отправился на Немецкое кладбище к могиле Бальтазара. Теперь он – единственный на свете – владел тайной души неистового апостола. Кириллу показалось, что он нарушил загробный покой, сломал печати; Бальтазар хотел унести некоторые вещи с собой в могилу и потому не рассказал о них даже детям, а Кирилл проник в его тайну.
Самолет за три часа покрыл расстояние, на которое у Бальтазара ушло три недели. В Россию с ним прибыл младший брат, Андреас.
Бальтазар еще из Германии вступил в переписку со старым князем Урятинским – наверное, кто-то из вельмож Цербстского двора свел молодого врача с родовитым сановником. Кирилл предполагал, что Урятинскому в планах Бальтазара была отведена роль первой ступеньки, ведущей к трону; молодой честолюбец и пророк надеялся в скором будущем быть представленным императору и поразить самодержца чудесами гомеопатии, положить начало гомеопатическому крещению империи.
В Москве Бальтазара давно ждал старик Лодер. Христиан Иванович лично знал Николая Первого, младшего брата своего властительного пациента Александра, и состоял с царем в переписке. Вероятно, Бальтазар рассчитывал устроить в имении князя Урятинского гомеопатическую лечебницу, представить плоды ее работы сперва князю и Лодеру, а затем, при их посредничестве, самому царю.
В переписке Бальтазар, как ловкий торговец, намекал Урятинскому, что в Германии найдено средство, ведущее, возможно, к обретению вечной молодости, и гомеопатия уже ныне излечивает недуги, неподвластные кровавой, мясниковской аллопатии. Видимо, Бальтазар не хотел пускаться в объяснения о сути гомеопатического метода, полагая, что дряхлеющего вельможу надежнее соблазнить сиянием фальшивых бус.
Возможно, Лодер, давно живущий в России, предостерег бы Бальтазара против Урятинского, возможно, он делал это в письмах; но Бальтазар не смог встретиться с давним наставником отца – в Москве свирепствовала холера, и его задержали на кордоне, не пустили в город.
Лодер умер через два года.
Кирилл зашел на могилу Лодера, там же, на Немецком, – а где еще он мог быть похоронен? Старый памятник, видимо, разрушился, его восстанавливали уже в советское время, поставив неказистую гранитную плиту и написав ЛОДЕР Х. И. – будто в каком-то бюрократическом списке, перечне пенсий или наград.
Могилы Лодера и Бальтазара оказались недалеко друг от друга – в то время кладбище было гораздо меньше. И Кирилл думал, скольких бедствий удалось бы избежать, если бы эти двое, разминувшиеся из-за эпидемии, встретились.
У холерного кордона разошлись дороги Бальтазара и Андреаса, о котором впоследствии мало что было известно: то ли остался в России, то ли возвратился в Германию. Кирилл, увлеченный Бальтазаром, о его младшем брате не думал, помнил только, что, по сведениям генеалогического древа, тот рано умер, не оставив значимого следа в истории семьи.
Бальтазар же вынужденно отправился в имение к Урятинскому; холера не оставила ему выбора.
Прадед Арсений, военный врач, иногда цитировал в своих дневниках записи Бальтазара, оставленные для потомства и потерянные или уничтоженные, вероятно, в Гражданскую войну. Он приводил собственноручные строки Бальтазара: «семь лет работал, проживая в усадьбе у благодетеля моего, князя Урятинского».
Прадед Арсений не придал значения очевидной пустоте этих строк, уложивших семь лет в двенадцать слов. Или, скорее, прадед просто не знал, кто такой на самом деле князь Урятинский: наследники вельможи приложили много сил, чтобы пресечь ходившие о нем в свете слухи, «очистить» наследство и род, вернуть себе карьерные позиции.
Да и сам Кирилл пропустил бы эту фамилию, счел бы семь первых лет Бальтазара просто потерянным временем, если бы не странная мгновенность последовавшей затем метаморфозы: превращения из апостола в обычного человека.
Там, внутри семи лет, 1830–1837, скрывалась тайна. И Кирилл отправился за ней, ибо из нее вырастала дальнейшая история семьи; эта тайна как бы встраивала в рисунок судьбы каждого последующего поколения некий вывихнутый сустав.
Кирилл вспомнил, как первый раз приехал в бывшую усадьбу Урятинского. После революции ее национализировали, часть флигелей снесли. Потом усадьба пострадала в войне: в сорок первом за толстыми кирпичными стенами оборонялись советские, а в сорок третьем – немецкие пехотинцы, и штурмующие старались разбить стены артиллерией. Затем усадьбу перестроили еще раз, чтобы открыть санаторий. В девяностые недолговечные советские пристройки начали разрушаться. Неухоженный парк зарос сорными ольхами так густо, словно деревья росли не из семян, а из дождевых капель. И посреди этого леса, тревожного, серого, возвышались остатки усадебных зданий, словно глыбы иного, чуждого вещества, брошенного сюда рукой титана.
Происходивший из рода татарских мурз, перешедших на русскую службу после взятия Казани, – род вел линию из Сибири, от тех кочевников, что служили Чингису, – князь Урятинский, офицер гвардии, мимолетный фаворит последних лет Екатерины Второй, принцессы из Анхальт-Цербста, – был в молодости истовым германофилом. И свою усадьбу – земли получены в дар от венценосной любовницы – выстроил в стиле средневекового немецкого замка, даже камень не пожалел возить за тысячу верст из чухонских земель, чтобы был гранит, а не известняк.
И вот теперь, спустя два с лишним века, среди запустения, среди глухой серости молодого подроста торчали остатки его рукотворной Германии. Квадратная, с прямоугольными зубцами, сторожевая башня у ворот. Другая башня, с гротом в основании, обвитая лестницей, – Башня Уединения, как назвал ее Урятинский. Замковые машикули на фасадах, простые капители, изящные, как дамская табакерка, эркеры, посаженные на грубые гранитные стены, декоративные гипсовые вазы и рога изобилия, скульптуры дев и божеств, от которых остались только нижние половины, – дикое смешение вросших в друг друга стилей, все, что Урятинский будто награбил в Германии, мародерски вырвал из контекста, соединил согласно интуициям дикой своей души и поместил в тихий и безгрешный лес у малой реки, поставил на топкую, неуживчивую почву, питаемую водами весенних половодий.
Даже не знай Кирилл судьбы Урятинского, ему было бы неуютно, жутковато среди руин чужой безумной грезы, среди остатков чудачества такого размаха, что оно перестает быть чудачеством и обретает величие утопии. Но Кирилл знал, и потому мурашки бежали по коже, чудилось, что в заросших грудах кирпича, в темноте подвальных окон, в провалах рухнувших крыш, в траве – всюду ловушка, всюду можно провалиться, остаться здесь навсегда, как едва не остался Бальтазар.
Кирилл видел в медицинском архиве одно из писем Урятинского Бальтазару, в котором обговаривались условия службы доктора. Его поразил почерк, Кирилл сказал бы, почерк фехтовальщика – легкий, летящий, здравый, выражающий ясную, открытую, цельную натуру хозяина. Наверное, подумал Кирилл, этот почерк и увлек Бальтазара; тот представил себе просвещенного вельможу, приближенного Екатерины der Grosse; великого, мудрого старика – Урятинскому было лет семьдесят, когда Бальтазар приехал в Россию, – покровителя наук, того, кто первым преклонится пред сиянием Гомеопатии.
Кирилл и сам поверил бы почерку – если бы не представлял себе, кто такой Урятинский, дитя Золотого века Екатерины, в царствования Александра и Николая Первого – осколок былой эпохи, отправленный в вечную опалу за дело, совершившееся в Михайловском замке весной 1801 года, богач, запершийся в поместье, исчезнувший с глаз света властитель своего болотного, удаленного края.
Урятинский сделал состояние на немцах.
Это он нанимал вызывателей колонистов, людей, вербовавших в Германии семейства для переезда в Российскую империю.
Требовались умелые земледельцы и ремесленники – шорники, кузнецы, бондари, мельники, виноделы, каменщики, иные мастера. А вызыватели Урятинского везли бедняков последнего разбора, дряхлых стариков, безнадежно больных. И обворовывали их, недодавали денег, а точнее сказать, давали лишь самую малость того, что полагалось. Были у Урятинского свои люди в конторах опекунств, заведовавших иностранными колониями, в правительственной Канцелярии, и через его руки шли те миллионы, что выделялись ежегодно переселенцам на путевые расходы, питание, на обустройство; ссуды на вспомоществование колониям.
Старшие фавориты Екатерины наживались на военных заказах, на флоте, заводах, лесе и хлебе. А младший, незаметный, не имевший решающего влияния Урятинский запускал руку в казну с другой стороны; каждый, наверное, немецкий колонист, прибывший в Российскую империю, приносил ему прибыль. За десятилетия он скопил знатный капитал.
Урятинский держал своих агентов при немецких монарших дворах, посылал дорогие подарки.
Привозил он также разное на потеху двору, императрице, пресыщенной развлечениями, каждый день требующей новых забав. Люди Урятинского не брезговали насильно увечить детей, чтобы вырастить из них карлу или горбуна; привозил он арапов и диковинных дикарей из заморских стран, фокусников, глотателей шпаг, изрыгателей огня, гадалок, музыкантов, предсказателей, астрологов, артистов, знатоков игры в шахматы, лекарей, архитекторов, домашних наставников, поваров, жриц любви, шутов, карликов и великанов, уродов всех мастей, шестипалых мужчин, бородатых женщин, детей с рудиментарным хвостом вместо копчика, гермафродитов. Но главные свои деньги хитрый Урятинский все же сделал на обычных, ничем не примечательных немцах – копейка к копейке, рубль к рублю; ограбил при переезде, опутал долговой кабалой, приставил ушлых мздоимцев вести колонистские дела.
Александр, налагая на Урятинского опалу, богатства не лишил. Тогда-то возник в лесной глуши германский замок, ибо Урятинский душою прикипел к немцам, полагал, – кажется, Александр счел сие признаком подступающего безумия, – что весь народ в России желательно было бы немцами заменить. Будучи подростком, вступающим в юношество, Урятинский пережил пугачевскую осаду Казани, видел дикое войско восставших – казаки, мужики и башкиры вперемежку. И потому, наверное, навсегда сохранил страх перед народной стихией, укреплял, как мог, берега Волги немцами, словно сажал растения, способные корнями сковать эту чреватую бунтом почву, – и о своем кармане не забывал.
Никогда Урятинский своих дел с вызывателями напрямую не вел, никогда его имя в делах колонистских не упоминалось. Случалось, и дипломатические поручения Екатерины выполнял он, и потому в Европе знали его как вельможу из просвещенной монархии, одного из тех, кому подвластна огромная Империя.
Со времени опалы, с 1801 года, не был Урятинский в Германии, вообще не выезжал из поместья. Поэтому тот, кто сказал о нем Бальтазару, знал не только фальшивого, но и прежнего Урятинского.
Три десятка лет сидел он в своей глуши, как тучный огарок пудовой свечи. Даже французы в двенадцатом году не добрались до усадьбы, ни единый кавалерийский патруль. Переживший врагов и друзей, оставшийся душой и умом в ушедшем восемнадцатом веке, – девятнадцатого не видел он, запертый среди лесов, – Урятинский (вот когда пригодилась торговля диковинным живым товаром) устроил в поместье подобие двора императрицы – такого, каким он его помнил.
В потайном ящике княжеского секретера хранились дары ее мимолетной благосклонности – перстень с изумрудом и усыпанная алмазами табакерка. Урятинский, впрочем, постепенно забывал, что благосклонность была мимолетной, и уверился, что был фаворитом императрицы дольше всех прочих; затем прочие потускнели, растворились в нетях, и Урятинский уже считал себя единственным.
Он наполнил свой угрюмый замок карлами и уродцами, завел крепостную труппу акробатов. В отшельничестве, среди лесов, заговорила в нем татарская кровь, и он купил кобылиц для лечения кумысом, созвал шаманов и колдунов – а точнее, мошенников, притворявшихся шаманами и колдунами, – якобы из сибирских дебрей. Хвори одолевали старика, ушла мужская сила, и по дальним дорогам, по европейским трактам скакали посланцы старого сластолюбца, выискивая диковинные корешки или микстуры, способные вернуть желание плоти. При «дворе» его толклись бабки-ворожеи, травницы, расстриженные монахи, самозваные лекари – и никого он не отпускал от себя, установил заставы на дорогах.
Урятинский забыл о своей немецкости, она сошла, как лоск. Князь жил как хан, помещик-мурза, обтирался вонючим барсучьим жиром, пил колдовской отвар кладбищенских травок, слушал бормотуна-звездочета, льстиво сулящего ему снятие опалы, – и казнил за лесть, приказывая оставить льстеца нагим на болоте на поживу мошкаре.
Мысль о вечной жизни, о власти над телом и старостью поселилась в Урятинском, точила изнутри вьюжными ночами, в жару натопленных печей, во чреве засаленных мехов. Урятинский отверг рачительность юности, приобретенное немецкое почтение к золоту; иные искали алхимиков, способных превращать свинец в драгоценный металл, а он, наоборот, жаждал, чтобы золото превратилось в некое новое вещество, в то, что превыше земной материальности, в лекарство, возвращающее юность. Он отдал флигель каким-то мошенникам, оборванцам, якобы изгнанным из университетов косными профессорами, и щедро платил им, жадно слушая их сказки о первоначальных элементах, об огненных саламандрах и духах земли.
Можно представить, какое впечатление на Урятинского произвело внезапное письмо Бальтазара. Тот писал о «вечной жизни» и «одолении материи» в идеалистическом смысле, желая обозначить искомые пределы, горизонты гомеопатии. А Урятинский прочел письмо буквально. И вцепился в Бальтазара – отсюда щедрое приглашение, готовность на любые расходы, обещание подарить доктору лечебницу. Урятинский словно получил привет из прошлого, прямое указание Всевышнего, каким путем идти, – и уверовал в немца-гомеопата, только совсем не так, как Бальтазар рассчитывал, – безумной, темной верой. И наверное, если бы Бальтазар потребовал жертвоприношений, Урятинский бы, не раздумывая, пустил под нож своих холопов, ибо среди окольных путей ему был явлен путь прямой, осененный немецким изобретательным гением, могущим даже у смерти вырвать ее скорпионье жало.
Апостол явился Урятинскому, истинный апостол среди тысяч ложных, которых он сам свозил из германских королевств и княжеств. Именно ему, кто восприял немецкий дух, кто столько лет просеивал человеческий песок, ища алмазы! Впрочем, Урятинский не разогнал своих ворожей и колдунов, они – бессильные, ненастоящие – все-таки составляли его свиту, отряд низших существ, вроде кобольдов, должных вострепетать и пасть ниц, встречая пришествие нового Фауста.
А Бальтазар, наивный Бальтазар, прочел письмо Урятинского, написанное ясным почерком человека шпаги, как подтверждение собственным мыслям, знак реальности своих мечтаний. И поехал к чудесному князю.
Кирилл, стоя среди развалин, представил, как впервые прибыл сюда Бальтазар. И что он пережил тут за семь лет затворничества.
Серые ольхи, болотные деревья, любящие ржавь воды. Неуступчивые кирпичи, еще помнящие пламя обжига; «семь лет работал, проживая в усадьбе у благодетеля моего, князя Урятинского».
У благодетеля моего…
Кирилл не сразу понял, почему Бальтазар запечатал семь лет жизни в две строки и никогда не писал, не рассказывал ничего больше; хранил тайну, будто тайну исповеди.
Сначала Кирилл восстановил, что было можно, о жизни Бальтазара в поместье Урятинского: княжеский приживал, архивариус и библиотекарь, оставил чрезвычайно любопытные записки. Их за солидную сумму выкупили наследники, потом мемуары были вывезены в Европу и осели в эмигрантских архивах; один молодой исследователь подготовил по ним публикацию и тем самым навел на них Кирилла.
Бальтазар, конечно, существовал где-то на периферии записок; но тем не менее кое-что отыскать было можно. Как Бальтазар, поняв, что не будет ни лечебницы, ни представления императору, а только изыскания вечной жизни для полоумного старика, пытался бежать; на второй раз князь приставил к нему слугу из бывших варнаков, клейменого каторжника, убивца, задушившего на спор самого крупного из княжеских волкодавов; как Бальтазар отказался делать что-либо, и князь запер его в Башне Уединения, приказав не приносить еды, и Бальтазар довел себя до голодного обморока, пока тот же варнак – проникшийся между тем странным почтением к подопечному – не накормил его, вливая бульон через медную воронку; как Бальтазар заражался безумием князя, и они вдвоем размешивали гомеопатические растворы; как от стараний Бальтазара прошла княжеская подагра, и князь заподозрил, что хитрый немец знает гораздо больше, чем показывает, не хочет делиться знанием, и приказал вздернуть лекаря на дыбе; как смилостивился, слыша уже хруст выворачиваемых суставов, и завернул измученного Бальтазара в свою шубу; как женил его, глумясь, на немке-гувернантке, молоденькой девочке, выписанной присматривать за бастардами князя, и приневоленный, не смеющий отказаться священник совершил над ними венчальный обряд, хотя оба были чужой веры; хоть беззаконным был тот обряд, а все ж – перед Богом, просто так не откажешься, обратно не развенчаешься.
Потом у князя появился новый лекарь, утверждавший, что может исцелять электричеством, строивший диковинные машины для уловления молний, и князь, разочаровавшийся в гомеопатии, сослал Бальтазара в дальний флигель, заставил выполнять простую работу аптекаря, врачевать лукавую дворню.
Помешанный на молниях чудак трактовал, что все в человеческом теле движется электричеством, оно есть эссенция жизни, и для омоложения необходимо восполнять его запас; причем нужно именно природное, первичное, как он говорил, электричество, как бы сцеженное из набухших сосков грозы, – чудак был не чужд поэтического. Едва собиралась буря, он выходил на луг, устанавливал там свою машину – колбы, змеевики, наверх торчит железный шест – и тщетно ждал, чтобы молния ударила в шест. Князь Урятинский стоял поодаль под зонтом и нетерпеливо смотрел в небеса.
Однажды чудак почти добился своего. На луг выплыла шаровая молния, закружилась вокруг машины, затанцевала на верхушке шеста, а потом медленно опустилась вниз; ловец молний коснулся ее – и сгорел заживо. Бальтазар был на том лугу. Урятинский позвал его, чтобы показать отставленному гомеопату новую, истинную науку о жизни и смерти, и Бальтазар видел огненный шар, летящий в сумерках, видел, как вспыхнул, обращаясь в пепел, целитель электричеством.
А вскоре князь Урятинский умер. Записки содержали тончайший, одной только интонацией выраженный намек, что князь был отравлен. Никаких имен архивариус не называл, обвинений не выдвигал; а уж родственники-наследники и подавно; несметно богатый князь скончался, так сказать, по всеобщему согласию, мирно, в своей постели, ибо закончился его срок земной и его призвал Господь.
Но, что интересно, побывав в усадьбе Урятинского, поездив по окрестным деревням, Кирилл узнал, что до сих пор ходит среди местных стариков, тех, кто тридцатых, довоенных годов рождения, старше уже никого не осталось, – легенда о немецком враче, отравившем в семнадцатом смутном году графа Козельского, владельца поместья, и скрывшемся с его сокровищами.
Урятинские действительно продали усадьбу Козельским в середине XIX века. Только вот никакого немецкого врача у графа Козельского не было, это Кирилл установил доподлинно. Граф не был отравлен, а вполне себе предусмотрительно выехал революционной весной во Францию, сохранив жизнь и сбережения. Похоже, легенда о враче-отравителе просто была спроецирована на Козельских; это вплеталась в новые обстоятельства, перетолковывала саму себя старая история, совершившаяся в 1837 году.
Никаких доказательств не было, но Кирилл чувствовал, что он не обманывается, верно прочел случившееся тогда. Бальтазар понял, что сумеет вырваться из усадьбы, ставшей тюрьмой, только если Урятинский умрет. Но князь, хотя жаловался на здоровье, покидать этот свет не собирался, уж это Бальтазар мог диагностировать.
И Бальтазар отомстил за свое заточение, за убитую апостольскую мечту. Наверное, шаровая молния, сверкавшая в сумерках луга, испепелившая человека в наказание за бездумную игру с великими силами природы, подтолкнула давно зревший замысел Бальтазара, придала силу действия его мыслям. Молния заставила Бальтазара выбрать судьбу, не только себе, но и потомкам, хотя он всего лишь искал спасения от безумного князя. Сам ли Бальтазар дал князю яд, или снабдил отравой убийцу, подосланного наследниками, или не оказал должного лечения князю, отравленному кем-то неизвестным? Кирилл не знал. А может, Бальтазар был вообще ни при чем, дворня и слуги оговорили его, чтобы снять вину с себя?
Но почему же тогда Бальтазар не возвратился в Германию? Не хотел возвращаться, как блудный сын, к отцу-аллопату, не хотел признавать поражения? Однако после семи лет в плену он, наверное, подрастерял и спесь, и гордость, он мог бы ступить на родной порог, завершить давнюю распрю мудрым примирением.
А вместо этого Бальтазар отрекся от гомеопатии и занял место врача во Вдовьем доме в Москве, в пансионе, где доживали век вдовы и дети небогатых государственных чиновников; на такую должность и протекции, вероятно, особой не требовалось. Он служил во Вдовьем доме всю оставшуюся долгую жизнь, до 1884 года.
Сначала Кирилл думал, что Бальтазар положил себе замолить, искупить грех, вольный или невольный, служением вдовам и сиротам; решил вернуться к традиционной медицине, ибо гомеопатия, точнее его мечта об обращении народов в гомеопатическую веру, завела его слишком далеко и в прямом, и в переносном смысле.
Но обихаживать слабых можно и в Лейпциге, вряд ли место имеет первостепенное значение. Должно было быть еще какое-то обстоятельство, которое решительно препятствовало отъезду Бальтазара, отменяло саму возможность думать об этом.
Долги? Жена из простонародья, к тому же обрученная с ним вопреки канону? Страх разоблачения, обвинения в смерти Урятинского? Но если бы Бальтазар боялся обвинений в убийстве, он, наоборот, из всех сил стремился бы уехать.
Кирилл перебирал эти вопросы, целиком сосредоточившись на Бальтазаре. И вдруг его осенило: младший брат, Андреас! Кирилл помнил о нем только то, что тот умер бездетным, и именно по причине бездетности не интересовался его судьбой, отбросил его, как ветвь, не принесшую плода.
Андреас! Влекомый предчувствием, Кирилл подошел к стене, где висел ватман с генеалогическим древом, провел пальцем по линиям со стрелочками: так, Томас Бенджамин, его жена Шарлотта, Бальтазар… Андреас. 1817–1837. Служил в Морском корпусе.
1837-й. Кирилл стал лихорадочно листать бумаги. Урятинский умер – Кирилл не мог все-таки сказать «убит» – осенью 1837-го, в конце ноября. Андреас – снова взгляд на генеалогическое древо – Андреас скончался в феврале 1837-го. Двадцати лет от роду.
Кирилл – так сыграло воображение – по невнимательности считал, что Андреас тот умер много позже, выйдя в отставку после Морского корпуса.
А выходило, что Андреас… погиб?
Младший брат, младший брат… Андреас. Хотел ли он ехать в Россию? Чем Бальтазар его соблазнил? Или его отправили – со своими целями – родственники? Второе вероятнее. Кирилл еще раз внимательно изучил генеалогическое древо. Священники. Врачи. Чиновники. Никого, кто бы имел хоть какое-то отношение к морю. Наверняка большинство из них моря даже не видели. Так почему же Андреас оказался в Морском корпусе? Протекция, какой-то выходец из Цербста посодействовал? Но почему просили именно об этой протекции?
И вдруг Кирилл понял. Никто не просил о протекции, все было ровно наоборот. Кто-то из немцев, членов Большой семьи, служивших в Морском корпусе, сам предложил взять туда Андреаса – ибо хотел постепенно выстроить свой родственно-национальный клан. Ему нужны были дети своих, ни с кем в России не связанные, те, кто впоследствии будет обязан ему карьерой. И Андреаса отдали ему, этому неизвестному благодетелю, приговорили к морю; мальчик, он еще ничего не решал сам. А Бальтазар просто сопровождал его в Россию, был попутчиком.
Пять лет учился в Корпусе. Приняли несмотря на то, что Андреас наверняка не знал русского языка. Значит, покровитель был весьма влиятелен. Кто он? Важно ли это?
Кирилл написал запрос во флотские архивы. И через месяц получил по электронной почте краткую выписку.
Андреас Швердт. Выпущен из Морского корпуса мичманом. Определен на военный транспорт, шлюп «Грозящий», отправляющийся в кругосветное плаванье. Из этого плаванья не вернулся. Погиб. Все.
Кирилл позвонил историку флота, которого ему порекомендовали.
– Кругосветка? Фактически сразу после выпуска из Корпуса? – спросил историк. – Странно. Вы не представляете, как сложно было попасть на любой корабль, уходящий в кругосветное плаванье. На самый распоследний несчастный баркас.
– Почему? – Кирилл слишком мало знал о флоте и никогда не задумывался, как, собственно, комплектовались экипажи для такого рода экспедиций; ему казалось, что в них просто отправляли штатный состав офицеров и матросов, разбавленный учеными и дипломатами.
– Милостивый государь, – сказал его собеседник с иронией, указывая на вопиющую неграмотность Кирилла, впрочем простительную для «историка вообще», не имеющего узкой специализации, – участие в кругосветке было важнейшим фактором карьерного роста. За него просто дрались, поверьте. Адмиралы всеми силами проталкивали своих протеже. Обошел вокруг шарика, – Кирилл почему-то не ожидал слова «шарик» из уст собеседника, – и положен чин вне очереди. Идет ускоренный подсчет выслуги лет для представления к орденам и начисления пенсии. Как будто на машине времени прокатился. Некоторые офицеры за пару-тройку кругосветок такую карьерную лестницу одолевали, какую иные в пятнадцать-двадцать лет не могли осилить.
– Спасибо, – искренне сказал Кирилл. – Спасибо.
– А почему вы интересуетесь это темой, коллега? – спросил Моряк. Кирилл знал, что его собеседник – капитан второго ранга в отставке, боевой офицер, служил на крейсерах, и бессознательно выбрал ему такое имя. – Вы же, кажется, занимаетесь двадцатым веком? Я читал вашу работу по Карибскому кризису. Ну, с нашей, военно-морской, так сказать, точки зрения, там же флот глубоко задействован был…
Кирилл изначально не думал посвящать Моряка в детали своего исследования, да и судьба Андреаса представлялась ему вторичной по сравнению с Бальтазаром. Но сейчас его охватил азарт; он чувствовал, что откроется какая-то важная деталь.
– Я пишу книгу об одном немецком семействе, – сказал Кирилл. – Меня интересует мичман Андреас Швердт, шлюп «Грозящий». Он погиб на Маркизовых островах. В смысле Андреас, а не шлюп, – вдруг сбился, пустился в объяснения Кирилл.
– Знаменитый случай, – сказал Моряк. – Ну, для нас, для флотских. Но не описанный.
– Не расскажете? – спросил Кирилл, уже зная, что ответит Моряк.
– С удовольствием, с удовольствием, коллега, – казалось, Моряк сейчас попросит подождать, пока он раскурит трубку, и Кирилл услышит в телефоне стук деревянной ноги по паркету или потешное занудство говорящего попугая.
– Редчайший случай был. Мы все-таки не англичане, не французы, они в тех краях гораздо больше плавали, – начал Моряк. – У них такое случалось, и не раз. Но в Российском императорском флоте случай экстра-орди-нар-ный. Экстра-орди-нар-ный! – Моряк произнес это слово и назидательно, и восторженно. – Первый и единственный. Чтобы офицер Российского императорского флота…
– Что с ним произошло? – спросил Кирилл, которого начала раздражать манера собеседника повторяться и целиком произносить название флота.
– Его съели, – ответил Моряк. – Его съели.
Кирилл вздрогнул, словно Моряк говорил сейчас о ком-то родном ему, близком, а не о неведомом, чужом Андреасе. Жуткое слово «съели», пахнущее трупной гарью, окатывающее холодом ленинградской блокады, скребущим под лавкой смертным голодом тридцатых; съели – и где душа, есть ли она на том свете, ждет ли ее воскрешение?
В голове почему-то родился образ маленького корабля, искалеченного штормом, носимого ветрами по просторам Тихого океана. Припасы закончились, нет воды, и люди-мумии, ворочаясь, ползают по палубе, точат друг на друга ножи; не матросы, не офицеры – те, кто выживут, и те, кто нет…
– Понимаю. Впечатляет, – тихо сказал Моряк. – Понимаю. Государь император, прочитав рапорт командира корабля, повелел сие дело огласке не предавать, дабы не допустить никоим образом урона чести моряцкой, – он, кажется, цитировал резолюцию монарха. – Бумаги убрали в архив, команду распределили по другим судам.
Свои, точно, свои сожрали, подумал Кирилл, и ужас заполнил его сердце. Андреас, Андреас, барашек жертвенный, мальчик милый, посланный на смерть властолюбивой родней! Это родня тебя съела, как жрет свинья своих поросят; как он ненавидел в тот миг тесные узы родства, отданность детей в руки отцов!
– Дикари, – сказал Моряк.
– Дикари, – тихо, эхом ответил Кирилл, думая о своем.
– Нет, вы не поняли, – сказал Моряк, уловив его состояние. – Настоящие дикари. Каннибалы. Местное племя. Туземцы.
Туземцы… Новый водоворот образов закружился в голове: листья пальм, из пальмовых ветвей сделанные хижины, голые смуглые тела, копья, костяные бусы, мазки белой глины на лицах, дымок, сизый дымок от обложенного камнями очага, грубость, тяжесть этих камней, способных размозжить затылок, опрокинуть в блаженное беспамятство, пока стругают кремневым ножом свежий кол, длинный, смазанный прогорклым, осклизлым жиром вертел…
– Шлюп шел на Камчатку, – сказал Моряк, и Кирилл зацепился за это «Шлюп шел», шлюпшел, шлюпшел, шлюпшел, шлепшел, шлепшел, шлеп, шлеп, шлеп, хлюп, хлюп, хлюп…
– На Камчатку, – отозвался Моряк. – Транспорт. Вез пушки. Пресная вода заканчивалась. И командир решил пристать к острову. Там была разведанная бухта. Имен у нее было штук десять, мореплаватели каждой страны давали свое.
– Островитяне, – продолжил он, – приняли посланцев любезно. Даже слишком любезно. Обещали воду, фрукты, свежую свинину. Но расплатиться предложили порохом и ружьями. Ничего другого в обмен не брали. Капитан рассвирепел и приказал арестовать жреца, явившегося для переговоров. Жреца напоили ромом, подарили пистолет. В обмен на пистолет жрец согласился дать продукты. Наутро они поплыли на шлюпке к берегу – жрец, мичман Швердт, переводчик и десять матросов. У Швердта была инструкция на берег не высаживаться, ждать на воде, пока туземцы приведут свиней и принесут корзины со снедью. Но, кажется, был сильный прибой, и мичман скомандовал высадку. У матросов были ружья, и он был, вероятно, уверен, что ничего дурного не случится. Потом к шлюпке большой толпой явились островитяне. Переводчик сказал, что между ними нет женщин, это дурной знак, но мичман приказал ждать, пока туземцы доставят обещанные припасы; ему, наверное, нужно было доказать начальству свою сметку и храбрость.
Мичман… Кирилл словно переводил для себя, заменяя «мичман» на «Андреас», чтобы слушать повесть именно о брате Бальтазара.
– Туземцы внезапно бросились на команду шлюпки. С ножами, с копьями, спрятанными в толпе, – сказал Моряк. – Мичман успел прокричать «Спасайтесь!», матросы выстрелили из ружей. Но нападающих было слишком много. Шлюпку выволокли на песок. Матросы бросились вплавь к кораблю. А мичман остался на берегу, его оглушили в схватке.
– Сначала командир шлюпа отправил на выручку большой баркас, три десятка матросов с ружьями. Но баркас густо обстреляли с берега. Потом оказалось, что полугодом ранее французский корвет тоже попал в засаду, и дикари захватили огнестрельное оружие… – Моряк замедлил темп, помолчал. – Пока разворачивали шлюп, заряжали орудия картечью, собирали штурмовую команду… – голос Моряка прервался, и Кирилл понял, что он тоже переживает то, о чем говорит, но как офицер крейсера, как тот, кто имел право отправлять людей на смерть; скорее сожалея о неумелом командовании и ненужных потерях.
– Картечью туземцев выбили из зарослей. Выкатили на берег пару пушек из числа тех, что везли с собой, прорубились через джунгли, – голос Моряка окреп, словно он сам командовал высадкой. – Но было поздно. В деревне нашли то, что осталось от мичмана. И лоскуты кителя. Эполеты и пуговицы дикари с собой утащили.
Кирилл представил себе эти окровавленные лохмотья и почувствовал, как в горле поднимается тошнота. А голос Моряка заговаривал, нашептывал:
– Были рапорты, что много лет спустя эти пуговицы находили у аборигенов, у вождей. У кого в ожерелье, у кого навроде серьги в ухо вставлена; значит, высоко оценили мичмана, сочли его достойной жертвой, великим воином… И да, – Моряк добавил с внезапным стеснением, будто отчитывался перед начальством, – тело обнаружили изуродованным. С несомненными следами каннибализма. И без головы.
Без головы… Всадник без головы…
– Командир шлюпа долго думал, что делать с останками мичмана, – продолжал Моряк. – Могли бы похоронить в море, по традиции. Но, вероятно, командир хотел или был вынужден сохранить тело для расследования. Его засолили. Запихнули в бочку с рассолом. И похоронили на Камчатке, в порту прибытия. Без головы. Все это засекретили. Но слухи расползлись, конечно. Особенно среди матросов. Был один исследователь, занимался флотским фольклором. Он отмечал, что легенда о Соленом Мичмане бытовала даже среди экипажей Балтийской эскадры Рождественского накануне Цусимы, семьдесят лет спустя.
– О Соленом Мичмане? – переспросил Кирилл.
– Да, – ответил Моряк. – О Соленом Мичмане. О безголовом мертвом офицере, который живет в бочке солонины. И главное – не открыть ту бочку. Не ошибиться. А если откроешь – Соленый Мичман выберется наружу. И убьет всех. Отомстит за то, что его оставили на поживу дикарям. Сожрет живьем. Но, – Моряк усмехнулся, – это же фольклор, непоследовательное, сказочное повествование. Как он сожрет, если у него нет головы? И следовательно, нет рта и зубов?
Кирилл собрался и как бы невзначай спросил:
– А легенда как-то отражала тот факт, что мичман был немец?
– Нет, – ответил Моряк. – Никак. Просто Соленый Мичман. Обобществили, так сказать, – Моряк засмеялся. – Русифицировали.
Кирилл тупо смотрел перед собой. Неловко попрощался, скомкав конец разговора, сварил себе кофе в турке, но пить не стал.
Андреас… Те годы, что Бальтазар провел в усадьбе Урятинского, он учился в Морском корпусе. Была ли между братьями переписка? Позволял ли князь Урятинский Бальтазару писать письма? Скорее всего, нет. Значит, Бальтазар просто исчез и для немецкой родни, – те думали, что он разорвал все связи с семьей, – и для Андреаса, который наверняка получал почту из дома, то есть был осведомлен о том, что Бальтазар не пишет отцу и матери; у него было правдоподобное, убедительное объяснение молчанию старшего брата.
Бальтазар покинул имение после смерти Урятинского, приехал в Москву, и… К этому моменту шлюп уже пришел на Камчатку, и курьер с рапортом прибыл через Сибирь в Санкт-Петербург. Все это время, с февраля по ноябрь, смерть Андреаса еще не существовала как событие. О ней знали только команда «Грозящего», а потом еще и фельдъегерь. Хотя вряд ли фельдъегерь был осведомлен, он просто вез пакет среди прочих пакетов…
Кирилл представил, как долго – месяцы и месяцы – письмо путешествовало по разбитым дорогам и Андреас Швердт был еще жив для всех любящих его. Смерть имела форму конверта с сургучной печатью, ехала в нем, отсроченная, чтобы сбыться, когда конверт откроют. И фельдъегерь вез эти смерти, – вряд ли Андреас был единственным покойником, – дисциплинарные проступки, представления к наградам, отчеты об открытых землях, о стычках с местными племенами, вез с одного края света на другой, словно слабый нервный импульс медленно двигался по спинному мозгу громадного динозавра Империи от зубчатого хвоста Камчатки к голове, расположенной в Санкт-Петербурге, ибо все окончательно происходило там, в голове, а вся протяженность периферии была погружена в тягостный, мутный сон полубытия.
Бальтазар… Он освободился от Урятинского, а судьба, словно зная наперед его поступки, загодя отняла у него младшего брата, но придержала эту смерть как бы за кулисами, как хороший драматург. Бальтазар был наказан заранее. А то, как погиб Андреас, съеденный дикарями, служило нравственным возмездием.
Бальтазар словно увидел грозящий лик Бога во всех чертах мира, думал Кирилл. Ощутил взгляд Бога, смотрящего на него. И жизнь его с того мига ему не принадлежала, она вся была – искупление. Поэтому он истово трудился во Вдовьем доме, поэтому прожил всю жизнь с навязанной ему женой и даже, кажется, полюбил ее – или заставил себя полюбить; поэтому не мог вернуться к отцу, – Бальтазар знал, почему погиб Андреас, на ком крест, на ком вина.
И остался один, вне связей Большой семьи, клана.
Один.
* * *
Семь дочерей было у Бальтазара: Анна-София, Шарлотта, Фредерика, Агнесса, Гертруда, Ульрика, Паулина – и единственный сын, Андреас. Последний ребенок, позднее дитя – мальчик, долгожданный, наверное, мальчик.
Кирилл смотрел на общий семейный портрет. Старшая, Анна-София, уже замужем, Андреас еще младенец. Он спит в колыбели, стоящей у колен отца и матери в центре снимка; его нет, он еще не родился для взрослой жизни, для истории, для ее циклопьего глаза, выбирающего жертв. Кирилла бросала в дрожь предопределенность снимка: до революции 1917 года доживет только дитя в колыбели, словно объектив фотоаппарата в далеком 1856 году, – закончилась Крымская война, – уже беспристрастно разделил в будущем живых и мертвых. Кирилл мог объяснить это рациональными причинами, средней продолжительностью жизни, но его не оставляло ощущение, что затвор камеры сработал как нож гильотины.
Кирилл смотрел на генеалогическое древо, ветвящееся десятками жизней. Восемь детей. Ничего необычного для того времени. Но все-таки ему казалось, что апостол Бальтазар истратил себя в детях, в каком-то смысле стал графоманом судьбы, излил свой дар, предназначенный для чудес и свершений, семенем в лоно безропотной жены, словно все-таки стремился распространиться, охватить собой темные пространства; но мог только плодить себя же, надеясь, что среди списанных под копирку судеб будет одна, в которой сверкнет, возродится мечта об апостольстве.
Однако рождались только дочери, которым предстояло уйти в семьи мужей, быть переиначенными в чужую линию существования. Да и не мог, увы, Бальтазар, человек своего века, поверить, что апостольство явится в женщине; и в лицах, фигурах, облике дочерей словно проступало растущее разочарование Бальтазара в собственной способности породить настоящего наследника.
От статной Анны-Софии, девы с холодным лицом, королевской осанкой, белокурой принцессы – до серой мышки Паулины, кажущейся служанкой, которую господа по душевной доброте пригласили в гостиную. Платье Анны-Софии повторяет не фигуру ее, а внутренний абрис отчужденного достоинства, словно ткань способна чувствовать эманации аристократизма; платье Паулины, сшитое тем же портным, просто облекает тело.
Андреас же спит в колыбели, нежное дитя, баловень судьбы, случайная искра, мелькнувшая над огнем, – так иногда меж оранжевыми, летящими из костра, вспыхивает одна фиолетовая, словно не из этого пламени рождена, словно прилетела из темноты, стремясь к вольному танцу сестер, чьи судьбы, предопределенные лукавой тщетой попыток Бальтазара родить сына, последователя, его тайным отцовским недовольством, будут нелепы и горестны.
…Анна-София стала гувернанткой в семье богатых помещиков, вышла замуж за наследника, старшего сына; перешла в православие, стала Анной Преображенской, владелицей особняка с зимним садом, и умерла в 1914 году, узнав, что внук ее, сын единственной дочери, погиб в первом же бою под Гумбинненом.
Шарлотта, вышедшая замуж за врача, отправленного в 1875 году в Кокандское ханство, к правителю хану Худояру, союзнику Империи, и погибшая с ним по дороге от рук мятежников.
Фредерика, любимая дочь отца, больше всех похожая характером на мальчишку – кажется, на нее возлагал Бальтазар некоторые апостольские надежды, – чувствовавшая, наверное, тяжесть отцовских полаганий, выбравшая самую незаметную судьбу, вышедшая за учителя музыки, поляка родом, уехавшая с ним в Варшаву, – связь с нею прекратилась в 1915 году, когда в город вошли немецкие войска.
Агнесса, ставшая в православии Агнией, – выбравшая себе амбициозного мужа, чиновника Министерства внутренних дел, и убитая вместе с ним, когда эсеровские бомбисты подстерегли не ту карету – чиновник купил себе такую же, как у жандармского полковника, заслужившего славу вешателя в 1905 году; жили они по соседству – наверное, полковничья карета и сподвигла завистливого советника на внезапное приобретение.
Гертруда, дочь-потеря. Судя по описаниям Бальтазара, у нее был ранний рак, он не мог поставить правильный диагноз, испробовал все средства, вернулся к гомеопатии – словно отряхнул пыль со старого алтаря, попробовал воскурить фимиам отринутому богу, – тщетно; ни микстуры аллопатов, ни гомеопатические снадобья не могли вернуть жизнь угасавшей девочке. Бальтазар унизился – может, вспомнил усадьбу Урятинского, лекарский сброд, собранный там, – позвал известную в Москве старуху, умевшую предстоять перед иконами, отмолить душу болезного, но и та оказалась бессильна, то ли издевалась над немцем-лекарем, надменным с ней прежде, то ли правду сказала: гаснет свеча, и нет спасения этой душе.
Ульрика, жена двух мужей, беглянка, подданная двух государей. Родись она на несколько десятилетий позже, стала бы эмансипированной дамой, а в том времени исчерпала себя в преодолении условностей, добиваясь развода, возбуждая мужские распри, вплетавшиеся в канву мировых противоборств и войн вплоть до мясорубки Ютланда, когда линейный крейсер Флота открытого моря «Зейдлиц», где служил артиллеристом ее сын от первого брака, отправил на дно линейный крейсер Гранд Флита «Куин Мэри», вместе с которым погиб сын от брака второго.
Паулина – Павла в православии – тихая дочь, мышка-малышка, словно никогда не знавшая взрослости, никогда не отсоединившаяся от отца и матери, от семьи. Сестра всех сестер, связующее звено, одинаково своя и для ледяной Анны-Софии, и для манерной Агнессы, и для чуждающейся остальных Ульрики; самый дух сестринства, заколка, стягивающая спелые волосы старших сестер; тонкий серебряный замочек на ожерелье из тяжелых агатовых бусин. Серебряный замочек, серебряное колечко, жена священника из Рязани, – помолвку устроила Анна-София, радостно снизошедшая до сестры, – вынесшая самодура-мужа, битье, но, когда муж вступил в Союз русского народа, совершившая деликатное самоубийство, отправившись на лодочную прогулку по Оке, где лодку перевернула волна от проходящего парохода. Павла, не умевшая плавать, – павла-плавать, заметил для себя Кирилл, – утопла, не оставив детей. Она была бесплодна, за что и колотил ее муж, и погибла, предавшись той же водной стихии, что возьмет в себя детей Ульрики и саму Ульрику, купившую, возвращаясь из Нью-Йорка домой, билет на «Лузитанию».
Единственный мальчик, Андреас, поименованный в честь съеденного брата, принесенный в искупительный дар Андреасу – Соленому Мичману, отданный на откуп судьбе. Однако судьба будто не приняла жертвы; слишком очевидным и простым было намерение Бальтазара: заместить одну жизнь другой, посвятить сына памяти брата.
Бальтазар боялся, что мальчик погибнет во младенчестве. Ему всюду чудились опасности – в речном неглубоком омутке, в невысоких перилах, в узостях переулков, откуда может вылететь карета, подгоняемая лихим возницей. Однако Андреас рос ясно и прямо, не испытывая свойственного многим детям желания познать границы жизни, натуралистически понять, что есть смерть.
Он легко учился и далеко опережал сверстников. Прекрасно считал, был усерден в чистописании, хорошо рисовал, – живущая во Вдовьем доме дама, в молодости бравшая уроки живописи у итальянского педагога, научила Андреаса маслу и акварели; но еще лучше – чертил, ибо абстрактные фигуры занимали его ум больше конкретных вещей. Собственно, его в жизни воодушевляли, волновали предметы, порожденные инженерным гением: крепости, плотины, шлюзы, бастионы, акведуки, а особенно – железные дороги и мосты.
Словно чувствуя свое положение «между», будучи немцем по крови и русским по рождению, Андреас любил железные дороги, состояние транзита, непринадлежности конкретному месту, которое они дают.
Невдалеке от Вдовьего дома текла Москва-река. Подростком он проводил дни на ее берегах, наблюдая за строительством Бородинского моста. Раньше на этом месте была деревянная переправа, страдавшая от паводков, переправа, по которой шли в 1812 году солдаты Наполеона. А теперь на ее месте возникал мост, названный в честь великого сражения, в память о кровавой связи Запада и Востока. И строили его русские немцы – железнодорожный инженер Иван Рерберг и инженер-полковник Аманд Струве, будущий мастер мостов, покоритель Оки, Днепра и Невы, создатель Литейного и Дворцового мостов в столице, в Санкт-Петербурге, будущий владелец Коломенского машиностроительного завода, выпускавшего лучшие российские паровозы.
Неизвестно, знал ли Бальтазар Швердт Рерберга и Струве, мог ли представить им сына. С одной стороны, слишком мал, незначителен был врач-смотритель Вдовьего дома, чтобы знаться с такими величинами. А с другой – Анна-София уже вышла замуж, попала в высший свет и, хотя, вероятно, еще не имела полных прав в новой семье, не слишком привечавшей бедную родню, все-таки могла познакомить отца или брата с кем-то из знаменитых строителей.
Как бы то ни было, Андреас – это описание сохранилось в его записках – ходил от Вдовьего дома по травяным откосам берега, мимо огородов, пасшихся коз и коров, пригородных изб и домов, к Дорогомиловскому броду, туда, где с речного дна поднимались облепленные строительными лесами каменные быки, а с берегов навстречу друг другу тянулись металлические фермы, открывая новую дорогу с Запада, размыкая речную защиту Москвы; ходил и смотрел, как быстро – за год – возводится мост, как воплощается, материализуется чужая инженерная мысль.
…Кирилл, размышляя об Андреасе, гулял в тех самых местах, у нового Бородинского моста. Странно сплелась там судьба семьи. В девятнадцатом веке там ходил по покатым холмам Андреас. А без малого сто лет спустя в доме на другом берегу реки поселились бабушка и мать Кирилла, вернувшиеся из эвакуации под Энгельсом.
Мать рассказывала об эвакуации: поезд шел месяц, взятые из дома продукты давно кончились. На станциях и кипятка было не достать. Их привезли, отправили в колхоз. Дальше мать помнила только кирпичный подвал, где стоял такой силы запах копченого мяса, что его можно было резать ножом и есть; висели тесными рядами окорока, колбасы – словно сам дух обжорства воплотился в них, заставлял изгибаться колбасные кольца, истекать пряным соком окорока. Мать никогда не видела столько мяса. С ней случился голодный обморок.
Ей не объясняли, куда привезли, откуда тут припасы. И она решила, что их, детей и матерей, привезли в коммунизм, в долгожданную Страну изобилия, которую она прежде видела нарисованной на картинах, на фресках в московском метро.
Коммунизм существует, решила она. Просто он пока спрятан, он еще не для всех, а только для самых маленьких. Немцы наступают, и детей решили укрыть в коммунизме, открыть его раньше срока, полуготовым, не набравшим еще нужной силы, чтобы вместить всех.
Мать не задавалась вопросом, кто заготовил дивные яства. Кто раньше жил в пустых домах, куда их привезли. Ей казалось, что так и должно быть: некие служители, строители создали оазис коммунизма – и ушли строить следующий.
Много лет спустя ее послали в Энгельс в командировку. Она решила найти место, где была в эвакуации. И узнала, что в августе сорок первого в Казахстан выселили немцев Поволжья, в двадцать четыре часа, с одним мешком вещей. И эвакуированные входили в дома, где еще были теплы печи, протопленные хозяевами.
Немецкие окорока спасли бабушку и мать от голода. Когда они возвратились в Москву, в их комнатушке давно были прописаны другие люди. Они ютились в привокзальных бараках. А рядом, у Бородинского моста, пленные немцы строили новый дом. Так споро и аккуратно работали пленные солдаты, что никто не мог поверить, что это на самом деле немцы. Ведь немцы, как учила пропаганда, могли только разрушать, убивать, уничтожать. А эти – строили так, словно им предстояло тут жить, словно не было войны, смертей, а были только кладка, раствор, мастерок, отвес, кирпичи.
Им с бабушкой дали комнату в этом доме. Мать Кирилла плакала, не хотела переезжать из барака: не понимала, как можно жить в доме, построенном фашистами. А потом привыкла и, наоборот, гордилась новым жильем: словно дом был особый, лучший, даже немного волшебный.
* * *
Новый Бородинский мост выходил к сталинской высотке МИДа, к каменному утесу, встречавшему, будто гигантская ладонь, раскрытая в останавливающем жесте, пришедших с Запада. Огромное здание светилось квадратными сотами окон, излучая безликую, роевую волю, отторгая всякого пришельца.
Кирилл размышлял: понял бы Андреас страхи девочки, которой предстояло стать женой его правнука? Осталось ли в сегодняшней России хоть что-то от Андреаса? От его мечты о дорогах и мостах?
Андреас поступил в институт Корпуса инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге – может быть, дело не обошлось без протекции какой-нибудь из вдовых пациенток отца. Окончил лучшим на курсе и был взят на работу в Министерство путей сообщения, получил какой-то малый штатский чин, однако надеялся избежать чиновной карьеры.
Прадед Арсений писал, что осенью 1917 года, разбирая вещи на чердаке усадьбы, нашел там гомеопатические склянки Бальтазара, хранившие прах почивших веществ, и связку юношеских чертежей отца – мосты через Волгу, Обь, Енисей, Амур. Транссибирская магистраль медленно продвигалась на восток, и честолюбивый Андреас грезил, что скоро он будет прокладывать трассу среди болот и увалов, чертить пролеты гигантских мостов. Пока же он чинил чужие мосты, предлагая лишь исправления конструкции. Но, кажется, верил, что железная дорога сама есть путь, и она вознаградит его за преданность.
Что ж, и вправду: благодаря железной дороге Андреас встретил жену, устроил судьбу – хотя не так, как, вероятно, желал.
На полустанке под Калугой застряли два встречных поезда, ожидая, когда расчистят снежные заносы. Накануне мел буран, а потом ударил мороз, и сырой снег заледенел, застыл горбами поперек путей, сковал стрелки.
Обычно поезда на этом полустанке не останавливались, разве что почтовый или товарный.
Через десять часов ожидания пассажиры съели все, что взяли с собой, и все, что смог предложить станционный смотритель. Кому-то было плохо, нужен был врач, дети простыли от сквозняков, у вагонных печей заканчивалось топливо, туалеты смердели, а телеграф приносил только новости о том, что очистительные бригады не справляются и ждать нужно еще не меньше суток.
Никто из служащих не взял на себя руководство этим островком посреди замерзшего леса. Смотритель и телеграфист не видели столько людей за всю жизнь и, понимая, что громы и молнии пассажиров полетят в них, в представителей железной дороги, старались не выходить из своей каморки. Паровозные бригады были заняты своими механизмами – топки решено было не гасить, водокачка замерзла…
Был канун Рождества. Из Москвы в провинцию ехали гости навестить родню в усадьбах, из провинции в Москву – такие же гости, спешащие к празднованию в столице. Матери с детьми, старухи с компаньонками, отставные военные, чиновники на пенсии – те, кто, не имея возможности устраивать свои приемы и вечера, составляет массу гостей на вечерах чужих, текучую совокупность полузнакомых лиц, которая перемещается из одной гостиной в другую.
Узлы с гостинцами и подарками, чемоданы с платьями и отутюженными мундирами, битая птица, варенья и соленья в корзинах, столичные сласти, кагор и шампанское, укрытые в соломе, – все было в этих поездах, не было только человека, способного справиться с подступающей катастрофой.
Отлаженная машина существования дала сбой, чины и заслуги ничего не значили перед массой снега, перекрывшей пути. Сановные старики жаловались на подагру. Бывшие офицеры вспоминали турецкую войну. Отставные чиновники судачили о новом губернаторе. Все ждали, что кто-то другой что-нибудь предложит. В речах пассажиров стали проскальзывать истерические нотки, дамы ссорились из-за нечистоты в дамской комнате, бывший жандармский чин грозился застрелить начальника очистительных работ, как только он сюда явится. Старик сенатор требовал у телеграфиста слать срочные депеши в Москву, будучи уверен, что заносы до сих пор не расчищены лишь потому, что никто не знает, что он тут…
Надвигалась ночь. Мороз крепчал. В вагонах становилось все холоднее. Какой-то подросток, болтунишка и фантазер, принес известие, что видел на опушке ближнего леса волчью стаю…
Здесь и проявился в полной мере талант Андреаса. В повседневности он жил, как сонный бог, баловень фортуны, чья жизнь – цепочка малых удач и дружелюбных улыбок мироздания, который не трудится, ибо труд есть одоление, а творит легкое, как шутка, волшебство.
Мосты иных инженеров были тяжелы еще на бумаге, ибо проектировавший их сражался с материей, воевал с законами сопротивления материалов. А мосты Андреаса были мгновенны, как молния, и цельны, как прекрасная рифма, соединяющая два берега смысла.
Однако когда жизнь разворачивалась против Андреаса, выставляла батальоны и полки неприятностей, в нем просыпался другой Швердт, черпающий у трудностей их силу.
Младенцев перенесли в домик станционного смотрителя. Смотрителя отправили на санях в ближнюю деревню за продуктами. Реквизировали из багажных вагонов оставшуюся снедь, приставили чью-то кухарку изготовить горячую похлебку. Вскрыли чемоданы, поделили запасную одежду. Ехавший в поезде врач осмотрел простудившихся, раздал лекарства. Вычистили нужники, починили водокачку. Возвратился смотритель с хлебом, мясом и посудой для готовки, с возом дров. А к утру со стороны Москвы показался паровоз, снежным плугом очищающий пути.
Кириллу было интересно: знал ли Андреас заранее, что за ним наблюдают? Понял по ходу дела? Догадался только потом? Семейная легенда гласила, что Андреас не знал, что на него смотрят. Кирилл, напротив, был уверен, что знал – и показывал свои возможности.
К поезду, шедшему в Москву, был прицеплен салон-вагон. В нем путешествовал Густав Шмидт, сталелитейный магнат – его заводы производили рельсы – и владелец акций нескольких железных дорог. Ветка на Калугу ему не принадлежала, поэтому он не мог приказывать служащим. Скорее, он с интересом наблюдал, как работники справляются (а точнее, не справляются) с ситуацией, и, вероятно, делал для себя выводы о необходимой очистительной технике, устройстве полустанков и отоплении вагонов.
Шмидт был инженер. В России он видел не только перспективный рынок, но и огромное необустроенное пространство, великие силы природы, которые можно и нужно обуздывать. Правда, его собственный технический талант, в отличие от сметки предпринимателя, был, так сказать, конфузливо невелик: он пробовал себя на разных инженерных поприщах, однако прекрасно проектировал только помпы и насосы.
Наверное, Шмидт чувствовал воду, понимал ее характер, и насосные станции, пожарные машины, корабельные трюмные помпы составили его первоначальный капитал. Недруги шутили, что Шмидт качает деньги. А он расширял производство, занялся литьем стали, железными дорогами, получал от военного ведомства заказы на саперное снаряжение для армии. И мечтал подобраться к главному призу – полноценному участию в военных производствах: строить артиллерийские заводы, пороховые и патронные фабрики, заниматься выделкой брони. Но в эту сферу допускали немногих; Шмидту еще только предстояло проложить себе путь туда, потеснив других производителей и поставщиков.
Шмидт – так говорила семейная легенда – некоторое время наблюдал, как Андреас, импровизированный комендант станции, предотвращает катастрофу. А потом, когда пути были очищены, пригласил Андреаса доехать до Москвы в его вагоне.
Инженер встретил инженера, Шмидт – Швердта. А Швердт встретил путешествовавшую вместе с отцом дочь Густава, девятнадцатилетнюю Лизхен (жена Шмидта умерла родами, и он больше не женился).
На этом месте семейное повествование становилось совсем пересахаренным. Кирилл морщился, ему претила сентиментальная встреча на заснеженном полустанке, два поезда, внезапное знакомство, якобы ставшее любовью с первого взгляда. Он морщился – и спрашивал себя: а что, если люди так и жили, так и любили, так и связывали судьбы – будто на слащавой картинке с коробки конфет?
Но чутье подсказывало ему, что он имеет дело с парадной биографией, назидательной сказкой. Возможно, влюбился Андреас. Возможно, Лизхен. Возможно, чувство было взаимным. Но чтобы Густав Шмидт, богач, для дочери которого были открыты самые лучшие партии, выдал единственную наследницу за нищего инженера?
Все выглядело так, что мудрый отец не стал мешать «счастью молодых». Однажды Кирилл, размышляя, подумал, что эта история пахнет так же чисто и неинтересно, как мешочек с лавандой, положенный в шкаф с постельным бельем старой девы. И вдруг слово «лаванда» вытащило за собой, словно за ниточку, другие слова, древние, ветхие: «У Лавана же было две дочери; имя старшей Лия; имя младшей Рахиль… Рахиль была красива станом и красива лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою… И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».
Кирилл чувствовал, что нащупал след, но не понимал, почему Андреас был избран в Иаковы. Ведь ничем значительным он впоследствии не отметился, ни одного моста не построил, стал партнером в компании тестя, после его смерти принял дело…
И вдруг Кирилл понял.
Андреас потому ничего и не построил, что Густав взял с него плату за руку дочери; страшную плату. Густав увидел то, чего не видели другие, – что талант Андреаса не только велик, он универсален, пластичен, и сам молодой человек еще не знает своих сил. Не знает, что может стать основателем научной школы или гениальным практиком строительства, изобретателем новаторских инженерных решений, способным построить что-нибудь равное по размаху Суэцкому каналу.
Но чтобы осознать талант, войти в расцвет своих сил, Андреасу нужно было пройти одинокий путь становления. Этого пути и лишил его Шмидт, ревностью малого дара почуявший будущее величие. Закономерный отказ в руке дочери заставил бы Андреаса вкусить укрепляющую горечь, возмужать, сосредоточиться на призвании. Вместо этого он получил счастье, карьеру, любящую жену. Но его самого Шмидт вставил, как электрическую батарею, в механизм своей компании – и Андреас, плененный, будто отец его в поместье Урятинского, только не осознающий плена, стал питать своим талантом растущую промышленную империю Шмидта, стал служить амбициям тестя: во что бы то ни стало добиться прибыльнейших военных заказов, войти в индустриальную элиту Империи.
Шмидт же дальновидно настоял в 1882 году, чтобы Андреас принял подданство Российской империи; до сих пор и он, и его сестры, и отец Бальтазар юридически оставались подданными Саксонии. Сам Густав имел прусское гражданство и не хотел от него отказываться. Какие-то интересы, как предполагал Кирилл, держали его в Пруссии, требовали быть гражданином там и чужеземцем в России – вероятно, дела наследования, доли в банковском капитале или надежда получить прусское дворянство; что именно, Кирилл не мог установить.
Но детей своих, дочь и ее мужа, – Шмидт считал Андреаса названным сыном, – он решил пересадить на русскую почву, укоренить их на новой родине. И как только у четы родился сын, Арсений Швердт, прадед Кирилла, Густав сделал Андреаса полноправным компаньоном, записав как приданое часть акций компании – но, так сказать, в обмен Андреас и Лизхен стали Андреем Юльевичем и Елизаветой Густавовной, подали ходатайство о получении российского подданства. Говаривали и о переходе в православие, но Андреас, мягкий, податливый Андреас, не согласился, словно протестантская вера была частью его практического и разумного, инженерного понимания мира.
Шмидт подарил молодым усадьбу под Серпуховом. Кажется, он выбирал место с дальним прицелом, не только из-за красоты пойменных лугов и вида на Оку: рядом располагались дома богатых и знатных соседей, отпрысков старинных дворянских родов, и Шмидт втайне думал о будущих партиях для своих внуков и внучек. Что немаловажно, все соседи были русскими – граф, генерал от артиллерии, вдова-княгиня, к которой, кажется, был неравнодушен сам вдовец Густав; степенное, хорошее общество, куда предстояло войти молодой чете.
Андреас успел перевезти в усадьбу старых отца и мать. Кажется, Бальтазар не хотел покидать Москву, жизнь вдали от города напоминала бы ему о заточении в болотной твердыне Урятинского, однако сын и невестка были настойчивы. И он переехал, перезимовал первую зиму – и скончался весной, холодной весной, простудившись, когда работал в парниках, сажал рассаду лекарских своих травок.
По мартовскому морозу, по ледяному крошеву дорог тело увезли в Москву. Андреас купил землю на Иноверческом кладбище, заказал тот самый известняковый монумент, что с детства был памятен Кириллу. Так Бальтазар Швердт навсегда переселился в Россию, стал частью ее земли. Но лежал он в окружении таких же пришлецов – скончавшихся от ран наполеоновских солдат, умерших в пути английских купцов, европейских дворян, явившихся наемниками на призыв Петра Первого. Московский медицинский журнал посвятил его памяти некролог, однако – на немецком языке, ибо все читатели-врачи были немцами или понимали немецкий.
Казалось бы, смерть Бальтазара должна была бросить некую тень на усадьбу, на новое жилище. Однако случилось так, что именно смерть поспособствовала планам Шмидта. За тот год, что Бальтазар прожил в Пуще – так звалась усадьба, – он успел стать добрым другом всех соседей; лечил потомство графа и генерала, лечил вдовую княгиню – и лечил крестьян. Другому бы не простили такое сословное смешение, но Бальтазар к преклонным годам, кажется, все-таки обрел апостольство. Стал кроток и тверд, непреклонен в лечении, будто от своей жизни отнимал, отдавая другим; будто разил смерть, не делая различий между барчуком и дитятей нищенки; другому бы не простили – а ему простили, ибо был Доктор, знающий все хвори округи, вносящий свет надежды в долгую ночь страданий.
И потому благодаря краткой, но славной памяти, что оставил по себе Бальтазар, сын его со своей женой были приняты в местный круг; смерть Бальтазара, Доброго Доктора, открыла им двери. И самое главное – предопределила она судьбу Арсения Швердта, любезного внука, едва ли помнившего дедушку.
* * *
Как вспоминал сам Арсений, каждое лето привозили его в Пущу. Там, на чердаке, хранились докторские вещицы Бальтазара: инструменты, книги – и целые ящики пузырьков, реторт, колб, гомеопатические штучки, которые Бальтазар повсюду возил с собой, будучи не в силах расстаться.
Наука, в том числе медицинская, в те годы развивалась стремительно, менялись инструменты и понятия. И Арсений, которому разрешали играть на чердаке, с малых лет поверил, что дед его был волшебник – иначе откуда взяться диковинным непонятным стекляшкам, странным веществам, книгам на латыни? Как писал Арсений, своей догадки он не доверял никому, думал, что взрослые его обманывают, говоря, что дед был просто врачом. Он слышал, как окрестные крестьяне вспоминают Доброго Доктора, фантастически преувеличивая результаты его лечения; но он-то не знал, что это преувеличение, вызванное наивным желанием отплатить добром за добро, сказать хорошее слово в заступничество на том свете, принимал россказни за чистую монету. И уединялся на чердаке, придумывая свои значения для узкогорлых бутылей и бесцветных порошков, рассыпающихся в прах пилюль, выдыхающихся растворов, рассохшихся манускриптов с таинственными рисунками и символами; мнил себя наследником деда, не подозревая, что его сокровищница – лишь хлам в глазах взрослых, и они снисходительно смотрят на его забавы.
Отцу и матери казалось, что Арсений любит вольность сельской жизни, близость с природой, а он тосковал по пыльному чердаку – и уже тогда выучился маскировать свои устремления, ибо чувствовал, что увлечение его не придется по сердцу родителям, а главное – деду, Железному Густаву, как он звал его в записях, повторяя семейное и светское прозвище, мастеру стали, который с ранних лет брал внука с собой на заводы, раскрывая перед ним свою страсть, льющуюся расплавленным металлом из ковшей, остывающую чугунными чушками, железными балками, слитками меди, бронзовыми трубами, падающую с высоты тяжкими тушами механических молотов.
Только Клотильда, бабушка Клотильда, вдова Бальтазара, потерявшаяся без мужа среди новой богатой и родовитой родни, отчужденная от дочерей, вышедших замуж, ставшая некой принадлежностью Пущи, была наперсницей Арсения.
Силой обвенчанная с Бальтазаром, она, однако, кажется, понимала про него больше, чем он сам. Безропотно рожала детей, отдавая свое лоно, безропотно жила в полунищете невеликого заработка врача Вдовьего дома – и делила Бальтазара со всеми, принимая его сдержанность по отношению к ней; училась делать перевязки, составлять микстуры, слушать горячечное дыхание больных, ставить примочки, сочувственно провожать за последнюю черту.
Бальтазар ушел, а она продолжила врачевать крестьян, по-знахарски, интуитивно, – и длила его славу, и саму ее уже звали Доброй Барыней, ибо лучше всех хворей понимала она детские болезни. Не очень выходило у нее со взрослыми, когда помогало лечение, когда – нет, а вот детей она слышала безошибочно, словно от врачебного дара Бальтазара передался ей лишь малый осколок, малый, но драгоценный.
Но вскоре умерла и она. Поехала к жене лесничего, жившего за Окой на кордоне, – рожала лесничиха, прислала со старшим сыном, прибежавшим на лыжах, весточку. На ту сторону Оки проскочили, приняла она роды, а на обратном пути лошадь провалилась под лед. Спаслась Клотильда и возницу вытащила, но замерзла на ледяном речном ветру, коростой ледяной покрылась, пока встречные обозники подоспели. В рогожи, в шубы ее закутали, привезли в усадьбу мужики, коней не щадя, развернули меховой кокон – а Добрая Барыня бездыханная лежит, возница жив, а она мертва, не выдержало сердце окского продувного, нахлестывающего ветра.
Бабушка Кло – звал ее Арсений; бабушка Кло. Так она вошла в его жизнь – на часть имени, на обрывок жизни; бабушка Кло. И, как писал он, помнил он вагон поезда из Москвы, скачку по полям, пустую залу, стол, усыпанный ветками можжевельника, рояль, грузный, как слон, в белом чехле, свет десятков свечей – и маленькое, будто детское, лицо на гладком атласе гроба. Сверстницей показалась она ему, юной девочкой, постаревшей во мгновение, но не знавшей старости. Всех впустили в ту залу, кого она лечила, и рыдали женщины, на свой манер выговаривая – Колотильдушка, – а он, поцеловав холодный лоб, знал, что запомнит на всю жизнь этот можжевельник, смолистые, сморщенные ягоды; этот тщетный плач.
Железный Густав не приехал, не успел откуда-то издалека, и Арсений был благодарен ему за невольное опоздание. С ним бы все пошло по-другому, Густав внес бы пышность, разрушил бы строгость смерти. И, вполне вероятно, вторгся бы в тонкую материю предопределения, перебил своей мощью то легкое водительство, что оставила по себе ушедшая Клотильда, выиграл бы заочное сражение за будущее внука, – но Густава не было, и для мальчика Арсения началась его история, его судьба.
Андреас был вдохновенным, но бездарным охотником. Завел в Пуще охотничьих собак, нанял человека присматривать за псарней, хотя сам не мог попасть даже в осеннюю грузную утку.
Железный Густав шаг за шагом устраивал артиллерийское производство, разрабатывал новые методы закалки орудийных стволов, Андреас же расстреливал в небо избытки, излишки своего таланта, не нужного для индустриальной империи тестя. Может, только десятую или пятнадцатую часть дара востребовал Густав, и лишние силы мучили Андреаса, искали выхода в причудах, в чудаковатых привычках.
С рождением сына – о, эстафета несбывшегося, передаваемая детям, – Андреас при сочувственном согласии Густава решил выучить его на инженера. Он придумал и заказал в мастерских игрушку, какой еще не было, – предтечу конструкторов, игрушечную железную дорогу: паровозы и вагоны разбирались на детали, а главное – были фермы, пролеты, чтобы собирать мосты. Однако Арсений остался равнодушен к придумке отца, Андреас же заболел ею, наладил производство, открыл магазин. Делая вид, что лишь забавляется, он усовершенствовал игру, выдумал деревянный ящик с макетом местности из настоящего дерева и камня, где можно было играть в железнодорожных инженеров, прокладывающих путь, – и, сам потеряв масштаб, водил по столу игрушечные паровозики, соразмерные теперь его внутренней жизни.
Арсений же старался держаться при псарне. Первым его учителем врачевания стал старый егерь, ухаживавший за собаками. Как вспоминал сам Арсений, в детстве ему казалось, что он сможет воскресить бабушку Клотильду, что она не умерла окончательно, хотя он и видел ее бездыханное тело. Но не в церкви искал он ответа на вопрос о воскрешении, а в языческой, духовидческой внимательности к природе. Ему чудилось, что все в ней связано – ягода и облако, река и песок, звезды и роса. Он выслеживал воображением тонкие эти, мерцающие, закрытые туманами образности связи; изучал полевых птиц, рыб, отцовских собак, но не как ученый, а как все тот же юный язычник, чующий родство со всем живым. В церковь он ходил без внутреннего стремления, отбывал время; его храмом был чердак со склянками Бальтазара – будто сандалиями и мечом, оставленными под камнем Тезею.
Однажды отец взял Арсения с собой в поездку на строящийся завод. Когда они прибыли, оказалось, что скот в той местности поражен сибирской язвой; местные власти скрывали эпидемию, потому что дело было накануне ярмарок и большие гурты скота уже погнали на продажу – может зараженными, может нет.
Андреас испугался, что заболеют навербованные из крестьян подсобные рабочие, роющие котлован; полетели телеграммы в губернский город, в Петербург, прибыли врачи и ветеринары.
Арсений остался с отцом. Андреас, вероятно, хотел дать сыну урок, как управлять компанией и людьми. Но Арсений видел свое: жуткое тождество смерти в мордах коров и лицах людей; ее, смерти, неизбирательную силу, готовую, казалось, и отравить источники вод, и погасить жизнь внутри зерна. Видел погребальные костры, засыпанные известью ямы могильников, бесконечные ряды подвод с дровами, чтобы костры не угасали; видел облака копоти, застящие небо, и видел – чувствовал – незримые пути, которыми движется смерть, прорываясь карбункулами на коже.
Пред такой смертью было бессильно и воображаемое волшебство Бальтазара, склянки и порошки с пущинского чердака. И Арсений, не отрекаясь от наследства Бальтазара, стал воспринимать его не буквально, а как знак, указующий перст; повзрослел в две недели. Возвратившись домой, встретившись с дедом Густавом, Арсений произвел на родных обманное впечатление: Железный Густав решил, что мальчик воспринял отцовские уроки, внял наставлениям – и готов принять предназначенную ему семейственностью судьбу.
Железный Густав, сообразно своему юмору, решил пошутить, пригласил мальчика вытащить с полки любой из выпущенных к тому времени на русском томов Брокгауза и Ефрона, открыть на любой странице; и какую статью укажет палец, такому будущему и быть. Арсений едва не попал в «Металлургию», но все-таки указал на «Микроскоп». Густав истолковал это к своей пользе, дескать, будет изучать металлы, Арсений же – к своей. И, получив от Густава в подарок наилучший микроскоп, крепко стоящий на чугунных лапах, чтобы не дрогнул предметный столик, такой, какого, наверное, не было в медицинских лабораториях университетов, ушел в микроскопический мир, на несколько лет отрешась от мира большого – за исключением летних месяцев в Пуще, отданных общению с духами природы, с животными и растениями.
И Железный Густав, и Андреас проглядели Арсения, увлеченные тайными переговорами с министром путей сообщения Витте – или, что более вероятно, с переговорщиками от Витте, перекупавшего частные железные дороги в государственное пользование. А когда выяснилось, чем на самом деле увлечен единственный мужской отпрыск рода, было уже поздно спорить или переделывать: Арсений взрастил невеликий, но твердо знающий свои основы характер, не меняющийся под обстоятельства; тот характер, что проведет его сквозь две войны, убережет от кривого клинка, засапожного ножа, вощеной удавки, шрапнели, пули, осколка, чтобы с неизбежностью привести в пыточный подвал тридцать седьмого года.
Кирилла занимала эта временная годность характеров, их сообразность эпохам; тот факт, что спасительный в одном времени характер оказывается гибельным в другом. Он думал и о своем характере – каков он? Выходило, что спасительный: от бабушки и родителей Кирилл перенял мягкость, способность к одиночеству, опаску связываться с людьми, умение сохранять внутреннее достоинство, но не выступать открыто.
Арсений же, кажется, о самосохранении не думал. Уязвленный смертью, избравший ее в вечные враги, он оттого приобрел что-то солдатское. Если Бальтазар был врач и апостол, то Арсений вырастал как врач и воин; эти два понятия соединились в названии учебного заведения, которое он себе избрал: Императорская Военно-медицинская академия в Петербурге.
Сначала Кирилл предполагал, что Арсений, желая избавиться от опеки отца и деда, выбрал учебу на казенном коште и вдали от дома, от Москвы. А потом догадался, что Арсений еще и хотел связать себя офицерской присягой Императору, отодвигающей на второе место узы крови и узы семьи, переподчиняющей его государевой, а не родительской воле.
Арсений загодя сообщил отцу и Густаву, куда будет поступать. Наверное, можно было схитрить, молчать до последнего, зная, что старшие не одобрят поступок. Но Арсений словно не боялся давления отца, гнева деда, даже желал их – как испытания, долженствующего подтвердить, что путь избран верно. И получил испытание полной мерой: Густав, обманутый в своих надеждах, в запальчивости грозил лишить его наследства, твердил, что накажет строптивого мальчишку. А вот отец, кажется, что-то понял в характере сына. Если для Густава медицина была занятием вторичным, полезным, но не значительным, то Андреас помнил своего отца, Бальтазара, – и неожиданно взял сторону сына, причем нашел для Густава уместное объяснение: привел подсчет, сколько хирургических инструментов из стали высшей пробы заказывает армия каждый год и какую прибыль можно получить, если войти и на этот рынок.
Густав очень смутно понял, как связаны учеба Арсения и воображаемый заказ на хирургические инструменты, которых его заводы еще не производили, но уяснил, что отец поддерживает сына. И скрепя сердце отступил, хотя долго еще надеялся возвратить внука на инженерную стезю, рассчитывая – сам не будучи трусом, но панически боясь мертвых, – что анатомический театр отвратит Арсения от медицины.
Арсений же и не собирался в хирурги. «Хирург излечивает десятки, эпидемиолог спасает десятки тысяч», – написал он в письме троюродному племяннику, внуку сестры отца Анны-Софии, уговаривая того тоже поступать в Военно-медицинскую академию. Адресат письма поддался на уговоры, окончил вместе с Арсением курс – и впоследствии погиб в Восточной Пруссии в одном из первых сражений войны.
Военной эпидемиологии как целостной науки тогда еще не существовало. Поэтому Арсений изучал военную хирургию – но одновременно частным образом продолжал свои штудии, учился у гражданских профессоров, у врачей, практиковавших в Средней Азии во время армейских походов, и защищался в итоге по теме малярии – болезни, бичевавшей в девятнадцатом веке Кавказский корпус русской армии.
Он выпустился в 1903 году одним из лучших. Дипломная работа Арсения была издана отдельной брошюрой на средства Академии; тем временем в Маньчжурии уже участились пограничные стычки с японцами. В день, когда руководство Академии приветствовало выпускников, было открыто сквозное движение по Транссибирской магистрали, и на Дальний Восток потекли, пусть и небыстрым потоком, дополнительные русские войска. Арсений просился в действующую армию, но был оставлен для научной работы при Академии.
Железный Густав – пусть Арсений и не писал об этом – с его новыми связями в военной среде наверняка знал о приближающейся войне, русская разведка ясно докладывала о приготовлениях японцев. Старый фабрикант уже нажился на строительстве Транссиба и жаждал новых заказов, предчувствуя, что война с ними не замедлит.
Кажется, в этот момент расхождение между Густавом и Арсением стало глубже: Транссиб строили каторжники или навербованные рабочие, чья жизнь немногим отличалась от каторжной. Россия не успевала купить нужное число строительных машин, и потому ветку тянули ручным трудом, киркой, кайлом и тачкой. Железный Густав одобрял такую политику, считая каторжников человеческими отбросами, годными только, чтобы сгинуть, заколачивая сваи в вечную мерзлоту.
А Арсений учился в академии искусству хирургии на солдатах, на вчерашних крестьянах. И он знал, что его пациентов повезут в вагонах по железной дороге, окропленной потом и кровью, оплаченной смертями, – и повезут на убой. Индустриальный механизм, пожирающий человеческие жизни, был ему отвратителен, а еще более отвратителен энтузиазм Густава, получающего на этом барыши. Медленно Арсений приходил к мысли, что худшая болезнь, худшая эпидемия коренится не в природе, а в устройстве общества. Неизвестно, читал ли он уже работы социалистов, но сознание было готово сочувственно воспринять социалистические идеи.
* * *
В Академии Арсений проработал лишь несколько месяцев. Зимой 1904-го японцы атаковали Порт-Артур, началась война. И уже в апреле в Санкт-Петербурге начали формировать эскадру, чтобы отправить на Дальний Восток в помощь броненосцам, блокированным в Порт-Артуре. До этого момента Арсений уже несколько раз просил послать его в войска, но всякий раз ему отказывали – Арсений полагал, не без тайного участия Густава, имевшего свои, негоциантские понятия о чести и желавшего уберечь внука от сражений.
Эскадру собирали в крайней спешке, некоторым кораблям еще предстояло достраиваться на плаву. Не хватало орудий, броневых плит, рабочих, опытных матросов, офицеров – и врачей. Особенно врачей, знакомых с тропиками, с тропическими болезнями.
Провернулись какие-то колесики в военном и флотском механизмах – может, кому-то попалась на глаза брошюра о малярии, – и Арсений был откомандирован в распоряжение флота, а точнее – командования Второй Тихоокеанской эскадры.
Арсения Швердта определили на броненосец «Князь Суворов», флагман вице-адмирала Рождественского; была ли тут рука капитана броненосца, немца, каперанга Игнациуса, Кирилл не знал и знать не мог. Броненосец, хотя уже два года как был спущен на воду, еще достраивался у причальной стенки; Арсений жил пока в городе.
Новые броненосцы не могли пройти через мелкий Суэцкий канал – да англичане и не пропустили бы их, – поэтому предстоял поход вокруг Африки. Никто в русском флоте еще не водил такого размера эскадру на такое расстояние – 23 тысячи километров. Никто из судовых врачей точно и исчерпывающе не знал, какие лекарства могут понадобиться в пути, какого рода болезни могут сказаться на боеспособности и без того ослабленной – матросов набирали второго срока службы – эскадры. И врачи готовились к неизвестному, листали справочники, освежали в памяти названия чужеземных лихорадок, разновидностей чумы, расспрашивали тех немногих, кто ходил дальними походами в тропические широты; собственно, предполагаемый бой с японским флотом, главная бойня, грозящая массой смертей, для медиков оказался отодвинут на задний план множеством неведомых попутных угроз – славящийся жестоким характером адмирал Рождественский непременно спросил бы с медиков, если бы матросы начали массово болеть.
Наконец в конце сентября эскадра ушла из порта. Кирилл знал, что Арсений писал домой, но его письма из редких портов, где останавливались корабли, – англичане постарались, чтобы эскадру не снабжали углем, – не сохранились. Поэтому Кирилл восстанавливал то, что пережил прадед, по книгам, воспоминаниям и письмам моряков, служивших на «Князе Суворове» и других кораблях.
Гулльский инцидент – русские суда обстреляли английские рыбачьи лодки, в темноте приняв их за японские миноносцы; как японские суда могли оказаться в английских водах? Но разведка доносила о возможности диверсий, комендоры ждали у орудий… Кирилл читал отчет о происшествии: выпущены сотни снарядов, попали в свои же корабли, на одном из крейсеров убит судовой священник… Английская пресса назвала эскадру Рождественского fleet of lunatics; зловещее предзнаменование! Кирилл пытался понять, что чувствовали люди там, почему готовы были обмануться, приняв рыбацкие лоханки за боевые корабли, – и ощущал роковые предчувствия моряков, которые хотели, чтобы рок сбылся быстрее.
Первые сошедшие с ума – еще в Атлантике. Падение дисциплины. Поломки на судах.
И – второе зловещее предзнаменование, смысл которого был ясен только Кириллу, только столетие спустя.
Эскадра Рождественского бросила якорь в Ангра-Пеквене, у берега современной Намибии. Пополняли припасы, чинили механизмы. А в нескольких километрах был Акулий остров. Через несколько месяцев немецкие экспедиционные войска устроят там лагерь для пленных повстанцев из племени гереро – первый концлагерь XX века. Несколько тысяч человек умрут от истощения на голых камнях островка, лучше всякой проволоки охраняемого акулами. Немцы уже воевали с гереро, вытесняя племя в бесплодную пустыню, уже держали пленных в бараках в Ангра-Пеквене, заставляя их работать.
Они видели зло, но не узнали его, говорил себе потрясенный Кирилл. Они видели зло во младенчестве, еще только пробующим себя, еще не заматеревшим – и не уничтожили его.
Кирилл перечитывал письмо лейтенанта, служившего на «Князе Суворове».
«Пишу Вам из Ангры-Пеквены. <…> Сегодня пришел пароход с немецкими войсками. Оказывается, англичане снабдили оружием и направили на немцев воинственное пограничное племя черномазых. Нечего сказать, любезные соседи! Бедные немцы только что справились с гереро, а тут опять готова неприятность.
В Габуне мы простояли до 18 ноября. <…> Наше офицерство накупило на берегу множество попугаев, серых с красными хвостами; некоторые из них совершенно ручные.
19-го мы торжественно отпраздновали переход через экватор, по старым морским традициям. На корабль явился Нептун с супругой и огромной свитой всевозможной чертовщины допросить командира о причине нашего появления на экваторе и собрал изрядную дань чарками с господ офицеров. После этого всех не переходивших экватор поливали из пожарных шлангов и купали в огромной ванне, сделанной из целого брезента. Затем Нептун дал нам свободный пропуск, обещал благоприятные ветры и беспошлинное рыбное продовольствие. Весь праздник прошел очень мило».
Кирилл читал снова и снова.
«Племя черномазых»… «Бедные немцы только справились с гереро»… Попугаи, купленные офицерами. Праздник Нептуна.
Слепцы.
Кириллу казалось, что если бы кто-то из матросов и офицеров понял, что происходит, испытал сочувствие к несчастному племени, обреченному на смерть, – может, и судьба эскадры, тоже отправленной на смерть, сложилась бы иначе. Но ничье сердце не дрогнуло – и с этого момента эскадра была обречена.
А еще Кирилл думал про Арсения: что чувствовал он? Он, чьи сыновья и дочери погибнут от руки или по вине немецких солдат? Будут заморены голодом в Ленинграде? Что думал он, глядя на холмы Намибии? Придал ли значение отрывочным вестям с берега?
Кирилл чувствовал, что ответ – «нет». Арсений был занят врачеванием.
Кирилл думал о том, как трудно опознать новое зло. Ему еще нет имени, о нем судят в словах предшествующего жестокого века: разогнали племя черномазых…
А внутри этого, привычного, почитаемого неизбежным или оправданным зла зреют семена зла нового. Но это пока лишь семена, еще не имеющие нужной им почвы, которой только предстоит появиться. Они не слишком заметны: их сочтут в лучшем случае эксцессами, превышением полномочий, произволом командования. Им не прорасти повсеместно сей же час; старый мир не примет новое зло – не потому, что благочестив, а потому, что у него есть свое зло, сообразное эпохе. И зло новое будет скитаться, ища себе места, поселяясь в головах психопатов, в памфлетах радикалов, – пока старый мир не исчерпает себя и оно не взойдет, не вырастет в полную силу на его трупе, питаясь брожением распада.
Ангра-Пеквена. Слово – пароль, открывающий черный ход истории, неприметную дверцу, которая ведет прямиком на мировую бойню; Ангра-Пеквена – запомнил ли его прадед Арсений?
Кирилл так же чувствовал, что ответ – «нет».
…Уже к мысу Горн на судах эскадры набралось несколько десятков сошедших с ума. Тропические болезни, которых так опасались врачи, обошли эскадру стороной, зато безумие собирало свою дань. Сначала офицеров запирали в каютах, нижних чинов и матросов держали в лазаретах. Арсения, прикомандированного, чужого – специалистов по психическим заболеваниям на флоте не было, – отправили присматривать за безумцами, которых на кратких стоянках решено было свозить на госпитальное судно.
Лечить сумасшедших никто не мог, не было ни знаний, ни лекарств. И Арсений следовал за своими пациентами дорогами их безумия. Безумие было однообразное: ждали японский флот, якобы идущий параллельным курсом, спятивший сигнальщик постоянно видел дымы на горизонте, спятивший адмиральский вестовой будил начальника вымышленными донесениями с мостика, спятивший кочегар не хотел бросать в топку уголь – приближать смертельную встречу с японцами; спятивший артиллерист не мог выстрелить на учебных стрельбах – ему казалось, что снаряд обязательно разорвется в стволе, спятивший телеграфист принимал радиограммы от японцев с предложением сдаться…
Арсений – он позже рассказывал об этом жене, и она записала в дневнике – не знал, нормален ли он сам. Ему тоже чудились низкие японские миноносцы, летящие по гребням волн, он тоже хотел, чтобы медленнее крутились валы, вращающие винты, и корабли не спешили в бой. А когда у самого Мадагаскара на разлапистых мачтах флагмана вспыхнули огни Святого Эльма, призрачные студенистые факелы, Арсений, не знавший, что это такое, решил, что японцы атаковали корабль каким-то новым оружием. Огни считались доброй приметой среди моряков, но так глубоки были дурные предчувствия, что на сей раз явление огней сочли предвестием смерти; и только обезумевший офицер-артиллерист показал себя с лучшей стороны, толковал, что это просто электричество, – и хохотал, хохотал, будто выдумал неимоверную шутку.
Наконец эскадра бросила якорь на Мадагаскаре. Всех сошедших с ума собирались отправить на вспомогательном крейсере домой, в Россию, через Суэц. Арсений – потом он признается в этом жене – втайне надеялся, что его пошлют сопровождать их, его поход окончен. Однако шестерни штабной бюрократии провернулись еще раз, и в Россию отправились другие врачи. А сам Арсений во время мадагаскарской стоянки внезапно заболел. Сейчас бы сказали, что это была нервическая лихорадка, психопатогенная сыпь, но тогда заподозрили неизвестную инфекцию – и захворавшего врача было велено убрать с флагмана, чтобы он не заразил командование.
Командир «Князя Суворова» Игнациус хотел оставить Арсения на корабле, предчувствуя, какой будет бой и как важен будет для раненых каждый наличный врач. Но приказ был недвусмыслен, и Арсению предложили на выбор два корабля: систершип «Князя Суворова» «Бородино» и подошедший из Кронштадта, догнавший эскадру бронепалубный крейсер «Изумруд».
Русская рулетка, вопрос жизни и смерти. Броненосцы – сила и мощь, двенадцатидюймовые орудия, но им вести основной бой. Крейсера – безбронные жестянки, но – маневренность, скорость…
Арсений выбрал «Бородино». Во-первых, он уже привык к броненосцу. Во-вторых, он суеверно полагался на охранительную мощь названия. Но капитан «Изумруда» барон Ферзен – снова немец, как и Игнациус, подметил Кирилл, – обошел его в закулисной дипломатии и выторговал врача себе, видимо, имея тот же расчет, что и командир «Князя Суворова»: в эскадренном бою с японцами лучше иметь дополнительного медика.
Крейсер «Изумруд», крейсер «Изумруд»…
…Кирилл подошел к старому комоду, выдвинул узкий ящичек слева сверху. Там, внутри, если просунуть руку – рассчитано на женскую узкую ладонь, но у Кирилла тоже узкая, не зря его прочили в пианисты, – в дальнем углу торчит шпунт, вроде как выскочил случайно. Нажми на шпунт – и в центре комода откроется, вывалится на невидимых петельках дверца, закамуфлированная под резной деревянный венок. Просунь туда руку – и нащупаешь холодную тяжесть, словно каменная змея свернулась там, спит в темноте тайного укрывища.
Достань, не забудь отбросить шторы, чтобы в комнату влился солнечный свет, его нужно много, ибо драгоценности, десятилетия хранимые под замком, впитывают тьму, и ее нужно вымыть, изгнать из ограненных кристаллов.
Да, этот свет июля – он хорош, хотя слишком густ, лучше бы подошел майский или даже апрельский, тонкий, совсем бесцветный, еще бесстрастный, безгрешный, как поцелуй ребенка, не напитанный силой солнца, восходящего в зенит лета. Но июльский тоже сгодится, тягучий, сам собой упоенный, как переспелый, запрошлогодний мед. Он изгонит тени, напоит кристаллы своим своевольным сиянием, и загорятся на ладони тяжелые, неподатливые изумруды, потаенные камни Уральских гор, забранные в серебряные оковы ожерелья.
Крейсер «Изумруд» выжил в аду Цусимы, где погибла почти вся эскадра, прорвался во Владивосток, сел на камни вблизи гавани и был взорван по приказу командира, барона Ферзена. «Князь Суворов» погиб, «Бородино» опрокинулся, забрав с собой весь экипаж, кроме одного матроса, а ничтожный крейсер, беззащитный в сражении линейных сил, спасся.
И мать, узнав о спасении сына, заказала для невестки, будущей невестки, пока не подаренной судьбой, ожерелье из изумрудов, из самых лучших камней, что можно было найти. А может, мастера знали, зачем им заказано это ожерелье, обошли все копи, открыли старинные сундуки, где хранились камни, добытые еще при Петре, – и на свет явилось великое чудо.
В центре особый камень – нежно-травяной изумруд небывалой величины; будто трава, скошенная на самой ранней заре, еще до восхода солнца; будто сок ее, безвинный и сладкий. А влево и вправо, в обе стороны – крупные камни разных оттенков зеленого: от светлой, переменчивой зелени, похожей на глянцевитый отсвет яблоневой листвы, – до падающей в синеву, густой зелени можжевеловых ветвей, до кристаллов, будто созданных из воды океанических глубин, где лежит, опрокинувшись на бок и зияя разорванным бортом, «Князь Суворов», флагманский броненосец.
И все камни скованы тонкой цепочкой, серебряной цепочкой; цепкие цапфы держат каждый кристалл, словно муравьиные – не паучьи – тонкие лапки, и звенья серебряной цепи будто слиты воедино, рождены одно из другого.
Кирилл знал, что бабушка Каролина считала ожерелье не просто семейной реликвией, но оберегом, талисманом. Летом сорок первого ожерелье осталось у нее дома в Москве, а все семейство собралось в Ленинграде; она выжила, а все остальные погибли.
Правда ли ожерелье – талисман? – думал Кирилл. Или его спасительная сила уже исчерпалась и сейчас ожерелье лишь прекрасная драгоценность? Ему показалось, что лучше бы было так; словно радость от спасения сына там, где погибли многие, где дно было усеяно мертвыми кораблями, радость, гордость и неистовая молитва с благодарностью за спасение наделили ожерелье эгоистичной, гибельно-своенравной натурой, и оно готово было хранить лишь избранного – избранную, может быть и отталкивая других.
Кирилл поднял ожерелье на свет; ограненные кристаллы сияли мирно, нежно. Он убрал ожерелье в тайник.
Арсений спасся. Может, ворожил за него Соленый Мичман, двоюродный дед, съеденный каннибалами, – юнец, мальчишка младше Арсения. Арсений был Андреевич, под Андреевским, апостольским флагом – синий косой крест на белом фоне – шла в бой русская эскадра; покровительствовал, выходит, ему апостол, распятый на косом кресте. А еще – мученик Андреас, не случившийся адмирал, жертвенный агнец семьи, претерпевший наихудшую муку от язычников.
Твердым камушком оказался «Изумруд». После боя прорвался к Владивостоку, благо скорость могла спасти его от миноносцев неприятеля; потерял немногих ранеными и еще меньше убитыми – счастливый корабль, счастливой звездой ведомый. А то, что крейсер сел на камни, уже избегнув японцев, и был взорван 19 мая – командира потом судили и оправдали, – так это положенная доля неудач за одну ослепительную удачу: быть окруженным броненосцами, получить предложение о сдаче, увидеть, как сдаются остатки русской эскадры, – и прорваться, пройти сквозь строй японцев, не спустить флага.
Так Арсений оказался во Владивостоке – чужой, ничейный врач с затопленного крейсера, вдобавок и к команде этого крейсера-то не принадлежащий; временно прикомандированный к флоту, к эскадре, которой больше нет, она на дне морском, хотя еще существует как бумажная единица; прикомандированный, но числящийся по армейскому ведомству – готовая головная боль для любого военного бюрократа, которому предстоит решить, куда определить этот «подарок». Вероятно, Арсений сам добился отправки на фронт, на войну, к которой он почти опоздал; его приписали к эвакуационному госпиталю.
Крупных наземных боев после разгрома флота не было, тяжелых потерь, следственно, тоже. Фронт не менялся, война стала позиционной. Однако Арсений все-таки умудрился найти приключения. Ночью с двумя казаками промахнулся мимо нужного селения и выехал прямо на занятую японским аванпостом деревню. Одного казака застрелили, второй, раненый, сорвался на коне под обрыв, а доктор – хотя Арсений и считал, что неплохо владеет шашкой, – был выбит из седла и взят в плен.
Среди десятка японцев во главе с унтером, как понял Арсений, никто не знал ни слова по-русски – это, вероятно, был новый полк, недавно прибывший из Японии. Связанного, его оставили в фанзе, где спали сменившиеся с дежурства солдаты. Арсений зубрил во время похода эскадры разговорник, но от волнения тоже не понимал ни слова, они казались совсем не похожими на те транслитерации, что он заучивал; как если бы вместо японского он учил китайский.
Арсений описывал в дневнике, что он не понимал даже жестов, даже эмоций, ему чудилось, что он попал к противоположным, обратным людям, у которых все наоборот. Поэтому Арсений не мог найти вокруг ни намека на смысл происходящего с ним; фанза, солдаты, лампа, винтовки в углу, лошади у коновязи – все было чужое, не такое, и он будто бы не знал, как это все взаимодействует друг с другом, какие намерения скрыты в вещах и людях.
Он бы на месте японского унтера отрядил двух солдат отвезти пленника в тыл. Но тот словно не был заинтересован в Арсении; пленил по случайности – и просто оставил, как ненужный в данный момент предмет. Ожидал смены и хотел доставить пленника сам? Думал, что с ним делать? Ждал приезда начальства? Вообще не размышлял о пленном, обратился в сторожевое бдение, отмеряя переворотом песочных часов часы короткой летней ночи?
Арсению казалось, что он попал в какой-то странный капкан; он готовился к пыткам, страшился их – а в результате его и пальцем не тронули, просто оставили, словно десяток японских солдат тоже был в плену у кого-то, могущественного и незримого.
Утром доктора освободили – раненый казак выжил, добрел до своих, встретив дозорный разъезд, и пластуны тихо взяли в ножи японских часовых, а потом перебили во сне солдат; только командир, тот самый унтер, почуял неладное, схватился за пистолет, и его застрелили, хотя думали взять в плен.
Казаки не надеялись найти доктора в добром здравии и потому обрадовались – не успел япошка поизгаляться, и хорошо. Но уже через день все изменилось. Может быть, в отместку за вырезанный аванпост, может нет – японцы произвели огневой налет на русские позиции; закрытые позиции, расположенные на обратных склонах холмов; значит, не могли их японцы в бинокль рассмотреть.
И удачно ударили – считай, полроты выбили, и командир батальона погиб, прямое попадание.
А уже тогда в армии буйно цвела шпиономания. Говорили, что подкупленные генералы Порт-Артур сдали, что заводчики в тылу нарочно негодное оружие делают, что все корейцы, погонщики волов, крестьяне, носильщики – все лазутчики, и в том причина страшных поражений, и потому флот в пучине сгинул.
Передал ли кто японским артиллеристам карту русских позиций – не известно. Может, просто бог войны был в тот раз на их стороне. Но казаки, вспомнив, что доктор-то из плена без единого синяка был вызволен, стали нашептывать, будто это Арсений выдал диспозицию. И до того вскоре договорились, довыдумывались, будто, когда они в фанзу ворвались, доктор с развязанными руками сидел и по-японски с японским офицером разговаривал.
И никто бы, может, особо к тем казакам не прислушивался, известные они были болтуны да бахвалы, но… Но чужой был Арсений в полку, прибыл недавно, подружиться ни с кем не успел. Да и откуда прибыл – с какого-то крейсера потопленного, который то ли был, то ли нет… А еще фамилия – Швердт; немец, значит, и видно по нему, что немец, торчит из него порода немецкая, ибо молод, жизнью не обтерт.
Нельзя сказать, чтобы навету поверили; но все-таки у командования возникло мнение, что Арсения следует куда-нибудь перевести, и причем так, чтобы не возникло новых слухов – мол, высшие чины покрывают, спасают шпиона.
Сам же он переживал случившееся с каким-то веселым отрезвлением; словно все до этого – поход через три океана, бой, тревожная ночь, отказ сдаваться, прорыв – было игрой, в которой он не до конца понимал, что может произойти с человеком. А вот ошибся дорогой в темноте – и поди теперь оправдайся, поди докажи, что не знали те японцы русского, не допрашивали его ни о чем; стоишь на краю такой гибели, такого отчаяния, что просто смерть покажется желанным избавлением.
Наверное, Арсений успел рассказать кому-то из военно-медицинских начальников, чем он вынужденно занимался во время плавания. И его отправили по фронтовым лазаретам, по госпиталям с заданием, которое спихнули на случайного новичка.
В этих лазаретах, госпиталях скопилось слишком много солдат, сошедших с ума. Военные медики знали и были готовы к тому, что определенное число людей, побывавших в бою, под обстрелом, потеряют рассудок. Но сумасшедших оказалось в десятки, сотни раз больше, чем предполагали медицинская наука и опыт старых эскулапов, видевших еще русско-турецкую войну восьмидесятых годов. И с ними, безумными, нужно было что-то делать, куда-то собирать, отдельно лечить, они перестали быть статистической погрешностью и стали явлением. Надо ли говорить, какое облегчение всем даровал Арсений Швердт, без задней мысли упомянувший, что опекал безумцев со всей 2-й Тихоокеанской эскадры?
Это новая война, думал Кирилл; дело в ней. Первая война XX века, новая индустрия смерти. Старая тактика – наступление шагом, колоннами, массой – и новая техника: дальнобойная артиллерия, скорострельная артиллерия, крупнокалиберная артиллерия, мины, пулеметы, многозарядные винтовки, колючая проволока. А люди еще были старые, прошлого, неторопливого и в чем-то милосердного века люди; крестьяне, которым понятнее была смерть в виде рукопашной схватки, сабельной сшибки, лихой полевой перестрелки – но не в виде 11-дюймового гаубичного снаряда, отправляющего в небытие взвод, или пулеметной очереди, скашивающей на бегу цепь; такая жатва была выше их способностей к пониманию.
Арсению было приказано собрать всех душевнобольных в один эшелон и вывезти в Центральную Россию. Был заключен мир с Японией, стали отправлять домой войска, а он застрял на Дальнем Востоке. Начальство хотело посылать сумасшедших солдат именно одним эшелоном, а не частями; возможно, командиры отчасти путали сумасшедших с революционными смутьянами, опасными вольнодумцами, и потому хотели подстраховаться. В стране не прекращались революционные выступления, во Владивостоке бунтовали солдаты и матросы, бастовали железные дороги, а Арсений с помощниками собирал в Харбине свой эшелон, постепенно приобретая сноровку, научившись узнавать редких симулянтов, различать болезни, ставить импровизированные диагнозы.
Эшелон тронулся лишь в январе, когда правительственные войска почти повсеместно подавили мятежи; двинулся в сторону Забайкалья, где по железной дороге только что прошлись карательные отряды генералов Меллер-Закомельского и Ренненкампфа.
Кирилл представил, – Арсений вообще не упоминал об этом, – через что шел эшелон. Сначала восставшие грабили и жгли, потом каратели вешали и расстреливали восставших, а также просто «подозрительных», всех подвернувшихся под руку. И это было нормально, здраво, государственнически оправдано. А мимо в эшелоне везли людей, объявленных сумасшедшими лишь потому, что они слышали в голове чужие голоса или полагали себя иной персоной.
Грядущее безумие войн и революций открылось Арсению, думал Кирилл. И, в отличие от знака Ангра-Пеквены, это провозвестие доктор Швердт понял.
Эшелон шел до конечного пункта назначения, Рязани, два месяца. В Харбине доктор Швердт жил отдельно от пациентов, на съемной квартире. Но в эшелоне было так мало места – каждый вагон вырывали с боем у скупых интендантов, – что он мог рассчитывать только на узкое купе, которое делил с коллегой.
Днем и ночью он обходил вагоны – многие больные были еще и ранены, некоторые тяжело. И пропитывался, пропитывался, пропитывался бредом, выкрикнутым в тревожном ночном сне, нашептанным товарищу, выговоренным в пространство. Казалось, все завихрения, заскоки разума, все его чудовища, болезненные фантазии были собраны там, в вагонах. Людей словно вскрыло осколками, вывернуло наизнанку взрывами, и они пытались осваивать мир культями интеллекта, вживаться во вселенные своих сумасшествий. И постепенно, чтобы отстраниться и самому не сойти с ума, Арсений начал описывать самые острые или необычные случаи, искать в безумиях рациональное зерно, а точнее, те элементы общих воззрений, которыми инфицирован, так сказать, и здравый разум, но в мозгу безумца они вспыхивают ослепительной, все объясняющей гипотезой, становятся одержимой верой.
Сами записи Арсения не сохранились, он сдал их впоследствии врачам, которым предстояло лечить сумасшедших в Рязани, но кое-что можно было восстановить по дневникам.
«Воевали с японцами, шпионов японских ловили по всем углам. Солдаты шептали, не скрываясь, что “их благородия макакам продались”. Но нет японцев в солдатском бреду. Нет. Слишком они далекие, слишком чужие. Слишком. Пушки есть. Атаки есть. Раны есть. Враги есть. А японцев нет. И, что очень интересно, враги, враг – он не чужой, а свой. Смутьяны. Студенты. Богачи. Офицеры. Революционеры. Генералы. Придворные. Императрица. Стессель. Куропаткин. Государь Император. Жиды-ростовщики. Просто жиды. И немцы. Солдаты просто больны врагом. У каждого свой, но у всех он есть».
Кажется, Арсений стал обращать особое внимание на фантасмагорических немцев, существующих в бреду солдат. У него возник соблазн, интерес посмотреть в это искривленное зеркало, увидеть в нем себя, Арсения Швердта; погрузиться в зыбкие прорицания безумной пифии, услышать смутные речения о судьбе и роке.
Один солдат, узнав, что врач – немец, стал изводить его требованиями отрастить утраченную ногу. Он был твердо уверен, что немцы знают секрет такого врачевания, но скрывают от православных. Другой считал, что немец-доктор приставлен извести раненых, третий – что вообще всю войну устроили немцы, чтобы нажиться и чтобы русских мужиков поубивало побольше. Четвертый – он служил денщиком у немца-поручика, раненого и испустившего дух у него на руках, – верил, что сам стал немцем; рассказывал, как проснулся утром – и вроде он есть он, а вроде – все русское теперь чужое, и сапоги по-чужому дегтем пахнут, гадко так, и лошади кавалерийские по-чужому стучат подковами; этот говорил, что невыносимо ему жить, от всего воротит, и спрашивал – нет ли средства опять русским стать, иначе наложит он на себя руки.
Война была на Дальнем Востоке, но сошедшим с ума солдатам чудились те враги, которых привезли они в потемках, в чуланах разума из Центральной России. И больше всего интересно было Кириллу подмеченное Арсением: нет японцев в бреду солдатском. А немцы есть.
И Кирилл стал думать, почему так. «Слишком чужие японцы, слишком далекие», – писал Арсений. А Кирилл добавил: а немцы – уже не чужие, не далекие. Не случайно же иноверческое кладбище в Москве, где похоронены иноземцы всех вер, в народе называлось и называется Немецким. То есть немец – это и немец, и специфически русский образ иностранца вообще.
Ведь немец – не просто враг, думал Кирилл. Он, сколько толковали русофилы о засилье немцев в России, – человек близкий, почти что свой, и вместе с тем иной, чуждый. И вот это противоречие между близким знакомством, свычкой – и предполагаемой бездной инакости внутри немца заставляет ужаснуться: своему чужому ты открыт, он прочел тебя, как книгу, он знает все твои тайны, слабые места, все приводные ремни национального характера; ты абсолютно беззащитен перед таким врагом.
Свой чужой, повторил Кирилл. Свой чужой. И главное, думал он, первоначально должен быть консенсус принятия, допущения, присвоения, чтобы потом маятник смятенных национальных чувств качнулся в другую сторону, началось отталкивание, отторжение.
Есть и Чужой Чужой, продолжал размышлять Кирилл. Он – в кинофильмах о глянцевитых хищных тварях, вылупляющихся из человеческого тела, здорового тела нации, добавил иронически Кирилл. Нацистское кино на самом деле, только действие толерантно перенесено в космос. Прекрасная проекция социальных страхов.
Свой Чужой, думал Кирилл. По имени Арсений, по отчеству Андреевич, но по фамилии Швердт. И вот уже солдат просит тебя, немца-кудесника, отрастить ампутированную ногу; и бранится, негодует, что скрываешь ты, немец, тайну врачевания.
Вот в какое зеркало посмотрелся Арсений; вот что он там увидел, думал Кирилл.
…После двух месяцев пути эшелон прибыл в Рязань. Там – подальше от столиц, в провинции – больных осматривала комиссия, в которую входили и полицейские чины. Распределяли их по разным госпиталям либо просто комиссовали, если не буйный, отправляли домой, ибо не знали, что, в сущности, с ними делать. Арсения представили к ордену Святой Анны четвертой степени, младшему ордену в длинной иерархии военных наград. Но представление было отозвано: помешали однодневный японский плен и отрицательный отзыв командира полка, поверившего слухам и подозревавшего, что доктор виновен в гибели его роты; впрямую этого написано не было, но достаточно оказалось и намека. Арсений, впрочем, отнесся к коллизии легкомысленно: война окончилась, а ордена пусть вручают другим.
* * *
Получив долгий отпуск, Арсений приехал домой, в усадьбу, в Пущу; хотя впоследствии он снимал квартиры в Москве, только Пущу он звал в любых записях домом.
В окрестностях пошаливали. Сполохи первой революции не вспыхивали под Москвой так ярко, как в отдаленных губерниях, но все-таки соседние усадьбы пострадали. Где-то разграбили припасы, где-то свели коней, и генерал-сосед вытребовал к себе на постой драгунский полуэскадрон. Однако Пущу грабители не тронули – слава Доброго Доктора и Доброй Барыни охраняла старый дом. И Арсений вступил на путь деда, стал врачевать крестьян, умножая добрую славу семейства.
А потом однажды в ночь привезли на санях раненого: сабельный удар рассек руку до кости. Арсений знал того мужика из рыбацкой деревни у самой Оки, жившей наособицу, промышлявшей, говаривали, в старину разбоем, потом поставлявшей бурлаков в Нижний Новгород тягать купеческие баржи, а с распространением пароходов захиревшей. Был тот мужик бакенщиком, выезжал в ночь на фарватер зажигать бакены, а долгим летним днем катал на лодке отдыхающих господ по окским ленивым протокам, рыбалил помаленьку, привозил в Пущу ранним утром на продажу укрытых от занимающегося зноя жирными лопухами пудовых сомов, черных обитателей речных глубин. А теперь он лежал в горячем бреду перед Арсением, вошла в рану зараза, и Арсений понимал, что накануне где-то перехватили его драгуны, застали за воровским ремеслом, гнали по лесу, раненого, да не догнали, ушел он, знающий овраги и перелески, а может, по воде спасся, были у рыбаков тайные лодочки припрятаны, какую-то торговлишку они вели беззаконную или просто разбойничья кровь так играла.
И знал Арсений, что если найдут драгуны раненого в его доме, если не сообщит он в полицию, арестовать, может, и не арестуют, вступятся старшие, Густав и Андреас, но с военной службы уволят. И, наверное, Арсений сообщил бы – если бы не вел недавно эшелон сумасшедших, если бы не видел, как лютуют по железной дороге казаки из карательных отрядов, запарывая людей насмерть; если бы не проникся уже глубоким сочувствием к бунтовщикам.
Арсений не выдал. Спрятал беглеца, прочистил и зашил рану. Знал, что нельзя бакенщику домой возвращаться, что заметили его отсутствие и ждет его в деревеньке драгунский разъезд. Дал денег на дорогу, на обустройство, и утек бакенщик по Оке, ушел с помощью речных братьев на лодке до Нижнего, где сотни тысяч жили, где исчезнуть можно было без следа.
Наверное думал Арсений, что будет этот случай единственным. Но уже проторили ночные гости дорожку в его дом, натоптали шаткий путь в сумерках. Арсений не писал, сколько раз к нему приходили, сколько раз в темноте влетали на двор запаленные лошади; но Кирилл чувствовал, что не раз и не два – гуляли кругом облавы, выискивая бунтовщиков действительных и мнимых, бесновался генерал, у которого разбили оранжереи розария.
Угрожали ли Арсению выдать его властям? Пытались купить? Или он сам, по своей воле принимал ночных посланцев неведомой революционной силы, прорывавшейся иногда багровыми дымными сполохами за дальним лесом?
Кирилл думал, что все-таки Арсений был тверд: сам открывал двери, никто его не понуждал. Так претворилось в нем апостольство Бальтазара: он увидел в социалистической идее то самое лекарство для всех, которое Бальтазар искал в гомеопатии.
Глубокий переворот, считал Кирилл, совершался в то лето внутри Арсения Швердта. И чтобы довершить его, судьба дала Арсению еще две встречи.
Поздней весной, видно, через ту же окскую воровскую переправу, привезли в Пущу нового гостя. Наверное, тайными путями узнали о странном враче, проверили его, – а может, другого выбора не было. Привезли того, кого сам Арсений звал товарищ Аристарх; только так. Это был эсер, один из подпольных руководителей декабрьского восстания в Москве. Он был ранен, не успел бежать с остальными, отлеживался на конспиративных квартирах, пока это не стало слишком опасно: полиция шерстила город, жандармы накрывали эсеровские явки.
Большая птица прилетела к Арсению. Кажется, были с ним два или три боевика, охрана.
Московское восстание большевики потом переписали на себя, помнил Кирилл. Но на самом деле руководили им социалисты-революционеры, эсеры. Кто был товарищ Аристарх, сколько было у него имен и фамилий, указанных в жандармской розыскной бумаге, Кирилл узнал не сразу; вначале он просто вообразил человека без особых примет, профессионала перевоплощений, могущего представиться агрономом, торговцем, даже сыскным агентом.
Арсений спрятал и вылечил товарища Аристарха; может быть, на сей раз вопреки своей воле. Никто не знает, о чем разговаривали двое мужчин, – в записях Арсения было лишь лаконичное «ходил в амбар», «снова ходил в амбар», «был в амбаре», – что Арсению, не сведущему в хозяйстве, делать в амбаре, там, значит, и оборудовали укрытие. А потом Аристарх исчез, чтобы возвратиться еще не раз, ибо он стал должником доктора из Пущи, спасшего ему жизнь и здоровье; доктора, имевшего в родственниках фабрикантов Густава Шмидта и Андреаса Швердта.
В те же месяцы Арсений познакомился с будущей женой.
«То, что бабочка может ночная рассказать по секрету дневной», – повторял про себя Кирилл давние стихи, думая о той встрече. Ночная бабочка кружила под застрехами амбара, среди запахов сена, запекшейся крови, лекарств. А дневная порхала над солнечными дорогами, над полями, где смотрят в моря растущей пшеницы церковные колокольни.
Мальчишку из Пущи послали в соседнее Никольское, на колокольню за голубиным пометом – удобрить доставшиеся в наследство от бабушки Клотильды черные розы, которые полагалось опрыскивать особыми настоями железных опилок, чтобы не теряли цвета, розы – зависть соседа-генерала, который вызвал на постой драгун, ранивших бакенщика, спасенного Арсением…
Черные розы, поздняя дань сентиментальности Клотильды… Мальчишка поскользнулся, его одолела пахучая жара на самой верхотуре, сверзился с лестницы, сломал руку, ушиб плечо. Арсений сам за ним приехал на телеге – и познакомился с племянницей священника, прибывшей погостить на лето.
Как писал сам Арсений, у Железного Густава, вошедшего в стариковский возраст, уже был готов список подходящих невест для внука; старик подходил к этому с бесцеремонностью коннозаводчика. До конца не простивший Арсению ничтожество выбранного поприща, бессмысленность служилой карьеры, Густав задался целью найти Арсению жену, которая бы сумела выправить его чудаковатый, с коленцами, характер и вернуть внука в лоно семьи. Железный Густав был циничен и настойчив, присылал фотографии кандидаток с кратким описанием приданого – акций, владений и прочего; были среди них и аристократки, и богатые купеческие дочери. Но Арсений, кажется, чувствовал, что брак с любой из этих женщин будет ему велик, все равно что сюртук не по размеру; словно предвидя будущее, зная, с какой спутницей будет легче выжить, спастись, он искал не светский успех, а человеческую надежность, преданность, стойкость – солдатские добродетели.
Их он и нашел в племяннице священника, пятой или шестой дочери попа, служившего во Владимире, но бывшего родом из муромской глуши, где жили еще редкие отшельники-язычники, поклонявшиеся каменным дольменным кругам, выложенным на песчаных гривах среди болот.
Арсений угадал будущий характер Софьи. Так бывают просты, бедны замыслом и вместе с тем удивительны грубой рациональностью формы вещи, созданные, чтобы служить не мастерам, имеющим для всякого дела сотни особых изощренных инструментов, а беднякам или солдатам: армейский тесак, саперная лопата. Вещи для бивуака, странствий, беженства, скудных времен.
Живи Софья во времена достатка, она, наверное, никогда не узнала бы истины своего характера, ибо он не понадобился бы ей весь, и вполне могла увлечься каким-нибудь жертвенным вздором, революционным, религиозным, социальным. Но увлечения эти были бы только проявлениями ее силы, связанной не с идеей, не с верой, а с чистой, натуральной способностью к порядку, к удержанию в связности разбегающегося мира. В эпоху разрухи, в эпоху катастрофических перемен такие люди собирают вокруг себя острова, состоящие из других людей, снесенных водоворотом; из частей прежней жизни, получивших новое назначение, – зыбкие пристанища, подобные плотам потерпевших кораблекрушение, собранным из обломков.
Железный Густав опять в бешенстве грозил лишить внука наследства; он уже сторговал для него руку дочери одной из второстепенных фрейлин императрицы. Однако Андреас опять выступил на стороне сына, дал родительское благословение, и сбитый с толку Густав прибыл в Пущу, будучи уверен, что свадьбу еще можно отменить.
Однако Софья проняла старика. Так же, как когда-то в Андреасе – движитель, источник энергии, он увидел в ней грубую, надежную стальную опору. Густав, кажется, видел семью как монструозный механизм, где люди срослись с заводами, фабриками, являя с ними одно целое, – и в этом механизме нашлось место для опоры-Софьи.
«Много, много выдержит», – сказал Железный Густав и с той поры стал поддерживать невестку. Фраза его: «В деньгах полный нуль, но сама многого стоит», сказанная на приеме промышленников, стала семейным motto. И еще: Железный Густав никогда больше не предлагал Арсению испросить отставку и заняться семейным делом.
Кажется, теперь Густав взял иную тактику: перестав оспаривать жизнь Арсения, он начал ее исподволь улучшать. Арсений предполагал, что именно Железный Густав организовал его перевод в Московский военный госпиталь, способствовал легкому расставанию со флотом, – порой ведомственные переписки между Адмиралтейством и военным министерством длились годами, – и добился, чтобы Арсений был оставлен в лаборатории заниматься проблемами предотвращения эпидемических болезней в армии – тема, которую Арсений выделил для себя еще на старших курсах.
А может, Арсений добился всего сам, просто за ним стояла тень Железного Густава. Старик наконец-то вошел в круги военных промышленников, запустил под Киевом полный цикл артиллерийского производства – пороха, снарядные гильзы, стволы и лафеты орудий, прицельные приспособления – и начал интриговать в пользу генерала Сухомлинова, киевского, волынского и подольского генерал-губернатора. У Сухомлинова уже была своя партия, генерала прочили в военные министры, а Густав старался расположить свои производства ближе к западной границе, ибо торговал и с Европой, и Сухомлинов много ему помог в революцию 1905-го, когда бастовали заводы и железные дороги.
Достаточно было просто быть внуком Густава Шмидта – и нужные двери предупредительно открывались. Однако Арсений не был классическим протеже, больше смотрел в окуляр микроскопа на палочки Коха и спирохеты, чем в глаза начальству, – тиф и туберкулез, туберкулез и тиф были его главными воображаемыми противниками, ибо помнил он, как в тыловых лазаретах русской армии в Маньчжурии они убили не меньше солдат, чем японские пули на поле боя.
Конечно, Арсений воспринимал Два Т – так назвал две эти болезни Кирилл – еще и в контексте социалистической идеи: как следствия угнетенного состояния рабочих, скверну старого прогнившего мира, символ его нравственной нечистоты. И, глядя в окуляр, он видел на предметном стекле не бактерии, а классового врага, – так Арсений записал в поздних горестных заметах, когда уже сам был сочтен классовым врагом, носителем скверны, отравителем здоровья общества.
* * *
Кирилл любил приходить сюда, в тихий переулок у Садового кольца. Над ним царила угрюмая громада сталинской высотки МИДа, но сам переулок дышал другим воздухом, специфически московским, сереньким, воробьиным, вербным, близоруким, лучше передающим старческое шарканье подошв, чем звон монеты. Дом, который построил в 1910 году знаменитый архитектор по заказу Андреаса и Железного Густава, двухэтажный особняк в стиле московского модерна, до сих пор стоял по старому адресу, хотя название переулка сменилось трижды.
Ныне особняк принадлежал какой-то из теневых структур МИДа. Кирилл все гадал, что там – разведка? какой-то полуофициальный бизнес? Внутрь его не пустили даже с рекомендательным письмом из департамента культуры мэрии. Он смотрел на черепичную крышу, кованые решетки балконов, мозаичные панно, странные круглые окна, похожие на корабельные иллюминаторы; между ним и домом не было связи, он вырос в другой стране и даже мысленно не мог поместить себя в этот особняк.
На самом большом панно над главным входом была изображена рыба: налим, плывущий среди водорослей над речным или озерным дном. Водоросли извивались длинными лентами, вытягивали стебли с оранжевыми цветами, похожими на герберы; налим изгибался, разевал розовый рот, поднимал очи, будто молился рыбьему богу, пастырю стай и косяков, отцу трески, владыке кашалотов и акул. Рядом и чуть ниже, воинственно воздев усы, шагал по дну одетый в броню рак.
Когда в детстве бабушка Каролина учила Кирилла рисовать, она часто изображала подводный мир, сопровождая рисование стишком, который Кирилл считал детским:
Там пиявки, раки ползают по илу, много ужаса вода в себе таит… Щука – младшая сестрица крокодилу — неживая возле берега стоит…И возникали на ее рисунках раки, налимы, щуки, окуни, водоросли, расцветающие невиданными оранжевыми цветами. Кирилл-ребенок радовался перенесению земных красот под воду, легко подхватывал игру, пририсовывал розы, одуванчики. И никогда его не удивляло: почему бабушка так предана этому сюжету, почему рисует не грибной дачный лес, не городской парк, а странное русалочье пространство, недоступное живым?
Впервые увидев особняк, Кирилл понял почему. Диковинный мозаичный рисунок над дверью – выполнил ли его архитектор, заказал ли кому-то – остался для бабушки тайным знаком, отмечающим замурованный вход в прошлое.
Рыба, древний христианский символ, – что она означала? Дань памяти Андреаса-первого, моряка, съеденного дикарями? Посвящение Арсению, страдальцу Цусимы, провожавшему товарищей на дно морское? Или просто неопределенное иносказание, провозвестие грядущего потопа, который переживет только Ной в доме с окнами, похожими на иллюминаторы? Как бы то ни было, бабушка никогда не водила Кирилла к особняку – и упорно рисовала с ним картинку, которую он наверняка был узнал, случайно оказавшись в том переулке.
Побывав тут в первый раз, Кирилл, конечно, вспомнил «Там пиявки, раки ползают по илу…» И пока ехал домой, размышлял: чьи же это могут быть стихи? Он поставил на Корнея Чуковского; интонация была сказочная, словно созданная именно для того, чтобы бабушка за вязаньем или игрой читала их внуку.
Оказалось – Борис Корнилов. Опальный поэт, арестованный за троцкизм в 1937-м и расстрелянный в 1938-м. Кирилл помнил тоненький его сборник на бабушкиной книжной полке. Подошел, взял, открыл: «Серафима», горькие стихи о любви, в которые затесалось, втемяшилось детское это четверостишие.
…От нее и от него пахнуло мятой, он прощается у крайнего окна, и намок в росе пиджак его измятый довоенного и тонкого сукна.Кирилл закрыл книгу. Ленинградец Корнилов, обвиненный в кулацком уклоне, дальний знакомый бабушкиной сестры Антонины, Тони. Несбывшейся любовью повеяло от страниц книги, одиноким безответным чувством. Неужели бабушка была влюблена в Корнилова? Но ее неизвестного возлюбленного звали Аркадий. Может, была влюблена Тоня, ленинградская жительница? И бабушка, повторяя строки, срифмовавшиеся, совпавшие с речной мозаикой, поминала ее, лишенную могилы и надгробия?
Можно ли было предвидеть все это, находясь внутри светлого дома – архитектор спроектировал огромные окна-арки, – празднуя Рождество или Пасху? Кирилл понимал, что вопрос бессмыслен, но все же раз за разом к нему возвращался. И приходил туда, в тихий переулок, чтобы попытаться вообразить несколько счастливых лет, предшествовавших Первой Мировой. Но ничего не лезло в голову, кроме свечей, белых занавесок, накрытого стола, яств, платьев и фраков, перевязанных лентами коробок с подарками. Счастье не остается в истории, не составляет ее материи – думал Кирилл, оно не просто одинаково, если следовать толстовской формуле, оно ничего не значит на больших весах судьбы, им ничего нельзя искупить, оправдать, спасти, как если бы оно было фальшивыми деньгами. Поэтому, думал Кирилл, я и не могу проникнуть воображением в те годы, увидеть их в подробностях: они только промежуток, увертюра; незаметное созревание будущего, которое будет совсем иным, чем его преддверие.
Кирилл думал найти ключ к тем временам в семейном альбоме с открытками, который сохранила бабушка. Впрочем, Кирилл не был уверен, что она сберегла все открытки; скорее это было редуцированное, цензурированное избранное, а все компрометирующие послания сгорели в печи в двадцатые или в тридцатые.
На открытках были умильные пудели, шаловливо глядящие в объектив; ласковые котики с бантиками; уснувшая толстощекая девочка, обнимающая игрушечного солдатика; пасторальные детки, водящие на лугу хоровод вокруг ягненка; другая карточка – пара целующихся детей, пара целующихся ягнят, кролики, приникшие друг к другу, и две вьющиеся бабочки – на фоне расцветающей природы; прекраснокудрые, гладко причесанные, сытые дети, гадающие в карты на Святки, сидящие за шитьем, целующие щенка, – о, сколько томно-невинных поцелуев в этом альбоме! – мчащиеся в гигантских лаптях со снежной горы, прилежно изучающие букварь; они вообще прилежны, послушны, идеальны, эти выдуманные дети, ухаживающие за больной птичкой, красящие пасхальные яйца, наряжающие рождественскую елку.
Поздравляю с Днем ангела… Поздравляю именинницу… Христос Воскресе… Целую тебя… Дорогая… Дорогая… Милый… И все такое мило-жеманное, сусально-слезоточивое, что невозможно поверить: через несколько лет, через несколько месяцев эти же самые люди возьмут в руки оружие и пойдут крушить, крошить других таких же, с такими же песиками и кошечками, цветочками и бутоньерками – до седла, до пластов мяса, распадающихся после удара шашкой с наскоку.
Интересно, спрашивал себя Кирилл, а был ли прадед Арсений по-настоящему подвержен такого рода сентиментальности? Был ли он искренним, когда писал и отправлял все эти родственные послания с кудрявыми девочками и приторными ангелочками? Сам Кирилл не мог испытать подобных эмоций, для него они устарели, как кринолины, нафабренные усы и патефон, и потому не был способен сопоставить себя с Арсением. Но Кирилл ощущал, что прадед исполнял семейные, общественные ритуалы скорее по обязанности; его чувства искали каких-то других, еще только нарождающихся символов.
* * *
Весна 1912 года. Апрель. Короткая запись в дневнике Арсения. В дневнике, который он почти перестал вести, стал использовать как записную книжку для врачебных заметок. Раньше Арсений писал в дневнике то на русском, то на немецком. Его немецкий был грамматически идеален, в русском он делал редкие ошибки – но именно те, которые сделает человек, свободно владеющий языком, чувствующий противоречия между грамматикой и естественным течением речи.
Если ему было нужно отстраниться, критически посмотреть на что-либо, он писал по-немецки; а с одобрением, с принятием – по-русски. Когда ему попадались заимствованные слова, например ландшафт или микстура, он записывал их по-немецки, отчего казалось, что он имеет в виду именно немецкие ландшафт и микстуру; в языке вырисовывался раздвоенный, расщепленный человек, могущий менять личины, становиться то русским, то немцем; ценящий эту неопределенность, способность перетекать из одной идентичности в другую.
Теперь же оба языка вытеснила из дневника неразборчивая – даже почерк поменялся – латынь. Арсений словно ушел от реальности, спрятался в древний язык, в лекарские закорючки, которые прочтет только коллега.
Латынь, тайнопись латыни, в которой Кирилл распознавал только общеупотребительные слова, хотя слушал курс в университете.
И вдруг – запись по-немецки: «Приходил отец. Спрашивал, какие последствия вызывает отравление тухлым мясом». И четыре – четыре! – восклицательных знака на полях, вдобавок дважды подчеркнутые.
Четырех восклицательных знаков не набралось бы в сумме на всех остальных страницах дневника. Арсений писал не бесстрастно, но без явной интонации; писал, как жил: плавно, без всплесков. Когда в 1908 году землетрясение уничтожило Мессину и русская эскадра, стоявшая на якоре в гавани, спасла тысячи итальянцев, Арсений, сам флотский врач в прошлом, отметил это событие в дневнике и добавил к записи один восклицательный знак.
А тут – четыре. И тухлое мясо.
Кирилл представил весну 1912 года. Вскрывшийся лед на Москве-реке, капель, солнце; ворвавшиеся в город после зимней стужи запахи дегтя, навоза, печного дыма, отогревшейся земли; свежесть пространства, его гулкую обновленную пустоту, готовность вместить облака и грозы грядущего лета. Откуда же в этой гамме взяться запаху тухлого мяса, который так явственно представился Кириллу после фразы в дневнике?
И вдруг он понял, почему так остро – будто был готов, имел подсказку – вообразил запах тухлятины.
Вся русская история начала века, от революции 1905 года до революции 1917-го, припахивала тухлым мясом, словно зловоние издавала разлагающаяся туша империи; словно общественная жизнь сгнила, обратилась в нечто мерзкое, не перевариваемое, несъедобное, и современники чуяли это в воздухе времени.
Испорченное, червивое мясо не случайно стало одним из ключевых образов двух революций, запечатленным в советской культуре; образом того, что царизм невозможно более принимать, проглатывать, наступил край терпения.
Кирилл вспомнил фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Часть первая – «Люди и черви». Первая сцена: старорежимный боцман будит спящих матросов, пробуждает их таким образом для революционной сознательности. Сцена третья или четвертая – матросы собрались у подвешенных говяжьих туш, предназначенных им в котел. Туши отвратно пахнут, даже черно-белая пленка передает душный, липкий запах гнили. Приходит судовой врач, подносит к мясу пенсне – под увеличительным стеклом ползают белые черви. Но врач и офицеры не видят червей, не чувствуют гнили, потому что принадлежат к старому времени, сами прогнили до костей, сами источают червей.
Команда отказывается есть и поднимает восстание. Над броненосцем взвивается красный флаг, – Кирилл помнил фильм с детских лет.
Второй образ, второй сюжет – как бы эхо «Потемкина» – Ленский расстрел. Восстание на золотых приисках в Сибири. Солдаты по приказу жандармского ротмистра открыли огонь по бастующим рабочим, убили несколько сотен человек.
Расстрел потряс страну, открыл двери для второй революции. Расследование дало старт политической карьере адвоката Керенского, будущего председателя Временного правительства. А восстание началось с тухлого мяса в общем котле. Люди работали в жутких условиях, жили в бараках на вечной мерзлоте, трудились до двенадцати часов в день, выносили многое, что невозможно вынести, – но взбунтовались именно из-за червивого мяса.
Ленский расстрел, Ленские прииски… Кирилл не помнил точно, когда это случилось. До Первой Мировой точно, до войны… Он открыл – ради пижонства – не интернет, а Большую советскую энциклопедию. И прочел: апрель 1912 года.
Кирилл, уже предчувствуя, чем закончится поиск, стал искать информацию о владельцах приисков. Lena Goldfields, «Лензолото», русский капитал, английский капитал, акции торгуются на бирже, борьба за контроль над приисками… Две-три полузнакомые фамилии среди членов правления – Кирилл встречал их в описаниях приемов в особняке Шмидтов – Швердтов. Ничего больше, но теперь Кирилл был уверен, что в группе русских акционеров был и Железный Густав, действовавший через подставных лиц.
Итак, Андреас и Густав пытались разобраться, действительно ли отравление тухлым мясом столь серьезно, что из-за него люди готовы пойти против жандармов, думал Кирилл. Они ничего не понимали, не чувствовали волны возмущения, поднимающейся в народе. Арсений чувствовал. И четыре восклицательных знака были посвящены не расстрелу как таковому – а глупости, слепоте деда и отца.
Густав и Андреас были на стороне правительства, понял Кирилл. На стороне министра внутренних дел, заявившего с думской трибуны о правомерности применения оружия жандармами: «Так было, так есть и так будет!» Если бы они знали, как будет… И Арсений уже внутренне изменил семье, уже стал красным, не переставая быть русским немцем.
Меж тем Железный Густав в эти предвоенные годы добился больших военных заказов. У Арсения и Софьи рождались дети, воображаемое вдовцом Густавом будущее семьи разрасталось. Старик воспрял духом, хотя вряд ли глубоко любил детей; скорее они представлялись ему в первую очередь наследниками, выразителями семейного начала, маленькими взрослыми, трехлетними невестами, пятилетними управляющими или акционерами. Дети являлись на свет один за другим, множилось число именин, дней ангела, число подарков под рождественской елкой, игрушечных лошадок с гривой из настоящего конского волоса, меняющих лицо кукол, настольных железных дорог, волшебных ламп, тех самых слащавых открыток, что найдет потом Кирилл в уцелевшем альбоме. Густав как бы загодя склеивал, скреплял семью нитями приязни, закладывал основы будущего взаимно дружественного бытия, но поскольку он был Густав, то и выходило густо, душно, как в перетопленной зале, где можно упасть в обморок от тепла, сладких вин и головокружения танцев.
Возможно, не родись у Арсения шестеро детей, Густав вел бы себя иначе в коммерческих предприятиях и дальнейшая судьба семьи была бы иной. Но он будто вознамерился что-то доказать судьбе; не деловое чутье изменило ему, а чувство меры. Он окончательно потерял способность различать семью и семейное дело, задумал дать каждому внуку и внучке по огромному состоянию – хотя и так был богат; открыто стакнулся с верхушкой военного министерства, нажив себе опасных врагов, уже запустивших слухи: немец снабжает армию, это потенциальный саботаж! Конечно, такие обвинения никого не удивляли, промышленники часто интриговали именно таким образом, посылая в полицию, Сенат, Министерство юстиции подметные письма, «разоблачавшие» связь конкурентов с Германией или Австро-Венгрией. Но летом 1914 года риски этих обвинений в одно мгновение многократно возросли: началась война.
Кирилл положил себе запрет: не пытаться представить, как встретили члены семьи известие о вступлении в войну. У него был ответ: Арсений больше никогда не писал в дневнике по-немецки. Старая книжица, заполненная лишь наполовину, легла на полку. В новой, начатой в августе, остались только русский и латынь; а вскоре и латынь пропала – кажется, прадед подсознательно готовился к тому, что однажды его обыщут и какой-нибудь неграмотный военный следователь или полицейский заподозрит в непонятных латинских словах крамолу, шпионский секрет. Арсений, уже имевший после краткого японского плена дело с контрразведкой, видел дальше, чем Железный Густав и Андреас, которые, хотя и осознавали, что их положение пошатнулось, чувствовали себя защищенными деньгами, наградами, а главное – связями, наиполезнейшими связями.
Железный Густав усмирил гордый нрав и подал на Высочайшее имя прошение о даровании подданства себе, Андреасу и прочим в нем нуждающимся членам семьи. Прошение было удовлетворено, однако не так легко, как рассчитывал Густав.
Новоиспеченный российский гражданин приветствовал войну; но было ли это искренним? Железный Густав все еще рассчитывал, что война укрепит его позиции, на деле докажет превосходство его снарядов и пушек и, конечно же, обогатит семью; так судил Арсений, которому был неприятен энтузиазм деда, организовавшего на заводах патриотические митинги, пожертвовавшего крупную сумму на дела придворного милосердия – реверанс за монаршее попечение.
Но Кирилл полагал иначе. Он, глядя из будущего в прошлое, считал, что Густав и Андреас все-таки почувствовали опасность быть немцами. Все компании Шмидта сменили вывески, названия выбирались неопределенно-нейтральные, вроде «Восход» или «Заря». Иронично, думал Кирилл, что эти названия пережили революцию и сохранились в СССР, отвечая патетическому новому стилю. Санкт-Петербург 18 августа переименовали в Петроград, и Железный Густав мог просто уловить прозрачный намек, говорил себе Кирилл; и сам же отвечал: нет, Густав и Андреас именно чувствовали, что зарвались, слишком агрессивно вели себя на рынке, слишком многим наступили на мозоль, слишком подчеркивали немецкость своих машин, механизмов, оружия, должную означать их непревзойденное качество, и теперь опасались, что конкуренты воспользуются ситуацией.
Арсения, служившего по-прежнему в Московском императорском военном госпитале, в первые месяцы войны не трогали – как известно, общее мнение всех воюющих держав было, что война закончится к Рождеству; войсковые начальники рассчитывали справиться с потоком раненых наличествующими силами.
Поэтому осень Арсений провел в Москве. Дед и отец как бы отъединились от остальной семьи, взвалив на себя заботы и страхи военного времени. Прежде дом был скреплен их деятельным участием, ежедневными завтраками-обедами-ужинами, вечерними разговорами у камина, множеством маленьких церемоний, а главное – самим духом присутствия старших, находивших время вникать даже в дела детей, учить их немецкому; старших, не казавшихся стариками. Хотя Густаву уже было под восемьдесят, а Андреасу ближе к шестидесяти, прежде они оба казались защищенными от старости: как языческие боги, держали они капиталистический рог изобилия, исторгавший машины, которые производят машины.
Теперь же оба столпа дома познали старость – не как скудость сегодняшних сил, а как ограниченность горизонта будущего. Пряча внезапное старчество, они закрылись, сберегая силы, – и не заметили, как без их попечения семья раскололась на маленькие островки.
Для двух титанов война пока была сугубо коммерческой проблемой. Остальные знали войну только по газетам, по слухам, по шепоткам за спиной: немец, немка. И только Арсений уже встретил настоящую войну: в госпиталь сначала по одному, потом десятками, потом сотнями стали привозить раненых. Примечательно, что доктора Швердта никто не попрекал его немецкой национальностью. В госпитале было еще несколько врачей-немцев, и им нет-нет, но доставались косые взгляды; в Арсении же видели в первую очередь врача. Другие доктора-немцы тоже говорили по-русски без акцента, прожили всю жизнь в России, многие служили в госпитале дольше Арсения, пользовались заслуженной славой, однако их инстинктивно и мгновенно стали воспринимать как чужих, Арсения же – как своего. Почему? – думал Кирилл. Ведь у Арсения было гораздо больше шансов стать козлом отпущения просто из-за зависти, ведь все знали, что его дед и отец – немецкие фабриканты, богачи.
Наверное, рассуждал Кирилл, в госпитале чувствовали то, чего, может быть, еще не чувствовал сам Арсений: его окончательное отсоединение от семьи, переход в русское подданство не в смысле гражданства, а в смысле готовности и желания разделить судьбу новой родины; или – ощущали, что Арсений немного не от мира сего, он и дурачок, и святой, помешавшийся на бактериях, инфекционных болезнях, человек, всерьез воюющий со смертью, – очень узнаваемый, русский типаж.
В госпиталь стали поступать раненые. И оказалось, что Арсению с его скромным военным опытом есть чему поучить академических коллег. Те, хотя служили в военном госпитале, не понимали, что раненые солдаты – не обычные больные; что в них еще живет война и за ними нужен особый уход.
Густав и Андреас пеклись о сохранении и умножении производства пушек. А в госпитале Арсений видел солдат с оторванными ногами, приговоренных калек, вечную обузу крестьянским семьям. И хотя заводы Густава производили русские пушки, а солдат ранили немецкие, внутри Арсения происходила подмена: он чувствовал, что это орудия, выпущенные Шмидтом и Швердтом, изувечили его пациентов.
Примечательно, что дома Арсений не рассказывал, что занимается ранеными. Он как бы ушел в подполье, видимо понимая, что не найдет общего языка с дедом и отцом. Те в конечном счете полагали гибель солдат неизбежностью, а он восставал против этой неизбежности; а еще – Арсений обнаружил в солдатской среде нечто новое, чего не было на Японской войне, что он сам едва понимал.
Арсений ожидал, что снова, как в 1905 году, среди раненых солдат будет много сошедших с ума; но теперь было иначе.
Он безумен, но он и здоров, – писал Арсений про солдата, толкующего о предательстве императрицы-немки. Безумен потому, что буквально все несчастья сводил к злой воле Александры Федоровны, доказывал это до трясучки. А здоров потому, что разложение государства достигло такой степени, что в этом действительно легко было увидеть злой умысел, заговор – не могут же власти без тайных причин допустить такую разруху, такое временщичество!
Те шлаки, испражнения психики, которые раньше уходили в выхлопную трубу чистого безумия, в саморазрушение, считал Арсений, теперь преобразуются иначе: в отложенную агрессию, направленную вовне. Солдаты в эшелоне безумцев, который Арсений вел из Харбина в 1906-м, были, в сущности, безобидны в своих диковинных фантазмах. Теперь же, когда горячка и помрачение умов стали нормой, безумие стало опасно реалистичным, приняло характер ожесточения; солдаты чувствовали, что за их спинами, в тылу, окопались предатели, свои, ставшие чужими. Конечно, все это существовало в японскую кампанию, но в более слабом, так сказать, разведенном виде – а ныне сгустилось, окрепло, стало передаваться, как инфекция. Тот же солдат, что толковал про императрицу, отвечал на увещевания сестры милосердия не чернить монаршее имя: нет во мне добра ни к чему живому. И, как писал Арсений, в этих словах он слышал и нотку сумасшествия, и откровенное признание трезвого, умного человека.
Кажется, Арсений даже подружился с этим солдатом, звали его Петр Незабудкин – хорошая, достоевская фамилия для одержимого. На Незабудкина хотели донести, но Арсений выгородил его, объяснил, что солдат после ранения не в себе, пересказывает глупые слухи, а когда выздоровеет, сам устыдится. Госпитальный жандарм поверил Арсению: знал, что Швердт еще в Японскую лечил сумасшедших.
Незабудкин отблагодарил на свой манер: познакомил с несколькими солдатами, составившими «кружок». Кто-то из охраны госпиталя, из московских служивых, был большевистским агитатором, приносил листовки, давал прочитать доверенным больным, зная, что по излечении солдаты снова отправятся в войска.
За большевиком шла охота. Жандармы ставили засады у лазеек в заборе, обыскивали подводы с дровами. В итоге агитатора арестовали с кипой листовок; и, кажется, Незабудкин прощупывал врача, офицера: не согласится ли он стать новым курьером? Кирилл не знал, взялся ли Арсений передавать воззвания. Одно было точно: у раненых солдат Арсений заслужил славу заступника, и эта репутация была передана по «солдатскому телеграфу» в войска, когда в декабре Арсения призвали на фронт, снова, как в японскую, приказали заведовать эвакуационным госпиталем.
Разумеется, и Густав, и Андреас ожидали, что Софья и дети останутся у них, в московском доме, с нянюшками и гувернантками. Но Арсений решил иначе. Он отправил детей погостить к дальним родственникам в разных городах, а жену и старшую дочь Каролину взял с собой к месту службы. Но почему он так поступил? Заботясь о детях, было бы вернее оставить их в не знающем нужды доме, у любящих деда и прадеда; да и момент был щекотливый, чреватый старческими обидами и ревностью.
Единственное, что понимал Кирилл, – Арсений хотел, чтобы сыновья и дочери выросли в первую очередь его детьми, а не внуками Андреаса, правнуками Густава; боялся полностью вверить властным старикам их судьбы, чувствовал, что те могут испортить детей неумеренным обожанием, потаканием их капризам, дорогими подарками.
А может, Арсений сумел предвидеть будущее, угадать, что скоро особняк, полный света и голосов, погрузится в мрачную тишину и дети не смогут ее разогнать, будут жить в ней – тревожной, гулкой; прежде гостеприимный дом станет одинокой цитаделью, где Густав и Андреас, как два божества ушедших времен, будут вести долгий разговор о временах новых, о своем позорном бессилии, о том, как спастись самим и спасти все, что они построили, воздвигли за долгий владетельный век.
* * *
Кирилл отчетливо представлял себе этот разговор. Наверняка он происходил в кабинете на втором этаже, где широкое окно смотрит на юг. Кириллу виделась тяжелая старинная мебель из мореного дуба, покрытая резьбой, – возможно, Густав привез ее из Германии; мебель, пребывающая как бы в растерянности: если бы хозяин захотел открыть дверцу или выдвинуть ящик, заело бы петли или ключ застрял бы в скважине. Нет, мебель не обладала разумом или волей; просто вся жизнь дома, прежде движимая энергией Железного Густава, теперь расстроилась, сбилась с тона, замерла в пугливом ожидании.
Поздний вечер, длящийся сквозь годы. Шторы наглухо задернуты. В доме тихо, спят домочадцы и прислуга. Но кажется, вот-вот подъедет пролетка или автомобиль, кто-то позвонит в двери.
Август. Август 1914-го. Наверное, в городе еще жарко, в предместьях растет гроздьями на заборах собачий лай, мальчишки ловят в реке рыбу, хватающую с поверхности воды стрекоз и бабочек, чьи крылья уже устали опираться о скудеющий воздух лета. На Пресне и в Дорогомилове, на Арбате и Плющихе искрят – чаще, чем обычно, – запоздавшие трамваи, везущие ночных пассажиров во тьму, на неосвещенные окраины. Оттуда, с окраин, дует ветер, и в нем слышатся голоса, подхваченные среди лесов и полей, подслушанные у деревенских окон: заунывный плач, белый стих прощального речитатива – это женщины провожают сыновей, мужей и братьев древними словами, безымянными, сильными силой хорового напева, безличностной горести; слитно рыдают женщины – будто огромное нутро исторгает из себя эти звуки, безжалостные к частной судьбе; рожали в муках – и провожают на смерть в муках, отдав плоть от плоти своей на злое дело убийства, на гибель в чужих краях.
По стенам пляшут тени, перекошенные шепчущими сквозняками, бьются в окна горестные голоса, но они не слышны Андреасу и Густаву. Черная, как нефть, ночь падает каплями с их черных сюртуков. Тусклый огонь ламп блестит на лезвиях старинных палашей, эспадронов, шпаг, сабель, мечей, висящих многолучевой звездой на стене кабинета. И два мастера стали впервые жалеют, что повесили клинки здесь: холодное ночное солнце оружия всходит над их головами, над их шеями занесены эти клинки.
Кирилл видит Густава и Андреаса, но не слышит, о чем они говорят, – незримый, бесплотный ветер срывает слова с губ и комкает, уносит сквозь стены. Кирилл знает, о чем разговор. Циркуляр Министерства внутренних дел. Все немецкие граждане в возрасте от 18 до 45 лет считаются военнопленными и будут отправлены в ссылку – за их же счет. Да, Густав и Андреас старше. Они уже граждане Российской империи. Лезвие мелькнуло впритирку над головой, опахнуло воздухом. Тревога. Что дальше?
Скачут по ночным полям, освещенным ленивыми зарницами, гонцы, верстают в армию людей, коней, фураж. Первые разведывательные разъезды уже топчут чужую землю. Где-то там, в ночи Восточной Пруссии, движутся пушки Густава, едут его артиллерийские повозки; на военных кораблях, на дредноутах и крейсерах, защищает матросов его броня, работают его помпы и котлы; военные эшелоны спешат из разных концов страны по его рельсам. Но все это отчуждено от Густава, не может быть поставлено ему в заслугу, потому что он теперь пария, прокаженный, и босоногий мальчишка-газетчик прокричит его имя с веселой ненавистью.
Густав и Андреас уже знают, что разнообразные клубы и общества исключают немцев. Газеты пишут о грядущих высылках и арестах, о предполагающейся передаче конфискованного имущества под лазареты. А ведь настроение общества пока бравурное, получены депеши о победе под Гумбинненом, германские войска отступают вглубь Восточной Пруссии, и еще может показаться, что патриотический кураж вскоре схлынет, к Рождеству войска вернутся на зимние квартиры и будет заключен мир.
Однако если Густав еще сохранял какие-то иллюзии, еще надеялся, что доброе имя защитит его от нападок, а качество продукции вызовет приток заказов, то Андреас, ограниченно понимавший в военном деле и чуравшийся политики, но обладавший превосходным инженерным чувством гармонии, потерявший уже почти всех сестер, ощущал, что наступил предел прочности для старой конструкции мира; что война – лишь клапан, через который вырвутся в мир демоны будущего, и этот клапан уже не закрыть.
Чудовища грядущего являлись Андреасу в образах новой техники, которую породит война: гигантских пушек, бронированных поездов, плавучих крепостей, вооруженных сотнями орудий, монстров-цеппелинов, несущих зажигательные бомбы. Несколько набросков Андреаса уцелели, спрятанные в альбоме за открытками. Больше всего Кирилла поразили закованные в клепаную броню, одетые в противогазы четыре всадника на механических лошадях; но Кирилл не ощущал смятения души рисовальщика, которое чувствуется в «Четырех всадниках» Дюрера; а потом понял, что Андреас не боялся грядущего, догадывался, что, как человек времени старого, времени нового не переживет, уйдет вслед за сестрами, и вся его забота была о потомках.
Баланс прав и воли между Густавом и Андреасом невидимо сместился в сторону последнего; Густав по-прежнему был во главе компании, но Андреас теперь чаще говорил в ночных разговорах, а Густав больше молчал и слушал.
Сентябрь 1914-го. Русские войска проиграли битву при Танненберге, разбита Первая армия генерала Ренненкампфа, чьи карательные отряды видел Арсений во время первой революции, когда вез сошедших с ума солдат с Дальнего Востока в Рязань. Теперь вместо зерна поезда опять везут страшный урожай раненых, и в народе толкуют о немцах-генералах во главе русской армии: нет ли измены?
И снова стоят двое; на закате солнце краснело, словно бинт на ране, а теперь ночь черна, как черно внутри ствола винтовки. Еще работают их заводы, варят сталь, прокатывают рельсы; еще вращаются резцы станков, отправляются грузы, бухгалтеры считают деньги – но во всем этом нет прежней уверенности, напора, все движется по инерции, и она вот-вот иссякнет. Уже отказались от сотрудничества некоторые подрядчики, государственные чиновники не так любезны, конкуренты перехватывают заказы, и акции колеблются; неисчислимые стада станков, машин, механических левиафанов потеют масляным страхом металла.
Густав и Андреас чувствуют, что нужно бежать, – но пока не в силах бросить все нажитое. Да и куда бежать? В Германии и Австро-Венгрии они – русские; в странах Антанты – немцы. В нейтральные Швецию или Америку? Они осторожно выясняют возможность продажи всех предприятий. Но им предлагают смехотворную, унизительную цену, окружают картельным сговором; они решают держаться.
Декабрь. Скоро рождественские балы, маскарады. Приглашений на две трети меньше, чем в прошлом году. Домочадцы расстроены, но Густав и Андреас даже рады. Их жизнь в последние месяцы и так напоминает зловещий маскарад: почти никто открыто не проявляет вражды, одни сочувствуют, другие соболезнуют, третьи предлагают помощь, туманно намекая на заступничество перед Императором, четвертые хотят войти в дело, – но все это зыбкая игра личин, и никому уже нельзя верить.
И вдруг маски сброшены: в Петрограде учреждено «Общество 1914 года»: патриотичные банкиры и промышленники объединились, чтобы лоббировать интересы национального капитала. Густав и Андреас к участию не приглашены. Однако они думают, что теперь будет легче: появился осязаемый противник, действующий понятными методами, и с ним можно будет справиться.
Но сияет на стене холодное солнце древних клинков, проснувшихся, ибо в далеких полях слышен звон сабель; и Кириллу спустя столетие кажется, что он слышит молчание булата, ощущает угрюмую тяжесть десятков лезвий, дамокловых мечей, висящих над головами стариков.
В недобрый час явилась Густаву мысль собирать клинки, выложить металлическое солнце на стене кабинета; потустороннее солнце, освещавшее призрачным светом наступившую в августе 1914-го ночь семьи.
Густав, думал Кирилл, сам не будучи родовит, собирал гербарий клейм и гербов; скупые, медленно, долго живущие души оружия: как пережитки давних катастроф, свидетельства семейных крушений; как доказательство, что истинная сила рода – не воинская, она не в храбрости, а в уме и сметке буржуа-предпринимателя, умеющего ценить сегодняшнюю жизнь.
И теперь, представлял Кирилл, клинки словно надсмехались над Густавом, ибо его оружие: банковские счета, акции, капиталы, – не могло защитить его, а иного он не имел.
По слухам, достоверность которых Кирилл не сумел установить, один, особенный, меч Густав выкупил у самого Шлимана после раскопок в Трое; возможно, какие-то тайные связи соединяли двух немцев, прибывших в середине XIX века в Россию и сделавших там состояние, но за эту завесу Кирилл уже не мог проникнуть.
Образ троянского меча не оставлял Кирилла.
Он часто думал о Первой Мировой как о Троянской войне нового времени. В «Илиаде» все были призваны к делу сражений; война разделила универсум на две враждующие стороны, от высот Олимпа до глубин Посейдонова океана и мрачных подземелий Аида. Никто не остался нейтрален, ни люди, ни боги. Война вобрала весь мир – и выплюнула измененным, измененным настолько, что Одиссей искал путь домой двадцать лет: прежняя топография, прежние пути оказались упразднены.
В мироздании Гомера силой действовать, вершить судьбу обладали только носящие оружие. И троянский меч напоминал Густаву, что ныне для спасения рода нужны воины, а не купцы; никто иной не отведет угрозу.
А угроза был велика. Листая антинемецкие документы правительства, Кирилл видел, как в России рождался тоталитаризм – до прихода большевиков к власти. Как возникало репрессивное государство, как в обществе росла готовность восхвалять террор, всюду искать «чужих», оборотней, агентов зла, из-за которого все беды в стране: и зерна не хватает, и примусы взрываются.
Без истории шпиономании последних лет империи, думал Кирилл, неясно, почему люди в сталинскую эпоху так легко соскользнули в безумие взаимного доносительства, одобряли массовые аресты, требовали на митингах расстреливать «врагов народа» больше и чаще.
Но граждане уже были облучены всей мощью прессы, государственной пропаганды, объяснявшей, что в поражениях на фронте и нехватке винтовок виноваты немецкие агенты, проникшие в штабы, выдающие наши секреты неприятелю, саботирующие производство. И так велика была мощь облучения, что через десять лет, когда начался первый показательный процесс, Шахтинское дело, суд над «вредителями» в угольной промышленности, люди с легкостью «вспомнили» картину наполненного предателями мира – и вновь поверили в нее.
…Андреас и Густав все-таки нашли воина, человека войны, который мог защитить семью. Кирилл любил этот сюжет сильнее всех прочих в будущей книге. О нем не знал прадед Арсений, не знала бабушка Каролина, не знал отец. Густав и Андреас хранили его в тайне от младших – а Кирилл вычислил, восстановил по деталям, по обрывочным записям. Для Кирилла в нем воплотилась сила судеб, сила истории, требующая жертв, сцепляющая обстоятельства так, что одни не спасутся, если кто-то другой не погибнет, не оплатит страшный счет бытия.
…Конец января 1915-го. Снова дом, снова ночь, и черный ветер приносит гарь и пороховой запах; не печным дымом пахнет в доме, а смрадом окопов. Густав и Андреас читают задорого купленные черновики документов, под которыми на днях появится подпись Императора, и каждый параграф сжимает, сдавливает Густава и Андреаса, пока они не уменьшатся до размера бронзовых солдатиков на столе, стерегущих чернильницу.
А вот Кирилл читает те же документы, опубликованные в книге, и чувствует то, что чувствовали двое в доме: ужас обреченности.
Первый документ: «О землевладении и землепользовании в Государстве российском австрийских, венгерских, германских и турецких подданных». Эта пуля – мимо, Густав уже получил российское гражданство.
Двое читают, словно следят за цепью облавы на дальнем холме.
Запрещается какими бы то ни было способами приобретать право собственности… Правило сие не распространяется на наем квартир… Действие запрета распространяется на товарищества, если в числе вкладчиков имеются вражеские подданные… В акционерных обществах, получивших право приобретения недвижимых имуществ, лица, принадлежащие к германскому подданству, не имеют права занимать должности председателей и членов совета… уполномоченных… агентов… техников… приказчиков… и вообще служащих. Недвижимые имущества, находящиеся в губерниях… предлагается отчудить по добровольным соглашениям… Особые именные списки… Жалобы в месячный срок.
Даже приказы 1937 года, вводящие расстрельные лимиты по областям – сколько человек нужно убить в срок, – не поражали Кирилла так, как эта бумага. Он увидел преемственность зла, для которого царизм или коммунизм – только внешние личины.
Конечно, Кирилл не считал это зло сугубо российским явлением. Он помнил мемуары шефа немецкой разведки Вальтера Николаи, описывавшего шпионобоязнь первых месяцев войны: слухи о машинах, набитых золотом для подкупа немецких генералов, о шпионских телефонных кабелях, ведущих во Францию. Русские тридцать лет преследовали немцев. Немцы при нацистах уничтожали евреев. Американцы во Вторую Мировую посадили в концлагеря японцев – у всех находился свой Чужой. Но Кириллу было важно, как одинаковое архетипически зло реагирует с местной почвой, какие чудовищные вариации развивают в нем особенности национальных страхов, какие силы вливают в него поражения или победы, национальные катастрофы или триумфы.
И Кирилл следил через судьбы Густава и Андреаса, как вырастал, облекался плотью событий, истинных (поражения на фронте) и выдуманных пропагандой (немцы-колонисты жгут зерно и валят телеграфные столбы), страх перед Германией; страх, который потом будет три десятка лет сидеть глубоко в подсознании жителей СССР. И Кириллу казалось, что победа сорок пятого года породила в народе такие глубокие чувства еще и потому, что победили страх, который был много старше самой войны; но – победили один конкретный страх, не став от этого бесстрашными, оставшись сталинскими рабами.
Второй документ: Решение Совета Министров об ограничении землевладения и землепользования российских немцев. Собственной Его Императорского Величества рукою написано «БЫТЬ ПО СЕМУ».
Быть по сему…
Двое у стола, Густав и Андреас. Чернильная ночь разливается по полу, стремительно поднимается, как вода в половодье, двое захлебываются в ней, а на поверхности покачивается, как странный корабль, пузатая чернильница. Где-то за окнами, далеко, наборщик в типографии составляет свинцовые буквы в текст, который исторгнут печатные машины: «Воспрещается впредь совершение всякого рода актов о приобретении права собственности, права владения и пользования недвижимыми имуществами. …Воспрещение распространяется и на отдельных лиц из австрийских, венгерских и германских выходцев… Пункт (г) Перешедших в русское подданство после 1 января 1880 года, а также на товарищества, в состав которых входит кто-либо из вышеперечисленных лиц».
Пуля попала в цель. Андреас перешел в русское подданство в 1882 году – зять, Густав, настоял, но поздно, поздно, на два бы года раньше! А Густав гражданин без году неделя.
Страшная игра в кошки-мышки, в «морской бой»: А-2 – мимо, Г-6 – ранен, Д-7 – убит. Снова крутятся печатные машины в типографии, выплевывают новые листы; в Балтийском море русские эсминцы видят на горизонте дымы немецких эскадр.
«В западном и южном приграничном пространствах… Отчудить по добровольным соглашениям свои недвижимые имущества… Включая всю территорию Крымского полуострова… По всей государственной границе…»
Густав выдвигал свои производства ближе к Европе, хотел удобнее торговать на два рынка – и теперь его земли подлежали отчуждению в срок одного года.
И вдруг – спасительные для кого-то строки.
«3. Действие настоящих правил не распространяется: 1) На лиц, удостоверивших одно из нижеследующих условий: а) Свою принадлежность к православному вероисповеданию от рождения или переход в православие до 1 января 1914 года».
О, эти скобки, привычные постовые пунктуации, регулирующие перекрестки речи – и вдруг становящиеся часовыми, конвоирами, надсмотрщиками, определяющими, кому – сгинуть, кому – уцелеть! О сама грамматика, ее правила, ее разумное устройство, казалось бы безличностно отражающее устройство самой жизни – и вдруг становящееся проводником злой воли; воли, использующей лишь то, что уже есть в языке: отрицания, повелительные наклонения, канцелярскую клейкую рутину, нейтральные глаголы «распространяться», «удостоверять», оказывающиеся теперь вовсе не нейтральными, а грозно-требовательными.
Кирилл хорошо чувствовал язык, любил письменную речь, строгость юридических дефиниций. А тут впервые ощутил, как язык отчуждается от человека, становится голосом инстанции, и оттого буквы как бы надевают полицейскую форму, возрастают в ложном значении, становятся опасно больше человека.
Переход в православие, лазейка для слабых. На нем настаивал прозорливый Густав еще в 1882 году, но Андреас тогда отказался; еще одна ниточка к спасению оборвалась. Что они говорили друг другу – два старика в шатком доме, прежде казавшемся таким крепким? Сожалели ли?
Печатают, печатают машины:
«в) Свое участие или участие одного из своих восходящих или нисходящих по мужской линии в боевых действиях русской армии или русского флота против неприятеля в звании офицеров или в качестве добровольцев, или принадлежность свою или кого-либо из означенных лиц к числу получивших награды за боевые отличия в военных действиях сил армии и флота, или смерть одного из своих восходящих или нисходящих на поле брани».
Воин. Вот почему Густаву и Андреасу нужен был воин. Тот, кто оплатил ранами или смертью право считаться лояльным подданным, тот, кто один спасает десятки человек: кузин, сестер, теток, дедов и бабушек.
Происходило нечто похожее на недавнюю свадьбу шведской принцессы, думал Кирилл. Простолюдин-жених был впущен в притвор собора, двери закрыты, и совершилось чудо: когда он вышел к невесте, кровь его считалась королевской. Так и немец, сражавшийся под русскими знаменами, проливший кровь за Россию, магическим образом становился русским.
Наверняка первая мысль Густава и Андреаса была об Арсении. Наград он не получил, зато в звании офицера участвовал в Цусимском сражении, потом служил в действующих войсках, был в бою. И они втайне от Арсения – не желая, чтобы тот чувствовал себя искупающим мнимые грехи, – отправили в правительство документы со ссылкой на подпункт в) пункта 1) пункта 3 решения Совета министров, испрашивая для семьи скорейшего исключения из проскрипционных списков. Наверняка Густав попросил о заступничестве своего покровителя Сухомлинова, рассчитывая, что дело будет решено быстро.
Ответ и вправду пришел скоро. Однако совсем не такой, на какой рассчитывали Густав и Андреас. Это была пространная бумага на десяток страниц, из которой, если отжать канцелярскую «воду», следовало несколько выводов.
Личность Арсения Швердта, офицера медицинской службы, вызывала вопросы у высокой комиссии. Он, Арсений, вполне годился, чтобы заведовать заурядным прифронтовым госпиталем, его служба не вызывала нареканий у начальства. Однако как живая индульгенция, как отпущение грехов происхождения для Густава и Андреаса Арсений изучался с иной пристальностью и в иных сферах. И в тех сферах возникло мнение, что Арсений Швердт не может быть засчитан за искупительную жертву, ибо «при обстоятельствах не вполне ясных» провел ночь в японском плену, а впоследствии получил неблагоприятный отзыв от командира полка, «каковой отзыв послужил причиной отзыва» – о, эти писарские тавтологии! – представления его к воинской награде.
Тяжким камнем на чашу весов легло еще и то, что полковник, заподозривший девять лет назад Арсения в измене, круто вырос в чинах, получил вензеля генерала свиты. А еще хуже было то, что он входил в лагерь противников Сухомлинова, для него не была секретом связь между Густавом и военным министром, и, будучи вновь спрошен об обстоятельствах давнего дела, новоиспеченный генерал мстительно подтвердил свои домыслы, добавив еще и новых: будто Арсений Швердт был совершенно достоверно виновен в предательстве и избег наказания только благодаря покровительству министра.
Конечно, в сферах существовало и второе мнение: Арсений Швердт – образцовый офицер, обвинения против него – вздор и интриги, а потому прошение Густава и Андреаса следует немедля удовлетворить. Но это было именно второе – по бюрократическому весу – мнение, и потому просители были уведомлены, что их дело будет разбирать отдельная комиссия – тогда, когда Совет министров издаст правоприменительные толкования для Ликвидационных узаконений.
Ответ оставлял не слишком много надежд, если оставлял их вообще. Активно настаивать на своем, добиваться справедливости значило привлечь еще большее внимание к персоне Арсения, и это внимание могло погубить его, сломать карьеру, отравить жизнь. Густав и Андреас знали, что у них хотят отобрать компанию, и если Арсений может стать помехой – его просто втопчут в грязь.
Ночь за стенами черна как океанская бездна. Особняк, где на верхнем этаже под стеклянной крышей зимнего сада, в сиянии ламп зеленеют пальмы, – словно тропический остров, торчащий из вод. На нижних этажах загораются огоньки свечей – будто светящиеся донные рыбы снуют в глубине. Где-то на Москве-реке прокричал шальной буксир, а кажется – океанский пароход стравил в гудок пар из перегретых котлов; пароход заблудился под чужими небесами, среди архипелагов, где дикари, чужие, как жители звезд, правят свои ритуалы.
Кто первым это предложил – Андреас, Густав? Густав, думал Кирилл. Андреас вряд ли захотел бы тревожить память погибшего тезки. Но Густав упросил или настоял, и Соленого Мичмана вынули из бочки забвения, принарядили в разорванный мундир, дали в руку шпагу морского офицера, и обезглавленный покойник отправился на свою войну.
В Комиссию ушло новое письмо: о том, что предок по восходящей линии, мичман Андреас Швердт, погиб во время боевых действий, которые российский флот вел с туземным неприятелем, погиб на поле брани, с оружием в руке, и дикари надругались над его телом. А следовательно, согласно подпункту в) пункта 1) пункта 3 Решения Совета Министров, семейство Швердт имеет право на сохранение всего имущества.
Хитрец Густав! Он наверняка понимал, что Комиссия встанет в тупик перед делом съеденного мичмана, призрака далеких лет; запросит архивы, соберет совещание – считать ли случайную стычку с дикарями «боевыми действиями», полагать ли туземных воинов с каменными топорами, копьями и десятком украденных ружей «неприятелем», а песок островного пляжа, куда причалила шлюпка с «Грозящего», – «полем брани». Но это и было нужно Густаву: затянуть, отсрочить, запутать, а там все-таки вступится военный министр Сухомлинов (Густав готовил ему повторное богатое подношение), и семья будет спасена.
Соленого Мичмана даже свитский генерал – гонитель Арсения не мог ни в чем обвинить; скорее мрачный и грозный призрак съеденного моряка был способен растревожить самую заскорузлую совесть; как есть, как пить послеобеденную мадеру, представляя в уме смерть на вертеле? Словно тень, восставшая из могилы ради посмертной справедливости, бродил обезглавленный мичман по чиновным кабинетам, и мало кто решался отказать скорбному просителю, пропитанному крутым интендантским рассолом; дело вроде бы решалось в пользу Швердтов.
Густав, Густав! Он не знал, что противник выпустил на свободу, на охоту своего призрака.
В декабре 1914-го российская контрразведка арестовала поручика Колаковского. Колаковский ранее попал в плен к немцам, а теперь снова оказался на российской территории. Его подозревали в предательстве. Чтобы спасти себя, Колаковский, фантазер и Калиостро, выдумал себе алиби: якобы в плену он согласился стать немецким шпионом – но только затем, чтобы выведать немецкие секреты и передать их России. И немцы, утверждал Колаковский, поверили поручику, раскрыли перед ним свою шпионскую организацию.
По доносу Колаковского уже был арестован полковник Мясоедов, протеже и доверенное лицо Сухомлинова. Ловчая сеть скоро раскинется широко: арестуют родных Мясоедова, его любовницу, коммерческих партнеров; контрразведка придет за держателем вокзального буфета, где столовался Мясоедов, за виноторговцем, который поставлял ему спиртное, за учительницей музыки, жившей в той же съемной квартире, что любовница Мясоедова, за владельцем печатной машинки, на которой Мясоедов что-то печатал; за юристами, копателями колодцев в военных лагерях, приятелями по охоте – за всеми, с кем Мясоедова хоть что-то связывало.
Министру Сухомлинову, попавшему под удар, будет уже не до Густава. Сухомлинов сразу поймет, что истинная цель – он, это его пытаются свалить, убрать, используя Мясоедова, и обрубит все прежние контакты.
А сам Густав, знавшийся с Мясоедовым в бытность его конфидентом Сухомлинова в Харькове, будет надеяться, чтобы об этом знакомстве никто никогда не вспомнит. И единственным, кто по-прежнему будет охранять семью от краха, останется Соленый Мичман, призрак, бродящий по министерским коридорам.
* * *
Кирилл понимал, что семья Швердт оказалась на краю закручивающейся воронки мясоедовского дела. Их спасло только то, что верховная власть требовала скорейшего приговора, и контрразведка физически не успевала арестовать всех знакомцев полковника.
Кирилла поражала завораживающая жуть судьбы Мясоедова, сюжета его жизни и смерти: полковник будто был явлен Густаву, Андреасу и Арсению, чтобы те поняли что-то важное о своем будущем.
Мясоедов. Жандарм, пограничник, служивший на границе с Восточной Пруссией. Прекрасно знал немецкий. Был лично представлен императору Вильгельму, охотился в его имении.
Мясоедов. Жуир, донжуан, человек сомнительных нравов.
Мясоедов, пытавшийся организовать пароходство, чтобы возить в Америку эмигрантов, и использовавший для этого свои служебные связи. Коррупционер.
Мясоедов, которого конкуренты – предположительно владельцы другой пароходной компании – при помощи «своих» полицейских ложно обвинили в потворстве контрабандистам и революционерам.
Мясоедов, вследствие этого обвинения со скандалом ушедший из жандармского корпуса, давший на суде, защищаясь, показания, изобличавшие грязные методы полицейской работы, – и тем самым навсегда восстановивший против себя департамент полиции.
Мясоедов, который, будучи в отставке, вошел в доверие к Сухомлинову, в то время командующему войсками Киевского военного округа и генерал-губернатору, и стал его порученцем для сомнительных дел.
Мясоедов, многократно пытавшийся возвратиться на службу, но получавший отказ, – премьер-министр Столыпин помнил о его показаниях против полиции.
Мясоедов, после гибели Столыпина восстановленный Сухомлиновым, уже ставшим военным министром, на службе, прикрепленный к военному министерству в качестве «офицера для особых поручений».
Мясоедов, которого в 1912 году лидер октябристов, авантюрист и бретер, бывший председатель Думы Гучков бездоказательно обвинил в шпионстве – так было нужно для интриги Гучкова, добивавшегося смещения Сухомлинова с поста военного министра.
Мясоедов, преданный своим покровителем и уволенный от службы по навету Гучкова.
Мясоедов, долго добивавшийся, чтобы его призвали в войска, когда началась война. Получивший должность переводчика в разведке. Служивший в штабе несчастливой 10-й армии, которая потерпела страшное поражение от немцев.
Мясоедов, которого поручик Колаковский, сочиняя свои россказни о немецком заговоре, обвинил в предательстве, потому что помнил из газет его фамилию в связи со «шпионским делом», инспирированным Гучковым.
Мясоедов.
Тот, кто был обречен стать козлом отпущения.
На его примере Кирилл выстроил алгоритм: как попадают в жертвы истории; он называл это «мясоедовский архетип».
Кирилл однажды расписал этот алгоритм по пунктам в кафе в Арланде, глядя, как сидят в кафе после смены пограничники и таможенники, как они смотрят на толпу, сортируя, классифицируя ее, каждому приклеивая незримый ярлычок.
– Ты должен быть публичной фигурой, люди должны тебя вспомнить, когда зайдет речь о твоем шпионстве: ах, он и раньше был подозрительным, стоял на скользкой дорожке! Это придает происходящему характер рецидива, служит для публики прямым доказательством вины и вызывает ярость: получается, все давно было известно? Кто же покрывал предателя? Измена! Тут не единичный случай, а система!
– В тебе должны быть аморальные свойства, которые многие знают за собой и потому с большим удовольствием подмечают в других. Взятки, распутство, нетвердость характера, лживость, внебрачные дети, долги, растраты: все, что показывает твою испорченность. Это не является безусловным свидетельством вины, но, опять же, делает ее психологически достоверной.
– У тебя должно быть окружение, которое, будучи предъявлено на всеобщее обозрение, покажется сомнительным. Оно сложилось по рациональным причинам, в силу судьбы, профессии, интересов, но публика увидит – по принципу «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», – что ты человек, не заслуживающий доверия.
– У тебя должен быть могущественный патрон (Сухомлинов), которого можно скомпрометировать, скомпрометировав тебя. И цель такой интриги должна – для интригующих – оправдывать любые средства, их масштаб, цену, их низость, безнравственность.
– У тебя должны быть сильные враги, приобретенные давным-давно, которые теперь действием или бездействием поддержат атаку на тебя (в случае с Мясоедовым это департамент полиции, который он подставил оглашением некоторых данных).
– У тебя должен быть персональный мучитель, Прометеев орел (Гучков), который увидит в твоем деле возможность прославиться, заработать медийный капитал, пропагандировать свои взгляды на ряд общественно-политических проблем.
– На тебя должна давить масса косвенных доказательств, которые, ничего по сути не доказывая и имея свои объяснения, лишь разжигают охотничий инстинкт публики: да загоните вы уже его, что он все петляет и темнит, загоните и убейте!
– У тебя НЕ должно быть возможности адекватно защищать себя: Мясоедова судил военно-полевой суд, и у судей был приказ отправить его на виселицу.
– Ты должен до дна исчерпать лимит житейских удач, стать объектом инфернальной иронии. Все должно оборачиваться против тебя: все люди, вещи, обстоятельства. Это как бы обратная сторона твоего злодейства: дьявольщина улетучилась, ее покровы рассеялись, и факты, ранее принужденные дьявольской волей служить тебе, теперь тебя обличают.
– Обвинение не должно быть началом твоих злоключений. Ты уже должен увязнуть в серьезных проблемах: личных, финансовых, общественных; быть глубоко растерян, разочарован, обессилен; должен потратить некие «спасательные круги», которые пригодились бы позднее.
– Ты не должен быть бойцом по характеру. Не слизень, но и не боец. И ты не должен быть привлекательным. Может быть, ты талантливый, одаренный (коллеги давали хорошие отзывы о Мясоедове как о разведчике), но – НЕ яркий, обаятельный, внушающий инстинктивную симпатию.
– В твоем деле должна быть какая-то конкретика, настоящая или выдуманная. Мясоедов служит в штабе 10-й армии – и она разгромлена! А у него найдены документы, описывающие диспозиции войск (хотя он и должен их иметь как офицер разведки).
– В обществе, переживающем спад патриотических восторгов, разочарованном неудачами, страшными поражениями, которые кажутся необъяснимыми, уже должен начаться иррациональный поиск изменников, предателей.
Если все это сложить вместе, смертельный результат неизбежен.
Кирилл записал эти строки на оборотной стороне распечатки электронных билетов. Это был эталон, линза, сквозь которую Кирилл смотрел на биографии Швердтов, узнавая в них фрагменты смертельного, мясоедовского узора судьбы, тусклые звенья рока, вплетенные в цепь обыденных событий. Только на себя он не обращал этот окуляр – отчасти из уверенности, что его судьба ничтожна и в этом смысле застрахована от высоких несчастий, отчасти потому, что в глубине души боялся увидеть, узнать в своей жизни те же страшные тусклые звенья.
* * *
Немецкий заговор.
Шпионство.
О них писали все газеты, о них шептались солдаты. Почти все будущие советские генералы и маршалы служили в Первую Мировую рядовыми, унтерами, ротмистрами, думал Кирилл. Значит, все они «знали», что немецкие колонисты портят лошадей, подают сигналы неприятелю. По всей стране запретили преподавание на немецком, все газеты шельмовали немцев, люди были свидетелями выселения немецких подданных в Сибирь, ограбления и расхищения их имуществ; над Швердтами вставала тень их будущего, но Густав и Андреас думали, что это тень лишь ближайшего будущего, а дальше наступит свет.
Ночь, снова ночь. Она дышит, как умирающая лошадь, кровавая пена у нее на губах, кровь течет по сточным канавам; недобрые огни озаряют ее тускнеющие глаза, огни пожаров, отражающиеся в битом стекле витрин. Сорваны вывески аптек и ателье, кондитерских и мастерских, разбиты аптечные склянки, раздавлены пирожные, брошены в грязь ткани, не слышно полицейских свистков, не видно полицейских блях, – русский гомон накатывает волнами, темными, густыми, и вскрики на немецком, вскрики ужаса и боли, тонут в нем. Наутро выйдут дворники сметать стекло, смывать кровь, но пока еще ночь, пахнущая спиртом, аптечными снадобьями, гуляет над Москвой, и пьянеет от крови майская сирень.
Двое в кабинете на втором этаже. Крепки стены особняка, в оружейной комнате заряжены ружья; но что ружья против стихии погрома? Против государства?
Ночь сменяет ночь; умылась Москва, стекольщики вставили стекла, похоронили на Немецком кладбище погибших. Но вот уже другие погромщики входят в дома и конторы, на них форма военной контрразведки, у них в руках ордера на обыск. Ловят коммивояжеров, продающих немецкие сельскохозяйственные орудия, – те якобы шпионят за сбором урожая; пришли в «Зингер» – остановлены продажи швейных машин, предприятие объявлено угрозой национальной безопасности; июнь, молния, телеграмма – отставка Сухомлинова, министр негласно обвинен в пособничестве Германии.
Но еще работают фабрики Густава, еще производят рельсы, по которым движутся армейские вагоны; еще рассматривает Комиссия прошение, и дело Соленого Мичмана обсуждают старые адмиралы; еще стоит дом, и крепки засовы.
Год войны. Август 1915-го. Учреждены новые органы – Особые совещания. Главнейшее – Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Слово «особый» получает то значение, которое сохранит при большевиках: символ власти государства над имуществом и жизнью гражданина.
Председатель Особого совещания может налагать секвестр на предприятия, назначать общие и частные реквизиции; отстранять от руководства директоров, управляющих, полностью или частично изменять состав правлений, советов, наблюдательных комитетов; принимать постановления об изменении характера и объема производства; устанавливать размер заработной платы.
А случай Швердтов «завис», правительственная Комиссия не может решить, является ли смерть Соленого Мичмана извинением для его потомков; Комиссия не хочет рисковать, ждет подзаконных актов, инструкций; и так длится целый год.
Густав уже не Железный, а Дряхлый Густав, руина, в которой лишь угадываются очертания былой крепости. Андреас уже не бодр, его все чаще посещают мысли о тезке, съеденном дикарями, о мистическом смысле совпадения их имен; о череде смертей сестер.
Ум инженера противился ложным построениям, но податливая к мистике порода отца, Бальтазара, проявившаяся в зрелом возрасте, нашептывала что-то свое. Вероятно, Андреаса смутила, зацепила распутинщина, гемофилические кровотечения наследника, исцеляемые косматым сибирским старцем: как бы воскресший двор Урятинского, где был в пленении лекарь Бальтазар. И Андреас втайне стал искать своего жертвенного поприща, возможности ответить на жертву Андреаса-моряка, которая уже несколько лет хранила семью.
Густав умер ночью, в декабре 1915-го. Накануне он узнал, что изымаемые у подданных немецкого происхождения земли будет теперь выкупать Крестьянский поземельный банк, и банк будет назначать свою цену. Густав понял, что теперь произойдет, о чем вскоре будут писать газеты: скупкой земель займутся влиятельные персоны, помещики, министры, и приобретут за бесценок лучшее, задействовав свои связи в банке; земли Швердтов еще никто не трогал, их еще оберегал бродящий по межам безголовый призрак, но Густав устал ждать спасения, будто сам погасил огонь своей жизни.
Хозяином всей собственности стал Андреас. И ему тут же – не выждав, кажется, и сорокадневного траура – сделали предложение о покупке самых ценных заводов. Не напрямую, конечно; Кирилл догадывался, что посредником мог быть князь Андроников, агент охранки, который позже станет начальником Кронштадтской ЧК и будет вымогать у своих прежних светских знакомых деньги за разрешение уехать из Советской России; а тогда – интриган, издатель патриотической газеты, человек из круга Распутина.
Фактически Андреасу поставили ультиматум. Он не имел того веса, что был у Густава, не имел стольких связей – связи, конечно, перешли к нему по наследству, но смерть Густава показалась многим удобным моментом, чтобы эти связи прекратить. На похороны старого магната многие прислали лишь венки или телеграммы, не явившись лично, а некоторые не прислали ни телеграммы, ни венка.
Кирилл догадывался, на что намекали, чем завуалированно угрожали Андреасу. Внутри аппарата военной контрразведки была создана комиссия генерала Батюшина, подчиненная начальнику штаба Верховного главнокомандующего. «Фактически в это время Батюшин был диктатором России», – читал Кирилл в послереволюционных мемуарах. Люди Батюшина по законам военного времени имели право обыскивать и арестовывать кого угодно – и потому занимались рейдерством, шантажом, угрожая обвинением в государственной измене, за которое полагался расстрел. А параллельно работал Особый комитет по борьбе с немецким засильем, изучавший уставные бумаги компаний на предмет обнаружения подозрительных вложений и сносившийся с комиссией Батюшина.
Особые совещания, особые комиссии, бессудные расправы, аппарат государственного насилия – большевики ничего не изобретали, думал Кирилл. Они создавали ВЧК не на пустом месте, а по свежим лекалам предшественников. Длительная война, поражения, угроза народного бунта уже породили у царского правительства готовность к чрезвычайным мерам как норме жизни, паранойю охоты на ведьм, которые переняло советское государство – и которые возвратились вместе с чекистской властью уже на его, Кирилла, веку.
Батюшин стал потом белым, эмигрировал, умер в Бельгии и в 2004 году перезахоронен в Москве при участии ФСБ – какая посмертная карьера, какая наследственность! – думал Кирилл. А ближайший его коллега, генерал-лейтенант Бонч-Бруевич, был первым царским генералом, пошедшим на службу к красным, к Сталину и Дзержинскому, возглавлявшим тогда военное бюро партии; именно Бонч-Бруевич связал, соединил группу генералов Генштаба и будущих творцов октябрьского переворота.
ВЧК, основанная сразу после захвата власти большевиками, была прямой наследницей комиссии Батюшина и Бонча. Потом она много раз перерождалась, меняла название, отращивала новые клыки взамен затупившихся: ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ… Но семя зла было посеяно при царской власти. И Андреас – у Кирилла перехватывало дыхание – Андреас был одним из многих, кто помог этому злу возрасти, думая, что совершает благо или, по крайней мере, выбирает зло меньшее.
Фабрики и заводы у Андреаса в первую половину шестнадцатого года все же не отобрали. Никаких документов, никаких намеков, как это получилось, – но Кирилл догадывался, что, как сказали бы современники Кирилла, Андреас занес кому надо – Распутину или кому-то из распутинской камарильи, а может, сторговался с Батюшиным, перекупил генерала. Но – чувствуя, что эти люди будут тянуть из него еще и еще, их обещаниям верить нельзя, – Андреас стал давать деньги на революцию.
Сначала Аристарх, старый знакомый Арсения, вылеченный в усадьбе после первой революции, появился около Андреаса. Кирилл предполагал, что опытный боевик и подпольщик давно разузнал, чей Арсений сын, какую богатую семью он, получается, держит в кулаке, потому что, вскройся дело, Арсению бы грозило наказание за укрывательство и недонесение.
Пока был жив Густав, Аристарх выжидал. И вот теперь, узнав, наверное, из газет о смерти старика, который спустил бы его с лестницы, невзирая на всю опасность для внука, он объявился.
Андреасу сообщили, что рабочие фабрики, выполняющей военный, не терпящий срывов заказ, собираются бастовать и представители стачечного комитета ищут встречи с хозяином. Андреас сразу понял, что стачка заказная, но сначала решил, что ее организовали конкуренты, желающие его разорить и заставить все-таки продать компанию; а это оказалась боевка во главе с Аристархом, вымогающая деньги для партийной кассы.
Андреас дал денег неохотно, лишь для того, чтобы предупредить стачку и покрыть старый грех сына (Арсению он о происходящем не писал), – хотя понимал, что отдает себя в руки боевиков и они придут снова, угрожая его скомпрометировать.
Но потом – это «потом» наступило очень скоро – он, кажется, увидел свое жертвенное поприще, свой (не буквальный) повтор судьбы Андреаса – Соленого Мичмана.
Он решил пожертвовать состоянием, добрым именем, образом мыслей, воспитанием, всей жизнью своей пожертвовать – но добиться, чтобы гонители были наказаны, чтобы семья Швердт могла перестать опасаться своей фамилии. Наверное, тут еще была тайная, запоздалая месть Густаву, отнявшему его талант, пустившему его дар на низкое дело обогащения.
Андреас узрел спасение в доктрине Интернационала, в марксистской идее классов – и, переламывая, перемалывая себя, начал давать боевикам всё большие суммы, смотрел сквозь пальцы на агитацию на своих заводах. Кажется, он подсознательно ждал, что сотрудничество его с революционерами вскроется, он будет арестован, осужден, возможно казнен, но революция после покарает его врагов.
Кирилл догадывался, что деньгами дело не ограничивалось. Революционеры могли использовать склады фирм Андреаса, счета его компаний, могли фиктивно устраиваться на работу к нему, чтобы иметь легальную возможность ездить, к примеру, по стране; наверняка у Андреаса были связи в нейтральных государствах, выходы на черный рынок, где торговались материалы, запрещенные к экспорту из воюющих государств, давние и налаженные контакты с таможней, с экспедиционными конторами, зарубежными банками, с газетчиками, дипломатами. И подпольщики вполне могли использовать его импортно-экспортные линии для контрабанды, счета – для перекачки денег из-за рубежа.
Вряд ли Андреас ожидал, что его мечта об отмщении исполнится скоро. Вероятнее, как и сами революционеры в то время, он относил ее в неопределенное будущее.
Осенью 1916-го наконец-то вышли инструкции, как следует трактовать положения Узаконений, и случай Андреаса-моряка снова начали разбирать в комиссии. Инструкции гласили, что налицо должно быть «доблестное поведение» погибшего на поле брани; седые флотские чины стали решать, можно ли считать смерть мичмана Швердта проявлением доблести, изучать по документам, по судовому журналу и рапортам, успел ли он обнажить оружие, толковать, совместимы ли понятие доблести и смерть через съедение дикарями.
Чуть позже Совет министров решил ликвидировать промышленные предприятия на отчуждаемых землях, вплоть до самых малых, с числом работников менее десяти; предприятия либо выкупались тем же Поземельным банком, либо закрывались, и дело шло к тому, что Соленый Мичман не спасет Швердтов и владения их все-таки пустят с молотка.
Зимой семнадцатого года железные дороги встали. Буранные заносы, некогда соединившие Андреаса с будущей женой, перекрыли пути. Износившиеся за три года войны рельсы, вагоны, паровозы выходили из строя; то же самое происходило с организмом Андреаса. Не знавший болезней, он стал жаловаться на сильнейшие головные боли, не мог спать, бродил по кабинету Густава, откуда приказал убрать солнце мечей – не мог больше видеть лезвий над головой.
Февральская революция – чаемая месть – застала Андреаса почти что при смерти. Всеобщее воодушевление коснулось его лишь краем. Ему как будто было стыдно, что он поспешил связаться с подпольщиками, не дождался события, которое теперь казалось неминуемым, предуготовленным всем ходом предшествующей истории. А еще – так казалось Кириллу – Андреас, заглянувший за ширму революции, раньше многих других понял, что он финансировал, какое будущее приближал.
Временное правительство одним из первых декретов отменило репрессивные законы против граждан немецкого происхождения. Андреас, казалось, мог бы вздохнуть свободно.
Но то же Временное правительство, решившее выполнять союзнические обязательства и продолжать войну, подхватило угар шпиономании. После июльского вооруженного выступления в Петрограде сыщики и следователи раскинули широкую сеть, желая доказать связь большевиков с немецким Генштабом; Аристарх же к тому времени покинул партию эсеров и перешел к большевикам; соответственно, и деньги Андреаса теперь шли в кассу партии Ленина.
Кирилл читал все тома следственного дела против большевиков, выдающегося по числу и степени юридических натяжек; как бы на заднем плане, во второстепенных показаниях, мелькнули названия фирм, принадлежавших Андреасу. Значит, он снова оказался в поле внимания контрразведки, снова сделал ошибочный выбор, и ему наверняка казалось, что его вскоре арестуют.
Андреас мог бы бежать, он был легче характером, чем Густав, но был болен сам и заразил – в переносном смысле – своей болезнью жену, эмоционально от него зависимую; она тоже начала страдать сильнейшими мигренями, не вставала с постели, и самыми частыми посетителями фамильного особняка скоро стали доктора. Одни советовали уехать в нейтральную Швейцарию на воды, но все пути туда вели через воюющие страны, через опасные моря; другие рекомендовали минеральные источники и ванны Пятигорска – но и на Кавказе шла война, русские войска в очередной раз сражались под Карсом, а по горам вспыхивали восстания.
Так Андреас дождался октябрьского переворота. Неподалеку от дома, на Красной Пресне, шли бои, там стреляли его и Густава пушки, их винтовки; в те же дни, когда город еще никому не принадлежал, начались стихийные реквизиции: солдаты запасных полков, дезертиры с фронта и уличный сброд, нацепивший красные ленточки, грабили дома буржуев.
Андреас заплатил свою цену, чтобы не быть преследуемым за национальность, – и его грабили не как немца, а как богатея, вполне в соответствии с той доктриной, которую он поддержал. Впервые порог особняка переступили незваные гости, впервые он был беззащитен в собственном доме. В отчаянии Андреас встретился с Аристархом, занявшим пост в московской ВЧК, и получил от него охранную грамоту: справку на бланке ВЧК, что семейство Швердт деятельно помогало делу революции и находится под защитой органов революционной законности.
Справку эту он пытался показать следующим налетчикам, сломавшим дверь дома, ворвавшимся в кабинет, – и был убит. Справка не остановила бандитов, он попытался защищаться тем, что было под рукой, схватился за один из мечей, еще недавно висевших на стене, – и был заколот этим же мечом, пал от собственного оружия; дикая, бутафорская смерть – быть заколотым древним клинком в пореволюционной Москве.
* * *
Кирилл, приходя к особняку, знал, в какой комнате убили Андреаса. Но поколения советских чиновников из МИДа не только присвоили стены и комнаты – они уничтожили саму идею былой собственности, принадлежности дома, сделали его частью отчужденного города, страдающего амнезией. Даже смерть прапрадеда – в этом доме, на этой улице – не подлежала воскрешению, эмоциональной реконструкции; будто он умер не век, а столетия назад, в ирреальном мире, не имеющем никаких связей с миром сегодняшним. Связь – если о ней вообще можно было говорить – Кирилл чувствовал в Пуще, в бывшей усадьбе, подаренной Андреасу на бракосочетание, усадьбе, куда Арсений возвратился осенью семнадцатого года после трех лет войны, разминувшись в жизни с отцом, убитым в Москве.
Ко времени Кирилла от усадьбы ничего не осталось. Сруб ее в тридцатые годы, как писала бабушка Каролина, был разобран и перевезен в соседнее большое село, чтобы поместить в нем сельсовет. После войны старый сельсовет снесли, а потом землю бывшей усадьбы отдали под дачи.
Но так умело было выбрано для нее место – на склоне крутого оврага, в котором бежал вниз, к Оке, холодный ключ, напротив старой березовой рощи, – что пейзаж, как бы предполагающий дом внутри себя, откликался ищущему взгляду, легко узнавался в описаниях бабушки и в старых фотографиях, которые прадед Арсений сделал в ту зиму семнадцатого-восемнадцатого годов. У него был «Кодак», оставались еще стеклянные фотопластины, и он спешил потратить их – как тратят мгновения закончившегося времени, мгновения, принадлежащие прошлой эпохе, – фотографировал дом и округу, как будто знал, что всего этого не будет вскоре.
Фотопластинок, наверное, было больше, но бабушка Каролина сумела сохранить только шесть: дом, овраг, березовая роща, лошадь у стога, дорога, по которой Арсений с женой и дочерью приехал домой, и общее фото их троих на фоне дома.
Потом, уже на памяти Кирилла, эти фото перевели на фотобумагу, напечатали в большом размере. Бабушка вечерами долго сидела с лупой, выпячивавшей часть фотографии, как поверхность Луны, покрытой кратерами, каньонами, тенями, и Кириллу казалось, что она изучает именно этот таинственный слой фотографического серебра, в котором, как в кофейной гуще, запечатлеваются знаки грядущего, – пытаясь угадать, было ли уже тогда предопределено будущее дома и его хозяев.
Кирилл много раз ездил на место бывшей усадьбы. Весной по оврагу летела мутная вода ручья, и дети приходили строить плотины; летом старые, одичавшие, потерявшиеся среди сорных деревьев яблони усадебного сада вдруг являли себя багровой краснотой плодов; осенью и зимой, когда спадала с ветвей листва, становилась прозрачной березовая роща и открывался вид до самой Оки. Так создавалось ложное, но приятное ощущение, что ты находишься в некой верной точке пространства, точке покоя; ощущение затягивающее, располагающее к медлительности, к мудрости ожидания; каждый раз, уезжая, Кирилл ощущал, что хочется остаться, посмотреть вдаль, насладится спокойствием долины, – и все лучше понимал ту судьбоносную зиму прадеда Арсения.
Три года госпиталь Арсения перемещался по фронтам, следуя за наступающими и отступающими русскими армиями. Из шестерых детей он взял с собой только Каролину – самую старшую; имя ей выбирал Густав, и оно было немецким; дальше дети получали только русские имена.
Жена Софья отправилась с ним сестрой милосердия; несколько раз она ездила в усадьбу, – чаще летом, во время урожая, чтобы вести дела, – и возвращалась к мужу в армию.
Остальных детей переправили к родственникам. Братьев Глеба и Бориса – во Владимир, к родне жены; сестер Антонину и Ульяну – в Санкт-Петербург, в семью двоюродного брата Густава; а младшего, Михаила, родившегося в 1915-м, уже после начала войны, – в Царицын. Там жили дальние родственники Шмидтов, потомки немецких колонистов, торговавшие солью и лошадьми, ведшие дела с калмыцкими племенами; младший болел желудком, и семейный детский врач прописал ему кумысолечение.
Три года Арсений заведовал прифронтовым госпиталем. Об этих годах Кирилл не знал почти ничего. Документы госпиталя пропали в Гражданскую; письма прадеда, скорее всего, были уничтожены позже – из опасения, что ретивые следователи НКВД отыщут в них мнимое свидетельство вины бывшего царского офицера.
Остались только открытки – снова открытки, – посылаемые детям по праздникам, и ответные послания. Но в них, конечно, не было ни слова о войне; ангелочки и собачки, корзины цветов и ленты – только почтовые штемпели позволяли отследить путь госпиталя, сопоставить его с топографией и хронологией сражений.
Уцелело несколько писем Софьи; она писала приказчику, управлявшему усадьбой. Дом ветшал, нужно было чинить флигель, купить водовозную бричку, застеклить парники, побитые градом. Мужчин из окрестных деревень забрали на войну, все труднее было убирать урожай, зато прислали двух пленных, бывших солдат австрийской армии, сербов по национальности: те работали на совесть, но приказчик все равно видел в них агентов вражеской державы и подозревал в недобрых умыслах.
Приказчик, дальний родственник Софьи, взятый на службу по просьбе родни, раньше был исполнителен, беспрекословно слушался хозяев. Теперь же – в армию его не взяли по здоровью – сам почувствовал себя хозяином, стал вольно обращаться с деньгами.
Фронтовые записи Арсения состояли из названий медицинских наставлений и книг. Хотя он не воевал, а лечил, война истощила его. Он видел тщетность излечения: солдат потом привозили в госпиталь по второму, по третьему разу. И не видел никакого всеобщего выхода: только движение к пропасти; был раздавлен грозной бессмысленностью любых усилий, исчезновением всякого пафоса, который так или иначе придает смысл сегодняшним страданиям, находит им оправдание или по крайней мере объяснение в будущем.
Даже былая воодушевленность социалистическими идеями пропала. Осталась только уверенность, что хуже не может быть, не в человеческих это силах – сделать хуже. И единственный смысл в поле бессмыслицы – прекратить ее, бессмыслицы, порождение, выключить время, подвесить в воздухе летящие снаряды, остановить скрестившиеся сабли.
Поэтому, думал Кирилл, впоследствии Арсений услышал большевистский призыв к «миру без аннексий и контрибуций» не как тактическую политическую установку, а как голос вне политического контекста, голос разума среди разверзшегося безумия.
Истощенный внутренне, Арсений стал медлителен в поступках; он больше не верил в способность человека что-то решать в своей жизни, ждал указания, подсказки, импульса от судьбы, внешней воли, которая избавила бы от необходимости действовать по своему разумению.
Привязанный к госпиталю, к раненым, Арсений бездумно истратил весну и лето семнадцатого. Еще были в цене деньги империи, были открыты границы с нейтральными странами – но Арсений не предпринял ничего, что предписывал ему обращенный в прошлое взгляд Кирилла.
А потом Кирилл понял почему. Арсений упустил момент, когда мог спокойно отправить из госпиталя домой жену и дочь. Им было все опаснее оставаться на фронте, солдаты, особенно в ближних тылах, уже перестали быть армией, – и тем более опасно трогаться в дальний путь одним. Будь Арсений другим человеком, он бы схитрил, выдумал себе ложную болезнь, выпросил внеочередной отпуск, – но он был бесхитростно честен, и честность подпитывалась пассивностью его натуры, давала оправдание тому, чтобы ничего не предпринимать.
В конце августа, во время выступления Корнилова, в госпиталь привезли подполковника, которого подняли на штыки ополчившиеся на корниловщину солдаты. Он был еще жив, но скончался после нескольких часов мучений. Запись об офицере, растерзанном подчиненными, которые и выбрали его от имени полкового комитета в командиры, была первой собственно дневниковой записью за все фронтовое время: Арсений, видимо, отделился, отсоединился от армии, сумел почувствовать себя обособленным, штатским человеком.
В одной из частей начался сыпной тиф. Арсений получил приказ вывезти тифозных больных в глубокий тыл, в карантин. Он рисковал заразить семью, но риск окупился: в тифозный эшелон не лезли мародеры, его не останавливали разнообразные власти и комитеты, самочинные солдатские и матросские заставы; так, за пазухой у смертельной болезни, Арсений вывез дочь и жену с рассыпающегося, разбегающегося фронта.
* * *
В усадьбу приехали в начале октября. Кирилл размышлял: почему Арсений не остановился в Москве у отца, в большом доме, зачем отправился в деревню? Сначала Кирилл предположил, что Арсений устроил себе, жене и дочери карантин, чтобы убедиться, что они не заразились тифом. Инкубационный период около двух недель, начало болезни внезапное, посмотрел Кирилл медицинскую энциклопедию; если бы Арсений заразился, он мог бы принести болезнь в дом отца и не знать об этом.
Но потом Кирилл понял, что Арсений наверняка именно так и отговорился, написал о необходимости соблюсти осторожность, выдержать карантин, – но на самом деле хотел спрятаться от отца, от большого города, от времени, от мира, остаться в деревне, где врачебное ремесло охраняло бы его лучше любого оружия, и переждать, пока политики решат, кому и как править дальше.
В усадьбе жили старая прислуга и два пленных серба; управляющий бежал с деньгами, вырученными за урожай. Для семьи эта потеря пока мало значила, Андреас все еще был богат и мог ссудить средства сыну. Но кража и побег были недобрым предзнаменованием; само ощущение, что по дому ходил вор, вещи были перед ним беззащитны, проложило тонкую пелену отчуждения между стареющей усадьбой и вернувшимися хозяевами.
Неподалеку от усадьбы стоял на лесном отшибе дом с пристройками, называлось это место Катин хутор. Обитала там посреди позаброшенного сада старуха, вдова священника, с приживалкою. Сыновья давно хотели перевезти ее в близлежащий Серпухов, но она отказывалась, говорила, что хочет там дожить, где с мужем жила. Скаредная была старуха, пока была в силах, ребят деревенских из сада гоняла. И помнил Арсений по отрочеству, что толковали в деревне, будто в подполе у нее золотой крест припрятан и деньги, что муж скопил. В шутку толковали, только чтоб старуху подразнить, ну и мальчишки это подхватывали, лазали в окна смотреть: не укажет ли ненароком старуха, где дверца заветная, где клад припрятан?
Старуху и приживалку убили за день до того, как приехал Арсений. Его позвали осмотреть тело. Женщин пытали, огнем руки жгли, чтоб сказали, где сокровища свои хранят.
Годы рядом жили, все знали, что бедна старуха, нет у нее крестов золотых, болтали только по вредности языка. А теперь, когда смутное время наступило, кто-то из вчерашних мальчишек запытал старуху до смерти: то ли поверил в давние слухи, то ли куражился.
Арсений был вооружен, мог не бояться нападения. Но страх его был другой: он почувствовал, что наступило время обманов ума и зрения, фантасмагорических превращений, недобрых миражей, в которых просвечивает будущее ближнее и дальнее. И то, что произошло потом, только утвердило Арсения в этом ощущении.
* * *
Кирилл положил поверх дневника прадеда Арсения письмо бабушки Каролины; и его поразило, что только он может смотреть в оба текста; он – третий, он – видящий все.
Письмо она писала в тридцать седьмом году, осенью. Она любила, а вокруг шли аресты, подбираясь все ближе. И она почему-то не отправила письмо; скорее всего, потому, что адресат был арестован, выбыл из мира живых. Ни адреса, ни фамилии, только имя – Аркадий; чернила расплылись от слез.
Она пыталась уговорить возлюбленного быть с ней – словно могла уберечь его, если чувство будет взаимным. И чтобы доказать, объяснить свою способность быть амулетом, она писала, среди прочего, об одном осеннем вечере семнадцатого года, о себе самой в пустой зале усадьбы.
Кирилл проверил по календарю: это была последняя осенняя гроза 1917 года. Запоздалая гроза, пришедшая тогда, когда уже пусты, бессильны небеса и нет в воздухе смут, беспокойств. Кирилл представил, сопоставляя записи прадеда и письмо бабушки, как это было.
Гроза была не слишком яростна: погрохотало за лесом, сверкнуло вдали и смолкло. Ждали дождя, но ни капли не упало. Только изменился вечерний свет, удлинил дороги, раздвинул вширь поля; потом пришли сумерки, которым передалась грозовая напряженность, рассеянная, не сумевшая родить вспышку молнии сила электричества. В такие сумерки кажется, что вот-вот появится кто-то, придет с поля или приедет по главной аллее; и знаешь, что домашние никого не ждут, а смотришь, стоя на веранде или прижав лоб к оконному стеклу, – не мелькнет ли чужая фигура, не блеснет ли свет фонаря, качающегося в руке.
Наверное, так бабушка Каролина – тогда просто Лина – и стояла в зале; ее уже закрыли на зиму, чтобы не отапливать лишних комнат, там никто не мог потревожить. Стояла – и ждала; они с отцом возвратились домой, чудо уже случилось, но у нее остался нерастраченный запас ожидания, веры в возвращение братьев и сестер; ожидание нужно было избыть, возвратить обратно сосущей под ложечкой пустоте полей, тяготениям лунных приливов и отливов, разлитым в природе.
…Лину нашли у окна с открытой форточкой. Она была ни жива ни мертва; пульс был очень слаб, зрачки не реагировали на свет. Три дня она лежала в беспамятстве, а потом еще две недели не могла говорить; и не пыталась, не мычала натужно, не нащупывала языком неподатливые звуки; будто онемела внутри.
Говорили, что в округе завелся бешеный пес, чей-то бежавший волкодав, и ночами он приходит к жилью, подстерегает одиночек, вышедших во двор; а живет вроде бы около Катиного хутора: одно зло породило другое зло.
Прадед Арсений писал, что, когда он нашел дочь в беспамятстве, первой его мыслью был пес с Катиного хутора – пробрался под окно и испугал Лину; слишком много об этом псе говорили в округе, слишком зловещим он казался, огромный, черный – так его описывали, – вестник беды.
Следующим утром Арсений оседлал коня, взял охотничье ружье, наган и поскакал на Катин хутор. Сумрачно было, серо, шелестела ржавая листва на дубах. Он возвратился с фронта, бывал в окопах во время штыковой атаки, переживал артиллерийские налеты; но ему – он признавался в записях – было страшно, всюду чудился взгляд безумных собачьих глаз.
Хутор стоял заколоченный; никаких свежих следов, ни человечьих, ни звериных. Арсений чувствовал, что пес перехитрил его, спрятался где-то рядом; старый конь, привыкший больше к хомуту, чем к седлу, старое ружье, не раз дававшее осечки на охоте, – Арсению начало казаться, что это засада, пес нарочно выманил его сюда, и он, чертыхнувшись, поскакал прочь – суеверно – не той дорогой, что приехал.
А там на окраине поля был овраг, куда деревенские бросали павшую скотину. Арсений поскакал мимо, увидел, что в гнилой требухе роется собака, что на Катином хуторе жила, – мелкая беспородная дворняжка черной масти. И понял он со стыдом и злостью, что видит того самого «бешеного пса», наводящего ужас на округу.
Так он осерчал на себя, что слез с коня, нашел палку покрепче, залез в яр – и догнал дворняжку, забил ее насмерть, прикопал там в яру, листвой и мусором завалил.
Арсений думал, что речь к дочери будет возвращаться постепенно, слово за словом. Но выпал первый снег, наутро весь двор был заметен и поле выбелено, – и Лина, словно проснувшись в другом мире, заговорила; Арсений заметил, что она теперь иначе строит фразы, пропали любимые детские словечки, предложения стали длиннее, образы яснее, как будто она повзрослела на несколько лет. Но о том, что произошло с ней в комнате, она не помнила. Подошла к окну, и вдруг наступила чернота, – так рассказала Лина.
Арсений заметил, что Лина стала чаще уединяться, словно неведомые узы связывали теперь ее с кем-то или чем-то; однако он списал припадок и болезнь на нервное истощение, объяснил их трудной дорогой с фронта, всем недетским, что пришлось увидеть дочери.
А в письме исчезнувшему возлюбленному бабушка Каролина описала то, о чем не сказала отцу, не поведала внуку.
Кирилл на всю жизнь запомнил ту летнюю грозу своего детства, ломающую яблони, бабушку, закрывающую все окна в доме, проверяющую засовы и шпингалеты, застывшую пред мутным, радужным отражением свечи в запотевшем окне, потерявшую сознание, шепчущую потом, ощутив запах нашатыря: папочка, папочка, довольно, жжется… И теперь Кирилл знал, откуда родом был бабушкин страх и почему он был так силен.
Лина стояла в зале, чувствуя, как в разреженном воздухе осени собирается гроза, вобравшая тепло и сырость последних солнечных дней, половинчатая, натужная, не могущая разродиться громом и молнией.
Какой-то свет мелькнул во дворе; наверное, кто-то из домашних пошел с фонарем, подумала Лина, но вспомнила, что керосина осталось мало и фонарь убрали в кладовку. Что же там? Она приникла к стеклу и увидела, что по воздуху к ней плывет оранжево-желтый шар с фиолетовыми стрекающими прожилками, исполненный прекрасного и яростного огня.
Шар восхитил – и испугал ее до столбняка; не слушались ни ноги, ни пальцы, ни язык. Она поняла, что он явился за ней, этот шар, и он убьет ее, ибо она, ибо, ибо, ибо, – Лина лихорадочно перебирала в уме все свои прегрешения, ставшие огромными, как ночные тени при свете свечи, но все-таки не столь значительными, чтобы объяснить явление золотистого опаляющего шара.
Шар помедлил снаружи, а потом, будто имея волю и разум, вплыл в форточку и двинулся внутрь дома; покачнулся, замер, подрагивая, в двух метрах над полом, словно исполинский глаз циклопа, ищущего кого-то во мгле пещеры.
Лина догадалась, чье это око: это Бог смотрит на нее, Бог, знающий, что она недостаточно верит в Него, что она скучала, когда мать и отец отвели ее в церковь помолиться за счастливое избавление от опасностей, за скорое возвращение братьев и сестер.
В церкви было холодно, ей хотелось домой, где, отгороженная ширмой в родительской спальне, стояла ее кроватка, из которой она выросла за три года – и куда пыталась улечься, втиснуться, подобрав локти и колени, чтобы уснуть и проснуться там, в прошлом, которое она едва помнила, от которого остались только золоченая скорлупа орехов, висевших на елке в последнее предвоенное Рождество.
Бог, Которого Лина не чувствовала в церкви, убаюканная скукой обряда, теперь грозно смотрел на нее, посмевшую не помнить о Нем. Она лишилась чувств, упала на пол и очнулась от запаха нашатыря; Господнее око исчезло, был лишь странный сквозняк, веющий ледяной небесной свежестью; огненный шар светился перед ее взглядом, будто был вплавлен в зрачок.
Шаровая молния явилась ей как сборный символ всех страшных миражей той осени, как поцелуй будущего, метка, кто останется жив, – думал Кирилл. Если бы не отнялась речь, Лина, вероятно, рассказала бы отцу про явление пламенного Бога; про огненный куст, шар текучего пламени, который она могла видеть на иконах. Но речь была благословенно отнята, и тайна осталась неизреченной.
А потом, когда речь возвратилась, она сохранила Бога для себя. Бога – как жуткое чудо, давшее ей знание, что нет безопасных дней и мест, нет тихих заводей, нечто неистовое, стихийное, всевластное всегда рядом и готово обрушиться всей мощью.
Конечно, в послании возлюбленному бабушка Каролина рассказывала о шаровой молнии, о материальном явлении, да и Бога писала со строчной буквы. Она пыталась убедить любимого человека, что всякую беду можно встретить лицом к лицу, не стоит отчаиваться, – но противоречила себе самой, поскольку признавалась, что будто бы умерла в той зале, и только потому у нее есть «силы» жить сейчас, в тридцать седьмом году; слово силы она взяла в кавычки, и кавычки эти означали не иронию, а потусторонность.
Немота и последующее воскрешение дочери Каролины как бы объясняли бездействие Арсения: он не стал собирать детей, разбросанных по разным городам. Вставленный в рамку семейной истории, этот факт сначала не привлек внимание Кирилла; но потом он, бездетный и не чувствующий потребности в отцовстве, вдруг задался вопросом: как же так? Три года не видеть детей и медлить, откладывать?
Кирилл представил прадеда: в первые недели тот обустраивал быт усадьбы, лечил крестьян, обеспечивая поставки провизии сегодня и в будущем. Арсений не понимал наверняка, где собирать детей, в Пуще ли, в московском доме, а может – в Петрограде, где живут сестры Антонина и Ульяна, ближе к нейтральной Швеции, куда ходят поезда через Финляндию, куда можно уехать… Но в Петрограде что ни день – стрельба. Во Владимире, у родственников жены, в провинциальном запечье, на сверчковой стороне, крепкой устоями, куда не доберется никакая революция? Но как примут родственники, да и куда потом? В Царицыне, где Михаил, на волжском перекрестке, откуда можно отправиться и в Сибирь, и в Азию, и на Кавказ?
Дети, отданные в чужие города, были как маяки, сулящие разные картины будущего. И Арсений, предчувствующий худшее, уже видевший распад армии, тысячи дезертиров, сотни убитых офицеров, – не знал, как поступить, чтобы вышло наверняка хорошо.
Он мог бы собрать детей в усадьбе и решать потом – но хотел избежать лишних поездок по железным дорогам, занятым бегущими с фронта солдатами, искал самую простую композицию маршрутов.
Усадьба была недалеко от города, в былое время почтальон быстро привозил газеты и телеграммы, но теперь новости туда доходили, состариваясь по дороге, порождая эфемерный мир отзвучавших событий, тут, однако, имеющих еще реальные свойства.
Кирилл подсознательно ожидал, что большевистский переворот немедленно, в одну секунду, подобно удару тока, отзовется по всей России; но довольно смутные известия достигли Пущи лишь спустя неделю.
Однако – вот что было Кириллу интереснее всего – глубокая драматургия, сообразная рисунку больших событий, разворачивалась в жизни семьи вне зависимости от новостей, которые они получали или не получали в своем захолустье.
Кириллу открылся пласт великих, определяющих всю жизнь образов, в которых на самом деле является человеку история, – и это не демонстрации, бои, пушки крейсера «Аврора», целящие в Зимний дворец, а тихие мистерии повседневности, кристаллы, сквозь которые видна самая суть происходящего.
Однажды Арсений взял выздоровевшую дочь к пациенту в дальней деревне. Он хотел, чтобы она не теряла сноровку медицинской сестры, чтобы деревенские запомнили ее как помощницу. На обратном пути, в глубокие сумерки, они проезжали поймой Оки, мимо стариц, богатых рыбой.
Хотя сама река еще не встала, только полнилась шугой, старицы уже покрыло первым льдом, гладким, прозрачным, как слюда. В вечерней мгле они заметили впереди огни, освещающие кроны деревьев, отражающиеся бликами на льду, теплыми желтыми туманностями проникающие под лед. Шел мелкий снег – будто серебряной канителью продергивало пространство; горели смолистые факелы, пламя мешалось с густым паром дыхания, и темные мужские фигуры медленно двигались по льду – кто с деревянным молотом, кто с трезубой острогой. И прадед, и бабушка знали, что видят; но так странны, так похожи на темное шествие славянских языческих богов были фигуры, так внезапен огонь в ночи, так свежи слухи о грабежах и поджогах помещичьих усадеб, так зловещи остроги и молоты, что они остановили лошадь: казалось, это сама деревня, измученная солдатчиной, восстала против города и церкви.
Зимняя ночная рыбалка; старица была знаменита налимами – хищной рыбой, которая не засыпает зимой. Налим плывет на свет, рыбак бьет молотом по льду, оглушая рыбу, а потом пробивает острогой лед и вытаскивает добычу.
Опамятовавшись, узнав наконец мужиков из ближней деревни, они подъехали к самому берегу; Арсений, наверное, рассчитывал, что его в знак уважения угостят рыбой.
Тонкий лед простерся над замершей водой, водой октября. А наверху был ноябрь, и рыбаки шли с острогами и колотушками, рассыпая веерами хищный свет; поскрипывали студеные полотнища тишины, дымились каляные бороды, и слышался негромкий говор, с острасткой звучащий в ловчей ночи. Бах – жахнул деревянный молот, ветвистой гулкой звездой прогнулся лед, налившийся диким белым молоком удара, нырнула вниз, в звонкое крошево, острога – и на льду, осыпанный снежком, как сахаром, выгнулся желтым брюхом ошалелый налим.
Раз – острога из ноября нырнула туда, в октябрь, в стынь стоялой воды, чистой от ила, – и рыбина уже на льду, выброшена в будущее, пронзившее ее зазубренными зубцами остроги.
Величественный король-налим с мозаики над входом в дедушкин особняк, повелитель быстрых вод, символ, по наитию выбранный художником, – и теперь он мертвый на льду.
Бабушка Каролина писала в тридцатые о том, что она видела и запомнила в Первую Мировую, в Гражданскую и после. Но рыбаки на тонком льду, зимнее пламя под ледяными небесами, стук молотов, всплески острог, смертные пляски отвратительно живучих рыб, кровящая вода, разливающаяся по льду, жадные пасти полыней – это не просто вошло в память, к которой нужно обращаться, оборачиваясь назад, а как бы всегда стояло впереди, перед глазами, как провозвестие.
Холодными вечерами за голыми березами рощи занимался красный закат; бабушка особенно отмечала, что закат именно красный, – уже уяснила цвет большевистских знамен или приписала себе эту колористическую прозорливость задним числом?
«Милый друг, и в этом тихом доме лихорадка бьет меня», – бабушка Каролина упомянула, что, прочитав в двадцатые эти строки Блока, она сразу же вспомнила осень семнадцатого года в усадьбе; как будто Блок писал о ней, о ее чувствах.
Кирилл взял с полки синий том из собрания сочинений Блока. С раскрытых страниц выскользнул осиновый лист, потерявший багровый цвет, – бабушка любила такие случайные закладки.
Милый друг, и в этом тихом доме Лихорадка бьет меня! Не найти мне места в тихом доме Возле мирного огня! Голоса поют, взывает вьюга, Страшен мне уют… Даже за плечом твоим, подруга, Чьи-то очи стерегут! За твоими тихими плечами Слышу трепет крыл… Бьет в меня светящими очами Ангел бури – Азраил!Кирилл замер. Бабушка, начиная в первый раз читать, естественно, не знала, какими будут последние строки стихотворения. А на нее посмотрел светящими очами ангел бури Азраил, ангел смерти, проводник душ.
Яростный глаз Бога, плывущий в сумерках, пылающая шаровая молния в белой зале, обморок, немота, обреченность, одиночество – и, словно в зеркале, через неполные десять лет встреча со сродным опытом старшего гениального современника; будто число великих образов ограничено, как число карт в колоде у гадалки, и в сходной ситуации всегда выпадает один и тот же.
Кирилл вспомнил, как на Немецком кладбище сам чувствовал взгляд Ока – с масонского надгробия; и запретил себе думать в эту сторону, будто хотел избежать рифмы судеб.
* * *
Страшен мне уют…
Большую залу закрыли. Укрыли холстиной – как раньше на время похорон – рояль. За три года он расстроился; прежде из города приезжал настройщик, но теперь он куда-то пропал, и рояль больше не звучал; не было и тех славных вечеров, для которых его покупали. Исчез и стекольщик, которого хотели позвать починить окна к зиме; предчувствуя беду, люди снимались с мест. Раньше бы нашли другого, а тут оказалось, что мастера существуют в единственном числе, а материальный мир стремительно беднеет: уже не купить стекла, керосина, соли, мыла, гвоздей, все припрятано на случай нехватки или в расчете на барыш.
Кажется, прадед Арсений втайне боялся этого оскудения. Он был твердым человеком, но твердым в надежные времена, когда порядок вещей не нарушен. А тут словно и вещи включились в человеческие игры, в революционную смену личин, сторон, партий, перестали быть, чем кажутся: керосин только пах керосином, а был водой, мыло не мылилось, сахар давал меловой осадок, а среди денег стали попадаться фальшивки. И Арсений все чаще стал уединяться на втором этаже, в маленькой комнате, которая раньше принадлежала Бальтазару. После его смерти туда сносили ненужные или сломанные вещи; там еще стояли на полках гомеопатические склянки, старинные медицинские книги, а в маленьком, обитом медью сундуке, запиравшемся на ключ, лежали бумаги Бальтазара – письма, записи, врачебные трактаты.
Лина тайком поднималась по скрипучей лестнице; подглядывать было невозможно, и она слушала, как отец отпирает крышку сундука, как шелестят бумаги, звякает о край чернильницы перо. Он сидел там на переломе года и эпох, как Бальтазар в Башне Уединения, читал документы деда, вел свои записи – в уже не существующей стране, готовой рухнуть в пропасть, стране, где он появился на свет, потому что его предок поверил в химеру, и химера, совокупившись с местной чреватой почвой, родила потомство искаженных судеб.
Отец ничего не рассказывал о том, чем занимается он на чердаке. Лина чувствовала, что Софья хотела бы вытащить мужа из несвоевременного убежища, принудить к настоящему, – но Арсений был неподатлив, готов на молчаливую ссору, лишь бы его оставили одного.
Кирилл ощущал, что в нем живет та же упорная сила, сопротивляющаяся животному зову бегства, требующая, чтобы прошлое, от которого ты бежишь, с которым порываешь, тем не менее было перебрано, так сказать, упаковано для транспортировки, иначе тревога о чем-то возможно позабытом, не понятом, не проясненном не даст тронуться в путь или будет водить ведьмиными кругами; иначе ты не пройдешь, зацепишься, застрянешь.
Лине тайные уединенные занятия отца казались зловещими. В силу возраста она была больше привязана к имени, чем к немецкой фамилии, больше ощущала себя Линой, чем Каролиной Швердт. Три года войны выучили ее видеть в немцах врагов, и ее собственное немецкое происхождение, иногда вызывавшее доброжелательные, но бесцеремонные шутки медицинских сестер и денщиков, превратилось для нее в объект яростного отрицания. Ей казалось, что фамилия Швердт ничего не значит, это просто набор букв; Бальтазар для нее был кем-то неуловимым, как дух, а Железный Густав и Андреас – русскими, ибо, вопреки логике, русской считала себя она, их внучка и правнучка.
Удивительно, но, как потом вспоминала бабушка Каролина, в семье практически не говорили о немецких родственниках, о детях и внуках оставшегося в Германии среднего брата Бальтазара, Бертольда. Кажется, с ними переписывался кто-то из сестер Андреаса, даже ездил в гости. Но Андреас не был с ними близок, ограничиваясь поздравлениями и подарками. Возможно, такова была линия Железного Густава, не желавшего заполучить немецких родичей – нахлебников, но скорее Андреас продолжал нести крест отца, считавшего себя повинным в смерти младшего брата, Андреаса – Соленого Мичмана.
Но это все было до Первой Мировой войны. Война обрезала все связи, ясно расставила охотничьи флажки любви и ненависти. И теперь Лина, не вполне понимая, что там, в загадочном немецком сундуке Бальтазара, ревностно сторожила отца, следила, чтобы он не обратился подобно вервольфу, не сделался немцем от чтения немецких слов.
Арсений читал вслух тексты Бальтазара, вспоминал детство, этот же чердак, лекарские склянки, сделавшие его врачом, и пытался понять, кто на самом деле был его дед, прибывший в Россию проповедовать гомеопатию, ввергнувший потомков в промежуточный зыбкий мир на стыке стран и культур, мир, порожденный его апостольской иллюзией, – и как следует теперь поступать ему, Арсению.
А Лина слышала только чуждую речь, непривычную в устах отца, поскольку на время войны уроки немецкого прекратились. Она боялась, что, произнося вражеские слова, отец перестанет быть отцом, станет Herr Doctor, – так обратился к нему пленный немецкий улан, раненный пикой в стычке разъездов и доставленный в русский госпиталь. Лина с изумленным страхом запомнила, что отец принял это обращение как само собой разумеющееся, будто и вправду был не врач, а зловещий геррдоктор. Для Лины слово геррдоктор не обозначало «господин врач» на другом языке, а было зловещим самоназванием убийцы со скальпелем в руке, тайного союзника того спесивого улана, что, говорят, срубил троих русских кавалеристов, прежде чем был сброшен с коня пикой.
И Лина сторожила под дверью. Сама профессия отца, чужеродная латынь, абсолютная власть над больными в койках – власть решать, чью ногу сохранить, чью руку отсечь, кому можно вставать, кто должен лежать в гипсе; право назначать лекарства, белые, желтые, круглые, овальные пилюли с непонятными названиями, три раза в сутки перед едой, один раз в сутки натощак, шесть раз в сутки, запивая водой, лекарства, про которые пациент ничего не знает, чьи названия странны, состав неизвестен, действие неопределенно, – все это, взятое вместе, стало казаться ей очень подозрительным.
Когда они обедали всей семьей – отец был отцом. Но когда он уединялся наверху, Лина чувствовала, как в ней шевелятся эти подозрения, относящиеся как бы не к отцу конкретно, а к его белому – отчуждающему, остраняющему – облачению врача, под которым так легко спрятать черные помыслы.
Неизвестно, во что бы вылилась игра воображения Лины, какие еще тревожные миражи породила. Однако с оказией, запоздало, пришло послание из Владимира, где у родителей Софьи жили братья Глеб и Борис. Тяжело заболела мать Софьи. Нужно было срочно забрать детей, вывезти мать, потому что братья Софьи были на фронте, а отец, старик-священник, не мог ухаживать за женой.
В Москве, по слухам, еще продолжались схватки юнкеров и рабочих дружин. Поэтому Арсений отправился обходными дорогами, через Рязань и Муром, через болотную Мещеру, на санях. Он не любил мать Софьи, вообще владимирскую родню, но отказать не мог.
Через три недели Арсений вернулся, привез сыновей и парализованную тещу, сумел проехать через три города, где арестовывали чиновников Временного правительства, захватывали банки и почты, раздавали оружие рабочим, выпускали из тюрем крестьян, арестованных за захват помещичьей земли, и украшали красными бантами шинели солдаты из запасных полков; офицеры старались не появляться на улице в форме, а на постоялых дворах передавали известия об ограбленных и убитых путниках.
Арсений уже знал, что болезнь неизлечима, вопрос только в том, сколько она продлится. А главное – мать Софьи едва не скончалась в дороге, и увезти ее даже в Москву невозможно; еще одно путешествие она точно не перенесла бы. Так семейство оказалось запертым в усадьбе, привязанным к жизни и смерти владимирской бабушки.
Ей отдали комнату ближе к печи. Она лежала, обложенная подушками, под старинным, пышным купеческим одеялом. Тело ее казалось огромным, будто холм; даже смерть не смогла взять ее с ходу, была вынуждена преодолевать расстояния тела, пробираться внутрь, к дальним уголкам, где еще теплилась жизнь. Пред иконой Богоматери, привезенной из Владимира, все время жарко горели свечи.
Мать Софьи тронулась умом. На краю гибели, после трех лет войны и всех проповедей, всех молитв о даровании победы над германским супостатом, она полагала, что Арсений, чужак, немец, – не муж ее дочери, свадьбы не было, а внуки, жившие у нее во Владимире, – дети Софьи от подлинного ее супруга, владимирского прапорщика, погибшего еще в четырнадцатом; Арсений же имеет другое, настоящее, немецкое имя, он бес, явившийся соблазнить Софью. Лина же – служанка его, а не дочь – умеет оборачиваться черной сорокой, воровать, подсматривать и нашептывать.
Вся жизнь усадьбы теперь вращалась вокруг смертного ложа.
Когда Арсений, узнав о гибели отца, уехал, вооружившись револьвером, в Москву, старуха взмолилась, чтобы дочь привела к ней настоящего врача – ибо тот, что зовет себя Арсением, вовсе не врач, а отравитель. Дескать, она слышала от старых мудрых людей, мужей церковных, что немцы-доктора насылают на губернии черный мор, травят колодцы, портят скот, напускают ядовитых мух, и за то народ, поймав, бьет их смертным боем, тела бросает в овраг на поживу псам. Хлеб горчит, дрожжи не имеют прежней силы, соль ослабла, царя-императора опоили дурманным зельем и заставили отречься от престола – все то немцы сотворили.
И когда Арсений, похоронив Андреаса и оставив особняк на попечение слугам, вернулся – пришлось делать вид, что его нет в доме, прогнала его Софья и ждет суженого с войны. Тогда же и Лина перестала подозревать отца, закончилась ее умственная лихорадка, ибо ее, черную сороку, старуха тоже не хотела видеть, ей тоже пришлось якобы исчезнуть из дома, упорхнуть в окно. Братья были младше, они воспринимали старухины завихрения как диковинную мрачную игру. А Лина – старше их еще и на три года войны, проведенных в госпитале, среди ночного и дневного бреда раненых, – Лина очистилась, словно переболела и получила иммунитет к безумию, который спасет ее в дальнейшем.
Даже смерть Андреаса, убитого грабителями, не придала Арсению решимости действовать. Теперь стало совсем непонятно, где опасно, где нет, кто защищен, кто отдан на расправу. А мысль, что опасно везде и не защищен никто, была пока слишком страшной.
Арсений спрятался за смертью отца, заслонился ею от молчаливой требовательности жены, которая была готова остаться с матерью, лишь бы он собрал детей и уехал с ними – как можно дальше. Как бы отрезая себе выбор, он одолжил крупную сумму наличных, найденных у Андреаса в сейфе, давнему армейскому приятелю, тот собирался заработать на поставке партии лекарств из нейтральных стран. Поговорив с доверенным управляющим Андреаса, Арсений узнал, что отец давал средства «на революцию», узнал об Аристархе и охранной грамоте, выписанной на все семейство Швердт; хотя Андреаса грамота не спасла, Арсений нашел ее среди бумаг и взял с собой в Пущу – чтобы хоть как-то успокоить Софью.
Приход нового, 1918 года был пропущен во всех текстах, что были у Кирилла. Кажется, Софья просила привезти дочерей из Петрограда и сына из Царицына, однако Арсений полагал – не признаваясь жене, – что матери ее осталось жить месяц-два, и ждал неминуемой кончины, что позволила бы тронуться с места.
Арсений съездил в Москву получить долг и возвратился обескураженный: товарищ сказал, что деньги отобрали при обыске. Арсений не понимал, правда ли это или ложь; больше утраты денег его потрясла сама возможность подозревать приятеля, известного безукоризненной репутацией, сами перемены в людях, оказавшихся Янусами.
А еще Арсений привез известие, что скоро будет перемена летоисчисления: большевики готовят декрет о переходе на григорианский календарь.
Кирилл, вечно путавший, нужно ли вычитать или прибавлять дни при переходе от старого к новому стилю, сначала думал, что своим декретом Ленин подарил прадеду Арсению не существовавшие в природе две недели, продлил его фабианское промедление. Но потом сверился со справочником и понял, что смена календаря выбросила прадеда из 31 января сразу в 14 февраля, как будто Арсений поскользнулся на льду той зимы и покатился с горки в овраг, тщетно пытаясь притормозить.
Зная всю дальнейшую историю прадеда, Кирилл осознал, что те пропавшие, вычеркнутые Советом народных комиссаров из календаря две недели (был вариант сближать календари по дню в год, но Ленин настоял на рывке) – они ключевые, судьбоносные. Именно этих двух недель Арсению будет не хватать в будущем, чтобы исполнились его планы; они – скоро это выразится и в пространстве – выражение во времени геометрии семейного рока.
Ледяная раскатанная дорожка выбросила Арсения во вторую половину февраля. Накануне весны и сева явились представители сельского совета, недавние дезертиры с фронта, и потребовали передать в общую собственность поля, амбар, где некогда прятался среди зерна и сена раненый боевик Аристарх, освободить усадьбу и перебраться во флигель; усадебная библиотека, рояль – все пойдет в фонд сельского клуба, который якобы откроют в усадьбе.
Других, может быть, и просто выкинули бы на улицу. Но все же давняя слава Доброго Доктора и врачебные заслуги самого Арсения еще удерживали над семейством тонкий полог защиты. Однако деревня стремительно краснела, а Арсений оставался золотопогонником, офицером, и те же люди, кого он выхаживал вчера, завтра могли прийти делить его поля согласно Декрету о земле и собственному пониманию, что справедливо, а что нет.
Арсений показал пришедшим бумагу Аристарха. Членов сельсовета она озадачила, как и любой государственный документ с печатью, но не остановила. Парадокс – в глубинке еще никто толком не знал, что за птица ВЧК, печальная слава «чрезвычайки» возникла чуть позже, бумага еще не напиталась страхом, не излучала того зловещего ореола, который отпугнул бы всякого человека годом или двумя позже.
Однако справка Аристарха все-таки немного остудила пыл экспроприаторов, подсказала Арсению, как поступить дальше: окраситься, перенять, символически или практически, красный победивший цвет. И Арсений поехал в Москву, к тому же Аристарху, и возвратился оттуда красноармейцем, врачом Красной армии, имеющим право сохранить дом для семьи; не землю, не библиотеку, но хотя бы крышу над головой.
Новый, красный Арсений стал тем человеком, что, пусть и призрачно, с отрочества был знаком Кириллу – у бабушки Каролины в комнате висела его фотография в красноармейской фуражке старого образца с красной звездой на околыше. Для того чтобы собрать детей в новой действительности, в распадающейся стране, теряющей связность, нужно было обладать каким-то статусом, каким-то магическим артефактом, открывающим двери и упорядочивающим хаос, позволяющим управлять событиями; таким артефактом стала форма Красной армии, перелицованная из имперской.
Арсений получил лакуну времени. Красной армии как таковой еще не было, не было части, где ему следовало бы служить, но форма уже была, было удостоверение, и, пользуясь ими, он вывез дочерей из Петрограда, добился, чтобы семье красноармейца вспахали землю. Даже немецкая фамилия Швердт, опасно звучавшая в старой стране, вроде бы потеряла это звучание в новой: товарищ Швердт значило что-то иное, чем господин или высокоблагородие.
Кирилл долго пытался понять, насколько искренней была метаморфоза Арсения, насколько далеко тот планировал зайти на красном пути. В отрочестве Кирилл видел только эту красную сторону, будто прадед родился для бытия только в 1918 году, уже с краснозвездной фуражкой на голове; теперь его зрение было смещено в предреволюционное время, и у Кирилла никак не выходило сшить две идентичности.
Красная волна, на которой думал прокатиться прадед, записавшийся в армию, поднялась высоко. Гражданская война, начавшаяся со стычек под Петроградом, захватывала все новые и новые области. Весеннее тепло позволило развернуться боевым действиям, на юге восстали казаки, с Украины вторглись немцы, Добровольческая армия и казаки совместно начали наступление на Царицын, скоро оказавшийся в осаде.
Проклятие двух недостающих недель сработало в первый раз: Арсений почти что успел попасть в город, где оставался младший сын Михаил, но он ехал сам по себе, не имея ни приказа, ни предписания; на Царицын, перерезая дороги, наступали белые, и он был вынужден повернуть назад.
Арсений просил зачислить его в состав войск, защищавших Царицын, но подкрепления туда перебрасывались с других направлений; и его, изучив послужной список, отправили заведовать тыловым госпиталем.
Вокруг Царицына постоянно шли бои, кольцо белых то сжималось, то разжималось; связь не действовала, и невозможно было узнать, что там, в осажденном городе, живы ли родственники, жив ли сын. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь – три длительных приступа, красные расстрелы, белые расстрелы, речные сражения на Волге, – город, как позже Ленинград, превратился в тот свет, куда – тоже по воде, по реке – ведет узкая дорога жизни, и немногим дано ею пройти.
В усадьбе под присмотром Софьи угасала ее мать. Арсений в своем госпитале, дислоцированном в малом провинциальном городке, наблюдал, как новая власть, уступившая белым самые хлебородные области, усиливает доставшуюся ей в наследство от империи продразверстку, вводит монополию на хлеб, объявляет укрывающих зерно и муку врагами народа, собирает Продовольственно-реквизиционную армию, чтобы выжать из деревни пропитание; Арсений видел убитых продагентов, расстрелянных красными в отместку крестьян, и, кажется, понимал, к кому он поступил на службу, что значит красная звезда на его кокарде. Былые сослуживцы находили способы тайно пробраться на юг, к белым, воевать с большевиками; но у него семья, у него запертый в Царицыне сын и умирающая мать жены, которую нельзя никуда везти. И он ждал, опять перестал вести дневник, ушел во врачебные дела; одну только записанную им сцену найдет потом и перескажет в письме бабушка Каролина.
Рядом с городком был спиртовой завод. Отходы перегонки спирта, барду, сливали в помойное озерцо на окраине. У спиртзавода отирались вооруженные дезертиры, бродячие солдаты, захватившие пустующие дома; покупали или отбирали спирт, пили, пили, пили, пили… К озерцу барды повадились ходить свиньи, другой скот; тоже напивались, валялись в грязи; однажды ради смеха кто-то напялил на пьяного хряка драную шинель, и тот носился по улицам, понукаемый выстрелами в воздух.
Из-за реквизиций завод встал, кончились и зерно, и картофель. И тут дезертиры вспомнили про озерцо с бардой, с мутной субстанцией, из которой при умении можно было бы выгнать еще немного браги. У вонючей загаженной лужи сошлись люди и звери, дезертиры с ведрами лезли в самую хлябь, тонули, а рядом лакали жижу и жрали пьяный жмых свиньи. Кто-то выстрелил, чтобы выгнать свиней из лужи, подранил хряка, свиньи с испугу бросились не на берег, а в глубь хмельного болотца, затоптав двоих пьянчуг; еще выстрел, промах с пьяных глаз – пуля попала в плечо добытчику барды; ответный выстрел – и вот уже люди и звери мечутся вместе, барахтаются в засасывающей грязи, теряют сознание от смрада; и уже не понять, кто тут человек, а кто животное.
Прадед Арсений как красный командир мог бы счесть, что большевистская сила для того и существует, чтобы установить порядок, обуздать темные страсти. Но он видел, что, вопреки евангельской истории, демоны выходят из свиней и входят в людей; да и никаким красным командиром он не являлся, цвет его был притворным, нестойким; и маятник его симпатий – если он вообще руководствовался симпатиями – качнулся к белым.
Понимал ли он, что, пока Белая армия одерживает победы, в будущем зреют победы большевиков? И более того, нынешние серьезные, но не решающие победы белых – залог грядущих побед красных, сидящих, как царь горы, на сосредоточенных в центре страны военных запасах царской России, разменивающих время и пространство на возможность дисциплинировать и обучить свою разношерстную армию?
Кирилл предполагал, что прадед не видел так далеко, был убежден военными успехами, масштабным наступлением белых армий, помощью союзников по Антанте. В конце концов, некоторых вождей Белого движения он знал лично, служил под их началом в Галиции.
А еще – эта мысль, этот образ потрясли Кирилла, когда он впервые до них дошел, – Белая Россия жила по старому, юлианскому календарю. И когда белые войска входили в город, новоназначенный комендант первым делом издавал приказ, обращающий время вспять.
Обращающий время вспять!
Этот пункт шел первым параграфом в афишках, расклеенных на заборах: не о хлебе, оружии, порядке, учреждениях, торговле, частной собственности, агитации, системе управления, – это все потом, ниже, – а о времени как таковом. И, соответственно, когда тот же город брали штурмом большевики, они так же первым же приказом разворачивали время, меняя юлианский календарь на григорианский, выбрасывая обывателей на две недели в будущее. Какая-то жесточайшая, непримиримая метафизика, страшнее бессудных казней, пыток, голода, чудилась Кириллу в схватке двух календарей и двух времен, белого прошлого и красного будущего; сама военная, революционная власть над временем, привычно доступная любому красному командиру полка, любому белому штабс-капитану, поставленному комендантом, – озаряла скромные в сравнении с недавней Первой Мировой битвы Гражданской войны отсветом титаномахии, уменьшая до песчинок собственно людей, разрешая любую беспощадность.
И прадед Арсений, думал Кирилл, однажды испытавший этот жуткий переброс, перекинутый из конца января в середину февраля, мог, раздумывая о переходе на сторону белых, стремиться вернуться в прошлое, получить обратно несправедливо вычтенное.
Тут начинался сюжет, о котором никогда не писала бабушка Каролина, она его попросту не знала, хотя в нем участвовала; для нее все это были лишь служебные перемещения отца, новые назначения, топография жизни. А вот Кирилл, сопоставив все обстоятельства, был уверен, что прадед Арсений задумал побег, и очень красивый побег: такой, чтобы бежать, не двинувшись с места.
В январе 1919-го умерла мать Софьи. Белые все еще осаждали Царицын, и – согласно логике кампании минувшего года – весной, в начале лета следовало ждать нового наступления белых армий с юга.
И в это же время Арсений вызвал к себе в госпиталь жену и детей; прислал ординарца, чтобы тот охранял их в пути. Софья не хотела бросать усадьбу, которую наверняка разграбят крестьяне, пустующий особняк Андреаса в Москве, где она надеялась получить у новой власти комнату или две; но Арсений настоял, и она подчинилась.
А потом Арсений попросил у начальства перевода поближе к фронту, в город Борисоглебск, находившийся в двухстах километрах от Царицына. Именно на этом отрезке фронта летом должны были наступать маневренные конные группы белых.
Бабушка Каролина не придавала значения тому, что отец сам попросил о переводе, заметила только, что тот хотел быть ближе к сыну Михаилу, потерянному в Царицыне, и, может быть, надеялся, что откроется возможность попасть в осажденный город. А Кирилл, сличив военные карты с красными и синими стрелами, выписав ключевые даты, понял давний секрет прадеда: тот рассчитывал, что в ходе летнего наступления белые возьмут и Борисоглебск, и Царицын, фронт единой полосой сдвинется на север; и семья, и потерянный сын – все окажутся в тылу у белых.
Кирилл изучил еще раз те места, где стоял госпиталь прадеда во время битв Первой Мировой, прикинул, какие части отправляли в этот госпиталь раненых, – и все сошлось: это были те пехотные полки и казачья конница, что составили потом основу Белой армии.
Значит, прадед действительно мог рассчитывать встретить среди белых офицеров своих, обязанных ему жизнью; мог надеяться, что его не обвинят в предательстве из-за службы в Красной армии – в то время обе армии комплектовались перебежчиками, туда и обратно переходили взводами, эскадронами, батальонами, полками.
И замысел почти удался; но снова в самый тонкий, в самый опасный момент сработало проклятие двух исчезнувших недель. Из-за споров о руководстве белые армии атаковали не слаженно; и вдобавок правая группа, шедшая на Царицын, повсюду сбивала боевые порядки красных, а левая группа генерала Мамонтова во фронт не развернулась, прорвала оборону и ушла в прорыв громить красные тылы, обходя очаги сопротивления, позволяя красным восстановить позиции.
К тому же и сам Арсений с семьей выехал позже из-за волокиты с назначением и документами. Если бы чуть раньше – он бы успел добраться до самой горловины будущего прорыва войск Мамонтова, оказаться там, где в течение недели или больше существовал зыбкий, но коридор на ту, белую, сторону. Но он не успел. Эшелонный паровоз задыхался на второсортном угле, поезд тащился немногим быстрее, чем пешеход, и в результате путь эшелона лишь единожды пересекся с маршрутом мамонтовской конницы, уже возвращавшейся из рейда по тылам красных.
Прадед Арсений, вероятно, рассчитывал, что успеет доехать до Борисоглебска и, когда белые основными силами займут город, поставят гарнизон, найти кого-то из знакомых старших офицеров. Кирилл не знал, собирался ли Арсений поступить на службу в Белую армию или, найдя в Царицыне сына Михаила, уехать из России – через юг, через Крым; Первая Мировая уже закончилась, открылись запертые прежде турецким флотом морские пути в Европу.
Но эшелон на пути в Борисоглебск встретил лишь дальний кавалерийский разъезд, высланный прикрывать тылы основной колонны Мамонтова, отступающей, уходящей обратно; полуэскадрон или эскадрон без старших офицеров, без твердого командования, просто сотня конных.
Там прадед Арсений испытал чувство, которое Кирилл назвал для себя Борисоглебский ужас.
Вечерело. Эшелон остановился для незначительного ремонта посреди голой степи. Внезапно с темной стороны, с востока, появилась толпа конных. В косматых шапках, с пиками, они показались Арсению пришельцами из древней эпохи, когда этим же степным путем шли на запад воинственные кочевые орды. Из-за туч вышла яркая луна, и стало видно, что всадники одеты в краденые шубы, мужские, женские, вместо попон у них заляпанные грязью и кровью отрезы дорогих тканей, из вьюков торчат золотые, жемчужные оклады, сорванные с икон; лунный свет, пар из лошадиных ноздрей, бледные граненые острия пик – будто адово воинство вырвалось из преисподней, будто монголы пришли брать приступом деревянные города старой Руси.
И Арсений, врач, офицер, – на одно мгновение действительно поверил, что эту дикую конницу извергла степь прошлого. Это и был миг Борисоглебского ужаса, инфернальный провал, дыра в расползшейся ткани истории, откуда полезли на этот свет всадники русского Апокалипсиса.
Поезд тронулся, машинисты спешили увести эшелон. И вместе с ним будто наново тронулось время, вернулся – в ощущении – момент настоящего. И только тут прадед Арсений осознал, что видит на самом деле долгожданную конницу Мамонтова, летучий казачий отряд – точнее, мародеров, насильников, убийц, в которых превратились некогда знакомые ему лихие части, и прежде не брезговавшие грабежом, погромами, но все-таки тогда еще послушные командирам.
Эшелон набрал ход. Конники постреляли вослед, пропали во мгле на заморенных конях. Так Арсений оказался в красном Борисоглебске, снова командуя госпиталем. А Царицын остался белым, и опять туда не было пути.
Наверное, еще можно было попытаться уйти к белым, были проводники, знавшие потайные тропы в степных балках, тайные броды, обходные степные дороги, – но Борисоглебский ужас, не столько страх за себя, жену и детей, сколько обморок от внезапной близости той страшной, подземной России, куда, того не ведая, приехал его дед Бальтазар, России холерных бунтов и безумного князя Урятинского, навсегда испугал Арсения, лишил его воли; нужно было бежать, а он уже не мог бежать, Борисоглебский ужас скакал следом на призрачных конях.
Так прадед Арсений и остался красным: форма и фуражка приросли к телу. Он исправно заведовал госпиталем, смирился с потерей усадьбы, словно вообще забыл прежнюю жизнь. Вся семья смирилась тоже, только средний сын, Глеб, мальчишка, попробовал бежать из дома, уехать с крестьянами на торговой подводе; подводу остановила застава в пригороде, и кто-то из солдат опознал докторова мальчугана, пытавшегося выдать себя за беспризорника.
Отцу Глеб сказал, что хотел бежать на фронт, сражаться с беляками, – но бабушка Каролина, внимательная сестра, всю жизнь считала, что Глеб обманул тогда отца: он и вправду хотел бежать на фронт, но к белым, а не красным.
Старший брат, брат-соперник, Борис, играл с ним в войну, изображая себя красным конником, скача на дворницкой метле, нахлобучив, пока отец не видит, буденовку, – а Глебу доставалась роль белого, и он, втайне ревнуя Бориса к отцу, решил и убежать к белым, – странное предисловие к тому, что произойдет двадцать с лишним лет спустя, во время следующей большой – большей – войны.
* * *
Кирилл часто размышлял именно о семнадцатом-девятнадцатом годах применительно к биографии прадеда: после было уже пустое время, не содержавшее – для Арсения – возможностей изменить судьбу.
На примере Арсения он пытался понять стратегию поведения в выплеске Большой Истории. Он пытался рассуждать и чувствовать не как ученый, а как жертва истории, не имеющая сил и времени, чтобы думать, вынужденная действовать – без тех двух недель в запасе, со сбитым дыханием. Размышления получались такими же отрывочными, мечущимися, не складывались в целостную картину.
…В русле жизни, текущей среди привычных обстоятельств, ты не чувствуешь, что тебя что-то держит, что ты увяз.
Но вот наступает момент, когда нужно действовать. И в этот момент все жизненные, судьбинные неточности не прощаются, превращаются в клей, загустевающий на глазах.
Отправил в разные города детей. Думал на несколько месяцев – а получилось на много лет. И ты как бы переписал их судьбы, в каких-то мельчайших, тебе самому не известных, интимнейших деталях. Словно разные колдовские наговоры были произнесены над детскими кроватками, и не отмотать назад. А если бы не было этого рассеяния – может, и спаслись бы потом?
Мать жены умирает. Скрытый конфликт. Всю жизнь ее не любил, но ты врач. И ты не можешь ее бросить, выйдет не по совести.
Одолжил деньги товарищу, а у того их отобрали при обыске. Не смертельно, но мерзко; эти деньги могли бы что-то решить, но не решат уже, ушли в солдатские карманы или украдены должником.
Усадьба – была мечтой, а стала обузой. Жили при этой обузе, обслуживали ее, а теперь не продашь, сельсовет грозит забрать – и бросить жалко.
Вчитываясь, вдумываясь, Кирилл отрешался от подробностей, начинал видеть течение энергий истории. У него не было должного метафорического языка, чтобы описать то, что он видит и чувствует, но все же он формулировал для себя некоторые заметки.
…Большое историческое событие создает своего рода силовое поле, смещая реальность, искривляя линии судеб, проверяя на прочность жизненные решения и поступки, которые в обычной, ровно текущей жизни могли «работать», хотя были неточны. Все скрытые напряжения вырываются на поверхность, срабатывают все заложенные ранее – из-за небрежения или недомыслия – мины и ловушки. В чьих-то судьбах эти изменения незаметны, а иногда их хватает, чтобы случилось нечто непредвиденное и разрушительное, наступил предел усталости конструкции, как сказал бы инженер Андреас.
Таким образом, появляется новая, добавочная событийность, производящая саму себя, выступающая как катализатор.
В «механизме» событий возникают дополнительные элементы, действующие то как песок, то как смазка. Время событий, прежде равномерно общее, идет вразнос, начинает течь с разной скоростью, одно случается быстрее и проще, другое медленнее и с большим трудом.
Эта дополнительная событийность, реактивно порождая саму себя, собирает лавину.
Поэтому катастрофа рационально не объяснима. Можно увидеть ее основные драматические линии, главные детали, но не целое, ибо целое слагается из мельчайших подвижек, утрат спайки, ослабления всех связующих элементов.
При этом катастрофа не уничтожает нечто твердое, крепкое, застывшее. Люди уже должны быть принуждены к нестандартному действию, вылезти из привычных нор, луз, пазов, опасно исчерпать запас прочности структуры, «нарушить строй».
Иначе будет, как с английскими каре при Ватерлоо, – строй устоит пред атакой.
Неопределенность будущего, насущные задачи выживания заставляют людей вести себя более эгоистично, сосредотачиваться на ближнем круге, уменьшая общий ресурс солидарности и тем самым открывая дорогу пассионарным меньшинствам.
А меньшинства только в этот момент и способны разворачивать, провоцировать события, втягивая разрозненные массы в узкую воронку будущего – конфликтующих будущих.
И в этом смысле условно деление на белых и красных. Их еще не существовало в 1917 году. Но были радикально ориентированные группы, которые развязали события, заставили всех остальных самоопределяться, окрашиваться.
И Кирилл снова возвращался к мыслям о разных поколениях семьи и их взаимосвязи.
О том, что Бальтазар невольно создал – как демиург – мир семьи, где жили дробные люди, состоящие из немецких и русских половин, четвертин, осьмушек. Лишние, промежуточные, дополнительные, не вписанные на всю глубину в защитный контекст традиций. В этом мире была очень высока цена осечки, случайности, нехорошего совпадения; в нем нелепое подозрение, смрадный слух, недобрый взгляд имели большую силу управлять реальностью – потому что дробные люди уязвимее цельных, их проще представить демонами из текущего политического бестиария.
Бабушка Каролина и ее братья и сестры попытались вырваться из мира Бальтазара, воспользоваться шансом, который давала ранняя советская эпоха, упразднившая – казалось – прежние, имперские предрассудки, провозгласившая грядущий Интернационал, создавшая новую историю, куда благодаря бумаге Аристарха могло сесть, как в вагон, и семейство Швердт.
Но никто не достиг успеха в попытке спастись; даже бабушка Каролина, уцелевшая, заплатила такую цену, что вряд ли это можно назвать спасением. Только один человек избег общей участи – но лишь потому, что прихотливая швердтовская судьба сыграла с ним шутку в своем духе: лишила имени, памяти, семьи, превратила в истинное дитя эпохи, защищенное абсолютным отсутствием биографии.
* * *
Прадед Арсений потом трижды или четырежды ездил в Царицын, ставший в 1925 году Сталинградом. Он узнал, что семью, приютившую Михаила, еще в 1918 году расстреляла ЧК – говаривали, не за контрреволюцию, а из-за фамильных драгоценностей. Большой их дом, выстроенный в пригороде, оказался на линии обороны сначала красных, а потом белых; от всей улицы остались только пепелища.
Нечего и надеяться было найти соседей – кто погиб во время штурмов, кого повесили красные как богатея и классового врага, кого белые – за то, что кормил большевистских солдат; люди разбежались, уехали, уплыли, мужчины были взяты в Красную и Белую армии.
Арсений нашел в городе только коллегу-врача, лечившего главу исчезнувшей семьи. Врач сообщил, что за мальчиком присматривала кормилица из крещеных калмычек, женщина крепкая, родившаяся в степи, умевшая скакать на лошади: может быть, она сумела куда-то увезти ребенка или спрятать его в городе?
В то время степь была еще беспокойна. Там скрывались остатки разбитых белых армий, всевозможные банды, порожденные войной; красные калмыки резали калмыков белых и наоборот; соваться в степь без вооруженного отряда было безумием. Арсений стал искать иначе: с командиром краснокалмыцкого эскадрона, заходившего в город за оружием, амуницией и обмундированием, передал весточку в кочевья – о том, что ищет женщину по имени Найха, кормилицу своего сына.
И степь откликнулась, степь как целое, более древнее, чем распри нового века: дальними тропами, караванными путями от предгорий Кавказа до Волги, от Каспийского моря до пустынь, от волжской дельты, где среди тысяч островов правили пираты, наследники Разина, до казачьих станиц, где лежали еще по балкам и оврагам скелеты мертвецов Ледяного похода, – весточка прошла, передаваясь из уст в уста, пересекая границы вражды, и возвратилась: женщины по имени Найха, служившей в Царицыне немецким колонистам, нет среди живых, она не возвратилась из города, и прах ее там, а не в степи.
Арсений искал в приютах и детских домах мальчика, помнящего, что значит Mutter или Vater – в колонистском доме говорили по-немецки. Еще у прадеда была фотокарточка, присланная в конце 1916 года, Миша в рубашке-распашонке и шапочке-матроске, но как узнать двухлетнего мальчика в семилетнем?
В детских домах были сотни сирот, забывших свои имена, переживших царицынские осады на передовой, раненых, контуженных. А еще больше детей беспризорничали, сбивались в шайки.
Михаил не нашелся.
А потом, после Второй Мировой, бабушка Каролина перестала мысленно числить Михаила в живых – его призывной год выбило подчистую.
Но все же Кирилл чувствовал, что Михаила можно найти. То, что не удалось Арсению в его времени, удастся ему – спустя десятилетия.
Никто из семьи, кроме бабушки Каролины, не пережил Второй Мировой. И не война их убила как таковая, а немецкое происхождение, эхо прошлого в судьбе.
Поэтому Кириллу был важен Михаил – чистый лабораторный экземпляр, пример того, как проживает жизнь человек, не знающий о своем роковом наследии, – и как судьба обращается с ним, не знающим: так же, как со знающим, или нет?
А еще – Кирилл вряд ли вслух признался бы в этом – он интуитивно чувствовал, что Михаил не умер в детстве от голода, не погиб во время осад Царицына, выжил в войну.
Однажды Кирилл взял детское фото Михаила и долго смотрел на него, задернув шторы, при ровном свете свечи. Освободив мозг от посторонних размышлений, думал о том, кем вырос этот мальчик, позволяя мыслям свободно нащупывать русло чужой судьбы.
По сути Кирилл сочинял двоюродного деда. Это был его излюбленный метод поиска там, где цепи сведений оборваны, свидетельства уничтожены; точность художественного образа не раз приводила его к правде факта.
Мог ли прадед Арсений не узнать сына в детском доме? Кирилл чувствовал, что ответ все-таки – нет: не мог. Значит, они не встретились. Михаил беспризорничал? Да, нет? Нет. Его усыновили? Похоже. Но кто? Кто мог захотеть взять приемного ребенка в разрушенной стране? Кто имел средства его содержать?
Военный. Кириллу чудилась фигура военного.
Приемного отца.
И Михаил пошел по его стопам.
Закончил офицерское училище почти перед самой войной; авиация, артиллерия, танкисты – нет, пехота, простая пехота, командир стрелкового взвода.
А еще Кирилл был уверен, что Михаил, потерявший первую жизнь в осаду Царицына и нашедший в Сталинграде жизнь новую, получивший в переименованном в 1925 году городе новую личность и судьбу, участвовал и в Сталинградской битве, во второй осаде, и там, в огне, эти личность и судьба окончательно стали – его.
Кирилл поехал в Волгоград зимой.
Из трех времен битвы он мог выбрать удушающий зной августа, когда разбитые в междуречье Дона и Волги советские войска откатывались к Сталинграду, несмотря на приказ «Ни шагу назад», первые немецкие бомбардировщики прорывались к городским кварталам, а жители копали рвы и окопы внешних защитных обводов, которые никому не пригодятся.
Мог выбрать холодные туманы осени, вроде бы не сильный, но выстужающий тело ветер с Волги, урожай винограда, яблок; время, когда немцы прижали защитников города к самому берегу реки.
Но он выбрал ледяной январь с его буранами, прилетающими из азиатской степи, январь окружения, умирания, заиндевелых подвалов, съеденных крыс, кошек и ворон, январь гангрены, цинги и последних самолетов на юг, в сторону Миллерова, – последний январь Шестой армии.
Вылет отложили сначала на два часа, потом до вечера, хотя другие поволжские аэропорты были открыты. Но Кирилл уже знал, что зимой волгоградский Гумрак – по совпадению, последний аэродром окруженной группировки Паулюса, – превращается в Бермудский треугольник; так, словно битва оставила свой отпечаток и во времени, и в климате; так, словно каждый год из зимы в зиму там повторяется мистерия окружения, холодной смерти, и промозглые туманы, свирепые пурги закрывают взлетную полосу для самолетов.
Пассажиры отложенного рейса перешли в кафе; один только мужчина, худощавый, отрешенный, остался у стойки регистрации. Кирилл любил подслушивать, вызнавать драматические моменты чужих жизней; и он сделал вид, что замешкался с чемоданом, напряг слух…
Мужчина вез – о таком суеверно не сообщают пассажирам – цинковый гроб с телом внезапно умершего отца. Теперь он волновался, где оставили гроб на время задержки рейса, найдется ли потом бригада грузчиков. Кирилл не боялся лететь с мертвецом; но внутреннюю зарубку поставил: он летел искать пропавшего покойника, и вместе с ним путешествовал другой покойник – будто некие насмешливые силы прислали провожатого.
Кирилл тоже сел в кафе, выпил пива, но цинковый странник не выходил из головы. Скоропостижно умерший был военным – сын говорил работникам аэропорта о какой-то льготе, – и Кирилл, чувствуя подзуживающий азарт, будто сочинял пьесу, назвал его – Офицер. Что-то тихо звякнуло в сумке сына, и Кирилл догадался – то награды, медали и ордена, чтобы выложить их на бархатные специальные подушки и нести за гробом.
Вдруг Кирилл услышал немецкую речь; оглянулся – за соседним столиком пожилой немец что-то говорил полной блондинке, явно славянке, ловко разливая по бокалам теплое «Советское» шампанское; разливал он одной рукой, а второй не было – рукав пиджака был по-русски прицеплен булавкой к боку.
Кирилл вздрогнул. В детстве на Девятое мая он видел много пожилых мужчин, точно так же с давней привычкой несущих отсутствие конечностей, как бы извиняющихся перед пустыми рукавами и брючинами, ботинками, надетыми на дерево или металл протеза, за пустую трату дефицитной материи или кожи; но немца-инвалида видел в первый раз.
Кирилл понял, что немец женат на русской и они летят проведать мать жены. По возрасту однорукий точно не годился в солдаты Вермахта. Но здесь и сейчас, внутри сочиняемой на ходу пьесы, он был им, и Кирилл назвал его: Солдат-калека.
Нужен был третий.
Под пальмой, криво торчащей из кадушки, сидел священник: черная ряса, седая борода, могучее тело борца. Он словно нарочно сел под чахоточную пальму, чтобы его заметили, и Кирилл с удовольствием записал в мысленном листе ролей: Священник.
Солдат-калека, Священник и Офицер, о котором двое живых посланцев не знают, который виден только Кириллу. Кто они, эти трое, чем связаны – разные люди, ипостаси одного человека?
Кирилл догадывался, что искать ответ, всматриваясь в попутчиков, бессмысленно: ему показали смутную картинку, отражение отражения в отражении, и только будущее могло расшифровать эту головоломку, расположить образы в правильном порядке. Но он чувствовал, что речь точно идет о Царицыне – Сталинграде – Волгограде, о Михаиле и, возможно, еще о ком-то, кого не видит он сам, Кирилл, как те двое не могут зреть мертвеца в цинковом ящике.
К ночи вылет отложили еще раз и повезли в гостиницу неподалеку; а во втором часу объявили вылет – служащие авиакомпании бегали по номерам, вытряхивали пассажиров из постелей, собирая всех в баре, где еще коротали время за рюмкой самые стойкие. Похмельная муть, сиплое, простуженное небо, разметанные, как постельное белье после ночного ареста, облака, сиротские фонари, колючий снег, груды темноты – спросонья Кириллу казалось, что это не та гостиница, не тот аэропорт, не то небо, и летят они куда-то тоже не туда, в какой-то другой Волгоград.
Самолет шел в густых облаках. Иногда потряхивало, но не слишком сильно. Среди пассажиров начались раздраженные шепотки: надо было вылетать раньше, чего летчики ждали? Потом лайнер выскочил из-под нижней кромки туч, и открылся весь Волгоград: рыжая лента огней вдоль темной, ничего не отражающей Волги. Цепочки улиц, продольных и поперечных: продольные – линии советской обороны, поперечные – линии немецкого наступления; Кирилл знал карту наизусть, и сейчас ему показалось, что в послевоенной планировке города запечатлелась простая геометрия смертного противостояния.
Самолет долго рулил к зданию аэропорта. Равномерно вспыхивали лампы на крыльях; казалось, их свет бесплодно рассеивается в степи. Но, приглядевшись, Кирилл рассмотрел заструги, слепки яростной силы бурана.
Как токарный инструмент вырезает полости в металле, так же неистовые бесы, духи воздуха, совершая кульбиты, взмывая над землей и падая вниз, вращаясь в полете, иссекли, изгрызли кучи снега вдоль взлетной полосы.
Кирилл видел и тайфун в Тихом океане, и казахстанские пылевые смерчи. Но тут почувствовал не отрешенную мощь воздушных потоков, а яростный послед битвы, бесприютную ненависть бесприютных душ, навсегда смешанную здесь с силами природы, текущую в ручьях, прорастающую изнутри дерев, живущую в мускулах ветра.
Кирилла встречал однокашник Максим, работающий в местном департаменте культуры; человек-ключ, знающий всех и вся в архивах, музеях, поисковых отрядах. Они не дружили, но нить симпатии, возникшая в студенческие годы, сохранялась: они имели общую слабость – склонность к поэтике и метафорам в ущерб строгой науке, и оба были ранены историей – однокашник искал следы своего деда, попавшего в плен в сорок первом и сгинувшего в шталагах.
Максим вел машину, неназойливо пересказывая архивные и музейные новости, Кирилл слушал вполуха, вглядываясь в дорогу, дома, поля. Брезжил неясный рассвет, машина переваливалась на колдобинах, объезжала рытвины, и Кириллу чудилось, что в полноте света солнце не засияет никогда, вокруг морок, сумрачная греза места о себе самом.
Ему казалось: после Сталинградской битвы здесь что-то произошло с самой материей. Материю так долго и упорно крушили, уничтожали, что нарушили в ней какие-то существенные связи, и она больше не держит форму. Поэтому тут такие дороги, словно их раскапывают мертвецы из-под земли, такие зловещие зимние туманы, словно, испаряясь, снег крадет еще долю связности вещества, и реальность становится еще на гран более призрачной, зыбкой.
Максим жил в старом сталинском доме рядом с Аллеей Героев, – наследство жены, его родословная не предполагала такого места в негласной сталинградской иерархии, сообразной званиям, орденам и военным житиям.
За чаем Кирилл объяснил, зачем приехал. Он ждал, что Максим направит его в городской архив, но тот, выслушав – Кирилл рассказал даже про странных попутчиков в самолете, – налил по пятьдесят грамм коньяка, закурил и стал рассказывать сам.
– Понимаешь, мне в детстве зимой снился сон, – говорил Максим. – У панорамы, у музея битвы, есть крутой спуск к Волге. Лестница ведет вниз через небольшой тоннель. В декабре около трех дня там уже темно. И мне по пути из школы было тревожно проходить мимо, как будто там чья-то нора. А во сне… Я видел этот берег как бы в разрезе, со стороны Волги. Он в войну был изрыт землянками, пещерами и пещерками, внутри склона сидели штабы, тылы, а фронт был на сто метров выше, среди зданий. И я видел во сне одну огромную пещеру, открытую с Волги; там горели тусклые костры, там, в искривленном, замкнутом на себя, как лента Мебиуса, пространстве, помещались все дома, все улицы довоенного города; туда после смерти попадали все жители Сталинграда-Волгограда и вечно воевали там с немцами. И я наверняка знал, что тоже попаду туда.
Кирилл молчал, коньяк с дороги – под лимончик, пересыпанный сахаром, и кофе – расслабил чувства, но в глубине их появилась и не угасала точка напряженного внимания сыщика. Максим замолчал, будто взвешивал, можно ли доверить Кириллу то, что он собирался сказать, и продолжил:
– Знаешь, сколько бомб и снарядов до сих пор выкапывают? Земля еще взрывается, военное железо только чуть присыпано. Послевоенный город сверху, довоенный, подвалы его, – снизу. Соприкасаются иногда. Встречаются. И тут начинает искрить. Старые капсюли оживают. Правда наружу выходит.
Кирилл вспомнил, как, изучая историю войны, обратил внимание на особенный сталинградский феномен. Большой город не только позволил отступающей по степи советской армии зацепиться за землю, укрыться под крышами, за стенами, в глубине купеческих подвалов, среди заводских цехов, за кирпичом труб, в мартеновских печах, домнах, штабелях проката, – город стал текстом: бойцы писали кровью, углем, краской, огнеметной смесью на стенах, оставляли письма в жестянках, бутылках, патронных цинках, мыльницах, аптечных пузырьках, словно к ним вернулась надежда и с ней сама грамматическая категория будущего времени.
Под наскоро оштукатуренными после войны стенами старых домов, переживших сражение, еще жили эти письмена, еще лежали в земле нетленные послания. И Кирилл чувствовал, что, исчезни Михаил в каком-то другом городе, он бы затерялся без надежды найти; а тут само время было изрыто кротовыми норами, проницающими историю насквозь, и потому можно было получить весточку о судьбе без вести пропавшего.
– Недавно один банк немецкий отделение открывал, – сказал Максим. – Выбрали особняк, купили. Стали перестраивать, пробили вход в подвал. У нас положено в таких случаях музейщиков звать и милицию. Весной сорок третьего, когда тепло пришло, трупы как хоронили? В подвал сваливали и замуровывали. Так что… Весь город на костях. Но в том подвале другое было. Ящики зеленые, железом обитые. Военные ящики. Немецкие. По углам стоят. А посреди комнаты – стол, и на нем телефон полевой немецкий, провод под завал уходит. Так стоит, будто приглашает трубку снять. Наши, немцы из банка, все толкутся, гам стоит, пыль поднялась. Открыли ломиком ящик – а там бумаги и нашивки наплечные. И на каждой бумаге, на каждой нашивке – эмблема того самого банка, один в один. Они, оказывается, бухгалтерию Шестой армии вели, зарплату начисляли… Главный немец посерел и на телефон смотрит. Как будто это телефон на тот свет. И можно позвонить.
– У нас весь город такой, – сказал Максим твердо. – Действительно можно туда дозвониться.
* * *
«Город, где можно позвонить на тот свет».
Образ захватил Кирилла. Была в нем пугающая реалистичность: не достучаться, не докричаться, а позвонить. Словно где-то на окраине, в одинокой телефонной будке, есть тот аппарат, который и вправду соединяет миры и времена; и ты даже можешь его найти, важно только знать, какой номер набирать, какого абонента называть потусторонней телефонистке.
И Кирилл чувствовал, что в этой метафоре – позвонить на тот свет – ему дано ясное, хотя и зыбкое одновременно, как все пророчества, указание на то, что он должен сделать.
Одурманенный морозными туманами, ошеломленный темнотой без единой искорки, укрывающей азиатский берег с наступлением ночи, медленным движением незамерзающей Волги, он был готов поверить, что здесь действительно возможен звонок, который приведет его к двоюродному деду. Он рыскал по центру города, заходил во дворы, в подворотни, жители принимали его, одетого в дорогое пальто, за какого-то чиновника, инспектора сверху, – они так и говорили: вы, наверное, сверху, – и, поймав за рукав, толковали о прохудившихся крышах и сломанных лифтах, словно только чудесный посланец неведомых инстанций, явившийся однажды, мог все тут исправить. А Кирилл слышал только, что он сверху, с поверхности, из верхнего мира, и отчаянно искал вход в мир нижний, замурованный.
На третий день, когда он шел по проспекту Ленина к площади Павших Борцов, где под гранитным штыком-обелиском горит в бронзовом венке Вечный огонь, он услышал странный звук – будто дальний орудийный раскат, будто раскололось измученное напряжениями ледяное бугристое небо. Толчок – и он валится в сугроб, кто-то лежит на нем, придавив к снежной коросте, а над головой свистят шрапнели, гулко ухают разрывы, и осколки бьют острыми рыльцами по пальто.
Стихло. Он поднялся, стерев со лба кровь – расцарапал о ледяную коросту сугроба. Рядом отряхивался, потирая ушибленное колено, спаситель – военный в кургузом камуфляжном ватнике, потерявший ушанку; от потной головы его шел пар.
Весь широкий тротуар – здесь, в центре, их чистили – на протяжении метров сорока был завален битым льдом. Мелкие ледышки посекли стекла припаркованных машин, ударили в витрины магазинов, оставили белые оспины на стволах деревьев. В середине тротуара громоздились конусы, остатки крупных ледяных глыб, окруженные кольцами белой ледяной пудры – как следы порохового нагара на ткани при выстреле в упор.
Только тут Кирилл понял, что чудом остался жив, что его спас, вытолкнув с тротуара, нелепый этот вояка, толстячок-подполковник, до сих пор ищущий свою ушанку, хотя вот она, у ног; иначе Кирилла накрыло бы сошедшим с крыши, с высоты девятого этажа, длинным ледяным карнизом, размолотило в кровавые ошметки.
– Добро пожаловать в Волгоград, – сказал каким-то уютным, профессионально поставленным голосом подполковник, наконец-то нашедший ушанку. – Ты не из Питера? У вас там, говорят, сосули лазером сбивают. Лазером! А у нас так. Как потеплеет немного днем, так и ага. Каждую зиму два-три трупа.
– Спасибо, – выговорил Кирилл. – Спасибо. С того света выдернули.
Полковник оглядел его, хмыкнул, поражаясь, видно, высокопарному слогу, и протянул руку:
– Кирилл.
– Кирилл, – отозвался Кирилл.
– А, – заинтересованно сказал подполковник. – Вот оно как. Тезки. Надо бы выпить, тезка.
– С большим удовольствием, – услышал Кирилл свой глупо-оживленный голос.
У Кирилла были деньги, но подполковник повел его в забегаловку неподалеку от Центрального рынка, где продавали на разлив прасковейский коньяк и краснодарские вина. На рынке они купили ноздреватого, пахнущего степью сыра, обсыпанной наждаком красного перца бастурмы, пучок маринованной черемши, раздувшейся от рассола, и нырнули в попоечное тепло, где и пол, и столы были в винных пятнах, где красноглазые завсегдатаи пересчитывали грани стаканов и пьяное изумленное радио пело: «Давай за нас, давай за вас, и за Сибирь, и за спецназ!»
Потом все утонуло в дымном войлоке опьянения, будто Кирилла завернули в кошму и готовились удушить; они пили вдвоем, потом с кем-то, потом снова вдвоем. Подполковник упорно считал, что Кирилл из Питера, и объяснял, что Сталинград пострадал больше Ленинграда; Кирилл зачем-то стал рассказывать, почему он тут, кого ищет, образовался кружок слушателей, а подполковник внимал серьезно, накрыв ушанкой стакан, потом выпил, ни с кем не чокаясь, ни на кого не глядя, и вдруг Кирилл догадался, что тезка его – из Восьмого гвардейского корпуса, из бывших подчиненных генерала Рохлина, и он воевал в Чечне, и для него воображаемый Кириллов двоюродный дед-офицер, потерянный семьей, – как побратим, как тот, кто не вернулся из его боя.
Еще рюмка коньяка – и Кирилл думал просить пощады; за окном уже мела метель, теплая многоснежная метель, за несколько часов наступила оттепель – она-то, еще неощутимая, и ослабила спайку льда на крыше, отправила ледяные глыбы в полет. Вдруг подполковник насторожился, стал осматриваться, пытаясь расслышать в громком, но дружелюбном гомоне выпивох какой-то звук тревоги; схватил бушлат, ушанку, поволок за руку Кирилла на улицу.
Мягкая метель скрадывала звуки, рассеивала их, поглощала, но теперь и Кирилл слышал нечто: дальний рокот, скрежет металла, тянущие скрипы больших металлических шестерен; будто за стеной метели – разгулявшейся метели, стирающей дома, слепящей фонари, крутящей вихри снега, развоплощающей фигуры прохожих, съедающей горящие буквы вывесок, – какая-то древняя сила явила себя.
Они с нарастающим гулом вышли из метели – танки, старые тридцатьчетверки, поднявшие длинные узкие стволы. За снегом не было видно, управляет ли танками кто-то, торчат ли головы в шлемофонах из боевых люков; только желтый свет фар, слитное движение, сизый солярный дым и орнамент гусениц на снегу. Кириллу показалось, что он наконец-то провалился в колодец времени, ибо незримая рука убрала все машины с улиц, стерла прохожих, и только мигающие прерывистым желтым светофоры показывали, что мир – еще этот, а не тот.
Танки шли, поворачивая направо, на площадь Павших Борцов, к универмагу, где в подвале советские пехотинцы взяли Паулюса вместе со штабом.
Подполковник схватил его за рукав, поволок по тротуару вслед за танками – туда, к Вечному огню у штыка-обелиска, к пламени сталинградской преисподней, огражденному, опоясанному, чтобы не вырвалось, ритуальным кольцом бронзового венка.
– Головешки, головешки, – шептал подполковник. – Они были как головешки. Тогда, в Новый год. С тех пор я не могу видеть пламя. Шашлык есть не могу. Сразу вижу это. Но, но… раз в год… Я уезжаю далеко. Один. В деревню, где родился. Деревни нет уже, три дома только еще стоят. Там у меня есть поле. Там мы детьми жгли костер, когда лошадей пасли. На берегу реки. Чистой, хорошей реки. И вот там… Я сучья собираю. И жгу костер. Просто костер. Один под небом. И мне кажется, что мне становится легче.
Подполковник замолчал, осоловело глядя в жерло Вечного огня. Кирилл чувствовал чугунную усталость; но сквозь нее пробивался неясный образ, подсказанный словами подполковника. Танки ушли в метель, будто и не было их, снег замел следы гусениц, и только тут Кирилл понял, что это была репетиция парада к годовщине окончания битвы; а подполковник вспоминал свое – первый, зимний штурм Грозного на переходе из девяносто четвертого в девяносто пятый, когда чеченские гранатометчики сожгли вошедшие в город без прикрытия танковые колонны.
Кирилл посмотрел на себя. У него было чувство, что он побывал в бою, – еще саднила щека от ледяной шрапнели, и плескалось в жилах, перемешанное с алкоголем, ликование счастливо разминувшегося со смертью.
Священник, Офицер и Солдат-калека, неожиданно вспомнил он; Кирилл ощущал, что разгадка ребуса стала ближе.
* * *
Было около трех. Темнело. Над высоким берегом, над дальними домами города занималась безрадостная зимняя заря. По замерзшим песчаным застругам бежала, словно стремясь успеть на закат, редкая крупяная поземка; белый, бежевый песок застыл рифлеными мелкими волнами. На темной стремнине реки плясали белые барашки.
Кирилл собрал кучу плавника, веток и бревнышек, похожих на серые гладкие кости. На одном бревне уцелел лоскут бересты на растопку. Пламя скрутило бересту огневыми судорогами, потянулся дымок, и скоро уже весь сложенный шалашом плавник бездымно горел, вытянув к темнеющему небу яркий, тихо гудящий язык пламени.
По замерзшему песку протянулись длинные тени от кочек и кустарников; свет огня раздвинул пространство, сделал еще более далеким город на севере, противоположный берег реки, но приблизил лес, принизил, почти опустил на плечи, мутно-слюдяное небо.
Кирилл стоял, глядя на огонь; он любил пламя, любил вот такие одинокие костры на краю мира, но сейчас не понимал, что делать дальше, куда смотреть – в небо, в воду, в песок, в лесную чащу, где искать знаки. Ледяной ветер раздувал огонь, дрожали алые угли, пламя винтовыми движениями обвивало поленья и бросало на юг, север, запад и восток сполохи света: как маяк.
Кирилл остро чувствовал сумрачность леса. Выросшие на плодородных речных наносах, корчащиеся в наростах, увенчанные шарами омел, деревья, гигантские тополя, ивы, дубы; внизу – густые переплетенные кусты; казалось, что Творец расписывал тут карандаш и все завитушки-загогулины обрели древесную плоть, стали ломаными линиями стволов.
Вдруг он увидел себя, стоящего на берегу у костра, – глазами леса, темными зрачками чащи. И понял, что смысл костра был не в том, что кто-то придет на его свет, а в том, что свет сделает видимым его, Кирилла, – для тайных жителей замерзших лесов, для призраков, для тех, кому не обязательно находиться рядом, на острове, кто может видеть издалека. И на мгновение ему показалось, что переменился рисунок теней, будто тот, кто стоял там, ушел, скрылся в глубине чащи. Костер догорал, ветер бросал на песок серые, мертвые лепестки пепла, над городом исчез последний блик заката.
Кирилл чувствовал, что его заметили. Он позвонил. Он не зря добирался сюда на моторке, не зря выбрал этот остров, называющийся Голодный, огромный слоеный пирог речных наносов, делящий пополам русло Волги. Река столетиями строила его из собственных отложений, размывала и создавала вновь, прикусывала обваливающиеся берега. По отношению к городу – географически – он как бы дно, собирающее, впитывающее все, что город исторгает из себя, – мусор, стоки; во время битвы здесь оседали ее шлаки – кровь, нефть, копоть, все, что вымыли ручьи весны сорок третьего из развалин, где были перемешаны камень, плоть и железо. Остров как губка, его мягкие илистые слои подобны древесным кольцам, хранящим память о жестоких зимах, пожарах, извержениях вулканов.
И, стоя на этом пористом, податливом, готовом легко вбирать и отдавать речном материке, Кирилл чувствовал под ногами обожравшуюся утробу ила, вспученное жабье брюхо – надави, и полезет наружу студенистая, с черными зрачками, икра, или переваренные насекомые, поблекшие опахала бабочек, костяные рапиры кузнечиков, поблескивающие вялой прозеленью рыцарские латы жуков, мелкая чешуя комариных крыл…
Он, получается, надавил – не в буквальном смысле, – и остров мертвых исторг ответ. Огонь отбросил тени, и эти тени вели в прошлое.
Наутро Максим обещал провести его в запасники музея Сталинградской битвы. Кирилл не слишком хотел идти, его угнетала советская белая башня скорби, где на нижних этажах в сумраке, который не разгонишь и вспышкой фотоаппарата, пылятся экспонаты – оружие, форма, боевые листовки, знамена, карты. Внизу профанный мир вещей, а наверху, на седьмом небе, куда ведут винтовые лестницы, – на небесном куполе написана панорама битвы от первого до последнего дня, замыкающая время в кольцо. Главная истина памяти была доверена не реальным предметам, а кисти художника, поместившего на картину местночтимых святых битвы, мучеников, героев, чьими именами названы новые городские улицы – там, где они бросились с бутылкой зажигательной смеси под танк или погибли на снайперской позиции.
Но при этом Кирилла всегда особенно волновали запасники – как особые места, где обитают дублеры истории, те, кому не хватило шага, шанса, одного погибшего вышестоящего начальника, чтобы выдвинуться в полководцы и герои. Места, где хранятся идеи, не покорившие мир, ружья, не имевшие достойной цели, полотна, что могли бы висеть в галерее – если бы гений не превзошел их в мастерстве; иначе говоря, вся черновая работа мира, все его неудачники, все, кто был вторым, третьим, четвертым, пятым – за Колумбом. Зная и принимая свою вторичность, Кирилл чувствовал, что эта среда ему сродственна и потому в ней ему будет легче ориентироваться, считывать поисковые знаки.
Кирилл долго бродил по запасникам, продвигался дальше, в полутемные закутки, пока не уперся в тупик. В углу стояли картонные коробки; из одной торчали старинный витой подсвечник и бинокль в кожаном чехле, из другой – рукоять кинжала или короткого палаша. Рядом была прислонена картина в золоченой раме, охотничье ружье, фотоаппарат на треноге; поверх коробок лежали шинель и парадный китель с полковничьими погонами; на кителе тускло – их давно не чистили специальной пастой – светились ордена и медали: Красное Знамя, Красная Звезда, орден Александра Невского, орден Богдана Хмельницкого, орден Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Берлина» – и прочие, послевоенные, юбилейные, еще десятка два.
– Это нам приносят, – сказала музейная хранительница. – Когда ветераны умирают. Такие вещи интересные попадаются! Недавно внук одного генерала целый десантный бот привез, немецкий. Нашел у деда в гараже. Им, генералам, отдельные участки земли давали в городе, некоторые дома еще сохранились…
– А можно эти вещи посмотреть? – спросил Кирилл.
Наверное, он бы не заинтересовался награбленным наследством ушедшего фронтовика. Но рукоять кинжала с прямым крестом гарды, с литым навершием в форме оскаленной волчьей головы, с темными гранеными каплями гранатов на кончиках крестовины внезапно напомнила ему о коллекции холодного оружия, собранной Железным Густавом, знаменитом солнце мечей. Кирилл легко мог объяснить себе, зачем неизвестный полковник привез из Германии трофейный фотоаппарат, ружье, даже подсвечник, – как символы буржуазного достатка, – но рыцарский кинжал не укладывался в стандартный портрет, требовал какой-то дополнительной черты характера, возможно, удивлявшей самого носителя и не угаданной пока Кириллом.
– Ну это же еще не экспонаты, – ответила смотрительница. – Глядите. Я сейчас свет включу.
Под потолком вспыхнула цепочка ламп.
– Полковник Владилен Иванов, – сказала смотрительница, мимоходом глянув на бумажную бирку, приклеенную к коробке. – Участник Сталинградской битвы.
Но Кирилл ее не слышал.
Он смотрел на картину в золоченой раме. Парадный портрет полковника в том же мундире, что лежал сейчас перед Кириллом, с теми же орденами; рисовал, наверное, какой-то местный живописец, мастер жанра, набивший руку на генеральских полотнах, но не брезговавший и чинами пониже, умевший образить лицо, придать ему уместный колорит нестареющий мужественности. Но это лицо не нуждалось в ретуши; на Кирилла смотрело лицо прадеда Арсения Швердта, в котором узнаваемым образом собрались и Бальтазар, и Андреас, и Железный Густав; рано полысевший высокий лоб, короткие густые усы, вся совокупность черт, что были и в фотокарточках Глеба и Бориса.
– Очень интересная биография, – продолжила смотрительница. – В Гражданскую потерял родителей, был сыном полка. Я его знала. Он жил тут неподалеку.
Стараясь не выдать волнения, Кирилл спросил:
– А можно узнать поподробнее про этого человека? Уж очень лицо характерное, настоящее, солдатское. Русское лицо, – добавил Кирилл, как бы проверяя, одному ли ему известен секрет.
– Русское, вот уж точно, – ответила хранительница, подобрев, наклонившись к портрету. – Коренной сталинградец, – повторила она не к месту. – Владилен Петрович, ну вы знаете, Владилен – Владимир Ильич Ленин сокращенно. Про него наши журналисты не раз писали. А еще он автобиографию оставил. Внуки переезжали, квартиру продавали, а вещи все сюда, к нам, передали…
– А биография? – спросил Кирилл.
– Тоже у нас хранится, – степенно ответила дама. – Можете копию сделать, бумага в хорошем состоянии.
Бумага действительно была в хорошем состоянии. Владилен, наверное, купил стопку самой дорогой, чтобы совершить торжественный, парадный акт изложения собственной жизни, – какое различие с выжелтелыми, мятыми, рваными, подернутыми тлением бумажками семейного архива!
Кирилл поразился почерку – ровному, будто взятому из школьных прописей; почерку вечного первого ученика. Таким нужно писать грамоты, заполнять наградные листы: ни малейшей неточности, из-за которой можно спутать буквы, ни беглости, ни завитушки не в ту сторону, неловкого перехода между буквами, лишней черточки; ничего уязвимо индивидуального, человеческого, ничего лишнего, – Кирилл почувствовал зловещий смысл этого словосочетания.
И правда – в биографии Владилена, человека без родства и прошлого, не было ничего лишнего. Даже грамматические ошибки – написал «дислАцированы», «воодушевлеНый», «ослаблеНый», «не смотря» вместо «несмотря», – были уместны, даже необходимы, поскольку как бы подчеркивали, аттестовали здоровую крестьянскую или пролетарскую закваску его происхождения, убедительно доказывали, что перед нами именно настоящий, правильный советский человек соответствующей эпохи.
Вечером Кирилл прочел рукопись.
Маленький Михаил в Царицыне остался на попечении калмычки-кормилицы; полковник Владилен Иванов в своей биографии писал, что его приемным отцом был командир из красных частей, защищавших Царицын; наверное, кормилица Найха встретила кого-то, кого могла обязать долгом сохранить жизнь ребенка.
Сама Найха погибла или умерла потом – Михаил-Владилен упоминал в биографии, что тщетно пытался разыскать ее. Но почему же она не передала настоящее имя ребенка, кто его родители, где их искать? Михаил-Владилен писал, что настоящие его отец и мать «были из рабочих и погибли, защищая Царицын от белогвардейцев», – эту легенду с легкой руки Найхи ему пересказал приемный отец или он сам сочинил ее, будучи волен придумать себе какое угодно прошлое?
Прадед Арсений искал своего сына в калмыцких кочевьях; но к тому времени офицер, усыновивший Михаила, был отправлен в Высшую военную академию РККА в Москву. Три года отец и сын жили в одном городе; возможно, военный врач Швердт даже встречал того офицера. А потом аттестованный командир роты убыл в Среднеазиатский военный округ, где и погиб в Таджикистане в бою на границе.
А Михаил – к тому времени уже Владилен Иванов, по приемному отцу, – был зачислен в штат пограничной части сыном полка, закончил военную школу в Ташкенте. С особенной гордостью он сообщал о том, что в школе был – вполне в духе времени – театральный кружок, пьесы для которого писали сами курсанты, и он, дважды сирота, подкидыш, играл в спектакле про Революцию (слово «революция» Владилен писал только с прописной буквы) – Новое Время; наряженный кумачовым Красным Октябрем, он прогонял штыком со сцены Старый Алфавит, представленный бутафорской буквой Ять, Старый Календарь, нарисованный на плакате, Капитал во фраке и цилиндре, Религию – толстобрюхого попа с кадилом из ночного горшка, и собственно Старое Время, наряженное в монаршую мантию.
Две недостающие недели прадеда Арсения; жестокая война времен и календарей, разделившая Россию; и вот его сын, того не ведая, гонит штыком отца…
Владилен получил лейтенантское звание, служил в Средней Азии, участвовал в стычках с басмачами. В сорок первом году попросил отправить его на фронт, но был оставлен при училище; наверное, только потому и уцелел, что просидел там время отступлений и окружений, время, когда гибли армии и фронты. И лишь когда немцы подходили к Сталинграду, его назначили в недавно сформированную часть. Ставка стягивала к городу на Волге войска, новые танки, артиллерийские системы – и вьючных верблюдов; на дальнем севере ненцы забивали оленей на мясо для солдат, на юге кочевники резали овец на полушубки и рукавицы; и все это древними речными, караванными путями, что были много старше России, двигалось в Сталинград.
Владилен с детства знал Царицын и поэтому, наверное, выжил в битве; начал ее командиром взвода и закончил командиром батальона. Форсировал Днепр и Одер, воевал в Берлине, вышел в отставку полковником в пятьдесят шестом. Единственный прожил жизнь без помарок, никого не потерял, после войны женился, родил двоих детей, стал депутатом райсовета, а потом и горсовета, членом совета ветеранов; кажется, даже переулок хотели назвать его именем, но предпочли другого; получил четырехкомнатную квартиру в самом центре; не сдал партийный билет в девяносто первом, ходил на митинги коммунистов, умер при Путине, на год пережив жену; дети поставили аляповатый памятник на кладбище и начали свару за наследство – ту самую квартиру на проспекте Ленина, стоящую теперь многие миллионы.
Кирилл читал текст двоюродного деда – и не понимал, кого, собственно, он рассчитывал найти. Текст был, а человека не было: производная от времени.
Священник, Солдат-калека, Офицер – вспомнил он странную троицу попутчиков, двух живых и одного мертвого.
И вдруг почувствовал, что Михаил-Владилен, чья биография строилась на противоборстве с немцами, человек одной стороны, нуждается в ком-то еще, чтобы его образ получил должный объем.
Из тех троих Владилен очевидно был Офицером; но как фигуры на шахматной доске нуждаются друг в друге, Офицер нуждался в Священнике и Солдате-калеке; только они могли так обрамить, осветить, поставить под верный угол зрения его судьбу, чтобы стал ясен ее провиденциальный смысл.
Сначала Кирилл поспешно думал, что две другие фигуры найдутся здесь же, в Волгограде.
Священника он искал в Сарепте, в церкви бывшей немецкой колонии, уцелевшей в сорок втором попустительством бога войны. Но нашел лишь братскую могилу красноармейцев – во время Сталинградской битвы в колонии стоял советский госпиталь, – три тысячи человек под гранитным штыком-обелиском, а вокруг, квадратом, немецкие кирха, аптека, склад, торговая лавка, общежительные дома, мастерские, амбары, где «мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало»; страшный, намертво сцепленный, замок совместной истории, место, застывшее в судороге неодолимого противоречия, не убитое, но и не могущее ожить.
Ходил к Ленину, к бетонному истукану, стоящему на стрелке Волги и Волго-Донского канала, проложенного немецкими военнопленными, к самому большому Ильичу в мире – в честь него получил свое второе имя Михаил Швердт, ему был посвящен, – вдруг что-то откроется там, на берегу, под сенью монумента? Но было пусто, двигались в отдалении речные текучие миры, и день молчал. Ездил он и в дальнее Заволжье, в степи, где были лагеря военнопленных; но там были только занесенные снегом пустоши, царство ветра.
Кирилл сходил туда, где жил Владилен, где на четвертом этаже были окна проданной теперь квартиры, выходящие во двор, некогда блиставший под солнцем яичной краской стен. Краска облупилась, гипсовые орнаменты проела вода, падающая мимо покосившихся водосточных труб; балконы накренились, выпавший цемент обнажил их арматурные костяки. Максим рассказывал ему, что эти кварталы строили в первое десятилетие после войны, когда город еще задумывался как храм Сталина, а не храм Битвы, и потому на стенах не было военных символов: только пышные снопы, виноградные грозди, корзины фруктов – образы послевоенного ветеранского рая, воплощенная греза. И Кириллу казалось, что эти дома и разрушаются не по законам распада материальности, а по законам разрушения грезы – скоротечно. Тут не было Владилена – только многоликий призрак ушедшего поколения, которое начало войну сержантами, лейтенантами, а потом превратилось в сакральные фигуры, в героических предков, чьей кровью оплачен каждый вздох и шаг молодых.
Только в последний день Кирилл поехал на Мамаев курган; он опасался этого места – как слишком яркого, слепящего прожектора. Он поехал на трамвае, подземном трамвае, ходящем по тоннелю, как поезда метро; обманулся – сел в тот трамвай, что, как он думал, идет к кургану, но трамвай повез его в обратную сторону.
Странный трамвай, где перепутаны лево и право; и Кирилл подумал, что в этом городе вообще все перемагничено диким напряжением битвы, изменены полюса, трамвай идет по правилам левостороннего движения, а Родина-мать с мечом географически стоит так, будто поднимает немцев в атаку.
Здесь точка разворота судеб и времен на 180 градусов, точка смены плюса и минуса, низа и верха, всех значений.
Отсюда – бытовая мифология, треп про линию разлома тектонических плит, про геопатогенные зоны; отсюда – советское пропагандистское травестирование, фото замерзающих немецких солдат в женской одежде – немцы обабились, а русские возмужали; отсюда – Ника Сталинградская, ревностная богиня с лицом, искаженным оргазмом смерти, оставляющая обреченные войска Паулюса и навсегда переходящая к превозмогающим русским; не Родина-Мать – в советской культуре мать асексуальна, неженственна, – а неимоверно, страстно желанная Богиня Победы, впервые в ту войну понесшая в Сталинграде от советского штыка; фаллические штыки, гранитные стелы, выросшие как грибы из братских могил, тщательно, подчеркнуто прорисованные на фресках кургана длинные, толстые стволы орудий, танков, винтовок, – Кирилл впервые ясно ощутил дух вакхической солидарности, языческого экстатического опьянения оргией Победы, закодированный в памятниках; дух того не-христианского преображения, что сделал Михаила Владиленом-победителем окончательно.
Кирилл поднялся по длинной лестнице мимо гипсовых и бетонных солдат, вросших в рукотворные кирпичные руины, несущих раненого товарища, повергающих ощерившегося змея, – сквозь зал памяти, где белая рука, растущая из-под земли, держит факел, – к знобкому подножью статуи, к мощеной, идущей зигзагом тропке, вдоль которой сверкали синими мерцающими глазками лабрадоритовые плиты первых героев, лучших из лучших, – тех, чьими жизнями был вымощен путь к победе. И тут, на ледяном ветру, пахнущем окалиной, летящем с севера, со стороны заводов, где в разрушенных цехах проходила когда-то сквозь стены, трубы и печи линия обороны, – Кирилл остановился.
Чтобы одни победили, кто-то другой должен был проиграть; чтобы Владилен стал другим, кто-то еще должен измениться, историческое пространство для изменения не возникает просто так, оно непреложно требует взаимности, ответных шагов; необходим тот, кто упустил победу – и понял то, что не дано понять победителю; Немец-священник, немец – Солдат-калека, сводное альтер эго Владилена-Офицера, ставшего воином-победителем потому, что кто-то другой перестал им быть.
И Кирилл понял, что судьба Священника, Солдата-калеки отыщется как бы сама собой, позже и не здесь; а отсюда, с высоты, где было повернуто время войны, где одна сторона обрела будущее, а другая его потеряла, ему было видно тех, кто не дожил до этого часа. От спасшегося Владилена Иванова его мысль обратилась ко всем погибшим Швердтам.
* * *
Кирилл был поражен, как мало бумаг осталось от двадцатых и ранних тридцатых, когда семья вроде бы выбралась на берег нового времени, прижилась в новой стране.
Да, отца Софьи, священника, сослали на Соловки, откуда он не вернулся, однако никого больше не тронули; все-таки отобрали усадьбу – но удалось сохранить две комнаты в бывшем особняке Густава. Дети учились в школе, потом – все-таки отец был красным командиром – поступили в институты, в училища.
Казалось бы, в этом времени нечего было скрывать, незачем жечь потом бумаги, – а сохранилось буквально два-три листка, меньше, чем от времен более поздних и более опасных.
В усадьбе хватало места всем, и семье, и родне. В двух комнатушках, разгороженных внутри большой старой комнаты, семейство уже не помещалось. Так началось рассеяние, разбегание, разлет; взрослевшие дети перебирались в углы к знакомым, на съемные клетушки; некогда Арсений раздал детей в разные города – и те же силовые векторы растаскивали их дальше, семья, в которой что-то не сцепилось, не скрепилось, быстро рассыпалась.
Письма были редки. И Кириллу нарисовался какой-то общий предмет молчания, какой-то слон в гостиной, которого все стараются не замечать; это была собственно жизнь, в которой у каждого возникали свои пути, своя мера лояльности советскому строю; это-то, самое главное, никто и не обсуждал. Арсений, думал Кирилл, мучился тем, что не успел, не вытащил семью, – и бессильно наблюдал, как отчуждаются дети. Он сам далеко ушел по советской стезе, так же служил военным врачом, но, кажется, так и остался – внутри – заложником двух недостающих недель.
Арсения арестовали в тридцать седьмом году, в октябре.
Кирилл ездил в архив, держал в руках его следственное дело. Он видел и такие, в которых было шесть-семь листов – постановление о возбуждении, протокол единственного допроса с «признательными показаниями», приговор; но у прадеда в деле было почти сто страниц, неслыханный объем для осени тридцать седьмого, когда расстреливали по числу, по лимитам. Кирилл ожидал, что будет рыдать, но перекипел в ожидании, и глаза остались тревожно сухими.
И в тридцатые Арсений с Софьей жили в старом особняке Густава, который когда-то принадлежал семье целиком. Дети снова были в разных городах, одна только Каролина осталась в Москве, но и она избегала прежнего жилья, не любила приходить туда в гости.
У Арсения была охранная грамота от Аристарха, заверенная главной печатью ВЧК, где написано, что Швердты «всеми силами содействовали делу революции». Грамота не спасла Андреаса, но потом показала свою силу, выручила во время арестов двадцатых, когда «бывших» уже во множестве забирали, обвиняя в участии в вымышленных заговорах, – правда, пока не трубя об этом в газетах, освещая только отдельные процессы.
Аристарх так и не вернул себе настоящее имя, остался Аристархом Железновым (как Джугашвили – Сталиным и Розенфельд – Каменевым). Вовремя, еще до октябрьского переворота, перешедший от эсеров к большевикам, в Гражданскую войну он не попал в первые ряды, не значился в опубликованных сводках с фронтов. Однако по косвенным источникам Кирилл понял, что Аристарх вместе с перешедшими на сторону красных военспецами выстраивал разведку Советов на восточном направлении.
Кирилл знал, что наряду с идеей перекинуть пожар революции на Запад, в Европу, окончившейся польским походом Красной армии в двадцатом, у части большевиков была полумистическая мечта о Востоке, ожидание, что новые республики Страны Советов возникнут именно там. Кажется, Аристарх стал адептом этой мечты; работа в восточном секторе разведки, не считавшемся, видимо, самым важным, спасла его от первых чисток.
Но в 1937 году Аристарх был арестован; эту информацию Кирилл нашел в биографическом справочнике. Его обвинили в сотрудничестве с японской разведкой; Германия и Япония готовились подписать Антикоминтерновский пакт, и следователи начали искать в окружении Аристарха немецкий след, чтобы приписать ему роль тройного агента.
И след – единственный – нашелся в лице Арсения Швердта, военного врача, бывшего офицера царской армии, бывшего дворянина, родственника влиятельных немцев-капиталистов, связанных с делом Мясоедова; бывшего офицера, служившего в русско-японскую войну, бывшего в японском плену и обвиненного командиром полка в предательстве (все соответствующие бумаги заботливо сохранились в военных архивах).
Не судьба, а подарок следователю, подумал тогда Кирилл. Арсений слишком поверил в силу охранной грамоты – как клирик верит в силу реликвии, достоверно умеющей исцелять.
Аристарха допрашивали несколько месяцев, прежде чем начать аресты в его окружении, ближнем и дальнем; а потом прошлись частым гребнем в одну ночь.
Каролина в ту ночь долго задержалась на работе; близилась годовщина революции, и нужно было писать сценарий для выступления самодеятельности. Каролина всегда отличалась способностью быстро написать любой, самый тугой текст, которому противятся душа и сердце; а тут заколодило, пишущая машинка сломалась, и слова не шли, а в голову лезли анекдоты про первого советского вождя. Последний трамвай в сторону дома она упустила; увидела только огоньки хвостового вагона. И пошла ночевать к отцу и матери; рядом с работой жила подруга, у которой Каролина обычно и оставалась в таких случаях, но у той закрутился роман, а комната была одна…
Фонари у особняка горели скудно, один в начале переулка, другой в конце; не слышно было транспорта на Садовом кольце. И Каролине показалось, что время прозрачно, как вода, так же податливо, и она может войти сейчас в особняк своей юности, где на втором этаже не жилконтора, а кабинет Железного Густава.
Она поднялась впотьмах по лестнице в родительские комнаты, что раньше им и принадлежали (чужой мир теперь начинался за дверью спальни, а не за порогом дома, но сами комнаты, островки былого, никуда не двинулись, не делись), – и во тьме, в абсолютной тьме сквозь новые запахи и чад чужих жизней почуяла старые запахи-призраки, которые просыпались тогда, когда новые засыпали; запах букового паркета, льдистый запах мрамора на лестнице, тонкий запах шелка, оставшийся на месте портьер, пущенных новыми жильцами на белье много лет назад…
Отца еще не было дома – как обычно, консилиум в госпитале. Мать предложила чаю, пожаловалась, что, наверное, что-то у нее случилось со зрением – никак не может продеть нитку в иголку. Каролина сказала, что сейчас проденет, – и тоже не сумела, то ли руки мелко дрожали, то ли нитка была заколдованная. И почему-то эта нелепость с иголкой сбила мать и дочь с толку, будто у них вышел какой-то стыдный конфуз и нужно будет о нем сообщать Арсению.
Тот возвратился около трех, приехал на разъездной госпитальной машине, от персональной с шофером он отказывался. И вдруг Каролине стало так неохота оставаться, какую-то окисляющую, разъедающую тоску нагнал на нее родительский дом, вид отца в красноармейской шинели в тех же стенах, где раньше он ходил в другом сукне, с другими погонами, – что она попросила, чтобы водитель отвез ее, дескать, дома гранки важной книги. Все вышло скомканно, неловко, Арсений всегда был против таких услуг родным, мать не понимала, почему дочь так внезапно сорвалась, а она, повинуясь странному позыву бегства, спешила вниз по лестнице, и милые призраки детства казались ей зловещими шантажистами, явившимися напомнить, что и она – такой же кентавр, как отец, она помнит бал в этом особняке, свое детское бальное платье, поздравления ко дню рождения, начинавшиеся со слов «Ея высокородию Каролине Швердт…»
Машина рванула с места, шофер спешил домой или хотел «с ветерком» прокатить дочку главного врача. Побежала навстречу дорога с редкими фарами встречных машин, казавшихся зверьми, желтоглазыми, красноглазыми, с оскаленными решетками радиаторов. Среди этих машин был и «воронок», в ту же ночь увезший отца, которого она больше никогда не видела.
В родительском доме она оказалась на следующий день; обыск закончился, и мать позвонила ей на работу.
Уже много лет она бывала у матери и отца гостем, во всяком случае не заглядывала туда, куда имеют допуск лишь домашние: в шкафы и буфеты, в сундуки, чемоданы, чуланы, кладовки, в ящики письменного стола, конторки, кухонные полки; только лишь отцовская библиотека по-прежнему была ей открыта: она много читала и всегда брала книги у Арсения, это было их не иссякающей связью, тайным выражением любви.
Но и библиотека сменила свою физиономию, часть книг, самых ценных, досталась перекупщикам в голодные годы Гражданской войны, а уцелевшие старые тома на немецком – много сотен, – раньше стоявшие в отдельных шкафах, теперь встали вторым рядом, заслоненные книгами на русском: Арсений не только отказался от немецкого в доме и на работе, но и пожертвовал некоторыми любимыми вещами – портсигаром, часами – немецкого происхождения. Каролине это не казалось странным, но именно в случае библиотеки она чувствовала, что совершилось предательство; и нарочно просила книги на немецком, чтобы заставить отца хоть на время отомкнуть их темницу, пусть одну, но выпустить на свет.
При поверхностном взгляде на жилье родителей Каролине казалось, что старые вещи остались в старом времени. Менялась одежда, пропадала старая мебель – видимо, ее сдавали в комиссионные магазины, – и повседневные мелочи вроде сахарницы, щипцов для завивки волос, обувной щетки, зонта, половиков, сумок тоже выбывали одна за одной, заменялись новыми, нового фасона.
Потом и само время старое иссякло, сломались старинные настенные часы с кукушкой. Арсений отправился к известному часовому мастеру, который еще с прошлого века ухаживал за всеми часами семьи Швердт, за бесценным хронографом Железного Густава, за дамскими часиками, за напольными с маятником, что стояли у Густава в кабинете; но не нашел ни умелого мастера, ни его мастерской, – на ее месте обосновался Торгсин, и его приняли за «бывшего», желающего сбыть часы, сообщили, что приносить следует только золото, драгоценности, картины.
Но не так смутило Арсения это недоразумение, как само исчезновение часового мастера, владыки времени, незыблемого, как Москва, ведь при любом режиме люди будут носить часы; что-то пропало вместе с этим человеком, настраивавшим часы семьи так, что они шли секунда в секунду, и с той поры никогда больше часы Швердтов не показывали одинаковое время.
Итак, Каролине казалось, что старых вещей в доме почти не осталось, их победила вторгшаяся орда кургузых уродцев, настырных, опростившихся, как попрошайки.
Но когда обыск вывернул наружу все потроха, все секреты дома, она увидела, что на самом деле все ее детство, заключенное в вещах, сохранилось. Каролина даже не могла представить, как много предметов поместилось в шкафы и чулан, было упрятано, увязано, стиснуто, сжато, сдавлено – иначе не влезли бы в ящик, – а теперь это давление словно обратилось взрывом и разбросало их по комнатам в диком беспорядке, ранящем еще и нарушением бытовых правил совместности, надругательским смешением всего со всем.
Нижнее белье и письма, обувь, книги, пальто, посуда, ткани и нитки, документы, письменные принадлежности, фотографии, столовые приборы, шляпы – все валялось на полу, пересыпанное прелым скомканным пухом из вспоротых перин и подушек, как будто тут убили и ощипали большую птицу, жирного гуся.
И все эти вещи – царские погоны отца, старый немецкий сонник матери, фарфоровые сусальные ангелочки, немецкий алфавит, по которому Каролина училась в детстве, жестяные коробки из-под конфет, где хранилась всякая мелочевка, с немецкими надписями; письма на немецком, книги на немецком, немецкие гравюры, немецкие учебники по хирургии – все эти вещи в глазах следователей ясно говорили, кто тут живет, как будто было недостаточно фамилии Швердт, чтобы уличить, обвинить и приговорить.
Кирилл держал в руках следственное дело прадеда; дело Аристарха Железнова, кадрового сотрудника органов, ему не дали, оно до сих пор было засекречено, не помогли ни протекция, ни обещание взятки.
Аристарх на допросе сообщил, что встречался с Арсением Швердтом, получая от него шпионские донесения; что они оба были агентами немецкой разведки еще до революции и именно поэтому он выдал Швердту охранную грамоту от имени ВЧК.
Кирилл открывал страницы подшитых показаний. Видел, как от даты к дате менялась подпись Арсения – скорее всего, прадеда били; полтора месяца в допросных казематах – и он подписал все.
Кирилл знал, что он тоже бы сломался, и, скорее всего, сломался бы раньше. Он рассматривал как подвиг саму длительность безнадежного сопротивления, сам факт, что дни и недели Арсений все-таки держался, пусть и сдался в конце концов. Но то время, пока он не сдался, отмеренное страницами дела, стало для Кирилла посланием: не надеяться, но терпеть.
Родным сообщили, что Арсений получил десять лет без права переписки; на самом деле он был расстрелян в декабре того же года, и тело его сожгли в печи Донского крематория.
Братья Глеб и Борис, оба уже красные командиры, получили срочные телеграммы об аресте отца в один день. Глеб был капитан-артиллерист, служил под Киевом, Борис был майор танковых войск, и часть его стояла под Ленинградом.
Тихий, отчужденный от семьи Глеб. Он, кажется, с детства не мог простить родителям вынужденную трехлетнюю разлуку, ссылку во Владимир к деду-священнику; домашнему властелину, начетчику, в чьем доме дети дочери, ставшей Швердт, жили почти на правах приемышей.
Он дал согласие на брак, рассчитывая, что новые богатые родственники не оставят его и родню своим попечением. Андреас и вправду много сделал для них, взял работать на заводы, устроил молодых отпрысков в университет; но началась война, акции немецкой партии пошли вниз, священнослужители с алтарей были обязаны обличать бесовское воинство Вильгельма-Антихриста, и старый священник приступил к делу с неистовым рвением, представляя вместо лица чужого императора лицо Железного Густава, богатея и чужеверца.
Глеб и Борис были очень похожи, но старик-священник разделил их; полагал Бориса нашенским, семейным, а Глеба – порченым, считая, для удобства своих негибких, не знающих полутонов чувств, Бориса целиком русским, а Глеба полностью немцем.
Поэтому Борису совсем иначе жилось во Владимире, чем Глебу. Но дело было не только в случайности, определившей, кому быть козлом отпущения, и не в младшинстве-старшинстве.
У Бориса был невесомый, струящийся характер, и он умел расположить к себе, безусловно признавая власть взрослых, находя в послушании повод для обретения похвал и наград, хотя и не брезгуя малыми шалостями; характер практический, не склонный к мечтаниям. А Глеб унаследовал некоторые черты Бальтазара-апостола, в первую очередь самостоятельность и готовность к одиночеству.
Характеры и разделили братьев, хотя не истребили братских чувств. Из трехлетнего владимирского сидения Борис привез приязнь ко своей второй семье и насмешливое отчуждение от немецких корней. Примечательно, что деду-священнику не удалось заронить в его душу зерен православной веры, хотя Борис с охотой посещал службы; мальчик оставил православие там, во Владимире, – как отслужившую свое одежду, и впоследствии первым отказался молиться, ходить к причастию и снял крест.
А Глеб, наоборот, стремился к православным таинствам, и дедушка-священник брал его в церковь, видя в православной вере единственное средство спасти онемеченную, отравленную душу. Но храмы, древний Успенский собор или маленькая Сретенская церковь, как бы не впускали мальчика; то он заболеет ветрянкой, заразившись от ложечки с кагором, которой касались чужие губы, то упадет в обморок от духоты и чада свечей. Возможно, Глеб мистически переживал введение во храм, но дед-священник, естественно, видел в происходящем знаки, указующие на истинную, греховную природу ребенка.
Так Глеб вынес из Владимира тщательно скрываемую обиду на родителей – и глубокое, кажется, уже не вполне здоровое желание прилепиться к России, стать более русским, чем русские.
Глеб жил одиноко, можно даже сказать целомудренно; он был выгодной партией – холостой капитан-артиллерист с родней в Москве, и часто женщины хотели женить его на себе, но в основном они были прозрачны как слеза в своих намерениях, и умный, но не ироничный Глеб долго выпутывался из сетей притязательниц.
Борис же недавно женился – на дочери начальника испытательного танкового полигона, где его часть обкатывала БТ-7 с новой башней. Другой, может быть, и не отдал бы дочь за немца, но начальник был родом с юга, детство и юность жил бок о бок с немецкими колонистами и потому немцев не чуждался. Начальник полигонное дело знал хорошо, танки любил – еще в Гражданскую воевал на трофейных «Рено», – но и карьерных мыслей не был чужд; по его рекомендации Борис вступил в партию, и мысленно тесть видел зятя в полковниках, а затем, может быть, и в генералах; молодая жена была уже на сносях.
Глеб попросил у командования отпуск и выехал в Москву.
А Борис прислал срочной почтой письмо: сыном врага народа быть не хочу, а потому от отца отрекаюсь и беру себе фамилию супруги – Морозов. И чужие голоса явно слышались в том письме – голоса тестя и жены. Тесть все время боялся, что его обвинят во вредительстве, конструкторы или заводское начальство могли таким образом списать на него свои недоработки; и конечно, свой страх он передал Борису.
Каролина брата не простила; мать хотела ответно написать, что, мол, живи с Богом по совести своей, но дочь запретила.
Кирилла долго мучила тайна этого предательства. Он понимал, что, скорее всего, никакой тайны нет и Борис поступил так, как сотни, тысячи других отрекшихся от родственников, спасая себя.
Но все же холодное предательство не вязалось с горячей натурой Бориса; к тому же потом, во время войны, он храбро воевал. Кирилл догадался, что храбрость Бориса проистекала не из представлений о чести, достоинстве; это была храбрость, так сказать, коллективная, нуждающаяся в приказе сверху, в горячечном единении атаки; в чуждом враге. А когда врагами оказались свои, арестовавшие отца, – Борис не нашел в себе мужества, ибо его в нем и не было.
Сестра Антонина работала в Ленинграде на режимном заводе, где производили что-то секретное, о чем она не писала и не рассказывала. Она не приехала, но прислала перевод на большую сумму – вероятно, сдала в ломбард последнюю свою драгоценность, бриллиантовые сережки, завещанные ей Железным Густавом. Каролина знала: мысленно Тоня с ней, с отцом. Письмо заканчивалось словами «Шлю тебе свою любовь», – так завершали они послания в детстве, когда Каролина была с отцом во фронтовом госпитале, а Тоня в Петрограде.
Ульяна же приехала, но оказалась только обузой; девочка-запятая, как звал ее в детстве Арсений, так и осталась женщиной-запятой, нуждавшейся в том, чтобы кто-то определил ее на верное место. Отец выбрал ей занятие – фармацевтику, и она работала в Саратове лаборанткой у одного из бывших учеников Арсения.
Но теперь отец исчез. Ульяна, похоже, не вполне понимала, что случилось; хотела идти на Лубянку и просить, чтобы ее арестовали, а отца отпустили.
Объявили приговор: десять лет без права переписки. Софья, оставшаяся без мужа, была твердо уверена, что он невиновен. Она убедила себя, что Арсения арестовали из-за фамилии. Сами эти звуки Ш-в-ер-дт стали в ее сознании отдельной сущностью, Бедой из русской сказки, что способна спрятаться в крестьянскую котомку, проникнуть в дом, навсегда прицепиться к человеку и погубить его.
Когда-то в юности Софья сентиментально восхищалась новой, романтичной и непривычной, фамилией Швердт, видела в ней символ расставания с прежней жизнью, провинциальной средой.
Потом, во время Первой Мировой и Гражданской, Софья уже привычно ощущала себя Швердт; в фамилии появилось как бы новое значение – это она, Софья Швердт, сохранила семью, уберегла в годы бедствий.
Но Арсений, выбравший ее за дар выживания, за способность спасаться во время кораблекрушения, не мог представить, сколь дорого ей обошлись его решение отправить детей в разные города – и невозможность собрать их потом. Внешне она не постарела, но внутри старость готовилась в один момент проявиться интеллектуально и физически.
И этот момент настал.
Еще до приговора Софью выселили из комнат в особняке. Каролина помогла матери прибрать вещи, разбросанные после обыска, склеить разбитое, починить разорванное и сломанное; но целостность ума и тела было уже не вернуть. Раньше Софья втайне верила, что Арсений храним Богом, чему было заветом изумрудное ожерелье, созданное для нее, для будущей невесты, в те дни, когда погибла в Цусиме русская эскадра. И теперь Софья, дочь священника, не могла понять, почему нарушен завет, за что отнят у нее Арсений.
Ожерелье уцелело при обыске, секретный ящичек в старом комоде не обнаружили. Но Софья больше не хотела его видеть – отныне изумруды были символом тщетности упований и надежд.
Она сдала за две недели, ослабела настолько, что перевозить в комнату Каролины ее пришлось на носилках. Смятенный ее разум, прежде деятельный, посмурнел, помутнел, сила его не ушла, но сделалась мрачной, плаксиво-озлобленной. Софья стала подозревать, что Каролина хочет избавиться от нее, сдать в дом престарелых.
Пытаясь понять Божий промысел, Софья обращалась мыслью ко времени девичества, к тем наставлениям, что давал ей перед свадьбой отец, велевший блюсти православие, остерегаться, ибо у немцев своя судьба, ложным богом отпущенная, папой или протестантскими епископами писанная.
Вспоминала она и первую свою поездку на Немецкое кладбище, к предкам мужа: как знобко и чуждо было ей среди каменных крестов, мраморных рыдающих дев, как странно было произносить немецкие имена – и ощущать через них темную вселенную чужого языка, на котором муж говорит легко и просто, а у нее от одних звуков плывет голова, будто надышалась печным угаром.
Софья с возрастающим упорством стала твердить, что фамилия – не семья, а именно фамилия – Швердт проклята и Арсений на погибель себе родился не просто немцем, а еще и Швердтом.
Жуткая ирония заключалась в том, что Софья была права.
Именно немецкая фамилия, выведенная писарским почерком в полковых бумагах, напечатанная в охранной грамоте Аристарха, была главной уликой против Арсения.
Каролина ухаживала за матерью три с лишним года, была ее последней спутницей и сиделкой.
Кирилл знал, что в этом случае происходит со временем жизни.
Оно подчиняется болезни, уменьшается до размера таблетки, иглы шприца, медленно течет из капельницы, вспыхивает рентгеновскими снимками, превращается в мельтешащий почерк врача, оборачивается очередью в кабинет медицинского светила, новыми улицами, домами, где будет еще один госпиталь, еще одна больница. Болезнь показывает тебе город, которого ты не знал, требует еще поездок, ожиданий, улиц, автобусов, фонарей; в этом городе нет театров, ресторанов, книжных магазинов, музеев, танцплощадок, парков, квартир друзей – только аптеки, поликлиники, диспансеры на выселках, где каждый столб облеплен объявлениями, предлагающими уход за больными, где отчаяние нашептывает что-то про барсучий жир, бабку-целительницу, благодатную икону, где путями скорби скитаются такие же несчастные.
Поэтому Кирилл понимал, куда делись из бабушкиной жизни три с лишним года, почему они – единственные с рождения до смерти – не оставили ничего документального вообще.
Бабушке Каролине было некогда думать, что происходит со страной, угрожает ли опасность ей самой; даже арестованный и пропавший отец был в каком-то смысле пожертвован болезни матери.
Весной сорок первого года Каролину нашла ее деревенская няня, кормилица. Старуха пришла в город выхлопотать себе пенсию и хотела попросить помощи; но, увидев беду, осталась, Каролина выгородила ей уголок в своей клетушке.
Вид и голос няни, когда-то делившей с ней материнство, убаюкали Софью; реже приходили приступы, и даже боли, кажется, не мучали так, как прежде. Софье стало казаться, что она в усадьбе, в Пуще; Арсений, думала она, скоро прибудет из Москвы, прилетит на дирижабле; в начале тридцатых, когда Дирижаблестрой выпускал своих первых птенцов и гремела слава Нобиле, Арсения прочили во врачи одной из экспедиций, что должна была исследовать северные районы, – и теперь Софья, смешав бывшее с небывшим, близкое с далеким, считала, что Арсений всегда отправлялся в деревню на дирижабле.
Вообще в ее речи стало много летучих образов воздуха, и няня, мудро чуткая к таким вещам, сказала: готовится отойти. Няня настояла, чтобы Каролина взяла отпуск и уехала, – ослабевшую мать пугала упорная, неуклонная сила борца с болезнью, выработавшаяся в дочери. И Каролина позволила себя уговорить, нашла временную работу – вожатой в пионерском лагере.
И только накануне отъезда мать велела открыть секретный ящичек в комоде – как только вспомнила о нем, – достать изумрудное ожерелье, последнее сокровище, о котором сестры в девичестве ревниво спорили, кому оно достанется. Повинуясь матери, Каролина надела ожерелье; мать смотрела на нее, будто наряжала на первый бал; а потом отвернулась и кротко заснула. Каролине показалось, что она видит сновидение матери, вечно живущее в лукавых зеленых камнях: беспокойные волны Японского моря, выброшенный на камни крейсер «Изумруд», идущий через Сибирь воинский эшелон – всю цепочку кристаллов памяти. И она сняла ожерелье, убрала в ящичек, испугавшись собственного воровского ясновидения, взгляда в чужое, запретное.
Софья умерла в первые дни войны. Похоронила ее няня, суеверно указав написать на плите девичью ее фамилию – Уксусова, чтобы могильщики не думали, что хоронят немку Швердт.
* * *
Кирилл был воспитан в исторической традиции, для которой начало войны было точкой отсчета нового времени – «двадцать второго июня, ровно в четыре часа». Но бабушка Каролина не оставила воспоминаний об этом дне. Сначала он думал, что она была застигнута врасплох и мало что сохранила в памяти. Но потом догадался, что бабушка прекрасно помнила двадцать второе июня; но хотела бы забыть, потому что с первыми выстрелами на границе она потеряла всех родных: никого из них больше не увидела, и даже могил не осталось.
Капитана Глеба Швердта наверняка отозвали бы с фронта, как и множество других солдат и офицеров немецкого происхождения, после того как в августе 1941-го советские немцы были объявлены предателями, 28-го числа упразднена Республика немцев Поволжья и все ее жители, как и немцы других мест, были депортированы.
Отозвали бы – но не успели, артиллерийская часть, где служил Глеб, уничтожила при отступлении свои орудия, была переформирована и брошена на защиту Киевского укрепленного района. К концу августа немцы форсировали Днепр выше и ниже Киева, обрекая войска УРа на окружение, из которого многие не выбрались – и в их числе капитан Швердт.
Майор Борис Морозов воевал в Финскую, поскольку служил в Ленинградском военном округе, и воевал удачно, выстелил намороженную гать на льду озера, где, считалось, танки не пройдут, вышел в тыл укрепленной финской позиции, которую не могли взять в лоб; получил орден и повышение в звании, был отправлен переучиваться на новые танки прорыва КВ, выпускаемые на Кировском заводе в Ленинграде.
Ему фартило; однако рос внутри него и страх, связанный с этим фартом. Подсознательно он ожидал, что жизнь или Бог накажут его за отречение от отца, – а ничего не происходило, словно он был заговоренный. А еще его жгло, мучило то, что брата Глеба не выгнали из армии, только затормозили производство в чинах; выходит, можно было и не отрекаться?
Об этом он говорил с сестрой Антониной; та втайне от семьи продолжала держать с ним связь, ибо любила его, чувствуя между ними то особое, что бывает между одними братом и сестрой из многих; речь не про роковые влечения плоти, а про степени родства внутри родства, про загадку, алхимию родственной близости.
Насколько Кирилл мог догадываться, первой начала действовать Антонина. Умная, деятельная, но в определенном смысле слепая, лишенная интуиции относительно судьбы, она решила, что не даст повториться тому, что случилось с семьей в Гражданскую: рассеянию. В прошлый раз, судила она, братья и сестры оказались разбросаны, отделены от родителей, и поэтому семья претерпела скитания; теперь, усвоив урок, нужно поступать по-другому.
Тоня, употребив все влияние мужа, постаралась собрать тех, кому не предстояло идти на фронт, вместе. Сестер Ульяну и Каролину, жену брата Бориса Марину и двух его дочерей. И она сумела это сделать – в неразберихе и панике первых военных месяцев; одну только Каролину не сумела отыскать.
В конце мая Каролина поехала вожатой в пионерский лагерь под Минск и вместе с этим лагерем была эвакуирована; загадочный административный механизм отправлял состав с детьми в Смоленск, перенаправлял в Ростов, отсылал в Ярославль.
Никто не был готов к приему эвакуированного пионерлагеря, никто не мог сказать, зачем дети здесь оказались, – и все же чья-то воля толкала состав дальше, заставляла менять паровозы и паровозные бригады, отпускать воду и уголь, продукты. Видимо, часть пионеров были детьми высшего командного состава и партийных начальников, и теперь – даже на расстоянии – властная родительская рука пыталась увести эшелон как можно дальше от фронта.
Тем временем Антонина всех собрала, всем нашла угол и кусок хлеба. Кирилл представлял, какие возможности были для этого необходимы; он догадывался, что муж Тони наверняка был не просто профессор-химик, а работал под контролем НКВД в каком-нибудь особо важном государственном проекте; то, что случилось потом, подтверждало гипотезу Кирилла.
Антонина была уверена, что Ленинград не сдадут. Муж, осведомленный лучше прочих, объяснял ей то же самое: оборонные заводы, база флота, узел коммуникаций; будет трудно, но уж лучше всем вместе, в большом городе, где питание и медицина, зарплата, связи и особый паек; наверное, муж был не слишком рад, что ему на шею свалилась орава родственниц, но Тоню не попрекал.
Даже когда в начале сентября замкнулось кольцо блокады, Тоня еще надеялась отыскать Каролину – ведь вскоре наши прорвут кольцо – и вызвать ее в Ленинград.
Уже шли разговоры, что из города нужно бежать, но секретный институт Тониного мужа работал исправно, паек выдавали, они откладывали припасы впрок; правда, жену Бориса и Ульяну мобилизовали рыть окопы, возвращались они к ночи, уработавшиеся до немоты, а снабжали их всего-ничего: хлеб и кипяток.
Кирилл знал, что еще до блокады множество предприятий успели вывезти в тыл. Почему же, спрашивал он себя, не эвакуировали секретный институт? Забыли? Не сочли первостепенным?
Или все зависело не только от указаний центра, но и от того, чей директор имеет больший аппаратный вес, кто нахрапистей, кто лучше ладит с начальством, кто может надавить на Москву; да и маловато было окно, по времени и по тоннажу, чтобы все в него поместились.
Уже ввели карточки. Сгорели под немецкими бомбами Бадаевские склады. До 200 граммов хлеба сократился паек для иждивенцев и детей, но муж Тони получал продукты в спецраспределителе, и по-прежнему они откладывали впрок муку.
Однажды вечером муж Тони не вернулся с работы. Тоня думала – арестовали. Но наутро в институте узнала, что приехали из НКВД с приказом эвакуировать нескольких особо ценных специалистов; их вывели под конвоем и увезли на аэродром, где ждал самолет.
Бабушка Каролина после войны встречалась с мужем Тони; он сам нашел ее, приехав из Новосибирска. У него, кажется, уже была вторая семья, прошли годы, но он избегал смотреть в глаза, и руки его дрожали.
Он рассказал, что их забрали силой. Конвой предупредил, что попытка избежать эвакуации приравнивается к попытке перехода на сторону противника. Везли их шестерых в бомбардировщике, выдав унты и телогрейки, чтобы не замерзли насмерть; а потом поездом, также под конвоем, в одном купе – на восток, за Волгу, за Урал, в Среднюю Азию.
Начальник конвоя обещал, что семьи вывезут следующим рейсом, что, если будет задержка, им будут выдавать пайки мужей. Но все шестеро понимали, что не будет ни рейса, ни пайков; и все же надеялись, что там, куда их привезут, в этом секретном там, они найдут рычаги, чтобы вызволить семьи, найдут, кого попросить, напишут письмо наркому, позвонят заместителю министра…
Они и звонили, и писали; в декабре один из шестерых удавился, не получив даже отписки, что, мол, в ближайшем времени ваш вопрос будет рассмотрен.
Бабушка не сказала мужу Тони, что через день после того, как его увезли из Ленинграда, Тоня стала вести дневник. И этот дневник уцелел: его сохранила Тонина подруга, пережившая блокаду, последняя, кто видел Тоню в живых.
Кирилл не мог читать этот дневник. Открывал, схватывал пару фраз, пару абзацев и спешил закрыть потертую дерматиновую обложку.
Кирилл мог до головокружения слушать Седьмую симфонию Шостаковича, послушную дирижерской палочке Мравинского. Но один взгляд на страдающий голодной водянкой Тонин почерк, на дегенеративно разрастающиеся буквы, на слипшиеся кривые строчки – писано почти вслепую, в темноте – опустошал весь запас сил.
Тоня была раздавлена исчезновением мужа. Это ведь она собрала всех под его защиту.
И, рассчитывая вселить в остальных веру, она бросилась искать способ эвакуироваться либо получить пайки, работу, надежду. Она звонила, писала, ходила, ждала у дверей, обманом добивалась встречи, умоляла, грозила – и ничего.
Кирилл чувствовал, что эта вспышка активности, скорее всего, лишила Тоню каких-то призрачных шансов в будущем. Люди не любят тех, кто не терпит молча, кто рвется к спасению; и после, голодной зимой, когда жизнь или смерть определяли калории и граммы, Тоня недополучила какую-то малость, горбушку, сахаринку, жиринку – ибо слишком рано обнаружила свою волю выжить, не скрывала ее.
Ну и, конечно, озлобленные голодающие люди стали вспоминать, что Антонина – немка, что сестра Ульяна – немка, и никто уже не учитывал, что лишь наполовину. Немцы стояли вокруг Ленинграда, немецкие бомбы падали на город, снаряды взрывались на улицах, и сама вражеская фамилия Швердт могла воспламенить внезапную ненависть очереди или толпы на остановке.
Кирилл не знал, на каких весах это взвесить, доказуемо ли это, но понимал: если бы Тоня была русской, она бы выжила – или имела большие шансы; немецкость сама по себе не была окончательным приговором, но она обескровливала, увеличивала процент неудач.
Первой не выдержала Марина. Летом она очень хотела в Ленинград, ей нравилась возможность там остаться, закрепиться; теперь она повернула дело так, будто Тоня привезла ее в город против ее воли.
Связи с Борисом не было. Летнее письмо с новостями ушло на старый адрес его части, в городок, где давно хозяйничали немцы; да и части такой уже не существовало. Но Марина была уверена, что Борис жив, и ей мнилось, что он шлет письма, денежные переводы туда, где жили они раньше; их прежний дом остался за блокадным кольцом, на советской территории. Марина с болезненной подробностью описывала воображаемые посылки: сколько крупы там, какие консервы, как тверд под щипцами сахар. Но Тоня не вступала в склоки; еще верила, что муж найдет способ их забрать, – и рассчитывала на заготовленные припасы; подсчитала, что их хватит месяцев на шесть.
И Тоня, и Марина, и все семейство жили еще в советской стране, в привычном городе, пусть и осажденном. Тоня помнила революцию в Петрограде, голод, перестрелки на улицах, грабежи; но теперь, казалось, советская власть стоит крепко. Однако уже были в городе те, кто понимал, что зимой холод и голод осадят каждый дом, каждый источник тепла, и наступит – уже наступает – время, когда власть потеряет контроль над улицами.
Они пришли ночью, четверо мужчин в милицейской форме. Тоня единственная была уверена, что это не милиционеры, не хотела открывать дверь, кричала соседям – напротив жил военный, он был при оружии, – но никто не вмешался.
«Милиционеров» кто-то навел. Тоня уже давно никому не говорила, что копит продукты, что под кроватью спрятаны сахар, гречка, рис, мука. Но в конце лета, до блокады, она по душевной щедрости еще рассказывала о своих запасах знакомым, обещала помочь, если станет худо.
Пришедшие сказали, что велено обыскивать всех немцев и конфисковать ценности; при попытке сопротивления – расстрел на месте. Бандиты видели, у кого забирают съестное: две девочки, три женщины. Тоня и Марина умоляли оставить хоть что-то, хоть муки, хоть крупы, хоть соли; налетчики выгребли все подчистую: вы немки, пусть ваши вас кормят, они тут недалеко стоят.
И Кирилл чувствовал, что если бы у русских забирали, может, и оставили бы малый кусок бабам с детьми; немкам же заведомо ничего не полагалось.
Оправившись от первого шока, Марина начала кричать, что это все из-за них, немок, будь они прокляты; вопли ее были гадки, обвинение – подло; но лучше этот мерзкий скандал, чем молчание; скандал все-таки был явлением жизни.
Через день после кражи вдвое урезали пайки; видно, бандиты знали об этом заранее. Антонина пошла по знакомым, собрать удалось всего-ничего; только давняя подруга ее, Ольга, дочка царского полковника-фортификатора, дала сгущенного молока и обещала потом дать еще; она понемногу продавала через одного скупщика семейные ценности. Если б не тот ювелир, ее бы просто убили, а так – удавалось что-то получить. Всю семью могло бы спасти изумрудное ожерелье, но оно осталось у Каролины в Москве; а бриллиантовые серьги Тоня продала, когда арестовали отца.
Первой умерла младшая дочка Марины. Тоне казалось, что Марина нарочно отдает большие порции старшей, уже решив, кому из двоих жить, кому – нет.
Дочку уже не смогли похоронить; тело, завернутое в старую простыню, оставили ближе к центральным улицам, где еще убирали трупы. И у Тони уже не было сил, чтобы ходить на работу, получать карточки.
Сестра Ульяна погибла. Воду брали из трубы, пробитой где-то глубоко под землей; вокруг источника нарастали ледяные торосы, Ульяна поскользнулась, сломала ногу – и замерзла, пытаясь доползти домой.
Тоня осталась с Мариной и ее старшей дочерью. У Тони начались первые приступы голодного безумия: ей казалось, что Марина не кормит, а откармливает дочку; на улицах уже стали находить тела со срезанным мясом. Раньше Тоня воспринимала Марину как младшую, а тут осознала, что они ровесницы, Марина провела Гражданскую войну не в городе, как Антонина, а в деревне, где голод был страшнее, где раскапывали скотомогильники и пекли человечину; и Тоне казалось, что из них двоих точно выживет Марина.
Потом, на Новый год, подруга Ольга выполнила обещание. Принесла увесистый кусок сала: нечто немыслимое, не деликатес, не еда, а сама жизнь – две, три недели, может быть, месяц жизни. Ольга выменяла сало на семейную икону в окладе из северного речного жемчуга. Старик-скупщик платил теперь пайковым глиняным хлебом, торговался как черт; и пред иконой не заробел бы, забрал бы за безделицу, за горсть перемешанного с землей жженого сахару с Бадаевских складов, – но Ольга одна знала, что скупщик не тот, за кого себя выдает, он офицер и служил у Колчака в контрразведке, промышлял драгоценными делами, обирал допрашиваемых, – такой секрет оставил ей на черный день отец, узнавший скупщика в годы нэпа, когда решил продать старые ордена.
Сало исчезло. Тоня решила, что его украла и перепрятала Марина. В ледяном доме, где в соседние квартиры, – стены и крышу снесло близким разрывом бомбы, – падал злой крупяной снег, две женщины дрались на полу, Марина шептала, что не брала сало, Тоня душила ненавистную воровку, потом Марина извернулась и начала душить ее. Ни одна не могла убить: слишком мало сил, чтобы суметь сделать это.
Забившись в подвал, подальше от матери и тетки, сало съела Маринина дочка. Она уже умирала от заворота кишок, но еще ела.
С ее смертью ушла даже ненависть, что соединяла Антонину с Мариной. Иногда Марина со странной бессловесной приязнью смотрела на Тоню, будто видела саму себя в зеркале и удивлялась себе – такой незнакомой.
Ольга обещала зайти в начале февраля. Она была не так истощена, как Тоня, но жила далеко, а путь с одного конца города на другой через Неву был сравним с пешим походом к Северному полюсу. Тоня стала отсчитывать в дневнике дни, оставшиеся до прихода Ольги. Это было единственное, что она теперь писала.
Марина скончалась 24 января. Кажется, у Тони уже не было сил хотя бы вытащить ее из комнаты.
Когда Ольга пришла, Тоня была мертва. Она, видимо, верила, что Ольга придет в первый день февраля, и, когда этот день закончился, умерла. Ольга сволокла оба тела вниз, надеясь возвратиться и с чьей-то помощью отвезти их на кладбище. Она забрала дневник, но дома слегла сама – ей было нечего больше предложить скупщику – и потому вернулась к Тониному дому только весной.
Тел не было. Обстановку и вещи Тониной квартиры уже растащили. К концу войны не стало и дома, его признали не подлежащим восстановлению и снесли. Никто не знал, похоронена ли Тоня и все остальные в братской могиле, брошены ли в Неву, замурованы в подвале или попали под нож или пилу, оставляющие метки на костях, по которым в доисторических захоронениях узнают жертв каннибалов.
Кирилл плохо помнил, что знал в детстве о смерти бабушкиных сестер. Маленькие, размером с марку, фотографии Тони и Ульяны висели у бабушки Каролины в комнате. Их фотоальбомы сгорели в блокадном декабре в печи, а у Каролины остались только такие снимки, теряющиеся среди больших портретов.
Но Кириллу этого никто не объяснял, и он усвоил, что среди усопших есть те, кому достается львиная доля памятования, и те, кого помнят во вторую очередь.
Не было у сестер даже строчек на общем надгробии. И, выходит, их бесследное исчезновение давало бабушке Каролине страшные права душеприказчика: как и какими их помнить. Был бы памятник, были бы выбитые в камне буквы Ш В Е Р Д Т – и Каролине Швердт невозможно было бы обратиться Линой Веснянской.
* * *
В середине сентября, когда управление советскими войсками под Киевом стало окончательно распадаться, Глеб Швердт попал в плен. В его немецком досье значилось, что он был контужен и пленен на поле боя; в советском – что перешел на сторону врага добровольно и увел за собой нескольких солдат. Кирилл думал, что немецкие бумаги, вероятно, более правдивы: в тот момент Глеб скорее мог покориться судьбе, чем сознательно перебежать к немцам.
В лагере военнопленных он – тут оба досье сходились – благодаря детским урокам немецкого стал переводчиком. Невысокий чин – капитан, не член партии, наполовину немец, фольксдойче, отец репрессирован Советами: идеальный портрет коллаборанта. Советский документ гласил, что там же, в лагере, Глеб стал доносить на бывших товарищей; немецкий деликатно опускал этот момент, но Кирилл догадывался, что тут правда скорее на стороне советского досье: было бы странно предположить, чтобы от переводчика не требовали присматривать за другими пленными. Правда, никто не мог сказать, что именно Глеб сообщал, кого спасал, кого сдавал, да и было ли вообще у лагерной охраны время на оперативную работу. Кириллу казалось, что Глеб скорее мог пойти в переводчики потому, что не нашлось никого другого, а нужно было даже на лагерном дне налаживать жизнь, получать еду, ухаживать за ранеными.
Переводчиком Глеб пережил в лагерях зиму сорок первого – сорок второго, когда большинство военнопленных погибли от голода и холода. И когда весной сорок второго эмиссары стали разыскивать в лагерях кадры для Российской национальной народной армии, РННА, предшественницы власовской РОА, Глеб получил чин ефрейтора и снова надел советскую форму – из немецких трофеев – с новыми трехцветными кокардами и погонами.
«Имею горячее желание отомстить за отца, убитого большевиками», – написал он в опросном листе немецкой анкеты.
Отомстить за прадеда Арсения. Кирилл с удивлением понял, что в нем нет желания мести, словно для него, родившегося много позже, все случившееся с прадедом имело характер природного катаклизма, не подлежащего законам возмездия. И поэтому фраза «имею горячее желание отомстить за отца» пугала Кирилла даже не тем, что ради осуществления ее Глеб пошел на службу к нацистам, сколько самим намерением – как если бы кто-то признался, что готовит убийство.
Но служба Глеба была недолгой. РННА воевала с партизанами, и часто солдаты уходили в лес. Однажды была задумана крупная операция, соединения РННА должны были захватить командира советского воздушного десанта. Но вместо этого несколько десятков солдат сами перебежали к партизанам. Немецкая контрразведка заподозрила командовавшего взводом Глеба в предательстве, в том, что он – советский шпион, взявший имя настоящего Глеба Швердта; после допроса с пытками он был расстрелян.
В немецком досье было записано, что Глеб признался в том, что он не Глеб Швердт, что он агент, оставленный при отступлении советских войск, чтобы внедриться в оккупационную администрацию. Советское досье гласило, что Глеба скомпрометировал настоящий советский агент в РННА, подбросивший немцам ложные улики. А Кирилл чувствовал, что Глеба настигла обратная стигма: в тридцатые он мог быть арестован русскими как немецкий шпион, а был расстрелян немцами – как русский; фамилия Швердт спасла в плену, а потом погубила.
Борису сначала повезло больше: в июне он был на Урале на танковом заводе, принимал новую технику, и потому избежал приграничных окружений, в которых была уничтожена его часть. Его не выгнали из армии, когда советские немцы были объявлены врагами, потому что он на партсобрании отрекся от отца-немца, оставили служить.
Но дальше удача оставила его. Он был хороший офицер, но дело войны, прежде спорившееся в его руках, теперь буксовало: то технику разбомбят при разгрузке эшелона, то подломится под танками проверенный саперами мост, то машины придут из бракованной партии, у которых отдачей выстрела клинит башню, но выяснится это уже под вражеским огнем. Так возникла у него дурная слава невезучего командира.
Телеграмма о том, что жена с детьми уезжает в Ленинград, была послана ему на старый адрес части. Когда Борис понял, что жена покинула дом, он отправил телеграмму Антонине – не у нее ли Марина и дочери. Но ответ из Ленинграда не дошел; войска слишком быстро отступали, обескровленные части рассеивались, меняли номера.
Ради жены и детей Борис предал отца, а теперь они исчезли с той же внезапностью, что и Арсений. Пошатнулось до основания само кровавое государство, которому он принес в жертву родителя; фронты рухнули, местные призывники прятались по домам, советские служащие бежали на восток, – он наверняка видел, как в спешке эвакуируются, нагрузив казенные машины личным имуществом, партийные и энкаведешные начальнички, те, кого Борис боялся в тридцать седьмом году. И, думал Кирилл, в нем не могло не родиться опустошающее чувство, что он предал не потому, что власть страшна и обстоятельства жестоки, а лишь потому, что он – предал.
Наверное, где-то в это время Борис завел дневник, запрещенный солдатам и офицерам; выдержки из него Кирилл видел в его следственном деле. Военных секретов в них не было; только сомнения, которые следователи квалифицировали как пораженческие настроения; только подспудный вопрос – как же так вышло, что немцы стоят у ворот Москвы, не советская ли власть, мучившая народ, открыла им туда дорогу.
Были в деле и показания сексота, кого-то из подчиненных Бориса. Читая их, Кирилл вспомнил поручика Колаковского и его роль в деле Мясоедова: второй раз семье встретился один и тот же тип, гений доносительства, вдохновенный лгун, способный на заковыристую, масштабную ложь, искусно использующую идеологическую конъюнктуру, контекст событий, делающую доносчика разоблачителем хитроумного заговора, на который руководство может списать свои тяжкие поражения.
Доносчик – так легли пути войны – вероятно, служил с Борисом еще в тридцатые. И знал то, что Борис старался не афишировать: что не Морозов он, а Швердт.
Может, Борис задержал представление к награде, сделал выговор перед строем – и сослуживец, чье имя было скрыто в деле псевдонимом Ермак, составил рапорт в особый отдел бригады.
Ермак написал, что в тридцать седьмом году он, как и все прочие, как и вышестоящие начальники, поверил в то, что майор Швердт искренне отрекся от отца – изменника Родины, бывшего агентом немецкой разведки; как учит товарищ Сталин, сын за отца не отвечает. Но сейчас, вновь попав под командование Швердта – Морозова, он подозревает, что отречение было ложным, оно – трюк матерого шпиона, настолько закоснелого в своей ненависти к советской власти, что он готов порвать родственные связи, сменить фамилию, лишь бы иметь возможность вредить стране Советов.
В начале рапорта Ермак называл Бориса Швердтом – Морозовым, но уже со второй страницы – только Швердтом. Он явочным порядком вернул Борису прежнюю фамилию, и это само по себе производило сильнейшее впечатление, даже Кирилл чувствовал, что два слова «майор Швердт» сразу создают образ немецкого агента, офицера абвера. Сила имени обвиняла тогда Бориса, и ее оказалось более чем достаточно.
А других доказательств у Ермака и не было. Разве только то, что Борис не раз ночью ходил с ординарцем на нейтральную полосу и возвращался под утро. Там стоял подбитый немецкий танк, командирский T-IV, и Борис его изучал, чтобы в бою лучше знать слабые стороны. А что ночью ходил – так днем танк простреливается с немецких позиций. Но Ермак написал, что в танке у Бориса вроде как почтовый ящик, и один раз бойцы видели, что возвратился он с бумагами на немецком, с пачкой машинописных листов, и читал их в блиндаже. Борис показал на следствии, что нашел в танке технический справочник, ремонтные инструкции для танкистов; но это уже не могло его спасти.
А еще Ермак добавил, что считает всю семью Швердт – в прежние годы он слышал от Бориса о братьях и сестрах – шпионским гнездом, ведь, несмотря на фальшивое отречение, Борис продолжал тайно получать письма от сестры Антонины, служащей на каком-то секретном производстве в Ленинграде и наверняка осведомляющей о нем своего брата-шпиона.
Кирилл понимал, что, даже найдись у Бориса высокий покровитель, такой донос никто не решился бы положить под сукно. Напишет Ермак выше, в особый отдел корпуса или армии, и с заступника три шкуры спустят: зачем врага покрываешь? Но и арестовывать сразу не стали – то ли не до конца поверили Ермаку, почуяли ложь, то ли решили вскрыть все связи мнимого агента.
Борису позволили еще две недели повоевать. Он наконец узнал, что его жена и дети в осажденном Ленинграде. И его армия, Вторая Ударная, шла к Ленинграду, чтобы разорвать кольцо блокады!
Борис, потеряв голову, попросил по телефону знакомого в штабе армии рассказать, каков общий план операции, какой части отводится какая роль, – он надеялся, что его подразделение первым достигнет города. Штабной офицер сообщил в контрразведку о странной, нарушающей субординацию и секретность просьбе; особисты решили, что донос Ермака полностью подтверждается, немецкий агент Швердт пытается разузнать важнейшие военные планы.
А еще – как последний гвоздь в крышку гроба – партизаны донесли, что бывший командир Красной армии Глеб Швердт, считавшийся с сентября сорок первого без вести пропавшим, обнаружен в роте РННА в должности командира взвода.
Выходит, брат отомстил брату, думал Кирилл; ведь Глеб наверняка догадывался, что ждет его родных, если советские власти узнают, что он состоит в РННА. Надеялся, что немцы быстро победят? Что его служба останется тайной? Или на самом деле хотел приговорить братьев и сестер, продолжавших после ареста отца жить, есть, пить, выходить замуж, рожать детей?
Бориса арестовали и увезли в тыл. Доказательств не было никаких, кроме злосчастной фамилии, глупого интереса и службы брата в РННА. Может – пять шансов из ста – трибунал бы заменил высшую меру разжалованием в рядовые.
Но в середине марта немцы контратаковали, и скоро Вторая Ударная оказалась в мешке. Кто-то должен был ответить за внезапный удар немцев, сорвавший наступление. Теперь история майора Швердта представала в совершенно ином свете; за него взялись так, что в два дня Борис признался, что является агентом абвера, и брат его Глеб – агент абвера, и отец Арсений тоже был агентом абвера. Особисты спешили, их могли спросить: как же вы просмотрели вражеского шпиона у себя под носом? И потому Борис был без промедлений расстрелян.
Мрачным призраком к семье вернулся мясоедовский сюжет; как будто бы тогда, в пятнадцатом году, судьба мальчика Бориса была уже написана до последней буквы, и ее даже показали отцу и матери в зеркале чужой драмы: смотри.
Или – смерть всенародно оболганного, сделанного козлом отпущения за генеральские ошибки полковника, хладнокровно, под хвалебный гул прессы, под крики «Повесить!» приговоренного к петле судом, знавшим о его невиновности, преданного такому шельмованию после казни, что люди стыдились самой фамилии Мясоедов, спешили поменять ее, – смерть одного заведомо невинного стала той черной воронкой, что затянула в себя всю Россию, рукоплескавшую этой смерти (как Францию едва не утащило на дно позора дело Дрейфуса). И все, что происходило потом со страной, – бессудные аресты, массовые расправы – было лишь многоликим отражением давней драмы, проросшей, как ядовитое зерно, в судьбах тех, кто рукоплескал, – и даже тех, кто просто жил тогда, едва родившись.
Бориса расстреляли в те дни, когда немногие оставшиеся танки его части пытались пробить коридоры к окруженным советским войскам, а немцы контратаками с флангов снова перекрывали эти лазейки, узкие полосы земли в болотистом междуречье, где земля уже почуяла близкое тепло.
Кирилл ездил на место расстрела, маленькую станцию, где добывали торф. И в том торфе, говорили, иногда находят мертвецов сорок второго года, нетленных, ушедших в незамерзающие глубины.
Все там было низкое, и дома, и перрон, и вокзальчик, только старая водокачка казалась высокой, хотя на крупной станции потерялась бы. И подумал Кирилл, что расстреливали у водокачки: надо же расстреливать у чего-то, приурочить смерть к какой-то мете, которая означала бы конец, снимала с конвоира часть ответственности, словно так было отмерено убитому – дожить досюда и не дальше, а тот, кто спускал курок, только следовал разметке судьбы.
Кирилл посмотрел на жухлую траву, на рябые следы велосипедных шин в пыли – и подумал о бабушке Каролине, о том, что она, такая близкая, такая несомненная в его жизни, с легкостью могла бы обратиться в невзрачную эту пыль, в заскорузлую землю, в которой поблескивают уголками стеклышки битых бутылок. Ведь органы могли начать – по наводке Ермака – расследование в отношении других членов семьи. Но остальные Швердты уже погибли в Ленинграде, а она, единственная живая, застряла в эвакуации. Дело закрыли окончательно, и она осталась жива. А если бы Каролину нашли, если бы она, так сказать, оказалась рядом, под рукой, – был бы еще один пыльный полустанок, водокачка с выщербинами то ли от времени, то ли от пуль, лучи закатного солнца в зеленых бутылочных стеклах.
Потом Кирилл ездил в Витебскую область, в Осинторф – снова болота, снова торфяные разработки, – где немцы расстреляли Глеба. Опрятное гниение болот, растерянные деревья, сухие метелки тростника, уныло шуршащие под ветром.
В Осинторфе Кирилл вспомнил Немецкое кладбище, свою догадку, сколь большого числа мертвых недостает в фамильных склепах, в семейных могилах; разрушены семьи, разбросаны по свету уцелевшие отпрыски, уже не помнящие всех связей родства. И старый монумент на могиле Бальтазара, известняковый алтарь с каменной Книгой, показался Кириллу чем-то вроде маяка, меты, ведомой всем мертвым его рода, его семьи. И бабушка Каролина, думал Кирилл, приходила на Немецкое кладбище так же, как, тоскуя, приходят в те места, где в последний раз видели кого-то. Она, избежавшая блокады, пережившая войну, призванная потом в военные переводчики, получившая службу и паек благодаря швердтовскому опасному наследству – немецкому языку, бесконечно ждала у могилы Бальтазара тех, кого это наследство погубило.
* * *
Теперь Кирилл снова думал о Немецком кладбище; о том, какую роль оно играло в его географии Москвы, как было соединено с другими местами, с домами родных.
В детстве на кладбище шли пешком – обратно уезжали, пройдя через другой выход, на трамвае. Таково было правило, исполнявшееся непреложно, будто оно было частью закона мироздания.
Ребенком Кирилл любил московские трамваи. Между их рельсов выступал черный камень старой брусчатки, ехали они безвестными улочками, где в осеннюю морось или зимнюю стужу так сладко и слезливо горят огни окон в домах, мелькают пузатые, как заварочный чайник, церкви, семенят старухи к скользкому крылечку магазина, где привязан облезлый пудель, какой-нибудь Тотошка, боящийся окрестных дворовых псов, скулящий, чувствуя едкий запах их мочи.
Мимо ноздреватого снега, сосулек на крышах, вывесок СПОРТТОВАРЫ – ОКЕАН – ПАРИКМАХЕРСКАЯ – ПОЧТА – ОВОЩНОЙ – ГАСТРОНОМ – ЭЛЕКТРОТОВАРЫ – красной буквы М у метро – СЛАВА КПСС на крыше – МОЛОКО – опять ГАСТРОНОМ – МЯСОКОМБИНАТ – ЗАВОД РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ – КИНОТЕАТР – в темноту, где в лужах больше света, чем в фонарях, где воздух пахнет хвоей выброшенных на помойку елок, засохшей мандариновой кожурой.
Но путь с кладбища был особым. Ехали не домой, а в другую сторону, в другую Москву; Кириллу казалось, что очень далеко, не семь остановок, а семь меридианов, которые он так любил считать на старинном глобусе, где горы были рельефными, океаны разливались синей глазурью, по Аравийской пустыне шагал караван верблюдов, в сибирской тундре мчалась запряженная оленями самоедская упряжка, а в Тихом океане выбрасывал фонтан кашалот, – глобусе на бронзовой черепахе-подставке, что стоял в квартире бабушки Каролины и деда Константина.
Когда Кирилл был маленьким, он воспринимал деда Константина так же, как Арсений – Бальтазара; дед казался Кириллу таинственным волшебником. Его квартира была полна чудесными предметами, которые Кирилл видел в музеях; и никто не говорил, откуда эти предметы взялись, как будто они возникли из воздуха мановением магической палочки.
И только в девятом классе, поговорив с товарищем, чей дед был отставным генералом, Кирилл понял, откуда дед Константин взял свое таинственное «наследство».
На свой манер он был последователем князя Урятинского. Безумный вельможа привозил из Европы карл, фокусников, афродизиаки – и землемеров, инженеров, агрономов; коллеги деда Константина везли из Германии специалистов – ракетчиков, конструкторов, химиков, физиков, атомщиков; а дед Константин привозил для советских вельмож трофеи из области прекрасного.
Дед Константин был частью особой армии, идущей по пятам за воюющими войсками; армии, вооруженной сургучом и печатями, хозяйственными списками, – Главного трофейного управления РККА. Трофейщики собирали на полях сражений изувеченное военное железо, годное в починку или в переплавку; вывозили скот, зерно, продукты; экспроприировали запасы стратегических материалов, демонтировали фабрики и заводы; в Рудных горах спецчасти НКВД уже разгораживали запретную зону вокруг урановых рудников. А по старинным замкам, библиотекам, галереям, музеям, особнякам, церквям и соборам шли облавой искусствоведы в штатском, изымавшие полотна, скульптуры, манускрипты, книги, алтари, драгоценности. Среди них был и дед Константин.
Призванный из запаса осенью сорок первого, три года отслуживший переводчиком во фронтовых штабах, – так, во всяком случае, он рассказывал, – в конце сорок четвертого, когда советские войска вышли к европейским границам, дед Константин получил новое назначение. Впрочем, Кирилл думал, что именно дед был инициатором, он предложил кому-то, обладающему достаточной военной властью, свой план.
В тылу советских войск на немецких землях действовали сотни организаций, тысячи групп с самыми разнообразными мандатами (дед рассказывал, что даже московский профсоюзный яхт-клуб отправил посланцев, и те вывезли в советскую столицу эшелон яхт из имперского яхт-клуба в Бремерхафене). В этой неразберихе, во всеобщей гонке за трофеями один решительный и квалифицированный человек, умеющий определить кисть мастера, возраст полотна, ценность предметов интерьера, мог сделать огромное состояние – были бы относительно надежные документы, транспорт, десяток верных солдат и возможность вывезти добычу в СССР. Еще в Гражданскую войну краскомы возили за собой обозы с награбленным, завтракали и обедали с чужих фамильных сервизов; в Германии повторилось то же самое.
Разумеется, этих подробностей дед Кириллу не рассказывал; он вообще обходил стороной вопрос, где, под чьим командованием служил в последние месяцы войны.
Кирилл понимал, что сначала дед был не в тех чинах, чтобы трофеить самому – или заручиться очень высоким покровительством. Максимум, что он мог получить, – негласное содействие на уровне командующего корпуса или армии; пропуск, пяток автоматчиков из личной командирской охраны, грузовик и выход на интендантскую службу.
Однако послевоенный круг знакомств деда, его связи, квартира говорили о другом уровне мародерства. Но дед никак не мог перескочить ступеньки советской иерархии.
Кирилл отгадал эту загадку.
Был один человек, с которым дед Константин вел себя подобострастно, как слуга.
Ребенком Кирилл часто бывал у деда, жил у него на каникулах, и, когда приходили сановные гости, дед охотно звал его за стол, кропотливо выстраивал будущее внука, сызмальства вводя в свой круг.
Но изредка дед просил его не выходить в гостиную, поиграть в дальней комнате. И даже позволял взять редких игрушечных солдатиков, дореволюционных, сделанных в единственном экземпляре под заказ для отпрыска богатой фамилии: когда-то из них можно было составить полную картину Бородинского сражения. Но пропали в Гражданскую – словно погибли на чужой войне – гвардейские лейб-егеря, павловские гренадеры, ахтырские гусары, французская Старая гвардия, артиллеристы и их пушки. Иные полки и бригады исчезли полностью, в иных сохранилось по две-три оловянные фигурки. Дед Константин десятилетия собирал разошедшихся по рукам солдатиков с узнаваемым клеймом мастера на подставке, не скупясь на цену или мену. И то, что он позволял Кириллу поиграть с бородинцами, – слишком широкий жест, – показывало, что он опасается гостя и потому теряет обычно присущую ему меру поступков.
Кирилл подглядывал через замочную скважину, его волновал странный гость, но тот умел оставаться незаметным; всегда вставал так, чтобы кто-то или что-то заслоняли его от Кирилла.
Деда навещали и другие неприметные визитеры: антиквары-перекупщики, тайные дельцы. Однако особый гость был не из их числа: он был темной тенью, нависавшей над другими людьми. Лишь однажды Кирилл разглядел его лицо, показавшееся странно знакомым. И он узнал неведомого гостя – он всегда был рядом, в доме.
На широком столе деда Константина стояли старинные каминные часы, накрытые овальным стеклянным колпаком. Часы изображали утес; по бронзовым склонам мчались серебряные распаленные гончие, от них убегали золотые легконогие косули; ни один пес не мог догнать свою жертву. Но наверху, на плоской вершине, стоял золотой егерь в кафтане и треуголке. В опущенной левой руке он держал охотничий рожок, а в вытянутой правой – мертвую серебряную птицу.
Дед Константин купил эти часы через три года после того, как Кирилл испытал свой самый глубокий в жизни страх, видел безумие Старшины, убивающего гусей. Дед с гордостью показал ему часы; в полдень и в полночь раздавался бой, егерь опускал руку с птицей вниз, поднимал рожок и трубил в него.
Кирилл помертвел тогда, а деду казалось, что внук поражен чудом механики. Он боялся подходить к часам, думал, что егерь следит за ним, знает, что случилось летом на даче; и когда странный дедов гость однажды показал лицо, Кирилл узнал его: лицо того самого бронзового ловчего из часов, торжествующего охотника. Оно чудилось ему потом в любом домашнем стекле: в окошке буфета, графине, бутыли, стакане. Старшина, Гость и егерь слились в одну фигуру, и Кирилл поражался, что дед не понимает, не видит, кого он поставил к себе на стол, кто все время смотрит на него, держа в руке убитого гуся.
Потом, десятилетия спустя, Кирилл опознал дедова гостя во второй раз, нашел его фото в книге об истории спецслужб СССР. Подполковник государственной безопасности, служивший в СМЕРШ, потом полковник, генерал-майор, переживший все чистки и аппаратные войны; ушедший из системы только вместе с разжалованным Серовым.
Тогда Кирилл и догадался, что произошло с дедом Константином в сорок пятом, как он перескочил карьерные ступеньки. Кого-то заинтересовала его маленькая группа, его задержали военные контрразведчики. Во время допроса он рассказал, чем занимается, – и его забрали у прежнего покровителя, дали больше полномочий, больше людей, чтобы он работал на нового хозяина.
Тогда дед и познакомился с бабушкой Каролиной – к отряду прикомандировали переводчицу Швердт, наполовину немку, дочь врага народа, сестру дезертира; ту, что жива только попущением органов и потому будет молчать. Ее, вероятно, взяли на службу именно для таких дел; иначе Кирилл не мог объяснить, как с ее биографией она оказалась в военных переводчиках, пусть и не служила собственно на фронте.
Кирилл понимал, почему бабушка Каролина вышла замуж за деда. Она, по меркам времени – давно перестарок, потеряла в войну всех родных – и приобрела вдруг новую фамилию, ушла от проклятия Швердтов. Но почему дед Константин женился на дочери репрессированного и сестре расстрелянных?
Любовь? Но дед не любил бабушку. Порой Кириллу казалось, что он, антиквар, взял ее, «бывшую», в свою коллекцию как предмет старины, самый ценный в его собрании; ее присутствие в доме, ее роль хозяйки оживляли антики.
Подсвечник и серебряный поднос, чернильница и перо, веер и китайская шкатулка, мраморное пресс-папье и кофейник, напольные часы и полотно малых голландцев – родившаяся среди них, она соединяла их все – собой – в микрокосм дома, в иерархию мест и функций, превращала неживую коллекцию в обитаемый мир. Ее манеры, речь, стиль – как бы поддерживали тонус в вещах, давали им острастку, не позволяли опускаться, деградировать, забываться относительно их происхождения. Да и сам дед Константин, разночинец, горожанин всего в третьем поколении – прадед его рыбачил на Чудском озере, а сына сумел отправить в Москву торговать рыбой, – выученик старых профессоров, успевший до революции мальчиком-гимназистом повидать и литературные салоны, и закрытые для него двери особняков, где веселилась знать, – тоже получал от бабушки Каролины каждодневные уроки домашнего аристократизма.
Но, думал Кирилл, мало ли было «бывших» в Советском Союзе? Дед мог найти и познатнее, какую-нибудь баронессу, графиню или княжну, у которых не осталось ничего, кроме родовитой фамилии. К тому же в сорок пятом у деда Константина еще не было дома, полного старинных вещей; а поженились они с Каролиной – отныне Линой Веснянской – в сентябре, брак зарегистрировал военный комендант Йены.
Дед что-то почувствовал в Каролине, думал Кирилл. Наверное, его покровители казались ему богами, подобными жестоким богам Египта или Месопотамии, носящим головы сокола, шакала, крокодила, льва, пса, кошки, стражам мертвых и пожирателям душ. И дед Константин подбирал среди немецких трофеев верные подношения, чтобы заработать инфернальную благосклонность небожителей; но, как шахтеры в Средние века брали с собой в забой клетку с канарейкой, которая прежде людей чувствует рудничный газ, ему нужен тот, кто почувствует опасность гораздо раньше, чем он. Поэтому он и выбрал Каролину.
* * *
Дед с бабушкой уехали из Германии в начале сорок шестого года, – установилась власть, заработали немецкие администрации, и у мародеров было все больше шансов попасться. Кирилл спрашивал себя: в какой Германии они побывали? В мире разорванных связей и перемещенных лиц. Среди руин, где «разбомблен даже не город, а что-то принципиально более важное, что склеивало вещи с их обозначениями», как прочитал Кирилл в прекрасном романе о послевоенном Берлине.
Поэтому Каролина, даже если бы захотела, не смогла бы найти немецких Швердтов, что обменивались письмами с ее двоюродными бабушками. Страна была населена беженцами и призраками горожан, скрывающимися в развалинах.
Дед Константин рассказывал, что однажды в Берлине, когда в разных концах города, в парках, в метро еще вспыхивали перестрелки, их отправили осмотреть какие-то статуи – не стоит ли их реквизировать? Они тронулись туманным дождливым утром. Дед не знал Берлина, не знал его памятников; туман скрывал все, опытный шофер рулил сквозь сожженные баррикады, покуривали в кузове трофейные сигареты молчаливые с похмелья автоматчики, испытывавшие законное презрение к штатскому офицеру и его переводчице.
Приехали на опушку какого-то парка, выкошенную огнем, только воронки и расщепленные стволы; сержант-провожатый повел дальше. Вдруг справа мелькнула зыбкая фигура; автоматчики зарядили длинными очередями в туман, оттуда прилетело в ответ, то ли выстрел, то ли свой же рикошет; командир отделения скомандовал обойти, и вот уже автоматы ударили сбоку, а фигура, вся в искрах, не падала.
Первый луч солнца прорезал туман, и они увидели, что стреляют по статуе, по мраморному композитору, держащему в руках стопку нот; Гайдн был мертв – четыре пули в живот, две в правое легкое, две в руку, одна в ключицу, одна в плечо.
Полотнища тумана растворило солнцем, вблизи встал скелет Рейхстага. Они были в самом центре Берлина, в Тиргартене. Бывалый сержант колупнул пальцем раны статуи, кивнул автоматчикам – молодцы, мол, метко стреляете – и равнодушно, в ожидании приказа, посмотрел на деда Константина.
Благодаря этому рассказу деда Тиргартен стал для Кирилла своего рода воротами в его Германию. Когда он впервые прилетел в Берлин, он не знал там ничего, кроме следов пуль безымянного автоматчика, пробивших мраморный сюртук.
И он сразу отправился в Тиргартен, к Гайдну; был день поздней весны, стрекотали автоматические поливалки, по лужайкам лежали загорающие, а у Бранденбургских ворот туристы фотографировались с ряжеными союзными солдатами.
Он еще издалека увидел отметины четырех пуль в живот, двух в правое легкое, двух в руку, одной в ключицу, одной в плечо, – точно так, как сохранила профессионально внимательная к деталям, фотографически запечатлевавшая характерные сколы, царапины, потертости на антиках память деда. И он невольно повторил жест сержанта, тронул пальцами рану в камне; выщербина была реальной.
Он провел в Тиргартене два дня, обходя статуи, изучая по ним рисунок давних боев.
Кайзеровский солдат, прощающийся с женой, – пули пробили подол ее платья и его сапоги, откололи правую руку у сына, с тревогой смотрящего на отца. Безрукий Геракл у самого Рейхстага, все тело в оспинах пуль. Боги плодородия, богини ремесел – они в стороне, две-три пули попали в постамент, небожителей не задело. Два обезглавленных солдата, женщина без головы с развороченной грудной клеткой; вот старик со знаменем, а рядом падающий навзничь, убитый воображением скульптора офицер в роскошном мундире – пробиты ноги, и пуля ударила в подбородок, убила – мертвого. Гёте в плаще, посеченном осколками. Купидон с простреленным бедром. Скорбный ангел, которому приклеили новое мраморное лицо взамен разбитого; Муза с таким же приклеенным, мертвым ртом, мраморным протезом плеча. Убитый в грудь Бетховен. Раненая бронзовая амазонка на раненой лошади. Беспалая арфистка. Вагнер и его расстрелянный грифон.
Боги, мертвецы, девы, герои – все несущие смертную отметку, все дважды мертвые.
Раны мрамора, выщербины, трещины, ямки, пустоты, каверны стали для Кирилла шрифтом Брайля; они были языком здешнего прошлого, говорящего об утратах, и он старательно учил этот язык, чтобы задать свои вопросы.
Где-то здесь, в Тиргартене, в двадцать пятом году замерз на скамье ставший бездомным бродягой военный министр Сухомлинов, снятый с должности и арестованный после дела Мясоедова, судимый Временным правительством, амнистированный и уехавший в Германию.
Тут трубили бронзовые ловчие, протягивал бессильные лапы вниз притороченный к поясу охотника мертвый заяц; в воздетой руке егеря скалилась, прикусив язык, убитая лиса, и мчались, мчались, опережая дыхание, покорные рожку гончие псы – как в часах деда Константина, что отсчитывают время погони и смерти.
Кирилл как бы вошел в призрачные ворота – и вышел на ту сторону, в немецкую историю.
* * *
Оказалось, что о Томасе, отце Бальтазара, написана книга, в архивах медицинских факультетов уцелели его труды и переписка сына и отца. Кирилл, конечно, не рассчитывал найти здравствующих немецких родственников; ему казалось, что он – единственный уцелевший осколок общей истории. Но профессор, автор книги, передал ему визитную карточку, на которой была написана такая знакомая, но не представимая в настоящем времени фамилия Швердт.
Предварительному телефонному звонку родственники сначала не поверили, сочли Кирилла любителем экстравагантных розыгрышей. Но Кирилл упорно называл имена, даты, и в конце концов говоривший с ним мужчина попросил подождать, не класть трубку; когда он вернулся минут через десять, голос его был доброжелательным, словно он сверился с энциклопедией, подтвердившей существование людей и цифр, о которых говорил Кирилл.
Впоследствии Кирилл увидел то, с чем сверялся собеседник.
Гигантский, выше человеческого роста, лист бумаги, на котором с муравьиной кропотливостью было нарисовано генеалогическое древо, настоящий дуб, корнями уходящий в почву и ветвями проницающий облака; прячущий в листве мириады имен и дат. Это был космос Швердтов, вселенная родства, смертей и рождений.
Линия Бальтазара на генеалогическом древе на нем же и обрывалась; было только приписано, сколько у него детей. Он рискнул, отправился апостолом на Восток, проиграл – и был забыт.
Семья не мстила, нет; было слишком много крестин, именин, рождений, смертей, браков, и в логике генеалогической бухгалтерии отшельник Бальтазар был признан не стоящим памятования, поскольку он не производил своим существованием память нужного сорта, свидетельство практической выгодности семейных ценностей и необходимости вследствие этого держаться вместе. Аптекари, бургомистры, адвокаты, врачи, служащие, священники – они могли бы помнить Бальтазара хотя бы как отрицательный пример, назидание младшим, но не стали помнить вовсе, не по злой воле, а потому, что в саму машину документальной памяти, кажущуюся неизбирательной, все-таки встроен дополнительный механизм забвения, определенные правила игры на вылет.
В Германии согласно непреклонной воле отца Томаса забыли отступника, он превратился в легендарного дедушку Бальтазара, чудака, который уехал на Восток то ли сто, то ли двести лет назад, а может, никогда и не существовал.
Кирилл увез с собой в Россию копию древа; он надеялся еще не раз вернуться в дом под Мюнстером, где на чердаке хранился в сундуках семейный архив, похожий на тот, что оставила ему бабушка Каролина: письма, билеты, вырезки из газет, справки – включая свидетельство расовой чистоты, фотографии, открытки, школьные дневники, медицинские заключения; все, что удалось забрать с собой, когда семейство убегало от наступающих советских войск на запад, в зону оккупации союзников.
А потом ему позвонили и пригласили приехать в пансионат для пожилых людей в Берлине. Весть о странном и удивительном его визите, передаваясь с оказией на семейных встречах, служа диковинной приправой к вечерним разговорам, повторяя все изгибы отношений, все шлюзы приязни и неприязни, достигла наконец того, кому была предназначена судьбой.
Теперь Кирилл уже не мог вспомнить, что было время, когда он не знал этого человека. Они увиделись совсем кратко; но он, Священник и Солдат-калека в одном лице, альтер эго Офицера, Владилена Иванова, вошел в замысел Кирилла как замковый камень, запирающий свод сюжета.
Его звали Дитрих. Он был правнуком среднего брата, Бертольда, оставшегося в Лейпциге, когда Бальтазар и юный Андреас уехали в Россию. Дед Дитриха, врач по деликатным женским болезням, удачно женился и переехал в Восточную Пруссию, взяв за женой богатое приданое. Жена его была дочерью торговца; но их дети восприняли юнкерство как вызов и пытались сделаться большими пруссаками, чем собственно пруссаки; отец Дитриха, Рихард, стал армейским офицером, а его брат Максимилиан отправился служить в кригсмарине.
Братья-близнецы были ровесниками Арсения Швердта, о котором едва ли что-то знали, как и он о них; тем не менее их пути пересеклись, будто их показали друг другу.
Молодой лейтенант Рихард Швердт прибыл в Африку, в Намибию в составе экспедиционного корпуса генерал-лейтенанта Лотара фон Трота; воевал с гереро и нама и, возможно, видел в конце 1904 года в гавани Ангра-Пеквены броненосец «Князь Суворов» с адмиральским флагом на мачте, где служил в то время военный врач Арсений Швердт; позже обреченные русские суда видел Максимилиан, служивший в Циндао, где базировалась немецкая Восточно-азиатская крейсерная эскадра.
Так их судьбы разошлись, словно корабли чиркнули бортами; через десять лет началась война, и трое Швердтов оказались по разные стороны фронта. Арсений выжил, чтобы погибнуть в тридцать седьмом как немецкий шпион. Максимилан служил на крейсере «Лейпциг» – маленькое напоминание, откуда новоявленный пруссак был родом, – и вместе с «Лейпцигом» пошел на дно в Фолклендской битве, когда немецкие корабли были настигнуты линейными крейсерами англичан. Рихард погиб в первые дни войны; в Пруссии его конный разъезд – офицеры выехали на рекогносцировку – в сумраке утра столкнулся с казачьим полуэскадроном.
В письме, что получила вдова от друга Рихарда, служившего в том же полку, было описано, как храбро отбивался Рихард, как погибли сопровождавшие его кавалеристы и как казаки сбросили его, раненого, на землю и закололи пиками. Это письмо стало семейной реликвией, сертификатом мученичества; запечатленным на бумаге подобием Борисоглебского ужаса Арсения Швердта.
Кирилл скептически относился к письму. Одна деталь – казачий разъезд якобы отправился в скрытную разведку по лесистой местности с неудобными, совершенно не нужными разведчикам длинными пиками, которые, как ни держи, будут цеплять ветки, – заставляла его думать, что он имеет дело с фронтовой легендой, что так легко возникали по обе стороны фронта; чем-то вроде истории про якобы распятого на двери амбара канадского пехотинца, что вошла в анналы британской военной пропаганды.
Да, Рихард погиб в стычке с казаками, превосходившими числом его маленький отряд. Но картина всадников со страшными пиками, закалывающих безоружного, возникла позднее, когда спасшиеся рассказывали о схватке, преувеличивая злобу и жестокость противника, чтобы оправдать свое бегство. И офицер, друг Рихарда, писавший письмо вдове, – немцы в то время отступали, терпели поражения, – передавал именно эту преувеличенную, обросшую леденящими кровь подробностями версию событий. Он знал, что у Рихарда есть сын, и, возможно, имел определенные патриотически-педагогические намерения; так письмо, хранимое, как оправленная в серебро десница мученика, символически отображающая перст Господень, определило судьбу Дитриха.
Прусское поместье Рихарда отошло Польше вместе с землями «польского коридора»; мать и сын оказались на содержании у родственников – без прошлого и без денег. Так начался путь, который сделал Дитриха сначала священником, поскольку священником был его опекун, а после – полевым капелланом Вермахта, потому что, вопреки духу и букве христианства, он хотел и был готов мстить за отца, убитого русскими.
Кирилл ездил туда, где раньше стояло поместье. В сумрачный холмистый край, где черные торфяные речки текут с холмов к морю, проворачивая водяные мельницы, а встречный ветер с берега крутит в обратную сторону мельницы ветряные. В глухих лесах стоят языческие дольмены, помнящие каменные ножи и кровь, под темными елями пьют воду у родников олени, спят на ветвях коршуны, а в желтых полях лисы учат лисят ловить мышей. В деревнях стоят огромные кирпичные амбары – можно поместить весь мир, и еще останется место для урожая; на замшелых домах написан год постройки – 1905, 1923, 1934… На старых брошенных кладбищах у перекрестья полевых дорог, под дубами и липами, похоронены покойники франко-прусской войны, и фарфоровые тарелки фотографий с золоченым готическим шрифтом таковы, будто взяты из семейного сервиза. По окраинам полей, по склонам поросших дубами оврагов стоят деревянные охотничьи вышки – стрелять вышедших на посевы косуль или роющих желуди кабанов.
И вот однажды, в ровный солнечный день, гнавший легкие волны пшеницы, Кирилл почувствовал странную темную тень в воздухе; воображение соединило эти охотничьи вышки колючей проволокой, натянутой на столбах, и получался концлагерь, сама идея концлагеря, точно так же впервые родившаяся в чьей-то голове много лет назад. И он понял, как близко зло, как оно пробуждается одним движением мысли, шагом воображения – главное, чтобы в сознании уже было намерение. Ему будто символически показали мрачное преображение Дитриха в нового крестоносца – потому что сам Дитрих никогда ничего не рассказывал о своем прошлом.
Близких родных у Дитриха не было. Двоюродные, троюродные племянницы знали, что дядя был капелланом, участвовал в походе на Восток, под Сталинградом попал в плен, затем вернулся в Германию и снова служил в церкви.
Кирилл думал получить от Дитриха подробное автобиографическое повествование, даже начертал его предварительно в голове: двадцатые годы, нищета, католическая школа, авторитарный дед, желание отомстить за отца, память об изгнании из родного дома, Хорст Вессель, тридцать третий год, «Майн кампф», Lebensraum, оккупация Рейнской демилитаризованной зоны; на плешивой пленке кинохроники катятся, потешно переваливаясь, T-I, игрушечные почти «единички» с противопульной броней и спичечными стволами, суетливые личинки будущих Panzertruppen; из них выведутся потом гудящие, подвижные, кусачие жуки Гудериана, под конец войны выросшие в броневых монстров T-V и T-VI.
Кирилл сочинял этот черновик жизни Дитриха из штампованной шелухи, из общеупотребительных образов, думая угадать чужую судьбу как вереницу чутких флюгеров, держащихся по ветру эпохи; а получил как бы вымороженное из льда, растекающееся мутной водой откровение нового апостола, когда-то отправившегося на Восток.
* * *
Пансионат для стариков располагался по соседству с прачечной. Кирилл увидел сквозь открытую витрину, как стиральные машины прокручивают сизые кишки белья: простыни, наволочки, пододеяльники, полотенца, занавески. И в сосредоточенном движении десятков барабанов Кириллу почудилась не хозяйственная забота, а намерение отстирать, обелить жизнь, выварить ее в щелоках, избавить от пятен, представить невинной, белой-белой, ничего не помнящей.
Медсестра встретила его на этаже, проводила к палате: «Герр Швердт, к вам гость». Кирилл стоял, глядя на дверь, высокую белую дверь с фигурной бронзовой ручкой; ничем не примечательная для других, для него она стала дверью между мирами.
Он вошел. Палата была вычурно белой – с ума сойдешь от такой белизны, из которой абсолютно удалены тени, оттенки, белизны оскопленной, белизны как смерти всех других цветов.
У самого окна – вид на сад, стекла касаются еловые ветви – на высокой кровати лежал старик. Кирилл узнал его – по фотографиям прадеда Арсения и Владилена-Михаила, который единственный из детей Арсения достиг старости. Правую щеку рассекал старый шрам, седые волосы на голове уже поредели.
На него смотрел другой Владилен, словно одному человеку попущением Божьим было дано прожить две жизни: священника-нациста Дитриха Швердта – и офицера-коммуниста Владилена Иванова.
Кирилл подумал о Сталинграде, где перемешалось все, в подвале могли быть немцы, сверху русские, и наоборот; о городе насквозь простреленных стен, где враги могли встретиться, зайдя, как бесплотные духи, сквозь потолок или стену в квартиру, в которой висят фотографии хозяев, прячется в серванте контуженая посуда, – и не выстрелить, узнав друг друга, как в зеркале.
Медицинская сестра предупредила, что герр Швердт сможет разговаривать совсем недолго; здоровье его очень ухудшилось, и не следует слишком тревожить больного. Кирилл с трепетом понимал, что от долгой жизни Дитриха – старик пережил всех из своего поколения в обеих ветвях семьи – осталось еще несколько месяцев или недель; а ему из этого времени достанутся лишь час или полчаса; он не успеет ничего спросить, а может лишь выслушать внезапную исповедь умирающего, который решил беседовать именно с ним, своим и чужим одновременно.
Вдобавок Кирилл плохо говорил по-немецки, хотя легко понимал язык. Его неспособность задавать вопросы была своего рода ниппелем, пропускавшим прошлое только в одну сторону: от Дитриха к нему.
Старик кивнул, не тратя времени на долгие приветствия. Он говорил спокойно, делая долгие остановки, будто испытывал удовольствие разговаривать в последний раз, потому что после будут только короткие беседы с врачами, названия бессильных лекарств, бесполезных процедур, а потом, скоро, слова скажут над ним.
– Мне солдат рассказывал. Австриец из полковой разведки, – внезапно, будто продолжая в присутствии Кирилла долгий разговор с самим собой, сказал Дитрих. – Их послали на тот берег Волги. Ниже Сталинграда есть остров. Они переправились на лодке. По реке горящие пятна нефти несет. В нефти – она густая – покойники застряли. Тоже горят. Головешки. А за спиной – лес, где дикие яблоки созрели. Как в раю. Австрияк тот говорил… Он представил, сколько мертвецов утонуло. Вся река до дна полна их.
– Надежные солдаты были, – сказал он тихо. – Разведка. Мясники. Никто не выжил. Последнего, австрийца, я в лагере видел. Стал осведомителем НКВД. Он так описывал этот остров… Правда, как рай. А я уже не верил в рай.
В палату заглянула медсестра, показала на часы: заканчивайте! Дитрих посмотрел на нее, покачал головой; сестра погрозила пальцем, затворила дверь.
– Тот австрияк, да, – сказал Дитрих, будто ловил в потемках исчезающую нить. – Он ходил ко мне на исповедь. А потом к лейтенанту Кибовскому. Нет, – Дитрих усмехнулся. – Нет. Конечно, он сначала ходил к лейтенанту Кибовскому, а потом ко мне.
Дитрих вытащил из-под одеяла изувеченную руку без кисти, словно достал предмет, необходимый для пояснений в повествовании; Кирилл угадал давнее обморожение и тупость инструмента – топор, пила, саперная лопатка? – которым наскоро обкорнали культю.
– Лейтенант Кибовский был мой бог, – с иронической улыбкой сказал Дитрих. – Он давал шпиг. Тоньше папиросной бумаги. Один запах. Он мог бы отправить меня расчищать завалы в городе. Даже однорукого. Оттуда не возвращались. Но не отправил. А я рассказывал ему все исповеди, – Дитрих снова усмехнулся, на этот раз зло. – И то, чего в исповедях не было. Он был деликатен, Кибовский. Сажал в карцер и там разговаривал. Мне верили, – Дитрих ухмыльнулся. – Я не верил, а мне верили. Кибовский понимал в этом толк. В сорок третьем меня перевели в другой лагерь, на Урал. Там тоже были исповеди, – Дитрих умолк. – А потом случилось чудо. Я снова чуть не уверовал в Бога. Меня отправили домой как нетрудоспособного. В январе сорок шестого. Другие завидовали, говорили, повезло.
Дитрих замолчал. За окном на старой ели белка шелушила прошлогоднюю шишку.
– Я возвратился в Лейпциг, – сказал Дитрих. – Летом сорок шестого меня встретил давний приятель. Михаэль. Мелкий партийный функционер. НСДАП, разумеется. Сказал, что устроился при СВАГ. Я не удивился. Он не был нацистом. Просто ловкий плут. Держал в тридцатых кафе рядом с нашим домом. Потом получил какие-то военные подряды… Он сказал, что снова открыл кафе. Для своих. Нелегально. Есть кофе, коньяк. Мы поднялись на второй этаж. В первой комнате действительно было что-то вроде кафе. Даже с кофемашиной. Стойка, бутылки. Два или три стола. Скатерти. Бумажные цветы. Но Михаэль провел меня во вторую комнату. Там… Там… – Дитрих разволновался, бледное лицо порозовело, выпятился кадык, и Кирилл почему-то подумал, что во второй комнате были женщины из подпольного борделя, Дитрих узнал кого-то из них – сестру, племянницу, соседку, тайную возлюбленную юности…
– Там сидел Кибовский, – глухо, будто чревовещатель, сказал старик. – Подполковник Кибовский. На столе перед ним стояла чашка кофе.
Кирилл рухнул в ту же бездну, в которую когда-то провалился Дитрих.
– Кибовский работал в команде Серова, – доносились до Кирилла слова Дитриха. – Готовились к выборам двадцатого октября. У Кибовского была моя расписка, – Дитрих вдруг рассмеялся, чисто и свободно. – Я-то думал, она осталась в Сталинграде, там же, где моя рука. Сгнила в архиве. В лагере бумага быстро отсыревала. Мы писали расписки на обороте своих же штабных документов. На обороте своих прошлых жизней… – речь Дитриха стала замедляться, словно он уходил сквозь время. – Мне часто снилось, что мою руку грызут крысы. Они лежали, как поленница, у лазарета – руки, ноги…
– Так я снова начал служить богу, – сказал Дитрих. – Потом меня передали Штази. Это был бог не хуже других. Потом все открылось. Комиссия Гаука. Мое досье теперь у них… Ты думаешь, что исповедуешь меня, – закончил Дитрих резко. – А я тебе скажу, что я понял. Бога нет. Но в какой-то комнате на втором этаже всегда сидит подполковник Кибовский и читает твое личное дело. История – это подполковник Кибовский. Так ее зовут. Так она выглядит.
Кирилл хотел деликатно рассмеяться, но вдруг ощутил ужас от уверенных слов бывшего священника.
Старик откинулся на подушки.
На следующий день Кирилла не пустили: «пациенту стало хуже». Кирилл прождал еще полторы недели, а потом уехал. На похороны он не успел, смог прилететь только позже, когда на могиле уже увяли осенние цветы. Он много, много пил в тот вечер, поминая Дитриха, чья смерть внезапно исчерпала все отсрочки, оставила его наедине с необходимостью как-то начать книгу; пил, переходя из бара в бар, потому что не хотел возвращаться в Москву, последние слова Дитриха звучали в голове зловещим эхом; но у него не осталось визовых дней, он потратил их все на розыски в Германии; пил, пока не закружились лампы и потолок.
* * *
Туман. Туман, как будто вечером прошел снег и остался его призрачный свет в воздухе.
Куда, куда он едет? Слишком много выпил. Густое красное вино. Теперь словно теплый тошнотный шар катается внутри. Куда он едет?
Дома. Какие-то дома, облитые лунным светом. Промежутки тьмы между рыжих фонарей. Рядом катится машина. В ней двое. Зачем-то смотрят на него. Его лицо в отражении стекла. Машинально поправил волосы. Кончики пальцев холодные. Закрыл глаза. Темнота. В ней светящаяся желтая пелена, рассеянные лимонные искорки.
Голос. Знакомый почему-то голос. Теплый шар внутри подался вперед – останавливаемся. Зашипели двери. Ледяной холод с улицы. Шаги. Чье-то присутствие рядом.
Он открыл глаза.
Мертвец. Не успевший разложиться. Лицо еще припудрено, как в гробу на похоронах.
Мертвая девушка позади него. Алые выпученные глаза, кровь застыла в прикушенном уголку рта.
Справа священник. Бледные руки держат деревянный кол. Пахнет церковью. Ладаном пахнет. Мертвый пастырь мертвецов. Они сгрудились в электрическом сумраке вагона, смотрят на него остановившимися взглядами.
Священник – это ведь Дитрих, старик-пастор, не верящий в Бога. Потерявший веру в Сталинграде. Но Дитрих же умер. Да, все правильно. Дитрих умер.
Нечисть приблизилась. Он с ужасом понял, что узнает тварей бездны, они – фантасмагорическое, дьявольское отображение его памяти.
Обвешанный светящимися, фосфоресцирующими склянками владыка ядов, отравитель и колдун Бальтазар; зловещий врач-убийца в белом халате, заляпанном кровью, – Арсений; худые русалки-утопленницы в мокром венчике донной травы – ленинградские сестры; толстяк-богач в смокинге, оттеняющем лимонное лицо, – Густав; израненные солдаты, опирающиеся на костыли, перекрещенные строчками пуль, – братья Глеб и Борис; моряк, матрос с вытекшим глазом, висящим на жиле, – Андреас, Соленый Мичман; во главе банды священник Дитрих, а рядом широкоплечий палач с секирой и отрубленной головой под мышкой.
Голова открыла смеженные веки, захлопала ими, словно пытаясь очнуться, понять, где тело.
Это моя голова, вдруг понял он. Это моя голова.
Холодная рука коснулась лица, царапнула щеку перстнями.
Он безобразно закричал, рванулся прочь, упал с сиденья, опрокинулся на спину, стал отталкиваться ногами, елозя задом по грязному полу.
Грохнуло за окном, полетели в прозрачное небо разноцветные огни шутих. Трамвай замедлял ход, и все тот же знакомый голос произнес: следующая остановка – S und U-bahnhof Alexanderplatz.
Снаружи гомонила толпа; трамвай остановился, девушка-зомби протянула ему руку: вставай. Компания ряженых мертвецов смеялась, как смеются пьяные люди: до икоты, до самозабвения. Палач поднял руку с бутафорской головой, показал, как работает машинерия: сделал движение пальцами, и снова заморгали мертвые глаза.
Ночь Хэллоуина.
Немного протрезвев, он подошел к глобусу с часами.
Двадцать три часа ночи в Берлине. Завтра наступит последний день визы, и утром он улетает.
Полночь в Москве.
Вдруг Кирилл в воображении услышал, что в московской квартире прозвонили дедовы каминные часы; увидел, что рожок в левой руке бронзового егеря поднялся вверх, а мертвый гусь в правой опустился вниз.
И внезапно – словно совместились полюса, сошлись континенты – егерь из часов деда Константина напомнил Кириллу полузабытую фамилию ночного гостя, генерала госбезопасности, покровительствовавшего деду. Он должен был вспомнить ее раньше, еще при разговоре с Дитрихом, но не вспомнил, потому что судьба Дитриха существовала в его сознании только на немецкой, абсолютно обособленной, половине мира, однажды лишь соприкоснувшись с судьбой Владилена-Михаила; как ни старался он мысленно помещать историю Швердтов в одно поле, старые границы языка и вражды оказывались, выходит, сильнее. И только теперь фамилия всплыла, явилась как окончательное, непостижимое завершение сюжета, соединяющее концы и начала, как предзнаменование на его пути в Москву.
Кирилл выдохнул, выдавил из себя с шепотом эти буквы, как будто они были отравой:
– Кибовский.
Вдалеке моргнул красными бортовыми огнями взлетающий из Тегеля самолет.
В Москве наступил новый день, ожидающий Кирилла. У этого дня было лицо – лицо бронзового егеря. Кирилл вытащил из сумки, с глупой надеждой открыл свой паспорт, хотя точно знал: виза заканчивается сегодня.
Над книгой работали
Редактор Татьяна Тимакова
Художественный редактор Валерий Калныньш
Корректор Людмила Евстифеева
Верстка Оксана Куракина
Издательство «Время»
letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2018


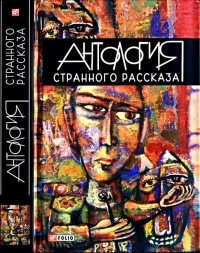

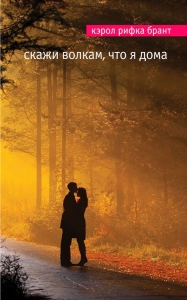
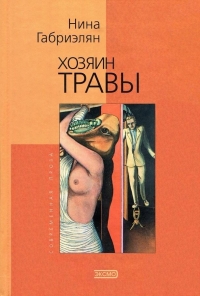





Комментарии к книге «Гусь Фриц», Сергей Сергеевич Лебедев
Всего 0 комментариев