Александр Малышев Воскресное дежурство (рассказ)
За фабричным окном — блескучая, мокрая, пегая от пятен снега на обтаявшей земле весна. За фабричным окном в частых переплетах на площадке пожарной лестницы голубь-сизарь, постанывая глухо, приволакивая одним крылом по железу, ходит за бело-серой, рябенькой, как мартовский сугроб, голубкой. Она и польщена его несдержанным ухаживаньем, и встревожена. Когда сизарь подступает к ней вплотную, она сторожко отбегает, оглядываясь, мелко перебирая красными лапками и переваливаясь своим ладным округлым тельцем.
Игорь стоит у окна, сунув руки в передние карманы джинсов, и слегка пристукивает ногой — в такт мотивчику, который слышал вчера в клубе. За стенами фабрики сейчас звонко, светло, радостно, ему хочется бродить этим воскресным днем по хлюпающим под ногами тротуарам, жмурясь от весеннего солнечного блеска, дышать прохладным, как льдинка, волглым ветром, трогать всякое встречное деревце, здороваясь с ним за красноватую, налитую жизнью ветку, а еще — смотреть на вездесущих ребятишек, что пускают в ручьях самодельные кораблики, спичечные коробки или щепки, а еще — любить всякую встречную девушку за то, что веснушки высыпали у нее на переносье, нежные, как цветочная пыльца, что глаза ее переполнены светом и ямочки играют на щеках… Нынче непонятное, небывалое творится с Игорем. Чуть не все девушки нравятся ему, даже и дурнушки — и в них Игорь угадывает милое, притягательное, хорошее. Глаза, прозрачные, точно родник на мелководье, губы в поперечных складочках, легких, как пенка на вскипевшем молоке, носик вздернутый, мягкий и заостренный на конце, — Игорь останавливается с разбега, оборачивается и так смотрит вслед, будто само счастье его уходит бездумно вверх по улице, упруго перебирая голенастыми ногами в узких облегающих сапожках. Недавно, например, он стоял у кинотеатра и мимо прошли две девушки с сумочками, наверно, в магазин, и он посмотрел им вслед, и одна только ощутила его взгляд, обернулась растерянно, удивленно, смущенно улыбаясь, краснея, и спросила ласково: «Ну, что ты?» и, не дождавшись ответа, отвернулась, прошла несколько шагов, опять оглянулась, теперь уже вместе с подругой: «Ну, что ты?..» И еще раз оглянулась, уже на взгорочке, у самого магазина, и ему опять послышалось, хотя он никак не мог услышать на таком расстоянии: «Ну, что ты?..»
Игорь не столь наивен, чтобы рассказывать об этом своем состоянии кому-нибудь из приятелей. Он приглядывается к ним, ищет в них такое же, похожее, и — не находит.
«Почему так бывает не со всеми? — думает Игорь хмурясь. — Хорошо это или плохо?..»
На улицах пахнет весной, а здесь, в цехе, — пухом и пылью, машинным маслом, что остывает во втулках веретен, грубым усталым железом.
Игорь подготовился, чтобы не томиться сегодня на дежурстве: взял завтрак — бутерброды с плавленым сыром и термос с чаем, захватил детектив потолще и непочатую пачку сигарет. И вот — три часа отдежурил, завтрак съеден, чай выпит, от курева уже нехорошо во рту, а детектив он так и не раскрыл, хотя носил его под мышкой, — читать не тянет, голова совсем другим занята.
Участок Игоря — прядильный цех на третьем этаже фабричного корпуса, верней, часть его от одного лестничного пролета до другого. В обычные дни Игорь обслуживает здесь большой железный подъемник. Дело для выпускника средней школы несложное. В гулкой металлической кабине Игорь возит ящики с цевьем, готовую пряжу, запасные части к машинам. Иной раз прокатит приятелей своих. Восемь часов вверх-вниз, вверх-вниз, от подвального этажа до самого верхнего, пятого по счету, который размещается в четырехугольной кирпичной башне и занят под склад запасных частей для прядильного оборудования. В минуты, когда работы нет, он сидит на стуле у открытых дверей подъемника, уткнувшись в книгу, или болтает с друзьями-погодками: электриком Славой и смазчиком Митей. Все трое после школы пошли на фабрику; все трое с чувством некоторого превосходства, как и положено уже работающим, дважды в месяц приносящим домой получку, говорят с теми из одноклассников, что учатся в техникумах и вузах и приезжают домой на каникулы.
В цехе сегодня только ремонтировщики. У противоположной, западной стены они разобрали машину до станины и теперь потихоньку собирают, заменяя износившиеся детали или подтачивая их, налаживая. Звякнет металл, блекло-желтым светом исходят лампочки в цинковых абажурах, похожих на корытца, идет неспешный разговор о всяких житейских случаях…
«Может, мне в ремонтировщики податься? — думает Игорь. — Если что, в ткацкую, там интересней…»
Но это он думает не всерьез, а просто чтобы отвлечь себя. И на подъемнике ему неплохо. Старик, которого он сменил, лет десять пребывал в этой должности, с нее на пенсию ушел. Под мыслью о работе, как под тонкой кожицей, жарко пульсируют другие, сильные, тревожные. Игорь почувствовал сразу: здесь, на фабрике, иная жизнь, чем была в школе. То, о чем в школе не очень-то принято говорить, что больше подразумевается, чем принимается во внимание, на фабрике выступает во всей предметности своей. Шагнув через порог проходной, Игорь мгновенно передвинулся из круга сверстников, однокашников, почти во всем ему равных, в общество людей взрослых, бывалых, которые старше его и умом, и сердцем, и житейским опытом. Они не церемонились с Игорем, как школьные учителя.
Женщины и девушки на фабрике преобладали, и все, даже сверстницы, обходились с Игорем насмешливо, снисходительно, нисколько перед ним не стеснялись. В цехах было жарковато, и работницы не носили на себе лишних тряпок. После «глухих», целомудренных платьев и фартуков старшеклассниц тонкие ситцевые платья с глубокими вырезами, часто без рукавов, да еще и просвечивающие, когда прядильщица стояла возле окна, вгоняли Игоря в краску, так что через цех он ходил, потупив глаза. «Как монашек», — сказала о нем рыженькая дерзкая съемщица.
Надо было обвыкнуть, поставить себя. У ребят, что раньше его пришли на фабрику, Игорь перенял манеру держаться нарочито взросло, многозначительно, делать вид, что все ему тут нипочем. Ему так это удалось, что напускное безразличие перенес он и в дом, где жил с матерью и пятилетним братом, и в клуб на вечера танцев… Очень устраивала его эта манера, удобно было прятать под ней настоящего себя — семнадцатилетнего, чувствительного, ранимого, мечтающего о какой-то особенной, верной дружбе, как у Герцена и Огарева, и красивой, навек любви… Он и сам не заметил, когда защитная эта, прозрачная лишь для него корка начала трескаться и отваливаться с души, словно старая штукатурка… Может, еще в феврале, когда он шел на работу и плакал от резкого блеска снега, испещренного синими тенями и золотыми бликами, от круто-синего, будто летом, солнечного неба и совершенно особого ветра, в котором мешались, попеременно перебарывая друг друга, тепло и стужа. Он шел, жмурился так, что ресницы склеивались, и беспричинная радость переполняла его. Петь хотелось и прыгать по острым, твердым от наста, сугробам… Длилось это недолго, лишь до ворот фабрики, а там в глубину уходило, точно вода под землю. Домой он возвращался уже с другой радостью — тихой, сдержанной, усталой радостью хорошо выполненной работы.
Жизнь у него была хоть и несколько однообразная — работа, дом, друзья, танцы, книги, кино, — но зато спокойная, надежная. И вдруг словно опора ушла из-под ног. Ни покоя, ни надежности. Вроде бы и под его жизнью трещит и проламывается лед, прежде неколебимый, твердый, а нынче весь источенный вешними водами, теплыми ветрами и все более неутомимым солнцем. Все зыблется, все, даже мелкое, мимолетное, будоражит душу. Пребываешь в тревожном, счастливом ожидании какого-то слома во всем жизнеустройстве, переворота судьбы, нечаянной встречи, нечаянного чувства. Смутно, беспокойно, порой иссякает терпение — уж скорей бы! А что скорей — неведомо, одно предчувствие…
Вечером Игорь открывает форточку, гасит свет, ложится и слышит сквозь ровные, сонные вздохи матери и бормотанье братишки робкий ребячий шепоток. И не верится, что это шепчет ручей на дороге за окном, проточивший в колее узкое, глинистое ложе. Ночь студит его, кроет стеклянно-прозрачным лаком, а он, пусть тихонько, а льется, гонит под ледком расплющенные воздушные пузыри. Хорошо и мучительно от освежающего хмельного чувства, в котором все вместе: и радость, и боязнь, и жажда жить долго, интересно, ничего не сторонясь…
Вчера, когда Игорь выставлял из кабины большие металлические ящики из-под пряжи, прошла мимо подъемника девушка. Ящик гулко стукнул о стенку кабины, девушка повернула лицо и усмехнулась — мельком, будто искорка вспыхнула и погасла, при этом глаза ее прищурились, а припухлые уголки губ приподнялись. Только и всего. А Игоря так и обдало горячей, расслабляющей волной.
Девушка скрылась в цехе, а он все стоял в дверях подъемника с ящиками в руках. Ну, с чего бы это? Ведь добрая сотня их проходила мимо всякий день — на смену, со смены, в столовку, и ничего, ровным счетом. И она, эта прядилка или съемщица, наверняка сто раз мелькала перед ним с тех пор, как он на фабрике, — и даже запомнилась. А сейчас вот точно околдовала, и не то что запомнилась— так и оттиснулась в душе: усмешливые темно-красные губы, смуглая кожа, удлиненные от прищура, черные, блестящие, будто жучки-плавунцы, глаза. Что значила ее усмешка? Может, ровно ничего, а может и много, столь много, что и не понять семнадцатилетнему юнцу. Вроде бы мельком глянула и все, враз увидела в нем, и явное, и скрытое…
Пегая, как мартовский снег, голубка раздвигает крылья, машет ими с легким, глухим хлопком и перелетает на подоконник противоположного здания, в котором размещается центральная столовая. Сизый кавалер ее опускается на другом, соседнем подоконнике. Игорь, вздохнув, боком, между машин, выбирается на тропу и подходит к «ташкентке», которую сегодня ремонтируют. Ремонтировщиков нет, они, видно, устроили перерыв. Возле полуразобранной машины на полу лежат рядками мелкие части вытяжных приборов. Игорь опять вздыхает и идет мимо.
Часов в девять в цехе появляется чернявый молодой человек в костюме, при галстуке, с жестким лицом.
— Ты дежурный? — спрашивает он.
— Да.
— А кто дежурит в соседнем цехе?
— Не знаю я…
— Безобразие, — бормочет чернявый себе под нос. Игорь провожает его глазами до тех пор, пока он не скрывается за машинами. Он догадывается, что это старший дежурный сегодня, кто-то из инженерно-технических работников. Слава вчера говорил: если пройдет старший дежурный и увидит его, Игоря, то после этого можно «смываться».
Игорь понимает, что «отмечен» и теперь можно спуститься на подъемнике на первый этаж, взять в гардеробе свое пальто и вязаную шапочку и с легким сердцем выбежать на грязный, мокрый, с черным обнажившимся асфальтом двор, где тоже отблескивают серебром ручьи, хлюпает на мостовой кашица из снега и талой, зеленоватой воды, а в тупике, под стенами корпусов, в тени затаился зернистый, серый, как мокрый сахар, сугроб. А там — проходная, кивок и улыбка скучающему охраннику и ты — в городе, среди веселых, отдыхающих от работы людей.
И все же очень спешить не стоит. Кто знает этого старшего дежурного, вдруг обратно пойдет опять через этот цех?.. В конце концов, за дежурство дают отгул, полный рабочий день, а он и полсмены не отдежурил…
— Эй, парень…
Игорь оборачивается. Так и есть, старший дежурный.
— Тебе все равно, где ходить. Поглядывай и за этим цехом. Чтобы все было, усек?
— Усек, — растерянно кивает Игорь и косится на окно, за которым все ярче разгорается весенний день.
Надо же, собирался в город, а сделался вдруг дежурным сразу на два цеха. Дежурным… «Вообще-то дежурства эти так, на всякий пожарный, — объяснял ему Митя. — Обычно ничего такого не случается…»
И верно, обыкновенно ничего такого не происходит. Солнце освещает окна цехов сначала с восточной стороны, выстилает по всей длине боковой тропы опаловые полосатенькие дорожки, а к полудню их сворачивает. Полнятся янтарным блеском западные окна, значит, солнце стоит прямо над крышей фабрики. Уходят ремонтировщики, уборщицы, обметчицы машин, только сверчки перекликаются в безлюдных цехах и коридорах. Наконец, постепенно блекнут и начинают синеть восточные окна, а от западных тянутся к машинам низкие тучи, сначала розовые, потом красные и, наконец, алые снопы закатного света прорубаются между «ташкенток», отбрасывая их тени на торцы машин следующего ряда…
У ремонтировщиков, к которым направился Игорь, дело движется к концу, видно, легкий ремонт выпал. Теперь надо, коли уж назначен, заглянуть для очистки совести и в другой цех.
Там тихо и пусто. Только на подоконнике сидит девушка с толстой книгой на коленях, так сидит, словно она тут уже неделю. Она в косынке и вязаной кофточке, в юбке из джинсовой материи и вышитыми на подоле красными цветочками, в сапожках на высоком каблуке.
— Ты что здесь делаешь?
Девушка складывает книгу, засунув палец между страниц, мгновение смотрит на Игоря светло-карими, золотистыми глазами по-детски невинно, удивленно.
— Как что? Дежурю.
Поразительно! Врет и не моргнет даже. Игорь на секунду-другую готов поверить, что старший дежурный пробежал, ее не заметив. А может, она на минутку отлучилась, а он в это время и пробежал?
— Привет, — говорит Игорь с коротким, нервным смешком, — я ваша тетя. А что это старший дежурный тебя наискался?
— Когда? — тень тревоги и смущения на широконьком, крепком, как яблоко, лице девушки.
— Да только что. Еще мне наказал: пригляди за этим цехом.
Девушка пожимает плечами, но голос ее звучит не совсем уверенно:
— Уж не знаю. Я все время тут… была.
Игорь садится на подоконник, и девушка чуть-чуть подвигается, хотя окно широкое и места достаточно, тут в перерыв почти вся бригада съемщиц сидит, сидит и чирикает, напоминая Игорю стайку воробьев на ветке акации или ласточек на проводах. Некоторое время он молчит, глядя куда-то вниз, недоверчивая улыбка комкает его губы.
— Слушай, — поворачивается он к девушке, — мне-то зачем темнишь? Ведь я не начальник, докладную писать не стану, объяснительной не потребую. Тебя же сапожки выдают. Грязь на них не обсохла, вон и крупинки льда не успели растаять…
Щека девушки, обращенная к Игорю, розовеет, словно кто-то в кумачовой рубахе сел рядом с ней. Она наклоняется, разглядывает озадаченно свои сапожки и поджимает ноги.
— Попалась, — вздыхает она и уголком глаза косится на Игоря. — Заметливый ты больно, прямо Штирлиц.
— Я не люблю, когда врут.
— Будто я люблю? Приходится.
— Вот и не надо. Так и скажи, что проспала, бывает.
— И совсем не проспала. Я, хочешь знать, еще в четыре утра поднялась.
Игорь отвечает недоверчивым взглядом. Выпуклая, пушистая, как персик, щека девушки опять розовеет.
— Че слово. Маме помогала. Потом побежала на дорогу первый автобус ловить, а его, первого, что-то не было, пришлось восьмичасового дожидаться…
У нее плотная фигурка, смуглые и крупные крестьянские руки, деревенский здоровый цвет лица.
— Так ты из деревни сюда бегаешь?
— Не, я вообще-то в общежитии. На выходные домой езжу.
Так вот почему он не встречал ее ни на танцах, ни в кино, иначе бы непременно запомнил. Игорь не думает о том, почему именно «непременно», но ему делается жалко, что эта девушка на выходные исчезает из города.
— А что за деревня?
— Сорвачиха.
Игорь напрягает память. Кажется, есть такая где-то в глухом углу района, далеко от междугородных дорог. Чего она там нашла столь уж интересное, что ни одного выходного и праздника не может провести вне этой самой Сорвачихи?
— Чай, скука там?
Девушка отвечает, не думая, задорно, с обворожительной улыбкой:
— Я что-то не заметила.
И скучно делается Игорю, скучно оттого, что эта девушка, свежая, искренняя, душевная, там, в богом забытой Сорвачихе, не вздохнет даже о танцах, кино, кафе с дискоклубом, о нем, наконец, — фабричном пареньке, у которого еще нет подруги и которому, если бы не эта Сорвачиха, она могла стать подружкой…
— Что уж там у вас особенного?
— Да ничего… Клуб есть маленький, мест на тридцать. Дом, семья…
— Семья?
— Ну, родные. Мама, сестренки, братишки…
— А отец?
Он с нами не живет.
«И с нами не живет», — едва ли не радуется Игорь этому печальному совпадению. Ему чудится — и тут есть что-то сближающее их и уж не первое, первое — фабрика, воскресное дежурство в смежных цехах. Игорь сбоку, так, чтобы это не было замечено девушкой, пытливо всматривается в нее. Миленькая. Лоб узковатый, выпуклый, лицо возле глаз широконькое, а потом сердечком сводится к подбородку, глаза продолговатые, шоколадные, нос короткий, вздернутый, и оттого, что он вздернут, верхняя треугольная губка приподнялась, а нижняя мягка и округла. Небольшие уши прижаты к вискам и полускрыты темно-русыми, плотными прядками, шея круглая, с особенно нежной бело-золотистой кожей возле мочек и подбородка. Знакомое ощущение пронизывает Игоря, в нем все разом — и радость, и печаль беспричинная, светлая, и удивление этой деревенской еще девушке, хотя, рассуждая здраво, чему тут дивиться? Полно на фабрике таких девчат, глаза разбегаются, но все они далеко, а эта вдруг приблизилась и вот — сидит рядом: дышит, улыбается, говорит — живет одновременно и вместе с ним, и жизнь ее особенна, неповторима, единственна и все понятней ему…
Сильный металлический шум взрывается в смежном цехе. Девушка поворачивает голову, потом обращается глазами к Игорю.
— Что это, а? — и губы ее на последнем звуке остаются приоткрытыми, ждущими.
— Машину запустили. Там ремонтировщики. Собрали ее и пробуют.
— А… — кивает она, и губы ее смыкаются.
Машина шумит, старается. В одиноком шуме ее легко различимы и жужжание веретен, и стук сцепляющихся зубьями шестеренок, и гул вертящегося полого барабана.
Игорь некоторое время пережидает шум, но машина все работает. А ему необходимо узнать, что же притягивает эту девушку в Сорвачиху, ведь не просто из привычки она там всякий выходной, так что ни попутный, проездом концерт Хиля, ни ансамбль цыган из Владимира не могут выманить ее оттуда.
— Ты и нынче ездила в деревню?
— Ага…
— Вот и опоздала. Ведь знала, что тебе дежурить. Могла бы уж разок и не ездить.
Девушка раздумчиво качает головой.
— Нет. Надо было…
— Да чего уж надо-то? Чай, не семеро по лавкам.
— Не семеро, — подтверждает она серьезно. — Всего трое. А с ними забот немало. Мама там одна, да болеет. Теперь вот погода меняется, а у нее руки ломит. Вот эдак сведет, — девушка перевертывает руки ладонями к себе и скручивает пальцы, — и ни в какую.
— Понятно, — Игорь с уважением смотрит на девушку. — Тогда понятно.
— Глядишь, я приеду — хоть немного поделаю. Я работы не боюсь, она меня боится.
Машина так же внезапно смолкает, и голос девушки ручейком ночным, негромким точится в наступившей тишине:
— Мама тоже ни от какого дела не отлынивает, да руки вот… Она хорошей дояркой была, а на ферме работ невпроворот: и корма раздать надо, и воды из колодца вдоволь натаскать, и всю свою группу выдоить, круглый год в заботах, а зимой холодно, вода ледяная — пальцы немеют… Ей товарки говорили: «Смотри, Галина, съезди в город к врачу, пока не поздно». А она все: «Некогда», придет домой, перетерпит или полечит, чем придется, нашатырем или одеколоном, вот и довела до некуда. Руки ей совсем скорежило. К врачу в город поехала, а он ей: «Что ты раньше-то, милая, думала?»
Девушка оглядывается на чьи-то бесцеремонные шаги и голоса и умолкает. Мимо проходят ремонтировщики. Молодой, черноусый, прищуриваясь, взглядом знатока окидывает девушку с головы до ног, потом переводит глаза на Игоря и щелкает языком. Поощряющая усмешка на его губах, под усами: ничего, мол, действуй. А Игорю неловко, что его разговор с девушкой, такой сердечный, доверительный, кто-то истолковал как простое ухаживание. Само собой, не без этого, но тут все тоньше, душевней, сложней. И однако не без дальнего прицела. Пожалуй, прицел-то как раз слишком поспешный и столь дальний, что Игорю представляется: эта девушка и его согревает заботой своей, ровным ясным светом наполняет всю его жизнь, и каждый день его начинается с ее приветливой улыбки. По выходным они вместе ездят в Сорвачиху, к ее маме, и он там тоже старается помочь, ведь кое-что и он умеет: носит воду от колодца, колет дрова, поднимает повалившийся забор… Ну-ка, скорей назад, иначе в эту сторону далеко можно забрести, пожалуй, и себя самого потеряешь…
Голоса и шаги ремонтировщиков еще отдаются в лестничном пролете. Игорь облизывает губы, он всегда так делает, когда нервничает или испытывает душевное напряжение.
Точно прядильщица нитку, Игорь пытается срастить и продолжить прерванный разговор:
— А отец раньше вас оставил или потом, после?
Девушка сводит брови, смотрит вопросительно, наверно, пытается понять вопрос.
— Ну, когда у нее руки свело или раньше?
— Раньше. Он не то чтобы оставил. Скучно ему стало в деревне. Он на все руки у нас: и тракторист, и шофер, и экскаваторщик. Поехал на Север работать. Там, говорит, веселей, есть где развернуться. С тех пор и не показывается. Иной раз вроде бы спохватится, вспомнит про нас и денег пришлет или открытку…
Игорь глубокомысленно хмурится, качает головой.
— Нынче что-то много разводятся… Значит, вы всех кормите?
Девушка вдруг прыскает, зажимая рот ладонью. Смеющиеся глаза ее постепенно, будто через силу, приобретают выражение виноватое, сконфуженное.
— Нет, и мама работает. Она в завклубы пошла.
— А…
В цехах теперь тихо, и только два их голоса звучат среди отдыхающих прядильных машин. Игорь вспоминает то ли вычитанное где, то ли услышанное, может, по радио: «Ты мне петельку, я тебе петельку — так и плетется кружевце…» И верно, думает, кружевце тонкое-претонкое. Ему кажется, в разговоре с девушкой постепенно, потихоньку, от нее к нему и от него к ней протягиваются незримые нити понимания, сочувствия, слияния двух разъединенных прежде жизней в единое, согласное. Хочется подвинуться к девушке, ласково обнять за круглые обтянутые вязаной кофточкой плечи и сказать что-то доброе, утешающее, например: «Ничего, не так уж все плохо, главное — выдержать». Вместо этого он кладет детектив возле себя и опирается руками о шершавый подоконник. Он боится, боится нарушить грубым или излишне смелым движением это постепенное, волшебное сближение.
— А что у тебя за книга?
— Роман. Грузинский.
Девушка открывает пухлый, крепко зачитанный том, листает его до титульной страницы и показывает. Так и есть, рядом с титульным листом картинка: горец в папахе, в бурке, и черноглазая красавица, столь тонкая в поясе, что, кажется, ей и перегнуться нельзя — сломается с легким стеклянным хрустом, будто ножка у рюмки. Рука девушки ложится на картинку и лежит секунд десять, распластавшись кленовым листочком, и все это время Игорь с неясным тревожным чувством смотрит на нее, верней, на узкие, ухоженные, вишневые ноготки, даже с каким-то узорчиком, нанесенным капельками светло-розового лака. Правда, при наивной, почти трогательной претензии на моду это все же рабочие руки, ногти по краям в зазубринках, посечены нитками. Игорь никак не может отвести от них взгляд. Но девушка закрывает книгу, уже не закладывая в нее пальцы, и он с трудом находит, о чем бы еще спросить:
— Нравятся такие?
— Ага. В них любовь всегда переживательная. В других читаешь — все обыкновенно, а тут столько всего… Интересно читать…
Игорь опять смотрит на ее руки, сложенные на коленях. Пальцы подогнуты внутрь, а ему все видятся лаковые заостренные ноготки с точечными изображениями цветка. Ничего не скажешь, глядится, но сколько времени надо положить на это. Впрочем, им в общежитии, наверно, делать нечего, вот они и украшаются от скуки. Ничего тут плохого нет, и все же в сплетенном уже кружевце отношений его с девушкой излишне натягивается основная, ведущая нить, узор рвется, распадается…
Опять стонет голубь за окном, словно от настойчивой, томящей боли. Девушка оборачивается. Игорь повторяет ее движение. Сизарь один семенит по ржавому карнизу, но то и дело поглядывает вниз, наверно, пегая голубка его где-то там, может, на окне второго этажа.
— Ишь ты, расфуфырился как, — усмехается девушка и щелкает ноготками по стеклу.
— Весна, — говорит Игорь, вроде бы вступаясь за сизаря.
— Да, — соглашается девушка и машинально, любовно поглаживает загнутую вперед упругую прядь возле щеки. — Коровы вот так же. И телята, — добавляет она вдруг. — Их выгонят во двор на прогулку, а они мычат, боками о загородку чешутся…
Игорь слышит ее голос, но то, что она сейчас говорит, для него лишь звук, не больше. Он одним озабочен — как подвести разговор, ничем не выдав себя, к самому теперь главному. Девушка хорошая, замечательная, диво, если ее, такую вот, до сих пор никто не «застолбил», выражаясь словечком Мити. Какая бы удача, если бы в самом деле не…
— Молодежь-то в деревне есть?
— Есть, а как же?
— А парни?
— А все больше парни. Механизаторы…
— Это хорошо, — говорит Игорь поперек сердца. А какое там хорошо — плохо для него, хуже некуда! Может, оттого она там и в выходные, и в праздники? Помочь матери — это само собой, но и по другой причине тоже.
— Ну, а твой парень как относится, что ты ездишь туда? — торопится Игорь, и голос у него сипнет от волнения.
— А никак, — весело отвечает девушка, — нет у меня парня, мне и так пока хорошо…
У Игоря валун скатывается с души, так делается легко, что впору запеть. Он смотрит на девушку обрадованно, обнадеженно, хочет о последнем спросить, самом-самом главном, но в это время на боковой тропе появляется помощник мастера Коровкин. Угловатое, резко очерченное лицо его выражает глухое раздражение. Он, видно, весь свой цех прошел, отыскивая Игоря.
— Эй, ты, что ли, дежурный?
— Я…
— Почему свет горит на девятой машине?
— Свет?.. А, это ремонтировщики оставили.
— Смотреть надо, — строго, назидательно говорит Коровкин. — Пойдем, раз уж ты здесь, сдашь дежурство.
А Игорь и без того уж идет к нему и раз лишь всего оглядывается на девушку. Как не вовремя этот Коровкин! Девушка достала из кармана зеркальце и держит его у самого носа, то ли брови подводит, то ли убирает выпавшую ресничку. Зеркальце, видно, круглое — круглый светлый блик на лице девушки выделяет губы, мягкий подбородок и кончик носа.
В цехе, в его цехе, сумрачно, или так кажется оттого, что за спиной, в другом цехе, осталась девушка, с которой он только что был вместе. В окнах, по обе стороны, воздух блестит и колышется весь от яркого солнечного света, и лампочки, тлеющие над отремонтированной машиной, тусклы, будто свечи. Коровкин мимоходом щелкает выключателем, обводит взглядом ряды машин, ящики, поммастерские шкафы, тележки съемщиц, похожие на детские коляски
— Ладно. Считай — принял.
— До свиданья, — бросает Игорь уже на бегу и летит в смежный цех. Подоконник пуст, а по тропе, ему навстречу, медленно идет женщина лет сорока.
— Здесь девушка была, дежурная.
— Была. Сдала дежурство да ушла.
— Когда? Давно?
— Да сейчас вот…
Игорь летит дальше, ищет на звенящей под подошвами железной лестнице, в раздевалке с узкой, прохладно светящейся полоской зеркала в углу, в коридоре, в фабричном дворе, полном звуков капающей и льющейся воды, плеска голубиных крыльев и голубиных стонов. Девушки нигде нет, она точно растаяла в этом мокром весеннем свете. Игорь проскакивает проходную, мост, на узком тротуаре ловко, быстро обходит встречных и никуда не спешащих попутных прохожих… Вот и ограда общежития, вот длинная дорожка к подъезду. Идти туда, спросить, вызвать! Но он не знает ни имени ее, ни фамилии, вот дурачок-то, вот недотепа! Два часа, самое малое, разговоры плел, а о самом простом, о том, что любой мальчишка, первый раз заявившийся на танцы, старается узнать в первую очередь, и не позаботился…
Остаток дня проходил кое-как, в сумятице душевной и нетерпении. Игорь не мог усидеть дома. Пообедав наскоро, без аппетита, лишь бы мать убедилась, что он сыт, Игорь снова надел пальто, кепочку, сунул ноги в жаркие, еще зимние ботинки и до боли в щиколотках мотался по весенним улицам, залитым кашицей из снега, грязи и воды. Он искал эту девушку, верил, что она должна ему встретиться, непременно, вновь и вновь напоминал себе: «Сегодня она не уедет уж в свою Сорвачиху, зачем ей ехать всего на один вечер? Она не уедет и, значит, сейчас здесь, в городе, может, пойдет на танцы в клуб…»
Он обнадеженно вглядывался в каждую встречную девушку, и каждая напоминала ему ту, которая недавно была так близка и о которой он мечтал. У одной он обнаруживал похожую прическу и цвет волос, у другой — губы ее и улыбку, у третьей — такой же вздернутый мягкий носик, такие же юбку и сапожки. Но было у всех девушек и другое сходство с ней, не в чертах лица, не в одежде, а в чувстве, настроении, блеске глаз, походке, — весеннее, свежее, словно бы очнувшееся от сна.
Уже под вечер, у продовольственного магазина Игорь встретился случайно со Славой. Они остановились на тротуаре, среди прохожих, заговорили. Слава нес в одной руке транзисторный магнитофон, а под мышкой другой держал круглый продолговатый сверток.
— Тут один дружок приехал, — торопливо объяснял Слава, — он играет в ансамбле на бас-гитаре, у него шикарные записи. Вот собираемся компашкой покейфовать…
— А кто будет?
Слава перечислил всех, кто собирался прийти. Имена парней были Игорю почти все знакомы, а девушек он не знал. Слава перечислял их небрежно, скороговоркой: Люська, Анька, Светка…
Слава поспешил дальше, а Игорь повернул домой, чтобы отдохнуть немного и переодеться на танцы.
Народу в клубе было мало: в этот день в кинотеатре показывали «Мстителей» и чуть не вся молодежь повалила на вечерний сеанс. Игорь вскоре убедился, что ее здесь нет, но остался на танцах. Ему нравилось вновь и вновь обнаруживать похожее на его девушку в других, это как-то успокаивало, ободряло. Он приглашал похожих и подходил к ним смело, уверенно, точно давно их знал, был с ними дружен. Танцевал он в охотку, и все они были для него близкими, понятными, хорошими. Небольшой инструментальный ансамбль играл нескладно, но громко. Игорь танцевал даже в перерывах, когда ансамбль отдыхал, а включали стереоустановку. Острое, сквозящее чувство, которое было в нем с утра, теперь уж не кололо, не пронизывало, а грело какой-то особенной, уверенной радостью.
Ночью, засыпая, он вспомнил кислое, насмешливое лицо Славы, вспомнил, как тот равнодушно называл имена девушек, участниц «компашки». Скучно, должно быть, ему. Или делает вид, что скучно? «Все же лучше жить, как я сейчас, то есть верить, ждать, надеяться. Может, это обман все… Вот еще странно: я люблю всех их в одной и ее одну во всех… Что-то делает она сейчас? Наверное, спит…» И Игорь попробовал представить ее спящей, с ладошкой, подложенной под выпуклую щеку, с закрытыми глазами и по-детски слабым ртом. «И пускай, что тебе никого не надо. А мне ты нравишься, мне хорошо оттого, что есть на свете ты, и я тебя все равно встречу…»
А та, о ком думал Игорь, в это время входила в комнату, где жила с другими двумя девушками.
— Приветик, — сказала она с порога, вяло махнув рукой, и стала медленно, лениво расстегивать пуговицы пальто, разматывать с шеи длинный вязаный шарф и все это — пальто, шарф, шапочку — одно за другим бросать на свою койку. Оставшись в свитере и юбке, она села на постель, потом легла, закинув руки за голову и свесив ноги в зимних сапожках. Скуластое треугольное лицо ее было капризное, пресыщенное, совсем не девичья искушенность проявилась вдруг в ее глазах, полуприкрытых подкрашенными веками и толстыми от туши ресницами.
— Устала, — обронила она. — Ничего не хочу. Спать только.
— Где пропадала? — спросила одна из подруг, полная девушка, склонившаяся над вязаньем.
— Да так. Кое-где.
— Повеселилась?
— Угу… Один парень приезжал, артист филармонии. Записи у него — лучше не надо. Эх, и напрыгались мы все!
Равнодушно обводя глазами знакомые стены, примелькавшиеся картинки из киножурналов и увеличенные фотографии, она задержала взгляд на третьей девушке, чья кровать стояла под окном, и захихикала.
— Ленк, а тебе нынче не икалось?
— С чего это?
— А с того. Я тебя вспоминала.
— С какой стати?
— А с такой. На дежурство проспала. Все думала, как бы вывернуться, и тут подходит один, он на подъемнике работает, вроде с первой смены. Подходит и начинает кадрить, душевные разговоры разводить. — Она опять хихикнула. — Ну, а я ему в тон, да все твое и выложила.
— Это как же?
— Ну, про Сорвачиху, мать больную, в общем — все… Знаешь, железно действовало. Он так и таял, расчувствовался, ну, мальчишка совсем…
Она села на кровати и двумя ладонями сразу звонко шлепнула себя по круглым, гладким коленкам.
— Действует, это самое главное! Раз на него действует, значит, и на начальство.
Она задорно подмигнула Лене кукольным, подрисованным глазом.
— Ну, откуда ему, начальству, знать, кто я и что я? Нас у него сотни, попробуй запомни, кто из Сорвачихи, кто из Катунок или еще откуда… Если потребуют объяснительную за опоздание, уж я им напишу, уж я им нарисую. Прослезятся, вот как нарисую!..
Лена, час назад приехавшая из Сорвачихи на последнем автобусе, растерянно уставилась на Аню, словно первый раз видела. Это была широкая в кости, нескладная девушка с плоским конопатеньким лицом и зеленоватыми строгими глазами. Она долго, озадаченно смотрела на подругу, свесив вдоль тела длинные руки с красными и как будто набухшими кистями, потом разлепила сомкнутые заветренные губы и тяжело, медленно, с усилием сказала:
— А нехорошая ты, Анька. Артистка в жизни, вот кто ты.
И отвернулась. И стала разбирать свою постель.
Аня было задумалась, прикусив нижнюю пухлую губку, но тут же пренебрежительно отмахнулась.
— Ар-тист-ка в жизни… Скажешь тоже. А чего плохого? Умненько придумано, разве нет? А ну тебя. Сама живешь лошадкой — ну и живи, на то твоя добрая воля, и другим не мешай жить. — Она тряхнула ухоженными, рассыпающимися по плечам волосами. — А мне нравится вот так: отработала — повеселилась, опять отработала свое — и опять повеселилась. А что еще-то, а?..
Лена ничего не ответила. Она уже легла, вздохнула облегченно под одеялом и повернулась лицом к стене. Ответила полненькая:
— Ты же у нее биографию украла.
Аня фыркнула.
— Полно-ко. Еще воровкой обзови.
— А что? — стояла на своем полненькая. — И назову. Зачем себя за кого-то другого выдавать?
— А ну тебя! — с раздражением отрезала Аня.
Они долго ворочались, пытаясь заснуть. Но сон не приходил…



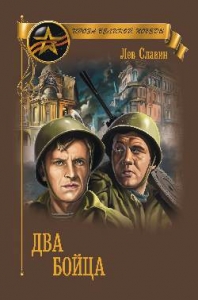
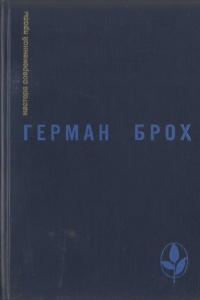

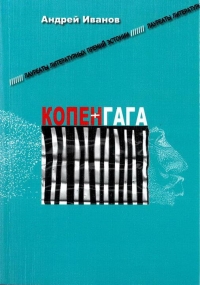





Комментарии к книге «Воскресное дежурство», Александр Малышев
Всего 0 комментариев