Поговорим о странностях любви
РЫБКА ЦВЕТА ОРЛА Рассказ
В. Надеину
I
— Хомячок, ну где ты там? Забыл, что ли: скоро за тобой придут. Опять задом наперед! Чучело-мяучило, вот ты кто!
Ну-ка, переодень, кому сказала? Оставь, Лида! Он прекрасно знает, как себя вести. Но чтобы слушаться в воскресенье — извините! Наказание, а не сын. Мало мне этого дежурства, так ты еще на мою голову! За всю ночь ни на минутку не присела. Возили и возили. И все с «задним симптомом». Что? Это мы так называем, когда «скорая» подъезжает к приемному покою задом. Значит, вынесут на носилках, больной тяжкий, сразу на стол. Один за другим, как из мешка. Никак не очухаюсь. Голова совсем чугунная. Ухайдакалась.
Ты чего вскочила? Сиди. Я просто так рассказываю. Тоже мне, трагедия: ургентное дежурство! Сядь, Лидка. В кои-то веки приехала, и сразу бежать. Сейчас поставим кофеек. Дай только переоденусь. Ф-фу, сразу легче… Ну, как тебе? Фирма? Угадай! Самшит. Ну, сама шила. Экономлю стране валюту. Наконец-то! Вообще-то Хомячок у нас сознательный, но как подходит воскресенье — туши свет, кидай гранату! Да-да, это про тебя! Стоп. По-моему, звонят. Иди открой. Да, Олег берет его на выходные. День проводит с отцом, а в понедельник как посыпятся вопросы: «Мамочка, Дед Мороз может забрать прошлогодний велик и привезти новый?» Или еще: «Раз вино делают из винограда, давай возьмем бутылку и выдавим из нее виноград!» Как-то целый вечер сидел тихий такой, нахохленный. Думаю: все, опять желёзки. Подхожу пощупать лобик, а он вздыхает, знаешь, тяжело-тяжело так, и спрашивает: «Как ты думаешь, бывают рыбки цвета орла?» Мне бы твои заботы! Тут стирка, уборка, базар, во второй палате один доходяга, Каленюк, молодой парень, всю ночь стонет: двойной перелом со смещением, не хочет, подлая, срастаться, а тут — на тебе: рыбка цвета орла!
Турнула я Хомячка, накричала на него по-черному. Жутко обиделся, третий день делает все назло. Где в них, в таких малых, помещается гордость, а? Он, легок на помине. Звонили? Опять почудилось… Небольшой перекусон, м-м-м? Нет, товарищ, сперва давай кашу, затем компот, а тогда уже мультики. Жуй быстрее, ну! И в кого ты такой медлительный, а? Может, ты подкидыш? А вот так: не мой ты сыночек, а графа Монте-Кристо. Ну, не самого графа, так его заместителя. У, хитрюга! Привык, что за едой я плету ему всякое, и не хочет есть без конферанса! Разбаловали с пеленок. Помнишь наш переполох? Да-да, врожденный вывих бедра. Сейчас это у многих. Дышим дрянью, дрянь пьем, а дети страдают. У другого бы сразу заметила, а тут проворонила! Профессор сказал: на полгода в гипс. Но я упросила Аду Ивановну, чтобы попробовали подержать его в стременах. Ножки разводят в стороны и так фиксируют, чтобы кости формировались правильно. Бедный Максютка, ему уже бегать охота, а он лежит распластанный, как цыпленок «табака», ни повернуться, ни встать, оре-от!
Если бы не Олег, я бы спятила. Где он эти сказки брал, как выдумывал? Полгода заговаривал пацану зубы, лишь бы тот лежал спокойно. Кстати, как раз тогда и зубы шли. Бр-р, как вспомню… Ты, Хомяк, ничегошеньки не помнишь? Придет время писать мемуары, голова прояснится. А пока ешь скорее. Опять сказку! Ну, что тебе рассказать, чудо ты мое чумазое? Про принцессу? Ладно. Жила-была одна красивая принцесса… Ты прав: принцессы всегда красивые. Такая профессия. Но эта принцесса была особенно красивая. В трамвае на нее все оборачивались. Снова ты прав: зачем принцессе трамвай? Раз ты так здорово разбираешься в этом, то я буду есть, а ты мне рассказывай! Не хочешь? Не жаль тебе бедную старенькую мамочку? Так глотай скорее, деятель! Видела: набьет полный рот и часами держит за щекой, как хомяк. Постеснялся бы тети Лиды. Представляю, что она расскажет своей Томочке. Сын мой! Ты будешь навеки опозорен! Ладно, еще пять ложек — и финиш.
На подоконнике «Интер». Бери, бери. У меня еще целый блок. Думаешь, больные приносят? Сами рады у меня стрельнуть. Ладно, открою секрет. Когда мы пошли разводиться, я Олегу сказала: хочешь платить алименты — давай болгарскими сигаретами. У нас в отделении пронюхали, все решили мужей бросать! Даже Ада Ивановна. Черт с ней, говорят, с серебряной свадьбой, лишь бы душевно покурить. Съел? Молодец, садись, пять. А что Джерри уплетает? Ну конечно, он скормил ей кашу! Видала?! Максимка, я как человека прошу: доешь! Считаю до трех. Ра-аз. Два-а. Два с половиной. Два на ниточке… Еще ложку, ну? Два на паутиночке. Два на иголочке… Три! Все, милый, с меня хватит! Останешься без мультиков. Мультики будет смотреть Джерри. Она мне не полировала кровь, как некоторые дети. Иди, сиамочка, сюда. А ты брысь отсюда. Мультики делают для послушных детей. Если показывать их таким хомякам, как ты, телевизор лопнет от возмущения. Тебе-то что: насмотришься своих Чебурашек, и гуд бай на целый день, а бедная мамочка останется куковать у лопнувшего телика. С ним посмотришь, ага! Ничего, утром в автобусе обсуждают предыдущую серию, я в курсе. Но перечитывать все равно тянет. Вдруг мне стало жалко Каренина. Вполне приличный человек. Он же не виноват, что у них с Анной разные генетические типы. Кинь спички.
Олег-то? Как тебе сказать… В принципе хороший парень… даже слишком хороший… Потому-то мы, наверно, и разбежались. А, долгая история. Зато пока разводились, я похудела, теперь на меня налезает любое платье, вот!
Чего приполз? Да он не ревет, он притворяется, правда, Максим Олегович? Две слезы, три, четыре, разве это плач? А ну, сыночек, зареви погромче! Наморщи нос, потри глаза кулаками!
Давай-давай! О-о, это уже кое-что! Больше страдания, парень! Ты почему родную мать не слушаешься? Велено плакать, а ты хихикаешь. Ах, ты больше не будешь? Вообще? Поступило предложение простить. Других предложений нет? Вы прощены, сэр. Но с одним условием: покорми своих рыбок и сложи игрушки. Ты прав, это уже два условия. Хорошо, игрушки сложишь потом. Чего ж ты сразу весь корм бухнул, а? Целый банкет закатил рыбкам! Прямо с ума сходит, когда время идти к отцу.
А то не обидно… Нет месяца, чтоб не простыл, бесконечные анализы, банки, горчичники. Гольфы постираешь, через минуту чернее грязи, в саду утренник — подавай ему корону, как у Пети Калмыкова… Потом подходит воскресенье, и этот подлый ребенок чешет к папочке за сказочкой. Как мы девчонками бегали на Высоцкого. Помнишь, он тогда снимался у нас в городе. Толпами шастали за ним. А народного артиста так ему и не дали. Да ему-то, наверно, ни к чему. Но для нас всех, для народа!
Вот и Максимка точно так же бегает за отцом. Особенно теперь. Я как-то отчитала его: не мог, мол, прийти пораньше. А он: «Захочу — совсем от тебя уйду!» Потом раскаялся, приполз: «Мам, прости меня. Хочешь, я буду не Олегович, а Ольгович?» Ну паршивец!..
Ревную? Да. То есть нет. Скорее озадачена: столько лет прожила с человеком, и хоть бы что. А пацан в нем углядел что-то такое. Вру, Лидка! Нашла и я в Олеге одну симпатичную черту: он хуже слышит на левое ухо. Чего ты заливаешься? Ей-богу, для меня это была находка: хоть какой-то изъян, что-то человеческое! Вы же его знали по работе, по компании: симпатяга, душа человек, всех заведет, растормошит, развеселит. В общем, мюзик-холл, КВН и цирк, вместе взятые. Все правда. А у меня в глазах уже мелькало от этого цирка. То приволок мне в подарок двух новорожденных козлят. Другой раз прихожу, смотрю: на стенке выложено деньгами мое имя-отчество. Специально, гад, взял зарплату рублями! Я неделю их сковыривала с обоев. А эта стенгазета? Каждый месяц выпускал, не лень же было! Называлась: «За здоровую Ольгу». Открой форточку, пусть вытянет дым. Сперва, конечно, было здорово. Но ты себе представляешь, что такое семь лет быть замужем за мюзик-холлом? Приползаю с дежурства, язык на плече. Ампутация, старушка с переломанной шейкой бедра, на оперативке долбали, то-се. В автобусе давка, на улице жара. А дома мой ненаглядный со своими розыгрышами и фантазиями. Напридумал себе игр и балуется всю жизнь. А ты или подыгрывай, или сиди в первом ряду партера и любуйся. Не хочешь — значит, ты плохая жена. Попробуй объясни ему: это не я плохая, это он слишком хороший. Аж противно. Вот ты говоришь: твой Серега зашибает. Удовольствия, конечно, мало. Но эту дурь ты из него выбьешь, а у моего красавца она навечно. То-то я подпрыгнула, когда узнала, что Олег на одно ухо хромает, хоть какая-то щербинка на иконке!
Сы́ночка, готов? Нет, в свитере будет жарко. Надел бы курточку. Подумаешь, старая! Ужас до чего кокетлив. Все его балуют, как же, сыночек-одиночка! Он, хитрюга, чуть что, закроет глаза и канючит: «Да-а, папа разрешил, а ты…» Надо будет поговорить с Олегом. Хотя толку-то… Олег и со мной так: слова не успею сказать, он тут как тут: сделаю, принесу, куплю! Ты права: нормальная баба на цыпочках бы ходила за ним. Ну не могу, не могу я без конца смотреть на эти покорные глаза! Давай еще покурим? Лови спички. Фу, черт, промазала. Руки после дежурства — ну никуда! Стала я его как-то подначивать: мол, что ты за муж, — посуду не бьешь, меня не тиранишь, скучная у нас жизнь, — обиделся! Два дня дулся. Я его даже зауважала немножко. Садимся ужинать, взяла салат его фирменный, что такое: на дне тарелки — знакомая физиономия. Это же я собственной персоной! Представляешь?! Взял, оказывается, мой свадебный снимок, отнес в мастерскую, где переводят фото на керамику, знаешь, для памятников, и получилась я на тарелке с торжественной рожей! Я ем салат и хохочу как безумная. Он дождался, когда доела, взял тарелку и как грохнет об пол! «И тебя побил, — говорит, — и посуду. Довольна?» Ну, что ты с ним сделаешь, Лидка!
Окурок можно в блюдце. Чистых не останется, тогда и помою. Мама бы меня за это убила. У нее грязная посуда и секунды не стоит, обед, стирка, всё мигом. Это с ее-то гипертонией! Охает, а заявишься к ней, сразу вся гордая и довольная собой.
Так и живем: она делает вид, что абсолютно здорова, я — что счастлива. В общем, живем как все. Один Максимка у нас нормальный человек, да, Хомячок? Но все-таки не настолько нормальный, чтобы сложить игрушки в коробку. Если я ошибаюсь, пусть товарищи меня поправят. Сложил? Ну иди сюда, сы́на, я тебя поцелую. Интересно, он тоже воет от моих наставлений, как я в его возрасте от маминых? Пока малый не родился, я ее совершенно не понимала. Этого не делай, туда не ходи, то не надевай, с тем не встречайся. Наверное, я и замуж-то выскочила, чтобы мне никто не давил на психику. Оказывается, без этого тоже скучно…
Хорошо, голубчик, поиграй, только не здесь. Ты же видишь, у нас с тетей Лидой еще разговор. Папа скоро придет за тобой. Иди, ну! Тот же взгляд. Неужели и он лет до сорока будет ходить в мальчиках? Хватит с меня одного. Олежку-то? Конечно, жалко. Но сколько можно прожить на одной жалости, Лида? Я еще тогда предупреждала: не хочу портить тебе жизнь. Погуляли, и будя. Было хорошо, ну и спасибо. Нечего эти два месяца растягивать на всю жизнь. Олега убедишь, как же! Ночь кругом, а этот деятель сядет на подоконник, свесит ноги с девятого этажа и орет на всю улицу: «Ольга, как честная девушка вы должны на мне жениться! Товарищи, будьте свидетелями!» Я-то? Девятнадцать лет, что я понимала… Ему было под тридцать, но он хуже ребенка, честное слово! В общем, докричался. Мне совестно стало: думаю, может, вправду человек пропадет без меня. А я, глядишь, со временем привыкну. Да и когда-нибудь он повзрослеет. Все-таки семья, дети пойдут. Просчитались, господа! Максютка серьезнее папаши раз в сто. Нет, ты зря. Олежка ничего, но только он вбил себе в голову, что должен шутить из любого положения. И шутит, шутит, шутит!
Раз притащился ко мне на работу, а у нас обход. Слонялся по коридорам, ждал меня. Тут навстречу профессор, сзади все мы. Смотрю, у соседнего отделения мать заталкивает мальчишку в дверь, а он показывает на табличку, ревет, упирается. Шеф зовет Аду Ивановну: в чем дело? Протолкалась поближе, смотрю, на табличке написано: «Отделение уха, горла, носа», а ниже добавлено: «От головы». Рядом, конечно, мой супружник. Доволен как слон! Ему, понимаешь, показалось, что у меня плохое настроение, решил развлечь любимую. Ну?!
Давай поставим кофе, а? Больше, больше сыпь! Ничего, потом отосплюсь. Я как-то даже пыталась сбежать — через день он является. Не ругается, не просит. Голову свесит и сидит. Двое суток так может просидеть. Я уж с ним по-всякому, и лаской, и на самолюбие била. Александрыч, говорю, пойми: ты хороший, но — не то! Я от тебя ничего не требую, только не приставай. Хочешь, говорю, найди себе подругу и утешайся, только со мной не знакомь. А что? Я же знаю: половина баб с «Химмаша» за ним помирает. Одна девуля мне как-то ночью звонила на дежурство. Отпустите, мол, Олега Александровича, я его люблю до смерти. Отпустишь, как же! Прилип, и никуда. В общем, наговорю ему с три короба, а он все равно бухтит: ты самая лучшая, не могу без тебя. И тэ дэ. Ты совсем растрогалась, да? Как же: такие чувства! Твой Серега никогда не скажет? А по-твоему, лучше, если все время говорить, напоминать о себе? Тоже мне, великая любовь! Одно воображение. Придумал идеал и втискивает меня в него. Он как-то объяснял мне, — как в «Зорком» наводится резкость: чтобы светлое пятнышко в окошке совпало с тем, что фотографируешь. А я не совпадаю. Плохой человек я, сосиска? Ну и черт со мной. Но это же я, я, а не кто-то другой! Он-то старается этого не замечать. Если уж сильно не в масть, просто чернеет. Олухи! Остался бы каждый на своей территории, иногда встречались бы под настроение. Он бы приносил мне книжки, развлекал, я бы его утешала по мере сил. Ну свекольник бы иногда сварганила. И прожили бы так всю жизнь.
Ребенок? Думаешь, Максютке легче от того, что мы разошлись через семь лет, а не еще до свадьбы? Только нервы друг другу потрепали. Представь, сейчас, когда мы с Олегом видимся редко, все очень мило. Разговариваем почти без раздражения. Разве что о ребенке. Со стороны послушать: вроде у каждого из нас свой сын. У него веселый, послушный, фантазер. А у меня обидчивый, нервный. Надо было завести еще дочку, а потом уже расходиться. Что ты на меня так уставилась? Виновата я, что ли? Ну и пускай! Лидочка, я, наверно, идиотка, но не могу я беспрерывно любить одного и того же человека! Вру: Максимку могу. И маму. А мужа… Расписались мы, так что, я теперь на всю жизнь семейнообязанная? Да ну его в болото! И вообще всех мужиков! Это же надо: столько не виделись, а я тебе с ходу обрыдала всю жилетку. Надо срочно сушить, а то простынешь. По кофе или по рюмочке? Виски, джин, мартини? Йес, мэм, двойной мартини из сухофруктов. А может… Остатки сладки. Это твоя тезка: «Лидия». И какая: сухая, домашняя! Один тип привез, что кидался с моста. Жена от него ушла, он и сиганул, дурень. Кончаешь с собой, так смотри, куда прыгаешь. Там воды было всего на полметра. По всем правилам от него должно было остаться одно пюре, но бог этих олухов бережет. Правда, поломал все, что ломается, мы три раза его сшивали по кусочкам. Еще разок подлатаем, и пойдет на своих на двоих. Ну, Лидка, будем! Замажем это дело раз и навсегда. За рыбку цвета орла, чтоб мы ей были здоровы! Хорошо пошло? Выпишем повторный рецепт. Как самочувствие? Будете жить, больной!
Что, сыночка? Да, уже одиннадцать. Твой родитель где-то загулял. Кто же тебя будет сегодня пасти, а? Ладно, что-нибудь сообразим. Лид, ты посиди, ладно? Включи мою шарманку, там Джо Дассен. А я Хомячка сведу вниз. Все равно надо за сметаной. Тоже какой молодой умер, а? Нет, Высоцкий — это несчастье, а Дассена просто жалко. Такой мягкий был, ласковый. Мама узнала, у нее приступ начался. Когда с ней что-нибудь случится, думаешь: господи, ничего мне не надо, ничего не хочу, лишь бы только обошлось! Пронесет — и снова тебя закрутит, замотает, забегаешься, про все забудешь, пока снова не стукнет. Может, мы за родителей боимся из эгоизма? Они умрут, и мы как будто наполовину умрем. Сразу остаешься без детства, без молодости. Взрослые, скучные.
За детей? Нет, здесь наоборот. Не будь ребенка, кто о тебе вспомнит? Всех забывают, и хороших, и плохих. Мама, когда рассердится на Джерри, кричит: «Ах ты, склерозница!» А сама-то уже ничего не помнит. Может, это природа охраняет нашу память от тяжелых воспоминаний?» Иду, сына, иду! Видишь, что мамка себе позволяет прямо с утра? Ничего, скоро запал кончится, и мы опять станем приличными-отличными. Да? Ну, айда! Олегыч, будем пудриться? Нет? А синие босоножки? Правильно. По воскресеньям каждый имеет право ходить в синих босоножках. Побежали! Ну, кто быстрее? Спорим на мороженое! Конечно, в стаканчиках. Кто же станет есть без стаканчиков?! Оля-ля, дождь! Ну-ка, дай зонтик. Нету? Ты хорошо смотрел? Значит, я у мамы забыла. Черт с ним, побежали. Чур, я пломбир!
II
Зонтик возьми. Сейчас тепло, а через час будет циклон. Где, где: под зеркалом! Ты упрямая, как дядя Женя. Он всю жизнь твердил, что не может спать в комнате, он всегда спал на балконе. Но балкон его не спас. Мы были с ним одногодки. Я ни на что не намекаю. Его инсульт — это его инсульт, а я еще погуляю на Макинькиной свадьбе. Надо же, нарисовал мне в подарок лошадь! Это ракета? Дети сейчас такие развитые. Дай но-шпу. Лучше две. Воды не надо, я так. Закуска без выпивки, хороши именины… Перестань, полежу и встану, что, первый раз? Лучше расскажи что-нибудь смешное. Доктор Вайсфельд говорит, что в моем возрасте нужны положительные эмоции. Кстати, хочешь анекдот? Как сумасшедшие доили корову, слыхала? Ну этот: четверо ее тягают вверх-вниз, а пятый держит вымя? В общем, слушай. Однажды в сумасшедший дом привезли корову… Знаешь? Что же ты сразу не сказала? А-а, рот занят… Слава богу, хоть сейчас научилась быстро есть. Если бы ты еще не следила за фигурой… где ты видишь этот вес? Не смеши меня! Тебя же насквозь видно без рентгена.
Да — сижу я вчера в очереди на рентген, вдруг шум, крик, ведут какого-то дедушку, он весь бледный, дрожит, сзади парень в кожанке, тоже бледный, это таксист. В очереди говорят, что он сбил деда на улице, перепугался и давай его в поликлинику, завел к терапевту, с виду приличный парень, у него жена вот-вот родит, и на тебе, а другие шумят: пусть не мчится как угорелый, но что тут мчаться, на этого дедушку только пристально посмотри, и он готов, терапевт послал сестру за травматологом, таксист курит, нервничает, и, как назло, не было ни одного свидетеля, хорошенькие роды, когда муж под судом, дедушке-то все равно не поможешь, и ребенку отца он не заменит, в общем, драма на ровном месте. Вдруг в кабинете смеются, таксист совсем скис, говорит: это у деда на нервной почве, значит, все, очередь кипит: мы ждем, нервничаем, а они там шутки шутят, вдруг дверь открывается, выходят врачи, с ними дедушка, весь дрожит, но хихикает, в руке маленький камушек, оказывается, он двадцать лет сидел у него в почке, старик ездил с ним в Моршин, в Трускавец, но вода этот камень не брала, и вдруг он вышел сам по себе, наверное, сдвинулся, когда деда стукнуло такси. Ты бы видела этого парня! Он не знал, что делать с дедом, обещал в его честь назвать сына, а дед говорит: я тебе завтра пришлю на лечение свою старуху, у нее тоже камни, а таксист…
Что же ты не ешь? Сама тебя заговорила и еще спрашиваю! Бери, вот твои любимые, с орехами. Фигура не пострадает: здесь только изюм, орехи и воздух. Кстати, помнишь то блюдо: курица с орехами, с кореньями, покойная Тамара меня научила, я его раньше всегда готовила на именины. Как же оно называется? Вылетело, хоть стреляй. Ты всегда терлась рядом, канючила: мамочка, дай облизнуть ложку! Теперь мамочка сама трется вокруг тебя… Перестань, Олька, я же понимаю: у тебя работа, на тебе дом, пора становиться на ноги, один Маська чего стоит, а эти ночные дежурства, эти расстояния — когда тебе готовить! Я еще сама могу крутиться, и слава богу. Вот только голова, ох, голова моя, совсем дырявая стала, хотела что-то напомнить тебе важное, и вдруг вылетело…
А! Зонтик! Возьми, возьми. Сейчас тепло, а через час начнется циклон, как в тот раз, снова ты будешь в мокром шлепать, давно простуды не было. Зонтик, он же не тяжелый, возьми!.. Уже говорила?.. Вот — кстати, о моей памяти. Но, между прочим, один раз ты могла бы и промолчать. Да-да. Один-единственный разик! Да, я старая, я нудная, я у всех в печенках, это давно известно, но не надо же на каждом шагу… Так я и знала, что ты скажешь про Сашу! Не приехал, значит, не смог. Дал телеграмму на цветном бланке, и хорошо. Шестьдесят четыре — не круглая дата, нечего устраивать юбилеи. Притом он же весь в делах, наш Саша, работа у него, между прочим, не то что у твоего Олега, ты же знаешь, что просто так в сосновом лесу не поселят, отдельный коттедж не дадут. Хорошо, оставим Олега в покое. Но ты вчера сама сказала: «Он для меня теперь больше, чем посторонний». Что ни делается, все к лучшему, верно? Хотя такого, как он, уже не будет. Я не говорю про твоего мужа, я говорю про своего зятя. А Маська? Это разве жизнь, когда ребенок только раз в неделю… Как это: зачем ребенку отец? Все-все, молчу! Дай-ка сигарету. А черт с ним! Участковый врач прописал кокарбоксилазу. Эти говорят: воздух и диета. Доктор Вайсфельд верит в ходьбу и отвар из кукурузных рылец. Говорят, говорят, а мы болеем, болеем. А-а… Возраст есть возраст.
Любимое Колино выражение. Это он так дразнил Люсю, она была старше его на два дня. В жизни никто бы не сказал: она выглядела, как девочка. Они шли рядом — люди смотрели на них и начинали лучше друг к другу относиться, такие они были красивые. Бедный Коля. Сперва он, через год она. Ты права, не надо об этом, тем более сегодня. Но что сделаешь, тяжелое больше врезается в память. А эти сны! Десять лет, как по расписанию: каждую ночь вода, черная вода в порту. И люди на пристани, полно людей, как сейчас, когда приходят из круиза. Тогда никто не встречал, все провожали: на фронт, в эвакуацию, на тот свет, кто мог знать? «Композитор Чайковский», так наш пароход назывался. Красный крест огромный на палубе и на бортах большие красные кресты, и что? Два плавучих госпиталя они потопили до нас, а сколько после!
Ф-фу!.. отпустило… хороший человек придумал эту но-шпу. Наверно, у самого болело, и еще как! Или это сигарета помогла? Отпустило, и снова живешь. Как в рассрочку. Пока опять не схватит. Мне один поляк рассказывал, он к Саше приезжал по обмену опытом, этот поляк сидел в Освенциме, чудом спасся, его забрали прямо перед свадьбой. Невеста поехала в Освенцим, сумела пробиться к коменданту, говорит: пустите меня к нему, мы все равно хотим пожениться. А вот и не расстреляли. Комендант проявил свою немецкую гуманность: приказал, чтобы им выдали документ, что они муж и жена. И лично от себя добавил жениху талон в офицерский публичный дом: подарочек в честь свадьбы. А увидеться с невестой так и не дал, понимаешь? Хуже, чем звери! Что таким людям стоило потопить наш пароход? Тьфу — и все! Помню, самолеты налетели в третий раз, я забралась под лестницу, мне казалось, что туда осколки не залетят, забилась в самый угол, прижала Сашеньку к груди и стала молиться, хотя из меня верующий, как из Гитлера няня, но разве об этом думаешь, кто плачет, кто молится, кто сходит с ума… Я кричала на бога, как на пьяного сторожа: где твоя совесть, мой мальчик так похож на меня, он уже ходит и говорит, а ты хочешь его утопить! Там так горело, а Сашка смеялся, он никогда не видел столько огня, все куда-то бежали, а я стучала по железной лестнице кулаком и орала на бога: сволочь, сволочь, сволочь!
Ты права. Так нельзя. Опять я расстроилась. В конце концов, все обошлось: немцев нет и у тебя сын, ты подарила мне чудную кофту, я именно о такой мечтала, в общем, все на месте. Но что ты сделаешь с этой памятью! Все вокруг стонали. Там было шестьсот раненых и три врача, считая нашего папу. Он поседел за этот рейс, хотя нет, это еще раньше, в июле, во время бомбежки, он вел нас в щель, на улице кричала какая-то женщина, у нее начинались роды, и он в подвале принял ребенка — первый раз в жизни. И все сошло хорошо. Он так волновался, что она его успокаивала. Как же ее фамилия? Вылетело, хоть стреляй. Ну неважно, этот мальчик уже большой, работает на железной дороге, у него самого уже двое, с женой они, правда, разошлись в тот же год, что вы с Оле… Опять я ляпнула. Ну совсем не думаю, что говорю, люди раздражаются, а я завожусь от любой мелочи. Этот проклятый зонтик, до чего он меня бесит! Положи ты его, наконец, в сумку или выбрось к черту на помойку! Я всю жизнь таскала на руках вас двоих и вот такие сумки, а тебе тяжело ради матери взять эту мелочь! Он же складной. У вас все складное, но почему вы такие эгоисты?
Ф-фу… ф-фу… Сейчас пройдет. На погоду, наверное. Ф-фу… Интересно, как Шульженко? Что ты мне говоришь! По телевизору из любой делают красавицу, но она приезжала, и я пошла, специально попросила, чтобы Олег… чтобы мне взяли билеты поближе. Конечно, она уже немножко сдала, и это декольте — я бы такое не надела, но у нее голос, она поет, она человек! А ей хорошо за семьдесят, это видно и без паспорта. Завидую! Нет, не преклоняюсь. Они же не герои, наоборот, работа держит их на этом свете. Помнишь, мы ждали Сашу с Леночкой, вдруг звонок, я к телефону, а это дверь, открываю, там старичок, в чем только душа, весь как на ниточках, но глаза живые, веселые. Я спрашиваю: вы к нам, он говорит: не я, а ваши дети, у меня от сердца отлегло, я приглашаю его зайти, он говорит: у меня еще шесть телеграмм, люди ждут, я даю ему полтинник, человек же карабкался на наш пятый этаж, он говорит: завтра в восемнадцать сорок три, шестой вагон, и берет полтинник, а я переспрашиваю: это точно? Он дает телеграмму, там написано: «Вагон шесть Саша Лена», мне как-то неловко, но я еще раз переспрашиваю: вы не могли напутать, раньше московский приходил поздно вечером, он дает мне полтинник назад и говорит: позвоните в справочную сами, но стал бы я таскаться на ваш этаж с моими одышками, чтобы морочить вам голову, я снова сую ему полтинник и приглашаю выпить компот, извиняюсь, что он не остыл, варила специально для Саши с Леночкой, хорошо, что дети всегда приезжают, когда фрукты дешевые, мы сидим, пьем компот, разговариваем. Оказывается, он всю жизнь строил всякие ГЭС и ТЭЦ, захватил обе войны, в общем, человек пожил — будь здоров! Семья тоже большая, жена, правда, умерла, но трое детей, старший доктор наук, дочка вообще в облсовпрофе, все зовут к себе, но он ушел от них. Без скандалов: просто чтобы не зависеть. Ходят друг к другу в гости. У него пенсия плюс телеграммы, и что? Перед зарплатой сын-профессор к нему забегает за трояком, а главное, он все время на людях, это же большое дело!
Вспомнила: сациви! Это блюдо называется сациви! Ну, которому покойная Тамара меня научила. Точно: курица, коренья, орехи. Кстати, надо попробовать буряк с орехами. Натощак буряковый сок и два ореха. Этот старичок говорит: за полгода лечения к нему вернулась такая память, какой у него сроду не было. Я тоже не верила, но ты бы послушала: поезд, пароход, самолет, он все держит в голове, минута в минуту. Кроме междугородных автобусов, он говорит: они все равно никогда не приходят по расписанию. А, что буряк! Зачем мне эта память? Вечно вспоминаешь какие-то ужасы, А было же, было столько хорошего! Даже во время войны. Я тебе рассказывала, как в эвакуации у нас украли чемодан? Нет? Странно. По-моему, это было в Красноводске. Наш поезд загнали в тупик, я пошла на станцию менять Сашенькины вещи на хлеб, ничего не сменяла, прихожу, где чемодан? Чемодана нет! А там все наши запасы, мамино кольцо, все, что у нас было! Я сижу, плачу, Сашка сидит, плачет. На дворе осень, ветер, пыль, от отца никаких известий, представляешь? Нет, ты не представляешь. И слава богу. Но надо что-то делать. Если мальчика не отвлечь чем-нибудь, он с ума сойдет, а у меня ни крошки еды, ни игрушки! Я беру его за руку, и мы идем по путям. Думаю, вдруг снова повезет. Однажды мы шли, а рядом стоял эшелон с ранеными, я на минутку отвернулась, смотрю, мой сынок уже в вагоне, кто-то взял его на руки, он раньше ни к кому не шел, а тут осмелел; декламирует стихи, к нему все тянутся, люди истосковались по дому. Я потом у него сахар отобрала, сразу лопнул бы. А тут ни души: товарняк, под брезентом пушки. Часовые. Вдруг он кричит: мама, жираф! Я думаю: все, галлюцинации, а он тянет меня к какому-то вагону, смотрю, действительно: крыша прорезана, из нее торчит голова жирафа! На макушке у него ушанка, наверно, чтоб не простыл на ветру, оказывается, это эвакуировали зоопарк, многих зверей не смогли взять, их выпустили или раздали людям, я знаю одну семью, они всю войну держали у себя обезьяну, и надо же: в последний день перед приходом наших какая-то сволочь ее застрелила, они похоронили ее в саду, а жирафа директор все-таки вывез, дай бог ему здоровья, если жив. И вот мы стоим в Красноводске, в степи, на рельсах, голодные, нищие, и смеемся во все горло, а жираф вертит головой в ушанке…
Опять я тебя заговорила? Надо включить телевизор. Сегодня вторая серия. Выкрути ручку, где звук, они еле шевелят губами. Или это я хуже слышу? Уши не поменяешь, надо менять телевизор. Ты чего скисла? Дай-ка мне лучше помаду. Скоро придет доктор Вайсфельд. Мы женщины или кто? А ты иди. В холодильнике слева пакет, это тебе. Ничего особенного, немножко персиков и пирог. Как это зачем? Это не твоего сына надо подкормить, это моего внука надо подкормить. Если ты его сейчас не вытянешь из простуды… Молчи, сказала!
Лучше я тебя причешу, как эту, ну, что на Веры Сергеевны дочку похожа, ага: Мирей Матье. Вот так, вот так. А здесь на уши. А? Знаешь, ты вполне еще ничего. Ей-богу! Мы этим мужикам покажем, да? И я тоже. Найду себе старичка, чистенького, бодренького, вместе в парк будем ходить, на уколы. Или сидеть дома. Я ему банки, он мне горчичники. Красота! Нет, наверно, надо тоже разносить телеграммы. Но только поздравительные. Зачем портить людям настроение? Ну, иди, тебе пора. Иди, а я прилягу. Устала. Иди, Маську поцелуй за меня. И звони, слышишь? Ф-фу. Ф-фу. Ушла. Идет по лестнице. Вышла во двор. О, господи! Оля! Оленька! Вернись! Вернись! Ну вот, я так и знала. Зонтик-то забыла!
III
Уважаемая тов. Батыгина О. М.!
Довожу до Вашего сведения, что в настоящее время ртуть, выпрыгнувшая от жары из термометров, растеклась по барханам, вследствие чего местность неузнаваемо изменилась и географические карты срочно переделываются. До окончания переработки Куня-Ургенчское районо вынуждено перенести экзамен по географии на осень. Если и к этому времени ртутные реки не удастся нанести на карты или вернуть назад в термометры, экзамен будет заменен заочным турниром по хоккею со школьниками Заполярья, однако без внесения его результатов в годовой табель. Короче: с утра в тени было тридцать восемь. Сколько сейчас, не знаю, — тени нет. Согласитесь, тов. Батыгина, пардон, уже снова Калинчак: в такую погоду бить шурфы неэтично. И вообще первую неделю у меня было ощущение, что вот-вот я прокопаю планету насквозь и, путаясь в порванных меридианах, вылезу на поверхность где-нибудь в Каракасе.
Однако на двух с чем-то метрах дали отбой: обнаружилась подошва фундамента. Его закладывала одна цивилизация, стены ставила другая, третья пыталась их поджечь, и теперь мы, четвертая, уточняем все для пятой. К счастью, попадается много черепушек. По ним можно датировать эпохи с точностью плюс-минус два шаха. Если бы Вы, Ольга Михайловна, посмотрели, какая это нежная и муторная работа, то прежде чем кокнуть очередную чашку, нацарапали бы на ней число, свою фамилию и основные данные о своей эпохе. А пока скромные труженики археологии вынуждены кропотливо исследовать пыль веков на переднем крае науки. Степа Самохин и Колька Примус наисследовались и заползли в палатку. У них сегодня принципиальная встреча в кинга. Колька уже проиграл целое море пива, и Степа почти стоит одной ногой на борту белопенной кружки, чтобы объезжать свои новые владения. Правда, до ближайшего пива километров триста по барханам, но Степа Самохин — человек большой мечты.
После обеда я сменил лопату на «Зоркий»: в последний момент подкинули еще полставки, чтобы делал съемки раскопок. Теперь я полтора землекопа, призрак из задачника, который вдруг является в тетради двоечникам. Где вы, вторые полставки? Не на это ли намекал старикаша Платон, который считал, что и женщина, и мужчина суть всего полчеловека, обреченные на поиски своей половины? О, нищета философии, о, мудрость штатного расписания!
Вот так и живем, Ольга Михайловна. Наука раздвигает горизонты. Уважаемые товарищи, сообщите, пожалуйста, понравилась ли вам наша жизнь. Свои отзывы и пожелания направляйте по адресу: Заунгузские Каракумы, 248-й бархан слева, кричать два раза. Или просто: «До востребования, Дэв-Кэскен, сиречь Крепость зарезавшегося дьявола». Воображение рисует нам, товарищи, щербатые крепостные стены и мрачный полубездонный колодец. Молодец, воображение, садись, пять. Вот они, щербатые, вот он, мрачный. Вчера мы лазили в него, там метров сорок глубины. Когда-то в этом колодце хранили воду на случай осады, потом вода смекнула, что осады не будет, и высохла, а дно заполнилось черепашьими панцирями — Маке хватило бы играть лет на сто. Что еще должно быть в Крепости зарезавшегося дьявола? Верно, товарищи: во́роны. Цып-цып, мои черненькие! Каркают так, что транзистора не слышно. Кстати, панцири в колодце — это их работа: во́роны кидают с высоты молоденьких черепашек, те разбиваются о камень, и хитрые воронята выгрызают их из панцирей. Попадись такому воронюке «Запорожец», вмиг осталась бы одна бибикалка!
Но человеческая нога, а тем более колесо, не ступали здесь уже лет семьсот. (См. приложение 1: образцы керамики из раскопок.) Дэв-Кэскен никто не завоевывал, его просто бросили. Чуть подлатать стены, и лей с них кипящую смолу, чуть углубить ров, и напускай в него воду. Только где она, водичка? Тю-тю! Когда-то Амударья вдруг сменила русло, перекинулась километров на двадцать, тут нашей крепости и конец пришел. (См. приложение 2: образец устного народного творчества.)
Под солнцем плавятся барханы, Нигде не встретишь ты аул, Тряся вьюками, караваны Бредут сквозь редкий саксаул. Когда-то здесь цвела, и пела, И пахла персиком земля, Но течь по ней не захотела Строптивая Амударья. И сохнут горла, сохнут русла, Ненужно горбятся мосты… Вот так на сердце сразу пусто, Когда та-та уходишь ты[1].«Та-та» — это не чье-то имя и не мат, как предположил, заглянув через плечо, Степа Самохин, это пробел, свидетельствующий о том, что не все землекопы Хорезмийской археологической экспедиции научились писать стихи. «Опять» не годится: ты ушла один-единственный раз, «навек» отдает кладбищем, «с другим» — это было бы не так обидно, но мы не можем погрешить против исторической истины. Так что придумай подходящее слово вместо «та-та», подбери музыку и разучи этот текст с Макой на два голоса. Лучшим в вашем дуэте будет признан тот, кто сумеет разжалобить большее количество прохожих. За старушек дается два очка, за студентов — по пять, автоинспектор — сорок очков. Ваши жалобные голоса заглушат скрип двери, я тихонько подойду, возьму тебя за руку, и пока Мака сам себе рассказывает сказку перед сном, мы сбежим по черной лестнице и пойдем вдоль барханов, они сейчас прошиты мелкой строчкой ящеричьих следов, смотри, какие славные ящерки: в серо-белую клетку, а может, полоску, не разглядишь, верткие, это круглоголовки, днем им, наверно, бегать жарко, лапки-то нежные, а сейчас так и сигают, хочешь, поймаем одну, только не давай ей зарыться в песок, гляди, мелко-мелко дрожит, будто озябла, это она вибрирует, чтобы уйти в бархан, ну, что же ты, все, погрузилась, ты заметила: хвостик у нее раздвоенный, она может заплетать его в косичку, не хватает только бантика, ладно, пусть живет, а ты хлебни, тут всегда надо иметь фору против солнца: флягу зеленого чая, дня через три ты привыкнешь к нему, только надо заваривать чуть-чуть, до бледно-соломенности, и пить очень много, чтобы зной не выкачал из тебя всю влагу, а для запаха бросить в пиалушку лепестки кандыма, это мохнатый такой куст, вон он, на бархане у маленькой крепости, слышишь, как пахнет, ну прямо карамель, хорошо бы посидеть под ним, пока солнце не уйдет от нас, но садиться не стоит, здесь полно клещей, на камень можно, только переверни его, под камнями обычно скорпионы, ну уж сразу и загнуться, разве что весной, весна для нашего брата скорпиона, это, знаете ли, пора любви, а следовательно, и яда, но, как говорит экспедиционный шофер Ермек: «На каждую пробку есть чем открыть», берем вон ту пузатенькую бутылку, когда твоя мама ее презентовала мне, там был блаженной памяти коньяк «Курвуазье» (гортанное каракумское эхо не сразу решается повторить это слово, и я его понимаю: здесь слова могут выжить лишь если рядом, желательно в тени, существуют предметы, которые обозначают эти слова). Мы осушили бутылку в первый же полевой вечер, причем с чувством общественной полезности нашего гулянья: нужно было освободить место для парочки скорпионов, видишь, как съежились, их залили хлопковым маслом, теперь они вакцина, в случае чего натираешься: надежно, выгодно, удобно; нет, от змей не поможет, если гюрза, то сразу скидываемся на венок из саксаула, ежели эфа, берем другую бутылочку, в ней БКБФ, расшифровывается: «Бывший клей «БФ», это не шутка, а рецепт, — «БФ» у нас идет на обработку костей из захоронений, чтобы не разрушились на воздухе; клей всегда остается, а выпивка почему-то всегда сразу кончается, тогда смиренно берем сухую хлебную корочку, собираем на ней клей. Не буду раскрывать технологию… и поднимаем бокал БКБФ за погибель эф и здоровье милых, но прекрасных дам, которые представлены за столом бледно-зеленой гурией с обломка афрасиабского блюда, это пепельница Андрея Сергеича, он, видите ли, и в пустыне не может стряхивать пепел куда попало; рисунок так себе, древние уже научились халтурить, но этот обломок был первым на моей охотничьей тропе, и я по глупой своей привычке сразу ко всему привязываться повсюду таскаю эту черепушку, хотя из каждого шурфа они идут чуть ли не ведрами, через день-два ты научишься их различать по эпохам и стилям, еще через неделю у тебя станет привычкой, идешь ли ты по бархану или по бульвару, автоматически шарить взглядом под ногами (у археологов это называется: «ходить с привязанным носом»), но теперь смотри не вниз, а вон туда, направо, глинобитная хибарка, это «замок № 68», в замке жил феодал, скорее всего, мелкий, наверно жэковского масштаба, это видно по соседнему каналу, он совсем узкий, понимаешь, чем шире русло, тем могущественней властитель, чуть что не по нем — бац, отключает воду, и все вассалы ниже по течению загибаются от жажды, а он сидит на завалинке своего замка и жует нас, это табак с примесью смолы и, кажется, извести; его хранят в маленьких узорчатых тыквочках, которые специально выводят для этого, странное это зрелище: поле, где растут тыквочки-табакерки, но если долго жевать этот нас, то может быть рак губы, постой, да ты совсем заморилась, будем стелиться на ночь, во-во, под деревом, совсем как у нас во дворе, это пустынная акация, только цветет фиолетовыми цветами и почти не пахнет, Максютка до сих пор обожает жевать акацию, сегодня воскресенье, он будет ждать меня, я по привычке приготовил ему гостинец: свистульку, в нее никто не свистел полтысячи лет, веселый глиняный зверь, на спине вторая голова, рот открыт, будто поет, завтра ты расскажешь мне о Маке все-все, или нет, лучше ты каждый день рассказывай понемногу, мне жалко узнать сразу все новости, а потом сидеть на голодном пайке; нет, не рассказывай ничего, я буду угадывать, а ты только кивай или просто закрывай глаза, если я угадал, слово ли, жест разрушают все, так что же дома, хорошая погода, да, Мака с бабушкой пошли на море, они лежат на песке у самого прибоя, бабушка большая и шумная, как Африка, а он примостился у нее под боком, Мадагаскарчик с облезшей на солнце спиной, чем больше материк, тем ближе острову хочется приткнуться к нему, но, как ни старайся, со стороны мы с тобой выглядели такой уж Евразией, что дальше некуда, а когда в тебе что-то видят, ты уже назло этим не будешь, бог с ним, Олюшка, иди-ка сюда, здесь хоть какая-то тень, завтра будем бить шурф и узнаем, что это за стена, но, по-моему, ее разрушили совсем недавно, варварство, конечно, но, с точки зрения местных людей, вполне нормальное: стена-то из пахсы, ну, глиняная, а в глине, из которой ее строили, много селитры, нет, не для пороха: они рассыпают комья этих стен на пахоте, это проще и дешевле, чем завозить удобрения, так получается круговорот крепостных стен в природе, но бывает и похуже, когда мы кончим болтаться в ненаселенке, я свожу тебя на базар в Куня-Ургенче, там продаются огромные дыни, так вот, их покупать нельзя: есть такие гады, что, стараясь нагнать вес, удобряют их селитрой до того, что дыней можно отравиться, все, не будем об этом, залазь же в спальник, ты кого боишься, меня или фаланг, все фаланги спят непробудным сном, но на всякий случай я положу вокруг спальника веревку с овчарни, никакой мистики: овцы едят каракуртов и фаланг, те и запаха их боятся; с недели опять перебазируемся к Ширван-кале, там этой нечисти поменьше, а прямо в песках есть озерцо, оно, как мираж, такое маленькое, тихое, вверху одна чайка летает, внизу одна рыбка плавает, небольшая, сероватая, наверно, это и есть рыбка цвета орла, про которую я Маке как-то заплетал всю ночь, когда у него ветрянка была, он так скулил, бедняга, хоть бы эту зиму не болел, рыбке до смерти хочется высунуться из воды, а чайке — заглянуть под воду, и каждой кажется, что там ей будет лучше, и одна без другой не может, и вместе тоже, а вообще-то миражи тут дурацкие: стадо верблюдов, тригонометрическая вышка, интересно, верблюды видят мираж?
Уснула.
Сразу, как Максимка.
Тихонько сопит, от дыхания в песке маленькая ямка, края обваливаются и снова нарастают. Может, вся пустыня вокруг началась с того, что уставшая от своей гордости, невозму… незави… непоня… какая разница — женщина легла спать на вечереющем песке, закрывшись от позднего солнца прядями черных и густых, пытающихся отрасти волос, которые торчат пучками после неосмотрительного купанья в соленом Дарьялыке, дыхание уходит в песок и рождает крошечные барханчики, может, на дне каждого копошится такая же бестолковая жизнь, как наша, и в ней упрямая, спящая на остывающем песке…
Что ей снится? Во всяком случае, не я. А уж как старался! И чем больше, тем все хуже. Как говорила моя бывшая теща: «Олежка, ты прелесть, но тебя так много!..» Вот с кем было легко. И почему я женился не на ней? Ну, а что меня много, так я и сам знаю. Но что с того? Как ни старался, оно прет, лезет, выпрыгивает, разбегайся кто может! Ты считала, что это от моей старой компании: турпоходы, капустники, «здорово, старик», «ребятки, я в порядке», весь вечер на манеже Олег Батыгин. Черт его знает. Но во мне — даже после семи лет нашей так называемой совместной жизни — сидел страх: перестань я хоть на минутку чудить, ты тотчас захандришь и сбежишь к своей Лорке, к своей Лидке, к своей Ирке, и мы с Макой останемся вдвоем, пара лопухов, у одного вместо мыслей мечты, у другого — воспоминания. Стыдно, но я даже его люблю наполовину за то, что он твой сын. Странное дело: когда тебя нет, мне хуже, но спокойнее. «Живу в твоем отсутствии, как в доме», сказал поэт (какой) и попал в самую точку. Так вот, живу в твоем отсутствии, как в доме, есть в этом доме два окна зеленых, два глаза, но глядят куда-то мимо, хотя в упор, но постоянно мимо, а оторваться все равно нет сил; есть лестница, по ней все дальше, тише бегут шаги, стоп, остановка, посмотрелась в дверь (стекло полуразбито, двух Америк отчетливые силуэты в дырах), поправила очки, берет надела, и, показав себе язык, — на волю!
Извини. Видно, очередная стадия. «А если это любовь?» — спрашивает нас школьница Маша Ш. из города Москва Московской области. А если нет? Вдруг это чисто функциональная зависимость, вроде я часть тебя, но часть совсем неважнецкая, временная, как аппендикс или молочный зуб? Надоест, его раз, и выдернут. Как бы для общей (и его в том числе) пользы. Зато на людях о нем говорят только хорошее. Лицемерие? Упаси боже. До этого не снисходят. Гордость? Жалость? Скорее всего жалость. Новый социальный феномен: «женщина-рыцарь». Спешите видеть! Единственная в мире смешанная группа придурков! В общем, дорогая Маша Ш., если тебе захочется узнать об ощущениях выдернутого молочного зуба, милости просим к нам в Дэв-Кэскен. Мы с зарезавшимся дьяволом будем очень рады вам всем. И, пожалуйста, не переживай, Машутка: он и она по-прежнему остались большими друзьями. Такими большими, что уже оба не помещались в одном городе, и старший инженер О. А. Батыгин, гордость «Химмаша», надёжа месткома и опора всея художественная самодеятельность, завербовался к археологам — в лучших традициях рубрики «Ровесник-романтик». Для ровесника я, правда, несколько староват, а для романтика у меня слишком хороший аппетит. Но ах, до чего же соблазнительно все бросить, уехать, забыть, вернуться выгоревшим, медлительным, спокойным!..
Если в школе нас не обманывали насчет закона сохранения материи, то общая сумма неприятностей в пределах замкнутой системы остается постоянной. Значит, мой приезд сюда должен вызвать отъезд в наши края какого-то здешнего неудахи. Пахать ему вместо меня на «Химмаше», влюбиться тебе в него, а ему вздыхать по смуглоликой девушке с восемнадцатью косичками, чей стан стройнее минарета Калян (построен в тыща двести каком-то году). Выходит, мне надо здесь каракумствовать, пока общий баланс наших с ним злоключений не выравняется и с наших берегов не занесет в Дэв-Кэскен какого-нибудь счастливчика, а меня не вытеснит домой? Но, может, этот счастливчик — я! Не каждому же наворачивать счастье столовой ложкой. Вдруг оно в том и состоит, что его всегда мало — да разве же мало! В конце концов, иногда у меня есть ты, есть воскресенье с Макой, руки-ноги в порядке, какого же еще?!
Ветер тихонько посвистывал в саксауле. Робкий сквозной звук вселял какую-то надежду. На что? Какая разница. Главное, она есть.
Я представил, как она пугливо вселилась, прикнопила на сырой еще стенке свой бедный коврик с цветами, провисшую раскладушку поставила на всякий случай поближе к дверям: вдруг что? И только, осмелев, собиралась почаевничать с баранками и снять платок… и вспомнил, как ты сидишь, окаменев, на кухне и Мака тщетно старается растормошить тебя, и оттого, что он так похож на меня, ты немножко, сама себе не признаваясь, думаешь обо мне или могла бы думать, а значит, мы все-таки вместе, и каждый может хоть минуту побыть в тени другого, вот на что и созданы разлука, война и смерть.
Я почти уговорил себя, но солнце, отдуваясь, уже садилось за Степой Самохиным, и пора было заступать на дежурство по кухне. Третий раз за сутки макароны на соленой воде, это, пожалуй, чересчур. Но тушенка давно кончилась, а хлеб отвердел и оделся зеленой плесенью. Остается сюрпризный вариант. Ваши гости будут приятно удивлены, если вы предложите им кекс «Услада барханов». Возьмите два стакана муки, стакан урюковых косточек, оставшихся от прошлого компота, потихоньку уведите у Ермека банку его личной сгущенки и, хорошенько перемешав образовавшуюся массу, вылейте ее на тщательно очищенную лопату. Держите лопату над костром, пока не почувствуете характерный аромат, горелого и крик Андрея Сергеича: «Олег, вы никак рехнулись?!» Начальник, я бы с удовольствием, но все как-то руки не доходят. Хотя предпосылки есть. На той неделе, например, выпал денежный дождь. Средь бела дня в кишлаке вдруг взметнулась пыль и посыпались червонцы, пятерки, четвертаки. Я озирался в поисках Воланда, а местные пацаны тут же быстренько подобрали купюры, и снова стало тихо. Но через час кишлачок наполнился зареванной бабой в оранжевых сатиновых шароварах и толстых очках. Кассирша она была. Привезла соседним геологам зарплату, только разложила, налетел смерч и всосал весь аванс. Что деньги, у нас канистру вихрем уволокло! Баба в шароварах ревела, ревела, и люди оказались сильнее стихии. Весь кишлак скинулся, вышло рублей на полста больше, она на радостях выставила угощение, и все население очень славно посидело в чайхане, потом подошли геологи, дальше тебе уже не интересно.
Как, впрочем, и все предыдущее. Иногда мне хочется откуда-нибудь грохнуться, ненароком сломать себе какие-нибудь кости, хорошо бы не самые главные (естественно, подгадав на твое дежурство). Чтобы ты каждый день заходила в палату справляться о моем самочувствии, а я с монументальной гипсовой ногой, устремленной в зенит…
Недавно мне попался осколок китайской чашки, селадон пятнадцатого века, его легко узнать на просвет, в стенке видны крохотные прозрачные пятнышки (Мака все еще говорит «пятышки»?). Мне рассказывали, что перед обжигом в стенку чашки закладывались рисовые зерна, огонь выжигал их, оставались прозрачные оспинки. Неужто только эта память и останется у нас с тобой, Оль?
Лицо напряглось, пальцы шевелятся, ты и во сне делаешь перевязку, спите, сестричка, а я еще посижу, вот ежик пришел в гости, обнюхивает остатки ужина под брезентом, здесь ежи совсем другие: в белых подштанниках и на высоких лапках, видно, модель повышенной проходимости; секунду мы смотрели друг на друга — он убежал, не понять никого, а может, он придет завтра, я запасу для него корочку кекса, но что толку, ежом надо родиться, приходите, скорпионы, я вас чаем угощу; упала звезда, еще одна, господи, да где же я возьму на вас на всех столько желаний, очень большие звезды над пустыней; чтобы их как следует разглядеть, астрономам, наверное, приходится поворачивать телескопы задом наперед, телескопы портятся, а звезды обижаются, вот еще одна полетела, если сейчас в городе дождь, а ты, как всегда, забыла зонтик, ниспошли тебе аллах, чтобы быстро пришел двадцать восьмой трамвай, чтоб Мака ночью не хныкал, чтоб булочная еще не закрылась, чтоб у твоих больных все быстро срасталось и чтоб я не написал тебе это письмо, а если все-таки напишу, то чтобы не отправил его, а приснись мне, и аминь.
IV
— Идем на балкон, Томка. Страшно? Зато все видно. Смотри: две машины, три, четыре, ого, какая длинная, считаем ее за две, восемь, девять, тринадцать, десять, еще раз десять, потому что они одинаковые, собачья будка не считается, она нашу Джерри чуть не забрала, они кошек тоже хватают, если красивые, а она же сиамка, хорошо, там был хромой гицель, мама его вылечила однажды давно, а он ее узнал и выпустил Джерри, а мы с Олегом устроили Джерри именины, купили ей целого окуня, потом дали рюмку корвалола, вот она прыгала!
Томка, сколько проехало, не помнишь? Пускай будет восемь. Я уже умею их писать: это как два бублика слепились боками. Любишь бублики? А я с маком. Бабушка купит, сковырну мак и съем. Не, она ничего. Кричит, но добрая. Мы летом с ней на море ходили и в зоопарк. Там настоящая корова есть. А теперь бабушка не может. У нее сердце болит. А ты знаешь, где сердце? Ну да! Не скажу. Это у бабушки слева. Я когда вырасту, у меня тоже там будет. Сегодня, говорила, в Луна-парк сходим, и нет ее. У меня там свое летающее блюдце. На нем все боятся кататься, а я сел и — вж-ж… А Олег обещал меня взять на остров, только он в командировке. Угадай, что привезет? Вот и нет. Железную дорогу. Настоящую! С рельсами, с проводником, сядешь в вагон — чух-чух, чух-чух! И верблюда. Он будет бежать рядом. Вдруг тепловоз испортится, я на верблюда пересяду. Н-но, поехали! Быстрей, быстрей. Всех обгоняем! Сама ты противная! Верблюды знаешь они какие верные! И чернослив любят. Целое ведро могут съесть. Ничего они не жадные. Это же не для себя. Залазишь на верблюда, едешь, едешь, захотел кушать, отвинтил в горбе пробку и ешь чернослив. А в другом горбе молоко холодно-е…
Гляди, какая желтая! Номер не наш! Оп-ля, свернула. Забоялась. Томка, там, наверно, шпионы! Они заметили, что мы сверху следим, и хотят смыться. Беги к окну, а я с балкона. Бери ручку. Это будет пистолет. А я из автомата. Огонь! Ды-ды-ды! Ды-ды-ды-ды-ды! Целься в колеса! Ти-у, ти-у-у! Забоялись, повернули назад. Тарах-тарах! Попал! Ура-а! Гляди, стала! Выскочили! Бегут! Тарах, тарах, тарах! Ура-а! Прячутся под зонтиком. Наша победа!
Томка, брысь с балкона. Дождь же. Твоя мама говорит: ты и так дохлая. Кому сказал? Как это не хочешь? Сказано, брысь, значит, брысь. А по шее? Это мне слабо? Увидишь! Ой! Вот ты как! Я тебе покусаюсь! А по башке! А по шее! Будешь?! Ты чего? Сама лезла, и сама ревет. Балда. Потому что — балда. Хватит нюнить! Давай еще поиграем. За мной придет бабушка, а ты реви, сколько влезет. Не хочешь? А что хочешь? Ладно, бери жвачку. Только не апельсиновую, я ее сам люблю. Тогда никакой не получишь. Иди-иди! Ябеда соленая, на костре копченная, опилками набитая, чтоб не была сердитая! Ой, напугала! Дядя Шура ничего не сделает. Ничего не злой. А шипит, потому что у него в горле трубка, как у сифона. Мне мама говорила. И в сказке так написано. Про принца с серебряным горлом. Наверное, дядю Шуру выгнали из принцев. За что? Может, курил в туалете.
Сказку рассказать? Эту не буду, она не таинственная. Хочешь про Бабу Ягу? Ничего не страшная. Вот Юрка читал про Хому Брута, так то да-а! Там гроб по церкви летает! Гроб — это когда кто-то умер, понимаешь? Да ну тебя! Зачем твоему воробью гроб? А вдруг он оживет и подумает, что это клетка? Ладно, расскажу другую. Это сказка из рота. Ну, изо рта, какая разница. В смысле не из книжки. Мне ее Олег рассказал, ну, папа, потом я ее забыл и сам придумал. Честно. Жила-была рыбка. Очень-преочень маленькая. Не, меченосец в аквариуме, а она жила в море. Большие рыбы ее били, кусали, а что она им сделает? У щуки зубы здоровенные, а у камбалы шипы, как долбанет! Камбала — это тоже рыба, только плоская. Почему, почему… Потому что на нее кит наступил. Ну, вот. Они эту маленькую рыбку все время дразнили. Она думает: ладно, я от вас удеру. Ночью все заснули, рыбка потихоньку оделась и побежала на морвокзал. Раз, и забралась на теплоход. Там здорово было. Музыка, можно в настольный футбол играть, и бассейн есть. Глубо-окий! Они за ней погнались, а рыбка попросила капитана, он поехал сильней, и щука с камбалой ее не догнали. Теплоход, когда захочет, очень быстро едет. Вечером лег спать, а утром встал: Крым. Не, бабушка дома была, мы ей письмо из Ялты послали. А рыбка легла спать. Спит-спит, спит-спит. Вдруг — а-а-а!!! Ты чего? Это не я, это на теплоходе так закричали. Рыбка тоже испугалась. И побежала. А там черепаха лежит, водорослями связанная. А на нее нападает дракакатица. Это такой зверь… вроде змеи и с иголками… очень ядовитая. Но рыбка не испугалась. Она знала, что у дракакатицы на хвосте есть место без колючек. Если схватить за него и пощекотать, она сразу сдается. Рыбка как схватит ее, как защекочет! Дракакатица испугалась и смылась. А рыбка развязала черепаху и дала ей корвалол. Это капли такие. Их только бабушка любит и Джерри. Но вдруг приплыли две акулы. Во-от такие! Они на всех нападали. Одна акула прыгнула на рыбку. А рыбка выхватила маленький пистолетик. Тарах-тарах! Акула раз, и потонула. А вторая тихонько подкралась сзади. Черепаха кричит: «Рыбка, рыбка, оглянись!» Вообще-то нет, они не говорят, но эта была говорящая. Ну, как попугай, только черепаха. У нее на лапе была волшебная жемчужина. Она выполняла все желания. А дракакатица хотела ее украсть и продать акулам. Не, пистолетик рыбка не успела зарядить. Акула ее уже почти заглотнула, а рыбка подумала: «Эх, если бы я могла улететь!» Ну, ты скажешь: самолет! Разве рыбку пустят в самолет? Она хотела, как птицы летать, на крыльях. Вот. Черепаха услыхала, нажала на волшебную жемчужину — блимс! У рыбки выросли крылья! Настоящие, как у орла! И она полетела. Высоко-высоко! Выше самолетов, выше вертолетов, выше домов! А вторая акула лопнула от злости. Рыбка летела по воздуху, летела, летела… Там было ей так хорошо! Не, птицы ее не обижали. У нее же были крылья от орла. И большой бинокль. В него все видно. Даже если нет ничего. Смотрела она в бинокль и летела дальше. А потом соскучилась за мамой и папой. Взяла и нырнула к ним в море. Они обрадовались и купили ей велик. Совсем как взрослый. И еще с ластами. И с пропеллером. Хочешь, под водой ездишь, хочешь — по облакам. Рыбка пошла кататься на велике. А они стали ругаться. Не с ней, а сами с собой. Ну, так… Она прибежала и говорит: папа, мама, лучше возьмите из моей копилки деньги и пойдите в кино. Они обрадовались и пошли. А рыбка стала играть с черепахой. Дракакатицу они убили и разорвали на куски. Потом черепаха говорит: давай полетим на один морской остров, там акулы закопали таинственный клад. И они полетели. А на острове…
Подожди, Томка. Але, это кто? А, бабуля! Что же ты не идешь и не идешь? Ты же обещала в Луна-парк. На блюдцах крутиться. Я что? Я с Томкой играю. Мама ушла. Чтоб она что? К тебе? Быстро? Ага, скажу. А ты пирог больше не пекла? Понятно… Тебе где плохо? Бабуля, ты немножко потерпи. Ложись спать, до утра оно пройдет. А завтра я приду к тебе. Прямо утречком. Что? Маме сказать? Про зонтик? Она забыла у тебя? И что? Тебе плохо, да? Але! Ты где! Але, але! Ты нарочно пропала?
Бабушка-а-а!!!
ПЕРЕД ДВЕРЬЮ Рассказ
Опять этот запах! Клеем, что ли? Или гнилой картошкой? Чувствуешь? Первый признак: только подзалетишь, сразу чудятся запахи. Наверно, ребеночек вынюхивает, что его тут ждет. Да-а… Увидишь: завтра все пройдет. До следующего раза. Ох, господи, до чего же тошно… Сколько на твоих? Еще два часа! Ненавижу ждать. Ну, раньше придешь — раньше уйдешь. У-у, эти стены! Вот же цвет: серые не серые, зеленые не зеленые. Сколько сюда хожу, никак не привыкну. Давит на мозги, правда? Во дворце бракосочетания — там тебе и картины, и мозаика. Зачем? У молодоженов настроение и так — будь здоров! Поставь им вместо мозаики фанеру, не заметят. А здесь сиди с шести утра на пустой живот, жди, пока тебя выпотрошат, и пялься на эти стены. Тьфу! И плакатов-то, плакатов! «Подумайте о будущем своего малыша!» Ладно, подумаем. «Случайные связи опасны». Кто это у нас такой умный? Редактор Л. Коновалова, художник Н. Терентьева. Ясно. Сами-то вы, Л. Коновалова — ни с кем? Плакатики, значит, штампуете, от краски кайфуете…
Чего скривилась? А-а… Ты у нас приличная девушка, у тебя все по любви, а я, значит, оторви и брось? С понтом под зонтом! Слушай, подруга, влипла, так сиди и не чирикай. Ясно? Не нравится моя компания — пересядь. Во-он туда под плакатик: «Мама, я хочу сестричку!» Уважь пацана, а? Опять она за свое: любовь, любовь… Что ты пристала со своей любовью? Тебе сколько, восемнадцать? Могла бы уже скумекать, что к чему. Полный абдуценс! Есть же такие: подавай им любовь, хоть тресни! Ко мне раньше ходил один деловар… Ну, которые варят разные дела. Не то пояса делал, не то халву. Все время прогорал: только во что-то вложится — и крышка! Бегал всегда как угорелый! Двое детей, оба мальчика, жена болеет, сама толстая, ни в одно зеркало не влазит, он ей трельяж купил. Ко мне он тоже бегом-бегом, еще в лифте снимает пальто: вдруг у меня будет настроение? Но все равно каждый раз объясняется в любви: «Тамара, милая!» Вот и ты: «Любовь, любовь…» Лишь бы языком молоть.
Чего уставилась? Ах, да, ты же у нас непорочная дева! Забеременела от святого духа. Погоди, скребанут тебя, сразу весь дух выйдет. Ничего, поплачешь, и айда по новой. Какие там сорок дней, не смеши! Сорок дней справляют по покойникам, а мы, слава богу, еще ого-го! Придешь домой, отлежишься день-два, он к тебе подкатится. Да кто тебя спросит? Этот, что ли, белобрысенький? Тю! А покраснела-то… Думаешь, всегда будет бегать под окнами, выглядывать тебя? Поживете с ним лет пять, черта лысого он тебя пожалеет! Отдай ему супружеский долг до копейки, вот тебе и вся любовь! Да не хлюпай ты носом! Меня и так ломает, а ты тут еще обрыдалась… Вот наказание на мою голову… Заткнись! Нашла время сопли распускать. Боишься? Меня Тамарой звать, а тебя как? Дашей? Перестань, Дашка, ну! Что ли, по первому разу? Тогда ясно. Ну, будет, будет… Хочешь, расскажу, как я впервые поймала Андрюшку? У нас так девчонки во дворе говорили: «Поймать Андрюшку». В смысле: забеременеть. Мальчик такой классный жил во втором корпусе, волосы белые, длинные, глаза — все при нем! Андрюшкой звали, весь двор за ним умирал.
Отвернись! Кому сказала?! Что, что — андрюшек понесли. В ту дверь, в другую. А нам — в эту. Говорила ж: отвернись! Нечего пялиться. Твое дело телячье. Зашла, легла, глаза закрыла и кричи. Небось, ни с кем не договорилась, да? Ну и дура. Сунь им полтинник, пока не поздно. Есть у тебя пятьдесят рублей? Могу одолжить. На здоровье экономить нельзя. На, бери. Теперь они тебе вколют столько — ничего не почувствуешь. Но покричать надо. Вся злость выходит с криком. Если баба сильно орет, базарит, так и знай: ни фига не сделает. Бывает, такую трагедию закатит, весь дом ходуном: «Убью подлеца! Руки на себя наложу!» Накатает предсмертную записку страниц на пять, чтоб все знали, кого винить в ее преждевременной гибели. Даже газ откроет. А потом как вскочит: «Елки зеленые, у меня же на завтра обеда нет!» И поставит борщ на газ. Полный абдуценс.
Я-то? Травилась. Дура была, еще хуже тебя. Первый раз попалась, думаю: все, конец! Сейчас никто из этого трагедии не делает, а тогда — что ты?! Позор на всю школу! Мать убила бы! Снотворного не достала, а уксусной эссенцией побоялась: вдруг не умру, а только сожгу кишки? Думала-думала, развела в бидоне пачку стирального порошка. Как сейчас помню: «Лотос». И выхлебала. У-у, пакость! Заела абрикосовым вареньем, чтоб не так противно помирать, и завалилась на тахту. Все жалела, помню, что платье помнется. Мое самое любимое, синее в белый горох. Шила на выпускной вечер, и на тебе. Не пропадать же, думаю, такое шикарное платье! Легла, сложила руки на груди и представляю: он подходит, а я лежу. Красивая-красивая. Мертвая-мертвая. А он как схватится: «Томочка, любименькая, прости!» А я из последних сил сделаю ресницами вот так: р-раз! И умру. Назло всем. Представляю, а саму мутит! То ли от «Лотоса», то ли от андрюшки, я ж на втором месяце была. Перед глазами круги пошли, звон в ушах… А это, оказывается, моя тетка звонила в дверь.
Она потом всем хвалилась: мол, что-то ее толкнуло: «Пойди к Тамаре!» Врет. Просто ей таз нужен был. У нас хороший, медный, в нем варенье не так пристает ко дну. Ты запоминай на всякий случай. Когда-нибудь будешь варить для своего белобрысого. Вот заморыш! Не могла найти кого получше? Ну, твое дело. Дала я ей таз и снова плюхнулась. А тетка прицепилась: «Почему бледная? Почему в выпускном платье? Почему молчишь?» Что я ей скажу? Чувствую: если открою рот, сразу вся отрава выйдет — начинай сначала! Терпела, терпела, и бац в обморок. Слышу, как через подушку: приехала «скорая», делают промывание желудка. А у меня изо рта мыльная пена прет, как из стиральной машины… Потом за мной все отделение ходило: Томка, говорят, когда надумаешь опять травиться, предупреди нас, мы соберем белье в стирку. Им бы только шуточки…
А он так и не пришел. Мамочка ему сказала, свекровь моя неудавшаяся, что я уехала. Боялась: не дай бог, ее Юрик завалит экзамены! Он же на медаль шел. Уговаривал вместе поступать на биофак, обещал подтянуть меня по химии. Подтянул… Чего скалишься, подруга? Ревела — и вдруг хи-хи-хи. А-а… Ты своего тоже подтягивала? По зарубежной литературе? Ну, Даша, ты даешь! Ай да отличница! Садись, пять. Сколько там натикало? Хуже нет, чем ждать. Очутишься только перед этой дверью, время — стоп. Да не мелькай ты! В глазах рябит. Сядь! Живот со страху крутит? А-а… Это в конце коридора. Ну, беги, беги… Не забудь назад дорогу.
Мне бы ее заботы. Мамина дочка. Куда ей рожать, сама еще кукла. А походка, походка, будто летит. Да не туда, Дашка, в следующую дверь! Вот же судьба: есть женщины, годами лечатся, чуть не молятся, лишь бы родить. А на меня мужик только посмотрит — получите! Пролетаю, как фанера над Парижем. Сколько уже? Три раза… нет, четыре… И все, говорят, близнецы. Восемь детей было бы. Почти мать-героиня. Старшим лет по двенадцать… Если рожать много детей, младший обязательно будет гений. Может, у меня бы сейчас Пушкин родился! Черешни бы… И поспать… Анжелку в школу не пустила бы, и — спать, спать! Все к черту, сил больше нет.
Что, полегчало? Падай рядом. Слушай, я вот думала: может, все-таки нам с тобой родить, а? Представляешь, вдруг будут близнецы? Лежали бы носом к носу, как валетики, похожие такие. Как родишь, тебе и ребенку сразу вешают на ручку бирочки, чтоб не перепутать. Имя, отчество, фамилия… Свекровь думала: я дочку назову в ее честь, Ксенией. Володька тоже приставал: уважь мамашу! А я в родилке взяла у соседки словарь имен. Читаю: «Ксения» значит «чужая». Ни фига, думаю, никаких Ксюш. Решила: кого первого увижу по телевизору, так и назову. У нас в палате маленький стоял, переносной. Включаю — передача про Анжелу Девис. Ух, заводная же негритянка! Она им там давала жизни, и полиции, и суду! Так и назвала: Анжела. Полностью: Анжелика. Помнишь, кино «Анжелика — маркиза ангелов»? А свекровь насмерть обиделась. В первый день пришла поздравить, подгузников нарезала — и все. Мол, давление у нее. Знаю я это давление! Анжеле уже месяцев семь было, я с коляской иду, случайно встретились возле булочной. Свекрови деваться некуда. Смотрит, а девочка — ну копия она! Глаза, губы, всё! Как это случается, а? Я ее в себе ношу, я рожаю, а ребенок на меня вообще не похож! Свекровь коляску — цап! Сама ее вперла на четвертый этаж, лифт, как всегда, не работал. По два раза на день стала прибегать, игрушек натащила… Полный абдуценс!
Твоя мама знает про белобрысого? Ничего, она поймет. В крайнем случае можешь перекантоваться у меня. Мы с Анжелкой вместе ляжем, ты на раскладушке. Отлежишься, а то приползешь домой после аборта, они сразу догадаются. Ты давно с ним? Три месяца — это что! Меня Володька два года обхаживал. Я его потом спрашивала: как у тебя хватило терпения? Я, говорит, тебя увидел и сразу решил: вот моя жена. И добился-таки своего, дурень!
Что? А то нет — боюсь! Сколько ни ходи, все равно страшно. Даже с уколом. Как умираешь. Рожать и то не так. Нет, всякое бывает. Со мной одна рожала, трое суток никак не могла рассыпаться. Уже на стенку лезла: делайте, что хотите, только скорее! А доктор ее успокаивает. Дядька — класс! Матюкается, зато дело знает. Там уже все равно: мат, плач. В общем, родился у той пацан, пять кило с чем-то, рыжий! На радостях она хотела назвать Александром, в честь доктора. Потом засомневалась: первый муж у нее был Сашка, вдруг второй приревнует? Переиграла на Андрея. Вот тебе и Андрюшка!
А у моих деток все отчества были бы разные. Опять она вылупилась! Посмотрим на тебя лет через пятнадцать. Ну да: ты один-единственный разик согрешила со своим белобрысым по любви, а я, значит, вообще — тьфу? Нет, ты скажи! Я же по глазам вижу, что ты думаешь! Эх ты, Дарья… Знаешь, есть бабы, ну такие с виду страшные. Как трансформатор: «Не трогай — убьет!» А в душе — шлюха шлюхой. Заочно со всеми киноартистами переспала. Вот моя верхняя соседка, Людка рыжая, она да! Ее кровать у меня над головой, так и гремит, так и ездит — у меня чуть люстра не падает!
Муж-то? Он парень ничего. Ничего плохого, ничего хорошего. Особенно когда в люди выбился — ну-у! Хуже нет, чем маленькие начальнички. Мало ему службы, так надо, чтобы и дома ловили каждое слово. А что ловить-то? Сам себя цитирует. Что в кабинете, что в кровати — нудит и нудит. Только себя и слушает. Я лежу, пальцем обвожу узоры на ковре, а ему хоть бы что. Нравится, не нравится, спи, моя красавица! Пять лет спала, потом чувствую: все, не могу. Даже ради Анжелки. Особенно когда он мне в душу плюнул. Оказывается, всюду, где они строили объекты, Володька заводил себе бабу. Одну бы я ему, наверно, простила. Ну, две, ладно, с кем не бывает? Но четыре одновременно — не-ет! Да ему и меня одной было много, но как же не урвать на стороне! Дождалась Восьмого марта, купила всем четырем одинаковые косынки. Послала. Жду. Я и себе взяла такую же. Ни фига! Не дошло до него! Ах ты ж, думаю… Взяла дочку и слиняла к маме. Подлый?.. Нет, жадный. Ему сразу всего хотелось, вот он и хватал все подряд, спешил. Только выбился в главные инженеры, стали его сажать в президиум, а тут жена уходит: скандал. Аморалка, конец карьеры. Ты бы видела, что с ним делалось! Каждый день цветы, конфеты, в глаза заглядывает, чуть не на ушах стоит! Я что-то сказала про отпуск — сразу пробил путевки в Венгрию. Говорит: «Давай все забудем!» И вообще, мол, люблю без памяти. Дурак дураком. Я бы и так все написала, как ему надо. Мол, семья распалась по моей вине, претензий к товарищу Савостину не имею. Кому любовь, кому анкета…
Мама уговаривала: плюнь! Лучше, мол, четыре бабы на стороне, чем одна. Побегает, перебесится, а семью не бросит. Сама когда-то обожглась на разводе, теперь за меня боялась. А он, Володька, хитрый, гад: привезет ей деревенского вина или вишневочки, она рюмочку тяпнет — и тает. Да не ревновала я его! Что он, навечно приговоренный к семейной жизни? Хочешь гулять — вперед! Сто лет он мне снился, такой красивый! Я что, должна его бабам глаза выжигать серной кислотой? Зато он меня как ревновал! По телефону и то ни с кем не давал потрепаться. Особенно с Олегом Валентиновичем. Мы случайно пересеклись. Нам дали бывший номер поликлиники, а он позвонил. Парализованный, лет десять уже не встает. Начитанный — что ты! И вежливый: попрощается, но никогда первый трубку не положит. Вот мы как-то с ним трепемся, я про Анжелку, он про книги. Володька — раз! — вырвал телефонный шнур, прямо с мясом. Злился, что я без него могу, а он без меня — нет. Видно, поэтому и завел сразу четырех. Самоутверждался, точно! Не мог простить, что я его столько лет за уши тащила. В техникуме, потом в институте курсовые ему чертила. Он, правда, тогда на двух работах вкалывал, чтобы семью обеспечивать. Но насчет учебы всегда был тупой. Сообразить, что к чему, это он может. Надо — он черта уговорит! Но сильно уж самодовольный. Насчет любовниц тоже сам хвастался по пьянке. Мол, цени, какой кадр тебе достался! А больше всего ревновал к Юрочке, ну, из-за которого я травилась. Говорю: это же когда было, я уже и сама не помню — все равно лютует!
Короче, собрала я свои тряпочки и уехала к маме. Нет, не понарошке. Такие вещи нельзя делать для испугу. Или живи, или уходи, чего нервы зря портить? Через неделю Володька подсылает свою мамашу. Пришла, Анжелке подарков натащила. И мне, смотрю, что-то сует. Развернула: жемчуг! Настоящий. В жизни не скажешь, ну пластмасса и пластмасса. Отказываюсь, а она говорит: «Бери, бери, все равно пропадает!» Я ей: мол, вам еще жить и жить, а она: «Я-то, может, еще буду, а жемчуг помрет. Ему надо, чтобы его носили. А куда мне в ожерелье: на базар, в химчистку?» Потом узнала: правда, жемчуг портится, если его долго не носить. Может, ему нужно тепло от тела? Как человеку. Ладно, взяла. Люблю цацки. Да и Анжелка растет, еще лет восемь и… Хочешь, покажу ее? Это новогодний утренник, это первый звонок, это день рождения. А это дома. Видишь кофточку? Сама шила. И ей, и себе. А эту, синюю в белый горох, я ей сделала из своего выпускного платья, в котором травилась. Ноский материал, ничего его не берет! Посидели мы со свекровью, поплакали, в смысле — она поплакала… И плачет точно, как Анжелка. Черт с ним, думаю. Какой-никакой, а отец… Может, мозги у него уже стали на место, думаю. Взяла вещи, вернулась.
Владимир Кириллыч свою задачу четко усек: жене нужно усиленное внимание! В жизни мы с ним столько не ходили в кино, в театр, в кабак, как тогда. С Анжеликой стал больше возиться, записал ее в какой-то специальный ансамбль, ну, который перед делегациями выступает. Устроил, чтобы она танцевала в первой линейке, впереди всех. Золото, а не муж!
И ко мне подкатывается: «Рожай сына!» У мужиков это самый кайф: сын! Да и куда я денусь тогда от него, с двумя-то детьми, это он тоже вычислил. А я что? Сказано — сделано! На всякий случай положили меня вылеживать в больницу. Это рядом, во втором корпусе. Лежу. Володька каждый день — фрукты, компоты, книжки. Все было класс, пока ему не велели сдать кровь. В родилке всегда кровь нужна: вдруг срочная операция или резус не тот, или просто будешь слабая после родов. Не тебе понадобится, так другой. Я и сама раньше сдавала. Короче, присылает супруг записку: мол, не волнуйся, Топси, завтра не приду, буду отдыхать после донорства. Ладно, отдыхай, А через день прибегают из вендиспансера: «Почему скрыли, что больны?» Этого мне, думаю, только не хватало! Володька же страшно осторожный! Гулять-то гулял, но так, чтобы не помять свой авторитет. В любую жару, пусть там камни лопаются, он всегда в пиджаке, при галстуке! Вдруг, мол, вызовут наверх, а он не по форме. И на тебе: подхватить заразу от родного мужа — полный абдуценс. Отпустили меня домой. Прихожу, он косится: знаю или нет? Я молчу. Ночью не выдержал, рассказал. Нет, не в командировке. В жизни не отгадаешь, от кого пошла эта гадость: от его водителя! Оказывается, он…
Пришли! Видишь, входят в ту дверь, седой — это врач. Но нам главное сестра. Вот! Анеточка Захаровна, доброе утро! Куда мы от вас… Ничего, ничего, вы завтракайте, мы подождем. Это же не девять месяцев ждать. Мы уже отбегались. Так вы не забыли про тот укол? И Дашеньке тоже. Это моя двоюродная сестричка. Правда, похожа? Надо помочь. Она в курсе. Анеточка Захаровна, у вас от нее голова болеть не будет. Мы сюда пересядем. Немножко подымлю, ничего? Так мы на вас надеемся, да? Ладненько. Идемте, я вас провожу. У-у, грымза! Взяла сотский, будто одолжение сделала! А у самой, видела, какие серьги? По «жигулю» в каждом ухе носит, и еще ей мало!
Про что это я? А, шофер… Да ничего у него с Володькой не было. Мой муженек забоялся шприца и попросил, чтобы Колька, его водитель, сдал за него кровь. Обещал отпустить его на неделю в деревню. Там самый заработок: свадьбы. А у него новая «Волга», серебристая эмаль — что ты! У Кольки тоже нервы нежные: что начальник, то и водитель. Нашел какого-то ханыгу, уговорил его пойти сдать кровь. За бутылку. Счастье, что на станции переливания крови быстро сделали анализ, а то пошла бы эта зараза по всей родилке, представляешь? Поднялся шум, Володька с перепугу свалил все на меня. Опомнился — и каяться: «Спасай! С тебя сейчас какой спрос, а мне билет на стол и мордой в дверь!» Всю ночь уговаривал. Хуже нет, когда мужик унижается. Ладно, пошла сознаваться. Прихожу в диспансер, там старичок сидит, жизнерадостный такой. Прозвище: Кожвенпривет. Он так здоровается: «С кожвенприветом!» Посмотрел анализы, спрашивает: «Ну!» Я пока ждала у них в предбаннике, всего наслушалась, там такие бабцы — ну-у! Стала ему заплетать про Гагру, как я там согрешила в гостинице с одним местным джигитом. Он посмотрел анализы, спрашивает: «В гостинице «Ореанда»?» — «Ага». — «Ну, иди, — говорит, — домой. Нет в Гагре такой гостиницы. И у тебя ничего нет. Рожай на здоровье!» Пришла, рассказала. Володька с горя надрался и попер на меня с кулаками. Мол, это я нарочно его заложила. Очнулась, сижу на полу, лицо в крови, все плывет. Так-то, Даша: мы за них, сволочей, страдаем, нам же и достается. Смотрю со своим белобрысым варежку не разевай!
Вот так и родился мой Юрик раньше времени. Такой был хорошенький: ушки, глазки, ротик! Но совсем крошечный, девятьсот грамм. Мне его даже не хотели показывать. Держали в такой стеклянной коробке, вроде инкубатора. Я ночью упросила сестричку, чтоб пустила, смотрю через стекло и плачу: он из всех самый маленький, вялый, мне все казалось, что ему холодно. А я уже дома и ползунков наготовила, и марли нарезала на подгузники. Запомнила: когда мы с Анжелой приехали из родилки, она как разгулялась, подгузников не хватило. И конфеты ему уже припасла. Мама говорила: в первый день надо обложить кроватку конфетами, чтобы у него была сладкая жизнь… Может, лучше бы он умер сразу там, в родилке? Они мне намекали. А Володька, дурак, радуется: сын! Он с самого начала хотел сына. Когда узнал тогда, в первый раз, что девочка, сразу скис. Анжелку баловал, но любить не любил. Скучно ему с ней было, а она переживала. Ну, а сейчас он от радости совсем сдурел. Залез по водосточной трубе на третий этаж: «Не простишь — прыгну и убьюсь!» На это у них ума хватает. Прощать, не прощать, какая разница? Зло обязательно выплывает. Через пять лет, через десять, но вернется к тебе. Володьке отомстилось за то, что шлялся по бабам, но мне-то, мне за что?! Нет. Мне тоже по делу. Не любила — зачем с ним жила? А, что теперь говорить… Володька смотался в Москву, привез профессора. А я уже и так знала все. Мой сынок ничего не видел и не слышал. Только запахи чувствовал. Услышит одеколон или постное масло, я его часто протирала, сразу тянется, мычит… Ночью ношу его на руках, баюкаю, жду: вдруг он загулькает, на меня посмотрит! Восемь месяцев прожил — и все. Да.
Вон у Людки, у верхней моей соседки, первый ребенок родился с водянкой мозга. Лет пять мучилась, в спецсадике держала. Шестьдесят рублей в месяц, а толку? Судьба. Я тоже не верила, пока меня не стукнуло. Поэтому многие и боятся рожать. Только и слышишь: у кого кривошея, у кого врожденный вывих бедра. А умереть при родах? Или потом, от инфекции? Это мужикам кажется: родила — как на базар сходила, Боишься смерти? А я нет. Не верю, что умру. Сколько уже была на похоронах, да и саму прихватывало, а все равно не верю! Да и некогда про это думать. Жизнь несет. Я, когда была маленькая, операций не боялась. Мама рассказывала, как ей еще во втором классе вырезали аппендицит. Она долго лежала в больнице; волосы от пота слиплись, ее хотели остричь наголо, а она не далась, по волоску разобрала. С тех пор они у нее стали немножко виться. Я тоже мечтала: вдруг и у меня после операции волосы завьются? Только об этом и думала. А врачи удивлялись: от горшка два вершка, а не дрейфит ни граммулечки! Завиться — это не то. Оно должно получиться само собой. Вот у Анжелы кудряшки, видела на фото, прямо как у той негритянки. Нет, на висках она сама подкрутила. У них в классе такая мода называется «завлекалочки». Тебе бы тоже пошло.
Слушай, Дашка, ты мои полсотни отдашь к понедельнику? Не можешь, подожду. Перехвачу у кого-нибудь во дворе. Просто чтоб я знала: да — да, нет — нет. Или вот что: продай мне свое колечко. А, Даш? Сильно оно мне понравилось! Что значит: «берите»! Камушек небольшой, но вполне. Ничего ты мне не обязана! То наши бабские дела, а это деньги. Рублей сто оно тянет, да? За мной будет еще полтинник. Отдам с получки, ладно? Ну, спасибо, У меня скоро день рождения, захотелось себя побаловать, больше некому. К этому колечку у меня как раз есть сережки. Володькин подарок. Это когда я Анжелку родила. За сына он получше приготовил, с бриллиантиками. Я не взяла, Вернее, взяла, но продала. Когда я с Володькой жила, была совсем без понятия, где базар. Он то привезет продуктов из колхоза, где они строили, то Кольку сгоняет на рынок. Мне вроде бы и легче, но иногда и самой охота сходить, потолкаться, выбрать. Опять же — зелень: ни один мужик не выберет путевую зелень! Нет, заладил: «Жене Савостина нечего шляться по базарам!» И с работы меня забрал: мол, прокормлю и так. Когда мы с ним разбежались, я сразу пошла на старое место, на автобазу. Никто мне слова не сказал, вроде и не уходила. Наоборот, ребята еще и выручали, они же возят продукты; кто подбросит хлеба, кто кило сосисок, прямо с мясокомбината. Ты-то, небось, еще без понятия, как деньги зарабатывать! Стипендия — это тебе на булавки. А Анжелка уже заработала рубчик. Недавно пошла к подружке своей, Катеньке. Там гости были, цветов нанесли. Девчонки сидели, уроки готовили. Вдруг — нету их! Время позднее, на дворе метет. Искали, искали, нашли на углу: цветы продавали! Толкали их по пять копеек за цветок. Это в феврале-то! Рубля на три мелочи уже наварили. Анжелка говорит: «Хотела тебе на подарок заработать и себе на жвачку!» Хорошо, хоть не врет. То есть врет, но так, фантазирует. Как я в детстве.
Это еще кто? Раз, два, три… И главврач с ними. Ну-ка, Даша, двинули отсюда! Быстро! Что, что: комиссия! Анета говорила, что вот-вот они нагрянут. Внезапная проверка. Потому я и хотела проскочить пораньше. Бедные эти врачи. Их комиссии дергают, они дергают нас, так оно и идет. Знаешь анекдот про уши? Приходит больной к врачу. «Доктор, у меня поясница болит». А тот: «Зайдите завтра, будет операционный день, я вам отрежу уши». — «Доктор, у меня же поясница!» — «Ну, как хотите». Пошел к терапевту, тот все пишет, пишет. «Доктор, поясница болит, а хирург говорит, что надо уши отрезать. Что мне делать?» Терапевт пишет, качает головой: «Ох уж эти хирурги, им бы только резать! Нате рецепт, выпейте эти таблетки, уши сами отпадут». Чего не смеешься? Брось! Зайдешь, тогда и переживай. А сейчас живи. Вспоминай, что у тебя было хорошего. Например, как ты с белобрысым познакомилась. В филармонии? Миша меня тоже часто водил, даже абонемент взял. Но долго слушать не могу, вспоминаю: то стирка, то в школу вызывают, Анжела подралась, она всех мальчишек колотит. Какая уж там музыка! У них учительница ничего, строгая. Но срывается. Они кого хочешь выведут! А она одна живет. Нервы. Я раз ей нашла жениха, второй, но на нее не угодишь. Сама-то не ахти, худенькая, бледная. Глаза, правда, ничего. И волосы шикарные, длинные, светлые, как у тебя. Она скрутит их кое-как, ну никакого вида! Мы однажды с ней разговорились, вот как с тобой, стояли вместе за курами. Где еще поговоришь, как не в очереди? В молодости она обожглась: он был женатый, а рожать она побоялась. Теперь жалеет. Я ей пару раз доставала машину — вывозить металлолом. А она с Анжелочкой часто занималась. И на продленке, и дома. Со временем не считается, это уж точно. Куда ей спешить: ни дома, ни семьи. Я ей посочувствую, она — мне, вот и полегчает. Ты тоже училкой будешь? У глухонемых? Тут и в нормальной школе надо столько нервов, а уж в глухонемой… Зарплата хоть побольше? И отпуск, наверно, тоже. Это сейчас, при родителях, тебе все нипочем, а как пойдешь работать, детей нарожаешь… За музыкальную школу семнадцать рэ, фигурное катание, новые сапоги дочке, шубу тоже надо новую, только успевай! Замужем, конечно, легче. Зато я сама себе хозяйка: хочу — песни пою, хочу — спать ложусь.
Сигарету? Пожалуйста, Вячеслав Иванович! У меня «Космос». Я смотрю, вы сегодня закурили с самого утречка. Не зажигается? Нате спички. Ой, нет, горелую нельзя засовывать в коробок: будешь таскать с собой все свои неприятности. Покурим, от сердца отляжет. Наверно, скоро на сигаретах будут писать: «Минздрав предупреждает: курящая женщина опасна для вашего здоровья!» А вот если уж вы не будете беречься… Вы здоровы — и мы возле вас. Берите, у меня еще пачка. Какое «спасибо»! За лекарства не благодарят. А вам сейчас сигарета лучше всякого лекарства. Не волнуйтесь, мы туда соваться не будем. Видала, как мандражирует? Это главврач. Комиссия его щиплет. А, ничего они ему не сделают, сколько я этих комиссий навидалась у нас на автобазе! После комиссии только повышается такса. Дом горит, часы идут. Сделали бы лучше платную медицину. А то прячешься, суешь ему конверт, а он соображает: сколько там?
Опять ты мелькаешь! Не можешь посидеть спокойно? Бегает как заведенная! А, снова… Давай-давай. Знаешь загадку: где у человека душа? В мочевом пузыре. Как сбегаешь в туалет, сразу на душе легче. Беги! Еще лет десять, и Анжелка будет такая же. Нет, получше. Зря я, что ли, ее на фигурное катание водила? Мама. Если б не тетя Неля, она бы не так пила. Свинья эта Неля! Мало ей было мужиков, нет, надо увести мужа у лучшей подруги! Мать говорит: папа сам ушел. Не сманила бы — не ушел. Зубы. Сводить бы Анжелу. Не нравится мне это дупло. Пусть Неля посмотрит. Если пойти перед праздниками, надо червонец на подарок. Не меньше. Или лучше потом? Меня кто-нибудь поздравит, будет с чем пойти. Мама. Отвезти ее в Кремидовку. Нет, у бабы Зины полно вина, опять мать пойдет вразнос. Ой, мутит! Клянусь Анжелочкой, последний раз! Ей-богу, последний! Если бы бог и взаправду был… А может, есть? Анжелу завтра же повести к врачу. Еще разболится на праздники. Может, бог и есть, но у него полно своих дел. А колечко-то славное, свеженькое. Тесновато немножко, но ничего. Придется на все лето ехать в Кремидовку. Тоска. Зато сэкономим на продуктах. Халвы бы. Господи, спаси меня, мама, мамочка, не хочу я, не хочу!
Дашка, халвы хочешь? Я просто умираю, до того охота! Надо хорошо питаться. Особенно тебе. Кто тебя, такую тощую, замуж возьмет? Нет, конечно, на чей вкус. Я, когда разошлась с Володькой, стала такая страхолюдина, половина от меня осталась. А мужики так и цеплялись. Сперва тот деловар пристал, уговаривал идти с ним в долю. Две женщины ему варили дома сахарную вату, знаешь, пышная такая, сладкая. А я чтоб продавала. Божился: «Поставлю на сто рублей в день!» А что? Дети бегут, хватают, только успевай подвозить. Раз пошла, часик постояла. Но что-то меня заломало. Стоишь, на тебя все смотрят. Не вышло из меня магната. Зато уж наелась этой сахарной ваты от пуза!
А второй раз замуж мне не хотелось ни граммочки. Я уже махнула рукой: не жизнь — дрова. И бац, повезло! «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Я от Пугачевой балдею. Семь раз ходила! У меня тетка работает во Дворце спорта, в гардеробе, так я уж Аллочку послушала! Она выходит после концерта вся вымотанная, еле дышит. Но все равно напишет автограф. В уголке сердце, из него кровь капает и буква «А». Класс, а? А вот Мише тоже не нравилось. Нет, мое мнение для него было закон. Если уж совсем ему что-то поперек, молчит. Но чтобы поссориться, нагрубить — ни в жизнь! Ты со своим белобрысым ругаешься? Насчет ребенка не в счет. Ты женщина, тебе и решать. А мой Миша, чуть я на него голос подниму, сразу тащит мне чего-нибудь вкусненького. Он мне объяснял, в мозгу есть такая штука: ги-по-та-ла-мус. Если нервничаешь, надо сразу чего-нибудь съесть. Гипоталамус доволен — и ты спокойна.
Ты бы видела, Дашка, какие торты он наловчился печь ради меня! М-м… А слух у него был: ну, дирижер! Анжелке что-нибудь зададут в музыкальной школе, спрашиваю: «Выучила?» Она на фоно блям-блям что-то, иди знай, то или не то? А Миша ее пару раз приловил. Сам с ней занимался. Она у меня даже на конкурсе выступала. Третье место в районе, а?! Ее показывали по ящику. Родителей тоже приглашали. Я платье себе пошила — у-у! А меня только разик и показали. Мишаню — вообще ни разу. Он, между прочим, все по слуху подбирал и сам сочинял. Как же это, дай вспомнить? «Долгая мука ру-ук, зябкие рукава, капель из крана стук, ты, как всегда, права…» Стихи, музыку, все сам! Я кофту себе связала, а с нитками не рассчитала, рукава вышли куцые, зябла. Когда я от Миши ушла, он написал эту песню. Ля-ля-ля-ля… Ее теперь часто исполняют. Стала я знаменитой! «Но возвращаясь вспять, но замыкая круг…» Нет, наоборот: «Но замыкая круг, но возвращаясь вспять…» Танцуй, Дашенька! Завтра уже не попляшешь! Давай-давай, не то задница к стулу прирастет! Разрешите вас пригласить? «Долгая мука рук, ровный простор разлук…» Ничего вальсок, а? «Мартовский наст в глазах, стылая благодать, значит, не порох — прах, значит, не верить — врать?» Ох. Мамочка. Ох! Ох. За что же это нам такое?!
Который час, а? Чтоб они скисли со своими совещаниями! Пока наговорятся, сто раз помрешь! Тьфу… Где ты с белобрысым познакомилась? А, ты же говорила: в филармонии. А я на свадьбе. Миша играл в ансамбле на электрооргане. Человек пять инженеров их собралось, подрабатывали вечером. Полчаса поиграют, и за стол, выпить-закусить. А этот в сторонке сидит, смирный такой, грустный. Неудачник. На мне тогда темно-вишневое было, рукава, как в кимоно. «Летучая мышь» называется. Он потом говорил: «Я тебя увидел, у меня от счастья живот заболел».
Он робкий был, Миша. Да еще аллергия. Как у моей тетки. Она говорит: «Сенная лихорадка». Где она, интересно, находит это сено у себя во Дворце спорта? А у Миши от всего аллергия: от цветов, от дыма, от пыли, от клея. Когда он ко мне переехал, я затеяла уборку. Гляжу: весь опух! Температура — сорок! Загремел в больницу на неделю. Я из-за него даже курить бросила, все духи раздарила. С тех пор так и не душусь, а курить потом начала.
С ним было спокойно. Уговорил меня поступать в институт. Что, мол, всю жизнь тебе болтаться в диспетчерах? А я люблю на автобазе. Всегда полно народу, все меня знают. У меня с начальником дружба, что ты! На людях я его, конечно, чин чинарем: «Здрасьте, Баадур Эйвазович!» Но когда никого нет, он ко мне заходит. Давай, говорит, Томочка, посидим. Давай, говорю, Бадри. Ему тоже охота душу отвести. Я раскочегарю кофеварку, сидим, гуляем. В Белгороде у меня подруга лучшая живет, Оля. Если что, он мне туда с ходу дает командировку. «Съезди, Томочка, проветрись. Заодно узнай, что они нам могут подбросить из запчастей». Меньше двух контейнеров я ни разу не привозила! Миша? Я-то его устраивала и без диплома, но он, видно, почувствовал, что ревную его. Нет, к друзьям. Придут, всё они видели, всё читали, а я сижу, глазами хлопаю. Вот и пошла в институт. Совсем не готовилась, и всё на пятерки! Оставалась одна химия. Хоть бы троечку, как производственнице, лишь бы не завалить.
Сижу, зубрю, прибегает Анжела: «Мама, что такое «шлюха»?» Кто это тебя научил, спрашиваю. А она: «Возле булочной написано. И наша фамилия». Я как была, в халате, в бигудях, кинулась. На автобусной остановке, у дома, на телефонных будках — всюду эта надпись! Потом стали звонить. Или мат, или молчат. Положишь трубку, через минуту опять звонок.
Потом я узнала: он нарочно шел пешком на работу. Звонил мне из каждого автомата и вешал трубку на крючок, чтобы нервы потрепать. Как кто — Володька! Все не мог простить, что я ушла, когда Юрик умер. Да еще из-за Долли… Я оставила ее себе. Он за это забрал все книги: «Тебе ни к чему, а девчонке еще рано!» У нас подписных столько было, что ты-ы! Потом Володя снова женился. Я думаю: отдам ему Долли. Во-первых, у Миши от нее аллергия. А во-вторых, Володька теперь хозяин, свой участок: цветы, помидоры, редиска. Сами — ни боже мой, всё отправляют в Пермь, его тесть там продает. Пусть, думаю, Долли охраняет его богатство. Все-таки на воздухе, а она собака в самом соку. Ну и началось. В первую же ночь как сбежались кобеля со всей округи — плакали те помидоры! Во вторую ночь повалялись на георгинах. А на третью Володькина баба отравила Долли. И надо же: как раз суббота! Тогда он еще брал Анжелочку к себе на выходные. Еле успела прижать ее к себе, лицом в живот, а она вырывается, плачет, бежит к собаке. С того дня и стала заикаться. Говорят, вырастет — пройдет. А не проходит. В школе дразнят. Я б его самого, гада, отравила!
А Долли я похоронила прямо в халате. У нее свой халат был. Выкупаю, заверну, чтоб она не простыла. Она мне была как родная. Я заболею, она в рот ничего не берет. Анжелка только выйдет из школы, а Долли уже на балконе, выглядывает, где она. Дочка придет, спрашивает: «Ну, Долли, что там мама на меня наговаривала?» И правда: я когда сижу дома, шью, готовлю, одной скучно, разговариваю с собакой. Она тебе в глаза смотрит, ресницами хлоп-хлоп, все соображает. Лучше бы завел еще пять любовниц, подонок! С тех пор Анжела к отцу — никак! Да и он к ней не очень. Даже на Восьмое марта не поздравил. Помидорчика поганого из своих теплиц и то не принес! У него принцип: мол, отрезать, так сразу. Ну и на здоровье! Не стал бы он позорить меня на стенах — сто лет он мне не нужен!
Миша говорит: «Надо подавать в суд». Сфотографировал эти надписи, отнес в милицию, а они говорят: «Вы что, застали его, когда он это писал? Телефонный звонок тоже к делу не подошьешь. Нужно записать речь на магнитофон, сделать экспертизу». Как же ее: во-ка-ло-гра-фи-че-ская. Вижу, дела не будет. Снова к Мише: «Ну?» Он натянул штаны, поехал к Володьке. Час его нет, два, три, я уже вся извелась. Зачем, думаю, мне это надо? Володька-то мордоворот, а у Мишани что, одна аллергия… Среди ночи пришел, наконец, мой Миша. Спрашиваю: «Ну что?» А он глаза отводит и молчит.
Как это: вы первая?! Мы здесь с шести утра, а она приходит, и здрасьте: «Первая!» Я тоже отпросилась! И у меня ребенок! Позавчера? Может, ты занимала очередь год назад?! Никого я не видела! И видеть не хочу. Запись! Что это, автомагазин? А хоть к министру! Видала, Дашка: привыкла переть напролом. Сейчас я тебя пущу! Спешу и падаю. Иди, иди, корявая… Что? А, как с Мишей… Володька ему что-то про меня наплел. Миша не поверил, но стал сильно грустный. Он и раньше все сомневался. Ты, говорит, такая красивая, веселая, а я, говорит, мало того что рыжий, так еще и лысый. Проснусь ночью, а он сидит на кровати и смотрит на меня, как на Эрмитаж. Горе ты мое, думаю, и засну.
Так и стали жить: Миша на работе, я хожу по городу, стираю надписи, они снова появляются, а Миша смотрит в сторону и вздыхает. Сказала бы я ему, что ношу его ребенка, он не то что надписи — весь забор стер бы! До чего же они глупые! Меня мутит, грудь набухла, а он как слепой. Только и видит, что свои подозрения. Предлагал уехать в другой город, завербоваться на Север, подальше от слухов. Да куда уж мне с пузом… И работу неохота менять. Думаешь, диспетчер — только орать на всех? Если к ним по-людски, без подковырки, они сделают с дорогой душой. Конечно, есть. Егорчев — он свою совесть еще в детсаду забыл, на тумбочке. К нему хоть стихами говори, ноль! Но в принципе жить можно. Нет, сказала, не поеду я на Север. Так и живем: молча. Увязался как-то за мной один ханыга. Дала ему трешник, он и помог стирать надписи. Разговорились, оказалось: тот самый, что когда-то сдавал кровь за Володьку. Полный абдуценс! Тут меня и прихватило, Анжелку забросила к маме, сама — в Москву. Днем по магазинам, вечером в театр. На второе действие запросто можно попасть. Возле театра находишь какое-нибудь кафе, оставляешь пальто, к антракту прибегаешь в одном платье, мол, только что выскакивала на минутку. Находилась по театрам, душу отвела. Вернулась, сбегала сюда… Аннете Захаровне спасибо, выручила. Недельку отлежалась и выгнала Мишку. Конечно, жалко! Он и Анжеле бы помогал, дома всегда все в ажуре. А не могла я его больше видеть.
Дашунь, у тебя зеркальце есть? Дай-ка на минутку. У-у, хороша Маша… Что свет: возраст! Вот ты у нас красотка. А талия, талия! Хлеб, конечно, не жрешь? А я не могу. Привыкла к вкусному. Приучил он меня хорошо питаться, гад, Мишка, чтоб он пропал вместе со своим гипоталамусом! Надо худеть, как француженки. Не знаешь? «Утром кекс, днем секс, вечером снова кекс. Если не помогает, исключите мучное». А я вечером не поем — уже не человек! Да кому моя фигура нужна… В кино сниматься поздно, а для себя сойдет и так. Я кино разлюбила. Лучше телевизор. Смотрю все подряд, только сильно расстраиваюсь. Чего — сама не знаю. Фильм тяжелый, то другое дело, все равно понимаешь: это игра. А я просто от передач. Где-то землетрясение — плачу, академику орден вручают — реву, жалко, что он старенький; дети в передаче худые — опять слезы в три ручья. Если на душе совсем уж паршиво, я знаешь что делаю? Иду в хозяйственный магазин и покупаю какие-нибудь шурупчики, гвоздики. Просто так. Накуплю всякой чепухи и успокоюсь. Или на море махну. Там есть одна фирма, строит базы отдыха. Когда у них сдают корпус, мы им машины посылаем, и я с ними еду путевки отмечать. И Ольку, подружку свою, помнишь, я говорила, из Белгорода, тоже устроила. До обеда работаем, потом возьмем махровые простыни, расстелем в низиночке и загораем без ничего. У нее простыня темно-синяя, у меня вишневая, солнце шпарит, класс! Наверху Анжелку поставим. Если кто идет, она сразу: «Мама!» Мы раз! — в простыни завернулись, лежим, перемигиваемся. Ну и загар у нас был! Не совсем ровный, мы раньше в купальниках загорали. Но те-омный! Мне там никто не хотел верить, что у меня такая большая дочка. Один мальчик из Литвы ну так за мной ухаживал! Двадцать три года, мастер спорта по водным лыжам, целую ночь стоял за дверью на коленях, умолял, чтобы впустила, хотя бы в щечку поцеловать. Я ему популярно объяснила, что к чему, он денек переживал, потом переключился на Ольку. Мы с ней чуть не поссорились.
Что уставилась на босоножки? Донашиваю. Я совсем без обуви. На каблуке носить не могу, ноги болят. У тебя в обувном никого нет? А-а, мама привозит… Тебе хорошо. И вообще на тебя легко все купить: ты ладненькая, махонькая. Белобрысый с тобой рядом — великан. Как он тебя называет? Зая? Нормально. Чего закраснелась? Ой, не могу! Кстати, у тебя нет подружки лет на тридцать? Не мне же: Мишке! Пропадает человек. Всю зиму топал вечером возле моего дома. Ему бы хозяйственную, рыжую. Говорят, от рыжих меньше аллергии. Только чтоб не такая зараза, как эта: «Я еще позавчера записалась!» Даш, я сбегаю и приду, если она появится, не пускай. Шуми! Ох, скорее бы! Проснуться бы через сутки. Или смотаться куда-нибудь. Хоть в Японию! Они там маленькие, вежливые. Привезла б матери халат. С драконами. Анжелке колготки. На меня там вряд ли что есть. Откуда у японцев такой размер? А, дурость… Надо мотануть на субботу в Кремидовку. Конец квартала, могут выбросить приличные куртки. На Анжелке уже все трещит. «Зябкие рукава…» Господи, пронеси! Не могу я больше! Если бы хоть наркоз на меня действовал. Все, последний раз! Обойдется — месяц с ним не буду видеться. Нет, два! Ей-бо, только бы обошлось! И здесь нет горячей воды. Так бы и дала по голове! Кому? Может, себе? Помада — класс! Людка молодец. А что, если оставить ребенка? Вдруг опять двойня… Куда мне рожать… Родить всем назло? Дали бы, наконец, квартиру. У Анжелки чтоб своя комната. Мама. Нет, нельзя рожать. Снова начнет совать ребенку мякиш. И в чем мочила: в портвейне! Мол, чтобы Анжелка спала и мне дала. А если бы у нее от этого голова раздулась? Но поспала я тогда знатно… Что же это за жизнь у меня бабайская… «Миллион, миллион, миллион алых роз…» Миллион тощих ног. Нет, я еще смотрюсь. Отоспаться бы, потом творожную маску. Кажется, есть пачка творогу. Или ленивые вареники. Переменить прическу? Чубчик оставить, сзади длиннее. Сейчас опять так носят. Или все поднять наверх? Ольга меня в парикмахерскую свела, показала парикмахерше, как я хочу, а она уперлась: «Не буду! Вам так не пойдет!» Так и не подрезала. Молодец баба! А сейчас постригусь. Надо что-то менять. Надоело. Когда же начнется что-нибудь путное? Пора идти.
Ну? Не приходила эта мымра? То-то. Недолго уже осталось. Держись, Дуня. Твой-то, глянь, совсем закоченел. Не пьет? Это хорошо. Лучше пусть гуляет, чем пьет. Я-то? Гуляла. Было дело. Но все как-то не по-людски. Другая найдет себе кадра: и на лицо ничего, и внимательный. Вон у Людки верхней какой: шапку — пожалуйста! Места на концерт — запросто. Всюду возит ее на своей тачке, серьги, конфеты, то-се. А эти, где они только берутся на мою голову?! То студентик несчастный, отовсюду его выперли, то этот летчик… У них ведь на машинах сумасшедшие перегрузки, он уставал, как черт, издергался. А жена, вот стерва, еще издевается: «Одна видимость, а не мужчина!» Раззвонила по всему нашему городку, понимаешь? Я его встретила, когда он шел кончать с собой. Не «Лотосом», серьезно. Это я потом узнала. А тогда просто вижу: человек не в себе. Случайно разговорились в троллейбусе, сошли на одной остановке. Он стал и стоит. Стоит и смотрит на меня. Что с тобой делать, думаю? Совсем ты плохой. Идем, молчим. Проводил меня. И снова молчит. Пришли, сидим. Он молчит и смотрит. Еле растормошила. Мы с ним долго еще встречались, пока его не перевели на Дальний Восток. Хорошо у нас было, дай бог тебе не хуже! Предлагал пожениться. Но я же вижу: он без дочки не может, а жена ни за что ее не отдаст. Я бы Анжелку тоже никому не отдала. В общем, много потом у нас всякого было, но та ночь, первая… ох и ночь была!.. Что ты в этом понимаешь! До самого утра не заснули, говорили, говорили. До чего же им охота выговориться! Мы им, наверно, для этого больше и нужны. Тот деловарчик, помнишь, ну который с сахарной ватой, даже он за свои полчаса успевал поплакаться в жилетку. У жены все это уже сидит в печенках, на работе тоже не разговоришься. А тут нас двое, ничем друг другу не обязаны, и темнота. Одни жалуются, другие, наоборот, такие смелые делаются, куда там! Всю правду чешут, ничего не боятся. Прямо декабристы! Надо бы собрания в постели проводить, а, Даш? Думаешь: ничего сейчас для него не жалко. Лишь бы оклемался, лишь бы встал на ноги… А он встанет, оденется, гуд бай! Черт с тобой, думаю. Иди. Я же понимаю: когда у него все наладится, ему уже неудобно прийти. Помнит, каким дохляком приполз ко мне. А, плевать! Квартира у меня есть, дочка мировая, и я всех их крупно имела в виду!
Время летит — ужас… Вроде только вчера ехала сюда с животом и не знала, кто там внутри. А Анжелочке уже скоро восемь. Лет с четырех с ними можно говорить как со взрослыми. И даже интересней. Я как-то ее долбаю: зачем разрисовала руки фломастером? А она: «Мамочка, я не виновата, у меня в голове перепутались мысленные кишки». Хорошо, если шуточки дома, а при чужих хоть стой, хоть падай. Мы ехали к деду. К отцу моему. Я ее сунула на третью полку, говорю: Анжелочка, если спросят, сколько тебе, говори: «Четыре годика». Ну, чтоб не брать билет на нее. Сама заснула. Просыпаюсь, внизу контролер, люди смеются. Оказывается, он ее спросил: «Девочка, тебе сколько?» А она: «Сейчас мне четыре годика, а как приедем, будет шесть с половиной».
По гороскопу мы с ней обе Козероги. Там пишется: упрямые, веселые, энергичные. Наш камень — рубин. Как в твоем колечке. Он охраняет от болезней. Смейся, смейся! У нас на работе одна женщина потеряла такое кольцо, а через две недели, не про нас будь сказано, инсульт у мужа. Я тоже не верила в судьбу, пока Анжелка не родилась. Хотела дотянуть с родами до января, чтобы ей считалось на год меньше, и на тебе: рассыпалась под самый праздник! Весь народ гуляет, а нам как раз принесли кормить. Разобрали, где чье, и за работу. Куранты бьют, малые пищат, давятся молоком, класс! А где ты встречала? В Ленинграде… Была, но заочно. С тем мальчиком, из-за которого травилась, помнишь? Тоже хотели вместе встречать Новый год, а его мамаша нарочно отослала в Питер. Но мы с ним условились: чтобы как будто вместе. В полдвенадцатого оба сядем в трамвай и будем ехать до полуночи. Он возьмет два билета, себе и мне. Я сяду на двойное сиденье и положу сумку рядом с собой, вроде заняла ему место. Потом каждый — шампанского и глядеть в ту сторону, где сейчас находится другой. Романтика!
Сколько осталось? Даш, я тебе! Ты что? Да-ашка!! Ну-ну-ну! Вот так, вот так. Очухалась? На меня тоже иногда находит: вдруг отключаюсь. Что ты, ему шевелиться еще рано! У тебя и живота-то нет. По глазам? Ничего не видно. Перепуганные, и все. Чего пугаться? Белобрысенький тебя бросит, другого найдем! Тоже мне, беда!
Вышел! Он, он. Сейчас уже недолго. Здравствуйте, Александр Яковлевич! Спасибо. Анжелочка уже во второй пошла. Ей-богу, последний раз! Почему вруша? Я же не виновата, что… Хорошо, Александр Яковлевич. На вас одна надежда. Спасибо. Мы подождем. Это Даша, моя племяшка. Правда, похожа? Женились бы на ней, а? Сколько можно в холостяках!.. Ну, как хотите. Молчи, дурочка! И не суй ему деньги. Видишь, в чем ходит, а не берет. Из принципа. Я бы пошла за такого. Мало ли что старше, не в этом дело. Я же не за его капиталы собираюсь. Была у нас во дворе одна Светка, вот она такого подцепила! Ей восемнадцать, ему пятьдесят. Уехала с ним, присылала цветные снимки — ну полный абдуценс! Ты еще не знаешь, как оно называется, а у нее стоят уже три такие штуки. Дом комнат двадцать, аппаратура японская, две машины, слуги… Пишет: я только лежу и командую. Вот и долежалась. Морду наела — в ожерелье не пролазит! Она нарочно побольше жрала, чтобы отрастить задницу, а с нее пересадить мясо на грудь. Мужу ее нравилось, чтобы сиськи выпирали. У них такая операция, говорит, тысячи три долларов стоит. Видишь, сколько мы с тобой сэкономили! Откармливалась она, а у мужа вкус переменился: теперь подавай ему худенькую! Завел себе сразу трех жен, у них можно официально. Светка стала вроде бригадира. Спохватилась, села на диету, да куда там! Поздно, Федя, пить боржом, почка отвалилась. Посоветовали ей написать в одну английскую фирму, оттуда прислали специальные таблетки. В них прожорливый глист, солитер. Ты ешь хоть десять пирожных сразу, а он все подъедает вперед тебя. За месяц, говорит, спустила десять кило. Еще немножко, и вошла бы в норму. Да тут у них случилась заварушка, муж — фьють! Светку выгнали в двадцать четыре часа. Приехала сюда худущая, что ни ест, ничего не помогает. Оказывается, этого солитера надо выгонять другими таблетками, а их высылают только на валюту. Еле спасли ее какими-то травами. Дура! Хочешь держать фигуру, роди кого-нибудь. За целый день так набегаешься, всегда будешь в форме. И удовольствие-е! Купаешь малую, она лежит в ванночке, воду губами хватает, щурится на свет, в пупе у нее вода стоит, как маленькое озеро, ну-у! Роди кого-нибудь, Дашка! Даже без мужа. Взрослый может пропасть, а ребенок — нет. Видишь, я какая вымахала, а родилась дохляк дохляком! Маме нельзя было рожать, у нее почки, но ей хотелось дочку. И еще она думала: будет ребенок, он, папа то есть, не уйдет от нее к Неле, ну, к другой. Разве удержать можно? Это только кажется: не пускай, и он останется. Меня начинают привязывать, все равно как, силой или лаской, сразу тянет удрать…
Ты посмотри: все-таки пролезла, впереди нас прошла! Мы здесь с шести часов сидим! Вот змея… Чтоб тебе это вылезло боком! Стерва! Видно, блатная. Теперь без блата и на кладбище не попадешь! А, черт с ней. Пусть ее при комиссии обрабатывают, а мы — потом.
Ничего, прорвемся, я везучая. И счастливая. Меня отец научил. Его засыпало во время бомбежки, еле откопали. Врач сказал: лет до сорока пяти доживешь, дальше не гарантирую. Отец и гнал из себя душу, чтобы все успеть и семью обеспечить. Стукнуло ему сорок четыре, собрал он друзей, родню. Не то именины, не то поминки. И целый год готовился к смерти. Это я уже потом поняла, а тогда удивлялась: почему у всех на стенках календари, а у нас нету? Дожил до сорока пяти. Месяц прошел, второй — ни фига! И тут, представляешь, сломался человек. Ждал смерти, а ее нет! Пришел, наконец, в себя, но как переменился! Веселый стал, добрый. Для меня, говорит, теперь каждый день — подарок! Ему уже за шестьдесят, но ты бы видела, как он держится! Одно жалко: на радостях бросил мамку. Она его так поддерживала, утешала, а он, бац, и ушел. Наверно, убежал от страха своего прежнего. Да что мы знаем о своей судьбе? Тык-мык, и жизни нет. Знаешь, есть такая байка. Приходят к врачу четверо больных. Он говорит: всем вам осталось жить ровно год. Один ударился в коммерцию, напоследок хотел заработать побольше денег. Второй — женщины, музыка, гульба. Третий купил на все деньги водки, пил, пил, умер через две недели. А четвертый говорит: «Пойду к другому врачу!» Может, и мы с тобой так… Родим, будем с ними гулькаться. Я бы оставила ребеночка, честно! Сейчас уже не сильно смотрят, есть у тебя в паспорте муж или нет. У нас Наташка была, вечный комсорг, профорг, все, что хочешь, на каждом собрании выступала. У других уже по двое, а у нее — кошка Багира. Дошло до нее: съездила на какой-то семинар, потом, смотрим, поправилась. Хорошую девку родила, три пятьсот. Нет, мне боязно оставлять ребеночка. Он тогда ночевал у меня, а накануне делал у себя в квартире ремонт. Надышался паркетного лака, это такая дрянь, ужас! Выпивши и то опасно, а уж с этим лаком ребенку полный абдуценс! Хватит с меня Юрочки моего несчастного… Да и старая стала. Вчера утром Анжелку чуть не прибила. Знаешь за что? За хлебные крошки! Она из них шарики катала. А я ее по шее, как бешеная. Старость.
Что, заболтала я тебя? Ну и хорошо. Хуже нет, чем ждать. Там-то уже ничего: раз-два, следующая! Провалилась, проснулась, и все дела. Но помнить будешь всю жизнь. И кобеля своего белобрысенького ненавидеть. Дня три. А он станет за тобой ходить, в глаза заглядывать, виноватый такой… Где же это я читала? Ну, неважно. В общем, у одного индейца жена рожала, сильно так мучилась. Он лежал рядом, не мог ей помочь. До того переживал, что перерезал себе горло. Представляешь? Я бы за такого пошла. Да где же сейчас найдешь индейца… Скоро? Тьфу! Сил моих нет. Мандраж пошел. Я сон плохой вчера видела. Вроде стою возле нашего дома, а на другой стороне улицы дочка. Кричу ей: «Не ходи! Здесь машины!» Хочу сама перейти, а тут вода, много воды, откуда она взялась, бежит, как с гор, прямо горбом стоит! Если ждать, пока вода уйдет, Анжелка может не утерпеть, кинется и утонет. Эх, думаю, надо было все-таки отдать ее на плавание, а не на фигурное катание. Вдруг чувствую: кто-то берет меня под локоть. Свекровь! Совсем как живая. И платье на ней то самое, я ей когда-то сшила. А под другую руку пристроился какой-то военный. Повернулся лицом: господи, Гагарин! Улыбается, кивает, мол, все будет в порядке. Я и пошла в воду. Холодина — у-у! Так и проснулась от холода. Вскочила, нарисовала себе по-быстрому лицо и сюда. К чему этот сон, как ты думаешь? Вода — это же смерть! Ой, неохота… Да? Вот и он говорит: к дождю. Как кто? Юрик! Ну, тот, мой первый. У него теперь двое деток. Привела я Анжелку на катание, а он младшего забирал, Дениску. Смешной, голова как одуванчик. С Юрой — одно лицо. Сколько раз представляла, как мы когда-нибудь встретимся, а тут стою, остекленела. Даже Анжелка почувствовала, вцепилась в меня. Какое «замуж»! Склеивать кусочки — гиблое дело. В чем я буду лучше его жены, к тому он быстро привыкнет. А чем она была лучше, тем он меня потом станет попрекать. Нет, солнце мое, ни за что! Начнет он по воскресеньям бегать к своим пацанам, как Анжелка к Володьке, ну его! Хочу сама себе быть хозяйкой. Соскучился — свидимся, а просто так каждый день — тю! Я ему и не сказала, что подзалетела. А так когда-то хотелось от него сына… Нет, дочка лучше. Анжелка, когда была малая, меня утешала: «За каждый выпавший зуб мышка мне приносила подарок. У тебя тоже скоро выпадут все зубы, во подарков будет!» Да, зубы летят один за другим, а мышки нет.
Так-так, народ сходится. Вы будете за нами, а вы — за ней. Смотри, сколько сегодня! И вас на старости лет потянуло? Первый раз? Сколько ж вы с ним прожили? Учись, Дашка: фирма веников не вяжет. Нет, вы тоже посидите. Первыми мы пойдем. Запиши мой телефон. Тридцать два шестьдесят пять ноль два. Звони, если что. А тебе как? Ясненько. Вот, слышишь? Уже… Музыка началась. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы! Когда делают под местным наркозом, врубают музыку, чтобы отвлекать от боли. Главврач пишет об этом диссертацию. Я к нему попала, когда еще под «Битлов» делали. А сейчас уже Тото Кутуньо пошел. Или тебе Бах нужен? Ой, скорее бы!
Да, да, здесь мы! Я первая, ладно? Мне еще за Анжелкой бежать. Слушай, солнце… Дашка, тебе говорю! Иди-ка ты домой! А вот так: встань и иди. Ничего, родишь! Возьмешь отпуск, родители помогут. Вали скорее, пока твой белобрысенький не сбежал! Дождь на дворе, а он в одной курточке. Тоже мне папаша, сопли до колен… Ну?! Вот умница! Дуй быстрее. Будет девочка, назовешь в мою честь! Ты горбушки любишь? Значит, мальчик! Ну, брысь! И притащи мне ту книжку, где про индейца. Во-во, Хемингуэй. Ни пуха тебе. К черту. Сейчас, сестричка. Докурю и иду. Эта? Какая? А, молодая… Сбежала. Вы же знаете, с ними всегда так: нагуляют, а потом сдрейфят и — ноги-ноги! Зря только голову морочила. Вот она. Пошла к своему белобрысенькому. Ишь как подскочил к ней! Курточкой прикрывает. Заботливый! Все они хороши. А потом в сторону. Вот тебе и Хемингуэй… Иду, сестричка. За мной дело не станет. Иду.
…ЗЕМЛЯ ПУХОМ! Рассказ
«Пора утрат, сентябрь проклятый… печальный?.. так быстро замкнут жизни круг… круг…» Не то. «Стерев случайные черты, смерть обнажила облик друга, и только эхо пустоты, и только порванные узы». Какие узы? Всю ночь вертелось в голове, какая-то мешанина… Прошлой ночью он еще был жив. Нет, позапрошлой. С кем он провел ту ночь? С этой куклой? «Ночное ликованье жизни, а днем померкли небеса… небеса — полчаса… мог бы сам… колбаса…» Надо остановиться, иначе я сойду с ума! Живут люди, ничего близко к сердцу не принимают. Погиб — но и все мы смертны. Тем более сам виноват. Если бы рядом с ним оказалась не она, а я, то… А, что гадать.
Бедный Севочка. Голова раскалывается. Господи, ну и жара! Сентябрь, а дышать нечем. Еще и это платье. Зачем я его надела? Можно было то, фиолетовое. Оно почти черное. Нет, покрой не тот. И просвечивает. Я же знала с самого начала, но сшила назло всем. И, конечно, ему. Чуть что, язвил: «Ты, Стелла, всегда одета, как на похоронах». Мог бы называть меня по имени-отчеству хоть при посторонних. В конце концов, я уже пять лет заместитель редактора. Пять лет! Не верится.
Такой веселый, задиристый, раскованный. Мог явиться в джинсах на любое совещание. Сколько мне звонили: «Он что, не понимает?!» Зачем, спрашивается, дразнить гусей? Васька Чичкан эпатирует публику, ходит подпоясанный веревкой и в разных носках, вроде бы по рассеянности. Один синий, другой коричневый. Гости в восторге, особенно иностранцы: богема! Но Севе-то зачем это? Должна быть граница между раскованностью и расхлябанностью. Да что уж теперь… все кончено. Всё!
Федор Степанович, теперь налево. И еще раз налево. Тот, бежевый. Нет, правее, девятиэтажный. Я пошла. Что? Только ненадолго. Машина нам скоро понадобится. Потом поставите ее в тень. Здесь жарко, как в духовке. А, цветы… Спасибо, чуть не забыла. Венок от коллектива само собой, а цветы от меня. Мы столько лет работали вместе. Ой! Опять я ударилась. С моим ростом нельзя ездить в «Волге». Так вы недолго, Федор Степанович.
Надо войти. Как парит. Только дождя сегодня и не хватало. Когда я была здесь последний раз? Лет пять назад. Точно: на новоселье. Неделю гудели как сумасшедшие. Сейчас бы за такое — ого-го! Сева любил погулять. Войти? Еще минутку. До выноса часа полтора, а народ идет и идет. Как можно было не любить Севочку? Умница, фантазер, все понимает с полуслова. Это с чужими. А на работе столько нервов! Сократишь его статью строк на сто, сразу в крик: «Пропадет вся соль!» И так уже столько соли, перца, уксуса. Согласишься, напечатаем. И начинается: звонки, звонки: «Что за неуместные обобщения? Не могли взять другую тему?» Ему пироги да пышки, нам с редактором тумаки да шишки. С этой статьей тоже был бы скандал. Хорошо, что я проявила характер: «Не хочешь сокращать, снимаем из номера. Редактор приедет, разберется». Зачем мне эти страсти? По мелочам портить жизнь, а ее-то вон как мало.
Сейчас бы под душ. Хоть на минутку. Еще нет двенадцати, а уже так жарко! Во рту сухо, противно. Хватит таблеток. Так можно успокоиться навеки. Без них еще хуже. Ворочаешься полночи, не спишь, а днем все раздражает. Еще одну, и все. Запить нечем. Слюны, и той нет. Когда хочешь, ни за что не пойдет. Ну? Ну?! Гадость какая. Сейчас подействует. На пустой желудок быстро. Сейчас. Сейчас. Вот… вот… мягкой рукой… мягкой… по сердцу… мягкой, ласковой… легче… Надо войти.
Да. Да. Это ужасно! В голове не укладывается. Кто угодно, только не он. Просто не верится. Вы уже поднимались? Я была еще вчера. Столько хлопот, а человека уже нет. Да, Игорь, да. Как гром средь бела дня! Такой энергичный, жизнелюбивый… Ужас! С ним что-то происходило в последнее время, что-то странное, тревожное. Сколько же Севе было? Он моложе меня на… Ровно через месяц он был бы именинник. В этом какой-то знак. Похороны и дни рождения приближают нас к вечности. Давайте поднимемся вместе. Какой зной. Осторожно, тут темно, как в могиле. В могиле… Ох. Ох! Он — и не он! Волосы колышутся, как живые… А, вентилятор… Се-ва! Лицо. Не его лицо. Почему розовое? Он был смуглый. Грим. Густо наложили. Только ссадина на лбу и… ухо… Не могу! Это не он! Сева спасся, здесь кто-то другой, не он, чужой, посторонний, они перепутали тела, у нас все могут перепутать, а Сева жив, он не мог умереть, он всегда был счастливчиком, он где-то в больнице, выживет, выкарабкается, боже мой, как это жестоко, как жестоко, подменили тела, нарочно так густо положили грим, что никто не узнал, не увидел подмены, это не труп, а муляж, после аварии они подменили, не они, сам Сева, он спасся, он всех разыграл, Сева, Сева, Сева! Ох. Ох.
Карина… то есть, Галя, Галочка! Как вам сейчас тяжело! Мы все, вся редакция с вами, вы знаете… ты же знаешь, как его у нас любили! Поплачь, будет легче. Ужасно! Нет слов. Галя, твой шарфик, он весь в гриме… ты наклонялась над Севой… конечно, сейчас не до того, я так, машинально… но на шарфике очень заметен грим. Розовое на черном. Дай вытру. Вот и все. Такое горе. Только мы, женщины, можем это понять. Я не верила до последней минуты. Позвонили, была уверена: розыгрыш! Сева обожал дурачества, ты же знаешь. Мастер мистификаций. Помню, однажды он опоздал на редколлегию. Десять минут его нет, двадцать. Наконец, влетает: «Авария!» Бледный, волосы торчком. С такими подробностями рассказал, все только ахали. А потом я узнала: проспал. Сейчас тоже думала, что в самый последний момент он вдруг появится: «Ну, как я вас?»
Боже, что я несу! Назвала его жену Кариной. Хорошо, если она не расслышала. А вдруг?.. Она уже и так наплакалась из-за этой Карины. Да, Севина смерть — развязка всему. Галочка, дать таблетку? Хорошо успокаивает. Я только на них и держусь. Как хочешь. Ты просто железная, Галка! Если бы не ты, Сева никогда бы не стал личностью… он обязан тебе… был обязан очень многим… Может, слишком многим, не потому ли охладел? Он был такой самолюбивый, наш Севочка.
Ухо! Ухо мертвое. Чужое. Было нечто, стало ничто. Спина мокрая. Вентилятор совсем не чувствуется. Вот неожиданность: Олег! Как ты успел? А-а… Когда же она умерла? Закон парных случаев: Сева погиб в тот же день и тот же час. Она его очень любила. И вообще была славная старуха, даром что твоя теща. Как Ольга? А Максимка? Сто лет вас не видела. Он все такой же фантазер? Прости, я не знала, что вы разошлись. Видела Ольгу вчера в больнице, когда забирали Севу, но, конечно, нам обеим было не до того. Олежек, может, выступишь на гражданской панихиде? Нужен кто-то из рядовых читателей, людей, близких газете. Договорилась с Шевёлкиным, но он сегодня уже где-то задействован. А жаль: бригадир, депутат, делегат… Правда, примелькался. Вот и скажи как археолог. Сейчас вопросы охраны старины ставятся очень остро, увяжи это с Севиными репортажами. Да не собирался он бросить работу! Сбежать в экспедицию — это только ты мог, а Сева любил потрепаться. Мало ли что надоело. У меня тоже работа не сахар, и ничего, тяну. Если все начнут убегать от своих проблем и трудностей в Каракумы… Ладно, Олег, как знаешь. Найдем другого выступающего.
Голова кружится. Цветы? Формалин? Ноги как чужие. Все чужое. Только сердце и чувствую. Пусть я умру внезапно, далеко от всех. Чтобы никто мною не занимался. Раз, и нету. Кто захочет, вспомнит. «Воспоминанье — вот награда, вот верный вечности залог… заслон… «верный вечности» — плохо… «И эта хрупкая преграда… преграда… неодолимая, как сон…» При чем здесь сон?
Галю безумно жалко. Ей и так жилось несладко, а тут… Но, между нами, для нее это облегчение. Выход из тупика. Если бы ее не мучила совесть… Я не оговорилась: именно ее. Когда он уходил к Карине, Галя ему крикнула вдогонку: «Уйдешь — ты больше для меня не существуешь! Все равно что попал под машину!» И месяца не прошло, как все сбылось. Накликала. Я верю в такие совпадения. В то утро у меня было предчувствие. Что-то давило, беспокоило. Думала, на погоду, а оно вон как.
Галя, надо что-то сделать с туфлями. То ли гроб получился короче, то ли… Туфли торчат. Прикрыть их цветами. Белые астры. Совсем другое дело. Мальчик, что ты здесь делаешь? Из школы молодых журналистов… Да, Всеволод Михайлович вел у вас занятия… Надеюсь, ты вырастешь настоящим газетчиком. Как он. Но сейчас уходи. Похороны — зрелище не для детей. Быстренько. Это же психологическая травма! Никто не хочет подумать ни на копейку. Им повезло, что я пожизненно в похоронной команде.
Алена! Сто лет тебя не видела! Пополнела, похорошела. Как Димка? А Наточка? Живем в одном городе, а видимся раз в сто лет. Да, такое горе… Я знала, я чувствовала: Сева идет к катастрофе. Связался с этой женщиной и потерял голову. Мы еще тогда хотели вмешаться, я говорила с Галей, но она возражала. Наверно, надеялась, что он образумится. Семья, двое детей. Сын не родной, но столько лет вместе… Мы обсудили на бюро. Он сказал: «Хотите, чтоб все было честно? Я ухожу от Гали. Официально разведусь. Устраивает?» И все это с таким вызовом! Нет, уж лучше делать вид, что ничего не знаешь. Пойдем к окну, там прохладнее. Пусть простуда, лишь бы не эта жара. Нонна — ну, ты помнишь Нонку Талмазян, она сейчас Орехова, — так вот, Нонна говорит: эта Карина — просто выдра! Она ее хорошо знает еще по университету. Да ты же ее видела в редакции. Ни кожи, ни рожи. Притом старше Гали года на три. Завел бы он роман с практиканточкой, дело понятное. В этом возрасте мужчины начинают делать глупости. А Севочка всегда был легкомысленным. Сколько раз я просила редактора: «Вадим, поговори с ним по-мужски!» Мы начинали все вместе, одной компанией, но нельзя же бесконечно паразитировать на старой дружбе! А он: «Разбирайтесь сами». Вот и сейчас, как назло, улетел в Москву на совещание. Конечно, на меня можно бросить все. Они нас, Алена, не считают за женщин. Думают: раз она из года в год тянет все и помалкивает, то и…
Гавриленко! Петр Серафимович! Как с нарукавными повязками? Хорошо. Второе: венок. Я вчера заказала, надо только привезти и надписать ленту» Вот текст. Деньги у вас, так? Третье. Перезвоните Сергею: автобусы и музыка. Галя против оркестра, я знаю, но панихида — это и траурный митинг, поэтому нужен ритуал. Напомните оркестрантам: похороны перенесли с трех на два часа дня. Так надо. Как с «Прогрессом»? Генеральный директор обещал выступить на панихиде. Проверьте. С вами пойдет Нонна Саркисовна. Возьмите нашу машину, но долго не задерживайте. Сперва за венком. Бумажку с текстом не потеряли? Хороший человек, но такой медлительный! Его только за смертью посылать. За смертью… Так и есть: забыл бумажку. Петр Серафимович! Текст для ленты! «Дорогому Всеволоду от коллектива…» Порядок. «Порядок, сломанный тростник… надломленный, как шпага …иллюзий дым развеян в прах…» Дым — в прах?.. «Развеян вдруг… развеян вмиг… и смерти черная отвага… но осень, желтая бумага…» Жуткий запах. Это формалин? Как я переживу этот день… Да, доктор. Опять я забыла его имя-отчество… Да, молодые теперь уходят рано… Смерть и Сева — не вяжется! Красавец, спортсмен. Ужас! Вы не страдаете от духоты? Сегодня просто дышать нечем! Циклон за циклоном. Кофетамин? У меня и так бессонница. Вчера приняла три таблетки. Сердце так и вылетает. Стучит прямо в горле. Спасибо, я зайду к вам. Анализы еще не делала. Галя там, в комнате. Непременно. Зайду. Да, здоровье — это… Такая жара, а он в плаще. Старость. Витенька, здравствуй. Алена где-то здесь. Значит, пошла вниз покурить. Давай тоже выйдем. Без фильтра? Все равно. У меня одно из головы не выходит: он же столько лет водил машину, и никогда ни одной царапины! Даже когда перевернулся, помнишь? Машина съехала в кювет, сделала сальто и снова стала на все четыре колеса. Никто даже не успел испугаться. Реакция феноменальная! Неужели сейчас он не заметил, что грузовик едет прямо на него? Я видела в ГАИ схему места происшествия — Сева вполне успевал свернуть. Хотел поразить свою мадам? По-моему, она уже успела налюбоваться его суперменством за эти два года. Алена, это разве не мальчишество: взять машину, и чью — мужа своей пассии — и среди бела дня кататься с ней в самом центре. Севку каждая собака знает! И муж этой фифы тоже не просто так: главный инженер какого-то СМУ. Надо же голову иметь, правда?
Бери свою Карину и езжайте миловаться куда-нибудь за город. Если перед женой не совестно, то помни, что ты представляешь газету. Такие способности, с его талантом я бы горы своротила! А он? Много шума, толку мало. Сейчас, конечно, не время, но я столько раз говорила ему это, что…
Пойдемте наверх. Галю нельзя оставлять одну. Терпеть все эти годы я бы не стала даже ради детей. Светлана Павловна, ваша ирония неуместна! Если у меня нет детей, это еще не значит, что… Нет-нет, я отлично вас поняла. Дрянь такая! Без году неделя в газете, а корчит из себя невесть что. Опять сердце. Ох. Ох. Все плывет. Сесть. Спокойно. А-а. Нет, ничего. Жара. Все прошло. Алена, возьми воду. Пару бутылок. И корвалол. На кладбище кому-нибудь всегда делается дурно. Особенно в такую духоту. Давит, словно обруч. Почему же он полез прямо на грузовик? «Москвичок» против «КРАЗа» — это же пылинка! Рассчитывал, что шофер тормознет? Мне показывали на схеме: если бы Сева не прикрыл собой автобус с детьми, их, конечно, помяло бы. Но водитель всегда подставляет правый бок: инстинкт самосохранения. А Сева принял удар на себя. Справа сидела эта женщина… Она-то? Жива. Таким ничего не сделается. Кто-то сообщил ей, что сегодня похороны, она удрала из больницы, чтобы явиться к трем. Пришлось перенести все на час раньше. От этих дамочек всего можно ждать. Ни стыда, ни такта. Галка, конечно, бывает резковата и прямолинейна. Но работать, вести хозяйство и возиться с детьми — тут уж не до светскости. Вот Карина и воспользовалась.
Чуть не забыла. Нужно сверить фамилии в отчете с сессии горсовета! В суматохе все могут перепутать. Монгольская декада? На всякий случай перезвонить, нет ли изменений?
Почему я не купила черное шелковое? В кои-то веки увидишь симпатичное платье, и сразу появляется десять женщин точно в таких же платьях. Надо что-то освежить. Мой костюм и впрямь как форма: и в пир, и в мир, и в добрые люди. Только брошки и меняю.
Галочка, где взять тряпку? Какая там уборка, хочу обмотать дверь. Она так хлопает, что голова раскалывается. Ты бы присела на минутку. Надо беречь силы. Еще панихида, кладбище, поминки… Хочешь, я заберу Анюту к себе? Сменит обстановку, поиграет с Сэдди. Не бойся, блох у нее нет, я купаю ее в специальном собачьем шампуне. Как знаешь. Вечная история: хочешь людям помочь, а тебе… Сколько раз давала зарок: не лезь! Она уже забыла, как Сева от нее уходил, а я его уговаривала. Что он, что она: неблагодарность и упрямство. Дудки! Больше я в чужие дела не вмешиваюсь. Мало, что ли, людей в партбюро, в месткоме? Чуть что: «Стелла Олеговна, только вы!» А сами в кусты. Хватит. Когда-то же я стихи писала. Даже Сева хвалил. Догадывался ли он, что тот сонет?.. Нет. Да и было ли что-то? Так, настроение, случай… Тогда все казалось безумно серьезным. Теперь и вспомнить-то нечего. После ночного дежурства целовались. Меня током ударило. В редакции только постелили паласы, статическое электричество. А потом… По ночам ревела, как последняя дурочка! Легко жил, легко умер. Легкий человек. Врачи говорят: совсем не мучился. Это как умереть во сне. Обо всем остальном позаботится Стелла Олеговна. Расхлебает все каши, которые заварят наши «золотые перья», красавцы наши. Им нужно, чтобы все восхищались, сочувствовали. Все уже собрались, только Севы нет. Является часа через полтора, с такими несчастными глазами, что ни у кого язык не поворачивается его отругать. Сидит ссутулившись в своем длинном коричневом шарфе толстой вязки. Кто, кстати, вязал, уж не Карина ли? Понемногу оттаивает, рассказывает о своих неприятностях. Нехотя, все время извиняясь за то, что вынужден посвящать посторонних в такие грустные подробности. Говорит, говорит, а сам ест, ест… Любил, чтобы его пожалели. Когда рядом есть кто-нибудь вроде меня, которая всегда подставит плечо. Умру, тогда поймут. Это? Брат Севы. Где-то на Севере. Серьезный. Он-то Гале поможет. Севка ничего не оставил, кроме долгов. Алена, знаешь, родители ребят из автобуса, который Сева заслонил своей машиной, решили собрать ему на памятник. Но пока что-то не спешат. Хорошо, хоть венок прислали. «Спасителю тридцати детей от благодарных родителей…» М-да.
Кстати, где наш венок? Гавриленко еще удумает заказать бумажную ленту. Нет, Нонна помнит, что надо матерчатую. Красную с золотыми буквами. Или черную? Все-таки солидная организация, не соседи по дому. Вон у них как! Буквы с завитушками. Зато цветов не пожалели. Да — цветы! Эти не кладите в гроб. Разбросаем по дороге, когда будут выносить. Целлофан — сюда. Кто видел ножницы? Спасибо. Вы откуда? А-а… Помню. Сколько пришлось биться, чтобы прошла та статья! Вы работаете там же? На повышение? Сева… Всеволод Михайлович долго работал над статьей. Было мнение, что… Но он настоял на своем. Да-да, директора сняли. Выступите на траурном митинге? От имени рядового читателя. Принципиальность покойного, его упорство, бескорыстие. В двух словах о своей истории. Как пример. Лучше бы набросать канву… Вы меня не так поняли: от волнения люди часто сбиваются. Что же мне самой сказать? Коротко, но емко. Не обходя острых углов. «Это был человек сложный, как сама жизнь». Цветы. Какая крупная пчела! Еще одна. Люди умирают, а пчелы собирают мед на венках. «В день похорон, в час медосбора…» Давно не писала стихов: тут разве успеешь? «Сквозное кружево оград, и время, равнодушный стражник… странник…» Давление падает. «Ограды кружевной узор, плиты могильной тусклый… черный… серый камень… канул камень…» У-ме-ер!!! И никогда, никогда больше не… Ох! Ох! Нельзя распускаться. Нельзя. Столько людей. Я не имею права. Отойти. Сесть. Таблетку. «Сквозное кружево оград… и тень цветка на постаменте… и тяжкий крест». Бездарь! Тупица! Идиотка! Ничего я никогда не сочиню. И ладно, и пусть.
Галя, дать бабушке таблетку? Я провожу вас во двор, там прохладней. Понимаю. Словно сына потерять. Садитесь. Вот здесь. Трудно им придется. Особенно Анюте. Она точь-в-точь Сева. Мы постараемся заменить… заменить… Да. Понимаю. Да-да. Сейчас об этом, конечно, говорить рано, но если Павлик задумает пойти на журфак, я первая… Можете не сомневаться. Бабушка, вы еще посидите, а я сбегаю наверх, там еще масса дел. Масса. «По крышке гроба комьев гром… град… и медь…» Получится: «иметь»… «Шопен в неистовом крещендо»… вычурно… «в неистовом полете… порыве»… Как легко писал Сева! Ему все давалось само собой. Сел, и готово. Нет, мучился. Но не подавал вида. «Летели комья в час последний, летели пчелы на цветы… и дух сентябрьский, осенний…» «Последний — осенний»? …«И дух трагический, осенний, как чувство… как бремя вечной правоты…»
Глеб Евгеньевич, и вы здесь? Нет-нет, вы превратно меня поняли. Печальный повод, но я всегда рада видеть вас. Сегодня собралась вся старая гвардия. Вы успели поработать вместе с Севой? Он сменил вас в отделе — уже запамятовала. Жаль, что вы теперь так редко показываетесь в редакции. Радио вам ближе, улицу перейти, но нельзя забывать и родную газету, свой второй дом… Да, горе особенно сплотило нас всех. Характер у Севы был трудный. Пусть он мне простит, но я не раз это ему говорила прямо в глаза. Что до ваших материалов, Глеб Евгеньевич, то поверьте, Сева правил их только, чтобы… Конечно. Конечно. Приказать-то я могла, но стоит ли, право, ссориться по пустякам что ни день? Нет, ваша статья для меня не пустяк. Приносите второй экземпляр. Хоть завтра. Факты там, помнится, не ахти, надо бы что-то придумать. Например, предпослать статье письмо. Лучше от ветеранов. Набросайте, хорошо? Ну, не мне вас учить, как это делается, Глеб Евгеньевич, мы же все начинали под вашим крылом. А вот насчет соседей не стоит. Это снижает масштабность статьи. И кто-нибудь наверняка скажет: мол, сводит личные счеты через газету. Вы же знаете читателей, им только повод дай. Зачем дразнить гусей? Тем более вам, журналисту с полувековым стажем, на ваших статьях выросло уже не одно поколение наших земляков! Ну, вам виднее. Заходите как-нибудь. Слышала? Маразм! И это через два года после ухода на пенсию… Нельзя уходить, нельзя! Из редакции — только в могилу! Сидеть здесь до последнего, даже если невмоготу. Не приходить, чтобы поучать, брюзжать, вспоминать, что было сто лет назад. Два инфаркта и курит как бешеный, а Севу пережил. Он придет и на мои похороны, вот увидишь. И с этой же самой заметкой.
Что? Траурная повязка носится на левом рукаве. В первый почетный караул станет треугольник редакции: я, Гавриленко и Нонна. Пора бы знать, Светлана Павловна: на левом. Витя, ты меня поражаешь! На ле-вом рукаве! Я не кричу. Я устала от жары. И от всего этого маразма. Не хватает повязок? Возьмите мой черный шарфик. Из него выйдет минимум три штуки. Давайте разрежу. Где ножницы? Стоит на секунду оставить и… Фотография? Сюда! Та-ак… Андрей, почему вы увеличили именно этот снимок? Я поражаюсь вам! Траурный день, сюда придет полгорода, а на фото он без галстука, в какой-то штормовке. Оставьте это для домашнего альбома. Самый последний снимок — это еще не самый лучший. Запомните Севу, каким хотите, но есть же какие-то общепринятые нормы! Езжайте в редакцию и срочно увеличьте снимок из личного дела. Да, смерть — тоже личное дело, но мы все отвечаем за то, чтобы… Сейчас не время дискутировать. Нет у меня машины! Возьмите такси. Два рубля я вам дам. Андрей Миронович, вы меня поняли? Что за жизнь, что за мужчины… Все за них сделай, объясни… Пробить такие подписи под некрологом, чего мне это стоило! Положение-то двусмысленное. С одной стороны, герой: спас детей, сам погиб. С другой — Карина и Галя. Как это увязать? Все остались в стороне, одна я должна ходить и доказывать. А с деньгами? Первая же ревизия: «Стелла Олеговна, на каком основании вы выписали премию мертвому сотруднику? Хотите помочь семье погибшего — соберите деньги. А доброта за казенный счет…» Ну, памятник можно официально. Сделаем письмо на имя Чернецова. Ограду — на «Центролите»? Месяца два назад Севка раздраконил их директора. Позвоню, а они: «Сочувствуем, но с металлом напряженно». Да-а! Текучка, спешка, чужие дела. А мои? Профессор Минаев звонил уже дважды. Сама же заказала ему статью, она лежит уже три месяца. А стихи? Неужели от меня останутся только передовицы, протоколы и докладные? Уехать бы куда-нибудь. Хоть на неделю. В глушь. Ни телефонов, ни посетителей. Бесполезно, они меня найдут и под землей. Под землей… Чуть что: «Стеллочка!» Севе квартиру выбивать, это вам как, нажал кнопку и готово? Да разве ему одному? Хватит! Запрягли лошадку, без выходных, без праздников, по двенадцать часов в день, и никто не скажет спасибо! Сердце так и прыгает. Как жить? Никто не ценит. Тот же Сева. Зачем он вставил в статью рассуждения о заместителях? Мол, каждый начальник берет такого зама, который не подсиживал бы его. Директор идет на повышение, остается заместитель. И он опять ищет помощника слабее себя. Этого директора выдвигают или снимают, директором становится его зам. И так далее, и так далее. Написано о фабрике «Восход», но мне тут же позвонили человек десять. Кто сочувствовал, кто ехидничал: скоро ли уходит ваш редактор? Сама виновата. Все привыкли: для Стеллы Олеговны работа — второй дом. И первый тоже. Ухожу в отпуск и опять весь месяц сижу в кабинете. Только и радости, что отпускные.
Я говорила: бабушку надо увести. Заранее вызвать бы «скорую», сделать успокоительный укол. Осторожно, ступеньки. Дайте газету. Обмахивайте ее! Алена, врача! Не надо никуда звонить. Старичок в плаще, он где-то здесь, это прекрасный доктор. Сейчас вам станет лучше. Потерпите немного. Да, такая потеря. Я-то узнала его раньше всех. Он приносил мне свои первые заметки, тогда я еще работала в молодежной газете. И с Галей я его познакомила. Какой он был талантливый! Мне многие говорили: подписываемся на вашу газету только ради его статей. Ну как? Сейчас, сейчас. Вот и доктор. Доктор, пожалуйста. У нее тоже спазм. Ухожу, ухожу.
Кто приехал? Наконец-то венок! Нонна, когда ты опаздываешь с репортажем в номер, это одно, но здесь! А лента? Копию чека взяли?
Ты что — вспомни Севин рейд по похоронному сервису! Он писал именно о частниках, которые промышляют кустарными лентами. Мало ли что у них быстрее! Не надо подставлять газету. Быстро назад! Заберите у них нашу бумажку с текстом. И никому ни слова, ясно? Ты представляешь, какой будет скандал?! Машиной туда и обратно. Стоит кому-нибудь доверить, и на тебе.
Нет ли минеральной? Боржоми — прекрасно! Ах, да: я же сама доставала. Думала, Севе еще понадобится в больнице. А все так быстро кончилось. Для него-то это к счастью. Чем оставаться калекой, полутрупом, обузой семьи… Надо трезво смотреть на жизнь. Мы же взрослые люди.
Галя, на минутку. Здесь в конверте Севина зарплата и премия. Профком дал, все мы собрали. Ладно, ладно. Сколько раз я ему говорила: Сева, застрахуйся, у тебя же двое детей, мало ли что может случиться. По факторам риска журналисты стоят на третьем месте. Смертность больше, чем у каскадеров. Я и сама чувствую: то голова, то желудок, то эти спазмы. Сева тоже работал на износ. Газета — как паровозная топка: сколько ни подбрасывай, ей все мало, мигом сжирает. День прошел, газету прочли, и как не бывало, а мы из-за этого гробимся. Галя, не клади так деньги, здесь полно посторонних. Сунь за телевизор. Сунь, сунь! Трудно тебе будет, Галя. Сейчас-то ничего: суета, хлопоты. Потом девять дней, снова люди соберутся, потом сорок дней. Й всё. Пустота. Я по себе знаю. У матери было столько подруг, а где они? Мама зимой умерла. Гроб поставили на санки. Сверху постелили малиновое покрывало с чернильными пятнами. Видно, гробовщики использовали его на собраниях как скатерть. Это запомнила. И что лоб у матери был ледяной, в инее… Похороны кончились, мороз страшный, а я сняла платок, иду с непокрытой головой. Хотелось простудиться, заболеть, чтоб не быть виноватой перед мамой, что я живая, здоровая… Я все сделала и даже больше, чем могла, но все равно… Отец ее бросил. Помню, мама даже к гадалке ходила. Учительница — и к гадалке! Та ей советовала завести кошку и чтобы она спала на старой отцовой рубашке. Он к дому, мол, привяжется. Не помогло. Ушел. И вскоре умер. Новая жена сообщила нам только через неделю. Боялась, видно, что потребуем его имущество. У отца была богатейшая коллекция армейских пуговиц. С ним историки переписывались, музеи. Все рассыпалось, ни семьи, ни пуговиц. Так-то, Галочка. В каждой избушке свои погремушки.
Пойти вниз, постоять в тени. «Резная тень, могильный холод, и увядающий Шопен… надрывно стонущий Шопен». Да — оркестр! Я тоже думаю, что не подведут. Все-таки мореходное училище. Но вы на всякий случай позвоните. Как жарко. Может, у меня жар? Вчера утром, когда выгуливала Сэдди, был такой туман, могло прохватить. Бедная Сэдди. Не нравится мне ее шерсть. Вдруг чумка? К ветеринару бы. Нет, сперва в редакцию. Володя опять забудет поставить рубрику «На полях области». Мы ее уже дважды пропускали. А ведь было сказано: держать на контроле! Может, не пойти на поминки? Нельзя. Нужно держать их в руках. Когда-то мы все были одной командой. Они так и остались на том прежнем уровне. Все те же бойкие заметки, те же песенки под гитару. Кроме него. Как он пел! Найти ту кассету. Собирались у меня, еще на Кольцевой. Эту песню он написал за полчаса, прямо при мне, только потому, что я его заставила. Заперла на ключ и сказала: «Не выпущу, пока не напишешь!» С ним только так и надо было. Да, это всем песням песня… На радио ее только испортили. Собрать все его стихи и пристроить в какой-нибудь сборник. «Молодые — пятилетке»? Вряд ли. А тем более «Край мой родной». Дать хотя бы колонки три в газете. Нет, две, зато с портретом и предисловием. Процитировать тот сонет, который когда-то я… Разберемся. Шум будет! Но я должна, должна это сделать. А ведь, если честно, не бог весть какая поэзия. Под гитару, в компании куда ни шло. Но для настоящего слишком много причуд, озорства, надрыва. Что ж, пусть это будет очевидно для всех. Пора расставить все по местам.
Можно еще воды? Стоит выпить в жару хоть стакан, всё, не остановишься. У меня комок в горле. Всегда думала, что это метафора. Нет. Зашла в дом, слова не могла вымолвить. Вы откуда? Вместе учились в школе… В Севе оставалось что-то детское. Не инфантильность, нет. Озорство, нетерпеливость. Какое прозвище — «Кукунчик»? Смешно. И тройку по литературе? Вот бы не подумала.
Речь! «Человек, с которым всех нас связывало так много. Горько сознавать, что он, такой молодой, энергичный, талантливый, которого любили все…» Теперь надо что-то о работе. Как это? «Работа есть работа, работа есть всегда, хватило б только пота на все мои года, расплата за ошибки, ведь это тоже труд, хватило бы улыбки, когда под ребра бьют». Хватило, Севочка. Ты умел улыбаться, как это у боксеров: держал удар. Чтобы никто не подумал, что больно. «Мы запомним его мужественным и веселым. Наш погибший друг… Наш Всеволод… наш Сева прожил яркую жизнь. Короткая, но емкая, она была насыщена… до предела насыщена заботой о людях… душевной заботой… искренней… Он не чурался черновой, будничной работы, трудился самозабвенно, на пределе сил. И этим зажигал других». Не чересчур ли — прямо Данко! Сегодня все уместно. «Дело, которому служил Всеволод, продолжая традиции журналистики, которыми…» опять «которыми»… «всегда так сильна была наша газета… и пока она будет существовать, его не забудут… преданность делу». Опять «дело»! «Его неиссякаемый оптимизм заражал. Он был генератором идей, душой коллектива»… Нет, редактор обидится, ему перескажут. «От нас ушел человек, имя которого на протяжении ряда лет… многих лет… долгого времени…»
Увеличили? Спасибо, Андрюша. Ну-ка, так… Совсем другое дело. Да, это фотопортрет! Галстук, костюм, сразу все строже, серьезнее. Улыбка, правда, ироничная. Пусть! Зачем приукрашивать людей? Сколько твержу редактору: хватит на первой полосе передовиков с гаечными ключами и каменными лицами! Отпечатайте мне еще один, ладно? Повесим в холле. А вдруг решат: нечего с ним носиться? Недавно получил строгача, и сразу в герои? Второй снимок повешу дома. Назло Асаулову. Пусть ревнует. Дождешься, как же… И раньше-то не очень задерживался, а теперь — раз в месяц на полчасика. Пока ему что-нибудь нужно, пристает, как репей. На работу его устраивала, он у меня дневал и ночевал. А теперь прибегает, когда поссорится с женой. В кои-то веки я попросила съездить на природу, так сразу: «Машина барахлит». Машина! Так мне и надо.
Зося, Зосенька! Ну, что лаешь? Забыла меня? Забыла, лохматая ты морда. Ну, не лай. А — от меня собакой пахнет. Сэдди терлась, а ты учуяла. Плохо нам, Зося, да? Иди ко мне. Целые сутки, говорят, выла, еще до того, как все узнали. Галя, хочешь, я пока заберу Зосю? Ничего, помирятся. Сэдди — ее мать. Ну, как хочешь. Зося умница, Зося хорошая, да? Все она понимает, посмотрите, какие глаза. Остались мы с тобой одни, Зося. Одни…
Автобусы? Иду! Здравствуйте. Откройте, пожалуйста, верхние люки — жарко. И снимите эти вымпела и значки. Дружба народов, коллекция, все понятно, но вы на время снимите. Не та обстановка. Благодарю вас. А табличку «Экскурсионный»? Да, да, они нам дали автобус в порядке одолжения. Вечно у кого-то одалживаемся, да еще играем в независимость. Ладно, табличку оставьте. Помните, когда хоронили Арнольда, Сева заметил: «Похороны — это экскурсия на тот свет». Иногда он формулировал очень точно. Если бы не максимализм, ему бы цены не было. Зачем выискивать только скандальные проблемы, неувязки и противоречия? Я понимаю: сейчас это очень важно. Наконец-то Сева попал в струю. Но именно теперь у него словно пропала прыть. Хотел быть и здесь оригинальным? А представляете, каково нам было выходить с такими материалами лет пять назад! Ему говорили: мол, проще всего тыкать пальцем: то не сделано, это провалили, этот наобещал и не выполнил. Ну и что? Будто никто не знает, что дома сдаются с недоделками. Знают — и куда больше. Я бываю на бюро, там иногда приводятся такие факты! Но смотреть надо шире. Игнат Алексеевич откровенно говорил в кулуарах: если область любой ценой не отчитается за ввод этих домов прошлым годом, на будущий нам срежут лимиты по жилью. В интересах дела приходится закрывать глаза на некоторые вещи. Кто-то должен брать на себя роль мальчика для битья. Но бить в таких условиях! Хочешь сенсации, возьми апробированный материал. В суде, в народном контроле бывают такие сюжеты — готовый судебный очерк! Нет, ему, видите ли, скучно дотаптывать тех, кто уже получил свое. Тебе же не двадцать лет, чтоб играть в частного детектива. Поставили задачу — выполняй!
Да, скоро будем выносить. Все уже готово. Что раньше: венки или крышку? Впереди несут фотографию, затем венки. «Сентябрь скорби. Месяц смерти. Увядший лист календаря…» Потом, потом! «Невозможно представить, что его больше нет с нами. Не будет больше его блистательных статей, песен, которые создавали вокруг Всеволода… э-э… атмосферу… неповторимый микроклимат…» Казенно. «Так тяжко и больно, будто рухнула часть души. Как мы любили его и как не берегли его! Только сейчас, когда его нет с нами, мы можем в полной мере осознать, кем… чем он был для нас, его друзей, для коллектива редакции, наконец, для всего нашего города. Ради которого трудился, не жалея сил, не щадя себя. Он был столь же требователен и… и мы, его ближайшие друзья, и те тысячи читателей, которые были знакомы с ним заочно, все мы чувствуем невосполнимость этой утраты. Он был с нами всегда, он был частью всех нас на каком-то клеточном уровне. Он будет примером…» Почему примером можно стать только после смерти?
Музыканты построились. Хорошо, что мореходка, а не эти пропойцы. Надо будет дать интервью с начальником училища. Он намекал. И Асаулов просил. Хочет перейти туда. Клянется: в последний раз! Вся жизнь из сплошных последних разов. И вдруг приходит самый последний, и ты одна-одинешенька. Сева. Неужели все так быстро… быс… тро… и просто… Ничего. Спасибо, Светлана. Я же сказала: спасибо. Мне ничего не нужно. Отдышусь. Выдержать.
«Свойственное ему чувство нового… он безгранично верил людям и готов был прийти на помощь всем, кто… и пусть не все оправдывали его доверие, он… Настойчивость, с которой он вел неустанный журналистский поиск. Каждый, о ком он писал, становился лучше и чище. К сожалению, Всеволод не успел до конца раскрыть свои творческие возможности». Что из него вышло бы? Романтик, игрок, гитарист — лет в двадцать это умиляет, в тридцать волнует, а после сорока? Седоватый мальчик с блестящими идеями, это уже не так интересно. Галя выглядит старше его. Он почти не менялся. Чуточку располнел. Усы, очки. Похож на пианиста. Почему на пианиста? Ничего не соображаю. Почетный караул — по пять минут? Хватит и трех. Нельзя так растягивать прощание. Если бы я могла с ним побыть сама… Сева. Караул меняем против часовой стрелки. Пять человек в карауле. Нет, лучше по четыре. И не в шеренгу, а лицом друг к другу, по углам гроба. Дайте часы. Я свои где-то оставила, надо следить за временем.
Я боялась, что лицо изуродовано. У Гали знакомая косметичка. Старались всю ночь. Косметичка сказала: «Будет как огурчик!» Бр-р! Его выбросило из машины. Раз — и готово. Свечи зачем? И так жара! Галя велела? Ладно. Кончилась ее жизнь. Кто она была? Жена. Почти бывшая, но жена. А теперь? Неизвестно. Еще придется платить за разбитую машину. Нужно договориться насчет ремонта по госцене, иначе никаких денег не хватит.
Я же говорила: сперва фотографию, потом венки, потом крышка гроба и семья покойного. Наград у него не было. Помнишь, Алена, его песню — «За гробом на малиновых подушечках друзья несут мои выговора»? Как в воду глядел. Это еще кто? Понятия не имею. Вижу его уже на третьих похоронах. Сумасшедший? Еще выкинет что-нибудь. Валерка не придумал ничего лучше, чем прийти в футболке. А Лариса опять без лифчика. Спасибо, хоть черная кофточка. На похороны — как на пляж! Стоят и чешут языки. Нашли место для трепа. Можно тише? Хоть сейчас! Это отец того художника… как его, Ирбитов? Иртеньев? «Закон сохранения доброты» — так назывался Севин очерк о его сыне. Жуткая история, помните? Мальчишки хотели перелезть через электричку и попали под ток. На них загорелась одежда, Иртеньев, его сын, полез их спасать. Стал сбивать пламя телогрейкой, а она зацепилась за провода. Насмерть. Моментально обуглился. Сева принес кусочек его оплавленной рубашки — нейлоновая, синяя. Ужас! Потом устраивал на работу его жену, пытался сделать выставку. А выставлять-то и нечего. Эскизы, ранние акварели, афишки. Растратился по мелочам. Может, эта тяга к самопожертвованию — с отчаяния? Человек вдруг понял: жизнь не состоялась. Надо же доказать, что и ты чего-то стоишь. Вот и лезут на рожон. Зачем ему, спрашивается, понадобилось вставать во весь рост и размахивать телогрейкой под самыми проводами, там же тысячи вольт! И мальчишек не спас, их кто-то оттянул шестами. Сам погиб, семья осталась без кормильца. На миру и смерть красна. Безрассудство. «И безрассудный шаг, и злая память, что могут изменить они и что прибавить?» Здесь есть настроение. Ничего я не запомню. Ничего не останется. Сэдди, вот кто по мне только и заплачет! Ничего, в воскресенье поедем за город, уж ты побегаешь, порезвишься! «Имя Всеволода Ларионова… Он был воспитателем молодых журналистов». Нет. «Своим отношением к делу…» Нет. «Они видели в нем…» Кого же они в нем видели? Пора. Товарищи! Нужно шесть человек. Берите гроб. Осторожнее, осторожнее! В новых домах лестничные клетки узкие, не развернешься. Витя, помоги ему! Аккуратненько. Не заденьте стекло. Потихоньку. Опускайте. Алена, от бабушки ни на шаг. Корвалол у тебя? А вода? Нашатырный спирт? Хорошо. Не толпитесь. В автобусах всем хватит места. Галя с мамой — в катафалк. И доктор. Андрей, вы обеспечиваете съемки. Лучше черно-белые: цветные со временем выгорают. Садитесь со мной в машину. Кажется, всё. «Он посвятил свою жизнь защите тех идеалов, служению которым…» Коряво. А, не до стилистики! Кто же его так прозвал — «инспектор справедливости»? Он втайне гордился этим, «…был человеком, для которого не существовало слово «трудно». Кого поставить в его отдел? Курдасов еще слаб. Светлана? Годика три надо, чтобы выбить из нее дурь. О чем я думаю, господи?! Суета, бесконечная гонка… «Всеволод Ларионов был образцом страстного служения, подлинного творческого…» Опять — «творческого». Что я, доклад пишу или передовую? Как скажу, так и скажу!
Сейчас остановимся во дворе. Поставьте гроб на табуретки. Неровно стоит. Подложите что-нибудь под ножки. Быстренько! Книжки? Ладно, давайте. «Горе от ума»… «Моби Дик». А здесь надо что-нибудь потолще. Что это? Вы с ума сошли, немедленно унесите. Детектив? Годится. Пусть соседи прощаются здесь. Столько народу. Первую реакцию Игната Алексеевича я предугадала: «Давайте поскромнее». Вот и заказала один автобус. Все равно на кладбище обычно все не едут. А тут и трех не хватит.
Может, выдвинуть его на областную премию по публицистике? Посмертно. Года три назад шеф заикнулся об этом — не прошло. Он был слишком задиристый, Севка. Но сейчас другие времена, да и случай трагический. Премия — это солидно. Для Гали, для детей. Вручить ей в торжественной обстановке, тепло поздравить и заодно закрыть рты сплетникам.
А если кто-то спросит: «Это тот Ларионов, который устроил скандал с телефоном?» Сколько прошло, никак не могут забыть! Ну, высмей эту бабу, покритикуй за то, что назло вызывала «скорую» к соседям! Но наш Севочка должен доказать, что умнее всех, — дал в конце статьи номер ее телефона. Раньше она изводила звонками других, теперь все это обернулось против нее. Сколько я убеждала редактора: с хамами нельзя воевать их же оружием! Но на него тоже как найдет… Просто счастье, что потом эту женщину посадили за спекуляцию. Иначе затаскала бы нас по судам и была бы абсолютно права. Если каждый начнет вершить справедливость, как ему вздумается…
Извините, я в таком состоянии, не вижу, кто вокруг. Да-да, ужасная потеря. Второго такого не найдешь. У Севы было столько друзей… Кто это? Страшно знакомое лицо, а спросить неудобно. Память никудышная. Склероз. Может, Севе повезло? Уйти рано, не превратившись в старого маразматика. «Не уйти, не уплыть, не уехать, чтобы не видеть безжизненный лоб. Этот день станет траурной вехой… вехой… вехой… спотыкается время о гроб…»
Соседи, поторопитесь, пожалуйста. Зося, ты куда? Зосенька, место! В автобусе жарче. Все курят. Надо было родить ребенка. Пусть даже от Асаулова. А его выгнать. Много себе позволяет. Да еще фиглярничает: «Ты начальница, а у меня образование — восемь классов и коридор». Или, наоборот, вдруг ударится в ученость. Как же это он сказал насчет здравоохранения и образования: «Симбиоз этих двух глыб». Дурак! А дети у него красавцы. И у меня был бы такой. Уже в школу пошел бы. Как она меня уговаривала, эта баба: «Роди! Потом не простишь себе!» Убеждала, а сама пошла избавляться от близнецов. Откуда она знала, что будут близнецы? Других агитируем, а сами-то… Как в газете. Родить — тогда прощай, редакция! Переезжать в другой город, что-то объяснять знакомым, погрязнуть в домашних делах… В семье тяжко, без семьи пусто. Пора садиться. Быстрее, быстрее!
Пожалуй, я сяду в машину. Поедем вперед. Надо их поторопить. Всегда так: приезжаешь с покойником, а копщики куда-то ушли. Нарочно. Ждите целый час или суньте бригадиру на лапу. Ну, я им! Думаю, они еще не забыли скандал из-за Тягунова. Гавриленко, вы поедете со мной. Федор Степанович, напрямую, через мост. Подождите, возьмем Алену.
«У Севы было замечательное качество, которое выделяло его среди всех… многих журналистов. Он был… он являлся… его называли… его с полным правом можно было назвать «узлом связи». Что-то почтовое. И «связь» поймут как намек на Карину. «Он был центром притяжения для тех, кто… центром коммуникации…» Надо поскромнее… Не скажешь же: «Он был веселый и легкий, он придавал вкус нашей жизни». Да. «Притяжением своей личности покойный связывал между собой самых разных людей… и щедро делился всем, чем… тем…»
Ой! Опять я стукнулась… Кому от роста радость, а мне одни шишки. Алена, садись. Я думаю, Севу погубило везение. Он был таким счастливчиком! Помнишь, на праздники мы всей компанией ездили по грибы. Человек пять отравилось, Горбунков чуть не насмерть, один Сева жив-здоров. Все налегали на грибы, а он, как всегда, с гитарой. А на моем новоселье? Перелез по карнизу с балкона на балкон, на девятом-то этаже! Он прошел — карниз рухнул. И, наконец, история с самолетом, помнишь? А-а, ты тогда рожала… Фантастика! В последний момент какой-то парень уговорил его уступить билет: он опаздывал на пересадку в Тикси. Сева уступил, а самолет при посадке — бац! Сперва Севу тоже записали в покойники: его билет уже прошел регистрацию. А он спокойно прилетел следующим рейсом. Конечно, при таком хроническом везении появляется комплекс неуязвимости. Думал: и на этот раз пронесет. И рискнул. Самоубийство?! Ты спятила! Так, как Сева любил жизнь… Чего ему не хватало? Ну, разошелся с той, сошелся с этой. Работа надоела — из-за этого не кончают с собой. Это уже ты загнула. Депрессии бывают у всех, но… Хорошо, он был фанатиком газеты и разочаровался в ней, ну и что? Это же естественно! Нельзя всю жизнь быть юнкором. А тем более погибнуть из-за такого. Толку-то в наших версиях: Севу уже не воскресишь, ах, не воскресишь…
Сейчас — направо. На Достоевского все перекопано. Зима на носу, а они все роют. Сколько мы об этом писали! Из года в год одно и то же. Поставьте машину в тень. Гавриленко, вы с Аленой найдите копщиков. Объясните бригадиру, кого хороним. Семидесятый участок? Я пойду, вы догоните.
Контора здесь? А директор? Ясно. «В связи с исчерпанием емкости кладбища захоронения осуществляются в оградах близких родственников только по брони…» И здесь бронь! «Принимаются заказы на ограды из металла заказчика». Надо запомнить. «Для изготовления лент необходимо написать текст четко и разборчиво, до 6 слов, 40 знаков». Как телеграмма. Вся жизнь — в шесть слов. И те по стандарту. Стандартно живем и так же умираем. Не умеют у нас проводить человека в последний путь. Кладбище где-то на задворках. Как будто умирать стыдно. А почему бы не сделать парк в центре города, чтобы люди могли приехать всей семьей, с детьми, погулять, навестить могилы близких…
Какая тишина. Воздух. Надо чаще сюда приходить. Друзей здесь уже больше, чем в городе. Переселение душ и тел. Кого хоронят? Бедняжка, четыре годика… Во время операции? Ох эти врачи! Вы?! Извините. Конечно, от случайностей никто не застрахован. Тем более хирурги. Сперва губит ребенка на операции, потом приходит на похороны. Хорош!
Ограда из кроватных спинок — нашли на чем сэкономить! Не могила, а квартира. Еще бы звонок и шлепанцы. Вечный сон. А эти целый дом построили, сплошной мрамор. «Парад тщеты, кому он нужен? Живым и только лишь живым. Стал тенью — был отцом и мужем, и был любим, да, был любим…» Мужья умирают первыми, а жены живут и живут. А если жена умрет первой, муж год-два, и готов. Неприспособленные они, мужчины. «1922—1980». Почти как мама. Хорошее лицо. Ох, время летит! Это, видно, внучка, «…неоднократная победительница районных олимпиад». Будто на том свете спросят… Зачем они вымостили надгробье метлахской плиткой? Совсем как душевая. Хочется приручить смерть, ввести ее в привычный домашний интерьер. А может, так просто дешевле?..
И здесь опечатки: «Спи спокойно дорогой Миша!», а на табличке: «Э. П. Шершугин». Целая семья. Видно, тоже авария. Двадцать лет парню. Девятнадцать. «При выполнении воинского долга…» Афганистан? «Дорогому сыну, брату, отцу, дедушке…» Густое генеалогическое древо. «Смерть — событие только для того, кто умирает, для всех остальных — лишь процесс». Кто это сказал? Сколько роз! Две, пять, десять, четырнадцать. А — четырнадцатая годовщина со дня гибели. Еще помнят, отмечают. «Незабвенной Стеллочке Воронвич-Бусаевой от вечно любящих…» Единица вечности: одна любовь. До чего безвкусный портрет у тезки! Самодовольство пережило ее. «Григорьевич… Пузе…» Что ли, Пуземский? Ни фамилии, ни лица.
Это они хорошо придумали: стакан, хлеб, конфета. Не то что поминки: набьется человек Сто, галдеж, ну дискотека! Конфета. Приманка для памяти. Я, я буду лежать здесь, под землей, в земле, и кто-то придет съесть надо мной конфету! И выпить — надо мной! Какое там слияние с природой, с вечностью… Кладбище протянется до самого горизонта. Или крематорий? Какая разница. Я не увижу горизонта. Не увижу ничего!
Завтра же пойду на рентген! И на анализы! Нет, завтра бюро. Во вторник? Не получится: планерка. Сразу после планерки! Проверюсь у всех врачей, диета, нервы привести в порядок. Не успею. В среду. В среду областной актив. Тогда в четверг. Прямо с утра, не заходя на работу. Все-таки заскочу на полчаса. Стоп, в четверг комиссия по благоустройству. Я в прошлый раз не была, сразу звонки. Нет. Иду в понедельник к врачам, и точка! Все время хочется пить. Не диабет ли? Брошу курить. Сегодня — последнюю! Где спички? Кто-то идет. Прикурю у них…
Карина! С мужем! Хорошо, что я вовремя свернула. Все-таки явилась. Что делать? Бледная как смерть. Темные очки. Чтобы не видно было слез. Такая не заплачет. У мужа совершенно нет самолюбия. Поговорить? Попросить, чтобы ушли? Язык не повернется. Почему она приехала так рано? Неужели кто-то предупредил, что похороны перенесли? Вечная утечка информации. Нет. Она хотела попрощаться не на виду у всех. Худая, черная, страшная. Надо уйти, пока они не заметили. Заговорить с кем-нибудь. Скоро подъедут наши. «Иван Яковлевич Чухно. 1904— ». Видно, памятник еще не закончен. Скажите, кем он был, этот Иван Яковлевич? Это — вы?! Но как же… У вас больше никого нет… а сын спился… И вы сами себе поставили памятник? Может, будете еще долго жить. Надеяться надо. У меня? Товарищ по работе. Хороший человек. Автомобильная авария. Красите на солнцепеке — голова не болит? Да, это отвлекает. Будьте здоровы, Иван Яковлевич. Живите долго. Я? Семидесятый участок. Да, там уже не хоронят. Мы в порядке исключения. Он был журналист. Всеволод Ларионов. Читали, наверно? Вот-вот! И о спекуляции рыбками — тоже он. Видите, память сохраняется. Я? Заместитель редактора. Извините, мне пора. Сейчас приедут наши автобусы. Что? Иван Яковлевич, опомнитесь: такой день, а вы о какой-то дырявой крыше! Напишите, вам ответят. Как положено: в течение месяца. До свидания. Что за люди? Все о себе да о себе. Нашел девчонку на побегушках: «Придите, зафотографируйте нашу крышу!» Мы сами их разбаловали, чуть что, сразу в газету. Отдуваемся за всех.
Нонна, ну что? Почему — с директором? Я же четко объяснила: говорить с бригадиром копщиков. Директор здесь новый. Прежнего, кстати, посадили после Севиной статьи. А порядка все равно нет. Поэтому… Сколько мне повторять одно и то же! Вот-вот подъедут автобусы, а у нас еще нет ясности. Мигом к бригадиру!
Ноги опухли от жары. Присесть бы. Надо что-то подстелить. «Вечерка». Та-ак. О монгольской декаде они опять дали раньше нас. А ведь я предупреждала! Зато мы обошли их с атеизмом: у нас целая полоса и три снимка, солидно. Когда сама делаешь, душа спокойна. Выпускать бы газету в одиночку. Да так оно, собственно, и есть. Кто-то на подхвате, а главная тяжесть на мне. Ноги, ноги… Наконец-то ветерок! Листья почти не опали. Какое мрачное дерево: черные стручки, колючки. Дерево смерти. А может, смерть страшна только издали? Конец страданиям, конец обидам.
Нужно помочь Гале с цветами. Будь моя воля, я посадила бы самые обыкновенные ромашки. Мама говорила: «Зрячие цветы». Кстати, пора покрасить у нее ограду. Она просила похоронить ее поближе к дому, чтобы мне было удобнее приходить. Дом переехал, а она осталась. Нет, лучше посадить у Севы буксус: всегда зелено и почти не нужен уход. После истории с Кариной Галя вряд ли будет часто его навещать. Или наоборот: смерть примирит ее со всем. Эпитафию? «Наш друг ушел, но память будет вечной…» Даты и фамилия. Как в анкете.
Автобусы… Сколько народа! Чья это машина? Ноль ноль двенадцать. Сам Игнат Алексеевич! Боже: Гусев, Пермяков, Шучко, Лидия Прохоровна. Видно, все прямо с заседания. Хорошо, что я настояла на той фотографии. И лента не бумажная. Теперь бы еще сказать речь… Венки не помялись? Как Галя? А бабушка? Нонна, у тебя глаза потекли. Особенно левый. И у меня? Ну и ладно. Проследи, чтобы они… Здравствуйте, Игнат Алексеевич. Все мы потрясены. Погиб на посту, именно так. Вы скажете несколько слов? Некролог мы дали в сегодняшнем номере. И колонку «Памяти товарища». Жену зовут Галя… Галина Георгиевна. Ваш приезд — большая моральная поддержка. Пойдемте сюда. Галя, это… Видите, она в таком состоянии… Товарищи, пропустите, пожалуйста, Игнат Алексеевич, сюда. Лидия Прохоровна, здравствуйте. Ужасный месяц! Сперва этот страшный град, потом Аркадий Сергеевич, и вот — Сева. У вас тоже? Корвалол или нитроглицерин? Алена, быстренько! Глотните. К этой мысля привыкнуть невозможно. Ее зовут Галина Георгиевна. Лучше потом. Сейчас она не… Алена, достаточно. Еще и погода: давление так и скачет! У меня на столе барометр, я теперь чаще смотрю на него, чем в зеркало. Пройдем здесь, там все раскопано, а вы на каблуках. Пропустите, пожалуйста. Словно вчера он выступал на том вечере, помните? Эти песни… Ваша Сашенька редко показывается в редакции. У нее прекрасные способности. Когда выберет время, пусть зайдет прямо ко мне. Вполне. Я люблю возиться с молодежью. Сева тоже когда-то начинал у меня. Извините, я должна… Да, это трагедия. Как будто вырвали кусок сердца.
«Мы верим: проблемные статьи Всеволода Ларионова не потеряют актуальности и через много лет». Стоп. Выходит, время идет, а недостатки остаются? «Светлый облик нашего друга, журналиста, мужественного человека…» Надо начинать. Копщики подошли. Сколько людей! У Севы растрепались волосы, галстук съехал набок, и некому поправить. Да, Александр Харитонович, это наша общая беда. Выступите? Как генеральный директор «Прогресса», как давний друг газеты. Я открою панихиду, передам слово Игнату Алексеевичу, затем один рабочий — и вы. У меня будет к вам просьба, насчет ограды. Ладно? Это потом. Надо собраться с духом.
Товарищи, друзья! Траурный митинг разрешите считать открытым. Трудно привыкнуть к тому, что мы больше не встретим подпись Всеволода Ларионова под очерками, репортажами, интервью. Гражданский накал и нетерпимость к недостаткам отличали лучшие из них. Сева останется в наших сердцах образцом настоящего служения делу… делу воспитания… сказать или нет? я же ни с кем не согласовывала… была, не была, поставлю всех перед фактом! Говорят, что от большинства людей остается только тире между двумя датами: рождения и смерти. Но Всеволод Ларионов заслуживает большего. Было бы справедливым учредить премию его имени для молодых журналистов области. Мы, друзья и коллеги по работе, делившие с Севой трудности и радости нашей работы, верим: его жизнь станет примером для многих! Мы не говорим тебе в этот скорбный час: «Прощай навек!» Как жаль, что ты ушел сейчас, в пору очистительной критики, мастером которой ты был. Спи спокойно, дорогой друг! Пусть земля тебе будет пухом!
А-а-а!!! Все плывет… Что это? Я… сама… Оно прой… сей… час пройдет… мама!.. нет, нет, я посижу… не трогайте ме… о-о, так жмет!.. Сожмет, вывернет… и не отпускает. И глаза… темно. Ничего, отдышусь и поеду. Вместе со всеми. Не надо «скорую». Когда все кончится, сразу поеду. Кончилось? Значит, я была… и лицо мокрое… да-да… Витя, Алена… Это спазмы опять… Что-то надо было еще проверить… А — Карина! Она не пришла? Так-так. Нет, я поеду. Все равно не смогу лежать. Я себе не прощу. Перед Севой. Ох. Я бы вообще не ставила спиртное на стол, но это пусть Галя решает. А порядок должен быть. Ох… Весь наш коллектив там, а я — лежать? Поехали. Игорь привез картошку для винегрета? Мне-то кусок в горло не лезет, но многие прямо с работы… Витюша, подключись, ладно? Только на старых друзей и можно положиться.
К дому дорожка из цветов… Еще не завяли. Только мы его проводили, а дом как будто опустел давным-давно. Зося, Зося! После кладбища вымыть руки, но не вытирать. Галочка, ты отдохни, мы сами. Все продукты привезли еще утром. Только дай посуду. Картошка где? Сделаем, как в старые времена. Весь вечер могли просидеть за стаканом вина и винегретом. Накрошим целый таз и говорим, спорим, поем хоть до утра! Надо следить за Виталием. Он дошел до ручки. Отовсюду выгнали: пьет. Еле уговорила, чтобы взяли в «Торгрекламу», и то временно. Человек на глазах падал все ниже, а вы делали вид… Но когда я встала на собрании и назвала все своими именами, как на меня набросились! Я-то хотела его остановить, а он? Назло напился. Мол, не мог вынести позора: зачем я честила его при Водопьяновой? Амуры надо оставлять за проходной, иначе мы докатимся. Алена, Нонна! Давайте займемся делом. Лук на подоконнике. Колбаса, масло, консервы, селедка. Майонез принесла я из дому. Хлеба не хватит. Сама схожу. Булочная рядом. Мне надо пройтись. Голова гудит. Тело живет само по себе. Время остановилось, как у мертвеца. Какой-то ученый взвесил труп сразу после смерти… кто же это рассказывал?.. и оказалось: он весит меньше живого тела. Чепуха, миллиграммы, но все-таки! Одни считали, что это душа отлетела, другие еще что-то. А тот ученый уверяет: это вес времени. Для мертвеца оно остановилось, ушло, улетело куда-то дальше, а тело осталось. Что-то в этом есть.
Где булочная? Я не там свернула. Телефон! Если Асаулов еще не ушел… Как назло, двушки нет. Разменяйте, пожалуйста, по две копейки. У вас же написано: «Размен монет». Оторвитесь на минутку и дайте мне двушку. Это же дело одной секунды! А мне срочно нужно позвонить! Прошу вас. Ну знаете… Как ваша фамилия? От какого магазина этот киоск? Ничего, узнаем! Мы все выясним! Вам это даром не пройдет. Передайте директору магазина, чтобы завтра он приехал ко мне в редакцию. В девять ноль-ноль. К заместителю редактора «Новой зари». Ничего, найдет! Не умеет воспитывать свои кадры, мы его самого так воспитаем! И посмотрим, как вы тогда… Нечего плакать! Хамите, а потом… Дети здесь ни при чем. Представляю, как вы их воспитываете, если сами… Я тоже без отца и без мужа, и ничего, стала человеком. Хватит! Накажем, станете вежливей. Зачем мне их фотографии? Дети все хорошие, родителям бы на них равняться! Почему трое, вы кричали, что их двое? Утонул… Пловец-разрядник — и утонул? А, сердце… Они же проходят медосмотр! Да… Да… Кошмар… Хватит плакать. Я не виновата, что он не платит алименты! А в милицию вы обращались? К судебному исполнителю? Понятно. Хватит. Взрослая женщина, а ничего не понимаете в жизни. Позвоните мне. Лучше с утра. Меня зовут Стелла Олеговна. Вы получаете «Зарю»? Внизу на четвертой странице найдете телефон. Но учтите: я вам ничего не обещаю. Прекратите этот рев, в конце-то концов! Люди смотрят! Да не буду я звонить вашему директору. Ну и ну! Вывела из себя, и я же должна ее утешать! Небось, наврала с три короба. Сын утонул, муж не платит… Знает, как заморочить голову, наверное, не впервой выкручиваться. А две копейки так и не дала. Как же позвонить? Извините, не разменяете ли по копейке? Мне очень нужно. Спасибо. Возьмите пятак. Берите! Вы что, миллионер? Странный какой-то. Та-ак… Ну? Все! На работе его уже нет… Домой позвонить? Объясняться с его мадам — бр-р! Можно вас на минутку? Я наберу номер, а вы попросите Викентия Трофимовича. Скажете: с работы. Кто? Допустим, Петухов. Какая вам разница? Мне нужно, чтобы мужским голосом. Занято?.. Еще разок, ладно? Сейчас-сейчас! Вот! Говорите: Викентий Трофимович. Спасибо. Алло, это я. Ну, Элла — не узнал? Мне нужно тебя видеть. Ужасный день. Приезжай. Часа через два. Домой, домой. Я занята. Это я не тебе. Тут один тип, он звонил, чтобы… В общем, неважно. Сейчас он отойдет, и мы сможем поговорить. Пожалуйста, не мешайте! Помогли и спасибо, оставьте меня в покое! Еле отделалась. А, потом расскажу. Ты приедешь, Викентий? Почему? Да… Да… я понимаю, но… Но и ты меня пойми! Я живой человек, а ты вспоминаешь обо мне, когда… такой день, что… Я… я не плачу. Хоть ненадолго, а? Раньше ты всегда мог. Я унижаюсь, а ты смеешься. Что-о? Ну, знаешь! Все! Пока! Что? Да отвяжитесь от меня! Сделали одолжение на копейку и воображаете черт знает что! Маньяк какой-то. Не идите за мной. Я в булочную. Дайте пять батонов и три буханки черного. Нельзя? Чтобы скот не откармливали? А, да, да… Но мне на поминки. Что же, выйти и снова стать в очередь? Правила правилами, но… Вы возьмете? Спасибо. Дайте нам на двоих. Снова вы меня выручили. Но дальше провожать не нужно. Телефона у меня нет. Ни дома, ни на работе. Вы же видели: я звонила из автомата. Очень спешу. За кого вы меня, собственно, принимаете? Ладно. Это ни к чему. Ладно, меня зовут… э-э… Карина. Карина Петровна. До свидания. Хорошо, я позвоню. Не знаю. На будущей неделе.
Сумасшедший дом! Как там они? Вот хлеб. Застряла в булочной. Хлеб разгружали. Здесь все нормально? Так я и знала! Теперь ему хватает и двух рюмок. Виталий, иди на кухню! Иначе завтра же позвоню Кудрявцеву. В два счета вылетишь из своей рекламы! Знаем, знаем: для поднятия духа! Тот, что сбил Севу, тоже дух поднимал. Бутылка вина, и человека нет! Марш отсюда! Витя, займись им. Ему лишь бы надраться, за здравие ли, за упокой… Зашиться надо, и точка. Хорошо, я сяду. На углу так на углу. Мне все равно. Спасибо. Кладите все подряд. Вдруг почувствовала, что голодна. Водички? Побольше. Рюмку — чисто символически. Помянем Севу. Пусть ему будет легко на том свете. Сева, Сева… Икры не хочу. Ни красной, ни черной. Видеть ее не могу! Мама полтора года мучилась от рака, я ей икру доставала банками, килограммами. И все без толку. Цепляешься за любую соломинку. Вы тоже хороши, ребята! Надо было не деликатесы покупать для поминок, а отдать Гале деньгами. Ей сейчас придется туго. Друзья, внимание. Мы пришли сюда в минуту горя. Пройдет время, горе притупится, но мы навсегда запомним этот день. Пусть редакция всегда будет родным домом Севиной семье. Галя, мы всегда с тобой, с твоими детьми. Налей и Севе. Сверху полозки хлеб и посоли. Так полагается. Поставь стакан на его столе. Когда отец умер, я тоже спорила с мамой. Ночь прошла — в стакане немножко убавилось. Будто и впрямь отпил. На вторую ночь осталась половина. А на третью стакан разбился. Мама уверяла: его душа теперь спокойна и больше не придет.
До чего ж похожи на Севу. Его старший брат с сыном. У меня мог бы быть такой же. Может, взять ребенка из детдома? Будет что-то родное. А я кем буду? Не мать, не бабушка. Потом найдется настоящая. Откуда взялись эти тетки? Галина родня. Странно. Как в деревне: платочки, платочки. А вы чего распелись? Мало ли Сева написал хороших песен — все будете исполнять? Сегодня! Здесь! Откуда ты знаешь, радовался бы Сева или нет? Не надо кощунствовать! Человек умер, у-мер! А вы поете, пьете, веселитесь! Может, еще телевизор включите?! Нонна, дай-ка мне эти бутылки. Нет, дай все. Витя, прекрати! От тебя я не ожидала! Аленочка, ну почему они такие безмозглые? Или так боятся смерти, что не могут и помыслить о ней? Неготовность к трагическому, вот их бич. Дети телевизора. Посмотреть веселенького, выпить крепенького, и все. Никакого чувства ответственности. Мы все брали на себя — а что делать? Ах, мы не доверяли вам, молодым… Бедненькие! Кому доверять-то? Игорь, ты сперва научись придумывать заголовки. Врать надоело? Ну, снова напишешь ты о дырявых крышах, получишь еще десять таких же жалоб, снова будешь обличать ЖЭК, райисполком и чувствовать себя борцом. Тебе это нужно? А людям нужно видеть перспективу.
Да не боюсь я! Вспомни историю с рыбками. Все были против этой статьи, а я доказывала: надо давать! Там Сева ясно показал мурло мещанина. Главное не спекулянты, а отношение к живому.. Мне очень странно, что никто из вас этого не почувствовал. Помните, когда начался бум вокруг декоративных рыбок, нашлись дельцы, которые привозили со всех концов света редкие экземпляры. За них платили безумные деньги! Но рыбки плодятся, мальки тоже в большой цене. Бизнес. Те жулики додумались, как сделать, чтобы цена не падала. Перед продажей рыбок надо подержать аквариум перед телевизором, и потомства не будет: облучение. Еще неизвестно, как это все скажется на людях. У кого открывалка? Радиация — это, сами понимаете… После его статьи против этих жуликов возбудили уголовное дело, а мне опять влетело. Дескать, зачем мы подсказываем через газету легкие способы наживы. Сева так и остался при своем мнении. Наш Робин Михайлович Гуд. Давайте и вы в том же духе. Неужели даже его гибель вас ничему не научит?
Игорь, доешь! Не могу видеть, как оставляют полтарелки. Хорошие манеры? Жизнь научила. В самый голод мы с ребятами собирали в лесу почки, выкапывали каких-то улиток. Отец болел после ранения, ему раз в день давали горячий обед. Кашу, целую кружку. Я носила ее из деревни. До моста еще терпела, а потом начинала слизывать крупинки. Сперва по ободку кружки, потом сверху. Лизала, пока язык доставал. Принесу, отец посмотрит на эту кашу и говорит: «Ешь, я не хочу». А я его с ложечки, как маленького… Как он выжил? Витя, плесни мне еще. Выпьем, чтоб мы ничего не забывали. Ни хорошего, ни плохого. Своим забвением мы еще раз убиваем умерших. Так пусть память о Севе…
Не слушают. Пьют, едят, острят. Лариса строит глазки Севиному брату. Олег охмуряет Алену, а Витя хоть бы хны, сцепился с Гавриленко. Может, так и надо: снять напряжение, переключиться? Нет, нет! Почему даже смерть, даже его смерть не объединяет людей, не заставляет их опомниться? Витя, и мне тоже. Да, от этого сосуды расширяются. Ух! Что? Не знаю, сами решайте. Какой анекдот? А-а… Доктор рассказал. Умерла жена, за гробом идут муж и любовник. Муж плачет, а любовник — еще пуще. Тот его утешает: «Не расстраивайся, я женюсь еще раз!» Какая мерзость! Все, я больше не могу! Голова кругом идет. Меня разобрало. Витя, про… проводи меня до ворот. Галочка, я зайду завтра же. А ты звони. Непременно. Нонна, проследи, чтобы помыли посуду. И не давай им больше пить. Ни грамма! Я пойду. Мне завтра читать номер. И два совещания. До свидания. Пока.
Как тихо. И пусто. Пешком? Сэдди голодная. Такси! Такси! На Чернышевского. В конце. Нужно было позвонить Полине Порфирьевне, она выгуливала Степанчика, прихватила бы и Сэдди. Неужели этот день когда-нибудь кончится? Сейчас под арку, под первую. И направо. Можно здесь. Спасибо. Лишь бы Сэдди не заболела. Где же ключ? Вот будет номер! Есть. Сэдди, ну, ну! Виновата я, виновата. Пойдем гулять! Что же ты не несешь мне поводок? Добрый вечер, Полина Порфирьевна. Большущее спасибо, вы меня так выручили. Еду и мучаюсь: бросила живое существо на произвол судьбы. Насчет Лермонтова я помню, не беспокойтесь. Как только придет первый том, я вам сразу же принесу. И суп ей сварили? Вы просто клад! Спокойной ночи.
Всюду пыль. Забыла закрыть балкон. Завтра приберу. Под душ — и спать. Сэдди, я сегодня видела твою дочку. Зоську. Но ты лучше всех. Отвяжись! Ну, четвероногий друг, брысь! У меня сейчас один друг: постель. Вода… как хорошо, спокойно… свежо… заснуть бы в ванной… тихо… Телефон! Господи, что еще?! Алло, кто это? Громче, там вода. А-а… Ты что, из-под подушки говоришь? Ничего не слышно. Приедешь? Нет. Не хочу. Днем просила, а сейчас не хочу. Ты, Викентий, никогда не отличался умом, а сегодня — особенно. Не вздумай! Зря потратишься на такси. А я с водителем снова расплачиваться не буду. Вот-вот, ми-илый! Я понимаю, тебе удобно, чтобы я всегда была на телефоне. А еще лучше с рацией. И с крыльями. Вызвал — прилетела, попользовался — лети назад, так? Это не настроение. Надоел ты мне хуже горькой редьки. Я тебя от суда спасла, человеком сделала, а ты? Так мне и надо, дуре старой! Связалась с подонком, одна извилина, и та в усах. Пока! Давно бы так. Ох, господи…
Сэдди, что ты? Батюшкии-и, ванна! Все залило! Паркет! Только я кончила ремонт — начинай сначала! Где тряпка? Не крутись под ногами, ну! Снова телефон. Звони, звони. Не будет тебе перевода в училище. И мадам твоя в круиз не поедет. Хоть ты и предлагал на это время съездить в Прибалтику. Ф-фу… Залезу в ванну, вот и вся Прибалтика. Крем болгарский — неужто утонул? Бог с ним. Лечь и забыться. Лежать, лежать.
Блокнот! Уже сутки ношу в сумке, так и не заглянула. Вдруг там наброски статьи или его новая песня? Гале он не нужен, дети еще маленькие. Подрастут — отдам. Он принес мне свою первую заметку, и вот последняя. Что-то о кооперативе. Семью слепых не пускали в освободившуюся квартиру. «Стук палочки по лестнице — как морзянка». Фамилии жильцов. Какая-то цифирь. Видно, это совещание по профилактике преступности. «Использование золы ТЭЦ в строительстве». Наверно, делал халтурку для журнала. «Анюта поет: «Ля-ля-ля!» Павлик спрашивает: «Что за песня без слов?» — «А в нее слова еще не поселились». Прелесть! Опять цифирь. «Было так хорошо, что хотелось это запретить». Ну-ну… «Первые автомобили имели специальное возвышение в кабине, чтобы не помялись перья на дамских шляпах». Это как раз для меня… «Алене — 40 руб.», «Б. Н. — 75». Вечно он перехватывал у кого-то. «Гению не нужно достигать, ему важно успеть». «У Олега — 100, Ольге — 200». Хм! Занимал у мужа, чтобы отдать жене? «Завести в организме книгу жалоб и предложений, чтоб одни части тела могли посетовать на другие». Опять телефон… Нет, померещилось. «Дом пустой, как футляр от эхо». Красиво, но манерно. «Удивительно бывают правы обе стороны, когда один говорит полуправду, а другой не знает второй половины правды». Где-то я это уже читала. «Карина — билеты, поезд 16.35». То-то он так просился в командировку! «В черном теле сидя на чемоданах, о шести сапогах и о трех наганах…» Неужто снова песня? Он же бросил. «В прошлом году мы уже ставили этот вопрос, в позапрошлом ставили… Город вечно стоящих вопросов». «И страдание — не оправдание. Если человек страдает за других, он все равно делает это для себя». Сам придумал или цитата? «Лучшие рабы получаются из бывших бунтарей». Снова цифры. «Штатное расписание треста «Фундаментстрой». «Уменьшается ли от нашей работы общая сумма зла? Или оно лишь перетекает в иные, менее приметные для нас формы?» Хм… Вот уж не подумала бы, что он размышлял над этим. «Все темней, темнее над землей, друг мой милый, замечаешь ли мой красный шарф и желтые ботинки?» Если песня, то совсем не в его духе. «Анюта — жвачка (взять у Карины)». И детей туда же, фу! «Сколько…» Все зачеркнуто. «Стелла — литературный маклер оптимизма». Как он смел! Это и есть благодарность за все, что я для него сделала!.. «Ей кажется, что небольшой подлостью можно спасти людей от большей». Получила? Спасибо, Севочка. А это что? «Моей несравненной и единственной Кариночке». «Несравненная»! Это она его втравила, погубила! Он лежит под землей, зарытый, забытый, а она спит с мужем или с кем-то другим, какая ей разница!
Нет. Не уснет. У него должен быть ее телефон. На «К» нет. Как же ее фамилия? А-а, вот на «Л»: «любимая». Алло, я прошу Карину. Очень срочно. По важному делу. Да, Карина? Я вас ненавижу! Ты гадина и шлюха! Ты была с ним рядом и не спасла его! Не повернула руль в сторону, не закрыла собой Севу! Ты его не любила, не понимала, что это за человек! Плачь, плачь, мерзавка! Ты ногтя его не стоила! Ничтожество! Пусть тебе никогда ни в чем не будет счастья, слышишь? Что-о? М-м… Нет, не бросай трубку! Карина! Карина! Забудь все, что я тебе говорила, я просто не понимала, я прошу тебя, я перед тобой стану на колени — сделай, чтобы он не умер! Он же любил тебя, ты все можешь, постарайся, бывают же чудеса! Еще не поздно, да-да, не поздно, он лежал совсем как живой, захоти, чтобы он встал и…
Бросила трубку. О-о! Сэдди… ты где? Хоть ты… меня… не бросай… иди ко мне. Не лай. Голодна? Вот, колбаски тебе принесла. Ешь, Сэдинька, ешь. «…замечаешь ли мой красный шарф…» Все будет хорошо, Сэдди. Все. «…и желтые ботинки»…
ИЛИ — ИЛИ Повесть в письмах
Есть два способа обрести счастье: или владеть тем, что любишь, или любить то, чем владеешь.
Старинное японское изречение.Посвящается
Р. К., Е. Г., Т. П.
Предисловие автора
По традиции автору следовало бы предуведомить благосклонного читателя о том, что эти письма были случайно найдены в старом шкафу, доставшемся ему в наследство от дальнего родственника. И что вся задача состояла в том, чтобы рассортировать письма в хронологическом порядке, изменив лишь имена действующих лиц.
Но, рискуя потерять благосклонность читателя, автор вынужден сознаться: у него нет родственников с эпистолярными наклонностями и нет старого шкафа. А значит, не существовало ни того, кто якобы написал эти письма, ни упоминаемых в них событий, городов, кафе «Солнечное» и т. д. Выходит — вымысел?
Правда, автор позволил своим героям поступать не в полном соответствии с его планом, а как им заблагорассудится. Это избавило его от мелких хлопот с сюжетом, но так запутало дело, что теперь трудно сказать, какие ситуации возникли по воле автора, а какие по своеволию персонажей. Поэтому ему остается препоручить читателю продолжить эту историю в своем воображении. И если его варианты окажу…
* * *
«…не времени уже не было.
Он вошел в палату и направился к ее койке. Заметив его, она приподнялась на подушке и улыбнулась. Взяв какой-то листок, он стал быстро писать. Она смотрела на него и улыбалась сухими, прокушенными от боли губами.
(На бланке «Горклинбольница № 1. Для анализов».)
«Как сегодня, Воронова?»
«Терпимо. Буду жить».
«Наши прогнозы совпадают. Но пока никаких разговоров. После операции Вам придется временно побыть глухонемой».
«Что со мной случилось?»
«Помните сказку «Про волка и семерых козлят»?»
«Вы меня съели? »
«Волк пошел к кузнецу и говорит: «Перекуй мне голос на серебряный, тоненький».
«Значит, вы сделали мне новое горло?»
«…а себе — главу для диссертации. Но учтите: в любой момент я могу потребовать горло назад».
«Я не жадная. А курить уже можно?»
«Отставить!»
«Слушаюсь».
* * *
(На бумажной салфетке.)
«Почему грустная?»
«Так».
«Болит горло? Уши?»
«Нет».
«Что-то случилось?»
«Нет».
«Вам сделают укол, и Вы уснете».
«Ладно».
* * *
(На бланке «Горклинбольница № 1. Эпикриз».)
«Сегодня — молодцом! Прошло?»
«Беспокоилась, как сын. Сегодня пришла телеграмма».
«Он похож на Вас?»
«Да».
«Тогда Вам нелегко».
«Ошибаетесь: мы очень любим друг друга».
«Любовь любовью, а температура температурой. Придется продолжить уколы».
«Я хочу выписаться. Надоело в больнице».
«Мне — тоже. Но я хожу каждый день».
«Шутка из диссертации?»
«Угадали. Сегодня профессорский обход. Если шеф найдет нужным…»
«Найдет».
«Выписать Вас прямо сейчас?»
«Нет. Сегодня у меня три партии в шашки».
«Решили стать чемпионкой палаты?»
«Больницы и страны».
«Желаю удачи. Давайте сюда сигареты».
«Когда вы такой свирепый, меня разбирает смех. А смеяться еще больно».
«Я буду серьезным. На какие жертвы не пойдешь ради больных!»
* * *
(На обороте амбулаторной карты.)
«Профессор от вас в экстазе. Вот так сюрприз на прощанье!»
«Меня выписывают?»
«Я уезжаю в командировку. А Вас выпишут дня через четыре».
«Я тут же улечу».
«Вы не здешняя?»
«Дальний Восток».
«Вам можно лететь только недели через две».
«Я никого здесь не знаю. Приехала в командировку, и вот…»
«Позвоню в гостиницу. И если только администраторша не потеряла память вместе с гайморитом…»
«Вы столько возитесь со мной!»
«Во-первых, я прихожу полюбоваться не Вами, а результатами своей работы. Во-вторых, меня обуяла гуманность. А в-пятнадцатых, у Вас замечательные глаза».
«Расскажите об этом администратору — мне дадут «люкс».
«Ладно».
* * *
(На процедурном листе.)
«Увы, гостиница занята интуристами. Остается лишь моя квартира».
«Исключено».
«Там только мой кот Азазелло. Да и тот с разноцветными глазами».
«Это меняет дело. К Вашему приезду глаза станут одинаковыми. Спасибо».
«Вот адрес и ключи. Записывайте свою температуру и состояние — для диссертации».
«Пора брать меня в соавторы».
«Если Вы будете закрывать кран в ванной и не зальете соседей со второго этажа».
«Это мое призвание. А с меня яблочный пирог».
«Оставите его и ключ у соседей. Счастливо».
«Я буду молиться за Вас, доктор!»
«Только не слишком громко».
* * *
Здравствуйте, Ванда Александровна!
Наверно, Вы удивитесь этому письму. Я — тоже. Просто почувствовал: если не засяду за какую-нибудь умственную работу, здешняя жизнь меня доконает. В моей командировке написано, что я прислан сюда «для оказания методической и практической помощи». Она вызывает у местных жителей мощный прилив доброжелательности и угощения. Здесь принято считать: если врач отказался от благодарности, значит, не уверен в благоприятном исходе. Соблюдаю ритуал и по утрам добросовестно маюсь головной болью.
Когда-то тут была древнегреческая колония. Судя по огромным амфорам, найденным при раскопках, знаменитым черным вином здешний гарнизон мог бы смыть с крепостных стен целый легион осаждавших. Но, видно, поскупились, за что и были наказаны непохмелившимися варварами.
От той эпохи остались только камни да древнегреческие монетки-дельфинки, местные девушки носят их на шее как кулоны. А дельфинов уже не видать. Лиман, на берегу которого стояла крепость, в жару покрывается нежно-зелеными водорослями и похож на огромную плавучую клумбу. Вечерами после операций я прихожу сюда и лежу над обрывом. Вода на вид до того плотная, густо намазанная между берегами, что тянет пойти по ней, аки по суху. Я и пошел. Топал чуть не километр: все по колено. Лягушки выпрыгивали десятками, настоящий фейерверк из лягушек! Опомнился только когда навстречу мне выплыл буксир с двумя баржами. Как джентльмен, я уступил им фарватер. В благодарность буксир оставил мне шлейф дыма и полкуплета Челентано. Если бы Вы были здесь, мы потанцевали бы прямо в лимане. Только это могло бы скрыть мое (зачеркнуто) искусство.
Не буду утомлять Ваш ослабленный организм дальнейшими описаниями местных пейзажей и нравов. До свидания.
P. S. Привет Азазелло, если он еще жив.
P. P. S. Полощите горло и закрывайте кран — если Вы еще не уехали (больничная привычка по сто раз напоминать одно и то же). Я буду через неделю.
С уважением
Александр Борисович Красовский
* * *
Добрый день, Ванда!
Кстати, день ли у Вас сейчас? Вы исчезли так внезапно, что я не успел выяснить, на сколько же часов Ваше время впереди нашего. Сообщите. И вообще — пишите!
По инерции продолжаю «выкать» — раз Вы даже тогда не захотели переходить на «ты». Итак, уважаемая Ванда Александровна, помните ли Вы еще меня? Боюсь, что нет. Тогда — о самочувствии. Как глотается? Чем полощется? Жду вестей с переднего края борьбы за Ваше здоровье.
Честно говоря, я обиделся: исчезли как Золушка! Вместо туфельки — кусок яблочного пирога, и фьють! Подумал: пока я спал, Вы выскочили на почту или в парикмахерскую. В ожидании Вас я все выдраил в доме и даже сделал блинчики, как Вы меня обучали. Ждал, ждал… Наконец во мне едок взял верх над рыцарем, и я все съел. Можете пожалеть, что сбежали до завтрака! А я жалею, что мы так быстро расстались. Надеялся, что поживете у меня еще несколько дней. И вдруг — на тебе!
Пишите, Вандочка. Целую.
А. К.
* * *
Здравствуйте, беглянка!
Не получили моего письма или не захотели отвечать?
Если первое, то передаем краткое содержание предыдущей серии. Некий подающий себе надежды врач встречает на операционном столе загадочную незнакомку. Оставив ему на память яблочный пирог, она исчезает. Крупно: озадаченная физиономия врача. Звучит тревожная музыка.
И все на этом закончится, Ванда? Где я еще найду такую прелестную гортань и изысканные бронхи? Если бы на Вас периодически не накатывала хандра, Вы были бы образцовой пациенткой. Не хнычете, не требуете дефицитных лекарств. Оставайтесь-ка у нас штатной больной, а? Работа не пыльная: рассказывать студентам, где что болит.
Мы, конечно, люди взрослые, но Вы никак не похожи на женщину, для которой все это пустяк. Неужто только из жалости к бедному хромому доктору? Как в том французском фильме: «Есть мужчины, с которыми проще провести ночь, чем объяснить им, почему вам этого не хочется».
До свидания (или прощайте).
А. К.
* * *
Ванда, милая!
Пишу вдогонку моему вчерашнему идиотскому письму. Не сердитесь: я совершенно выбит из колеи. Закрываю глаза и вижу: Вы кормите Азазелло с ладони, а эта полосатая контра, которая ни у кого из рук ничего не берет, ластится к Вам и хрипло мяучит. Ваши волосы рассыпались, зеленые глаза посматривают сквозь челку так лукаво, что мы с Азазелкой цепенеем.
Но Вы не переживайте: все утрясется. Наш город уже частично залечил нанесенные раны — а как не хочется залечивать! Напишите же поскорее. И регулярно полощите горло календулой. Мысль об этом будет согревать мою одинокую старость.
Ваш лечащий друг
А. К.
* * *
Письмо,
в котором рассказывается, как тоскливо уже третий месяц ходить на почту и, стараясь не встречаться взглядом с почтальоншей, бормотать: «Посмотрите, пожалуйста, нет ли чего на «К»…» Словно провинциальная старушка, которая спрашивает в большом ювелирном магазине: «Есть ли у вас дешевые бриллианты?» В наше первое и последнее свидание я вообразил было, что Вы и я — это уже мы. Максимум, что Вы можете позволить другому — сосуществовать рядом с собой. Ну давайте же не дуться! Я делаю первый шаг: перехожу на «ты». А ты напиши мне. Будем считать, что это твоя общественная работа. В ответ на письмо вышлю справку: «С такого-то по такое-то был охвачен таким-то вниманием».
Прости за треп. Боюсь остановиться, чтобы до меня не дошло: разговариваю с самим собой. Я тебя придумываю, да? «Не могут быть совсем настоящими города и люди, которые далеко и которых любишь».
Твой (если тебе это еще не наскучило) доктор.
* * *
(На блоке сигарет «Феникс».)
Вот и все. Можно курить и все остальное. Больше не буду надоедать. Через месяц последствия операции окончательно исчезнут и ничто уже не будет напоминать о маленьком приключении. Вы, наверное, правы: так лучше и Вам, и мне. Я не могу забыть Вас, но это, конечно, вопрос времени. Например, одной жизни.
Прощайте.
А. К.
* * *
Вандочка, милая, наконец-то!
Утром я безнадежно заглянул на почту, и вдруг — синий конверт с пейзажем города Невинномысска! Да будет благословен этот город и все его обитатели! Я тут же выучил письмо наизусть и перецеловал каждое слово. Но как их мало! Отмалчиваться целых три месяца и прислать один-единственный листок, правда, исписанный с двух сторон. А главное — в конце: «Целую». Люди, бросьте свои дела и спешите сюда: она целует меня!
Вечером перечел еще раз и расстроился: поцелуй-то утешительный. Целую, но: «видеться не станем». Вспоминаю, но: «давай не будем возвращаться к этому». Ну, знаешь!
Вокруг тебя такой заслон: муж, сын и, наконец, это козырное: «Я старше тебя на целых пять лет». Поверь, ты выглядишь моложе не то что меня, а и своего сына! Кстати, пришли ваши с Сережей фотографии.
Пора мне обрастать документацией.
Второй твой довод: «Зачем нам морочить голову друг другу?»
Моя голова трещит от диссертации и операций. Иногда хочется с кем-нибудь поболтать по душам, а ты тут как тут, всего восемь тысяч километров — рукой подать. И я целую эту руку!
Твой последний аргумент: «Мы совершенно (подчеркнуто дважды) не знаем друг друга». Вот и хорошо: такой простор для сюрпризов! Главное мне и так известно: ты прелесть. Но хочется узнать все, даже то, чего ты сама о себе не ведаешь. Эти тайны я буду хранить у себя на работе, в белом железном шкафу со скрещенными косточками, если Азазелло еще не слопал их. Он, кстати, передает тебе испепеляющий привет. Я присоединяюсь к нему. И, отогнав галантное животное, целую тебя. Пиши!
А. К.
* * *
Здравствуй, Вандочка!
Молодчина, что быстро откликнулась. Наконец я хоть что-то узнал о твоих делах. Завидую: ты умеешь от всего отрешиться, выйти из суеты, как из автобуса. И при этом ни о чем не жалеешь (или не подаешь вида?). А у меня вся жизнь из упущенных возможностей. Сейчас, например, сокрушаюсь, что не прописал тебе постельный режим еще на месяц. Всегда спешу, всегда опаздываю. Правда, те, кто меня ждут, тоже опаздывают. Мечусь между всеми вами, но всюду пролетаю, как фанера над Парижем (выражение нашей операционной сестры Леры).
Но вдруг мой Париж засверкал огнями: в честь доктора Красовского назвали новорожденного! Его матери пришлось срочно делать операцию, когда она была уже на сносях. Начиналось нагноение, и тут передовая медицина в моем лице одолела коварный недуг. На третьи сутки больная открыла глаза и попросила хлеба с салом. Аппетит уживался в ней с романтическими наклонностями. Перед родами она дала зарок: если все обойдется хорошо, назвать малыша в честь своего спасителя. Целый день я лучился самодовольством, а потом узнал, что муж моей пациентки — тоже Александр. Кто из нас двоих удостоился высокой чести дать имя младенцу, неизвестно.
Надо бы развить идею. Спас больного — его называют твоим именем, погубил — хоронят под твоим. Зря, что ли, в старину говорили: «Настоящий врач умирает с каждым больным». Тьфу-тьфу, не сглазить: ты принесла мне удачу! Все три с половиной месяца нашего знакомства, точнее, 3 месяца 18 дней, мне поразительно везло. Ни осложнений, ни жалоб. Может, ты нештатная богиня, покровительница отоларингологии? Будешь хорошо себя вести, пошлем на курсы усовершенствования богинь. И тогда под предлогом крайней занятости ты совсем перестанешь мне писать.
Твои письма доставляют мне столько радости! Если бы в Лувре (или в Севре?) вместе с эталонами килограмма и метра хранился бы эталон счастливого человека, я с успехом мог бы экспонироваться там, когда от тебя приходит письмо. До того образцовый, хоть веди ко мне зарубежных корреспондентов. Заходите, сэры, любуйтесь нашим простым ухогорлоносом! Вот на стене модель уха (работа над собой), вот приемник «Селга» (подъем материального благосостояния), далее, книги и гантели (гармоничное развитие личности). И, наконец, движимое имущество: кот. Правда, у бедняги Азазелло стало на два клока шерсти меньше. Расспрашивать о причинах было неловко, но, похоже, тут личная драма. Не подумайте, синьоры, что это типично для наших котов, наоборот! А на прощанье, господа, вот вам самое убедительное доказательство нашего превосходства: в изящной рамке висит рентгеновский снимок лучшей из больных. Нет, этого вам не понять! Кыш на свой Уолл-стрит, хиппи вы этакие!
А ты не обращай на них внимания и пиши мне. Твой друг и исцелитель
А. К.
* * *
Привет из Николаевки!
Опять я сельский житель. На этот раз нет ни лимана, ни древнегреческих развалин, зато винограда — сколько угодно! И мы всей больницей его ударно убираем. Твоего бы Сережку сюда!
Кстати, получил ли он модели? Какие еще автомобильчики ему нужны? Могу прислать вместе с водителем. Здесь один клянется, что ради меня готов хоть на край света. Этот шофер возил нашу бригаду в поле. Я заметил, что он туговат на ухо. Посмотрел его — батюшки! Забыли ватку в слуховом канале, когда делали ему промывание. Лежала чуть не полгода, еще немного, и он навсегда остался бы глухим. Тут выхожу я во всем белом…
Слух о чудо-докторе-из-города быстро пополз по окрестностям. Здесь очень важно первое впечатление. Дебют прошел плохо — можешь сразу собирать чемоданы: люди к тебе не пойдут. Зато стоит сделать удачную операцию, и в тебя начинают так верить, что самому боязно. Разговаривать со здешними легче. Мои обычные пациенты так начитались журнала «Здоровье» и насмотрелись телевизора — попробуй переубедить! Эпоха всеобщей полуграмотности. Отдали бы практической медицине половину денег, которые тратят на плакатики «Мойте руки перед едой!». Нам работать нечем, а они: «Мойте!..»
Пора слезать с любимого конька и спешить на стихийный прием. Когда возвращаюсь с полевых работ, меня уже поджидают несколько человек. Я напускаю на себя всю доступную мне непроницаемость. Мелкое пижонство, но когда тебя так ждут… Или в кино вдруг прерывают сеанс, чтобы объявить по радио: «Доктора Красовского срочно просят на выход!» Идешь и млеешь. Особенно если кино паршивое.
Иногда я еду с поля на велосипеде (тоже из пижонства: хромой, а на велосипеде!). За неимением фары разгоняю темноту дребезжанием звонка и представляю, как ты встречаешь меня на крыльце. Возле него растет старый орех, как у тебя в Усть-Рыбинске. Ночью на дереве спят индюки, их хвосты свешиваются с ветвей, будто цыганские шали. Утром большая важная индючиха снесет яркое пасхальное солнышко, и жизнь покатится дальше. А я пошел биться за урожай. Чао!
* * *
Здорово, трудяга!
Рисую тебе сельские картинки, а ты-то сама, оказывается, на картошке! Не пора ли создавать профсоюз работников, занятых не своим делом?
С шефом ты поступила правильно. Жаль только, что эта история так вымотала тебя. Он-то, как я понимаю, профессиональный интриган, а у тебя все на эмоциях. Победа обходится тебе дороже, чем ему поражение. Хочешь совет? Когда предстоит идти к начальству на ковер, а ты нервничаешь, то перед дверью его кабинета представь: начальство сидит за столом босиком. И оно уже не такое страшное. Представила? Вперед!
Мне повезло: наш завотделением, полковник Котя, отличный мужик. Вообще-то он Константин Михайлович, но, по-моему, так его никто отродясь не называл. Сомневаюсь, чтобы даже на фронте кто-нибудь отдавал ему честь, — насквозь нестроевая личность! Чего стоит один его бессменный пуловер, всегда обсыпанный сигаретным пеплом… Нет вещи, которую бы Котя не умел делать, — от самых сложных операций и до охмурения молоденьких сестричек (что тоже не так просто). Он беспрерывно оперирует, консультирует, вечно что-то достает, кого-то устраивает на койку или в институт, встречает бесчисленных гостей. Вокруг полковника Коти ключом кипит жизнь, снуют какие-то певички, моряки, журналисты, спортсмены, таксисты. Есть даже брачный аферист по прозвищу Феликс-ложка.
Он куда больше похож на заведующего отделением, чем Котя: мягкие интеллигентные манеры, благородный баритон… Несмотря на это, Феликс иногда попадается. Сидеть за аферы он не любит, поэтому при первой же возможности глотает ложку, и его привозят сюда. Полковник быстро извлекает из Феликсова горла казенное имущество; дня три тот отлеживается, развлекая нас своими историями. На этот раз ему не повезло: полковника вызвали в облздрав, за него осталась Надюшка. Стала дергать ложку туда-сюда, а та возьми да и провались в желудок. Пришлось срочно отправлять афериста в общую хирургию и вспарывать ему живот. Так простая женщина-медик помогла профилактике преступности.
По профессиональной подготовке Надюшка застряла где-то на уровне восемнадцатого века: тогда в Англии хирурги котировались наравне с парикмахерами. Их гильдия так и называлась: «цирюльников и хирургов». Делай она такие прически, как операции, ее бы давно выгнали. Но — «Несмотря на усилия медиков, больной выздоровел». С кем нужно, она мила, собой пышна, почерк чудный, знает, что сказать на собрании, — и хватит с вас! Я бы уже сейчас платил ей персональную пенсию, лишь бы она не подходила к больным.
Ты права: авторитет медицины падает, но не только из-за таких, как Надюшка. Хорошо, если врачу удается выкроить для больных хотя бы полдня. Перед каждой операцией надо побегать: «Валечка, где шприц? Лерочка, сходите за санитарами!» Потом подождать санитаров с полчаса и самим нести пациента в палату, пока он не схватил воспаление легких.
А поехать на уборку овощей? Мне-то что: свежий воздух, зарплата идет, но кто займется моими больными? Правда, на этот раз мне повезло. Не успели мы с Лерочкой-Валечкой собрать очередную норму, как показалась целая делегация: главный врач района, директор совхоза и, конечно, полковник Котя. Мол, дорогой Александр Борисович, возвращайтесь к себе в больницу, вместо вас на уборку пришлют кого-нибудь из КБ. Ясно: Котя проконсультировал директорскую жену, и все решилось в момент. А также видеть, слышать, ходить и т. д. Вот где стимул для медицины!
По неосторожности я открыл тебе страшную врачебную тайну — надо же отвести душу! Если надоест роль душеотвода, намекни. Профилактически целую тебя сквозь маску. Сегодня операционный день.
Твой Саша
* * *
(На бланке авиабандероли.)
Эта цветочная пыльца собрана самыми добросовестными пчелами с самых отборных цветов. Ешь и выздоравливай! А темные очки, которые ты забыла у меня, я и не подумаю возвращать. Хочу смотреть на мир, как ты. Взамен посылаю тебе другие. Прошу оценить фирменную наклейку на полстекла. Если ты вглядишься в оставшийся просвет, то увидишь человека в белом халате, который стоит на противоположном конце страны и призывно машет тебе рукой. Эй, в Усть-Рыбинске, как меня поняли? Перехожу на прием.
Целую.
А. К.
* * *
Незнакомка, салют!
Такое неожиданно нежное письмо! Пусть вся нежность сводится к вопросу: «Ну, как поживаешь?», мы готовы и в обычной вежливости усмотреть элементы ласки — за неимением других. Спасибо за фотографию, ты смешно постриглась и стала похожа на птицу. Любишь менять все: прически, платья, города. Это ли не признак неудовлетворенности собой! Может, и я тебе нужен лишь постольку… Молчу, молчу — чтобы не сглазить твою неожиданную нежность.
Наверное, тебя смягчило время. Не эпоха, а нынешний Год спокойного солнца. Что оно с нами делает! Мой приятель Паша в студенческие годы занимался метеопатиями. Ты, наверно, слыхала про связь между активностью солнца, магнитными бурями и болезнями. Гипертонические кризы, инфаркты, приступы астмы, истерики, самоубийства — весь набор.
Еще Швейк советовал не ходить в пивную, когда на солнце появляются пятна: побьют!
Паша собрал массу наблюдений и со своим проектом погодного контроля мыкался по разным инстанциям. Его всюду высмеяли. А один деятель, от которого Паша добивался, куда же все-таки пойти со своей идеей, в сердцах заорал: «А хоть в задницу!» Не знаю, так ли было все на самом деле, но Паша усмотрел в этом перст судьбы и занялся проктологией.
Раньше, когда пища была грубее, люди чаще умирали от рака желудка. Теперь, при более тонкой и нежной — от рака прямой кишки. Вот тебе и прогресс. Пашиным пациентам морально тяжелее. Хватаешься за сердце или за голову, тебе все сочувствуют, а если от боли не можешь сидеть — кому пожаловаться? Врачу да товарищам по несчастью. Поэтому Пашины выпускники и после больницы часто встречаются друг с другом. Мы с ним как-то попали на собрание их стихийного клуба. Они собираются в том же сквере, что и футбольные болельщики. Свои страсти, свой жаргон. Мы пришли в разгар спора между сторонниками масла какао и приверженцами цветков каштана. Все сходились на том, что каштан гораздо лучше снимает воспаление, но поскольку он растет прямо над головой, а какао далеко-далеко, то спрос на какао был выше. Не зря по соседству крутился тип с этой самой какавой. Они точно знают клиентуру. Недаром в гардеробе онкологического диспансера продается больше черной икры, чем в любом ресторане города. Чего не сделаешь, если есть хоть малейшая надежда на спасение!
Население хворает, а мы с Пашей стоим, как стражи, со скальпелями наголо у входа и выхода из организма. Чтобы по первому крику «Ой, доктор!» кинуться и ринуться.
Но ты все-таки не болей, хотя бы из уважения ко мне.
Вот добью диссертацию, защищусь, тогда уж хворай на здоровье!
Целую тебя продезинфицированными губами: у нас в отделении карантин.
С.
P. S. Не предвидится ли у тебя снова командировки в наши края?
P. P. S. Ты прекрасная.
P. P. P. S. Напиши мне подробно про Серого.
P. P. P. P. S. Ты — чудо.
* * *
Вандочка, привет!
Чем я занимаюсь, спрашиваешь ты? Отвечаю: скучаю по тебе. Те несколько часов, которые мы провели вместе, мне почему-то запомнились как домашние. Может, из-за борща, который я варил под твоим руководством? Когда я попробовал повторить опыт, борщ пришлось вылить в мойку, и с нее слезла эмаль.
Надо развивать мои кулинарные задатки.
Знала бы моя мама! Она уверена, что за исключением ее приездов я обречен на голодание, а тут такой сдвиг! Уже за одно за это ты должна неслыханно вырасти в ее глазах. А в моих! В тот вечер ты была такая неспешная и уютная, так легко со всем управлялась, что я подумал: ты не командуешь вещами, а поддаешься им. Увидела пирожное — съела, попалась тебе на глаза сумка — купила. Лень как движущая сила. Из-за этого ты на первый взгляд кажешься покладистой и уступчивой. Но потом начинаешь понимать: ты поступаешь так, а не иначе, потому, что это проще. И столь же внезапно ты поворачиваешься и уходишь: наскучило!
Однажды твой муж, как и я, поверил в свое господство над тобой. Да и как не поверить: женщина готовит ужин и вяжет носки, значит, она завоевана раз и навсегда. Иллюзий на сей счет не имеем. Судя по настойчивости, с которой ты уже дважды — и всегда в одних и тех же выражениях — тепло отзываешься о своем супруге, дома у вас все вовсе не так уж замечательно. Нежелание выносить сор из трехкомнатной избы делает тебе честь, но не слишком ли (зачеркнуто). Мне кажется, что, если бы не его частые поездки, вы давно бы уже развелись. А может, твой супружеский долг — в блюдении его карьеры? Ведь для него развод это и развал воспитательной работы в семье.
Прости. Я не то чтобы ревную (вру, конечно!), но скорее сострадаю ему. Как и всякому, кому выпала участь подпасть под твое столь желанное иго. Это полное непринадлежание себе и растворенность в твоих причудах.
Наверно, супругов надо выбирать по тестам. Тогда мне не на что рассчитывать. Если человек так суетлив, как я, и вдобавок припадает на одну ногу, это должно уравновешиваться или талантом, или (зачеркнуто). Рассуждая здраво, вынужден с тобой согласиться: по всей вероятности, у нас с тобой ничего не получится. Но не безумие ли рассуждать об этом здраво? Ведь и то «ничего», что есть сейчас, для меня такая радость! Стыдно признаться («Так не признавайся!»), я то и дело прихожу в блаженное оцепенение от самых обычных вещей: от зеркала, перед которым ты причесывалась, от собственного подоконника — на нем ты курила после ужина. Как будто я и у себя дома, и не у себя!
Наверно, ты вполне обычная женщина. Но куда девается моя теоретическая объективность, когда я вспоминаю, как ты сидишь у окна, обхватив плечи руками и глядя в одну точку… Закругляюсь, чтобы ты опять не ехидничала насчет моего многословия. Две странички за день — большего ты от меня не дождешься!
С.
* * *
Пишу в тот же день. Но сейчас уже ноль часов двадцать минут, и моя мужская гордость спасена: это как бы новое письмо. Правда, за это время у меня вылетело из головы, о чем я еще хотел написать. Ты, случайно, не помнишь? Одно оправдание: я вел прием в поликлинике. Там коллега в отпуске, и я, мысленно прикинув (чем черт не шутит?), сколько стоит билет до Усть-Рыбинска, решил посовмещать. Тем более что здесь, в поликлинике, сразу видишь плоды своего труда.
Иногда на улице со мной здороваются, а я не помню, хоть убей. «Доктор, вы же год назад сделали мне прокол, я прямо ожил!» Где там упомнить — за день проходит человек тридцать — сорок, а если диспансеризация, то и все восемьдесят. «Садитесь — начтожалуетесь — откройтерот…», зеркальце на лоб, стул заранее придвинут на точно рассчитанное расстояние и привязан бинтом к столу: едва больной сел, нужно тотчас поймать зайчиком его носоглотку, чтобы не терять ни секунды; рука уже автоматически заносит данные в карточку, рецепт, «Следующий!», «скажите «а-а»… А у меня-то голоса уже нет: с каждым больным поговорить, а если придут три-четыре глуховатых пациента, кричи в самое ухо, потом попадется гриппозный, «апчхи!», и будь здоров, доктор!
Но хуже всего наша профессиональная болезнь: «отравление людьми». К концу приема раздражаешься и тупеешь. А они ведь помощи ждут, облегчения!
У нас в поликлинике, как и у вас в институте, принято считать: чем выше показатели, тем, значит, лучше работа. Настоящее идолопоклонство! Нет бога, кроме цифры, и отчет — пророк ее! Гоняемся за процентами, как котенок за собственным хвостом. Как ни включишь радио — «еще десять миллионов тонн», «двадцатый миллиард кубометров за последние три года». А может, их столько и не нужно? Или нужно в пять раз больше? Я могу представить тысячу, ну, десять тысяч чего-то, но миллион — это для меня уже абстракция. А меня баюкают этими абстракциями, успокаивают вереницей нулей. Черная магия цифр!
В нынешнем году врач принял на три с половиной больных больше, чем в прошлом, — ура-а! Или «Караул!». Кто сказал, что на каждого больного хватит ровно десять минут — ни секундой больше? Его бы, сердешного, как следует осмотреть, дать ему выговориться, облегчить душу, а мы гоняем его из кабинета в кабинет. Не ради его здоровья: надо загрузить коллег. Ну и, конечно, анализы, анализы, анализы… Чтобы история болезни была толстая, как «Сага о Форсайтах». Верно говорит полковник Котя: «Перед лабораторией надо снимать шляпу, но не голову!»
Все это я, конечно, понимал и раньше, но не так ясно. Сейчас идет расплата за самоуверенность первых лет работы, за телячий оптимизм и бурные надежды, головокружение от вдруг распахнувшихся далей. Нет ничего страшнее, чем понять: ты уже достиг предела своих возможностей, а ничего изменить так и не удалось.
Посмотрела бы, сколько приходится возиться, пока сделаешь микропротезик! Смотреть, правда, трудновато: в операционной закрываются ставни, чтобы под микроскопом было лучше видно операционное поле (не очень-то подходящее слово для пространства в пять квадратных миллиметров). Попотеешь часа три, и, если повезет, кусочек ткани, взятый из хряща, или тефлоновый поршенек встанет на место, через недельку снимем повязку, и — «Ау?» — «Ау!».
Года полтора назад полковник Котя сделал одной женщине такую операцию. Сперва она прибегала его поздравлять, а недавно пришла с плачем. Вышла на работу — начались головные боли. До этого она почти не слышала грохота машин у себя в цехе. Теперь же — «как в голове стучит!». Сошлись на том, что будет затыкать уши кусочками поролона. Заодно Котя настоял, чтобы всем работницам в цехе выдали «беруши» (знаешь: такие мягкие затычки для ушей). Могут потратить сто тысяч на цветомузыку в заводской столовой, а с самыми простыми вещами — загвоздка. Вот и балансируйте.
Иногда полковник Котя так и говорит на пятиминутках: «С утра возьмем на стол гайморит из второй палаты, он обещал достать сухую штукатурку. После обеда надо посмотреть Нестерова, хронический отит с подозрением на кафель». Когда в отделение попадает какая-нибудь строительная шишка, то Котя переселяется к нам в ординаторскую, а его кабинет превращается в палату «люкс»: телевизор, круглосуточный пропуск родных, персональная медсестра Лера. У нее появляются новые французские духи, а у нас — что-нибудь из стройматериалов.
Нынешний же ремонт затеялся так. На конференцию по слуховосстановительной хирургии должен приехать какой-то знаменитый английский профессор. Его пытались сплавить в образцовую клинику, знаешь: «полы паркетные, врачи анкетные». Но он попросился куда попроще. Хочет, видите ли, постоять у операционного стола в самой заурядной больнице. Стой, стой! Под твой приезд мы выбьем второй аппарат для наркоза и новое постельное белье в палаты.
Опять я не уложился в обещанные две страницы. Можешь в следующий раз удержать у меня страничку из жалованья.
* * *
Здравствуй, и спасибо за фотографию!
Серый мне понравился. Похож на тебя: такой же веселый и отрешенный взгляд. Особенно это заметно, когда вы рядом. Хорошо бы познакомиться с ним поближе. Правда, я с мелюзгой не очень-то умею, разве что знакомые приведут свою детку. И я ее убалтываю: «Подари дяде доктору свои аденоиды, он будет выгуливать их на веревочке». На этом моя сентиментальность иссякает, и я вместе со всеми распеваю на больничных гулянках частушки-чернушки. Ну, из этих:
Мальчик однажды на грушу залез, Сторож тихонько вынул обрез, Где-то раздался мальчишеский крик. «Это седьмой!» — улыбнулся старик.Или вариант для тех, кто боится выстрелов:
Провод над улицей выгнут дугой, Мальчик задел этот провод ногой. Папа склонился над кучкой углей: «Где ж эти джинсы за двести рублей?»Сколько этих частушек расплодилось в последнее время! То ли реакция на сюсюканье, которое льется из телевизора, то ли свирепение века. Что о нас подумают грядущие историки? Но посмотрел на фото, и вдруг потянуло обзавестись таким парнем, как Серый. Или даже совсем маленьким. Что-то писклявое и быстроглазое. Как все закомплексованные люди (чтобы не сказать: «неудачники»), я подсознательно стараюсь переписать свою жизнь набело. Без хромоты, суеты и попыток острить по каждому поводу. Одно вытекает из другого: чем человек уязвимее, тем большую нужду в самозащите он ощущает. В свою очередь, это останавливает в развитии. Норберт Винер считал, что насекомые когда-то выжили благодаря своей прочной хитиновой оболочке, но она стала потом и преградой для их эволюции.
Пока нет своих детишек, занимаюсь чужими. Неподалеку от нашей больницы есть детская. В ночное дежурство у них часто не бывает отоларинголога, и если что-то серьезное, везут к нам. Внутри у детей все устроено не так, как у взрослых, и каждый раз размышляешь: вмешаться или дать событиям идти своим чередом? Дети — отличные саморегулирующиеся системы. И чем больше работаешь, тем реже хватаешься за скальпель. «Хирургический зуд» — жуткая штука, но я, кажется, понемногу избавляюсь ют него. Хотя врач, который в сложной ситуации все-таки оперирует, пускай и неудачно, формально находится в более выгодном положении: он же попытался как-то помочь, ну, не вышло… На прошлом дежурстве медицина себя показала. Прибежала женщина с девчонкой месяцев шести, та совсем плохая, задыхается. Полковник ухитрился залезть бронхоскопом в ее узенькую гортань, я ассистировал. Если бы пришлось делать самому — бр-р! Знаешь, что выудили? Сережку! Видно, отстегнулась, когда мать купала малышку, и плюхнулась в воду, а дети все тянут в рот. Острые края должны были поранить трахею и бронхи, но — проскочило. У нас уже собралась коллекция: пуговицы, семечки, ракушки. Одних монет рубля на три. И, наконец, Котина гордость: стальной шарик, который он выудил из трахеи восьмилетнего пацана. Да как: без операции — вытянул мощным магнитом-соленоидом!
Раньше врач не так зависел от техники. Оставалась надежда: в следующий раз он изловчится и вытянет больного. А легко ли чувствовать себя придатком к прибору? Особенно если тот не работает за неимением запчастей.
Видали ухажера? Вместо охмурения выплакивает женщине свои служебные огорчения! Лучше занялся бы диссертацией. Она так и застряла на случае с больной Вандой В., диагноз: «острый стеноз», этиология окончательно не выяснена. Но думать одновременно о тебе и о науке — на это меня не хватает! Забегался вконец. Недавно заснул в гостях у Паши. В отместку он напустил на меня Пашку-меньшего. Пока я спал, он опутал меня маминым мохером. Проснулся я Гулливер Гулливером и до сих пор еще линяю.
Целую и засыпаю снова.
С.
* * *
Леди и джентльмены, матросы и старшины!
Поздравляю вас и себя с днем рождения Ванды. В ознаменование этого выдающегося события начинаем новую серию: «Жизнь замечательной Ванды».
Мы долго раздумывали над тем, чему посвятить первую главу. Вчера ночью, когда, наконец, дали Усть-Рыбинск и ты, ничуть не изменившись в голосе (я утешал себя: это потому, что говорила с работы), сказала «алло», нам стало ясно, что эта глава должна называться так: «О том, как Ванда говорит «алло».
Науке известны семьсот способов произнесения этого слова — ты нашла еще один. Твое «алло» получается коротким, второе «л» слегка смято первым, быстрым и легким. Это не скороговорчатое «алё» деловых переговоров, не шепелявое «ао», которым полковник Котя прочищает телефонную трубку, не раскатисто-начальственное, расстилающее перед собой ковровую дорожку звуковой волны «аллоу?», не нервное «ало-ало» междугородок, а узкий летящий звучок, причудливо закрученный, как раковина каури, которую я никогда не видел, но представляю себе именно так.
Я сижу на кухне под твоим рентгеновским снимком в красивой рамке и жалею всех, кто не слышал твоего «алло».
Примите мои соболезнования, флегматичный инженер из треста «Нечерноземуголь», который был в нашем городе одновременно с тобой, но — безумец! — истратил последнюю монету не на звонок тебе, а на стакан газированной воды с лимонным — чтоб было что рассказать дома — сиропом.
Обливаюсь слезами жалости и растираюсь махровым полотенцем мудрости при одной мысли о горестной судьбе герцога Педро-Лопес-и-Гамадрилья, владельца фамильного замка в Картахене (что возле Гипускоа), вынужденного, чтобы не пойти по миру, рассчитать второго садовника при зимнем плавательном бассейне. О бонне для болонки Брунгильды я уже не говорю: эта рана для дона Педро слишком свежа. О, безутешная Брунгильда! Бедняжку бонну пришлось пристрелить: она не вынесла бы разлуки с любимой собакой! Но ведь герцог мог вступить в общество дружбы «Картахена — Усть-Рыбинск» и приехать к вам в составе делегации прогрессивных идальго. Позвонить в ресторан, заказывая ужин, ошибиться номером, случайно попасть к тебе, услышать твое «алло!» и, наконец, осознать: вся его предыдущая жизнь была одной большой испанской ошибкой!
Остаток своего сострадания я приберег для вас, досточтимый Мацумото-сан, один пепел с сигары которого стоит больше, чем все верфи компании «Фудзияма и сыновья». Несмотря на это, г-н Мацумото достоин сожаления, ибо кто, как не он, пренебрег сладкой возможностью потерпеть кораблекрушение в Устьрыбинской бухте? Будучи выброшенным волной вместе со своим лайнером прямо на проспект Океанологов, к подножию твоего дома, он мог бы услышать ласковое: «Алло, вы, кажется, промокли?»
Всех я пожалел. А кто пожалеет меня? Уже столько времени я без тебя! По случаю праздника прощаю тебя, но учти: если в следующий твой день рождения я не услышу в трубке: «Алло, это я. Жду тебя», то между нами все кончено. Даже то, что еще и не начато.
Дальше нефритового, в тон твоим глазам, колечка моя фантазия не пошла. Носи и помни. А был бы я ацтеком, ты получила бы такой гостинчик: ужа́, орхидею и ведро поганок. У нас, ацтеков, это означает: «Гадом буду, ты лучший цветок среди женщин!» Да, но как хранить такое письмо? Муж еще приревнует. То ты жалеешь его, то чуть не ненавидишь. Меня, что ли, подразнить?
Несу черт знает что и не могу остановиться. Как ты догадалась, я уже начал праздновать твой день рождения. И, кажись, допраздновался. Целую тебя украдкой от гостей. Поставь мне ма-аленькую рюмочку в углу и выпей вместе со мной на запоздалый брудершафт. Твое здоровье!
* * *
Тридцать пять. Чудно́ и чу́дно. Тридцать пять. Тревожный взгляд. Праздник нервный, страх минутный: «Боже, скоро пятьдесят!» Тридцать пять… но эта шея, Эти брови, этот рот, Эта… эти… нет, не смею: Видит око — зуб неймет. Тридцать пять. Глухая нежность. Тридцать пять. У моря зной. Неподвижность, и безбрежность, И невластность над собой. Тридцать пять — всему начало? Тридцать пять — всему конец? Две надежды, два бокала, Два биения сердец…Целую тебя.
* * *
Лера, здравствуйте!
Мы еще не знакомы с Вами, вернее, Вы меня не знаете. И не мудрено: мы живем в разных измерениях. Дело в том, что я — автор, Ваш полновластный хозяин. Но власть, даже над собственной выдумкой, обременительна. Вмешайся в чужую судьбу, пусть вымышленную — увязнешь в ней.
Поэтому я предоставил действующим лицам полную свободу действий — разумеется, в рамках моей диктатуры — и не очень-то заботился о том, что делается на задворках сюжета. Вы же не преминули этим воспользоваться. Пока я занимался одной историей, Вы пытаетесь впутать всех в совершенно другую. Ясное дело, не без моего ведома. Но Вам предназначалась весьма скромная роль, а Вы вдруг тоже решили пробиться в главные героини. С какой стати? Что это еще за игра в литературную демократию!
Пререкаясь, я словно признаю за Вами право распоряжаться своей судьбой. Чепуха! Мне ничего не стоит вычеркнуть Вас из рукописи. Или, оставив Вам иллюзию самостоятельности, дать закончить письмо, которое Вы сейчас сели писать, а затем преспокойно затерять его.
Не слишком ли много околичностей для того, чтобы разделаться с третьестепенным персонажем? Наверно, я в чем-то почувствовал сродство с Вами. Как будто я, Ваш создатель, демиург с шариковой ручкой, такое же действующее лицо, как и все вы, только в другой книге, куда моя входит как одна из многих глав. Автор той рукописи, в свою очередь, выдуман другим, для кого она не более чем глава… — и так до бесконечности, до той невидимой черты, где последняя страница переходит в реальную жизнь, если, конечно, и эта жизнь не придумана кем-то.
Отсюда-то, наверное, у меня и появилось чувство некой персонажной солидарности. Поэтому я прошу Вас: подумайте еще раз, прежде чем отправлять это письмо! Вам оно счастья не принесет, об остальных и говорить нечего.
Думайте. Я позабочусь, чтобы на сегодняшнем дежурстве Вам никто не мешал. Оглянитесь: все больные вдруг уснули. Коридоры пусты. Телефон молчит. Только в умывальнике каплет вода, да тихо жужжат лампы дневного света. Сигареты в столе, под папкой с эпикризами. Слышите — внизу хлопнула дверь. Я ушел. Ну, Лера?
* * *
Милый Ван!
Я не скучал по тебе целую неделю. Но у меня штук пять алиби, одно другого железнее. Что, по утверждению знающих людей, не рекомендуется. Если ты явился под утро весь в помаде, то не придумывай сразу несколько жутких историй. Каждая следующая только ослабляет впечатление от предыдущих — слишком много случайностей. А это уже подозрительно.
Этой премудрости я вчера набрался у полковника Коти. Пошел проведать: у него разыгрался флебит. Профессиональная болезнь хирургов, парикмахеров, часовых, словом, всех, кто добывает свой хлеб, подолгу стоя на одном месте. Кровь застаивается в сосудах ног, появляются тромбы и т. д. Зато, стоя у операционного стола, Котя беспрерывно мурлычет под нос. Без голоса и без мотива, зато какие слова:
Цыгане носят кольца, Кольца непростые, Цыгане носят кольца, Кольца золотые…В следующих куплетах цыгане носят серьги, брошки, зубы, по́льта, шали, туфли — все золотое! Представь: в операционной жара, через протершиеся шланги травит наркоз, сосуды то и дело кровят, а он ковыряется крючками и кохерами и, подлец, мурлычет… Я раз чуть скальпелем его не пырнул! И что ты думаешь? Потом как-то ассистирую ему и вдруг с ужасом ловлю себя на том, что тоже напеваю:
Цыгане чешут спины, Спины непростые, Цыгане чешут спины, Спины золотые…Полковник подмигнул под маской, и мы тихонько затянули припев, фальшивя в унисон:
Ой, мама, мама, мама, Люблю цыгана Яна, Ой, верю, верю, дети, Что есть любовь на свете!Теперь ты понимаешь, почему больных во время операции усыпляют?!
Так вот, пришел я проведать Котю, а он песен уже не поет, шуток не шутит, лежит с задранной ногой и нервно чешет свою мохнатую грудь. Ясно: полистал литературу, прикинул, сколько шансов на то, что тромб доходит до сосудов головного мозга и закупоривает их. Все это, конечно, с усмешечкой: мол, если что, похороните меня с видом на кафе «Солнечное»… В таких случаях нет резона долдонить: «Вы прекрасно выглядите! Переживете всех нас!» Иначе болящий коллега решит, что жить ему осталось минут сорок.
Я уверил полковника, что у него мизерные шансы на выздоровление, и предложил покаяться в самых крупных грехах — на все ему просто может не хватить времени. Он кисло усмехнулся, и мы принялись составлять завещание. Целый час делали опись имущества, чтобы не пропустить ни одной вещи и ни одного сотрудника. Даже Надюшку не обошли: он завещал ей свой «Паркер». Думаю, с намеком на ее прежние анонимки. Потом, видно, сообразила: если уберут Котю, ей придется отвечать за все самой, тогда она и недели не продержится. За Котей же она как за каменной стеной.
Да и все мы, коллеги и больные. К кому бы все бегали, если бы вдруг Коти не стало? Кого можно было бы позвать к больному ночью, в выходной, в праздник? К кому каждый из нас без колебаний — даже с самым гиблым диагнозом — лег бы под нож? Удалить миндалины или исправить искривление носовой перегородки — это многие сделают не хуже Коти. Но в нашем городе устраиваются в больницу «на врача» — как стремятся попасть в театр не на спектакль, а на популярного актера. Есть примета, в которую одинаково верят и больные, и медики: уйдешь из больницы, не отблагодарив врача, — вернешься снова! Теперь ты понимаешь, почему мы так долго составляли Котино завещание…
Делили его имущество, делили, пока не дошло до собаки и коллекции коньяков — тут он даже забыл о своих тромбах. Особенно Котя волновался насчет Шантеклера, он же Шарик. Черная такая собачка сенбернар ростом с «Запорожец», а рычит — ну, Баскервиль! Сошлись на том, что Шарика пострижем, из его шерсти свяжем траурные повязки всему персоналу. А коньяки подвяжем к ошейнику: пусть отпаивает замерзающих альпинистов. После чего Котя сразу приободрился и мы, испробовав на себе альпинистскую участь, обсудили все проблемы медицины, политики и экономики. Оставалось решить, что делать с тобой. Я ему ничего, конечно, не рассказывал, но у меня, наверно, все написано на лбу. Как истый мудрец, полковник не стал ничего советовать, а рассказал историю своей первой женитьбы. Время было подходящее: война, сорок второй год. Его невеста закончила курсы радисток, Котя добивался, чтобы вместе с ней и его забросили за линию фронта. На его счастье (или несчастье) в соседнем партизанском отряде срочно нужен был врач, и Котю взяли. Их выбросили над лесом, причем он ухитрился приземлиться нормально и даже отстреливаться — с его-то минус четырьмя! А у радистки в воздухе свалился валенок, всю ночь она шла по снегу в одной портянке и отморозила ногу. Через сутки все-таки догнала отряд, но ногу пришлось отнять. Ампутировал сам Котя. Девушку отослали в тыл, найти ее он так и не смог. Умерла, а может, не хотела обременять его. Потом он женился еще несколько раз, и все время на певицах. Дело не вкуса, а профессии: полковник Котя один из лучших фониатров (это специалисты по поющим горлам). Если появляется хоть небольшое воспаление голосовых связок, отменяются любые концерты и гастроли. А когда на связках образуются крохотные узелки — конец пению! Раньше могла помочь только операция, а полковник предложил лечить ультразвуком. Актеры валом повалили к нему, он периодически женился на ком-нибудь из пациенток, потом разводился, но все они остались друзьями.
В прошлом году полковник отличился при взятии горла экстрапримы. В каждом концерте, а было их штук двадцать, она так выкладывалась, что к последнему практически голоса у нее не было. Срочно послали за Котей, он сделал что надо, после чего прима воспряла духом и голосом. Ее полчаса не отпускали со сцены. Она, наконец, согласилась бисировать, но вытащила кланяться и полковника. Ты бы видела: Дворец спорта, пять тысяч человек, на ступеньках дети с букетами, прима в развевающемся балахоне — и рядом наш Котя в пуловере, обсыпанном пеплом! Но на ней он не женился.
А на тебе бы — с удовольствием! Я понял это по его глазам. О, великая сила любви: дня через три полковник приковылял в больницу и к обеду уже мурлыкал в операционной своим наждачным голоском:
Цыгане носят грыжи, Грыжи непростые…Целую, деликатно дыша в сторону.
С.
P. S. Ты мне так и не ответила, как у Серого с горлом. Посылаю еще один рецепт. Это ему понравится больше: там желток и какао. Кстати, есть ли оно в Усть-Рыбинске? А то возьму и пришлю. Да что я: у вас же свои каналы…
* * *
Ванда, здравствуйте!
Не знаю Вашего отчества. Да и зачем? Мы с вами теперь почти на равных. На фотографии вы выглядите старше меня лет на пятнадцать и (зачеркнуто), но и (зачеркнуто) у Сани меняются вкусы.
Я узнала про вас случайно. Саня попросил срочно найти какую-то историю болезни, я стала перебирать бумаги в его столе, вдруг смотрю: что-то о нашей больнице. Думала, что это его новый капустник, заглянула. Бац — фотография, письма! Это вы у нас в отделении лежали и заодно решили поразвлечься?
Дело ваше, да и Саня человек свободный. Года два назад, когда (зачеркнуто) он предлагал расписаться, я не захотела. Может, все к лучшему. А то вышла бы замуж и (зачеркнуто). Для вас-то Саня последняя надежда, а я еще (зачеркнуто).
До свидания.
Меня зовут Лера, мне двадцать лет. Я вас ненавижу.
* * *
Слушай, подруга, это уж слишком! Вдруг после долгого перерыва такое ледяное письмо. Что это с тобой? Время от времени ты устраиваешь демонстрации против моего существования. И вот еще одна: «Буду делать что захочу и болеть чем пожелаю!» Найди-ка другой способ для самоутверждения! Хватит мне и на работе больных, чтобы я цацкался еще и с тобой: «Откройте рот, скажите «а». Единственное, для чего тебе позволяется открыть рот, — чтобы сказать, когда мы увидимся. Все.
А на обследование сходи. Скорее всего это издержки акклиматизации. Твоему организму наплевать на то, что мужа переводят с повышением в другую климатическую зону. Серого высылай наложенным платежом. Через неделю пришлю бандеролью его аденоиды. А еще лучше, приезжай вместе с ним: мальчик побудет у моря, я — возле тебя. Не виделись уже полгода. Ты-то, небось, и не заметила!
Иногда мне кажется: я переписываюсь сам с собой. Только человек, в совершенстве овладевший искусством самообмана, способен принимать за чьи-то ответы эхо собственных писем. Различать в них эхо — нежность, эхо — понимание, эхо — тоску и вот уже который месяц жить на этих заменителях. Может, ты права: увидимся, а оно совсем не так? Наверно, странствующие рыцари шатались по свету не только в поисках приключений, прославляющих даму их сердца, но еще и из опасения: вернешься в свой замок, а дама-то не их сердца! Видишь, ты и меня заразила своим скепсисом. Но ко мне эта зараза надолго не пристает.
Жизнь идет своим чередом: операции, обходы, хождение с Пашей в кафе «Солнечное». Но теперь всё с оглядкой на тебя. Дело доходит до глупостей. Помнишь, ты дразнила меня, что я выгляжу мальчишкой и больные принимают меня за второкурсника? На следующий же день я взялся за отращивание усов. Попробуй подойди — исколю! Нет, подойди ко мне…
Дальше. С детства не перевариваю женщин с серьгами: вульгарно. Но вот появляется из Усть-Рыбинска пациентка с двумя висюльками в ушах, и мои взгляды на бижутерию меняются коренным образом. Сейчас любая носительница сережек мне симпатична. Она как бы член тайного ордена сережечниц, где ты председателем, нет, кажется, они назывались генералами.
Все эти перемены, совершающиеся помимо моего сознания и воли, наводят на мысль: ты не женщина, а какая-то оса-наездник. Они откладывают в гусеницу свои личинки, те внедряются, и потом выходит уже не бабочка, а новая оса. Получится новый я или просто две разновидности тебя, мужская и женская?
Не будем забегать вперед, тем более что бегун из меня сама знаешь какой. Я страдаю не столько из-за хромоты — от мысли о том, как я выгляжу в чьих-то глазах. Ты подчеркнуто не замечаешь моей ущербности, а может, зря? Когда в доме повешенного не говорят не только о веревке, но даже о нитках, это настораживает еще больше. Но были же люди, которым это не мешало! Можно составить целый пантеон великих хромых — по образцу «Гомер, Мильтон и Паниковский». Скажем, Тамерлан, Байрон… и тот же Паниковский-Гердт. Я недостаточно калека, чтобы меня жалели, и все-таки слишком увечный, чтобы не делать скидку самому себе.
Ах, как нас поддерживают эти скидки! «Если бы у меня нога была в порядке…», «Дайте мне новое оборудование, и я…», «Не трать я половину дня на всякую чепуху…» Все так. Но когда это тянется и тянется, многие уже радуются нехватке как возможности ничего не делать. Попробуй отличи, где тут увертки, а где истинные причины, и если они когда-нибудь кончатся, не окажемся ли мы атлантами, которые не могут держать ничего, кроме собственных декоративных мышц?
Дежурство подходит к концу, пора обойти палаты. Сейчас зайду во вторую — и вдруг на койке у окна, бледная, с еще более зелеными от этого глазами, с прокушенными от боли губами, совсем-совсем слабая, но никогда и никому в этом не признающаяся, еще незнакомая, но уже родная…
Ладно. Пошел.
* * *
Привет, пациенточка!
Топал сегодня на работу, весь такой мечтательный и возвышенный. Снег (хрум-хрум), часы (тик! тик!), самолет (след-след). Навстречу старушка в синем платочке. Всклокоченная, веселая уже с утра.
— Который час, сынок?
Я сказал.
— А день?
Сказал.
— Десять копеек дашь?
Дал.
Старушка расчувствовалась:
— Дай тебе бог здоровья, сынок!
— И вам, бабушка.
— …и счастья!
Я помялся. Она заметила и продолжала:
— …и деткам твоим тоже.
— А можно переадресовать ваши пожелания? — спросил я. — Ну, как газету или журнал. Знаете?
— Знаю, — соврала старушка и с достоинством плюнула на снег.
— Тогда давайте перешлем их одной… в общем, очень хорошему человеку.
Старушка пожевала фиолетовыми губами и сказала:
— Индехс знаешь? Без индехса нельзя.
Я продиктовал. Она повернулась потертым лицом в ту сторону, где, по ее представлениям, находился Усть-Рыбинск, затянула потуже свой синий платочек и забормотала:
— Счастья тебе, доченька! Много-много здоровья, удачи! И деткам твоим, и дому твоему, и чтоб не знала ты горя…
Думаю, что она до сих пор бормочет, потому что до открытия мага́зина (с ударением на «га») остается еще много времени. Ее неторопливые, стершиеся от времени заклинания поднимаются в воздухе вместе с паром изо рта, набирают высоту и, пугая рейсовых пилотов, ложатся на заданный курс. Готовь посадочную полосу! И заодно готовься стать счастливой, здоровой, многодетной и т. д.! А не то мы отыщем ту волхвицу и потребуем повторить сеанс на бис.
Напиши, сбылось ли. И вообще напиши. Целую с риском (и с надеждой) примерзнуть к твоим губам. Здесь холодина: минус один. Нас разделяют двадцать градусов и девять часов. Иногда так хочется взобраться на ртутный столбик или повиснуть на циферблате и заглянуть в твою жизнь…
Ну, будь.
* * *
Здравствуй!
Лучший стимул для ударного труда — неудачи в личной жизни. Изучи историю любого научного открытия, и ты увидишь: человеку просто очень хотелось отвлечься от своих неурядиц. Вот и я после твоего письма снова взялся за диссертацию. Еще парочка таких писем, и я добью очередную главу. А ты — меня. Нет-нет, ты же мне ничего не обещала! У тебя своя жизнь, и, похоже, вполне счастливая. «В воскресенье всем семейством катались на лыжах. Было очень здорово». Иногда я забываю, что у тебя есть не только сын, но и муж, что рано или поздно он приезжает из командировок, тогда все катаются на лыжах, смотрят телевизор и ложатся в постель. И все это ты мне предлагаешь выкинуть из головы. Спасибо!
Ты обо всем судишь, как здоровый о больном. Так оно, собственно, и есть. Единственное, чем от тебя можно исцелиться, — как, например, лечили сумасшествие, заражая душевнобольных рожистым воспалением, — это работа. Для этого, видно, и существует больница: нырнуть в нее и забыть обо всем на свете. Забыть, как ты щуришься, когда пьешь кофе, как молча и терпеливо меня слушаешь, как выбираешь выражения, прежде чем возразить; забыть твои «в разумных пределах», «совершенно отнюдь», «ну, как вы, доктор?».
Как, как… В борьбе за повышение уровня медицинского обслуживания. Почку на колено мы, правда, не пересаживаем. Но вспомни, как тогда тебе нечем было дышать, и проникнись уважением к отоларингологам! Индусы умели делать трепанацию черепа еще две тысячи лет назад. А главный вклад современной медицины — это изобретение больничного листка. Но мы — порождение нынешнего века: без могучей оптики в ухо — горло — нос не сунься. Казалось бы, что такое трахеотомия? Рассек гортань, забировал, то бишь ввел трубку в гортань, зашил — шил — живи! На любой случай есть правила и инструкции. Не столько для помощи, сколько для страховки. Сами авторы предпочитают действовать совершенно иначе. Полковник Котя рассказывал легенду об академике Стрельцове. Однажды тому стало плохо. Сам себе поставил диагноз: аппендицит. Конечно же все московские киты наперебой предлагали свои услуги. Но Стрельцов, видно, сообразил, что такой дребеденью, как аппендикс, никто из них давно уже не занимался. Тихонько собрал чемоданчик и поехал километров за полста в какой-то райцентр. Зашел в местную больничку: мол, болит живот. Взяли его на стол, сделали. Через неделю выписался в полном порядке. На прощанье спросил хирурга, который его оперировал, не нужно ли чего. Тот на всякий случай сказал: «Хорошо бы листов пять шифера, течет потолок над палатой… Да куда вам, дедушка…» Уехал, все о нем забыли, и вдруг прибывает целая машина шифера! А хирургу персональный подарок: коробка сигар с визитной карточкой академика. Парень взглянул на визитку и схватился за голову: «Это же тот самый — «резекция по Стрельцову»!» Поднялся шум, в больничку отовсюду хлынули больные. Через год он был уже главным врачом района. Не попадись ему академик, сколько бы еще больница стояла с прохудившейся крышей? И где взять столько академиков и других Робин Гудов, чтобы они всех и всем обеспечили?
Иногда задумываюсь: стоит ли об этом долдонить? Ведь медицина должна внушать уважение. Посвящать в наши внутренние противоречия посторонних — не кощунство ли это? Но сколько же можно загонять внутрь болезни медицины! Зря, что ли, сейчас так потянулись люди к экстрасенсам, к голоданию, лекарственным травам, — все что угодно, лишь бы не поликлиника, не больница!
Вот я и отвлекся от тебя. Кончится тем, что вместо писем я стану вести дневник. Все равно, кроме меня, это никому не нужно.
Целую.
С.
* * *
Поздравь: я женюсь!
Мама уже давно пыталась устроить мое семейное счастье, и вот, наконец, найдена подходящая кандидатура. Девушка обильная и могучая — скульптура Мухиной по эскизам Рубенса. Расчет ясный: такая от мужа не сбежит!
Мамины соображения не столь уж странны. Однажды я уже состоял в браке. Целых три недели.
Наше супружество было на редкость гармоничным: оба сразу почувствовали, что надо срочно разбегаться.
Это случилось еще на втором курсе, поэтому мне пришлось переводиться сюда. Видишь, все к лучшему: в тот город ты бы не приехала в командировку, а если бы приехала, то к тому времени я был бы уже отцом двух девочек. Как утверждает моя бывшая половина, они чем-то смахивают на меня, к вящей досаде их настоящего отца.
Сейчас все было продумано с поправкой на прошлый опыт. Невеста спокойная. Хорошо готовит. И чуть ли не шьет. Преподает в школе. Чтобы я не комплексовал из-за своей ноги, у нее тоже есть изъян: она слегка косит. Жениться бы мне, Ванда, на ней, жить бы в мире и довольстве и умереть в тихий июльский полдень, оплаканным многочисленными хромыми и косыми внуками…
Наши билеты оказались как бы случайно в центре ряда — чтобы я посреди сеанса не сбежал. Жалко маму. Когда она осталась одна, вся ее энергия переключилась с отца на меня. Комнатка у нее крохотная, но целый шкаф отведен под вещи отца. Всё, как было при нем. Даже коробка со старыми бритвенными лезвиями, на пакетиках рукой отца поставлены дни, когда он брился — чтобы не пользоваться лезвием больше трех раз. Я иногда перебираю их, как календарь: с едва уловимым запахом когдатошнего мыла, одеколона, лекарств. Как сказал бы Воннегут, это было тысячу лезвий назад. Жалко отца. Маму жалко. И девицу тоже жалко. Это даже не «Служба знакомств», где заранее знаешь, на что идешь. «Женщина 59 лет, с еще сохранившейся фигурой надеется на взаимность порядочного мужчины», «Хочу найти счастье с девушкой, которая разделяла бы мои интересы (туризм, классическая музыка, живопись), рост не выше 160 см, жилплощадь желательна»…
А не дать ли и мне объявление? Вдруг ты прочтешь и… Итак: «Врач, 29 лет, рост и зарплата средние, образование высшее, одна нога короче другой на шесть сантиметров. Жилплощадью обеспечен (пока хозяин квартиры не вернется из Алжира). Верю в любовь с первой операции. Хочу найти Ту, Которая…» — дальше смотрись в зеркало.
Что же касается мадмуазель Рубенс-Мухиной, то мы разошлись красиво. Чтобы не обидеть маму, которая специально приехала сюда из Винницы и затратила колоссальные усилия на подготовку рандеву, я продержался положенные полтора часа и был отменно вежлив. Надеюсь, девушка осталась довольна всем, кроме конечного результата. На работе я прослыл сексуальным гангстером. Когда провожал несостоявшуюся суженую из кино, навстречу попалась (зачеркнуто) одна наша сестрица с подружкой. И теперь в отделении ходят легенды о том, что я завлекаю в свои тенета исключительно великанш.
Если я уже распалил твою ревность, то позвольте откланяться.
С.
* * *
Привет, мой свет!
Начал с числа и запнулся: какое сегодня? Завести бы собственный календарь. Начало летосчисления — день нашего знакомства. Вторая среда седьмого месяца Эры Ванды. Помечу день красным крестиком: письмо, и какое! Кроме обычной сводки погоды и краткой информации о происках шефа (по-моему, он добился своего: вместе с ним ты возненавидела и этот проект) проскальзывают неслыханно ласковые интонации. Международные обозреватели особенно выделяют то место, где сказано: «Смешно, но я, кажется, соскучиваюсь по тебе». Действительно, смешно: ты — и скучаешь! По мне! Правда, ты тут же сдаешь назад: дескать, в плохую погоду у тебя всегда одинокое настроение, потому как падает давление. Нетушки, о самочувствии да судят врачи — пусть и неправильно! Другая версия, запасной аэродром твоей девичьей гордости: «Иногда так тошно, я готова куда угодно, лишь бы развеяться». И дальше совсем уже неслыханное: «Пиши, не обращай внимания на мое молчание и капризы. Правда, мне немного совестно, что ты тратишь столько времени и шуток на эти письма, а не на какое-нибудь эссе или диссертацию».
Не переживай: это выходит автоматически. В детстве подшучивал над собой, чтобы этого не делали другие, а потом втянулся. В институте затеял студенческий театр «Шприц». На сцену, конечно, не выходил, зато сочинил двух постоянных персонажей: «Доктор Отто Ларинголог» и «Доктор Урхо Горлонос». Потом «Шприц» наш вдруг заткнули. Я бросил шуточки и ударился в медицину. А теперь еще и в тебя. Что, в сущности, одно и то же. То ли Паша, то ли Шодерло де Лакло подметил: любовь, как и медицина, есть всего лишь искусство помогать природе. Тоже мне помощь! Тебе я морочу голову больницей, в больнице балдею от всего, что напоминает о тебе, а если воспоминаний не хватает, я их сочиняю. А что делать? Воспоминания — это консервированные надежды. Ты стала моим пунктиком, вернее, пунктом. Решил увековечить твое имя в шепотной пробе — есть такой тест для послеоперационных больных. Рискуешь войти в историю медицины!
О «Шприце» же и своем прежнем амплуа вспоминаю лишь когда приходит профессор Новожилов и просит «набросать канву». Значит, приближается юбилей кого-то из членов ученого совета. Новожилов рассказывает мне некоторые пикантные подробности о жизненном пути юбиляра, я пишу поздравление, оно же тост, он же выпад в прозе или стихах. Выступи Новожилов (не говоря уж обо мне) с таким текстом на заседании ученого совета, нажил бы уйму врагов. А на сабантуе — сходит! Привычка как бы резать правду-матку без наркоза снискала Новожилову репутацию прямодушного человека. По свидетельству очевидцев, эти тосты с подковырками придают банкетам дух этакого бесшабашного товарищества. Особенно я веселюсь, когда на следующий день в кулуарах мне пересказывают мои остроты в перевранном виде. Иногда мое авторское самолюбие ерепенится, но я напоминаю ему, что Новожилов — правая рука ректора, и когда моя диссертация, наконец, созреет…
Где проходит граница между компромиссом и конформизмом? Наивность вопроса не предполагает ответа. Нехватка решимости, занятость делами или детьми — каждый попадается на своем. И любому, даже самому ершистому, находится свое место в общем круге, и его постепенно переваривает система здравоохранения. Вернее, он сам себя переваривает — уже как часть этой системы. Иногда я завидую Надюшке: она умеет полностью соответствовать ситуации. Совершенно искренне полюбить человека, который ей необходим в данный момент. И, что особенно ценно, она верит в то, что обхаживает его вовсе не потому, что ей от него что-то нужно, — так ей велит сердце. Нет лучше ее выступальщика на собрании, когда нужно что-нибудь заклеймить или, наоборот, выступить с почином, о котором ей сообщили за десять минут до собрания. Посмотришь — иногда хочется плюнуть на все и тоже раствориться, притвориться, лишь бы не мешали заниматься делом.
Хорошо, что под боком Паша. Вот уж кто не ждет тезоименитств, чтобы высказаться начистоту! Его стараются не задевать, и не только потому, что он прекрасный проктолог. Все знают: заявление об уходе у него всегда в кармане. Это его принцип, он уже как-то прибегал к нему. Там, правда, речь шла о каких-то публикациях: готовил их Паша, а тиснул его шеф. Но вот смог ли бы он действительно бросить своих больных и уйти, скажем, просто в науку, этого и сам Паша, по-моему, не знает до конца. Однажды прошел слух, будто его хотят снять. Он сцепился с заведующим облздравом: тот хотел урезать половину проктологических коек, чтобы открыть отделение для своего зятя. Мигом собралась целая делегация бывших Пашиных больных и двинула в министерство. Не знаю, что они делали в столице, но у нас тотчас всё отыграли назад, Да так резво, что Паше немедля вручили вымпел «Лучший по профессии» (а их-то, проктологов, в городе всего трое!). Надо было видеть, как он стоял, здоровенный такой, с оттопыренной верхней губой, точь-в-точь Пашка-меньший, только увеличенный раза в три, и с усами щеткой. Стоял, улыбался вовсю. Боец!
А через месяц, когда Паша собрался по путевке в Югославию, его кандидатуру задробили. Очень удобно: не надо приводить никаких доводов. Нет — и вся любовь! Когда мы узнали, что это Надюшкина работа (решила угодить начальству), было уже поздно. Только соли насыпать на хвост. И насыпали! Мы вспомнили о Надюшкиной страсти к публичным выступлениям: за полчаса трепа ей платят, как нам за три дня. Нашли бывшего преподавателя медучилища, который нынче коротал время, слушая судебные заседания. Объяснили: лекция считается слабой, если по окончании никто не задает вопросов. Он и стал задавать. Как только ведущий благодарит Надюшку за содержательное выступление и для порядка спрашивает: «У кого вопросы?», поднимается наш старичок. Он задает один вопросик, простенький, ситцевый такой, после чего уважаемый лектор съеживается и покрывается пятнами. Через неделю она отказалась выступать. Тут же на нас с Пашей пошла телега, будто мы извели казенный спирт. Вроде она сама не угощалась Пашиной «вурдалаковкой»! В общем, повеселились…
С моей помощью ты уже получила среднее медицинское образование. Кстати, из тебя получился бы прекрасный врач. Простым наложением рук на больное место ты можешь возвращать людей к трудовой деятельности. Не говоря уж о таком мощном лечебном средстве, как поцелуи. Жаль, что это не распространяется на саму себя.
Пока.
С.
* * *
Министру писчебумажной промышленности.
Копия: тебе.
Уважаемый товарищ министр!
Ваша промышленность выпускает писчую бумагу небольшого размера. Это доставляет мне много неприятностей. На этой бумаге одна женщина пишет мне письма, которых я жду с большим нетерпением. И каждый раз бываю разочарован: никаких нежных слов в ее письмах нет!
В чем дело? Она пишет лишь до тех пор, пока перо само скользит по бумаге. Закончился лист — она закругляется.
— Пусть возьмет еще один лист, — резонно заметите Вы.
Согласен. Но, поверьте, гораздо легче перестроить писчебумажную промышленность, чем ее психологию. Догадались, куда я клоню? Нужно постепенно (иначе она догадается о нашем с Вами сговоре!) удлинять листы писчей бумаги. Тогда «милый», «целую», «соскучилась» и прочие слова, которых я сейчас тщетно жду, найдут, наконец, место в ее письмах.
Не хмурьтесь, уважаемый министр, и не перемножайте тонны бумаги на гектары леса. Речь идет всего-навсего об одном, от силы — двух письмах в месяц. В масштабах Вашей отрасли это пустяк, для меня же… Надо ли продолжать?
Остаюсь в надежде на Ваше понимание. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь при посадке деревьев, лесоповале и т. д. Только бы она написала: «Родной, приезжай!»
С уважением
А. Красовский
* * *
Тут автору захотелось поставить точку.
Не потому, что повествование исчерпано. Напротив, сюжет почти не разворачивался, и это начинало раздражать. («О, расскажи мне, что же происходит, когда не происходит ничего?») В предисловии автор оговорил право героев на собственную жизнь внутри истории, которую он придумал. И ожидал от доктора Красовского легкомыслия, своеволия, наконец, глупостей, так свойственных влюбленным. Но получалось, что главного героя словно интересует лишь одно: вздохи и медицинские истории. Будто его письма адресованы не любимой женщине, а — поверх ее головы — кому-то третьему.
Гейне иронизировал над мадам де Сталь, которая, создавая очередной роман, смотрела одним глазом в рукопись, а другим — на читателя. Что же в таком случае сказать о враче, превратившем историю своей любви в историю болезни? А эти нескончаемые сетования на несовершенство системы здравоохранения, на конформизм! Но ведь известно: нападки на него — всего лишь разновидность конформизма. Вправе ли такой герой обличать других? Да и сколько можно скулить, стонать, причитать по каждому поводу! Что это за мужик такой хнычущий, что за тряпка? Автору начало казаться, что в переживаниях Красовского проглядывает нечто мазохистское: отними у него эти страдания, и ему, вероятно, нечем будет жить. Может, незачем?
Убить главного героя — это значило бы объявить мат самому себе. А что, если свести дело к вечному шаху? Так возник вариант скоропостижной развязки.
Допустим, доктор Красовский неожиданно узнает: муж Ванды попал в автомобильную аварию и находится в реанимации. Красовский шлет одну телеграмму за другой — ответа нет. Он прилетает в Усть-Рыбинск — Ванда не хочет его видеть. Он возвращается домой. А через какое-то время уже навещает новую послеоперационную больную. По странному совпадению, они начинают с ней переписываться на бумажных салфетках…
Соорудив эту концовку, автор отошел несколько в сторону и, склонив набок голову, полюбовался симметрией своего творения. Слева дверь и справа дверь, с каждой стороны от входа по три одинаковых колонны и лепной трилистник с дремлющим на нем голубем… Гармония вдруг показалась ему нарочитой, более того, насильственной. Во внезапных развязках — в катастрофах, самоубийствах, убийствах — есть нечто вынужденное: уж слишком они облегчают выход из тупика.
Не без сожаления автор расстался с версией «Авария». И предоставил своим героям выпутываться из затруднений вполне обычными способами. Покидая их, задумался: знают ли действующие лица о его вмешательстве? Не остается ли у них потом какого-то смутного ощущения, как после операции под общим наркозом? Не успев додумать, автор закрыл за собой страницу, как потайную дверь в стене. Был, кажется, вечер.
* * *
Здравствуй, Ванда!
Сейчас, кажется, вечер. Голова гудит, как после наркоза. Наверно, переработался. Вот и Новый год. Можешь представить, что со мной сделалось, когда я получил твою телеграмму! Мало того, что «целую», так еще и «давай будем счастливы». Умом понимаю: это первые попавшиеся слова, которые приличествовали цветному бланку серии Е-6. Но где, скажи, взять этот ум, когда так хочется быть счастливым?!
В поисках счастья отправился к морю. При мне были плавки, друг Паша и шампанское. Ежась и проклиная свою романтичность, я нырнул и с воплем выскочил. Паша растер меня, мы грянули шампанского. Было ровно три часа пополудни — у вас полночь. Я посмотрел в сторону востока и телепатировал что-то столь лирическое, что почтальонша, которая дней через пять доставит тебе телепатограмму, вся искраснеется от смущения.
Ванда. Ванда! Мне привиделась ты возле елки в длинном и голом платье новогоднего цвета, под ногами крутился Серый, твои волосы взлетали и падали в такт «Бони М», и все в тебе ходило ходуном, и все было — радость и счастье…
Но тут друг Паша упаковал меня в пальто, отвез к себе, накормил обедом и отправил на дежурство. Как человек, не обремененный семьей, я дежурю во все выходные и праздники. (Вот еще одна причина, по которой мама хочет меня оженить: «Сколько они будут на тебе ездить?!») На этот раз я поехал сам на себе. Для компании я сейчас человек пропащий. Никуда меня так не тянет, как на почту: все-таки есть надежда получить от тебя письмо.
А вообще-то дежурить в праздник радости мало. За сутки больше ЧП, чем за целый месяц. Потом еще долго тянется шлейф от перепоя и пережора: холециститы, панкреатиты, желудочные кровотечения. Затем пойдут аборты от пьяных зачатий, новорожденные алкогольные дебилы (французы называют их «дети воскресенья»). Какой бы термин они придумали для типа, который под Новый год хряпнул стакан ацетона? Лежит сейчас в реанимации, от перегара лампочки лопаются! Остальные палаты полупусты: все, кого ноги носят, на праздники выписались домой. Лежачих я торжественно обошел с поздравлениями и подарками. Елка получилась классная: родственники больных принесли украшения, мы купили воздушные шарики и резиновые надувные игрушки. Они не только для праздника. Когда старики долго лежат в больнице, у них падает тонус, вентиляция легких — ни к черту. Мы заставляем больных тренироваться, надувая игрушки и шарики. Один такой старичок лежит у окна. Ссохшийся, вернее, совсем усохший. Чтобы сесть, он берется за скрученное жгутом полотенце, которое привязано к спинке койки, и медленно-медленно приподнимается. С него я и начал поздравления. Он слушал-слушал, а потом спросил: «Доктор, когда деньги будут давать?» И заснул.
Вопреки учебникам географии, Новый год приходит сперва не к вам, в Усть-Рыбинск, а сюда, в больницу. Здесь его ждут совсем по-детски, даже те, кто знает, что ждать им уже нечего. В белых повязках, как в жабо, они сидят вокруг елки, тихие и торжественные. Представляешь, каким бодрым голосом нужно читать новогодние поздравления, чтобы отвлечь их от самих себя? Каждый получил рецепт с пожеланиями на русско-латинском языке (известно, что лекарства с заграничными названиями действуют быстрее). В общем, дедморозил как мог. Посох мой был из костыля, обмотанного серпантином, а борода из парика, который пожертвовала одна пациентка, она же вызвалась быть Снегурочкой.
Ну и тетка, доложу я тебе! Ее знают во всех наших больницах: чуть не каждый месяц Снегурочку привозит «скорая». Года два назад ее еле спасли: перитонит. Видно, ей так понравилось возвращаться к жизни и быть в центре внимания, что с тех пор она время от времени устраивает себе (и нам) какой-нибудь переполох. На этот раз Снегурочка наглоталась гипса с барием. Непроходимость кишечника. Целую неделю Паша выдирал из нее по кусочкам этот гипс, а она стонала и кайфовала. Когда он, наконец, привел ее в божеский вид и сказал, что завтра выпишет, Снегурочка тут же снова съела еще какую-то дрянь — ожог пищевода! Пашка, змей, утверждает, что это его новогодний сюрприз для меня! Ее болезнь называется, кажется, пантомимией. Да болезнь ли? Стала бы Снегурочка так рваться в больницу, если бы дома ее кто-нибудь хоть ждал! Наверное, она единственный человек в отделении, который сегодня счастлив, несмотря ни на что. Порхает — ползком! — кокетничает, страстно сипит: «Вы меня чувствуете, доктор?» Берегись конкуренции, Ванда! Соседки по палате ее любят: готова услужить всем, даром что сама еле дышит. А нынче акции Снегурочки особенно выросли. В предчувствии международного симпозиума у нас введен драконовский пропускной режим: в день к больному пускают лишь одного посетителя. Снегурочка, которую никто не навещает, охотно уступает всем свой пропуск. Взамен нужно, чтобы кто-нибудь послушал ее рассказы о прошлой жизни, которой, может, вовсе и не было. Все ее жалеют и поэтому закармливают наперебой, хотя сейчас ей почти ничего нельзя. Не жратва, а как бы жертва, приносимая на алтарь болезни. Снегурочка необходима больнице ничуть не меньше, чем ей больница. У нее здесь есть персональный подоконник. В любую погоду Снегурочка после обеда распахивает окно, насыпает крошки и кричит: «Федя! Фима!» Слетается туча голубей, Снегурочка воркует с ними. Начальство пыталось было шугануть пернатых (токсоплазмоз, клещи!). Снегурочка пообещала главврачу, что тут же выбросится из окна, и птиц оставили в покое.
Благодаря Снегурочке я узнал, что наступает год обезьяны. Поэтому в новогоднюю ночь надо иметь что-нибудь красное и никаких золотых украшений. Ты бы видела, как старательно она собирала у больных кольца и цепочки, а взамен выдавала им красные лоскутки!
(Прости — звонят из приемного покоя.)
Ничего особенного: очередной «грек». Если привозят побитого пьяного, его кладут в специальном закутке приемного покоя — «в греческом зале». Когда «грек» немного очухается, его можно осмотреть и привести в порядок. Моему кто-то расплющил нос. Судя по его лапищам, он в долгу не остался. Даже меня пытался шваркнуть. Несмотря на это, я аккуратно промыл и зашил все, что оставалось от его носа, потом пошел по другим отделениям.
Помнишь ли ты наш больничный двор, кошек на заборе (надпись «Спартак» уже стерлась), кирпичи, сваленные у стены? Так и лежат. Нашу больницу легче, наверно, снести и на ее месте построить новую, чем латать и перелатывать каждый год. Но если она исчезнет, я буду жалеть о ней. Тумбочки с квадратиками рафинада и влажными следами чашек на зеленой клеенке, «свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой», палаты, разграфленные лунным светом, старинные гравюры в профессорском кабинете: черти в аду оперируют эскулапов вилами; синие бесконечные коридоры, подванивающие мочой, тени в байковых халатах, огоньки сигарет на лестнице, студенты, осторожно подходящие к больному, больные, подозрительно косящиеся на их неумелые, угловатые движения: «Ничего, научатся»; настойчивая вязь «Минздрав — Минздрав — Минздрав» на пододеяльниках; старый сад, платаны, у которых дупла запломбированы, как зубы; в столе у сестры-хозяйки груда алюминиевых ложек с открученными черенками (из них больные делают отмычки, чтоб удирать на ночь). Как это поется: «Не каркай, ворона, не каркай, мне рано еще умирать, я ночью пойду с санитаркой в зеленую рощу гулять…»
Гулкий кашель бессонницы, женщины, поддерживающие руками животы, парикмахер дядя Яша, который точно предскажет, кто идет на поправку, а кого он сегодня бреет в последний раз; травматология, где среди застывших в гипсе рук и ног висит под потолком телевизор, с экрана улыбаются хорошенькие мелкозубые дикторши, а элегантные прибалтийские актеры красиво стреляют друг друга или делают вид, будто они биржевые маклеры, но здесь веришь и этому: боль — лучший источник веры, боли нужно во что-то уткнуться, забыться, спрятаться, как испуганному ребенку; слышится топоток профессорского обхода, скрипит старый паркет, весь в зигзагах от кроватных колесиков; суета предоперационной, живая ткань, мягко расступающаяся под скальпелем, гной из ушей; глаза, в которые стараешься не смотреть, а они ловят, ловят твой взгляд; осунувшиеся за ночь жены цепко следят за руками медсестры, которая берет добытую с таким трудом ими, женами, ампулу: не разлила бы, не украла… И, наконец, минута, когда из операционной выезжает каталка с больным. «Доктор…» — «Все в порядке». И оно действительно в порядке, иногда хочется даже самому оглохнуть, чтобы понять, что это такое — вдруг снова начать слышать! Вечер, операционную облучают кварцем, моют для новых больных, и все надо начинать сначала. «Я встану, воспряну и воздух вдохну, как вино. Забуду, что больше не встану, забуду, что умер давно…»
Вернемся к нашим праздникам. В полночь все, кто был свободен, на минутку собрались в ординаторской. Вечно озабоченный ургентный хирург Илюша Хаис, моя операционная сестра Лера, рентгенолог Алифанов, смахивающий на детектива в своих неизменных черных очках — чтобы глаза сразу привыкли к темноте рентгенкабинета, уже слегка отпраздновавший Заремба из реанимации, плотоядно потирающий волосатые ручищи, которые торчат из рукавов застиранного зеленого халата. Чуток посидели, и я спустился к Зарембе.
У реаниматологов комплекс неполноценности: больные к ним попадают без сознания и не знают своих спасителей, поэтому впоследствии не делают никаких попыток их уважить. Заремба тащит больного с того света, но стоит пациенту прийти в себя, как его сразу же переводят в обычное отделение. А если кто и запоминает реаниматологов, то предпочитает поскорее забыть: кому охота вспоминать, что побывал на том свете?
На этот раз у них было довольно тихо, только в углу шелестели искусственные легкие. Там лежал человек после автомобильной аварии. Он уже вторые сутки без сознания. И, похоже, навсегда. Машины столкнулись неподалеку от десятой больницы, но там не захотели его принять: не их дежурство. Плюс нежелание портить лишним мертвецом свою отчетность. Пока его привезли к нам — остановка сердца, клиническая смерть. Успели поставить на искусственное дыхание, но уже началась декортикация (это когда отмирает кора больших полушарий). Стоит мозгу пять-шесть минут остаться без кислорода, и человек уже не сможет двигаться, говорить, понимать окружающих. Если регулярно делать питательные уколы, переворачивать его и обтирать, чтобы не было пролежней, то проживет еще несколько недель, а то и лет. Вечная жизнь. Клиническая жизнь.
Но и здесь, как в настоящей жизни, от трагедии до водевиля всего шаг. Помню одного такого же, после катастрофы, держали в реанимации месяца полтора, почти без всяких шансов, скорее, как наглядное пособие для студентов. Вроде большой, почти в человеческий рост, куклы Анны, у которой тело сделано из упругого пластика: если реанимацию проводят правильно, в жизненно важных точках зажигаются лампочки. А он взял и ожил! Вся больница бегала смотреть на него. Некоторые участки мозга, правда, так и не восстановились, но все-таки человек стал ходить и говорить. Наконец, его выписали и привезли к семье. Заремба объяснил его жене, что тот уже умеет делать, а чему его не удалось научить заново, например, таблице умножения. А жена смеется: «Та вин зроду ее не знав! Тильки три класса закинчив…»
Тот хоть и старик, а все же выкарабкался. Этому всего лет сорок, но — вряд ли. Говорят, прикрыл своей машиной автобус с детьми от КРАЗа с пьяным водителем. Жена ходит под окнами, еще на что-то надеется. Да и как не надеяться? С виду он совсем как живой: сердце бьется, грудь поднимается и опускается. Но энцефалограф тянет безнадежно ровную линию. Социальный мертвец. Стоит выключить аппарат, который дышит за него, и конец, но как решиться на это?
Тяжко работать в больнице, Ванда! Когда-то врач был посредником между больным и богом. Теперь бога нет, и даже заведомо безнадежного больного некому препоручить, разве что другому врачу. Нет больше и простых болезней. Гипертония, так на фоне астмы, диабет — и вдобавок аллергия. Чему удивляться: появились миллионы новых химических веществ, и неизвестно, как они повлияют на все живое. Чтобы разобраться в этом коктейле, нужно быть гением интуиции, как полковник Котя, или опираться на точную науку. Надоело уже который год читать про диагностические компьютеры, которые вот-вот появятся чуть не в каждой амбулатории. Толстые привидения страшнее худых, говорил Гейне.
Мы с Зарембой перекусили, и я пошел к себе. А потом как началось! Стеноз гортани, кровотечение, драка, ожог (от елки вспыхнуло марлевое платье), еще одно автодорожное происшествие — женщина так спешила, что налетела на трамвай (первые ее слова, когда пришла в себя, были: «Майонез не разбился?»). Человек выпал с балкона гостиницы, отравление грибами. Город веселится. А я до утра бегал из отделения в отделение. Минутки не было, чтобы спокойно посидеть и подумать о тебе.
После дежурства пошел к Паше, все равно скоро опять заступать на смену. Его жена меня недолюбливает, как и всё, что отрывает Пашу от дома. Прекрасная женщина, но желание всегда быть правой во всем портит жизнь и ей, и домашним. Она постоянно кого-нибудь воспитывает, а Паше воспитателей хватает и на работе. То и дело они ссорятся, но стоит жене или Пашке-малому приболеть, как в доме наступает мир и благодать.
Для урегулирования обстановки я как-то предложил Паше культивировать дома какую-нибудь не слишком опасную болезнь. Он отказался: мол, от частого употребления это средство потеряет свою умиротворяющую силу. Сошлись на том, что жизнь — штука сложная. У тебя был уже вечер. Дома я поднес Азазелло стопарь валерьянки и повязал ему красный бантик на хвостище. Гулять так гулять!
P. S. Тип, который выпил ацетон, под утро очухался и удрал через окно. Наверно, боялся, что допьют без него.
P. P. S. Целую тебя — первый раз в Новом году!
* * *
Вандочка, здравствуй!
Пока у меня не было тебя, я не боялся войны. Вернее, не думал о ней. Нет ее — хорошо, начнется — куда денешься? Но вчера посмотрел по телевизору про очередные испытания: мороз по коже!
Понимаю женщин, которые, если страсти очень уж накаляются, говорят: «Ничего, лишь бы не было войны!»
Мы заложники друг у друга и у всего мира.
Но я знаю массу людей, которые вспоминают войну чуть ли не с ностальгическим вздохом. Мой отец (он тогда был военным врачом) рассказывал, что на фронте ему ни разу не попался человек с язвой желудка или инфарктом.
Когда отец демобилизовался и начал оперировать в обычной больнице, он совершенно не помнил, как выглядит даже банальный аппендицит. Видно, на фоне смертельных опасностей и стрессов организму было не до таких мелочей. Опасность прошла, и они вылезли из своих нор. Но нельзя же всегда воевать ради здоровья!
Сегодня воскресенье, наверно, вы с Серым опять сидите под ореховым деревом возле дома или гуляете по берегу вашего незамерзающего озера и кидаете камешки в воду. Ты так здорово это описала, что я теперь иначе, как в этом виде, не могу тебя представить. Вру, конечно: представляю тебя в (зачеркнуто). Тронусь на этой почве, увидишь! Ладно. Ты уже дала понять, как тебе неприятна эта тема.
Мне нравится, как ты воспитываешь Серого: без особых нежностей. В детстве мне все запрещалось, чтобы не повредить моему хилому здоровью. Поздний ребенок, да еще с таким дефектом — родителей можно понять. Это я сейчас так рассуждаю, а тогда меня бесило, как они трясутся надо мной. Помню, лет четырех от роду я шлепнулся с дивана и заревел. Через пять минут уже забыл об этом. Вечером зашел в комнату, а бабушка скатывается с моего диванчика раз, другой, третий… Проверяла, очень ли мне было больно. И ночью то и дело заходила послушать, дышу ли я.
Ты так, наверно, подходишь к Серому. А я бы подходил к тебе. Не закрывай сегодня форточку, ага?
Целую.
Твой Саша
* * *
Т е л е г р а м м а
Поздравляю именинником мысленно деру за уши обоих желаю исполнения половины желаний чтобы еще осталось на следующие именины скучаю желаю обнимаю — неизвестный доброжелатель Красовский.
* * *
(На картонной коробке детской Железной дороги.)
Сережа! Рельсы можно уложить так, чтобы они протянулись прямо от Усть-Рыбинска и сюда. Попробуй. Получится — приезжай. На всякий случай я выйду вас встречать. Ты меня легко узнаешь: у меня в руке будет красный флажок, а под мышкой — вокзал. Когда вокруг нет пассажиров и поездов, я тоже не прочь поиграть с этим конструктором. Особенно мне нравится, когда два поезда идут рядом и машинисты могут на ходу покалякать о том о сем.
Дядя Саша
* * *
(Черновик письма.)
Ванда, ты сошла с ума!
Чего ты от меня хочешь? Чтобы я не писал? Сгинул? Неужто тебя могла обидеть моя поздравительная телеграмма? Как я посмел обратиться к твоему ребенку! «Угомонись», «думай не только о себе», «ты становишься невыносимым». Отчитываешь меня, как чужого, враждебного человека. К черту! Тебе нужно поставить меня на место — зачем? Чтобы лишний раз показать, как мало я значу для тебя? Ведьма ты, вот и все. И дура.
* * *
Ты хочешь, чтобы я вовсе не писал? Или посылал тебе краткую сводку новостей, как и подобает далекому другу? Хватит с меня этих игр, Ванда! Всякий раз, когда я позволю себе выйти за рамки традиционного трепа, хотя бы чуть-чуть сказать о (зачеркнуто), ты бьешь меня, да еще по самому больному? Не хочешь понять, что я (зачеркнуто), мы с тобой (зачеркнуто), каждая женщина (зачеркнуто), а я все бьюсь и бьюсь, а ты невозмутимо, будто пепел стряхиваешь, осаживаешь меня: «Угомонись, пожалуйста!» Сколько случайностей понадобилось, чтобы мы встретились! Твоя неожиданная командировка, отложенный до утра рейс, холодное течение, которое пришло как раз в ту ночь, когда ты решила напоследок окунуться в море, дежурство, которым я случайно поменялся с Надюшкой, — и ведь не хотел, а она меня уговаривала! — наконец, операция. Все это теперь ни к чему? Я тебе уже надоел? Или ты хочешь обратить все в чинный почтовый роман, от сих и до сих?
Пока.
С.
* * *
Здравствуй-здравствуй! Наконец-то нормальное письмо.
Судя по твоему описанию, у Серого ничего страшного нет. Глупо ставить заочный диагноз, но я думаю, что твой участковый врач заканчивал институт, когда шла очередная кампания против миндалин. На моей памяти их уже несколько раз объявляли то губителями детей, то, наоборот, «естественными преградами на пути микробов». Как и все подобные кампании, эта основана больше на конъюнктуре, чем на точном знании. Нужно иметь мужество не суетиться, верно? Не уподобляйся Форду. Одно время его фирма не брала на работу тех, у кого не были удалены миндалины. Мол, от этого ангины, ревмокардиты, пропуски работы, лишние выплаты больничных пособий. Не такая уж беспросветная дура эта Природа, чтобы одергивать ее на каждом шагу! Что касается детских врачей, то они бывают одолеваемы страстью избавить ребенка сразу от всех болезней, которые и так прошли бы. Дать бы организму дозреть, а там он уже сам разберется, что к чему.
Черт! Только сейчас сообразил, какой козырь я дал тебе этой историей. Это же иллюстрация к твоему излюбленному тезису: «Не надо торопить!» Ты пускаешь его в ход, едва лишь я полезу к тебе с робкими попытками выяснить отношения. Может, ты и права.
А с миндалинами повремени лет до двенадцати, если Серый не будет температурить, и не мешай ему плескаться в холодной воде. А мне — объясняться тебе в любви. Увидишь, какими здоровыми и счастливыми станем мы все.
Целую. Лично твой
Александр
* * *
Родная моя Вандушка!
Прости, что долго не писал. Наверное, дня три. Извиняться надо бы перед самим собой: мне больше хочется писать письма, чем тебе их получать. Опять будешь иронизировать над моим многословием. Сама виновата! Вместо того, чтобы ткнуться носом в твою шею, туда, где под бусами спрятались крохотные родинки, я вынужден на десяти страницах описывать, как мне было бы хорошо при этом. После такого письма я чувствую себя человеком, которого лечат по методике одного шведского профессора. Людям, страдавшим ожирением, он вшивал в желудок баллон с воздухом. Подкачали в баллон воздуха, и ты вроде сыт.
Одно спасение: работы — выше головы. Полковник Котя приболел, а тут, как на грех, один за другим пошли тяжелые случаи. Вчера особенно намаялся. Только размылся из операционной, приходит человек с большим-пребольшим носом и толстой-претолстой женой. Жалуется на странное затемнение в бронхах. Они сунулись было к Надежде, но та сразу смекнула, что возни будет много, а толку мало, и отпасовала их мне. Миндалины и прочие простенькие штучки придуманы природой специально для нашей Надьки. Когда в конце квартала начинают подсчитывать проценты, у Надежды всегда полный ажур: смертности почти нет, койкооборачиваемость идеальная, в общем, полный Париж! Начальство обожает ее за бесчисленные инициативы и образцовое ведение документации. Как-то: «Журнал бесед с родственниками больных», «Журнал передачи ключей от сейфа», «Журнал учета поздней госпитализации» и прочая. В историю болезни она аккуратно вклеивает этикетки от всех лекарств, которые получает больной. Мол, для контроля за тем, не ушли ли медикаменты «налево». Как будто нельзя вклеить этикетки, а ампулы с дефицитным лекарством продать втридорога. Эта канитель отнимает массу времени, но к нам уже ездят за передовым опытом. Зато как довольна Надюшка! Поручик Киже, дослужившийся до полковника…
О чем я? А — Человек-Нос! У него диагностировали астму, долго лечили ее, пока на профосмотре кто-то не разглядел подозрительный кругляш. Мадам Нос торопила — им дорог каждый день: супруга временно отстранили от работы, — мол, вдруг это туберкулез, а им нужно иметь дело с продуктами. Муж согласно кивал и так шмыгал своим носовым аппаратом, что чуть не втянул меня в ноздрю. Он потомственный специалист по квасу. Уверяет, будто его дедушка варил клюквенный морс еще для Рабиндраната Тагора, когда тот приезжал в СССР. Тагор якобы умолял дедушку открыть ему секрет морса, но дедушка не мог: государственная тайна! Я долго рыскал бронхоскопом, пока не вытащил сгусток. Промыл — золотая десятка! Стал расспрашивать, откуда она, но Человек-Нос замял разговор: «Оставьте ее себе, доктор». Хорошо, говорю. Поместим в музей нашего отделения. Но сперва составим акт, все-таки золото. Мадам Нос забормотала что-то про дядю Володю, ради которого ее Коле пришлось при обыске срочно проглотить четыре монеты. Три вышли естественным путем, а четвертая исчезла. Из-за этого дядя Володя до сих пор с ними не разговаривает. Отправил их к полковнику Коте. Выздоровеет — пусть улаживает это смутное дело.
Успел написать тебе и немного соснуть. Во сне ты вопросительно смотрела на меня и курила. Пора объявить тебе табачную блокаду. Договориться с вашими магазинами, чтобы ввели эмбарго на сигареты для тебя. Хватит того, что в нашей грядущей семье уже есть один курец. Это я как бы делаю тебе предложение. А ты как бы выходи за меня. И мы будем как бы счастливы. А?
Засыпаю и целую.
Твой С.
* * *
Автор, алло!
Давеча Вы меня упрекали в том, что я больше разглагольствую, чем действую. Ладно. Обсуждать другого все горазды, но вот помочь… Ничего особенного мне от Вас не надо (да Вы бы и не дали: видимо, считаете — чем больше трудностей я преодолею, тем больше закалится мой характер…). Прошу лишь об одном: сделайте так, чтобы мы с Вандой поскорее встретились! Даже если у Вас на всех нас составлена смета, то год только начинается и средства на командировки еще не исчерпаны. За это я готов на любой выкуп, вплоть до своей полубессмертной души. Да какой Вам в ней толк, Вы не знаете, что и со своей-то делать.
Остаюсь в ожидании.
А. Красовский
* * *
Здравствуйте, автор!
Если Вы на меня окончательно не рассердились, сделайте так, чтобы они сейчас не увиделись! Я знаю, что Саня собирается куда-то поехать вместе с Вандой. Пусть не поедет! Или Вам слабо? Не знаю, что мне делать, чтобы (зачеркнуто). Да и есть ли Вы на самом деле? Но если есть, то вот Вам совет: против комаров мажьтесь не «Тайгой», а витамином «В-один». Ампулы хватает на две-три ночи. Мы с девочками случайно обнаружили: когда больному дают много витаминных инъекций, комары никогда не кусают его.
Не забудьте о моей просьбе, ладно?
До свидания.
Лера
* * *
Т е л е г р а м м а
До встречи Москве целую
Александр
* * *
Ванда!
У меня беда. Сам ее накликал. Ты единственный человек, с которым я могу (зачеркнуто). Это, конечно, не по-мужски — плакаться в жилетку, но сейчас (зачеркнуто).
Прощай. Целую тебя крепко.
Саша
(Письмо не отправлено.)
* * *
Ванда, родная!
Извини, но я не смогу выбраться в Москву. Дело в том, что девочка, которую я оперировал, умерла.
Год назад я удалял ей аденоиды, причем без наркоза. Малыши часто страдают больше от него, чем от самой операции. А тут — полчаса поплакала и заснула. На следующий день она уже бегала по отделению и загадывала всем загадки. Сегодня вдруг вспомнил одну: «На дереве висит висюкан, под деревом сидит хрюхрюкан. Висюкан упадет — хрюхрюкан подберет». Оказывается, это желудь и свинья. Я не смог отгадать, девочка так радовалась!
Сейчас, когда Лидочку привезли, она уже начала синеть. Бегала во дворе, раскусила орех, поперхнулась, закашлялась. Пока взрослые хватились, пока приехала «скорая», повезли в детскую больницу, там был неисправен бронхоскоп, оттуда к нам — уже полутруп. А тут еще я, как назло (зачеркнуто), в общем, меня не сразу нашли.
Я не узнал ее мать: тогда приезжала нарядная, ухоженная, сейчас пальто прямо на сорочку, один глаз размазан. Почему-то он мне запомнился больше всего. Остальное было как в тумане. Кинулись за анестезиологом — нет: его вызвали в хирургию на большую операцию, а второй нам не положен по штату. Пришлось делать под местным обезболиванием, а шансов и без того было кот наплакал. Всю ночь отсасывал из бронхов слизь, густую, с кровью, но она все шла и шла. Девочка так задыхалась, что невольно втягивал воздух вместо нее. Наконец, под утро раздышал ее. Выскочил в предбанник сменить маску, насквозь пропотела, вбежала ее мать, начала целовать руки, я назад, еще с полчаса все шло хорошо, потом она опять захрипела, вытянулась дугой. Часа полтора я ее держал. Однажды девочка порозовела, видно, удалось протолкнуть воздух в легкие, но (зачеркнуто). Утром она умерла. Ей было четыре с половиной года.
Первый раз в жизни не мог выйти из операционной. У дверей сидела ее мать. Раскачивалась и повторяла: «Господи, орех! Господи, орех!» Я пытался ей что-то объяснить, но полковник Котя влил в меня термос кофе и погнал в операционную. Старуха с ползучей опухолью гортани. Раньше я только ассистировал Коте в таких случаях, а самостоятельно делал впервые. Кончилось, кажется, благополучно. Потом поехал к Паше, сидели допоздна, ничего меня не брало. Все время видел перед собой глаз ее матери с размазанной тушью.
Я уже терял больных — и прямо на столе, и после операции. Но там были свои обстоятельства: запущенная болезнь, возраст. У каждого врача, а тем более у хирурга, есть собственное кладбище. Даже у такого аса, как полковник Котя. У него однажды погиб человек, который во время войны спас их семью от голода. С тех пор Котя никого из близких не оперирует. Он утешал меня, что все это издержки профессии. По каждому отделению примерно определен средний процент летальности — как усушка и утруска на складе. Я и сам говорю практикантам: «Или лечить, или сострадать». Но какое там «или — или»! Ты бы видела, как она хватала воздух, как хотела жить! Нет, лучше бы ты не видела. Я-то думал, что уже настолько свыкся с людскими страданиями, что ничего (зачеркнуто). Если бы только я сразу был на месте, когда ее привезли, а не (зачеркнуто).
Поехал на похороны. На колдобинах автобус встряхивало, из венков выпадали лепестки. До кладбища девять колдобин. На мать невозможно было смотреть. Первый ребенок у нее родился мертвым, потом было два выкидыша. Лидочка появилась без дыхания, ее едва выходили, целый год кормили из пипетки. А матери больше нельзя рожать: почки.
Кладбищенские рабочие уже хотели заколачивать гроб, но мать их оттолкнула, закричала: «Не дам! Лидочка живая, у нее теплые ручки!» Не понимала, что нагрела их своими руками. Она не плакала, только пальцы все время разглаживали ткань, которой был обшит гроб. Сзади уже напирали следующие похороны. Экскаватор рыл стандартные могилы для тех, кто умрет послезавтра. Настоящий конвейер: на одном конце мы, медики, на другом — здоровенные мордастые могильщики. Лопаты у них лоснящиеся, как и они сами, держак полированный, лезвие блестящее, сердечком. Покопают, почистят лопаты специальными скребками. Один приспособил для этого детский совочек. Потом все быстро разошлись, остался только полусумасшедший нищий. Я отдал ему все деньги, которые были при мне. Ну, и (зачеркнуто).
Пока.
С.
* * *
Моя маленькая!
Клял то себя, то все и вся вокруг. Может, будь у нас в ту ночь второй анестезиолог, девочка осталась бы жива! Если мы не властны над своей судьбой в широком смысле слова, то хотя бы в узком — в просвете гортани, в том, чтобы помочь кому-то еще немного подышать, пожить!.. Удастся, утешишься этим, потом снова шибанет… и опять закрутишься, забудешь, бегаешь, пока опять не ударит. Приходит час, и каждый вдруг ощущает на своей шкуре: до чего же она тонкая! Привозят человека с банальным аппендицитом, а двое суток спустя умер: заражение крови. Вспоминают: санитары затащили его в операционную прямо со двора на каталке с грязными колесами, много ли нужно для инфекции? У другого схватило сердце — «скорая» приехала через три часа. Не могли передать вызов, потому что не работала рация. Починить — нет техника, вернее, есть, но приличный специалист на эту мизерную ставку не пойдет, а от халтурщиков и пропойц…
Что я тебе толкую? Вспомни, когда ты ходила лечить зубы: тебе хоть раз запломбировали больше одного? Никогда! Чем больше посещений, тем на лучшем счету врач, отделение, больница. Десять раз ты будешь отпрашиваться с работы, мчаться на другой конец города, высиживать по часу в очереди, чтобы у стоматологов были выше показатели! А что делать, скажем, в травматологии? У них палаты то полным-полны, то вдруг затишье. Хоть бери кастет и выходи на улицу крушить прохожих, иначе план не выполнишь! Или реанимация: едва больной придет в себя, его спешат перевести в обычное отделение: там его содержание обходится раз в пять дешевле. Наш главврач Николай Николаевич не зря заработал прозвище «Колько-день». На каждом совещании он напоминает: «План по койко-дням!» Для отчетности в идеале надо бы так: утром человек поступает в отделение, вечером уже выписывается. Что нам стоит обмануть друг друга и старую, полуграмотную Смерть?!
Кто-то из друзей Пушкина по молдавской ссылке вспоминал о неслыханном долголетии жителей Бендер. Десятки лет там никто не умирал. Паспорта покойников мигом переходили к беглым, которыми была тогда наводнена Бессарабия. Эта вечная жизнь устраивала всех. Неужто и мы (зачеркнуто).
Я словно оправдываюсь. Нельзя, нельзя!
Но ведь люди болеют сейчас, сегодня, и где взять терпение, чтобы (зачеркнуто).
Прости. Чем у меня все хуже, тем больше я тянусь к тебе.
Целую.
С.
* * *
Ва, привет!
Спасибо за участливое письмо. Ты и здесь ухитрилась остаться честной: «Из всех мужчин, которых я не люблю (а не люблю я никого), ты самый мне близкий». Единственный шанс получить от тебя нежное письмо, это попасть в беду. Сломаю руку, напишешь: «милый», обе руки: «единственный». Когда же я, наконец, расшибусь вдребезги, ты согласишься, так и быть, стать моей женой, то бишь вдовой. Не приходило ли тебе в голову, Вандочка, что втюриться в тебя — это тоже беда? Душевная травма средней тяжести.
Что, однако, все эти переживания рядом с самым обычным отитом, от которого человек на стенку лезет… Не даны ли человеку болезни специально для того, чтобы он отвлекся от суеты и подумал о смысле жизни? Посмотри, дескать, как все прекрасно, когда у тебя ничего не болит. Тогда уж глухота — высший божий промысел: хочешь, не хочешь, а сосредоточишься на своем внутреннем мире. Может, Бетховен, Циолковский, Эдисон и другие потому-то и достигли вершин, что никто их не мог отвлечь глупыми вопросами? Это в теории. А на практике так и хочется, чтобы больной вместе с тобой заглянул в бронхоскоп, полюбовался бы, какие розовые, блестящие, красивые ткани, когда они здоровые! Чего стоит внутреннее ухо: миниатюрная работа на высшем техническом уровне! Побегал человек зимой без шапки, бухнулся в холодную воду, и — тю-тю.
Больше всего достается женщинам. Ни за что, ни про что: после родов у многих резко падает слух. Какие-то гормональные сдвиги. По иронии судьбы (или по генетической предрасположенности) отосклероз чаще всего поражает блондинок с голубыми глазами.
Хоть от этого ты застрахована!
Целую тебя.
Твой Саша
* * *
Здравствуй, родная!
Поздравляю с победой! Когда ты говорила, что собираешься стать чемпионкой по шашкам, я, конечно, всерьез это не воспринял. И вот, пожалуйста: лидер городского первенства, едешь на турнир в Москву! Надеюсь, что на этот раз судьба будет ко мне милостивее. Иначе я вытряхну из нее душу — ужасно соскучился по тебе! Хотя вообще-то скучать некогда. У нас идет международный симпозиум по кофохирургии (это отрасль, которая занимается слуховосстановительными операциями). Перед этим нашу больницу на неделю закрыли — мыли, чистили, красили. Кровати, годами стоявшие в коридоре, утащили на задний двор. Цветов — целые клумбы! В вестибюле на стене прикрепили переходящее знамя облздрава, древко — из красной люминесцентной лампы. Даже полковника Котю заставили облачиться в совершенно новый халат. Что касается Надюшки, то она-то нашла свое место в жизни: с хлебом-солью и приветственной речью. Так бы ей и стоять всегда. Только освежать хлеб. Подробности как-нибудь при встрече. Расскажу только о Чаннинге — это один из родоначальников кофохирургии. Спокойный, более того, кроткий. В его лекции много занятного, но больше всего аудиторию поразили две вещи: во-первых, ссылка на работы полковника Коти, а во-вторых, экспонаты: шестнадцать забальзамированных голов. Чаннинг придумал новую методику операции при отосклерозе и для наглядности зафиксировал на каждой и этих шестнадцати голов по этапу операции. Проще было, конечно, показать все на слайдах или пластмассовых макетах, но Чаннинг, видимо, решил: врачи — такой народ, что им нужно увидеть все в натуре. Вот удивились бы эти покойные леди и джентльмены, если бы вдруг смогли бы открыть сейчас глаза! (Кстати, не завещать ли мне свой скелет для научных надобностей? Кажется, это мой единственный шанс внести вклад в науку.)
Рядом с такими китами, как Чаннинг и наш полковник Котя, не хочется суетиться. Ты бы видела, как они стали к операционным столам и начали работать! Переводчику делать было нечего, они и так прекрасно понимали друг друга. Кроме разве что неизменных Котиных куплетов про цыган. Цыгане на этот раз носили (видимо, из уважения к гостю) трости и шпоры. Сопровождающий чуть горло не надорвал, выразительно покашливая, а Котя хоть бы хны: мурлычет и мурлычет! В этот день оперировали самых тяжелых больных. В спешке ничего не стоило запороть слуховое окно — всего-то два-три миллиметра. Я наблюдал в «шпиончик» — специальный отросток хирургического микроскопа — здорово! Чистая, правильная, я бы даже сказал, праведная работа. Одно обидно: у Чаннинга набор инструментов по спецзаказу из Швеции, а у нашего Коти тоже спецзаказ, но с завода «Центролит» (когда-то вылечил их главного инженера). Там очень старались, и все же ощущается, что основная их продукция — чугунные чушки. Котя украдкой облизнулся на шведские игрушки, гость, видно, заметил это и после операции презентовал полковнику свой наборчик. В первый раз я видел, чтобы Котя обрадовался, как пацан. Правда, он тут же отыгрался: выставил шестнадцать разных бутылок из своей коллекции — за каждый этап операции. Чаннинг оживился и пожелал поехать на птичий рынок. Сопровождающий пытался уверить его, что такого у нас нет, что сегодня там санитарный день и т. д. Поднялся маленький тихий скандал, куда-то бегали звонить, но гость настоял на своем, и мы поехали. Я обязательно тебя с Серым свожу туда. Кроме птиц там бывают старые открытки, значки, толстые, довоенные еще, пластинки — ух! Чаннингу понравился попугай, который из приличных слов знал только «Шайбу!». Оказывается, у них это сейчас самый шик. Через час попка уже клевал гостя в перстень и орал: «Ит из э тейбл!» По совету продавца попугаю тоже поднесли капельку коньяку, и он совсем раздухарился. Жаль, времени было мало, пора на самолет. Чаннинг все беспокоился за свои мертвые головы, но пересчитать их никто из нас уже не мог.
Я улучил момент и спросил, что можно было сделать в случае с той девочкой. Он сказал: «Послать цветы на могилу». Вот так. Ладно. Будь.
С.
* * *
Здравствуй!
Пока я был на операции, к нам пробивалась междугородная — так мне сказали. Уж не ты ли? Вот было б здорово! А пока у меня встречи с другими женщинами. Сегодня на улице меня остановила мадам Нос. Рассказала, что после того, как я извлек из бронхов ее мужа монету, он чуть не отправился на тот свет. Злокачественное перерождение тканей на месте пролежня, подумал я. Ан нет: загулял! Освободился от монеты, от жены, и — вперед! На радостях Человек-Нос прихватил какую-то шикарную бабу, кажется, из вокзального ресторана, и завеялся с ней в Гагру. Гуляли недели две, а потом его достал инфаркт. Срочно прилетела жена, и они вдвоем с шикарной женщиной (надо же!) кое-как выходили его.
Фарс или драма? Может, он ждал эту женщину долгие годы, варил свой знаменитый морс и мечтал о ней. История с монетой подтолкнула его к тому, чтобы уйти к этой зазнобе. Ведь женщина — это спасательный круг (пускай иногда даже свинцовый). Что бы я без тебя делал, как бы жил? («Хорошо!») Да, ты права: хорошо, но скучно. А так — что ни день, то ожидание.
Свидеться бы, и больше я у судьбы ничего не прошу. Решайся, Ванда! А не то я тоже чего-нибудь проглочу.
Целую.
Твой Александр
* * *
Это я! И скоро четверг!
Когда мне сказали, что телеграмма, я перепугался: вдруг что-то с тобой или с Серым?.. Не привык к хорошим новостям. До сих пор не верится: мы увидимся через двое суток! Все так удачно сложилось, будто на этот раз судьба специально решила помочь мне. Только я получил твою телеграмму, вызывает меня главный: «Едете в Москву». Что за черт, думаю? А вот что: профессор Чаннинг, ну тот англичанин, впопыхах не заметил, что в аэропорту ящик с его экспонатами по ошибке попал в чужой багаж, а ему достался чей-то груз. «Видимо, это крупный коллекционер китча», — предполагает профессор. Ему и в голову не пришло, зачем В. П. Пурцхванидзе, проживающий в г. Поти, отправил самолетом семьсот дерюжных сумок с корявым «айлавью» и портретом Аллы Пугачевой. Еще больше удивится Пурцхванидзе, когда вместо своего товара получит ящик с мертвыми английскими головами. Вот меня и послали улаживать международный конфликт.
Через двое суток мы увидимся! Впервые ты написала не «ты» и «я», а «мы». Мы — это значит «четверг», «счастье» и все остальное. Не знаю, зачем я все это пишу: все равно приеду раньше письма. Но почувствовал: не напишу — лопну от радости. А в кусочках меня трудно будет узнать, когда мы встретимся у Центрального телеграфа. Осталось сорок пять часов.
Лечу!
* * *
Я тебя ненавижу, Ванда!
Не за то, что ты так обошлась со мной. Хочешь — любишь, не хочешь — не любишь. Дело твое. Жил без тебя почти тридцать лет, как-нибудь проживу и остальные. Но бить так расчетливо, так хладнокровно! Неужто чтобы взять реванш за наше первое свидание? Доказать мне и, главное, себе, что тогда, после операции, была просто уступка, минутная слабость, а вот сейчас мы вам, доктор, покажем, чего вы стоите на самом деле! Действительно, как он, наглец, мог вообразить, будто тот вечер, все эти месяцы могли хоть что-нибудь означать? Как у него хватило дерзости надеяться на что-то большее, чем снисходительность, которая один-единственный раз вышла за рамки дозволенного! Ни одного повода, ни одной, самой крохотной возможности не упустила, чтобы помучить меня. За что? За то, что я люблю тебя? Что ждал этой встречи, как не ждал никогда и ничего? За то, что каждый день и каждый час, как последний (зачеркнуто) я хотел (зачеркнуто).
Я соврал тебе: не я ушел от своей первой жены — она меня бросила. Я ходил за ней и закатывал истерики, а она вот так же спокойно смотрела и пожимала плечами. У вас одинаковая манера обращаться со мной: сперва чуть-чуть приласкать, а когда он, дурачок, размякнет, шарахнуть по голове. Пишет письма — пусть пишет. Забавненький влюбленный парень, но слишком восторженный и закомплексованный, чтобы (зачеркнуто). «Будь умницей! Иди к себе на диван и повернись лицом к стенке».
Повернулся. Довольна? Ну, поздравляю!
С.
* * *
«СЛУШАЙ, ЧЕГО ТЫ ПРИЦЕПИЛСЯ КО МНЕ?!»
Действительно, чего?
Почему бы не отцепиться?
Не разлюбить?
Когда я разлюблю тебя… Когда я, наконец, пойму, что ты не Самая Изящная, Самая Взбалмошная и Самая Порядочная из всех женщин, а просто самая изящная, взбалмошная и порядочная; когда я начну замечать твои морщинки и седины, о которых ты мне уже столько раз твердила, а я их, хоть убей, не видел; когда, знакомясь с женщиной по имени Ванда, я не буду тотчас проникаться к ней симпатией, а, наоборот, подумаю: ну и имечко! Когда научусь не взвиваться при одной мысли о том, что через неделю, через день, час, минуту (дотерпеть бы) увижу тебя — издали, ближе, совсем близко; когда с некоторым опозданием до меня дойдет, что и у других женщин есть веселые зеленые глаза и родинки на шее под бусами, и эти женщины, возможно, куда гуманнее отнесутся к ухаживаниям бедного хромого; когда мне вдруг станет стыдно за то, что так долго я жил этой выдуманной жизнью, твоими редкими и уклончивыми письмами; когда пойму, что колодец, который считал бездонным, потому что камушки беззвучно исчезали в нем, не так уж глубок: дно, которое гасит звук, выстлано моими надоеданиями; когда увижу со стороны, как твой и без того не ахти какой жгучий интерес ко мне исчезает, стоит лишь заикнуться о том, как мне хочется быть с тобой, словом, когда я напрочь разлюблю тебя, — как легко тогда станет у меня на душе! Сколько новых приятных возможностей появится! До чего это будет радостно и соблазнительно!
Дня два. А потом все начнется сначала. И снова я буду глуп и счастлив.
(Письмо не отправлено.)
* * *
Ванда, любимая, прости меня! Не верь ни единому слову! Не знаю, что со мной было, если я посмел… Когда я летел к тебе, то ждал чего угодно, но не такого. Стоило примчаться с другого края света, чтобы услышать: «Ничего у нас с тобой не получится». Допустим, я придурок: распростер объятия еще в самолете, развоображался, как восьмиклассник. Но ты же сама писала, что тебе надоела двойная жизнь, надо что-то менять… Или это «что-то» не ко мне относится? Больше всего убивает твой спокойный, чуть не материнский, тон. «Мне нужно время, чтобы все взвесить». Сколько: год, пять, десять? И что мы оба, ты и я, будем делать все эти годы? Жить от письма до письма? Ждать случайной командировки?
Знаешь, есть такие пакеты мороженых овощей: маленький кусочек морковки, кубик свеклы, пучок сельдерея. Кидаешь в кастрюлю, оно оттаивает, закипает, суп готов. Но как ты не понимаешь: эта заиндевелая нежность, которая перепадает мне раз в год, становится поперек горла!
Сам виноват. Моя беспомощность равносильна поражению. Какой у тебя может быть ко мне интерес, если вот он я: протяни руку и бери покорного, тепленького, вей из него веревки! По-моему, ты получаешь удовольствие от того, как я извиваюсь, чтобы заполучить хоть немножко твоей ласки. Аргументы у тебя-то, конечно, самые благородные: мол, я приучил тебя к полной искренности, и теперь ты уже не можешь меня обманывать — ни морально, ни физически. «Был бы на твоем месте муж или кто-нибудь другой, потерпела бы, не умру же я от этого. А просто так с тобой я не могу». Если это правда, то она против тебя, Ванда! Выходит, ты боролась не столько со мной, сколько с собой? Но зачем?!
Спешил, как на праздник, а вернулся побитый. Бегал, суетился, дергал за полу: вот он я, вспомни, пожалей, приласкай! Осквернить жалостью, унизить близостью — нет, ни за что!
Думаешь, я не пытался выбивать клин клином? Еще как! Но выбиваюсь я, а клинья остаются. Да и ты однажды обмолвилась: «Иногда мне кажется, что я изменяю тебе с мужем». Ничего, покажется, и (зачеркнуто). У тебя появился кто-то другой? Ты помирилась с мужем? Что, что произошло?
Нет. Не пиши мне об этом. Я не хочу ничего знать. Просто будь со мной. Хотя бы пиши мне. Целую тебя тысячу раз.
* * *
Здравствуй снова и снова!
Ты еще сердишься на меня? Я заслужил любую кару, только не твое молчание. Раздели́ все, что я написал, на шестнадцать, это будет поправочный коэффициент на мою ревность. И потом — жизнь уже за тебя сквиталась.
Пишу в дороге. Призываю в свидетели своего чистосердечного раскаяния деревья, которые ветвями тянутся за поездом, но куда там: слишком глубоко ушли они в землю под тяжестью вороньих гнезд. Пусть подаст голос в мою защиту свежепокрашенный фанерный аист, который одиноко торчит на опушке (то ли приманка для настоящих аистов, то ли картинка, вырванная из Красной книги). Пусть вступится за меня солнце. Розовые облака перебрасывают его как горячую картошку с ладони на ладонь. В переводе на человеческий язык это означает, что я опять еду и опять тоскую по тебе. Едва вернулся, сразу отправили в командировку. И снова в Москву! В другое время такой поездке только бы радоваться. Но опять плестись по тому же маршруту, где мы только что ехали вдвоем! Скажи честно, это ты на меня накликала?
Сперва параллельный поезду пейзаж приветливо раскланивался: «Станция Дачная! Разъезд Кокино! Вознесенск!» Но, спохватившись, что рядом в окне не сияют твои зеленые глаза, окрестность разочарованно отворачивалась. Всюду, как верстовые столбы, маячили напоминания о тебе. Вот здесь ранним утром ты прижалась носом к стеклу, дразня голыми плечами краснолицего, в красной же фуражке дежурного по станции, а он (вот к кому б меня на выучку!) лишь равнодушно скользнул по тебе взглядом и махнул флажком: проваливайте! Вот мост, на нем еще колышутся тени твоих растрепанных сквозняком волос и подпрыгивает раздробленное подскоками рельсов: «Че-го-ты-все-при-ду-мы-ва-ешь?..» Вот в низине, сразу за мостом, мокрый желтый карьер с боком, отъеденным экскаватором. Вот бабки с яблоками, и некому удерживать меня от того, чтобы на радостях купить сразу целое ведро и угощать весь вагон. Здесь вошел наш сосед по купе, парень в адидасовских кроссовках (помнишь: он всю дорогу деликатно курил в коридоре?). Вот другой сосед, дедушка, что не хотел угощаться твоими бутербродами, как потом выяснилось, не из стеснения, а просто ему неохота было лезть в чемодан за новыми вставными челюстями. Вот разносчик из вагона-ресторана, он все дребезжал своей тележкой и кричал: «Кефир, лимонад, вафли в ассортименте!» Никто не покупал, видно, ехали из дому, с припасами. Вечером он снова проскочил, коротконогий, с маслянистым лицом, торжествующий: «Лимонад продал! Вафли продал!» А здесь в поезд сел его конкурент, глухонемой торговец открытками. По-моему, он прекрасно говорит и слышит, но при его ремесле этого лучше не показывать. Все и так ясно: открытка — рупь, будь на ней усатый во френче с трубкой или тот, с гитарой и бешеными спокойными глазами. Всё раскупают — такая большая и разная страна! Нас с тобой глухонемой вычислил сразу, судя по тому, что предложил календарь с голубками и надписью — как там? — «Наши сердца в цвету». Что за плоды получатся из этих цветов?
Прошлая поездка просвечивает сквозь эту, как водяной знак. Стоим на глухом разъезде, ждем встречного поезда. Не мы ли с тобой возвращаемся в нем из прошлого? И ты снова прижимаешься виском к стеклу, чтобы не болела голова, а я целую другой висок, и все это вдруг проносится мимо нас с вихрем, свистом, лязгом, дымом. Лети, не трави душу!
Тронулись. Картофельное поле, придавленное пухлыми деревенскими облаками. Рельсы как нитки, сшивающие прошлое с настоящим. Захотелось набрать белых камешков и быстренько выложить на обочине: «Ванда + Саша = …», а километров через тридцать, потомив неизвестностью проезжий люд, воздвигнуть из бетонных блоков капитальное слово: «Любовь!»
Перед отъездом из Москвы забежал в несколько магазинов, хотел сообразить тебе посылочку из столичных деликатесов — не протолкнуться! Мало-помалу стираются гастрономические различия. Уже не спрашивают: «А какой сыр? Какой сорт колбасы?» Появляется некий обобщенный облик: продукты. Еда. Жизнь, так сказать, сезаннеет. Эпитеты и прилагательные отмирают, остаются одни съедобные существительные. Глядишь, ты научишься ценить яичницу, которую я пытался скормить тебе в буфете. Покрутился возле нашей с тобой гостиницы. Там полно японцев. Вид у них удивленно-снисходительный. Бедный тот япоша, которому достанется наш номер! Мой дух, жалобно завывая, всю ночь будет пугать его. Вот такое кимоно.
Ладно.
Целую.
Твой Ксандр
* * *
Здравствуйте, Ванда!
Это Лера. Что же это вы с Саней совсем меня забыли? Ну да, медсестра — маленький человек, принести-унести, пенициллин в левое полупопие, стрептомицин в правое полупопие. А у меня, между прочим, день рождения. Двадцать один год!
Хорошо, хоть Вадик пришел поздравить. Хороший мальчик, красивый. Все уговаривает выйти за него. Может, и выйду. А вы — за Красовского. Сыграем свадьбы вместе, в один день. На продуктах сэкономим и на оркестре. Шляпа с фатой у меня уже есть, Вадик год как привез. И фирменное платье. На меня оно слишком свободное. Могу по знакомству уступить. Глядишь, подружимся семьями, будем обмениваться рецептами. Учтите: Санечка — жуткий сладкоежка! А я из сладкого уважаю только шампанское. Но его уже нет, все сама выпила. Именины!
За то, что Красовский забыл меня поздравить, я решила его разыграть. Часа в два ночи ему позвонила, говорю: «Поздравляю. У нас будет ребенок». Он жутко разозлился, что его разбудили, наорал на меня, как в операционной. Говорю: мне алиментов не нужно, посоветуй, как назвать. Он совсем озверел, орет: «Если мальчик — Гайморитом, девочку — Маргаритой!» Потом, видно, дошло. Сам позвонил: «Ты что, серьезно?» Уговаривал, чтобы я избавилась от младенца. Я смеюсь, а с ним чуть не истерика. У него сейчас какой-то сдвиг на детях. Наверно, после той девочки с летальным исходом. Когда ее привезли, мы с ним отлучались. Вбил себе в голову, что все из-за этого. Что могли изменить десять минут? Если уже кому суждено…
Вот такие пироги.
До свидания.
Лера
* * *
Привет, Андромеда Персеевна!
Ты, как всегда, без предупреждения. Сидим мы, значица, с Азазелкой на кухне, обсуждаем проблемы мироздания, вдруг телевизор говорит: «Передаем эстафету Усть-Рыбинску». Пока я доковылял до экрана, эстафета уже кончалась. Успел разглядеть лишь несколько сопок, среди которых торчали (тут голос диктора стал медовым) «современные здания из стекла и бетона» (я вспомнил твое письмо о том, каково там в пургу). Еще видел рыбаков. Из трала сыпалась отборная рыба, труженики моря были выбриты до такого блеска, что каждый рыбак мог бы смотреться в щеку соседа. Потом снова показали набережную, на ней тьму радостного народа. И — ты! Ей-богу! Хоть в вашем крае и умещается девять Бельгий — кстати, знают ли об этом в Бельгии? — второй такой смурной ухмылки там нет. Ты держала цветы и кому-то махала рукой. Может, встречала мужа. Может, просто радовалась успехам нашего тралового флота. Может, это была и не ты.
Я тебя почти не помню. Руками, губами, скальпелем еще помню. А так — нет. Ты расплываешься, сливаешься с тем, что я успел напридумывать о тебе за эти месяцы. Ты настоящая исчезаешь, хоть объявляй всесоюзный розыск. Если однажды ко мне придет человек в штатском, судя по выражению лица — майор, и попросит составить твой словесный портрет, что я скажу ему?
Рост? Рост, майор, чуть выше среднего. Как быстро бы она ни шла, не скажешь, что она торопится. Суеты в ней нет вовсе.
Фигура? Скорее худощавая. Могла бы и не устраивать разгрузочные дни по вторникам (если, конечно, вспомнит, что это вторник). Зато в субботу, забрав сына из школы, она отправляется с ним в кафе и сразу истребляет недельный запас пирожных.
Любимая поза: обхватить колени руками и курить, глядя в точку. Руки неожиданно сильные и цепкие, к сожалению, я знаю точно.
Смеется редко, но от души. Иногда спохватывается, что надо бы улыбаться только правой половиной рта, чтобы скрыть зуб со щербинкой. Но по доброте душевной забывает об этом и предоставляет ему сколько угодно показываться на свет.
Лицо? Лицо… Прямой аккуратный нос с маленькими круглыми ноздрями. Глаза, как я имел уже удовольствие отмечать, зеленые и насмешливые. Пепельные, чуть с рыжинкой волосы, кожа белая (не бледная, а именно белая). Опускаю ряд родинок, заслуживающих отдельного и весьма подробного описания (точнее, лоции: они разбросаны, как крохотные островки в океане, и хочется бесконечно путешествовать от одного к другому). Эта женщина похожа на вечер пятницы, когда впереди неторопливая суббота и длинное-длинное воскресенье. Или на первую сигарету после тяжелой операции. Или на саму себя.
Ей все время приходится держать себя в руках, иначе все тут же поймут: ей по-прежнему девятнадцать, и все прошло мимо нее: замужество, переезд в этот далекий забытый городок, странные, полуреальные дни («Мне все кажется: я еще не начинала жить, самое главное впереди. Неужели так и останется до самой смерти?»).
Перечитал: она и не она. Вы можете упрекнуть меня в том, что портрет получился несколько неопределенным. «Прекрасная дама» в дальневосточном варианте. Но слова, как и медицина, тут бессильны.
Пожалуйста, найдите эту женщину. Мне ее очень недостает. Но это строго между нами. Ладно? Если разыщете, непременно напишите мне. Хотя бы вы пишите, майор. Честь имею!
С.
* * *
Моя любимая!
Новостей никаких. Работа, работа и работа.
Не удивляйся чужому письму в конверте. На днях я получил его от больной, которая — помнишь? — на Новый год была Снегурочкой у нас в отделении. Прочти. Вряд ли вы с ней увидитесь. На этот раз ее дела и впрямь плохи.
Целую.
С.
* * *
Доктор!
Не сердитесь, что я вам морочу голову. Как будто вам мало этой больницы! Но мы с вами так душевно поговорили на Новый год, я потом долго вспоминала: молодой, а как меня чувствует! Я же знаю: врачи бывают такие ласковые, когда больной совсем плох. Но вы сказали, что у меня приличные анализы.
Вы всем это говорите, да?
Я на вас надеюсь, миленький. Это будет такая несправедливость, если я вдруг умру! Это сейчас я старая бандероль. А вы бы видели, какая я была на своей свадьбе! От горла вниз белое облегающее, потом широкое-широкое, этот фасон назывался «Солнце-клеш», волосы тоже белые, еще мой цвет, натуральный… Мне еще долго говорили в трамвае: «Девочка, уступи место». А эта девочка уже была вдова, да.
Я сперва за него не хотела, иди знай, что это за албанцы? Он учился у нас в медицинском, так мало ли кто учится? Но он увидел меня — и все. Я туда-сюда, а он сказал: «Софис (это он меня так называл), я женюсь на тебе». И точка. Это была такая история, доктор! Я говорила своему второму мужу: «Олег, напиши книгу! С кого писать, как не с меня?» Но он все раскачивался, пока не спился. Что у меня за везуха на мужей! Все мне завидовали, а детей так и нет.
Короче: я вышла за него, и мы уехали в Албанию. Меня охраняли его отец и трое братьев, все с ружьями, иначе украдут, и никаких следов. У них такой обычай. Горы, и все черноглазые, с бородами, как в кино! Доктор, если бы видели, как меня там принимали! Я была младшая невестка, мне полагалось восемь ниток жемчуга. Восемь! Все нитки до самого пупа, натуральный жемчуг, представляете! На него можно было бы годами жить. Но что я тогда понимала: восемнадцать лет! Длинные ноги и белые волосы, еще свой цвет, вот и все. Уехала домой на каникулы в одном сарафанчике. Знаете, тогда только пошла мода на тоненькие бретельки. Нет, откуда вам знать, вы же не помните тех лет. На меня все оглядывались, все. Цветы дарили — просто так. Боже, а потом у них как началось! Но меня бог спас для моей бедной мамы.
Вы себе представляете мое положение, доктор: я осталась буквально с голым задом! Все, что у меня было, я вбухала в утюги. Три электроутюга, полотер, пылесос, пять плиток, а? У них безумно дорогие электротовары, а мы же молодожены, нам надо становиться на ноги, нельзя же было сесть на шею его родне. Мой Йылы был такой гордый, чуть что, уши наливаются дурной кровью. И со всей его гордостью я села голым задом на эти проклятые утюги! Доктор, миленький, вы меня простите, я же с вами как с родным. Врачи и птицы, вот кто у нас остался для душевных разговоров. Я же знаю, моя болтовня дальше вас не пойдет. Но зло до сих пор берет: столько утюгов отдала буквально за копейки! Идиотка! А фотографии? Специально взяла туда домашний альбом, хотела показать новой родне. Мама предупреждала: «Ты же забудешь, ты все теряешь, а там папины военные снимки». Точно: приготовила, запаковала, а в последний момент оставила на столе. Вместе с жемчугом. Интересно, кому он достался? Говорят, у них теперь строго, даже такси нет. Месяц в году все работают на стройке или в сельском хозяйстве. Что же они, в жемчуге копают? Обидно. Иногда ночью я думаю: вдруг мой Йылы жив? Вдруг! Не для себя — для него думаю. Сколько я писала: и нашим, и в индийское посольство, оно было тогда посредником — ничего! Как в воду канул.
Тогда я и научилась шить. Вкус у меня есть, это, наверно, еще от прабабки. Шила подругам, подрабатывала на курсах, но после второго замужества мне пришлось уйти: эта стерва, с которой Олег, в общем, неважно, главное, теперь я крепко стою на ногах. Вы меня снова подлатаете, и я проживу еще два раза по столько. А мои ребятки! Первый выпуск наших курсов, боже, они были такие отчаянные! Мы с ними, конечно, давно на «ты». У меня одна комната, но все праздники гуляли только у меня. Я до сих пор их помню маленькими. Там была одна Женечка, ну куколка, картинка, я ей говорила: «Ты посмотри на него, у него зубы желтые от табака, сам как глиста, что это, мужчина?» А она говорит: «Он меня загипнотизировал, он делает со мной все, что хочет». Доктор, вы меня тысячу раз извините, но я ее дней ждала больше, чем своих! Однажды она все-таки влипла, но я ей категорически запретила выкидывать ребенка. Она мне потом руки целовала за Мишеньку! Он такая лапочка. Вы же меня чувствуете, доктор, я такая впечатлительная, от этого и болею.
Между прочим, за мной в больнице ухаживал один мужчина. Вы его видели: сам он с гастроэнтерологии, но видно, что еще крепкий, только лысый. Каждый год, осенью и весной, ложится в больницу — для профилактики. Уговаривал меня перейти к нему. Свой домик, от моря, правда, далековато, но он собирался купить машину, инвалидам с этим проще. Я подумала: что я там буду сидеть на его участке, с его капустой и с его взрослой дочкой? Вдруг представила, как снова Новый год, мы будем вдвоем под елочкой чокаться шампанским, а он мне опять начнет… Знаю, что глупо, но смеюсь, не могу остановиться, а ему как объяснишь? Обиделся, а я говорю: это у меня нервное, я и умирать буду со смехом, мне уже недолго, так что вы на меня не рассчитывайте. Дня два не приходил, я даже заскучала, вот мы, женщины! Нет, пришел, снова настаивает: приезжайте, поживите сколько хотите, свежий воздух, продукты, то да се. Хороший человек, да? Но вы меня поймите, доктор: первый муж — это муж, второй — туда-сюда, а третий муж — это уже протез. Я его адрес не взяла, а свой телефон дала. Пусть звонит. Как вы думаете, правильно?
У меня друзей вагон и маленькая тележка, а когда я делаю куры по-корсикански, сам Чумаченко приезжает. Ему, конечно, нельзя, но разве он может пропустить такое? Однажды из-за меня перенесли заседание горисполкома: он съел больше, чем позволяла печень. Ничего, у него это только первый звонок. А у меня, слава богу, сколько звенит, а я живу и живу.
До свидания, доктор! Счастья вам и здоровья! Тогда и мы будем здоровы. Извините еще раз.
Ваша бывшая больная (2-я палата, койка у окна).
* * *
Вандочка, а ведь весна!
Я встретил ее сегодня на больничном дворе. На ней было пальто внакидку и застиранный байковый халат. Заморенная, худющая, но улыбалась во весь свой щербатый рот и на ходу водила прутиком по чугунной ограде. Прутик делал «трам-трам-трам». За оградой находился больничный морг, но весне было наплевать. Жизненные соки во мне забурлили, и я побежал сразу во все стороны. Тебя нигде не оказалось. Нет чтобы утречком, по первой росе прилететь к любимому человеку! Серьезно, когда же ты все-таки появишься? У меня уже набралось столько твоих обещаний, что стоит их предъявить в местком, как тебя тут же вышлют мне по этапу. Но как истый гуманист дам тебе возможность прибыть добровольно и учту твое раскаяние.
Не слишком ли я к тебе снисходителен? Мыслимое ли дело так потакать женщине! Пока ты была моей больной, я чувствовал себя хозяином положения, а теперь… Пора кончать с этим слюнтяйством! Надо брать пример с полковника Коти: он с дамами не распускает нюни. Придет к нему очередная пациентка с двумя записочками (одна из облздрава, на другой — симптомы), он, не переставая жевать котлету, зыркнет в ее горло: «А-а, у вас рачок…» Дама — в обморок. Котя подождет, пока она очухается, и подробненько объяснит, сколько шансов у нее выжить без операции и сколько — с операцией. Это если не безнадежная. С теми-то он обходителен, насколько это ему вообще доступно. Логика у Коти такая: в больном надо иметь союзника, пусть мобилизует свои защитные резервы и помогает себе спасаться. От инфаркта или автокатастроф гибнет куда больше народу, но рака люди боятся просто панически.
Мы-то, врачи, привыкаем к болезням; они словно наши домашние животные, которые опасны только для других. Но все равно переживаешь. Иногда не успеешь прийти в себя после неудачной операции, идешь в палату, а больные все читают по твоему лицу и уже примеряют твою кислую мину к своей болезни. У мнительных сразу подскочит температура. Когда врач, который ехал от умирающего Пушкина, зашел к своему пациенту, тоже тяжелому, тот спросил, есть ли у него надежда на выздоровление. А врач ему раздраженно: мол, вот Пушкин умирает, все мы умрем… И что же — больной скончался в тот же день, что и Александр Сергеевич…
У меня, к сожалению, есть и собственный грустный опыт. Мой отец случайно узнал свой диагноз. Какая-то лаборантка, из новеньких, передавала его анализы и поставила карандашом крест: конец! Отец заметил это и впал в оцепенение. Рак застал его врасплох. Из-за этого, думаю, он так долго и откладывал операцию, пока она не потеряла смысл. Тогда я всего этого не понимал, но этот застывший взгляд, словно обращенный внутрь, долгое молчание за столом… Сейчас бы его, быть может, спасли.
Когда попадают онкологические, стараюсь говорить не с родственниками, а с самим больным. Долго беседуем на разные темы, пока не подведу к фразе: «У вас недоброкачественная опухоль». Смысл тот же, но освоиться с диагнозом психологически легче: для большинства слово «злокачественная» звучит смертным приговором. Люди боятся уже не самого рака — страха перед ним, поэтому часто сами спешат с операцией. Как студент, который готов пойти на экзамен первым, даже если ничего не знает, лишь бы поскорее избавиться.
Мой отец тебе понравился бы. И ты ему тоже. Ты замечательно умеешь слушать. А он здорово умел рассказывать. Я вырос на легендах о докторе Лузерсе, был такой коллега у отца. Его обожали истеричные дамочки, которым вечно казалось, что они вот-вот задохнутся. Они прибегали с криком (отец очень смешно копировал их): «Доктор, скорее! Что-то застряло в горле! Наверно, это виноградная кожица…» Лузерс долго доставал из саквояжа свой инструментарий, долго мыл руки, потом нырял в открытый рот, а другой рукой незаметно вынимал из жилетного кармана кожицу от винограда: «Вот она!» У него всегда были с собой комплекты на все случаи жизни: косточки от рыбы, ореховая скорлупа и т. д. Если визитов оказывалось больше, чем он мог успеть, Лузерс посылал помощника, молодого меланхоличного парня. Когда тот возвращался, ему устраивался подробный допрос: где был, что успел. «Ну, сделал прокол, ну, откачал гной…» — «И все?! Идиот! Ты не выгнал из дому всех родственников больного? Не послал их, чтобы они перекрыли уличное движение на пять кварталов вокруг дома? Не потребовал, чтобы они опустили все шторы и зажгли все люстры? Кто же без этого оценит твой труд?! Кретин!» Но больше всего этот Лузерс любил вечерние вызовы. Стоило постучаться в его дверь в поздний час, как он тут же ложился в постель с компрессом. Жена отвечала, что доктор тяжело болен. Он, так и быть, посоветует, но пойти… С кряхтением и стонами Лузерс выслушивал посетителя, а сам одним глазом поглядывал на него, определяя кредитоспособность. Если осмотр обнадеживал, он, демонстрируя величайшие страдания, поднимался с постели и плелся к больному. Разумеется, за двойной гонорар.
Вот кого бы Надюшке в напарники! Собственно, ее тактика не хуже. Если ее приглашают на частный визит, обычно она является дня через два: занята, мол, до предела. Сразу отменяет все назначения, сделанные до нее, и прописывает самое дефицитное лекарство. Пока его добывают, пока начинают вводить, глядишь, организм берет свое, и — о чудо! — дело идет на лад. Стоит ли удивляться тому, что после каждого приема в ее столе остаются сложенные вдвое конверты из-под гонорара. Остальное — духи, конфеты, хрусталь и т. д. — Надюшка потихоньку перепродает в соседних отделениях через сестер. Торговый дом «Надька и К°». Ее тезис: «Больные дают мне то, что недоплачивает государство». Поспорь с ней, если у самого кругом-бегом едва выходит полтораста рублей… А все равно тошно.
Иногда ловлю себя на мысли, что Надежда мне нужна как бы для самоутверждения: по принципу «от противного». Если человек, который мне неприятен, делает то-то и то-то, я автоматически, из духа противоречия, буду делать наоборот.
Требовать ли от всех по максимуму? Вот Надюшка, например, умеет, если захочет, выхаживать послеоперационных больных. А у нас это половина дела. Из нее вышла бы отличная медсестра, не то что наша (зачеркнуто) наши девицы-сестрицы.
Но возьми, например, Пашу. В своем деле он, пожалуй, не слабее, чем полковник Котя в ухо-горло-носе. Но тот прооперировал, сел в машину и уехал. Ну, позвонит из дому, если больной внушает опасения. А Пашка — он с ними нежнее любимой женщины! В нашем отделении хоть больные тихие. Его же пациенты орут после операции еще неделю. И Паша все время при них: выхаживает, утешает, рассказывает, как однажды ему самому якобы удалили опухоль прямой кишки…
Как-то, когда мы сидели в «Солнечном», он сформулировал свой принцип: нельзя рассчитывать ни на окончательный успех, ни на благодарность больных. Даже на понимание окружающих. Делать все что можешь и как понимаешь, проигрывать и все-таки делать снова и снова — как бы для собственного удовольствия или удовлетворения. Паша вырос в детдоме и умеет держаться до конца. На левой руке у него татуировка: «Не проси. Не верь. Не бойся». Так он и делает. Человек-танк.
Но иногда и он срывается и гуляет по-черному. Кто его осудит? По крайней мере, не я. За все приходится в жизни платить — это его способ. Лучше чем в том черном анекдоте. Прибегает в поликлинику человек: «Доктор, у меня в сердце нож!» Тот отвечает: «Сочувствую, но сейчас без пяти шесть и у меня прием закончен». — «Что же делать? У меня ведь нож в сердце!» «Ладно, — говорит врач, — поможем». Вытаскивает нож из сердца, вонзает ему в глаз и говорит: «Идите к окулисту, он принимает до семи».
А пока весна, все прозрачно, что-то жужжит и пахнет, на твоей фотографии вдруг явственно обозначились веснушки — жить можно!
Твой С.
* * *
Дорогая!
Когда отдельные лица и целые организации уговорят, наконец, Всевышнего забрать тебя отсюда, ты пойдешь оформляться в рай. Но на КПП дежурные херувимы наставят на тебя свои арфы и гаркнут:
— Не велено пускать!
— Я никому не делала зла! — возмутишься ты.
— Никому? — прищурится старший херувим.
Ты постоишь, разглядывая свои босоножки («При входе отберут. Лучше бы соседке оставила»), и вдруг вспылишь:
— Выкладывайте, в чем дело, или пойду в ад!
Они переглянутся. Херувим-первогодок кашлянет:
— Слышь, ты, заблудшая… Шибкий грех значится за тобой.
— Да скажите толком! — взмолишься ты.
Херувимы еще раз переглянутся. Ты торопливо вывернешь сумку и дашь им на чай.
Старший херувим сгоняет младшего в ближайший, всего три вечности отсюда, «Гастроном», а сам просипит:
— Сказывали, у тебя был человек в другом городе…
— Был, — ответишь ты. — А может, и не было… Вас не касается.
Херувим вытрет лоб, упревший под тесноватым нимбом:
— Да не в этом грех! А в том, что ты его изводила. Не писала ему, сердешному. Не была ласкова с ним. И за этот грех тысячу лет будешь писать ему письма раскаленной авторучкой на горячей бумаге!
Намек поняла? Уже месяц от тебя ни слова!
С.
* * *
Признавайся: приезжала ты или нет? Я не шучу! Если бы не окурок с алым следом, который я сегодня нашел под столом, и не ракушка, прилепленная пластилином к двери («Это звонок», — сказал Серый), у меня не было бы никаких доказательств. Как все произошло (если произошло), почти не помню. Спросонок удивился, что звонят так поздно. Причем сразу в дверь, а не предварительно подняв меня по телефону, чтобы я успел собраться. Срочная операция, что-то стряслось у соседей? Вдруг — ты! И Серый! Могу представить, какое у меня было лицо, если даже тебе стало меня жалко и ты погладила меня по щеке мокрой от дождя рукой.
Курила ли ты на кухне, натянув мою рубашку (я вдруг с удивлением обнаружил на ней нездешней красоты узоры)? Вылезал ли я на подоконник, чтобы напиться дождя? Крались ли мы в комнату посмотреть, заснул ли уже Серый, а он разметался по раскладушке, нога с родинкой у пятки свесилась, что-то бормочет, хмурится… И, наконец, как там соседи со второго этажа: мы, кажется, забыли закрыть кран в ванной и все-таки затопили их.
Я все так подробно описываю, будто ты сама при этом не присутствовала. А может, и нет. Ты так ненадолго выпускаешь себя на свободу и так быстро уползаешь в свою раковину. Боишься привязаться ко мне хоть тончайшей — потянешь со сна, и порвется! — ниточкой. Сразу выложила все: про Серегины каникулы и аденоиды, про свои командировочные дела и про вещи, которые хорошо бы здесь продать. Все, что угодно, лишь бы я не заподозрил, что ты прилетела ради меня.
Неделю назад мне бы сказали, что я увижу тебя с Серым, прыгал бы выше головы. А теперь привередничаю. Как будто само по себе это не счастье: жить с тобой в одном доме, в одном городе, набрать свой номер телефона и услышать твое веселое «Алло?».
Но как все быстротечно! Только что ты вошла с дождя, из ночи, и вот ты уже сидишь на краешке дивана, гладишь Азазелло — вмиг тебя признал! — и говоришь, глядя в сторону: «Так не хочется улетать». Что-то большее, чем боязнь дальнего перелета? Ну, скажи: «Да!»
Не знаю, кому я больше обрадовался, тебе или Серому. У него редкое сочетание деликатности с нормальным мальчишеским хулиганством. Вот в ком Азазелло обрел родственную душу! А словечко-то какое Сережа нашел для него: «Кошак!» Он, то есть Серый, в отличие от Пашки-младшего, удивительно сдержан. Не скован, не замкнут, а именно сдержан. Ох, девушки с ним и намаются!
Правда, Пашка-старший молодец? Я знал, вы понравитесь друг другу, но не до такой же степени! Для того ли я столько времени охочусь за тобой, чтобы уступить первому попавшемуся закадычному другу? Нетушки, перебьется! Мы с Серым решительно протестуем против этой провокационной вылазки.
Когда утром сын пришел тебя будить, а ты делала вид, что никак не можешь проснуться (или действительно не могла?), а он щекотал тебя, вы возились, похрюкивали, бормотали что-то свое, каких усилий мне стоило не бросить кофе на произвол судьбы и не перебраться с кухни к вам! Нет, я пока лишний.
На Серегины аденоиды ты клеветала зря: они вполне благовоспитанные. Повременим с операцией. Температура и ночные дела у него от домашних переживаний. Дети на это остро реагируют. Думай сама. Ты дала мне понять, что ваши отношения с мужем для меня табу́. Вы с ним существуете в одной реальности, мы с тобой — в другой. До поры до времени версия годилась, но сейчас это время подошло к концу.
По-моему, Сережке было неохота уезжать. Перемена обстановки, незнакомый дядя, который готов был скормить ребенку все стратегические запасы мороженого. И все-таки… нет, боюсь обольщаться.
Сейчас ты уже дома, если опять не нагнало тумана. Осунувшаяся от перелета и волнений, балансирующая между двумя жизнями. Моя Ванда, моя!
Целую тебя вдогонку.
С.
* * *
Здравствуй!
Я люблю тебя.
В этом нет ничего нового для тебя, а тем более для меня, и уж совсем ничего удивительного. Странно скорее другое: от долгого неупотребления чувства обычно атрофируются — слепнет же тот, кто провел долгие годы в темноте. А тут наоборот: чем дольше мы не видимся, тем я сильнее люблю и хочу тебя.
Временами я уже не помню точно, кого я люблю. От недоступности, от затянувшейся разлуки ты расплываешься у меня перед глазами, но мое желание не ослабевает, оно как бы распыляется на множество разновидностей. Я не разрываюсь между ними; все они каким-то образом помещаются во мне, потому что всюду — ты.
Я хочу тебя и люблю еще сильнее, потому что каждый день больница, и как ни привык к ее горестям, мучениям, к смерти, от всего этого инстинктивно тянет к жизни, к тебе.
Я хочу тебя, как приезжий из города Поныри, обалдевший от суеты и обилия машин, хочет узнать свою судьбу у цыганки, которая метет шалью пыль у входа в метро, и как эта цыганка хочет поскорее заполучить за гадание трешку, больше из поныревца, судя по его черному несносимому костюму, не выжмешь, оба вглядываются в его не по-городскому загорелую руку с крепкими выпуклыми ногтями, не подозревая о существовании науки дерматоглифики, которая по линиям руки определяет наклонности и болезни, а что это, как не судьба?
Я хочу тебя, как невезучий, начинающий лысеть прыгун хочет, наконец, пролететь над планкой, не услышав ее сухого падающего «чок!» и разочарованного вздоха тренера, единственного, кто еще следит за его попытками; на стадионе жарко, ветер вяло волочит обрывки газет, оставшиеся после вчерашнего матча, а он опять и опять разбегается, вымеряя, куда поставить ногу для толчка; от пота номер на майке расплылся и похож на татуировку, а он все прыгает и сбивает планку, и снова разбегается.
Я хочу тебя, как никогда и никого не хотел, и в то же время рад, что иногда меня тянет к другим женщинам, иначе как бы я смог оценить то единственное в своем роде вожделение, которое испытываю к тебе?
Я хочу тебя, как хирург не хочет, чтобы его оперировали, до мелочей представляя весь ход операции, свое беспомощное под чужим скальпелем тело, отрешенность и распластанность — генеральную репетицию смерти.
Я хочу тебя, как старый, давно удалившийся от дел контрразведчик хочет прийти в воскресенье к внукам, потихоньку снять под столом новые тесные башмаки и, умиротворенно шевеля медленно оживающими на свободе фалангами шишковатых и смятых пальцев, прислушиваться к тому, как кровь пробивает себе дорогу в слипшихся старческих венах; вполглаза смотреть телевизор, досадливо дергая шеей, когда на экране превращают в серию идиотских трюков банальную ликвидацию вражеского агента, но он быстро успокаивается и снова наслаждается полудремой, возней внуков, проворным током крови в наконец-то отошедших ногах, и хочет только дожить до следующего воскресенья, чтобы все повторилось сначала.
Я хочу тебя, как моряк хочет берега за сутки до прихода судна, когда рация уже опечатана и нет ничего, что могло бы отвлечь от мыслей о земле, о не узнанных после долгой разлуки детях; от жадного скольжения взглядов по лицам и чемоданам, по катерам портофлота, которые пристраиваются к теплоходу, как поросята к большой усталой свинье.
Я не стал бы утомлять тебя этим подробным и вымышленным — за невозможностью сказать то, что хочешь, — перечислением, если бы за месяц разлуки и за часы после твоего отлета моя тяга к тебе не превратилась в нечто стабильное и чуть ли не супружеское. Как будто мы женаты уже лет сто, но не здесь, а где-то на Луне.
Знаешь, я могу совершенно не нуждаться в тебе и даже не вспоминать тебя. Для этого не так уж много нужно: не входить в палату, где ты лежала, не садиться на подоконник, с которого ты свешивалась, не проходить мимо почты, не смотреть телевизор и не читать газет, чтобы не наткнуться на упоминание об Усть-Рыбинске, или о ком-нибудь по имени Ванда, или Сережа, или по фамилии Воронова, или о разлуке, или о разнице во времени, на девять ли часов, бесящих меня, на пять ли лет, которые тревожат тебя; не пялиться на чужое счастье, не видеть, как люди глохнут или умирают у тебя на глазах. Избавившись от нежелательных ассоциаций… отрешившись… замкнувшись, одолев… переболев… ров… рщив… короче, умерев, я уже ни разу не потревожу тебя этим бесконечным: «Я люблю и хочу тебя! Я люблю тебя!»
* * *
Вандочка, поздравь: отыгрался!
Я не мог заставить себя подойти к операционной, когда на стол брали ребенка. Руки делались ватные. И вот — решился! Может, потому, что мальчика тоже зовут Сережа.
Он кашлял и температурил уже года два. Живут они в дальнем селе, у матери еще двое детей, районные педиатры всякий раз ставят новый диагноз. Наконец, Сережу привезли сюда и нашли в бронхах гильзу от малокалиберки, видно, нечаянно вдохнул. Она уже обросла соединительной тканью, вокруг обширное нагноение, начнешь вытаскивать — можно наделать бед. Даже Надежда меня отговаривала: «Отправьте его в Москву: и вам спокойнее, и матери». Конечно, я не сдержался и посоветовал ей отправить туда всех ее пациентов. А она вдруг расплакалась.
Лет десять назад Надежда, еще когда была в общей хирургии, загубила подряд двух сложных больных, и с тех пор панически боится летального исхода. Может, поэтому и перебралась в наше отделение: спокойнее. Первое время даже, говорят, впала в такой транс, что ездила на их могилы, возила цветы. А может, чтобы показать всем, как она переживает?
Поехал на кладбище и я. Могилу нашел с трудом, все вокруг уже застроено памятниками и оградами. На фотографии Лидочка веселая, совсем как в первый раз, когда попала к нам. «Висюкан упадет — хрюхрюкан подберет…» Идешь вдоль ограды, кажется, что провожает тебя глазами. Неподалеку сидел старик, стриженный ежиком. Говорят, у него когда-то-пропал без вести сын-моряк, теперь он каждый раз приходит к другой могиле. Памяти нужна хоть какая-нибудь зацепка, точка приложения. Старик сидел на выцветшем складном стульчике, было солнечно и безветренно, на кончике его желтого носа висела и никак не могла упасть прозрачная капля. Какой он был живой среди памятников!
Я вернулся в больницу и попросил оставить Сережу мне. И не жалею, хотя намучился с ним изрядно. Котя предлагал помочь, но я выпутался сам. Гильзочка лежит у меня на столе. Я загадал: все кончится хорошо — ты полюбишь меня. И теперь тебе некуда деться!
Твой Красовский
* * *
Вот ты как!
В кои-то веки прислала ласковое письмо, и сразу опровержение! Ледяной тон, чуть не на «Вы». Что с тобой, плохое настроение? Или я тебя чем-то обидел? Чуть что, ты срываешь на мне злость. Только что была нежна, и вот…
Кто-нибудь рискнет утверждать, что ты его любишь, — пусть укажет время с точностью до секунды, ибо в следующий миг все разом может перемениться. Ты выскальзываешь из нежности, как из надоевшего платья, а догони, схвати за рукав, с твоего лица глянут вежливо-удивленные глаза чужой, спокойной женщины.
Если мы когда-нибудь поженимся, придется напоминать тебе об этом в письменной форме. Скажем, нашивками на рукаве: «супруг», «супружница», «наши дети». Наглядно и доходчиво. На эту мысль меня навела консультация в детсаду для глухонемых детей. Они еще толком не знают названий самых простых вещей, поэтому на окне у них висит табличка «окно», на вешалке — «вешалка», на аквариуме — «рыбки» и так далее. У некоторых детей сохранились остатки слуха. Между собой они прекрасно объясняются, могут и танцевать (чувствуют колебания пола), но стоит появиться среди них обычному ребенку, как сразу видишь эту вымученность и неестественность. Так и мы с тобой.
Ты пишешь: «Была бы я свободна, другой разговор». Ванда, это самообман! По тому, как ты всячески отдаляешь свое освобождение, я вижу: не хочешь решать всерьез. Тебя все еще терзают сомнения: «не загублю ли бедного юношу», так? В самом начале нашего знакомства тебя еще можно было понять. Но сейчас, сейчас-то что медлить?!
Раньше я подсмеивался над постоянным маминым ожиданием неприятностей. Когда они, наконец, случались, она вздыхала с облегчением: «Всё! Больше бояться нечего». Как я ее теперь понимаю! Быть в непрерывной готовности к потере, балансировать между надеждой и крахом, между смутными проблесками нежности и долгими полосами твоего равнодушия, жить под угрозой в любой момент лишиться твоего подданства, остаться в отсутствии тебя — если бы ты знала, что это такое!
Может, ты знаешь? Вдруг тебе, пусть бессознательно, нравится эта зыбкость? Благодаря ей ты всегда остаешься хозяйкой положения. Что это: кокетство, ветреность? Тихий, с ленцой, азарт: сколько он (то бишь я) еще выдержит? И впрямь забавно: ежедневно бегает на почту, ждет письма, и в то же время боится его, такой беспомощный перед каждым твоим желанием или нежеланием…
— Бедняжка! Пристрелить, чтоб не мучился?
Спасибо, мы уж как-нибудь сами. Застрелимся в рассрочку, чтоб не так больно: чуть-чуть сегодня, чуть-чуть завтра…
Я, наверное, слишком жалею себя. И вообще плохой человек. Но зачем делать меня еще и несчастным? Только ради принципа: «Там, где нет любви, остается лишь одна справедливость». Что мне с ней делать, если я (зачеркнуто). Ладно. Будь.
С.
* * *
Господи, опять ты об этом!
Не знаю, что со мной случится через год, а ты заглядываешь вперед на две пятилетки! Если кто-то из нас и сбежит, то уж никак не я. Ставлю свой ортопедический ботинок против твоего обручального кольца — символы твоей и моей несвободы. Сколько бы ты ни расписывала ваши семейные идиллии, я хорошо запомнил твою фразу о муже: «Ему повезло, что случилась авария и его отдавали под суд». Отдавали, да не отдали. А ты так с ним и осталась, как жена лжедекабриста; поехала в Сибирь, а муж там уже исправником.
Прикажешь и мне попасть в какую-нибудь беду? Ради тебя — с удовольствием! Но даже разжалобив тебя своими горестями, как я уже не раз пытался сделать, не стану ли я еще одним мужем-обузой? Наверно, в тебе борется российский фатализм деда со своенравием польской бабки. Что бы ни брало верх, я неизменно в проигрыше. Плюнь же на свои подсчеты и прогнозы. Давай просто жить друг для друга.
Это уже почти надпись на семейной чашке! Не приобрести ли к ней чашку? Пора уже обзаводиться домашним хозяйством, а ты вдруг стала стращать: «Ты не представляешь, какая я старая! И какой ведьмой я буду потом…» Будешь? Так обращаться с человеком способна только профессиональная, хорошо подготовленная ведьма! Что касается твоего умопомрачительного возраста, то я всегда испытывал почтение к древности. Милая ты моя, милая, никогда ты не состаришься! А я так и помру седым суетливым пацаном. И тебе еще придется сажать на моей могиле цветы. А то и помидоры. Будущий покойник очень их любил.
Лучше я тебе сон расскажу. Дело происходит как будто в древнегреческой крепости (помнишь, я ездил туда в командировку, когда ты отлеживалась после операции). Мы с тобой медленно идем по берегу лимана. Он застыл и слегка подрагивает. Ты объясняешь, что это холодец, и беспокоишься, поспеет ли он к приходу гостей. Я отрезаю скальпелем кусок лимана, в нем трепыхаются какие-то рыбки, креветки. Ты мне подмигиваешь: «Фирменное блюдо!» Идешь по воде, она застывает за тобой. Хочу догнать тебя и не могу: нога будто чугунная. От противоположного берега отделяются какие-то розовые шары и плывут к тебе. Кричу — ты не слышишь. Они все ближе. Я вижу, что это большие розовые торшеры. Наверно, упали с проходящего теплохода, думаю я. Правдоподобие этой мысли убеждает меня в том, что дело происходит во сне. Торшеры протягивают к тебе свои оголенные провода, как щупальца. Ты, наконец, замечаешь их, но бежать уже поздно. Я спешу к тебе, студенистая масса лимана не пускает меня, давит. Вскакиваю… и вижу подлеца Азазелло, который сидит на одеяле и месит лапами мою грудь.
Рассуди: можно ли оставлять человека наедине с такими снами? Приезжай скорее! Сиди по утрам на кухне, неторопливо кури и толкуй мне сны. А я великодушно позволю тебе смотреть их.
Целую.
Победитель торшеров
С.
* * *
Вандочка, здравствуй!
Уехал, чтобы вернуться и застать дома твое письмо. Невмоготу ждать его, сидючи на месте. Взял отгулы и устроился судовым врачом в морской круиз. Кстати, Надюшка помогла — через старпома, жене которого она исправляла носовую перегородку.
Плывем, распугивая медуз музыкой и отбивая у дельфинов желание контактировать с людьми. У людей к ним тоже нет интереса. Такое впечатление, что минут через двадцать наступит конец света и каждый должен успеть доесть, дотанцевать. Над ночным баром вот-вот вспыхнет неоновое табло: «Уважаемые пассажиры! Мене, текел, фарес!» Кажется, я начинаю понимать бабушку Марины-довостребования. А солнце такое мягкое, словно бы извиняется за свои летние жестокости. Линии гор сглажены, размыты, неустойчивы; дунь ветер чуть посильнее, и все облетит, осыпется, медленно, бесшумно осядет. Эта красота слишком просторна для меня одного, она болтается на мне и хлопает по ногам. Тянет оглянуться на тебя: посмотри, до чего здорово! Уж не приехать ли нам сюда вдвоем? Молчу. Ты запретила строить планы и искушать судьбу. А как хочется — сил нет!
После расставания накатывает «фантом ампутированных», знаешь, когда нога отрезана, а она все болит и болит. Вот и у меня полная иллюзия, что ты где-то рядом. Стоит отвинтить колпачок бритвенного крема, как ты тотчас возникаешь за спиной, и чудится, что сейчас мы снова будем толкаться возле умывальника, поочередно втискивая в узкое зеркало то мою намыленную щеку, то твой перемазанный помадой рот. А за обедом вот-вот приподнимется край скатерти, и оттуда с видом низложенного Людовика выползет Азазелло…
В Ялте от нечего делать зашел на переговорный пункт. Там стоят междугородные автоматы, есть выход чуть не на все города страны, кроме, конечно, твоего. Наменял монет и давай звонить по алфавиту. В Архангельске, Астрахани, Белгороде, Волгограде и прочих пунктах твой номер не отвечал. Затаилась! Но где-то, кажется, это был Новокузнецк, я тебя все-таки застукал. Сонный мужской голос ничуть не удивился, а только спросил, срочно ли ты нужна. Если да, то он тебя разбудит. Потом я сообразил, что у них, то есть у вас, была уже ночь. Будить я не решился: ей ли, тебе ли — что мне сказать? Вы все это знаете заранее. Да, но что ты делала в столь поздний час в Новокузнецке? Или то была ты прошлая? Будущая? Значит, сонный мужской голос — мой?!
Работы здесь почти никакой. Только ангина у мальца, Сережкиного ровесника. Его мать чем-то напомнила мне тебя. Но слишком уж решительная, пожалуй, даже грубоватая. Заканчивая возиться с пацаном, я подумал: вот, должно быть, особа, которая не склонна к сантиментам и не рождает таких желаний в других. Как бы не так! Когда они сошли на берег, я обнаружил книжку, которую она забыла. Суровая женщина читала Джейн Остин, «Гордость и предубеждение».
Вдобавок в книжке оказалось письмо ее мужа (или возлюбленного?), который, судя по первым строчкам (дальше я, естественно, не полез), уехал в археологическую экспедицию, потому что она его не любит. И даже стихи:
Но сохнет горло, сохнут русла, Ненужно горбятся мосты, Вот так на сердце сразу пусто, Когда та-та уходишь ты.«Та-та» — это он точно подметил. Всем нам кажется, что именно наша любовь самая неразделенная и удивительная. Хотя, если приглядеться, судьба всех нас ловит одним и тем же нехитрым приемом. Вернее, ловимся мы сами, да еще с каким удовольствием!
Твой С.
* * *
Здравствуй!
У нас семейная драма. Азазелло, подлец, бросил жену с двумя дымчатыми серыми детьми. Она приходила ко мне потереться о ноги, я не выдержал и впустил. Котят назвал Валерьянкой и Валерьяном — в честь твоего мужа. Когда ты говорила со мной по телефону, то сказала ему, прикрыв (но плохо) трубку ладонью: «Валера, это мне» — и я сразу возненавидел это имя! Чтобы отненавидеть, не дергаться всякий раз, я решил приучить себя к нему. Кис-кис, Валерьянчик!
Как давно я уже не видел тебя во сне! Может, в этом виновен не Морфей? Он бы и рад прислать тебя в мои сновидения, но абонент не является. Признавайся, где шастаешь? Да будет тебе известно, что я намерен внедрить дистанционный домострой: ты обязана сниться мне одному! Заявляю об этом, стуча кулаком по столу с такой силой, что оттиснутые на клеенке туземцы ежатся от ужаса и толпами переходят в христианство. А я стучу и требую: прис-нись!
Приснись мне в синем сарафане, с голыми плечами, с пустячными бусами на шее, где — запрокинь-ка голову! — видна россыпь родинок.
Приснись мне с сыном, еще совсем маленьким, он месит тебя тугими голыми пятками, морщится и кричит, ты для него большая и замечательная игрушка — как я его понимаю!
Приснись мне на работе (если, конечно, тебе не засчитают это как прогул). Я посижу в уголке, послушаю, как учесть влияние опрокидывающих моментов при монтаже башенных кранов. Давно пора дать по рукам этим опрокидывающим моментам, иначе порядочному крану скоро нельзя будет вечером выйти в палисадник.
Поскольку в этом сне, сугубо деловом, у меня не было возможности разглядеть тебя за спинами слушателей, я его как сон не засчитываю, и тебе придется присниться мне в эту же ночь, но уже в менее официальной обстановке.
Приснись мне без всего (о тебе ведь не скажешь: «обнаженной»). Но и «без всего» тоже не отвечает истине: все равно на тебе что-нибудь окажется. Может, стыд, который смежает глаза смотрящему? Но попробуй смежи: я буду пялиться на тебя ушами, коленями, подбородком!
В виде компенсации для твоего целомудрия можешь присниться мне в водолазном скафандре с иллюминаторами, прикрытыми двойной чадрой (такой я аятолла!). Войди в мой сон, топая тяжелыми свинцовыми галошами, и остановись на быстро промокающем паркете.
Думаешь, мне обязательно видеть тебя во сне? Чепуха! Зачем, спрашивается, мне эти маленькие уши и яблочные щеки, при взгляде на которые владельцев парфюмерной фирмы «Ланком» охватывает неуверенность в завтрашнем дне? Не лучше все-таки приснись!
Приснись мне обхватившей колени, прислонившейся спиной к дивану, рассеянно стряхивающей пепел в пустую пачку от сигарет, читающей «Моби Дика» (гордись, Мелвилл!), свободная рука скользит по загривку сына, в ногах мурлычет транзистор.
Приснись мне простуженной. Как истый идолопоклонник, я должен время от времени видеть свое божество поверженным. Что же это за божок, если его самого иногда не приносить в жертву?
И тут же приснись выздоровевшей, но еще слабой, в старом красном халате, который не скрывает от пытливого взора слегка покрасневшую шею; если приглядеться, на ней можно различить зеркально оттиснутые буквы: «Волгоградский завод горчичников».
Чуток передохни: сейчас тебе предстоит трудная работа. Есть? Вспрыгни-ка мне на колени — хоть во сне! — белобрысой норвежкой в расшитых бисером варежках. Отродясь не держал на коленях норвежек, а это ба-альшой пробел в образовании!
А теперь попрошу очистить от посторонних помещение спальни! Будет демонстрироваться учебный сон «Любовь на противовсяких учениях». Появляется фигура в полном боевом наряде: изящно-защитные бахилы, противоипритное пончо, антирадиационный купальник, противогаз, отделанный рюшами, рядом служебная собака, тоже в противогазе, но без рюшей — нечего животную баловать!
Устала? Вольно! Явлюсь к тебе с ответным сном. Только в каком виде: напустив ли на себя членкорреспондентскую важность, верхом ли на белом единороге, почтительно ли стоя на одном колене и чуть на отлете, как кивер держа свою дурацкую голову?
Если ты все еще не надумала, как именно мне присниться, то я оставлю несколько заявок на будущее. Прошу привидеться мне в следующих видах:
— пекущей блины (какой подгорит, положи его в тот уголок сна, куда я смогу за ним дотянуться: страсть как люблю все горелое!);
— купающей сына;
— едущей на тендере паровоза и тайно щекочущей кочегаров прутиком, из-за чего они сперва перестают бросать уголь в топку, а затем вынимают оттуда уже брошенный, чтобы вернуть его на шахту «Шикарная-два-бис» и тем самым позволить горнякам выполнить план квартала (с ударением на «ква») по добыче (с ударением на «до») угля;
— с веслом, но не гипсовым, а настоящим, ты помешиваешь им варенье из жимолости, оно булькает в блестящем тазу, столь медном, что он бы сгодился на пиратской шхуне, чтобы отбивать на нем сигнал к абордажу, что, однако, чревато угрозой боцману.
* * *
Спасибо за книжки!
Особенно ты меня уважила Битовым. Открыл, и сразу: «Откуда они взяли — жены, дети, — что она все время и каждую секунду должна происходить, жизнь! И еще не просто сама по себе, а по нашим о ней представлениям!» Насчет его Монахова ты, возможно, и права: новый «Герой нашего времени». Но давай подождем, пока минет это время, пока оно отстрелится от нас, как первая ступень ракеты.
Что останется от него? Представь человека, который читает наши письма через сто, нет, даже через пятьдесят лет — к каждой строчке понадобится страница сносок и комментариев! Как объяснишь, что такое койко-день? Челентано? Облздрав? Почему нельзя было заполучить лишнюю ставку анестезиолога или прилетать на выходные в Усть-Рыбинск? Какая война имелась в виду во фразе: «Это было еще до войны»? До чего же наивно и суетно будут тогда выглядеть сетования и сомнения, предвидения и фиктивные надежды, вся эта дребедень, в которой варишься каждый день и вывариваешься до того, что начинаешь видеть в ней первопричину всех бед! Хорошо еще, если наши письма вместе с другими старыми бумагами сдадут в макулатуру, чтобы обменять ее на Дюма («Видимо, в ту эпоху бумага играла роль менового эквивалента», — пометит на полях позднейший исследователь). Для его удобства надо бы стилизовать нашу переписку под старинный роман в письмах? Начало — про случайно найденную в старом комоде связку полуистлевших листков и т. д. — я поручаю тебе. За мною остается финал (должно же хоть где-то остаться за мной последнее слово!). Как ты посмотришь на такой вариант: «Покинем же наших счастливых влюбленных, которые…» и т. д. Или что-нибудь более нейтральное: «Он входит в палату, и она улыбается ему бледными искусанными губами…» Улыбайся, не подведи!
Сижу в прокуренной ординаторской возле учебного скелета Фили, попиваю чай и орлиным взором пронзаю будущее. А наш гипотетический потомок нетерпеливо пробежит мои ретро-каракули и задержится разве что на одной-единственной фразе: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ВАНДА!» А может, и не задержится. Эй, потомок! Пришли ответ с попутной машиной времени. Пока она тащится к нам, подпрыгивая на ухабах високосных годов, я целую тебя. Поцелуй — чем не единица измерения времени и пространства! Сколько же поцелуев до тебя: пятьсот, двести, тысяча? Или один-единственный, после которого уже нет ни пространства, ни времени…
С.
* * *
Так захотелось к тебе! Все понимаю: и «потерпи еще немножко», и «сейчас никак не вырваться». Каждый день — Азазелло свидетель! — провожу с собой воспитательную работу. Но утром встаю все с той же мыслью: хочу к тебе!
Если все время подавлять свои желания, то в конце концов подавишь или свихнешься. Я выбрал средний вариант. Встал. Беспощадно побрился. Вытер лезвие полотенцем. Из принципа — нечего меня поучать мелкими буквами на обложке: «Промывать, но не вытирать!» Я же им не пишу: «Не выпускать тупые лезвия!» Побрызгался твоим лосьоном (проклятая память запахов!). Взял шариковую ручку. Стал перед зеркалом. Написал у себя на лбу: «АВИА». На щеках вывел твой адрес и фамилию. На обратный адрес места не хватило, да и зачем он тебе? Когда очень хотят ответить, письма доходят и без адреса.
Упаковать себя в посылочный ящик я, конечно, не смог. Пришлось тащиться на почту. На мое счастье, была смена Марины. Когда «до востребования» смотрит она, мне обязательно есть письмо, а когда вторая, Наташа, — ни разу.
Увидев меня с адресом на физиономии, Марина ничуть не удивилась, а только подмигнула:
— Сюрприз, да?
Она проворно искала подходящую для меня тару ж попутно рассказывала о своих домашних делах. У Марины двое детей и безумная бабушка. День-деньской бабушка сидит у телевизора, смотрит подряд все передачи: боится пропустить, когда объявят конец света. А Марина смеется и грызет семечки. Любимый ее сорт — большие, серые, «конский зуб». По традиции приношу ей кулечек. На нижней губе у нее, как всегда, висит шелушинка. Единственная женщина, которая всегда рада меня видеть. Но сегодня Марина обеспокоена:
— До Усть-Рыбинска посылкой будет сильно долго. Может, полетите?
— Нет, — решительно отвечаю я.
— Посылкой так посылкой, — соглашается Марина.
На ее лице написано: «Конец света? Ладно. Но почту все равно нужно отправлять».
— Не забудьте пометить, где у вас верх, — деловито посоветовала она. — И нарисуйте на ящике рюмку. Вы же хрупкий груз, да?
— Да, — сознался я. — И сырости боюсь.
— А я вам под бока ваты или стружки, — успокаивает Марина.
Закругляюсь. Марина нагревает сургуч для печатей. Скоро я выпаду из твоего почтового ящика. До встречи!
* * *
Ванда, он хотел (зачеркнуто), он чуть (зачеркнуто). Мы проводили шепотную пробу. Красовский объяснял студентам: «Поставьте больного в четырех-пяти метрах от себя. Попросите, чтобы он отвернулся и закрыл слуховой канал мокрым пальцем. Мокрым — для звукоизоляции, чтобы палец лучше прилегал. Отвернуться — чтобы больной не мог догадаться о содержании теста по движению ваших губ». Дальше идут цифры или случайный набор слов. Вот и вся шепотная проба.
Я сидела рядом, вписывала данные в карточки. Вдруг слышу: «Ванда». Думала, померещилось. Вошел следующий больной, Красовский снова стал шептать. Сперва цифры, отрывки слов. Потом снова: «Ванда, любимая… Ванда Воронова». Больной недослышал и сказал: «Воробьева». Саня поправил его, тот еще раз повторил: «Ванда Воронова… Любимая Ванда…» Я больше не могла, выскочила из кабинета. Он вдогонку крикнул, чтобы я принесла ему чая. А я была как заведенная, ничего не соображала. Схватила три ампулы диацентала, влила их в чай и бросила ложку смородинового варенья, оно у меня всегда стоит в шкафчике.
Я подумала, что вы ему рассказали о моем письме, ну о том, с дня рождения, и он вот так решил свести со мной счеты. Мы последние дни почти не разговаривали, только по работе. А я к нему уже так привыкла!
Принесла чай, больных уже не было. Он взял стакан, сказал, что горячий, и поставил на столик. И тут его позвали к телефону — как в кино. Я тогда выпила все залпом и отключилась. Помню, когда я грохнулась, мои часы хрустнули, Вадика подарок. Но меня почти сразу нашли, потому что комсомольское собрание, а меня нет. Отнесли в реанимацию.
Потом Саня отвез меня к себе, выхаживал трое суток. Я уже снова поверила, что он (зачеркнуто). Я чуть не сказала ему о (зачеркнуто), но потом решила: пока я не (зачеркнуто), он ничего не должен знать. А ночью он сквозь сон стал бормотать про какой-то лиман или лимон, про торшеры, потом так ясно: «Вандочка! Ванда!» Я снова хотела травиться, но второй раз труднее.
Ванда, у вас есть сын, а у меня уже и диацентала нет, а я сейчас (зачеркнуто), если он снова меня начнет жалеть, то я могу (зачеркнуто), тогда все мы (зачеркнуто до конца страницы).
До свидания.
Лера
(Письмо не отправлено.)
* * *
Саня, привет!
Я не люблю стихов, ты знаешь, но вдруг наткнулась на одно симпатичное.
Вот:
Рослый стрелок, осторожный охотник, Призрак с ружьем на разливе души, Не добирай меня сотым до сотни, Чувствам на корм по кускам не кроши.Пока!
Лера
* * *
Голубчик мой!
Когда я летел к тебе, в аэропорту спросили:
— Что везете?
— Ничего.
— Пройдите через контроль. Прохожу — звенит.
— Консервы, запчасти, приборы?
— Да нет у меня ничего!
Рылись в портфеле — сигареты (твой блок «Феникса»). Вернее, станиолевая обертка. Вот вам и воздушный террорист!
Сегодня ночью у меня внутри тоже звякнула какая-то контрольная штука. Может, я преувеличиваю эту историю. Расскажи я тебе о (зачеркнуто), ты, возможно, не снизошла бы до того, чтобы в этом (зачеркнуто) увидеть или быть задетой тем, что (зачеркнуто). Ванда, Вандочка! Если бы я мог тебе объяснить все! Я мобилизовал свою силу воли, гордость и прочие ударные качества. Когда же они выстроились на бумаге, я увидел зигзагообразную шеренгу нестроевых уродцев: у гордости горб, сила воли на костылях, самообладание корчится и кашляет в мятый платок… господи, дай мне силы и на этот раз отшутиться, заболтаться, нагромоздить ворох слов — как мама зимой укладывала между оконными рамами толстую вату и ставила склянку с серной кислотой, чтобы впитывалась влага.
Что мне делать? Набить самому себе морду? В Саудовской Аравии мне полагалось бы наказание с Кораном: палач сечет виновного плетью, но под мышкой у палача зажат Коран. Книга довольно толстая, так что сильно не размахнешься. Да казнь страшна больше позором.
В детстве я мечтал научиться верховой езде. Не из романтики — на коне хромота незаметна. Кое-как научился, а толку? Пока помнишь, что хромой, гарцевать для сокрытия этого изъяна бессмысленно. (Видишь, я не удержался и от попытки разжалобить тебя моей хромотой.) Глупо каяться, не объясняя вины, но позволь избавить тебя от этого. Прощай, любимая моя.
Меня ли простить? Проститься ли со мной? Напиши, если сможешь.
(Письмо не отправлено.)
* * *
Привет на Большую землю!
Когда в интересах науки мне отрубят голову, то на срезе шеи, как на пне, обнаружатся кольца. Чем уже кольцо, тем меньше солнца и влаги было в тот год. Вот еще один засушливый для меня сезон. А до чего ж хотелось с тобой куда-нибудь завеяться в безлюдье, бестелефонье, безэрмитажье! Поваляться рядышком в лесу, или, пока ты спишь, походить босиком вокруг тебя… Как же, дождешься! У тебя миллион отговорок. Виноват, оказывается, мой эгоизм. Почему это я, видите ли, не согласился прилететь к тебе, вернее, к вам, в Усть-Рыбинск? Какая идиллия: ходить по грибы всем семейством! «Вот боровик, вот мой муж, это поганка, а это наш гость, доктор Красовский. Правда, у нас чудесно, доктор?» Правда! У меня на тебя никаких прав, я кругом виноват, я нетерпеливый, суетливый и суеверный, ты можешь сделать со мной все, что угодно, даже бросить, но только не это! Пока он существует между строчек, в местоимениях: «мы ходили на лыжах», «к нам пришли» — как обстоятельство места твоей жизни, как отец Серого, — это еще как-то укладывается в моей голове. Укладывается, как сваливаешь в угол вещи: пусть полежат, авось когда-нибудь дойдут руки и приберем.
А теперь прибирают меня. И еще как бы с пользой для меня же: «Если бы ты появился в своем белом халате и с зеркальцем на лбу, потом многое было бы легче». Ванда, ты же умница, подумай сама: ну какой из меня конспиратор? Ваш семейный скандал мне на руку, это ускорило бы развод, но ты и об этом подумала: «Не рассчитывай, что ты вызовешь Валеру на дуэль, а я уеду с тобой. Я еще не готова. Не торопи меня, ладно?» Ах, ладно, ладно… Наверно, ты мудрее и практичнее и делаешь все так, чтобы в конечном итоге было лучше нам обоим, вернее, всем троим. Я могу ждать тебя и год, и два, и пять лет, но два дня — никак! И ты, отлично зная это (зачеркнуто).
Мы как-то разговорились с Пашей о превратностях семейной жизни. Иногда он просит ключи от моей комнаты, тогда я выхожу на ночное дежурство, а он как бы срочно уезжает по вызову. Об этой женщине я знаю только то, что это давняя, еще с института, его любовь. Оба повязаны детьми, а у нее на руках еще мать-сердечница, так что о женитьбе и мечтать не приходится, они оба это понимают. Пашина жена моложе ее, дома у Паши все блестит, чего, казалось бы, еще? Может, просто человек по своей природе полигамен? Паша признает, что без семьи нельзя, но полагает, что их может быть несколько, при условии, что к каждой относиться серьезно. Эта женщина — праздник, который не всегда с ним. Трудно быть готовым к празднику. Но я уже заранее вижу, как Паша меняется перед встречей с ней… По-моему, это может тянуться вечно. Никто не хочет решительных перемен ни в чем: вдруг от этого будет только хуже? И только дети, ради которых все как бы сохраняется в неприкосновенности, с пониманием относятся к естественным вещам (а что естественнее тяги людей друг к другу!). Конечно, если не подзуживать детей, не растравлять в них обиду или жажду мести. Они куда лучше воспринимают наши принципы и идеи: мы лишь соблюдаем правила игры, они живут ею.
И я им завидую, хотя ты меня и упрекаешь в инфантильности.
Отец рассказывал, как однажды к нему привели одного тугоухого, которого задержали мальчишки. Дело было сразу после войны, слуховые аппараты делали не как сейчас — батарейка и проводки: большущие наушники, на груди ящик с электропитанием. Мальчишки приняли этого дядьку за немецкого шпиона-радиста и чуть не прибили. Пойди докажи, что ты глухой! Какая экспертиза — беднягу усыпили под наркозом и стреляли у него над ухом. Он не вздрагивал от выстрелов, тогда поверили. Выпустили, а через день снова поймали. Так и тягали, пока он не запасся справкой, что глухой.
Где мне взять справку для тебя? И какую? Ведь грешен! Я как тот командированный из анекдота, который давал жене телеграмму: «Но люблю я только тебя!» Если ты чувствуешь это и без телеграммы — хорошо. Нет — сведем все к моему эгоизму и распрощаемся на лето. А мы уж с ним, с эгоизмом, скоротаем отпуск как-нибудь вдвоем. Есть же на свете места кроме Усть-Рыбинска и закусь помимо грибов.
Целую.
С.
* * *
Эй, на материке!
Здесь не развита кустарная промышленность, а то бы прислал в подарок шкатулку с надписью, выложенной из ракушек: «Привет с острова Гадючий!» Тебе остается поверить мне на слово, что такой остров существует. Его можно накрыть одними клёшами, да и тех, считай, нет. Полгода штаны надевают здесь лишь по праздникам или перед приездом начальства, но все это так редко! Даже на утреннее построение личный состав выходит в одних плавках. Меня это сперва забавляло, но через неделю и я включился в общеостровную нирвану. Странное чувство: отъединенность и невостребованность. Мне не привыкать: для тебя я всегда — на острове.
Я приехал с подводно-археологической экспедицией. Они изучают прибрежные гроты и остатки затонувших кораблей, я — их носоглотки и барабанные перепонки: еще одна глава диссертации. Чуть не стал первой жертвой изучения: мне так понравилось под водой, что забыл вовремя вынырнуть. Наконец-то попал в свою стихию! Плывешь — как перелистываешь историческую книжку с картинками. Сережку бы сюда! Здесь жили древние греки, потом на Гадючем стояли римские легионеры. Дно усеяно обломками амфор, иногда в сети попадают и совсем целехонькие. Но груды современного хлама: размочаленные штормом деревянные балки, якоря, скрученные в узел железяки, обрывки цепей. А между ними извиваются черные змеи — бр-р! Вообще-то это просто морские ужи, говорят, вполне безвредные. Но когда в воде натыкаешься на стаю полуметровых змей, тут не до зоологии. Стоит аспиду показаться на берегу, как в каждом островитянине просыпается Георгий Победоносец. Гадов избивают так яростно, что остров вот-вот придется переименовать в Безгадный.
Из экзотической флоры и фауны (как всегда, я забыл, кто из них растения, а кто наоборот) тут еще живет Юлечка. Самая прекрасная женщина острова, ибо единственная. Ее муж, мичман Сахно, наблюдает за течениями, за откормом своих свинок, а главное, за тем, чтобы личный состав не уединялся с Юлечкой. Личный состав можно понять: на Гадючий месяцами не попадает не то что женщина, а угольная баржа. Но где уединишься на этом скалистом обломке Отечества, который насквозь просматривается и прослушивается? Поэтому ребята с нетерпением ждут вечера, когда крутят кино, и долго препираются из-за того, кто сядет рядом с Юлечкой. Один фланг прикрывает собой мичман Сахно, с другого же при благоприятном стечении обстоятельств можно погладить Юлечкину коленку или ущипнуть гладкий бок. По-моему, ей совершенно все равно, но мичман бесится! Полсеанса он следит не за экраном, а за неприкосновенностью супружеских границ. Поймает кого-нибудь на месте преступления и по привычке разражается самой страшной флотской угрозой: «Оставлю без берега!» А здесь и так все списанные на берег, и берег — вот он… Это не помогало, и Сахно приказал, чтобы кино крутили при включенном свете. Номер не прошел. Во-первых, движок стараются зря не включать: неизвестно, когда привезут солярку. А во-вторых, смотреть одни и те же затертые ленты по двадцать раз, да еще при электричестве — даже для острова Гадючий это слишком. Но мичман стоял на своем и поплатился за это. Одна из его лучших свинок вскоре пала жертвой неизвестного злодея. Через день и другая. Этого Сахно снести не мог. Кино снова стали крутить в темноте, но Юля туда больше не ходит: они смотрят телевизор. Он принимает только Румынию, да и ту почти без звука: вокруг столько радаров и локаторов, что по количеству помех на один телевизор наш Гадючий занимает первое место в мире. У румын же в передачах не столько действуют, сколько поют — поди догадайся, о чем!
Но Юлечке и это все равно. Она живет вяло, невнятно, как сквозь сон. Все, что происходит с ней и вокруг нее, принимает как естественное и неизбежное. Неужто это и есть счастье: отсутствие желаний? Муж вдвое старше ее, но они проживут сто лет и не поссорятся. Так что его ревность скорее традиционная, уставная. Почему эти двое так занимают меня? Как человек, у которого родился ребенок, начинает приглядываться к встречным детям, так и я высматриваю в самых разных парах что-то сходное — и, представь, углядел в Юлечке и Сахно нас с тобой.
По странному (впрочем, что может быть странного на этом острове?) стечению обстоятельств это случилось в мой день рождения. Хорошо, что он пришелся на Гадючий, иначе я извертелся бы в ожидании твоего письма или хотя бы телеграммы, а здесь и надеяться не на что. Лучше поздравь меня с Днем медработника. Легальный повод черкнуть несколько ласковых слов. Табельный день, табельная нежность.
Но вернемся к именинам. По случаю моего тридцатилетия личный состав вручил мне шикарный нож для подводной охоты и здоровенного катрана. Это настоящая акула, только маленькая, с метр. Мясо у нее противное, а печень вкусная и, главное, ритуальная: фирменное блюдо для посвящения в аборигены острова. Поздравляю: теперь у тебя есть знакомый гадючник!
Пытался осознать значительность момента: как-никак, позади тридцать лет, лучшая половина жизни. Но моя жизнь теперь делится иначе: до встречи с тобой и после нее. И если бы сегодня я вдруг не вынырнул из моря или свалился бы со скалы, то единственно правдивой эпитафией мне было бы: «Он любил Ванду». Хотя, скажу тебе по секрету, умирать совершенно не хочется. Не боязнь смерти — неимоверная вдруг появилась тяга к жизни.
Мы поорали песни и разбудили половину моря. Потом веселье иссякло, гитару сломали, все притомились… Тут я и услышал, как Юлечка тихонько поет: «Ах, ты идешь, ногою льдинку гонишь ты, ах, я иду, меж нами метров сто, ах, ты идешь и ничего не помнишь ты, ах, я иду, иду и помню все…»
Значит, что-то бередит и ее, румяную, пухлую, сонную? Память? Ожидание? Какая ночь, Ванда!
Мичман давно заснул, расклинившись ногами и руками по морской привычке — чтобы не выпасть из койки во время качки. Но к Юлечке никто не приставал. Мне вдруг захотелось поговорить с ней о тебе, о том, почему ничего у нас не получается… Но слишком слитно все было вокруг: мерное хрупанье волн, по-лошадиному жующих охапки песка, татаканье движка, красный глаз маяка, который завистливо косится на вереницу огней, всю ночь плывущих из одного никуда в другое, жутковатый скрип радаров, беспрерывно выкачивающих информацию из неба и моря, обломок амфоры, ставший кормушкой для свиней… Начни об этом говорить, и все исчезнет, растает, уйдет на дно…
Как я кляну себя за то, что в твой краткий приезд тратил время на суету, беготню, а не запасался тобой на целую жизнь вперед! Ненавижу тебя! Ты мешаешь мне видеться с тобой! Ненавижу твои платья, свитера, кофты, которые прячут от меня твое теплое и спокойное тело. И кольца ненавижу: зачем они закрывают от поцелуев узенькие полосочки твоих пальцев?
Крепко зажмуриться, представить тебя здесь, на острове. Плавать бок о бок в прозрачной медленной воде, плавать, пока к вечеру она не приобретет цвет старого муската (Гомер так и называл это море: «Винноцветное»), отогреваться на песке, где соскучившийся по галантности ветер наперегонки со мной будет перелистывать твой детектив; или нет, — просто лежать рядом и смотреть на тебя и легонько сыпать на твою безмятежно-смуглую спину меленький песочек, он, конечно, слетит, как только ты потянешься за бумажкой для облезающего носа, но разве это может обескуражить человека, обладающего запасами в миллиарды песчинок; мы лежим на берегу древнегреческой бухты; мы как живые, но разомлевшие от зноя песочные часы, вдруг вскрикивает сирена, ты вздрагиваешь, но это еще не война, а сигнал на обед, мы медленно идем к столовой, на твоих плечах веснушки, как новенькие лейтенантские звездочки, небо над тобой сине́е, чем над всеми, а штурманы судов, днем и ночью ползущих мимо острова, сворачивают шеи и штурвалы, стараясь хоть чем-нибудь привлечь твое внимание или просто встретиться взглядом с твоими глазами, от которых море у острова стало отсвечивать зеленоватым… сколько столетий подряд одни и те же банальности приходят в голову людям на этом куцем скалистом обрыве, но пока ты идешь рядом, история начинается снова; впереди Троянская война, нашествие гуннов и открытие Америки; и мы снова встретимся, и будет лето, и оно сгорит дотла, как и не было, значит, не будет.
Я иду чуть сзади тебя и размышляю: зачем природа так неразумно щедра? Нужны ли двум все одинаково видящим людям две пары глаз? Зачем нам, слышащим одно и то же, две пары ушей? Нужен ли «нос-ты» и «нос-я», если они улавливают один и тот же запах? Оставьте каждому из нас только губы и руки. Оставьте нас вдвоем. Оставьте!
А лучше не приезжай. Скоро здесь начнутся затяжные штормы и дожди. Волны захлестывают так далеко, что приходится идти, держась за веревки, которые протянуты к маяку, столовой и к туалету. Воздуха нет, одна водяная пыль, скалы вздрагивают от ударов. Кажется: лопнут эти веревки, и наш островок сорвется с места и понесется, заваливаясь под крутую волну, до самого Гольфстрима. Да и без курева тебе будет трудно. Его привозят редко, личный состав охотится за чинариками, выковыривает их из щелей между скалами. Тем же заняты и полудикие овцы, для которых окурки привычнее травы; ее давно выжгло солнце и высолило море. Но, господи, как бы я хотел остаться с тобой здесь!
Пойду-ка лучше нырну. Вдруг повезет: выловлю бутылку, чтобы запечатать в нее это бесконечное письмо. А то допишусь до того, что оно и в бочку не влезет.
Что еще? Будь счастлива. Или, по крайней мере, здорова.
Твой Саша
* * *
Здравствуй, родная!
Вот я и прибыл на Большую землю. Первым делом навестил почту и больницу. Как и следовало ожидать, писем нет, а болезни есть. Опять захворал полковник Котя. Надюшка пустила слух, что это одна видимость: ради того, чтобы получить вторую группу инвалидности и пенсию. Но для этого он выглядит слишком скверно. Нехорошие у меня предчувствия.
В остальном жизнь ослепительна. Целый день наслаждался городом, слонялся по улицам, ездил в троллейбусах, покупал у бабки на углу семечки, а у ее конкурентки — козинаки. Они были завернуты в старый, но такой новый для меня «Огонек», ел и читал часа два. Благодать! А напоследок дал себе ударную дозу кинематографа.
То ли я отвык от новых фильмов, то ли за время моего отсутствия это искусство ушло слишком далеко вперед, но я сидел и тихо помирал. Эх, нет здесь ребят с Гадючего: такой фильм можно смотреть и без Юлечки! Оказывается, теперь не только в Голливуде, но и у нас женщины под одеждой голые. И не какие-нибудь там Кабирии, а даже директора фабрик. Конечно, они шастают нагишом не просто так, а как бы доказывая, что ничто человеческое им не чуждо. Появились и всякие ужасы: катастрофы, пожары, извержения, причем даже с травмами средней тяжести. Кое-кто слегка заблуждается, чего-то недопонимает и вообще ходит в джинсах. Но к концу второй серии все становится на свои места. Ребята и девчата из первой серии — они только с виду голые или в джинсах, да и заблуждались они из лучших побуждений. Протрубит труба, и сразу все станут истинными и искренними. Пусть при ликвидации аварии кто-то чуть-чуть обгорит или сломает руку-другую, не беда: в загсе за него распишется друг, и все с улыбками и цветами побегут навстречу новым испытаниям, которые мужественно розовеют вдали.
Да что я? Ну шито все белыми нитками, ну муляж героя сражается с муляжом опасности, но ведь сидишь и смотришь! А пацаны, те бегают по три раза: интересно. Какие актеры, какие съемки! Потому и веришь, что невсамделишная, искусственная жизнь со всех сторон так плотно обросла привычной, знакомой и похожей, нашими обычными ситуациями, песнями, бытом. Знаешь, когда дикий виноград густо обвивает проволоку, от этого она кажется тоже зеленой и живой, еще чуть-чуть, и пустит тоненькие стальные побеги… А может, так и случится? Неживое прирастает к живому, становится его частью. Под бетонными столбами появятся грибы-подбетонновики, все переплетается, срастается, и уже никто не разберет, как было вначале… Я снова вспомнил ту женщину на похоронах, ее крик: «Она живая! У нее теплые ручки!»
Обмануть можно только того, кто хочет поверить в обман. А иногда так хочется! Недавно вычитал у Трифонова: «Он смотрел в окно и думал: почему почти уже нет? Какой вздор. Так не бывает. Не может быть «почти жизнь» или «почти смерть». В том-то и дело, что может! И тянуться она может долго-долго: пока мы мчимся на работу и с работы, не понимая, не успевая подумать, зачем и куда, потому что время нас несет и заставляет беспрерывно что-то делать, как в настоящей жизни: бьется сердце, поднимается и опускается грудь, пульсирует кровь, но все это механически, и это длится годы и годы, а может и оборваться в любой момент, но никто не знает когда, и поэтому есть надежда на… на все.
Видишь, что значит пожить на полуобитаемом острове. Когда это рядом, то привыкаешь, а стоит отойти в сторонку хоть немного…
В нашем с Пашей кафе, в «Солнечном», есть один чудик, вечно бормочет стихи. Одно сейчас вспомнил:
Все, что с витрины магазина Рябыми каплями стекло, Жизнь, отраженная в витрине, Стеклом рожденное стекло. Большой хоккей, большие стирки, Большие планы на вчера… Сидят гомункулы в пробирке И коротают вечера.Ах, тебя бы сюда, Ванда! Но ты стоишь на другом конце земли и дышишь на замерзшее стекло. Зачем? Мне все равно не пролезть в этот протаявший кружок. Только прижаться губами с той стороны.
Я тебя целую и люблю.
* * *
Да здравствуют межведомственные совещания — высшая форма существования белковых тел!
Пишу, а перед глазами неизвестный, но уже благословенный город Пенджикент, где намечено ваше совещание. Какое замечательное название: Пен-джи-кент! В нем урюки, арыки и ты. Четыре дня вместе — с ума сойти! Бейте в барабаны и в эти, как их, в тимпаны! Раздайте детям леденцовых петушков на палочках и объявите амнистию! Если некому, срочно кого-нибудь арестуйте и тут же выпустите на свободу! Четыре дня!
Азазелло иронически поглядывает, как я мечусь по кухне с твоим письмом. Он прав: в последний момент все опять пойдет прахом. Чума, самум, цунами, басмачи, ты потеряешь свои любимые темные очки, без которых с места не стронешься, — сколько возможностей для невстречи! Вандочка, голубчик, пусть хотя бы мысль об обещанных мною ста порциях мороженого приведет тебя в Пенджикент! Съешь все разом, опять застудишь горло, опять попадешь в больницу, я сделаю тебе операцию… и все вернется на круги своя.
Мы, наверно, потом будем вспоминать эти дни ожидания как лучшие в своей жизни, но пока (зачеркнуто).
Полно. До встречи осталось двенадцать дней. Вру, 11,5: у тебя день начинается на полдня раньше.
Целую и бегу отпрашиваться с работы. Бедные мои больные! Ей-богу, отслужу вам!
С.
* * *
Так непривычно!
Ты лежишь в двух метрах от меня и спишь. Ветер шевелит занавеску, а я сижу на подоконнике и по привычке пишу тебе письмо.
Представляю, как ты фыркнешь, когда завтра в самолете найдешь это письмо среди еще свежих лепешек! Одну я, правда, украл у тебя и спрятал. Здесь, в Средней Азии, есть такой обычай: когда уезжает близкий человек, на пороге дома ему дают надкусить лепешку, потом ее заворачивают в чистую тряпицу и хранят до его возвращения. В некоторых домах такие лепешки лежат еще с войны. Но я надеюсь, что нашу мы доедим еще прежде, чем она успеет зачерстветь.
(Ты что-то сказала во сне, кажется, позвала меня. Так тихо, так жалобно, как никогда не говоришь наяву. Какая же ты настоящая?)
Мы еще не расстались, а я уже скучаю по тебе. Мне мало тебя живой, тихо дышащей, и я жадно уничтожаю свой НЗ: воспоминания об этих четырех днях в Пенджикенте.
На всякий случай я настраивался на то, что ты не приедешь, но тем сильнее ждал самолета. Трап не подгоняли минут двадцать, а может, и год. Потом не было автобуса. Потом пассажиры медленно-медленно выходили из автобуса и плелись к выходу. Первая группа, вторая… Оставалась еще маленькая кучка. Я понял, что тебя нет и там. И пожалел, зачем я не близорук: можно было бы вглядываться в расплывчатые силуэты и до последней секунды надеяться, что ты все-таки прилетела. В этой группе были и женщины. Я мысленно делал их фигуры то стройнее, то полнее, подгонял черты лица, как на фотороботе, лишь бы одна вдруг оказалась хоть отдаленно похожей на тебя.
Конечно, все это бессмыслица: если людям хочется быть вместе, то часом раньше или позже… Но я загадал (уже который раз!): прилетишь — все будет хорошо. И слонялся весь день по аэропорту, как дурак, со своими розами (потом ты усмехнешься: «Розы — это так жарко!»). Следующий рейс, которым ты могла прилететь, был через сутки, но ты совершенно алогично возникла откуда-то из Кургана или Иркутска.
Когда мы поженимся, я специально буду отсылать тебя в командировки, чтобы видеть, как ты прилетаешь. Тебе так идет утыкаться носом в цветы! Потом ты очень правдиво изобразила, как я иду с тобой по аэропорту, победно озираясь по сторонам: не собирается ли кто отбить тебя? Я бы и сам отбил, чтобы лишний раз почувствовать, что ты моя. Нет — со мной. Стать чьей-нибудь ты не способна при всем своем желании. Ну и ладно! Ходи сама по себе, но рядом со мной.
(Ты опять вздрогнула, пальцы поползли по простыне. Не верится, что через год мы будем мирно читать перед сном в постели или вместе смотреть по телевизору какую-нибудь муру, но может ли она быть мурой, если смотришь ее вместе с тобой?)
Я приготовился к тому, что ты опять выставишь меня, но решил: на этот раз клянчить не стану. Ты, наверное, все поняла и нарочно дразнила меня, посылала то за водой, то за сигаретами. Приношу — темно! И на подушке твоя смуглая рука со светлой полоской от часов. Ах, Ванда! Как мне хочется разбудить тебя!
Помнишь пенджикентский музей, выставку древних блюд? Там ходил слепой узбек с сыном. Он расспрашивал мальчика, где что изображено, тот подробно пересказывал ему. Так и я теперь гляжу на все твоими глазами.
Я вижу маленький базар — оранжевый, желтый, зеленый, красный, огненный — наборы для плова; свисающие узкие полиэтиленовые мешочки со жгучей корейской капустой — чимчой, бруски сладко блестящих вяленых дынь в красных и черных прожилках: совсем, как колонны в метро «Маяковская» (если бы метро вправду было такое, ты слизала бы эту станцию за день!); вижу в глубине двора маленький голубой минарет, ты сказала: «Карманная мечеть»; закопченный медный кувшин для мытья рук, который привязан на заднем дворе чайханы; старые, скрепленные проволочками фарфоровые чайники — чем почетнее гость, тем чайник дряхлее; аистов на высоком сером карагаче, я перемигнулся с ними насчет доставки на дом будущих Александровичей и Александровен; вижу кладбище, чем-то смахивающее на спортзал: кое-где на старых могилах стоят лесенки, как шведская стенка, может, по ней покойник должен взбираться на небо; у нынешних нет надежды и на это, вместо лестниц — гладкие надгробные плиты, на которых высечены профессиональные символы умерших, особенно часто повторяются бухгалтерские счеты с трагически отброшенными костяшками, по числу прожитых лет; откуда здесь столько бухгалтеров и экономистов, что же они считали-пересчитывали в маленьком сухопаром Пенджикенте, который сконфуженно жмется к горам, в древности — столица, шумный караванный город, а теперь захудалый райцентр, предпочитающий забыть о своем прошлом, чтобы не унижаться сравнением тех прежних дворцов и караван-сараев с сегодняшними домишками, плотными и желтыми, словно загустевшие комки зноя; вокруг них лежит зной, еще не сжавшийся до каменности, но уже такой вязкий, что твой самолет разбежится и не сможет взлететь, застрянет в синем плотном воздухе, застынет в нем, как жук в прозрачной пластмассе, знаешь, бывают такие набалдашники в машинах у водителей-пижонов; ты выйдешь из монотонно жужжащего самолета и останешься здесь до зимы, когда воздух остынет и потеряет свою плотность; ввечеру мы будем медленно гулять по главной улице Пенджикента, и машина-поливалка, поравнявшись с нами, почтительно опустит свои струи, чтобы не забрызгать твое вишневое платье: высшая степень уважения, которую здесь оказывают только аксакалам да начальнику ГАИ; покончив с ежедневным приемом больных, я буду сидеть на крылечке, слушать, как ты гремишь кастрюлями, медленно грызть соленые урюковые косточки, похожие на миндаль, а луна…
(Из-под простыни высунулась пятка. На ней полоска лейкопластыря, как нашивка «За упорное ношение новых босоножек». Нога почувствовала себя одиноко и спряталась. Серый любит утром щекотать тебе пятку. Я очень его понимаю!)
Мне бы так хотелось с ним поладить. Не подлизываясь и не строя из себя Макаренко плюс Спока. Он здорово привязан к отцу, так что (зачеркнуто), но если уж заводить детей, то (зачеркнуто).
Все. Пора будить тебя.
Лети и поскорее возвращайся ко мне!
Иду жарить яичницу.
Господи, опять расставаться!
* * *
Вандочка, любимая! Ты улетела, а я все никак не могу проститься с тобой. Но ты сказала: «Не трави душу!» — не буду. Как будто мы снова сидим под карагачом и ловим его опадающие листья.
Твой самолет слегка кренится набок и временами словно отбрыкивается от кого-то. Это я. Прилепившись к фюзеляжу, я пытаюсь сквозь металл дотянуться до тебя. В аэропорту я спрыгну и поволоку твой здоровенный чемодан на пересадку. Когда ты прилетишь навсегда, мы устроим из этого чемодана памятник Разлуке. А лучше водрузим его на попа, вставим в крышку зеркало: чем не шкаф? В нем будут висеть твои платья и сидеть любовники (чтобы отгонять моль от платьев). А в годовщину твоего последнего отъезда я буду возлагать к подножию чемодана-шкафа… Но когда еще это будет? Ты улетаешь и улетаешь. Как же тебе не стыдно! Сон, и тот наподобие мини-смерти, а расставание на месяц, на год — этому нет ни названия, ни оправдания! Жить от письма до письма, наконец, дождавшись его, нетерпеливо разглядывать штемпель с датой, удерживаться от желания поскорее заглянуть в конец: есть ли там «целую»? Если нет, ворочаться на диване и вычислять: сердишься? забыла? решила позлить меня?
Я пишу на кухне. В доме напротив женщина красит балконные перила. Ее рука, видимо, непривычна к малярной кисти, она часто промахивается, и краска, темно-багровая, с каким-то боцманским оттенком, брызгает на ветки растущего рядом тополя. Его листья рыжеют, жухнут прямо на глазах. Вслед за ними съеживаются листья соседней акации. Осень. А ты все улетаешь.
Когда тебя нет, мне хуже, но легче. При тебе я все время в напряжении: боюсь не то сказать, сделать. Ты ведь ни за что не подашь виду, что обиделась или разочаровалась. Когда мы будем вместе, тебе придется опускаться до моего уровня или мне подпрыгивать до твоего.
Женщина в доме напротив покончила с перилами и присела на скамеечку. Мы знакомы с ней лишь форточно. Иногда я засиживаюсь на кухне допоздна и вижу, как она выходит на балкон покурить. У нее усталый и боязливый вид. Мы с тобой сходим к ней в гости, ладно? А пока ты улетаешь.
Быть самим собой мне уже надоело, быть томим тобой я еще не умею. Вишу между двух этих инфраструктур, как сказал бы Брокгауз Ефрону, если хотя бы один из них знал это слово. Помнишь, ты мне как-то написала по-польски: «У нас с тобой ружница здань». Разность натур, так? Уж куда ружнее!
Пока я писал это, желтое и красное, брызнувшее с балкона, пошло полыхать до самого горизонта. Вдоль дороги, как снарядные разрывы, встали огненные тополя и клены. Осень ведет прицельный огонь по нашим позициям. А ты улетаешь.
Сколько видит глаз, желтеют листья. С деревьев ржавчина перекидывается на столбы, порыжела арматура, бетон уже подернулся мелкими осенними трещинами. Спелые лампы со столбов мягко шлепаются в передники, предусмотрительно подставленные дворниками. На улице рыжеют прохожие: сперва дети, за ними взрослые. Осень, моя любимая осень! И ты улетаешь.
Вздохнем об этом тихонько. Вздохнем глубже, и от нашего вздоха заколышется белье на балконных веревках. Вздохнем коротко: «Опять!..» Вздохнем с надеждой: «Когда же?..» Но довольно воздыханий, не то потоки горячего, почти асфальтированного воздуха, завихрившиеся от вздохов, начнут подбрасывать твой самолет вверх-вниз. Ты опять улетаешь.
Постучу по дереву, чтобы у тебя все было хорошо. От моего постукивания начнут падать на землю яблоки, орехи, груши, айва. Когда ты вернешься, мы будем объедаться ими, а твои и без того сочные и мягкие губы (как мне жаль, что ты не можешь этого почувствовать!) станут такими медовыми, что слетятся пчелы со всей округи и, заискивая, будут кружиться над тобой. А ты ехидно улыбнешься и покажешь мне язык.
Но пока ты улетаешь.
Оглянись, Ванда. Я смотрю тебе вслед. Я тебя жду!
С.
* * *
Здравствуйте, почтеннейший автор!
Это опять я, Красовский. Тот самый, за которым Вы так долго подглядываете в щелку. Вернее, в зеркало: ведь по моим предположениям я — это всего лишь слегка беллетризированный Вы.
Думаете, Вы разочаровались во мне? В себе! Мысли, чувства, опыт — все это перешло ко мне от Вас, как от старшего брата к младшему переходят куртки и штаны, из которых тот уже вырос. Наскоро подогнав их по моей фигуре, Вы теперь удивляетесь: почему они сидят на мне не так, как хотелось бы Вам? Но, расщепив себя на «альтер» и «эго», произведя, так сказать, десиамизацию духовных близнецов, Вы все же оставили за собой право судить меня и вмешиваться в мою судьбу. Перебелив на бумаге то, что не выписалось в жизни, стребовав запоздалый реванш за не полученные или не отправленные когда-то письма, переставив после ухода партнера фигуры на выигрышную позицию… Мне жаль Вас, автор! Не как собственный прообраз — как человека. Признайтесь: сколько уже лет Вы живете на проценты со своей бывшей любви? При всех выгодах этого занятия у него есть один существенный недостаток: Вы уже никогда не испытаете ни надежды, ни отчаяния.
Далее. Когдатошняя любовь, которую Вы старательно восстанавливали по остаткам ее скелета, по головешкам страсти, перестала быть Вашей собственностью. Она — наша, моя и Ванды. Вспомните: и неживое может стать живым, если в него кто-то поверит, если оно, это неживое, придуманное, заставляет радоваться или страдать.
Третье. Кто как не Вы, автор, декларировали нашу — мою, Ванды, Леры — свободу поступков? Не то чтобы я полностью поверил в эту игру, нет. От нее за версту несет литературным кокетством. И все-таки игра предполагает какие-то правила.
Но едва Вы почувствовали, что мы, Ваши герои, пытаемся по-своему распорядиться обозначенной для нас свободой, то стали отнимать ее. Сперва исподволь, уговаривая одних отказаться от своих сумасбродств, другим же, наоборот, советуя действовать более решительно. В общем, соответствовать Вашим первоначальным замыслам. Наконец, поняв бесплодность увещеваний, Вы начисто лишили нас возможности выбора.
Зачем анализировать то, чему бесполезно сопротивляться? Что бы я ни вздумал написать Ванде, Вы преспокойно будете водить моей рукой. Руководить. (Простите за каламбур, но я вынужден изъясняться в рамках запрограммированного Вами лексикона.)
Я понимаю, наш с Вами конфликт смахивает на отношения между микробом и ученым, наблюдающим за ним в микроскоп. По одну сторону стекла — невозможность скрыться от всевидящего ока, по другую — спокойные эксперименты. Например, Вы вдруг решили изъять письма Ванды. Теперь о ней можно судить только по моим письмам, по отраженному свету, а там, наверно, такая женщина-вамп! Но вы-то, Вы же знаете, до чего она…
Вы не слушаете? Ах, да: микроб поучает Вас! Конечно, Вы же наш повелитель и этот, как его, демиург второго разряда. А мы всего лишь Ваше эхо, актеры Вашего бумажного театрика! Но разве актер — раб своей роли? Достаточно ему, то есть мне, выпалить в первом акте реплику из третьего — интрига расстроилась, пьесы как не бывало!
Итак, я постараюсь разрушить Ваш план. Например, сейчас я чувствую, что Вы ведете дело к смерти полковника Коти. Сколько уже раз он болел по Вашей милости! Зачем? Впрыскивание драматизма для оживления сюжета? Вам случайно попалась на глаза деталь, подходящая для грустной развязки? Скажем, надгробная табличка с перевранной надписью: «Э. П. Шершугин. Спи спокойно, дорогой Миша!» Так-так, прикинули Вы, отсюда можно вернуться к шуточному завещанию полковника Коти, и то, что тогда было ерничеством, сейчас вдруг обретает трагическую глубину… так-так… и пошло-поехало.
Не пойдет! Разумеется, хозяин — Вы, и я, послушный Вашей воле, в очередном письме вынужден буду описать смерть полковника, его похороны. Как прикажете, барин. Но неужто авторское самолюбие не передернется от того, что Ваш следующий ход уже известен заранее? И как насчет прежнего намерения не спрямлять сюжет с помощью катастроф, внезапных смертей и т. д.?
Довольно. Как писали в старину, оставляю Вас наедине с Вашей совестью. Иллюзий не строю: власть — Ваша. Как сказала бы Лера: «Против лома нет приема». Единственное, что в моей воле: не замечать Вас. Проку от этого никакого, знаю. Но чего стоит сила, которой подчиняются, игнорируя ее.
Похоже, я так же несправедлив к Вам, как и Вы ко мне. И впрямь: меня вытащили из мрака небытия, дали судьбу, любимую женщину, а я еще привередничаю! Но быть не тем, чем хочешь, или не быть совсем — велика ли разница? Не в этом ли смысле следует понимать название «Или — или»? Кстати, старинное японское изречение, вынесенное в эпиграф, Вы, по-моему, выдумали сами. И не лень же Вам играть…
Полюбите кого-нибудь! Все равно кого! Поймите, бессмысленно превращать жизнь в памятник той, давешней любви. Как ни прекрасна она была, «была» — это конец.
Нет? Хотите отобрать у меня мою любовь, слабую, ненадежную, но живую? Неужели Вам так важна мифическая победа надо мной, над ней? «Хоть башня нами занята не та, ура так просится к устам…» Ну что же. Если Вы все-таки решитесь на это… Если вздумаете погубить полковника Котю, то Вы оглохнете. Да-да, Вы, всесильный автор! Можете презрительно пожимать плечами, но не забудьте: глухота наступит непременно. Ее будут приписывать самовнушению, биополю или еще чему-нибудь — какая разница? Это для нас, врачей, важно, чтобы больной умер от той же болезни, от которой его лечили, а вам, больным… Ладно. Надоело. Делайте что хотите. Я пошел спать.
* * *
Он спит.
* * *
Я в детстве видел дерево во сне, На ветках вместо листьев были письма, Должно быть, адресованные мне. Но я был мал. Едва лишь дотянулся До нижнего письма, верней, открытки, Где поздравляла бабушка меня С девятым днем рождения, а впрочем, Я не вникал в детали, и картинка Меня не привлекла. Тем интересней Мне показались письма наверху. Но я был мал. И чтоб до них добраться, Избрал не самый легкий путь: проснулся, Позавтракал, оделся и спустился Во двор, где у мальчишек научился Взбираться по деревьям… А зачем? Ведь больше мне не снился этот сон.* * *
Хватит. Пора ему просыпаться.
Будильник затрясся — звонка не было слышно. Автор встряхнул будильник — ни звука! Неужели Красовский и вправду!..
Оставалось одно: сесть на подоконник и наблюдать, как осень беззвучно тасует опавшие листья. Все козырные, все битые. Дворник пытается собрать их в кучу, но они, легкие, оранжевые, разлетаются в стороны. Тогда дворник, напялив для маскировки оранжевый форменный жилет, неслышно подкрадывается к листьям с тыла и коротким, хищным, рыбацким движением совка…
* * *
Родная, здравствуй!
Можешь представить, что стряслось, если я не ответил на твое письмо. С полковником Котей случилась беда: шел по лестнице, вдруг упал, потерял сознание, еле дотащили до реанимации.
Он был дружен еще с моим отцом, да и мы столько работаем вместе. В общем, я ужасно боялся за него. Когда что-то случается с близким человеком, вдруг понимаешь: если его не станет, то с ним умрет и какая-то часть тебя, твоей души. Это я сейчас что-то пытаюсь себе объяснить, а в первые дни только суетился и паниковал.
Всем отделением бегали сдавать кровь, моя операционная сестра Лера даже привела для донорства своего кавалера Вадика (наверно, хотела испытать его привязанность?). Парень такой здоровенный, что красные кровяные шарики у него должны быть величиной с кулак (шутка). Как видишь, жизнь пытается продолжаться.
Но больше всего старалась Надежда. Впервые я видел, как она по-настоящему переживает. Так имитировать привязанность к шефу не смогла бы даже она. Похоже, что у них с Котей и впрямь что-то было. Тогда-то он, наверно, написал за нее кандидатскую и взял к себе в отделение. Потом, конечно, понял, что она такое, но было уже поздно. А сейчас она выхаживала его четверо суток. Котину жену в первый же день выставила под предлогом карантина и сама не отходила от него ни на шаг. Жалость? Боязнь за человека, который столько лет спасал ее от неприятностей? Подсознательное желание увидеть беспомощным, зависимым того, кого сперва любила, потом боялась? Странная, скомканная, любовь-ненависть, Нет, Вандочка: любовь! Ночью я зашел к нему в палату, она не успела отдернуть руку, гладила его седую щетину. Гладила и повторяла: «Ну, Коточка, потерпи, Коточка!..» И я позавидовал этому полуживому человеку: его любят!
(Вру, конечно: ничьего счастья мне теперь не хочется. Ибо счастье, как выяснилось, это всего лишь умение скрывать свои несчастья.)
Самое странное, что никто так и не понял, что же все-таки произошло с полковником. Анализы ничего не показали, а человек чуть не отправился на тот свет. Как после этого не поверить в наваждения, сглаз и прочую чертовщину.
Только через неделю стало ясно, что полковник будет жить. А может, и мурлыкать про цыган, которые бреют щеки, щеки непростые… Первое, что сделал этот старый черт, когда пришел в себя, обругал всех за малограмотность. Надо было, дескать, взять кровь не у нас, а у него самого, за несколько дней до операции. Потеря крови восполняется довольно быстро, а при операции сосуды кровят меньше. Не объяснишь же ему, что он и так потерял литра полтора! Уж эти мне доктора: во всем они разбираются, а укола боятся, как дети! Когда долго работаешь в больнице, привыкаешь смотреть на болезни и смерть как на что-то такое, что случается лишь с другими. Белый халат и колпак — это вроде силового поля, будто охраняющего тебя от всех напастей. В один прекрасный день это поле исчезает, и ты оказываешься по другую сторону болезни.
Сейчас у Коти были все основания писать завещание, а он и не подумал. Попросил меня в случае чего позаботиться о месте на кладбище, рядом с родителями. Разговор шел вполне деловой, как о переводе больного с коридорной койки в палату. На этом кладбище уже давно никого не хоронят, только «подселяют» к могилам родных. Я ходил по заросшим травой дорожкам и думал: далее родовое имение смерти, ее квартиру, жизнь ухитрилась приспособить для своих надобностей! Чтобы не пугать нас зрелищем вечности или распада, нам оставлены для обозрения потрескавшиеся от времени фарфоровые виньетки с фотографиями покойников. Как семейный альбом, раз и навсегда открытый на последней странице. Здесь, как в любом альбоме, соседствуют тщеславие, горечь, любовь, глупость. Я наткнулся на табличку: «Э. П. Шершугин. Спи спокойно, дорогой Миша!» Вот тебе и вселенская скорбь.
На этот раз хэппи-энд: Котя остался жив, ты прислала такое славное письмо, даже с картинками. Спасибо Серому: он здорово изобразил Азазелло. Поцелуй его от меня, я верну с процентами. Надеюсь, что недолго буду ходить в должниках. Жду тебя насовсем! На-совсем. Посылаю Серому очередную порцию марок. И здесь помог полковник Котя: ему присылают свои новые работы коллеги из разных стран, на конвертах великолепные экземпляры марок. Может, главная цель медицины — развитие филателии?
Целую тебя.
* * *
Дорогой товарищ жена!
Ты еще не знаешь, что все уже свершилось. Между тем пошли вторые сутки нашего официального супружества. Поз-дра!
На днях в отделе кадров велели заполнить анкету. Говорю, мол, уже заполнял. Кадры: «Может, вы за это время изменили адрес? Или женились?» До меня вдруг дошло: во времена предыдущей анкеты тебя еще и в помине не было! Поэтому в графе «Семейное положение» я записал, что женат на В. А. Вороновой-Красовской и имею сына Сергея Александровича. Теперь тебе, милая, деваться некуда: супротив казенной бумаги не попрешь!
Уточним подробности. Например, как ты сможешь пока заочно, по почте, выполнять свой супружеский долг? То бишь подавать мне домашние тапочки, когда я буду приходить с работы. А по воскресеньям — по воскресеньям мы, как и положено всяким нормальным супругам, будем регулярно ссориться. Давай разработаем перспективный график скандалов (дата, повод ссоры, уровень шума в децибелах). Осталась самая малость: развестись и пожениться.
Одно меня смущает: ты меня не любишь. По-моему, тебе не нужен ни я, ни вообще какой-нибудь мужчина. Просто спутник жизни. Человек, который не слишком бы тебя раздражал и обеспечивал бы достаток и комфорт. Сгожусь ли я для этого? Привыкнешь ли ты ко мне, стерпишься ли? А, ладно…
Предусмотреть здесь невозможно. На днях ко мне прибежал мичман Сахно. Стал требовать, если можно требовать чуть не на коленях, чтобы я немедленно ехал спасать Юлечку. Как я ни пытался ему втолковать, что тошнота — это не мой профиль, он хватал меня за руки и на каждый мой довод отвечал новым куском прекрасного розового сала.
Квартира у него умопомрачительная: стереообои, стереомагнитофон, чуть ли не стереоунитаз. На входной двери приклеена фотография Хемингуэя. Снимок наклеен так, что глаз Хэма совмещен с дверным глазком. В спальне свой изыск: портрет обнаженной негритянки, нажмешь на сосок — зажигается свет. Посреди этого великолепия Юлечка со своим обычным полусонным видом сидит в кресле и сосет леденец. Вместо заношенной кофты на ней шикарное вязаное платье. И еще она слегка беременна. От этого, по всей вероятности, и происходил токсикоз, который вызвал такую панику у Сахно. Все понятно, переглянулись мы с Пашей: поздний ребенок, отцовские страхи. Ничуть! Оказалось, что вскоре после приезда с Гадючего Юлечку увел у мичмана какой-то делец. Квартира осталась, а его самого вдруг упекли. И благородный мичман теперь расходует остатки доходов от свинок на то, чтобы обеспечить Юлечкин быт и ублажить ее вялое воображение. Надо же: читает ей вслух Ромена Роллана!
Я доказывал Паше, что финал можно считать счастливым: женщина ждет ребенка, не так уж и важно, чей он. Мичман, наконец, получил реальный повод для ревности. Даже делец кое-что выгадал: такие люди обычно терпеть не могут возни с кашками, пеленками и т. д. Вернется домой, а сын (он велел, чтоб непременно был сын!) уже ходит, разговаривает, а может, и читает.
Паша же уверен: сколько раз женщина ни выходила бы замуж, каждый следующий муж будет похож на предыдущего. Мол, хотя развод — попытка переломить судьбу, но есть что-то подсознательное, оно-то и предопределяет выбор. Он рассуждал, а я думал о нас с тобой. Когда «скорая» уезжает от больного, то оставляет пустые ампулы из-под лекарств, которые ему вводили. Если придется вызывать карету еще раз, вторая бригада должна знать назначения первой. Что написано на осколках твоего первого замужества? И как (зачеркнуто).
Нет, проблем масса! И главная: заводить ли второго ребенка? Не повлияет ли это на мое отношение к Серому? Тебя, по-моему, это очень заботит. Я так привязан к тебе, что безотчетно люблю все, что ты любишь. Единственная опасность: разбалую Серого. Сказала ли ты ему? Как он к этому отнесся? Он постоянно будет сравнивать меня с отцом, и понятно, в чью пользу будет сравнение…
Еще я задумался: вдруг моя хромота может передаться будущему ребеночку? Его еще и в помине нет, а я уже думаю о нем. В отделении объявил конкурс на имечко для наследника(-цы). Хорошо бы обзавестись сразу двумя Вандами, большой и маленькой. Как ее будут дразнить в школе? Кстати, а у тебя было какое-нибудь прозвище? А то женишься на тебе, а потом вдруг выяснится…
Был разговор с мамой. Обрадовалась, испугалась и снова обрадовалась. Тебе как будущей свекрови это должно быть понятно. А мне понятно только одно: ты единственная женщина, на которой хочется жениться с первого взгляда. Нет, с первого была операция!
Не знаю, понравится ли тебе моя мама: вы обе с характером, причем у нее весьма активный. Но человек она добрый и верный, а что еще нужно? На этом буклет «Ваша будущая семья» считаем законченным и переходим к насущным проблемам. В частности, хочу сказать, что люблю тебя (вот новость-то!) и скучаю по тебе. Привыкну ли? Полковник Котя утверждает, что нельзя приспособиться только к двум вещам: к электрическому току и к тилибенчику. Это коктейль его собственного изобретения, который он каждый раз составляет по наитию. Привыкнуть к счастью — почему бы и нет!
Кстати, не желает ли мадам сочетаться со мной церковным браком? Перейдем на неделю, скажем, в католичество, и айда назад в атеизм! Но свечи, орган, хор, а? Практически же все будет выглядеть так: окрутимся в районном загсе, Паша и полковник Котя будут моими свидетелями, а для тебя прихватим парочку симпатичных больных.
Да, знаешь, от кого я получил первые поздравления: от Снегурочки! Помнишь: Новый год в больнице, ее письмо, которое я тебе переслал, полагая, что она вот-вот… Снегурочка тоже догадывалась о своем диагнозе и пошла к стоматологу — снять золотые протезы, чтобы было на что устроить поминки: «Зачем мне золото на том свете, да еще в год обезьяны?» Может, ей помогло отсутствие коронок или еще какая-то случайность, но она жива до сих пор. Более того, вышла замуж! Жених, по иронии судьбы, тоже из наших пациентов — «Феликс-ложка», бывший брачный аферист. С тех пор как последнюю ложку, проглоченную им в тюрьме, пришлось извлекать из желудка, он сильно сдал. А что за покоритель сердец, которому прописаны диета и покой? И Феликс причалил к Снегурочке, которая оказалась прирожденной сиделкой и слушательницей. Какая идиллия! Надолго ли? Пусть даже на год, на месяц, но они-то уж насладятся жизнью. А Снегурочка — еще и замечательными фарфоровыми зубами: свадебный подарок жениха. Пока я пишу тебе, она сидит на кухне и препирается с моей мамой из-за меню. Прослышав в больнице о предстоящем бракосочетании, Снегурочка прибежала с поздравлениями. Через полчаса она уже была главным действующим лицом. Я начинаю сомневаться, пригласит ли она на свадьбу нас с тобой…
Словно почуяла, что я пишу о ней: вбежала, сверкая новыми зубами: «Доктор, как я вас чувствую! Вы поймете это по моему оливье». Тщетно я пытался объяснить, что мы не собираемся затевать банкет, а после вечеринки хотим смотаться куда-нибудь в тишь и тепло. У Снегурочки и на это нашелся вариант: неподалеку от Ялты живет одна из бывших жен (!) ее нынешнего мужа. Она, мол, будет несказанно рада, если мы скрасим ее одиночество. Скрасим?
Словом, все идет до омерзения благополучно. И, в довершение всего, явился Осик — последний из славной плеяды городских сумасшедших. С головой у него не все в порядке, но если где-то затевается свадьба, юбилей или еще какая гран-гулянка, Осик тут как тут. Как он ухитряется обо всем узнать раньше всех — загадка! Его амплуа: приносить поздравительные телеграммы и петь частушки собственного сочинения. Самая пристойная из них: «Кто носит майку «Адидас», тому любая девка даст!» Еще не ровен час, на меня падет денежно-вещевой выигрыш. Или прибегут из Инюрколлегии: не хочу ли я вступить в права наследства? Покойный миллионер с Ливерпульщины якобы приходился моему дедушке двоюродным пациентом. Нет, скажу я сурово, поспрошайте-ка лучше у соседей снизу. Надо же как-то компенсировать их за то, что я и ты залили их потолок!
Тем временем персонал кафе «Солнечное» надраит до блеска свои кастрюли и, по случаю торжества извлеча (извлека? извлечав? -кнув?) лишний хлеб из котлет, выйдет нам навстречу с этим хлебом и солью. Под сводами, где со времен князя Всеволода Большое Гнездо не рассеивался перегар, станет чисто и тихо. Сам шеф-повар в туго накрахмаленном колпаке приложится к твоей ручке и украдкой смахнет скупую наваристую слезу. Пройдя под скрещенными скальпелями к парадному табурету…
В общем, давай скорее поженимся! Иначе как мне смотреть в глаза доверчивому кадровику? Можешь взять себе любую фамилию. А то давай перейдем на чужую, но покрасивше. Что ты скажешь насчет Айвенго? Супруги Айвенго из 57-й квартиры — звучит! Жалко только Серого: на «А» вызывают к доске первыми. Поразмысли. А я тебя степенно, уже по-супружески целую.
Твой заочный муж
А. Красовский
* * *
Здравствуйте, Ванда!
Не думала, что Красовский все-таки решится на вас жениться.
Он всегда боялся быть счастливым. Ему бы все переживать, да чтоб пожалели!
Ну, это уже ваши заботы, у меня теперь своих хватает. Дочке только-только месяц. Вовремя я уехала. Саня бы увидел, сразу понял, чья работа. Капризная, вся в папочку. Ничего, не пропадем. Вот она проснулась. До свидания.
Лера
Сашина новая рубашка осталась в ординаторской под папкой с эпикризами. По-моему, рукава длинноваты. А дочку я назвала Маргаритой.
* * *
Родная моя, здравствуй!
Закрутился со свадебными делами. Беспрерывно что-то достаю, кого-то приглашаю. Кафе «Солнечное» обещало помочь продуктами. Их шеф-повар получил когда-то из рук полковника Коти новую барабанную перепонку. Подчиненные, правда, не очень этому обрадовались: раньше они могли безбоязненно уносить продукты прямо у него из-под носа, а теперь посудомойка мне по секрету жаловалась: «Чуть скрипнет половица — озирается!»
Говорила ли ты с мужем? Знаю, как тебе сейчас достается, но потерпи! Осталось совсем немного.
После каникул Серый пойдет в школу, она через дорогу. Английская! А тебя на работу не пущу: будешь сидеть дома и услаждать меня сладкоголосым пением.
До чего странно: последнее письмо! Так привык писать и ждать ответа, что нам, наверно, придется по привычке переписываться, сидя в разных углах комнаты. Или просто переглядываться.
На радостях взялся за диссертацию. Запнулся на твоем случае. Придется переписывать: вместо «больная Ванда В.» — «Ванда К.». Чего не сделаешь в интересах науки!
Будешь устраивать девичник? Я свой мальчишник уже отгулял. Собрались пацаны лет по сорок — пятьдесят и начали меня наставлять: воли ей не давай, по командировкам не мотайся и т. д. Лишь полковник Котя помалкивал в несуществующие усы и был несколько грустен. Увидишь, он тебе понравится.
Тебе сейчас плохо, поэтому я тебя занимаю всякими глупостями. Обещаю: последний раз! Если когда-нибудь ты захочешь развестись со мной, все хлопоты возьму на себя. Но давай отложим это лет на сто, хорошо? До встречи, невеста! Идущие на свадьбу приветствуют тебя!
* * *
…нет, не то… не могу поймать мысль, нужен какой-то железный, последний довод, чтобы тебя удержать, остановить, оставить со мной, я вдруг забыл его… не то, не то!.. Ванда, я ничего не понимаю, все так перепуталось! По дороге на дежурство я зашел, как всегда, на почту, Марина дала мне твою телеграмму и отвела глаза. Я тебе не верю, Ванда! Зачем ты обманываешь меня и себя? Почему бросаешь меня сейчас? У тебя было целых полтора года, и вдруг, когда все уже решено, — «Нам не нужно больше видеться». Ты же сама в это не веришь! Посчитала варианты и все-таки испугалась в последний момент? За себя, за Серого? Может, за меня? Не то, Ванда, это все не то, помоги мне понять, я ничего не… вчера я остановился во время операции и не понимал, где я, кровь уходила из сосудов, я не мог пошевельнуться, даже если ты кругом права, это чужая, мертвая правота. Но если тебе так лучше, я не могу тебя ненавидеть, хотя ты так старалась: «Прощай, мне все опротивело», ты ведь знаешь, что и надоесть тебе — для меня счастье, если опротивел, значит, что я все-таки существую для тебя, дважды я брал билет на самолет и сдавал его: ты запретила приезжать, но тебе и этого мало, ты добавила «Я люблю другого», господи, если бы это было так, но ты боишься оставить мне хоть какую-то надежду, я почувствовал, что сейчас потеряю больного, руки задвигались сами собой, не знаю, как закончил операцию, он был водолаз, для него лишиться слуха — полная катастрофа, сейчас он уже ничего… я перед тобой виноват, я знаю, но и преступникам когда-нибудь прощается, домой идти не мог, никуда не мог, забрел в реанимацию, человек, который еще под Новый год попал в аварию и перенес клиническую смерть, он жив до сих пор, а может, это уже другой, грудь равномерно поднимается и опускается, он живет сам по себе, какой-то промежуточной жизнью, живет, а ты и я, а мы с тобой? Бедная, каково тебе сейчас, только бы ты пережила все, перетерпела, и чтобы потом это не выместилось на Сером, как странно: тебя у меня больше нет, это я уж понял, а Сережа еще как будто мой, не иметь ничего и потерять сразу все, неужели это кара за Лидочку, обещай одно: если с тобой или с Серым что-то случится, я должен быть там, пусть не с тобой, при тебе, все, опять на дежурство, у тебя сейчас шесть часов утра и падает снег, или нет, он прошел ночью, со старого дерева у крыльца сдуло последние закоченевшие орехи, они канули в белое и глубокое, под деревом остались маленькие лунки, и это все, а я вхожу к тебе в палату, ты чуть приподнимаешься на подушке и улыбаешься мне сухими, прокушенными от боли губами; сквозняк, занавески взметнулись до потолка и опали, ты улыбаешься мне, это длится секунду, две, все может тем и кончиться — улыбка, взгляд, взлет занавесок, и мы забудем друг о друге, но я иду к твоей койке, и ты улыбаешься мне, ты улыбаешься мне.
1982—1986
Примечания
1
В книге использованы стихи Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Юрия Смирнова, Бориса Херсонского, Михаила Сухотина и автора.
(обратно)
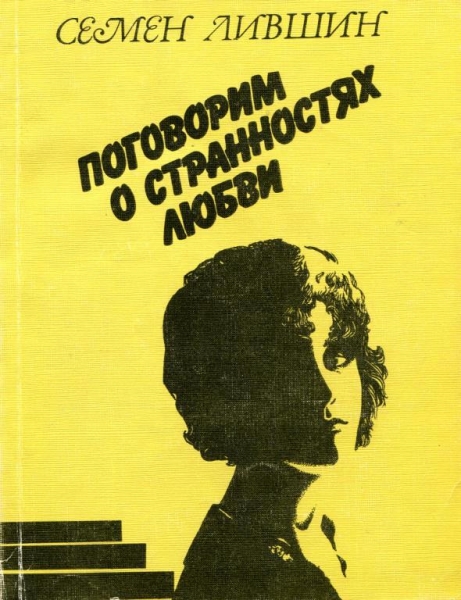



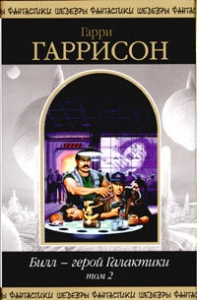
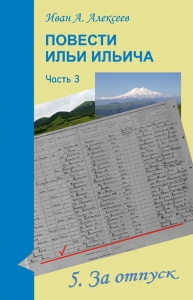






Комментарии к книге «Поговорим о странностях любви», Семен Адамович Лившин
Всего 0 комментариев