Дикая вода
Повесть
Поселок наш, теснимый с одной стороны тайгой, с другой — Обью, вынужден постоянно бороться за существование. В сильные разливы река обязательно уносит у кого-нибудь половину огорода, а то и всю усадьбу вместе с домом. И тогда потерпевший перебирается поближе к лесу на новую улицу, а вместо него приходит черед соседа, живущего через дорогу. И так из года в год, сколько помнят себя здесь люди.
Многие давно собрались бы и уехали, да крепко привязали их к себе те же река и лес. Они кормят человека зимой и летом, но особенно благодарны им люди весной, когда вслед за ледоходом на север прилетают табуны уток, а рыба по протокам устремляется на залитые водой луга. Тогда все мужики садятся в лодки и едут на промысел. И каждый возвращается с добычей, с убитыми утками и пойманной рыбой. После долгой северной зимы они особенно вкусны. Тем более, что никаких продуктов, кроме соли, сахара и серой, разваривающейся словно кисель лапши на Севере не продают.
Но одна особенность отличает здешних охотников. Никто не скажет тебе, где и сколько уток он настрелял, в какой протоке ставил сети. Люди тут не особенно разговорчивы, каждый привык надеяться лишь сам на себя…
Сосед мой, Антон Безрядьев, широкоплечий пятидесятилетний мужик из здешних старожилов, сразу поставил дом поближе к тайге. Вернее не он, а его отец, оказавшийся здесь в начале тридцатых. Но дом до сих пор стоит крепко, только бревна почернели от ветра и дождей. Жил Безрядьев замкнуто, как и многие в поселке, редко к кому ходил в гости, и у него гостей было мало. Никто не помнит, чтобы он обращался к соседу за по-мощью. В тайгу всегда уходил один, и этому тоже не удивлялись. Кому охота показывать заповедные кедровники, дорогу к которым открыли еще отец или дед, лосиные переходы и рыбные места? Каждый должен найти их для себя сам. Так уж повелось в поселке.
До сих пор не пойму, почему Безрядьев проявил ко мне дружеское расположение. Наверное, потому, что я решил подтянуть по физике его сына Вовку, учившегося в шестом классе. Антон еще имел дочку, но та уже вышла замуж и жила отдельной семьей.
Возвращаясь однажды с метеостанции к своей квартирной хозяйке, я встретил на улице Вовку. Он катился на одной лыже, другая, сломанная, была у него в руках.
— Не влетит от отца? — спросил я, кивая на обломок.
— За лыжу нет, а за физику может, — шмыгнув носом, ответил Вовка.
— А что у тебя с физикой?
— Задачу не могу решить. — Вовка приставил к лыже обломок, прикидывая, как ее лучше скрепить. Потом посмотрел на меня.
— Приходи ко мне, решим вместе, — предложил я.
Вовка нравился мне своей обстоятельностью, не по годам взрослыми рассуждениями. Он был неплохим рыбаком и уже не однажды ездил с отцом на охоту. На Севере дети взрослеют быстро.
Через полчаса он пришел ко мне с тетрадкой и учебником физики. И хотя я давно не брал в руки этот учебник, с задачей мы разобрались быстро. С тех пор Вовка стал часто наведываться ко мне, и вскоре тройки по физике сменились на четверки, а однажды он получил даже пятерку.
В конце апреля, когда снег уже начал подтаивать, я увидел Антона Безрядьева, сидевшего на крыльце и вырезавшего из куска дерева утиное чучело.
— На охоту собираешься? — спросил я, остановившись около Антона.
Он оторвался от работы, окинул меня взглядом с ног до головы и, снова опустив глаза к куску дерева, неторопливо произнес:
— Отощал ты у нас за зиму-то, учитель. Может, тебя за реку взять?
Последняя фраза прозвучала в форме вопроса, но я понял, что Безрядьев уже думал об этом раньше. Так просто он не говорит ничего.
Нельзя сказать, чтобы я был заядлым охотником, однако побыть несколько дней один на один с природой всегда приятно. Наблюдения на метеостанции за меня могла провести Катя, молодая учительница, приехавшая сюда на год раньше, чем я. Хозяйка, у которой я жил, уже несколько раз, словно рассуждая вслух, говорила:
— Был бы ты охотником, батюшко, дала бы тебе дедово ружье. У него и пороху, и дроби в достатке осталось.
Охота для нее, выросшей здесь, на Севере, считалась делом настоящего мужчины. Без нее и теперь прожить трудно, а раньше она была одним из основных источников существования. Мне было бы приятно привезти домой с десяток уток и выложить их перед хозяйкой, как это делают вернувшиеся с охоты здешние мужики. Мой авторитет в ее глазах сразу бы подскочил неимоверно. Но я всегда отвечал ей, что один поехать не могу, так как охотничьих мест не знаю, а в напарники никто не берет.
И вот теперь получил неожиданное приглашение от соседа.
— Надо поговорить с Катей, — сказал я Антону, все так же возившемуся с чучелом. — Если возьмется понаблюдать за меня, я бы поехал.
— Мое дело предложить, — сказал Безрядьев, рассматривая на вытянутой руке деревянную утку прищуренным глазом. Потом зажал чучело между колен и осторожно снял с его спины ножом несколько тонких стружек. Я понял, что второй раз повторять свое приглашение он не будет.
Когда я попросил хозяйку показать ружье, оставшееся от мужа, она, не скрывая улыбки, всплеснула тонкими сухими руками:
— Неужто собрался, батюшко ты мой?
— Безрядьев приглашает, — ответил я, глядя на повеселевшую хозяйку.
— Этот знат, куда ехать, с ним без добычи не воротишься, — произнесла она и отправилась за ружьем в кладовку.
Ружье оказалось старой, но еще хорошей ижевкой с удобным, отполированным прикладом. Положив его передо мной, хозяйка достала из шкафа небольшой деревянный сундучок с боеприпасами.
— Дед-то мой кажный год на весновку ездил, — сказала она, осторожно погладив крышку сундучка. — А как помер, ни разу ни утки, ни сохатины в глаза не видывала.
Хозяйка моя, как она сама говорила, после смерти мужа стала жить бедно. Корову пришлось продать потому, что сено для нее готовить некому. А без коровы на Севере ни молока, ни свежей сметанки не попробуешь. Жила хозяйка за счет огорода, да небольшой пенсии. Поэтому обрадовалась, когда ей предложили взять меня на квартиру. Тем более, что за мой постой ее обещали на зиму обеспечить дровами.
С Катей я договорился быстро. Вернее сказать, мне даже не пришлось с ней договариваться. Когда я сообщил, что Безрядьев приглашает меня на охоту, а мне не на кого оставить метеостанцию, она предложила:
Если хочешь, я за тебя подежурю. — Она посмотрела мне в глаза, проверяя реакцию на предложение. — И измерения сделаю, и сводки могу передать. Мне даже интересно. — Катя сделала жест рукой, как дирижер палочкой во время начала концерта, и озорно засмеялась.
Мне показалось, что она смеется надо мной. Я опустил голову и спросил:
— Ты чего?
— Не могу представить тебя охотником. — Она взяла меня за локоть и мы пошли по улице.
Катя уже два года работала учительницей в поселковой школе. Приехала сюда по направлению института из большого города. До этого за всю жизнь ни разу не была в деревне. Все ожидали, что в зимние каникулы она отпросится у директора съездить к родителям и больше не вернется. Так было почти со всеми учителями, приезжавшими издалека. Летом на Севере еще куда ни шло.
А зимой, особенно когда начинают заворачивать рождественские морозы и скрип снега под ногами идущего человека слышится на соседней улице, у приезжих людей при воспоминании о доме сжимается сердце. Зимние ночи здесь безумно длинные, луна появляется над ледяным безмолвием уже в сумерках и поселок становится похожим на брошенный людьми, засыпанный снегом бивуак. Только белые дымки, поднимающиеся из печных труб прямо к луне, говорят о том, что жизнь еще теплится в его недрах.
Катя выдержала. Говорят, что с ней должен был приехать парень, с которым они вместе заканчивали институт, но в последнюю минуту он нашел причину остаться в городе. Катя, очевидно, была не равнодушна к нему потому, что как только я начинал заводить разговор об этом, она умолкала и в ее глазах появлялась отчужденность. Она становилась далекой и недоступной, на все вопросы отвечала одним словом, и я чувствовал, что в эти минуты ей хочется побыть без меня.
Мы жили с Катей на одной улице и часто, сталкиваясь у колодца или по дороге на работу, сначала просто здоровались, а потом постепенно подружились. Но это была именно дружба и ничего больше. Катя установила границу наших взаимоотношений, переступить которую я не мог. Я знал, что любая попытка сделать это может привести к разрыву. Моя хозяйка, с симпатией относившаяся к ней, не раз говорила:
— Женился бы ты на Катерине. Девушка она сурьезная.
— Потому и слышать об этом не хочет, — отвечал я.
— А ты добейся. — Хозяйка подпирала голову сухим кулачком и смотрела на меня. — Вода, батюшко, и камень точит.
После разговора с Катей я сразу направился к Антону. Он сидел за столом и сосредоточенно снаряжал патроны. Зачерпывал маленькой железной меркой бездымный порох, высыпал его в гильзу и запыживал патрон. Все это походило на ритуальное таинство шамана. Когда я встал на пороге горницы, Безрядьев не обратил на меня ни малейшего внимания. Ни кивнул, ни обронил приветливого слова, лишь зыркнул глазом в мою сторону и снова начал, сопя, засыпать в гильзы порох. Я понял, что снаряжение патронов для него — настоящее священнодействие и молча стоял на пороге.
— Как только река тронется, сразу поедем, — со стуком отставив патрон в сторону, нарушил вдруг он молчание, которое уже начало тяготить меня.
— А откуда ты знаешь, что я договорился с Катей? — спросил я, немного удивившись.
— В таких делах всегда решает мужик, — ответил он и, повернув ко мне лицо, спросил: — Боеприпасы готовы?
— Полторы сотни осталось еще от Кондратия, — сказал я.
— Кондратий был мужик запасливый, — произнес Безрядьев и снова углубился в работу.
Больше он не удостоил меня ни словом, ни взглядом. Постояв еще несколько минут на пороге, я вышел. Обо всем уже было договорено, осталось ждать ледохода.
А его все не было и не было. Однажды перед утром я проснулся и долго лежал на кровати с закрытыми глазами. Сон не шел. Я надел валенки, полушубок и вышел на крыльцо. Небо на востоке уже посветлело, обнажив опаленный край горизонта, но редкие поблекшие звезды еще висели над крышами домов.
Я поднял голову и вдруг высоко в небе услышал удивительно звонкие и печальные звуки. «Ка-линьк, ка-линьк», — словно льдинки задевали друг за друга и небо разносило этот звук над селом. У меня шевельнулось сердце, я узнал крик лебедей. Мне довелось слышать их крики в детстве и я запомнил эти звуки на всю жизнь. Но сколько я ни всматривался в тусклое серое небо, не мог их увидеть. Звуки растаяли в настороженной предутренней мгле. Я стоял на крыльце, кутаясь от холода в полушубок, и не мог скрыть радости. Если на север прилетели лебеди, значит, пришла весна.
Утром Безрядьев позвал меня смолить лодку. Взяв старое закопченное ведро и битум, мы отправились на берег. По дороге я рассказал ему про лебедей.
— Река в верховьях тронулась, — уверенно заявил он. — Лебедь не дурак, он свое время знает. А что говорят ваши синоптики?
— Вода в Оби здорово прибывает.
— Это я и без них вижу.
Безрядьев развел рядом с лодкой небольшой костер, повесил над ним ведро. Когда битум растаял, мы стали заливать им швы лодки, а затем проводить по ним раскаленным железным прутом. От этого битум расплавлялся еще больше и проникал в самые мелкие щели. Лодка не должна течь, от ее надежности зависит жизнь охотника. Антон делал эту работу умело и основательно. За годы, проведенные на Севере, в его руках перебывало немало подобных посудин.
Рядом с нами смолили свои лодки другие охотники. Вся деревня сейчас жила одними заботами. Люди торопились. Несмотря на морозные ночи, весна чувствовалась повсюду. На открытых пространствах снег убывал на глазах, а на Оби между берегом и льдом появилась широкая полоса воды. Очевидно, где-то у этих заберегов и остановились лебеди. Они будут держаться у полоски воды до самого ледохода. Однако лед был прочным и ничто не предвещало его подвижки. Когда я сказал об этом Антону, он спокойно заметил:
— Здесь решает Бог, а не вы на метеостанции. Я сегодня во сне видел, что река тронулась. Значит через неделю поедем.
Безрядьев оказался прав. Ровно через неделю он ни свет, ни заря явился ко мне и, едва приоткрыв дверь, бросил:
— Лед пошел. Собирайся — и быстрей на берег.
Пока я умывался, хозяйка уже накрыла стол. Подперев сухоньким кулачком голову, она сидела рядом и смотрела, как я уплетаю поджаренную ей картошку. Мне показалось, что она не может дождаться моего отъезда.
— Соскучилась по уткам? — спросил я.
— Кондратия вспомнила, — она вытерла глаза кончиком туго повязанного на голове белого платка. — Он всегда перед охотой вот так же ел.
Мне говорили, что ее муж умер от инсульта три года назад. Единственная дочка жила в городе, но ехать к ней она не захотела. У той пил муж, в семье были постоянные скандалы. Так и осталась моя хозяйка на старости лет одна. Без Кондратия ей было плохо.
— Не горюй, Матрена Федоровна, — нарочито веселым тоном произнес я. — Вернусь с охоты, будет тебе работы на целую неделю.
Она подозрительно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Лишь подвинула ближе тарелку с хлебом.
Наскоро поев, я взвалил на плечи рюкзак со снаряжением, взял ружье и отправился на берег. Никакого ледохода там не было и в помине. Но ледяной панцирь, сковывавший реку, словно не выдержал ее напора и лопнул посередине. Напротив поселка до противоположного берега открылась широкая полоса чистой воды. По ней и хотел, по всей вероятности, отправиться через Обь Безрядьев.
Рядом с нашей лодкой, спустив свою посудину на воду, спешил отчалить на другой берег Кузьма Шегайкин, живший на соседней улице. Это был щуплый небольшой мужик лет сорока пяти, числившийся в местном аэропорту на разных работах. Жена Шегайкина была на голову выше и в два раза тяжелее его. Очевидно, это не давало ему покоя и по-пьяному делу он всегда рассказывал друзьям, что держит ее в постоянном страхе. Но этому никто не верил.
Увидев меня, Шегайкин с гордым видом намотал веревочку на маховик своего старенького мотора и энергично дернул. Позади лодки что-то булькнуло и в первое время мне даже почудилось, что этот звук издал его мотор. Но оказалось, что сидевшие рядом мальчишки бросили в воду камень.
— А ну марш отсюдова, шпана, — смахнув пот со лба, сурово приказал Шегайкин и те, осознав несовместимость своего поступка с таким торжественным моментом, как отплытие человека на охоту, отошли к другой лодке.
Шегайкин снова намотал веревочку на маховик и дернул еще энергичнее. Но на этот раз никакого звука не последовало. Словно испугавшись, что охота может сорваться, он стал торопливо наматывать веревочку на маховик и дергать ее еще ожесточеннее. Мотор готов был сорваться с кормы в воду, но холодное железо безмолвствовало. Я видел, что Шегайкин взмок. По его лицу катились крупные капли пота, одна из которых, задержавшись на кончике носа, раскачивалась при каждом движении головы. Обессилев от дерганья, Шегайкин громко выругался и решительно вылез из лодки.
— Пойду бабу бить, — сердито заявил он и, размахивая руками, направился к дому.
— Она-то при чем? — попытался остановить его я.
— А при том, что сказала: хоть бы твой мотор сломался к чертовой матери. Ей, видишь ли, крышу чинить сегодня приспичило. Вот он и сломался.
Все в деревне знали, что Кузьма по дому ничего не делает. Даже калитку в ограде ремонтирует его жена. И охотником он тоже был никудышным. Трезво рассудив, жена, наверное решила, что, если он починит крышу, семье будет пользы больше, чем от охоты. Но Шегайкин твердо вознамерился воздать ей за это. Отговаривать его было бесполезно, и я пошел укладывать в лодку свой рюкзак. Вещи Безрядьева уже лежали в ней.
Вскоре на берегу показался сам Антон с лодочным мотором на плече. У него был восьмисильный «Ветерок». Безрядьев прикрепил его к корме, сел на борт лодки и закурил. Он, словно специально, оттягивал отплытие, чтобы насладиться предчувствием охоты. День был по-весеннему теплый, как это часто случается на Севере в первой декаде мая. Вода катилась вдоль берега, но лед еще держался крепко. Он только уступил ей свои кромки, да лопнул в одном месте поперек реки, чем мы и собирались воспользоваться. Я удивлялся тому, как долго в этом году не было ледохода. Вода уже поднялась над нулевой отметкой, обозначающей средний уровень на девять метров. Обычно ледоход начинался при семи.
Но весна уже пришла окончательно. И об этом говорил не только теплый день. Низко надо льдом тянул табунок уток. Казалось, они стлались над самой рекой. Я показал на них Безрядьеву. Но утки, сверкнув на солнце светлыми крыльями, вдруг резко взмыли вверх над кустами на другом берегу реки и сразу затерялись в небе.
— Давай садиться, — сказал Безрядьев и бросил окурок в воду.
Я столкнул лодку на воду и запрыгнул в нее. И вдруг услышал за спиной громкие ругательства. Это вернулся из дому Шегайкин. Под левым глазом у него наливался огромный фиолетовый синяк.
— Это так ты наподдавал своей бабе? — ехидно усмехнувшись, заметил Антон.
— Я ей еще покажу, — процедил сквозь зубы Шегайкин и направился к своей лодке.
— Живешь ты, Кузьма, бестолково и так же бестолково помрешь, — произнес Антон и начал заводить мотор.
Шегайкин зачерпнул пригоршню воды и приложил ее к подбитому глазу. Другим глазом зыркнул на Антона, но ничего не сказал.
Антон дернул за стартер, мотор затарахтел, выпустив на воду сизое облачко дыма. Поудобнее усевшись на сидении, Антон взял румпель в руки и направил лодку к противоположному берегу. Он знал там каждый кустик. Мы пересекли Обь и по широкому заберегу поднялись до истока, вытекавшего в реку из озера. Выше него стоял лед, дальше плыть было некуда.
Безрядьев сбавил обороты мотора и повернул лодку в озеро. Мы сразу оказались на тихой воде. В конце озера из кустов поднимался синеватый дымок костра. Я показал на него рукой и Антон повернул туда лодку. За кустами виднелась охотничья палатка.
Охотников было трое. Двое спали на траве, один сидел у костра и курил. Я сразу узнал его. Это был пожарник Витек Бровин. Витьку было уже за сорок, но никто в поселке не называл его по-другому. Он считался знаменитостью местных охотников потому, что во всем опережал остальных. Первую весеннюю утку добывал Витек, последнюю нельму на реке перед ледоставом ловил тоже он.
Увидев нас, Витек сморщился, как от зубной боли, и, бросив окурок на землю, стал тщательно затаптывать его сапогом. Весь его вид говорил о том, что мы здесь лишние. Не обращая внимания на холодный прием, мы вылезли из лодки и подошли к костру. Лежавшие на траве охотники сразу открыли глаза, сели. Мы поздоровались. Безрядьев достал сигарету, взял из костра горящий уголек и, прикурив от него, спросил:
— Ну и как дела, мужики?
— Какие тут могут быть дела, — раздраженно ответил Витек и тоже полез за сигаретой. — За три дня на троих взяли двух гусей. В гробу бы я видел такую охоту. А вы куда направились?
Витьку явно не хотелось, чтобы вместе с ним охотились чужие люди. Озеро для пятерых человек было маловато.
— Мы дальше поедем, — сказал я, хотя не представлял, куда можно было уехать с этого озера.
Витек жалостливо посмотрел на меня и спросил, разведя руки:
— Куда же ты уедешь?
Я не стал отвечать. Весенняя благодать разливалась над землей, и настроение у меня было прекрасным. С бугорка, на котором расположились охотники, хорошо просматривалась река. Лед на ней лежал белый и чистый, но поднялся он вровень с берегом. А в сторону материка расстилалась бескрайняя пойма с редким кустарником и высохшей прошлогодней травой. Я посмотрел туда и сразу увидел летящий на нас табунок уток. Охотники потянулись за ружьями, но утки отвернули в сторону и вскоре исчезли из виду.
— Послушай, Витек, — спросил Безрядьев, — ты не был на той протоке? — Антон показал рукой на кусты, из-за которых вылетели утки.
Витек повернулся в ту сторону, качнул головой и сказал:
— Был. Лед там прет со страшной силой. Шум такой, что оглохнуть можно.
— Надо сходить туда, — обратился ко мне Безрядьев.
Я опоясался патронташем, закинул на плечо ружье и мы пошли смотреть протоку. Еще издали услышали шорох и увидели вздрагивающие кусты тальника. А вскоре увидели и протоку. Огромные льдины, вылезая на берег, словно бритвой, срезали тонкие деревца. Более крупные, упираясь корнями в землю, сдерживали напор. Льдины разворачивались и плыли дальше. Сталкиваясь друг с другом, они крошились, вставали на дыбы и, не удержав равновесие, падали. Вода под ними шипела, высоко вверх летели брызги, смешанные с искрящимися на солнце ледяными крошками. Никогда в жизни я не видел ничего подобного.
Но красота ледохода не интересовала Безрядьева. Ему нужно было быстрее добраться до охотничьих мест. Он заметил, что лед почему-то движется вдоль одной стороны протоки. Вода у противоположного берега была чистой. Перебравшись туда, можно было плыть несколько километров. Антон посмотрел сначала на протоку, потом на меня. Я понял его замысел. Но для того, чтобы отправиться в путь, нам надо было перетащить сюда лодку. От озера до протоки не меньше трехсот метров.
— Мужики помогут, — словно угадав мои мысли, произнес Антон. — Пошли.
Но вместо того, чтобы идти, он резким движением руки приказал мне присесть и показал на дальние кусты. Из-за них прямо на нас летел табунок уток. Я сорвал с плеча ружье, трясущимися руками затолкал патроны в стволы и, не целясь, выстрелил. Утки пронеслись мимо. Я проводил их взглядом, ругая себя за промах, и вдруг увидел, что одна из них сложила крылья и со стуком упала на землю. Бросив ружье, я побежал к ней. На сухой траве, раскинув крылья, лежал шилохвостый селезень. Я взял его за черный клюв и с торжествующим видом посмотрел на Антона. Со стороны выстрел выглядел мастерским, хотя в утку попал я случайно. Но Антон этого не знал.
— Ну, как? — произнес я, даже не пытаясь скрыть самодовольной улыбки.
— Если так пойдет, ты, паря, и меня обстреляешь, — сказал Антон и добавил: — С хорошим тебя началом.
Витек, следивший с бугра за нами, тоже видел мой выстрел. Но в отличие от Антона хвалить не стал. Однако помочь перетащить нам лодку из озера в протоку согласился. Правда, перед этим, наморщив лоб, спросил:
— А не боязно тебе, Антон? Я бы на твоем месте переждал до утра. Через такой лед перебираться опасно.
Но Безрядьев и слышать не хотел о том, чтобы сидеть здесь без дела. Мой удачный выстрел только разогрел его азарт.
— Я до утра две зори отстрелять могу, — сказал он. — Чего же мне сидеть здесь у твоего костра?
— Мое дело предупредить, — ответил Витек. — Лодку перетащить — дело не хитрое.
Мы отнесли на берег протоки сначала вещи, а потом принялись за лодку. Сделанная из прочной просмоленной сосны, она оказалась необычайно тяжелой. Мы еле-еле вытащили ее из воды и, напрягая жилы, стали толкать на бугор. Витек бегал вокруг лодки и, обращаясь к Антону, все время кричал, нещадно ругаясь:
— И где только ты такой гроб выкопал? Сунь ее в воду, она же камнем пойдет на дно.
Он хватал лодку сначала за один, затем за другой борт, налегал плечом на корму, кряхтел и упирался так, что на лбу вздувались синие жилы. На охоте Витек работал совсем не так, как в пожарке.
С бугра лодка пошла легче. Мы подтащили ее к воде и, не сговариваясь, бросились на землю. Лодка отняла все силы.
У всех нас были мокрые лица и тяжелое дыхание.
Я лежал на траве, уставившись в небо, и постепенно приходил в себя. Легкий ветерок обдувал лицо, разгоряченное тело не чувствовало знобкого холода только начавшей оттаивать земли. Небо было чистым, без единого облачка, словно его кто-то выстирал и натянул, чтобы просушить. Забредшие в воду кусты тальника стояли неподвижно, но когда о них задевали льдины, они вздрагивали, долго покачивая голыми макушками. Лед, уносимый течением, глухо шуршал. И мне подумалось, что это было задолго до нас — и сто, и тысячу лет назад, когда на эти берега еще не ступала нога человека.
Немного отдохнув, Витек и его друзья поднялись и, пожелав нам удачной охоты, пошли к своему стану. Болотные сапоги Витька хлопали широкими голенищами, сухая трава хрустела под ногами, он шел, ссутулившись и опустив голову. Мне показалось, что он завидовал нам. Мы отправляемся в неведомые дали, а ему придется пережидать ледоход на неудачливом озере. Но, может быть, завтра ему повезет больше, чем в предыдущие три дня?
Витек был классным шофером и мог бы зарабатывать большие деньги у геологов или геофизиков, но ни за что не хотел бросать свою пожарку. Личную свободу он ценил превыше всего. Пожары в селе случались редко, да и тушить их было бесполезно. За всю историю села ни один дом еще не удалось спасти. Пока пожарники узнают о несчастье, проберутся по совершенно непролазной дороге к загоревшемуся дому, на месте остаются лишь тлеющие головешки. Поэтому в дни дежурства Витек занимался не совершенствованием пожарного дела, а вязал или чинил сети. В отгульное же время с утра до вечера пропадал на Оби.
Возвращаясь с рыбалки, Витек всегда заходил в пожарку и выкладывал на крыльцо несколько крупных стерлядей. Они сверкали крохотными красными глазками, широко раскрывали жабры и время от времени какая-нибудь из них переворачивалась на свою пилообразную спину, обнажая белое брюхо. Увидев рыбу, один из дежурных пожарников бежал в магазин, на крыльце появлялись хлеб и соль, живую стерлядь потрошили, солили и через десять минут она уже шла на закуску.
Проводив Витька взглядом, Антон рывком поднялся с земли и начал переносить вещи в лодку. Я помогал ему укладывать их. Потом мы сели на борт и стали ждать, когда между льдинами появится хотя бы узкая полоска чистой воды. Надо было тут же проскочить ее на моторе. Но лед шел плотно.
Выждав минут десять, мы столкнули лодку на воду и, отталкиваясь от льдин, попытались выбраться на середину протоки. Безрядьев начал заводить мотор, но с ним что-то случилось. Чихнув два раза, он не издавал больше ни звука. Мы благополучно перебрались через лед, но течение, теперь уже по чистой воде, быстро несло нас к Оби. Там у прочного ледяного поля творилось невообразимое. Льдины упирались в него, переворачивались, наползали друг на друга, раскалываясь пополам. Лед грохотал, превращаясь в крошево, пенил воду.
Пока Антон возился с мотором, я, сидя на носу, греб кормовым веслом, стараясь быстрее подобраться к столь желанному противоположному берегу. Но течение стремительно несло нас к ледяной карусели. Наконец, я понял, что мне не успеть.
— Антон! — крикнул я, не в силах отвернуть лодку. — Хватай весло.
Он оглянулся на грохот и сразу все понял. Расстояние между нами и водоворотом быстро сокращалось. Я заметил, что льдины не только собираются в торосы, но, переворачиваясь, уходят вниз, под ледяное поле. Еще немного и мы окажемся там.
Антон, орудуя веслом, что-то кричал, но из-за грохота я не мог разобрать его слов. Торчащие из воды кусты, казалось, были совсем рядом, однако нам никак не удавалось приблизиться к ним. Я взмок от напряжения, сердце готово было выскочить из горла, но страшное ледяное крошево, бурлящее рядом, не давало вздохнуть, заставляло работать из последних сил. До сих пор не знаю, как нам удалось развернуть лодку против течения и подойти к кусту тальника, макушка которого торчала из воды.
Я ухватился за нее трясущимися руками и никакая сила не могла бы вырвать у меня этот куст. Антон был бледный, глаза его горели, по щеке текли ручейки пота. Очевидно, таким же бледным был и я.
— Ну что, перетрухал? — спросил он, обнажив в нервной улыбке крупные, крепкие зубы. — Охота, брат, пуще неволи.
Увидев его улыбку, я понял, что самое страшное позади. Смахнув с лица пот рукавом телогрейки, Антон снова наклонился к мотору, дернул за стартер, и наш «Ветерок» взбрыкнул, как необъезженный жеребец. Куст вырвался у меня из рук и мы полетели навстречу течению, подальше от страшного водоворота. Слева по борту метрах в двадцати от нас проплывали льдины. Невзрачные, грязно-серые сверху, они были красивыми, прозрачно-голубыми на изломе. Я видел это, когда они переворачивались, натыкаясь на ледяное поле. Какая же громадная дикая сила заключалась в этой воде и в этих льдах!
Я уселся на носу лодки и стал показывать Антону, в какую сторону отворачивать, когда перед нами неожиданно появлялась одинокая льдина. У берега, вдоль которого мы шли, они были редкими, и лодка бежала на полных оборотах мотора. В протоке особенно сильно ощущалась могучая прибыль воды. Во многих местах из нее торчали только непрерывно кивающие верхушки кустов. Вода залила все низины, превратила ручьи в речки, затопила озера, разлившиеся теперь на многие сотни метров. Через день-два вся пойма будет затоплена.
До другого рукава Оби, куда стремился Антон, было километра четыре. Мы еще не дошли до него, как почувствовали, что на реке произошли изменения. Лед на протоке делался все плотнее и лавировать между льдинами становилось все труднее. А вскоре перед нами открылось потрясающее зрелище. Сначала мы услышали треск и шуршание, разносившееся далеко окрест. Потом увидели, что по рукаву Оби от берега до берега сплошной массой двинулся лед. Вместе с ним вода уносила клочки сена, следы саней и зверей, оставшиеся на снегу. Все это мощным потоком отправилось вниз по течению сначала к Оби, а затем к Ледовитому океану. Мы присутствовали при самом начале ледохода.
О том, чтобы плыть дальше, не могло быть и речи. Антон завернул в кусты, за которыми начинался узкий, длинный залив с редкими ветлами по берегам. И я сразу увидел уток. Они плавали в конце залива и, казалось, не обращали никакого внимания на людей. Но едва мы выбрались на открытое пространство, утки поднялись и, не разворачивась, скрылись за поворотом протоки. Антон остановил лодку у толстой, похожей на баобаб, ветлы.
— Здесь, паря, мы и заночуем, — сказал он. — Бог даст, еще посидим на вечерней зорьке.
Безрядьев не спеша вылез из лодки, огляделся. Залив был зажат между невысокой гривой, отделяющей его от огромного разлива, и рукавом Оби. Место было довольно удобным. Мы поставили палатку повыше, чтобы до нее не достала прибывающая вода, перетаскали из лодки вещи, заготовили дров для костра и только после этого стали собираться на охоту. Антон перепоясался поверх телогрейки патронташем, взял в одну руку топор, в другую — ружье, меня же заставил нести мешок с чучелами.
В конце залива снова собрались утки. Некоторые из них неторопливо плавали, вытягивая шеи. По всей видимости, собирали на воде корм. При нашем приближении они взлетели.
— Соксуны, — произнес Антон, глядя им вслед.
Я невольно схватился за шейку приклада, но его голос не выражал никаких эмоций. Он знал: если утки облюбовали это место, значит, прилетят сюда снова.
Мы неторопливо двинулись по берегу. На другой стороне залива росли высокие кусты тальника, за которыми виднелась река. Она была забита льдом, двигавшимся с глухим шумом и плеском.
Мы оказались отрезанными от всего мира. Случись несчастье, помочь нам здесь было некому. Но об этом мне не хотелось и думать. Под ногами шелестела сухая прошлогодняя трава, над головой простиралось чистое, без единого пятнышка небо, а плечо оттягивала приятная тяжесть ружья. Я слышал, как в вороненых стволах отзывалось эхо слабого ветерка. Мы словно попали в иное пространство, откуда до нашего поселка с его повседневными заботами было так же далеко, как до соседней планеты.
В конце залива из воды торчали не осыпавшиеся темно-коричневые метелки конского щавеля и желтая осока. Летом залив, очевидно, высыхает, превращается в ложбину. Сейчас он походил на большое озеро. Антон остановился, положил на землю топор, достал сигарету. Закурил, огляделся по сторонам и сказал:
— Вот здесь и сделаем один скрадок, а второй поставим у той ветлы, — Антон кивнул в сторону конца залива.
Я взял топор и пошел к ближайшим кустам рубить ветки. Принес их целую охапку, но Антон послал меня еще раз. Сам он стал аккуратно втыкать ветки в землю, выстраивая их подковой, в середине которой должен сидеть охотник. Сделав каркас скрадка, мы замаскировали его сухой травой. Охотник должен быть тщательно укрыт в своем убежище.
Закончив работу, Антон отошел на несколько шагов в сторону и придирчиво осмотрел наше сооружение. Видимо, оно ему понравилось. Он вытряхнул чучела из мешка, выбрал восемь штук, в основном, шилохвостей и чернедей, и пошел выставлять их на воду. Каждое чучело имело свой груз, привязанный к нему на прочной жилке. Антон расставил чучела небольшими группками метрах в пятнадцати от скрадка. С первого взгляда их нельзя было отличить от настоящих уток.
Я собрал остальные чучела в мешок и мы пошли делать второй скрадок. Вскоре и здесь появился на воде табунок деревянных уток. Глядя на них, я оценил умение Безрядьева вырезать и раскрашивать чучела. Они были настолько искусны, что, окажись между ними настоящая утка, ее можно было бы отличить только по движениям. Но ни над рекой, ни над нашим заливом утки не летали.
Мы прилегли на траву. Антон молчал, безучастно скользя взглядом по заливу, я бездумно смотрел в небо. И вдруг глаза у Безрядьева сузились, он напрягся, словно зверь перед прыжком. Не отрывая взгляда от первого скрадка, он стал шарить рукой, ища мое ружье. Со стороны реки прямо на нас шли утки. Они снизились над чучелами у первого скрадка и, не делая попытки сесть, тянули вдоль залива. Когда табунок приблизился к нам метров на сорок, Безрядьев вскинул ружье и выстрелил.
Одна из уток, словно споткнувшись на лету, перевернулась и с громким шлепком упала в воду. Я вскочил на ноги и бросился за ней. Она лежала метрах в пяти от берега, широко раскинув светлые крылья. Отогнув бродни, я зашел в воду, взял ее за ноги и вынес на берег. Это была шилохвость, точно такая, какую убил я. Красивый дымчатый селезень с белой грудкой и длинными черными перьями на хвосте, отчего тот во время полета кажется острым. Из-за хвоста и получила утка свое название.
Антон поднялся из-за скрадка и вышел мне навстречу. Я отдал ему селезня. Он подержал его на ладони, словно взвешивая, и, протянув мне, произнес:
— Оставь его здесь. Все ближе к палатке.
Возвратив мне ружье, которое он все еще держал в руке, Антон пошел к первому скрадку. Он решил, что налетающих уток лучше встречать ему. А я буду стрелять в тех, которых он проморгает, или в случайных, летящих со стороны поймы.
Я не стал возражать. У кустов лежала коряга, я принес ее в скрадок, удобно уселся и стал внимательно следить за тем, что творилось вокруг.
Над заливом и кустами тальника было спокойно. Редкие табунки уток пролетали над самой рекой, не сворачивая в сторону. По ней все еще шел плотный лед. В конце залива, где уселся Безрядьев, тоже было тихо. И вдруг с неба неожиданно упало: «Ка-линьк, ка-линьк». Я повернул голову и увидел четырех лебедей, летящих прямо на меня. Впервые в жизни я видел их так близко. Они неторопливо махали крыльями, вытянув длинные шеи. Я даже рассмотрел их клювы с желтыми наростами и широкие черные лапы, прижатые к коротким хвостам.
Я так засмотрелся на лебедей, что не обратил внимания на резкий, свистящий звук над головой. Две утки увидели меня и взмыли вверх почти вертикально. Я спрятался в скрадке, чтобы не выдать себя, если вдруг снова появятся утки. Но они почему-то перестали летать. Наступал вечер. Воздух постепенно остывал и становился густым. Солнце скатилось вниз, повиснув над краем горизонта. Кусты отбрасывали длинные, расплывчатые тени. Чувствовалось, что земля готовится отходить ко сну.
Я поддался убаюкивающей тишине и расслабился. Из оцепенения меня вывели два резких, словно внезапные толчки, выстрела. Я обернулся и увидел, как из табунка, пролетающего над Антоном, падает одна утка. Остальные летели на меня. Когда они поравнялись со скрадком, я прицелился в последнюю и выстрелил. Она пролетела по инерции несколько метров и камнем пошла вниз. Утка упала на землю недалеко от воды. Это снова был шилохвостый селезень.
Подобрав его, я уселся в скрадке и стал ждать. Прошло очень много времени, но ни одной утки не пролетело мимо. Солнце закатилось, лишь широкая полоса зари стояла над горизонтом, и поэтому было еще довольно светло. Тени от деревьев, косо падающие на воду, становились все расплывчатее, заря — все уже. От воды потянуло холодом. Устав вглядываться в серое небо, я в который раз за сегодняшний день, расслабился и, услышав всплеск, вздрогнул. В стороне от чучел сидела утка с крепкой коричневой шеей и белой лысиной на лбу. Я осторожно просунул ружье в бойницу и стал целиться. Взяв утку под обрез, я, как и положено, задержал дыхание, и выстрелил. Дробь подняла вокруг нее фонтанчики воды, но утка, словно заколдованная, сорвалась с места и тут же растворилась в густеющем вечернем воздухе. Я даже не успел выстрелить второй раз.
Раздосадовав на самого себя, я закинул ружье на плечо, взял селезней и пошел к палатке. Закат уже догорел и на тусклом небе появилась первая бледная звезда. Над моей головой послышался свист утиных крыльев и вскоре в конце залива раздались выстрелы. По всей вероятности, утки прошли над скрадком Антона или садились к его чучелам.
У палатки я снял ружье, положил на траву селезней. Надо было готовить ужин. Уток щипать не хотелось и я решил сварить картофельную похлебку. Начистил картошки, набрал в котелок воды, развел костер. Сразу запахло горькой ивовой корой и горелой травой. Белое пламя лизнуло холодные бока котелка, по которым, тая на глазах, скатывались капли воды.
Похлебка сварилась, я отставил ее в сторону и повесил над костром котелок для чая. Когда вода закипела, со стороны залива послышалось шуршание травы и перед костром выросла большая, широкая фигура Безрядьева. На его ремне висело несколько уток. Он отстегнул их и положил рядом с селезнями, которых принес я.
— Неплохое начало, — сказал я, кивая на трофеи.
— А у тебя всего одна? — спросил Антон.
— Почему одна? Две, — обиделся я.
— Да. Ты же убил еще селезня на протоке. — Антон положил ружье рядом с утками, повернулся к костру. — Неважная охота. Да здесь хорошей и быть не могло.
Он протянул руки к огню, потер ладони. Я расстелил у костра брезентовый плащ, положил на него хлеб, ложки, поставил котелок с похлебкой.
— Принеси мой рюкзак, — попросил Антон. Он выглядел немного усталым.
Я сходил к палатке за рюкзаком, протянул его Безрядьеву. Он засунул в него руку, достал кусок сала, несколько сморщенных соленых огурцов и бутылку водки. Молча нарезал сало, налил водку в кружки. Чокнулся со мной, опрокинул водку в рот, громко крякнул и только после этого произнес:
— С полем. Что ни говори, а охоту мы с тобой открыли.
Больше за весь ужин Безрядьев не проронил ни слова. Он то ли думал о чем-то, то ли у него испортилось настроение. Я не понял. Поев, мы сложили остатки провизии в рюкзак и пошли спать. Антон, хорошо знавший охотничью жизнь, захватил с собой старенькое стеганое одеяло. Он умел ценить в бивуачных условиях маленькие удобства. Укрывшись им, я пригрелся около его бока и меня начала одолевать дремота. Антону же, наоборот, не спалось. Он достал сигарету, закурил и, несколько раз тяжело вздохнув, вдруг спросил:
— Ты откуда родом, учитель?
По тону голоса я понял, что спросил он просто так, подробности моей родословной его не интересовали. Антону, по всей видимости, захотелось поговорить. Я высунул нос из-под одеяла и полусонно ответил:
— Из Новоселовки.
— Из какой Новоселовки?
— Из ишимской. Слышал о такой?
— Да ты что? — изменившимся голосом спросил Безрядьев и, резко откинув одеяло, сел. — Давно ты там был?
— В прошлом году. У меня там дед с бабкой живут. А что?
— Родился я там, — медленно, словно раздумывая, произнес Антон. — Тут ведь почти все новоселовские. И муж твоей хозяйки Кондратий тоже оттуда был. Полдеревни сюда привезли.
— Раскулачивали, что ли? — спросил я.
— Кого-то, может, и раскулачивали. — Антон затянулся и я заметил, что огонек сигареты дрожит в его руке. — А у нас кроме коровы да собаки ничего не было. Мать говорила, что пострадали из-за грехов отца. Спутался он с женой Сухорукова, тогдашнего председателя колхоза. А тот внес нас в списки подлежащих раскулачиванию и выселению. Тогда, паря, все было просто. Умру, а фамилию этого председателя не забуду. Отец, может, и был виноват. А мы-то при чем?
Сухоруков жил на нашей улице. Из рассказов стариков я знал, что до коллективизации он с утра до вечера пропадал на пашне или сенокосе, участвовал в деревенских сходках и, поскольку был грамотнее других, часто писал от имени сельчан прошения в волость или губернию. Говорят, что лишь его стараниями в Новоселовку прислали учительницу и здесь начала работать первая во всей округе школа.
Перед самой коллективизацией Сухоруков перенес страшное потрясение. Случилось это во время покоса. Вместе с женой он сгребал и копнил сено километрах в трех от деревни. Двухлетнюю дочку оставили дома под надзором матери Сухорукова — восьмидесятилетней старушки. Уложив девочку спать, она ушла к соседке. На кухне в чугунке варилась картошка для поросенка. А над самой плитой старушка повесила просушиться ватный матрац. Пока разговаривала с соседкой, матрац загорелся. Сначала начал тлеть один его угол, а потом и все остальное. Первыми беду заметили игравшие на улице ребятишки. Но в деревне никого, кроме старух, не было. Все находились на покосе.
Когда старухи добрались до дома Сухоруковых и, выяснив причину дыма, вытащили на улицу почти полностью сгоревший матрац, девочка уже угорела. Мать Сухорукова рвала на себе волосы, просила Бога помочь, но было поздно. Девочка прожила без сознания еще два дня и умерла. А через неделю после этого умерла и бабка.
Потрясение было настолько сильным, что Сухоруковы несколько месяцев не могли прийти в себя. Сам Сухоруков ходил, как потерянный, ни с кем не разговаривал и только курил самокрутки, прикуривая их одна от другой. Все ждали, что он не сегодня-завтра свихнется.
Но тут началась коллективизация и деревенские мужики выдвинули Сухорукова на должность председателя, как самого грамотного из них. Это его и спасло. На личные переживания у него просто не оставалось времени. Однако потрясение не прошло без последствий. Сухоруков словно переродился, сделался жестким и неуступчивым, потерял всякую жалость к людям. Был он высоким, сухопарым, с узким длинным лицом и косым шрамом на правой брови, отчего та все время казалась вздернутой. Шрам он получил еще в молодости во время драки из-за невесты, которую у него пытался отбить парень с соседней улицы. Сухоруков выбил сопернику два зуба и сломал ребро, но и сам получил отметину на всю жизнь. Зато добился руки и сердца самой красивой девушки деревни Тани Бочарниковой.
После смерти дочери она пыталась наложить на себя руки. Приладила в стайке петлю и уже собиралась залезть в нее, но Сухоруков то ли случайно, то ли почувствовав неладное, зашел в стайку и увидел приготовления Татьяны. Отвязал петлю от стропилины и этой же веревкой выпорол жену, не жалея сил. Она зашлась в истерике, бросалась с кулаками на мужа, но в конце концов успокоилась и больше о смерти уже не думала. Долгое время не выходила из дома на улицу, не разговаривала с соседями.
А Сухоруков ушел в работу. Налаживал колхозное дело, выбивал фонды, первым в районе получил трактор. Он заражал своей энергией всех, кто был рядом, и колхозники невольно подтягивались, едва на горизонте появлялась его высокая, чуть сутуловатая фигура. Но вскоре случай изменил к нему отношение деревенских.
Соседями Сухорукова были Митрофановы. Самый старший из них дед Феоктист в колхоз вступать не хотел. Но сын понимал: если не вступишь, затолкают силой или, хуже того, сошлют в Нарым, а то и подальше. Поэтому и вступил и работал там, как на своей пашне. Работа отвлекает от тяжелых дум и горестных переживаний. Дед Феоктист никак не мог смириться с этим. Встречая Сухорукова, все время говорил:
— Погибель ты создал нам, а не жизнь.
— Тебе, может, и погибель, — отвечал Сухоруков, высоко поднимая изогнутую бровь, — а другим надежду на счастье.
Обменявшись недружелюбными взглядами, соседи расходились. Разубедить друг друга они не могли, каждый оставался при своем мнении.
На самую пасху, когда из оттаявшей земли уже проклюнулась первая трава и деревня готовилась к севу, дед Феоктист помер. Подошел к окну посмотреть, что делается на улице, схватился рукой за сердце и упал на пол.
У Митрофановых не оказалось досок на гроб, а Сухоруков незадолго перед этим привез несколько подвод хорошего теса, которым собирался крыть скотный двор. Митрофанов пошел к председателю просить помощи.
— Никаких досок даже на гроб врагу колхозного строя я не дам, — вскинув бровь, жестко заявил Сухоруков. — У меня скотный двор стоит не крытый.
— Выходит, тебе скотина дороже человека, — произнес Митрофанов побелевшими губами.
— И ты против колхозного строя агитировать начинаешь? — напрягаясь лицом, на котором заходили крупные желваки, сказал Сухоруков. — Сказал, что не дам, значит не дам. Чего стоишь у порога?
— Я тебе этого никогда не прощу, — сказал Митрофанов и, хлопнув дверью, вышел из конторы.
На гроб отцу Митрофанов снял доски с крыши своего дома.
А вскоре после похорон Сухоруков собственноручно составил первый список деревенских, подлежащих раскулачиванию, и рано утром, загнав лошадь до пены, отвез его районному уполномоченному ОГПУ. Возглавлял список Митрофанов, как самый злостный агитатор против колхозного строя.
С этого дня у Татьяны с мужем начался разлад. Она не помирилась с ним до самой смерти.
Я знал об этом только из рассказов. В моей памяти Сухоруков всегда был нудным, неприятным старикашкой. В последние годы у него что-то случилось с головой. Не то, чтобы помешательство, но стал он каким-то странным. Не уродятся, бывало, огурцы у соседа, Сухоруков, встретив его на улице, обязательно заметит:
— Агрохимию плохо изучаешь, Кузьмич. Грамоту сельскохозяйственную лучше знать надо. От ее незнания все беды в нашем земледелии.
— Так у тебя тоже нынче огурцов нету, — возразит Кузьмич.
— Дал промах, — сокрушенно признается Сухоруков. — Не тот сорт нынче высадил…
— Увидишь Сухорукова, передай от меня привет, — произнес Антон голосом, полным неприязни. — Привезти бы его в наш поселок, да выставить в клетке на обозрение.
Антон прикурил от догорающей сигареты новую и, обхватив колени, несколько минут сидел молча. Потом заговорил снова:
— Привезли нас сюда в июле на барже, почти двадцать семей. Как только выгрузились, баржа ушла. Десять лет мне было, а помню все, как сегодня. Никогда в жизни не видел столько гнуса, сколько тогда. Как он меня не заел, одному Богу известно. Но особенно досталось нам зимой.
Он снова замолчал, очевидно, заново переживая то тяжелое время. Потом затянулся несколько раз сигаретой и продолжил:
— Если бы не батя, померли бы в ту зиму все до одного. Он настоял, чтобы строились не каждый по себе, а срубили два барака, в которых можно было бы перезимовать всем. А в начале зимы открыл оленью тропу между двух озер. Перешеек там был узкий и олени кочевали по нему с одного болота на другое. Мужики поставили изгородь, получился загон. Олени нас и спасли. Я на том перешейке одного рогача два года назад завалил. Олени до сих пор по нему ходят.
— А где сейчас твой отец? — спросил я.
— Утоп на рыбалке. Перевернулся на долбленке вот в такую же дикую воду. Ты же видел сегодня — река в половодье, что море. Ладно, давай спать. — Антон затушил окурок и залез под одеяло.
Но спать уже не хотелось. Я лежал с открытыми глазами и думал то об Антоне, то о нашей деревне Новоселовке. После рассказа Безрядьева вся ее жизнь предстала мне в ином свете. Скольких людей вырвали из родных гнезд, отобрав все, что они создавали трудом не одного поколения. Скольких красивых парней и девчат, скольких песен лишилась деревня. Я знал, что моя бабушка тоже не любила Сухорукова.
Когда началась война, почти всех мужиков забрали на фронт, а он остался. Получил бронь, но отрабатывал ее честно. Во время посевной и уборки не спал ночами, сам ремонтировал тракторы и комбайны, чтобы утром они были в поле. Однажды во время уборки Сухоруков объезжал поля на лошади. На одной из загонок, где хлеб уродился особенно хорошим, увидел замерший на месте трактор с комбайном на прицепе. Около него стояла подвода, отвозившая зерно на ток. Уборочный экипаж здесь был женский — и на тракторе, и на комбайне работали бабы. Зерно на ток отвозил четырнадцатилетний мальчишка.
Сухоруков сразу понял, что случилась поломка. Понукнув коня, он рысью направился к комбайну. Трактористка Мария Кондакова, мокрая от напряжения, с испачканным смазкой лицом пыталась гаечным ключом открутить давший течь бензопровод. Комбайнерша Арина Локтионова стояла рядом и молча наблюдала за работой подруги. Помочь ей она была не в силах. Мальчишка, понурив голову, сидел на подводе, полной зерна.
— Чего тут у вас? — громко спросил Сухоруков, осадив лошадь у трактора.
— Ключ срывается, не могу открутить, — повернувшись к нему, сказала Кондакова. — Гайка завальцевалась.
— Сама ты завальцевалась, — пробурчал председатель, соскакивая с коня.
Сухоруков тут же открутил бензопровод, осмотрел его и понял, что прохудившуюся трубку надо менять. Механик без распоряжения председателя новой трубки не даст, а ему еще надо было проверить, как идет уборка на других полях. Покрутив бензопровод в руке, он протянул его трактористке и сказал:
— Ты вот что, езжай на машинный двор и возьми у механика новый. Скажи, что я велел. У него есть. — Сухоруков посмотрел на возницу и добавил: — Пока он будет разгружать подводу, ты управишься.
Трактористка поехала, Арина Локтионова осталась у комбайна. Метрах в двадцати от него лежала свежая копна соломы.
— А ну-ка пойдем, посмотрим, как ты вымолачиваешь зерно, — сказал Сухоруков Арине и направился к копне.
Он взял в горсть несколько обмолоченных колосков и начал шелушить их. Арина замерла, глядя на председателя. За плохой обмолот наказание было беспощадным. Вместе с мякиной на ладони осталось одно зернышко. Сухоруков сдул мякину, показал зерно Локтионовой, но вместо того, чтобы отругать ее за плохую регулировку комбайна, сел на солому, положил зерно на передние зубы и начал медленно разжевывать его. Арина стояла рядом. Был теплый день. Чуть слышный ветерок шевелил колосья пшеницы на неубранном поле, над которым, забравшись в поднебесье, кружили хоровод журавли. Их печальное курлыканье настраивало душу на лирический лад.
— Чего стоишь? — спросил Сухоруков, подняв глаза на Арину. — Слышишь, журавли курлычат. Отлетать собираются.
Она села рядом с ним и подняла голову кверху, пытаясь разглядеть парящих в небе птиц.
— Да не туда смотришь, — сказал Сухоруков и, обняв Арину за плечо, показал другой рукой на журавлиный круг.
От прикосновения сильной мужской ладони, стиснувшей плечо, Арина вдруг обмякла, тесней прижалась к груди председателя и опустила голову. Он обнял ее второй рукой за бок и наклонился, чтобы посмотреть в глаза. Арина повернула лицо, их губы встретились и Сухоруков, еще минуту назад не думавший о женской близости, почувствовал, как дрожит тело Арины и понял, что она сейчас не откажет ему ни в чем. Он приблизился к ней и начал жадно целовать в полураскрытые губы. Через несколько минут, встав и отряхнув прилипшую к коленям солому, он сказал не столько Арине, сколько самому себе:
— А ведь собирался только проконтролировать работу комбайна…
— Да ладно тебе, — засмеялась Арина, и он почувствовал в этом смехе радость, которую не видел в глазах многих деревенских женщин уже давно.
Арина была крепкой двадцатилетней женщиной с красивыми светло-серыми глазами на обветренном лице. Сухоруков давно поглядывал на нее, но не потому, что хотел сблизиться. Несмотря на тяжелый труд, Арина дышала свежестью, никогда ни на что не жаловалась и часто заражала своим оптимизмом других женщин. Ее муж погиб в самом начале войны, она жила со свекровью и двухлетним сыном.
Сухоруков виновато посмотрел на нее и сказал, положив руку на луку седла:
— Сейчас сбегаю к другому комбайну и вернусь.
Когда он возвратился к простаивающему агрегату, Кондакова уже приехала из деревни с новым бензопроводом и пыталась поставить его на место. Сухоруков помог ей закрутить гайки, а потом рукояткой запустил трактор. Его удивляло, как удавалось бабам руками проворачивать коленчатый вал тяжеленного НАТИ.
О встречах Сухорукова с Ариной в деревне узнали, когда та уже не смогла скрывать выросшего живота. Но к этому времени он завел себе новую любовницу и опять из баб, потерявших на фронте мужика. Жена все видела. Сначала закатывала скандалы, потом смирилась. Уйти ей все равно было некуда.
В мае, когда началась посевная, Арина родила сына. Сухоруков не заглядывал к ней полгода. Теперь, крепко выпив, пришел. Сразу же шагнул к люльке, пытаясь рассмотреть мальчонку. Но Арина, мывшая в это время пол в горнице, набросилась на него с мокрой тряпкой, нервно выговаривая:
— Ты не в люльку. Ты под юбки бабам заглядывай, это тебе привычнее.
— Так ведь мой же, — возразил Сухоруков.
— Какой он твой, — выталкивая председателя в спину из комнаты, кричала Арина. — Нашелся производитель.
Арину выводил из себя его обман. Когда Сухоруков узнал, что она забеременела, сказал, обнимая за плечо:
— Если родишь, женюсь на тебе. От Татьяны детей у меня нет и теперь уже не будет. А что за жизнь без детей?
Но вскоре завел новую любовницу и забыл и об Арине, и о своем обещании. После того, как Арина выпроводила его, он ни разу не выразил желания увидеть своего сына. Даже когда мальчишка подрос и пошел в школу, он не поговорил с ним, не прокатил на лошади, не угостил конфетой.
Я помнил младшего сына Арины — высокого, красивого в новенькой форме лейтенанта военно-воздушных сил. Закончив летное училище, он забрал с собой мать на место службы. О том, кто его отец, я случайно узнал от бабушки.
— Что же Сухоруков не заботился о нем? — спросил я. — Ведь родной сын.
— У него таких детей полдеревни, — сказала бабушка. — Ты думаешь зря его Татьяна так рано померла?
Бабушка не любила Сухорукова. Придя вечером с поля, она иногда начинала ругать председателя.
— И кто только сунул его на нашу голову, — в сердцах говорила она. — Второй раз заставил окучивать картошку около дороги. А та, что подальше, вся заросла. Пустой человек этот Сухоруков.
При этих словах дед всегда оглядывался по углам и тихо ронял:
— Сколько раз тебе говорил, чтобы ты держала свой длинный язык за зубами. В Нарым за другими захотела, что ли?
— А я тебе говорю — пустой, — начинала кричать бабушка так, что ее можно было услышать на улице. — Я не о себе, я о колхозном добре пекусь. Для чего тогда мы садили эту картошку, спрашиваю я тебя?
Бабушка распалялась все больше и больше, и дед, видя, что ее уже не унять, собирался и уходил чинить забор или ремонтировать что-нибудь в сарайке. Дела в доме всегда найдутся.
Сухорукова в деревне не любили, но боялись. Каким бы пустым он не был, а в ссылку отправил многих. У него власть, связи в районе. Все знали, что он возит туда и мед, и сало, и муку целыми мешками.
Завтра надо будет спросить Безрядьева о других новоселовских переселенцах, подумал я и повернулся к нему. Но он ровно дышал, и мне показалось, что Антон уже уснул.
Я отвернулся, закрыл глаза и мне почему-то вспомнилась Катя. Ее большие светло-карие глаза, красивый профиль с туго стянутым на затылке узлом темных волос. Эту прическу она сделала для того, чтобы казаться старше и серьезней. Когда она распускала волосы, с ее лица исчезала учительская строгость и она сразу становилась похожей на девчонку. Ей очень шли распущенные волосы.
— Хоть бы раз прошлась так по улице, — вырвалось однажды у меня.
— Да ты что? — испугалась Катя. — Еще влюбится какой-нибудь ученик, что я буду с ним делать?
— Я выпорю его и поставлю в классе в угол на целый день, — стараясь сохранить серьезность, сказал я. — Пусть другие смотрят на разложенца и делают для себя вывод.
Катя вспыхнула и отвернулась, давая понять, что не хочет продолжать разговор на эту тему. Она пыталась придать своему лицу строгий вид, но у нее это не получилось. Катя понимала, что я говорю комплименты, но не хотела показать, что они ей нравятся. Я уже давно признался себе, что люблю ее. Иногда казалось, что она тоже неравнодушна ко мне. Но я боялся открыться ей в своей любви. Боялся, что она отринет ее, и тогда я навсегда потеряю Катю. Мне вспомнились слова моей хозяйки, заметившей однажды:
— В таких делах надо быть настойчивым. Вода, батюшко, и камень точит.
В ту ночь мне так и не удалось сомкнуть глаз. Едва я смежил ресницы, как меня начал толкать в бок Антон.
— Проспали мы, паря, зорю, — сокрушенно произнес он. — Время половина пятого.
Я вылез из-под одеяла и, натянув сапоги, выполз из палатки. Снаружи было холодно. Костер потух, серая зола стала мокрой. Вдоль всего берега залива всплыла тоненькая корочка льда и, чтобы зачерпнуть пригоршню воды, его пришлось разбить сапогом.
Я умылся и сразу замерз.
Антон в это время развел костер и подогрел вчерашний чай. Мы наскоро перекусили и, захватив старенькую одноместную резиновую лодку Антона, пошли к нашим скрадкам. Оказалось, что Безрядьев не подобрал вчера с воды двух уток и теперь надо было достать их.
За ночь вода заметно прибыла, она подошла вплотную к моему скрадку. Залив сделался шире и длиннее. Изменился и обской рукав. Ледоход прошел, и теперь по нему проплывали только редкие одиночные льдины. Мы остановились около моего скрадка. Антон обвел взглядом залив и сказал, что сегодня здесь можно поохотиться еще лучше, чем вчера. Посмотрел на чучела, повернулся ко мне и добавил:
— Сиди, паря, и не разевай рот.
После этого пошел доставать своих уток. Меня тронула его забота. Очевидно, после ночного разговора, когда он узнал, что мы с ним земляки, немного оттаял.
Я зарядил ружье и сел на свою корягу. Огромное красное солнце выкатилось из-за горизонта и окрасило воду в розовый цвет. От легкого ветерка утиные чучела покачивались, расплываясь в разные стороны и снова сплываясь вместе. Я осмотрелся. Сероватое небо было пустым. Над всей поймой, насколько хватало взгляда, не летало ни одной утки. Только далеко за обским рукавом над самым горизонтом тоненькой ниточкой тянул один табунок.
И тут прямо над моей головой раздался резкий свист крыльев. Я замер и услышал всплеск воды. Рядом с чучелами на то же место, что и вчера, опустилась утка с коричневой шеей и белой лысиной на лбу. Я выстрелил в нее, почти не целясь. Утка перевернулась и замерла на месте.
После этого природа снова затаила дыхание. Ни ветерка, ни шелеста утиных крыльев. Я и раньше замечал, что утиные перелеты чередуются с паузами. Час, два, а то и три в небе не видно ни одной утки. И вдруг их словно начинают гонять. С полчаса они носятся, как сумасшедшие, а затем снова успокаиваются. Но сейчас тишина просто поражала.
Я сидел час, второй, не шевелясь, не поднимаясь с места. Солнце поднялось над деревьями, из оранжевого превратилось в желтое, и ледок около берегов стал истончаться, растворяться в воде. Небо снова стало бездонным, прозрачным до синевы. Природа словно отдыхала. И только за кустами на другой стороне залива текла река, изредка пронося на своей спине тяжелые льдины.
Безрядьев вылез из скрадка и направился с лодкой к воде.
Я увидел, как он поднял из воды чучело и начал обматывать вокруг него поводок с грузилом. Охота закончилась, надо было собираться и мне. Недалеко от скрадка лежал длинный, похожий на удилище прут. Я взял его и, отогнув сапоги, зашел в воду, чтобы достать селезня, по которому так неудачно стрелял вчера. По размерам он был немного меньше шилохвостого, да и по расцветке уступал ему. Селезень имел дымчатое оперение, только шея и голова были коричневыми, а от клюва через весь лоб тянулась белая лысина. Когда я вынес его на берег, ко мне подошел Безрядьев. На его поясе висело три чирка. Увидев мою добычу, он произнес:
— Смотри-ка, даже свиязя добыл.
Я не знал, что эта утка называется свиязь. Слышал о ней, но в охотничьих трофеях никогда не имел. Подняв селезня за крыло, спросил:
— Они здесь редкие?
— Здесь, да, — ответил Безрядьев. — Но на других озерах встречаются довольно часто.
Антон явно подобрел ко мне после ночного разговора. Он подождал, пока я соберу чучела и мы вместе направились к палатке. Он шагал, широко расставляя ноги, сухая трава хрустела под его сапогами. На плече Антона было ружье, чирки, висевшие на поясе, при каждом шаге ударяли его по бедру, но мне казалось, что это даже доставляло ему удовольствие. Настоящий охотник должен выглядеть именно так.
У палатки Антон отправил меня за дровами, а сам принялся теребить уток. Пока я собирал сушняк, он ощипал двух шилохвостых. Вскоре мы ели ароматную похлебку, пахнувшую дичью и дымком костра. Доставая из котелка утку, Антон заметил:
— В Новоселовке дичи тоже немало было…
Мысль о селе, где он родился и провел раннее детство, не давала ему покоя. Очевидно, так или иначе она мучила его все эти годы. Я чувствовал, что мне надо как-то утешить его, но нужные слова не приходили в голову.
— Раньше, наверное, было, — сказал я. — А как освоили целину, не стало.
— Это с чего же? — спросил Антон, с удивлением посмотрев на меня.
— Распахали все, даже пойму и берега озер. Болота высохли, озера обмелели. Птица ведь любит раздолье.
— А озеро, у которого стоит деревня? — Антон повернулся в мою сторону, на его лице застыло напряжение.
— Озеро осталось, — сказал я. — Пацаны даже карасей в нем ловят.
— Глаза закрою и как сейчас его вижу, — сдавленно произнес Антон. — Огород наш выходил к нему. Утром, бывало, глянешь, а на берегу лысух видимо-невидимо. Черно все. Летом мы в этом озере с Ариной Локтионовой купались. Красивая была до невероятности. Не знаешь, что с ней сталось?
Меня обожгло при одном упоминании об Арине. Я посмотрел на Антона, не зная, как поступить: сказать ему правду или промолчать. Он словно догадался об этом и тихо спросил:
— Чего молчишь? Арину тоже выслали?
— Да нет, — сказал я. — Просто подумал, почему ты о ней спросил? Никого, кроме Сухорукова, из сельчан не вспомнил, а ее вспомнил.
Антон расслабленно рассмеялся тихим, коротким смешком:
— Глупая детская мечта была — вырасту и женюсь на Арине. Она самая красивая в деревне.
— Уехала Арина… давно, — сказал я. — У нее сын летное училище закончил, с ним и уехала.
— А от кого сын-то? — спросил Антон, не сводя с меня напряженного взгляда.
— Я не знаю, — сказал я, пожав плечами. — Он на фронте погиб.
— Наверное, был не из Новоселовки, — произнес Антон. — Иначе я бы знал.
— А почему бы тебе не съездить в Новоселовку? — спросил я. — Все бы и узнал. Долго ли сейчас при современном транспорте?
Антон перестал есть и отрешенно посмотрел на разлившуюся воду. Мне даже показалось, что где-то за ней он видит деревню своего детства. Потом опустил глаза и, тяжело вздохнув, произнес:
— Зачем бередить душу? Жизнь прошла и ничего уже не вернешь. Моя земля теперь здесь.
Он снова посмотрел на воду, затем повернулся ко мне и сказал:
— Батя мой страшно хотел вернуться в Новоселовку. Если бы не мы, сбежал бы отсюда. Нас жалел, знал, что без него пропадем. Хлебопашец он был отменный. Рожь здесь сеять начал. До него в этих краях о ней никто не слышал. А мы на том хлебушке выросли, войну пережили…
— А где сейчас этот колхоз? — спросил я.
— Как где? — удивился Безрядьев. — Реформировали. Мы сначала с одним боремся, затем с другим начинаем. Посчитали, что колхоз в этих краях невыгоден. Вместо него коопзверопромхоз сделали. Теперь ни колхоза, ни зверопромхоза. Мужики промхозовские всю пушнину налево гонят. За нынешние две ондатровые шапки корову рекордсменку купить можно. Вот и рассуди, что мужику сегодня выгоднее — корову держать или ондатру ловить.
— И ты соболей налево продаешь?
— Я всех в промхоз сдаю, — произнес Безрядьев, лукаво сверкнув глазами.
Я знал, что по первому снегу он всегда уходит недели на три в тайгу. У него, как и многих деревенских старожилов, был договор с коопзверопромхозом на сдачу пушнины. Но вот сдавал он ее когда-нибудь или нет, об этом я не слышал. Кое-что, наверное, сдавал. Иначе бы договор с ним каждый год не заключали. А без него Безрядьеву было бы трудно. Этот договор давал право на лося. Сохатина в доме Антона никогда не переводилась.
— Без охоты, брат ты мой, нынче загнешься, — сказал Безрядьев, словно угадав мои мысли. — Теперь даже Шегайкин за утками поехал. Скажи об этом кому-нибудь лет десять назад, со смеху бы помер. Времена изменились совершенно непонятным образом. Пропал не один наш колхоз — тысячи. А ведь худо-бедно люди сами себя кормили, да и государству кое-что давали.
— Выходит, тебе дважды с колхозами не повезло, — заметил я.
— Не только мне, — ответил Антон. — Тебе тоже. Колхоз, паря, касается каждого.
Я вспомнил Шегайкина с лиловым синяком под глазом и спросил Антона, откуда он появился в деревне.
— Обычная история, — ответил Безрядьев, усмехнувшись. — Однажды перед ледоставом пьяный капитан буксира посадил на мель баржу. Как раз напротив деревни. Наши мужики помогали ее стаскивать. Когда буксир с баржей ушли, оказалось, что капитан забыл на берегу матроса. Это и был Шегайкин. Его кто-то из наших за водкой отвез, а он уснул на крыльце магазина. Там его Фроська и подобрала. Пришлось Шегайкину жить у нее до следующей навигации. Но как раз на ее открытие Фроська ему сына родила. Он и остался. Так и живет среди нас. Теперь на Севере таких много.
Антон нехотя доел похлебку, и мы начали собирать вещи. Надо было ехать дальше. На этом заливе на хорошую охоту рассчитывать не приходилось.
Мы сложили вещи в рюкзаки, свернули палатку. Я залез в лодку укладывать наши охотничьи пожитки, Антон подавал их мне. Подняв свой тяжеленный рюкзак, в котором было сотни три патронов, он вдруг положил его на землю и, схватившись рукой за сердце, опустился на борт. Его расширившиеся зрачки наполнились нескрываемым страхом, лицо побледнело.
— Что с тобой? — крикнул я, не скрывая испуга.
— Сейчас пройдет, — остановил он меня движением руки. — Прихварывать малость начал.
Он вытащил из нагрудного кармана куртки стеклянную, похожую на коротенькую пробирку капсулу, достал оттуда белую таблетку и положил в рот. Посидев с минуту на борту лодки, Антон сполз на землю и лег на траву.
Мне стало страшно. Антон казался человеком невероятной выносливости. Тайга была его родным домом, он ходил на охоту только один, а для этого надо иметь отменное здоровье. Но судя по тому, что он держал у себя лекарство, болезнь уже прихватывала его не один раз.
— Сердце шалить стало, — произнес Антон посеревшими губами. — В который уже раз в нынешнем году. — И, увидев страх в моих глазах, тут же успокоил: — Да ты не бойся. Я мужик крепкий, все вынесу.
Только сейчас я понял, почему Безрядьев взял меня на охоту. Ему потребовался напарник. Он уже не очень надеялся на свое здоровье. Но тогда зачем брать в руки ружье? Однако это был бы самый неуместный вопрос, который можно было задать в эту минуту Антону. Деревенских старожилов кормит тайга. Это только мы с Катей могли питаться в местной столовой.
— День-то какой, — тихо произнес Антон, прищурившись на солнышко. — Прямо лето. Ехать надо быстрее. Умру, хоть ты покажешь мои места Вовке.
— А, может, вернемся домой? — неуверенно произнес я.
— Чего ты заладил домой да домой, — сердито сказал Антон. — Мужик я или нет?
Он встал, опираясь на локоть, вздохнул полной грудью и направился к лодке. Охота была для него то же, что и жизнь. Отговаривать от нее было бесполезно.
Я оттолкнул лодку от берега. Антон, с лица которого полностью сошла бледность, одним рывком завел мотор и вывел лодку на обскую протоку. Осенью в некоторых местах ее можно было перейти вброд, а сейчас она разлилась ничуть не меньше основного русла реки.
Навстречу нам плыли редкие мелкие льдины, смытые с берега кусты и деревья. Мне пришлось пересесть на нос и жестами показывать, куда поворачивать, чтобы не столкнуться с ними. Над рекой то и дело проносились стайки чирков, но браться за ружье не хотелось. Я вообще старался не думать об охоте. Что-то треснуло у меня внутри.
«Ружье, батюшко, для настоящего мужика, — вспомнился мне негромкий, наставительный голос моей хозяйки. — Оно и прокормит, и обувку с одежкой справит. А в дурных руках ружье — горе…»
Когда Антон пригласил меня с собой, я почувствовал, как екнуло сердце. Мне давно хотелось побродить с ружьем по диким местам, провести несколько ночей у костра, вслушиваясь в отдаленный свист утиных крыльев и всматриваясь в молчаливые звезды. Мне казалось, что наедине с природой человек обретает совсем другое состояние души. Бурлящий мир с его страстями, в которых тонут одни и возвышаются другие, остается как бы по иную сторону бытия. Отчего же тогда это непонятное состояние?
Наверное, оттого, что Антон рассказал мне свою историю. Страшную в своей неправдоподобной обыденности, когда человек не мог решать, как и где ему жить, чем заниматься, о чем думать. Антон и сейчас относился к жизни не так, как остальные. Он надеялся только на самого себя…
Через час мы свернули в новую протоку, которая была такой же широкой и полноводной. Русло уже было тесно для нее, и вода начала выходить на пойму, заливая луга. Километрах в двух виднелся небольшой островок леса и я понял, что мы направляемся к нему. Антон хорошо знал эти места. Я все время бросал на него взгляд, пытаясь определить его состояние. Но на его лице можно было прочитать лишь спокойствие и сосредоточенность. Очевидно, сердечная боль прошла и он снова чувствовал себя в полной силе. Или старался выглядеть таким. Но тогда это ему хорошо удавалось.
Остров, к которому мы направились, был узким и длинным, поросшим по самому хребту высоким осинником. Казалось, что деревья сбились в кучу, убоявшись наступающей на них воды. Перевалив через берег протоки, она наступала на них со всех сторон. Антон сбавил обороты мотора, и мы осторожно причалили к острову. Подтянув повыше лодку, мы пошли к деревьям. За осинами до самого горизонта простиралась вода, из которой кое-где торчали полузатопленные кусты и длинные низкие острова, покрытые рыжей травой. От нашего острова в сторону разлива уходили две косы, образовывая залив. В его дальнем конце плавали лебеди. Их было не меньше полусотни. Я никогда не видел столько лебедей сразу. Вдоль всего берега и на воде рядом с лебедями сидели утки. Их было очень много. Они кричали, взмахивали крыльями, перелетали с места на место. Они собрались сюда потому, что на разливе гуляла волна, а здесь было тихо. Да и безопасно тоже. Осторожные лебеди никогда не соберутся там, где им что-то угрожает.
Не сговариваясь, мы молча развернулись и, стараясь не наступать на ветки, чтобы они не трещали, отошли за осины.
— Ну, как? — шепотом спросил Антон, кивнув в сторону залива.
— Птичий базар, — тихо ответил я, увлекая его подальше за деревья. Мне не хотелось спугивать птиц.
— Вот сюда я тебя и тащил. — Антон дружески похлопал меня по плечу. — На разливе большая волна, там птице не усидеть.
А за леском тихо, она вся здесь и собирается. Бабе работы надолго хватит, — произнес он.
— Какой бабе? — не понял я.
— Моей. Какой же еще? — ответил Антон. — Уток-то теребить ей. — Он вдруг остановился и спросил: — А как у тебя с учительшей?
— С какой? — переспросил я, прикинувшись, что не понимаю его вопроса.
— С Катериной Васильевной, конечно. С какой же еще? — В глазах Антона мелькнули хитроватые искорки, а по губам скользнула короткая улыбка.
Я понял, что он окончательно пришел в себя. Если человек начинает говорить о любовных делах, да еще при этом пытается сохранить чувство юмора, значит на уме у него жизнь, а не смерть. От этих мыслей у меня стало спокойно на душе.
— Нормально, — ответил я, пожав плечами. — А почему ты спрашиваешь?
— Такую девку надолго оставлять нельзя, — серьезно сказал он. — Сразу умыкнут. Если потребуется сват — зови.
— Буду иметь в виду, — ответил я и посмотрел на Антона. Он не шутил.
Мне снова вспомнилась Катя, иногда не в меру серьезная и в то же время в чем-то беспомощная. Она бросила город ради того, чтобы нести знания сельским детям. Таким, как Антонов Вовка и его деревенские друзья. От Кати и других учителей многое зависит. Они должны научить детей любить свою землю, какой бы она ни была. Потому что другой у них нет и никогда не будет. «Приеду в деревню, расскажу ей все об Антоне и других старожилах», — решил я. Она должна знать, как возник поселок и кто его заложил. Настоящему учителю это просто необходимо. А Катя была настоящей учительницей. Она гордилась своей профессией.
Я обязательно принесу ей несколько уток, пусть пощиплет их, понапрягает свои тонкие пальчики, привыкшие к тетрадкам да авторучке. Женщина на Севере должна уметь все. А Катя считает себя уже настоящей северянкой. Чего, по ее словам, пока не может сказать обо мне. Я еще не сумел расстаться с городскими привычками.
Не так давно я встретил ее, когда она несла от колодца воду.
— Женщина с полными ведрами всегда к счастью, — сказал я, склонив перед ней голову, и предложил свою помощь. Но Катя отвергла ее.
— Женщина испокон веков носила воду для домашнего очага, — сказала она, не останавливаясь. — Осталось тебе научиться ходить на охоту.
— Когда ты станешь моей, только этим и буду заниматься, — ответил я.
Она вся вспыхнула и, толкнув ногой калитку, торопливо направилась к крыльцу. Я думал, что она обернется, но Катя не остановилась.
— А на охоту я все равно пойду, — крикнул я, когда она уже потянула дверь за скобку. — Первый медведь, который появится в окрестностях поселка, будет мой. Я постелю его шкуру у твоей кровати.
Она на мгновение задержалась, прищурившись, посмотрела на меня и, не сказав ни слова, вошла в дом.
— Да не печалься, будет она твоей, — вывел меня из раздумий Антон. — Приедем — пойдем свататься. Мы такую девку никому не отдадим.
Я не ответил. Молча достал из лодки рюкзак и понес его к деревьям, где мы решили поставить палатку. Антон посмотрел на меня, пожал плечами и полез в лодку снимать мотор.
На охоту идти было рано, я натаскал сухих веток, развел небольшой костер. Мы решили попить чаю. Пока я прилаживал над костром котелок, Безрядьев укладывал мотор в нос лодки — если пойдет дождь, он должен быть хорошо укрытым.
Мы настолько увлеклись, что, услышав прямо над собой шум крыльев, оторопели. На нас шел табун гусей. Они шли так низко, что я различил их оранжевые лапы и светло-розовые клювы. Мне даже показалось, что вожак скосил глаз и посмотрел на меня.
Гуси пролетели так стремительно, что ни я, ни Безрядьев не успели подумать о лежавших рядом ружьях. Когда я пришел в себя, табун уже находился в сотне метров от нас.
— Растяпа! — крикнул Безрядьев, со стуком уронив мотор на дно лодки, и громко выругался.
— Кто же мог подумать? — попытался оправдаться я.
— Да я не тебя ругаю — себя, — с досадой сказал Безрядьев. — Такой случай, а я с этим мотором расшиперился.
— Может, еще налетят? — робко произнес я, глядя в безоблачное небо.
Антон не ответил. Однако взял ружье и положил его рядом с собой. Я сделал то же самое. Налетят, не налетят, но ружье всегда должно быть под боком.
Гусь является самой дорогой добычей для любого охотника. Птица эта редкая и очень осторожная. Добыть ее может только самый опытный стрелок, да и то, если повезет. Сегодня нам представлялся такой случай, но мы его прошляпили.
Я встал и подбросил в костер сушняка. Вода закипела мелкими пузырьками сначала у боков котелка, потом посредине. Я бросил в котелок щепоть чаю и снял его с огня. Антон достал из рюкзака хлеб и сахар. Он был сосредоточен. Все время прислушивался к утиным крикам, раздающимся из-за леса, и посматривал на небо. По всей видимости, ждал нового табуна гусей.
— Давно ты ездишь сюда? — спросил я.
Антон опустил плечи, посмотрел на меня и ответил:
— Почти каждый год.
— А кто еще знает это место? — Мне вдруг пришло в голову, что к вечеру сюда может нагрянуть целая ватага охотников.
— Не знаю, — ответил Антон, пожав плечами. — Разве, может, Витек-пожарник. А пошто ты спрашиваешь?
— Место больно хорошее. Птица сидит рядом, а нас не видит. Если ветер сменится на северный, она пойдет на посадку прямо через этот лесок. Можно будет стрелять, не отходя от палатки. — Я тоже посмотрел на небо. Мне показалось, что из-за леска раздался крик гусей.
— А ты быстро начал понимать толк в охоте. — Антон проследил за моим взглядом и замолчал.
Гуси действительно кричали за лесом, но над нами они не показались. Мы подождали, пока затихнет их крик и начали собираться на охоту. Я столкал в рюкзак утиные чучела, сунул туда мешочек с патронами, которые решил взять про запас. Оставшийся чай мы тоже разделили, разлив его по фляжкам. Антон глянул на часы и сказал:
— Самое время. Пока сделаем скрадки, выставим чучела, будет пять.
— Как ты себя чувствуешь, Антон? — спросил я. Мне не давало покоя его сердце.
— Чего это ты обо мне беспокоишься? — Он смотрел на меня прищуренными глазами. Не смотрел, а целился.
— Кто же о тебе здесь позаботится, кроме меня, — сказал я.
— Я всегда в полном порядке, — с легким раздражением ответил Антон. Я понял, что разговор на эту тему ему не нравится.
Антон решил остаться на ближнем мысу, а меня отправил на дальний. Ветер дул с разлива или дикой воды, как северяне называют половодье. Убитых Антоном уток он поднесет прямо к его берегу. Поэтому старенькую резиновую лодку он отдал мне.
Едва я показался из леса, как настороженные лебеди поплыли к самому концу косы. Туда, где я собирался устроить скрадок. Когда я вышел на открытое место, они взлетели. Сначала лебеди долго хлопали крыльями по воде, поднимая белые брызги, потом оторвались от нее и, медленно набирая высоту, растаяли у горизонта. Вслед за ними стали подниматься утки. Они взлетали при моем приближении, и, не разворачиваясь, уходили в сторону разлива.
Добравшись до конца косы, я сразу понял, какое это прекрасное место для охоты. Слева простиралось безбрежное море воды, по которому ветер гнал волны с белыми гребешками. Справа был большой тихий залив, окруженный лесом. Он был неглубоким, даже в десяти метрах от берега из воды торчали кончики прошлогодней травы. В таких заливах птица легко находит корм.
У самой воды рос чахленький куст тальника. Его легко можно было превратить в скрадок, замаскировав прошлогодней травой. Срезав верхние ветки и воткнув их в землю, я быстро управился с этой работой. Потом выставил чучела и, усевшись на свернутую резиновую лодку, стал ждать уток. У меня возникло ощущение, что вот-вот должно произойти что-то необыкновенное.
В двухстах метрах от меня на другом конце залива сидел в своем скрадке Безрядьев. Он тоже замер в напряженном ожидании. На всем заливе, где еще недавно плавали сотни уток, не было ни одной птицы. Он словно вымер. Стояла такая тишина, что было слышно, как ветер шевелит травинки около скрадка.
И тут я увидел гусей. Большой табун летел низко над разливом прямо на меня. Я почувствовал, как начали трястись руки, а по спине пробежал озноб. Гуси негромко переговаривались между собой, спокойно помахивая крыльями. Подождав, пока они приблизятся метров на тридцать, я прицелился в одного из них и выстрелил. Гусь, вздрогнув, отделился от табуна и стал планировать на берег. Пролетев скрадок, он упал метрах в двадцати от меня. Стройная цепь, которую гуси образовали в полете, смешалась, они стали забирать круто вверх, подставляя себя под выстрел. Я выстрелил еще раз и еще один гусь выпал из табуна. Он упал на землю и, пытаясь поднять перебитое крыло, побежал к воде. Перезарядив ружье, я выстрелил по нему еще раз.
Никогда в жизни среди моих трофеев не было такой добычи.
Я подобрал гусей, положил их около скрадка и уселся на старое место. Но вскоре поймал себя на том, что больше смотрю не на чучела, а на добычу. Если Антон не убьет гусей, он, конечно, будет страшно завидовать.
Как часто бывает в таких случаях на охоте, я тут же оказался наказан за потерю бдительности. Три шилохвости — два селезня и утка — сели к моим чучелам. Но они увидели меня раньше, чем я их. Едва я высунул голову, шилохвости взлетели и мгновенно исчезли за лесом.
Однако в тот день мне невероятно везло. Не прошло и двух минут, как снова стайка шилохвостей села к чучелам. Они сидели так плотно, что одним выстрелом мне удалось снять сразу двух селезней. Не успел я подняться, чтобы достать их, как увидел идущий на меня табунок чернедей. Я выстрелил и один селезень, вывалившись из него, стукнулся о землю недалеко от меня. На такой охоте я еще не был. В течение десяти минут мне удалось добыть шесть селезней. Потом все стихло. Я собрал уток и положил их у скрадка рядом с гусями.
Затишье длилось довольно долго. Но охота уже потеряла для меня прежний интерес. Азарт прошел, охотничье занятие стало походить на работу.
Метрах в пятидесяти от скрадка сел селезень шилохвости. Вытянув шею, он готов был сорваться с места в любую минуту. Казалось, что он не сидит на воде, а лишь слегка прикоснулся к ней. Я осторожно повернулся, чтобы получше рассмотреть его, но он, скорее почувствовав это движение, чем заметив меня за укрытием, мгновенно сорвался с места и тут же исчез за лесом.
Вслед за шилохвостью к чучелам села хохлатая чернядь. Не шевелясь, не мигая, селезень смотрел на скрадок круглым желтым глазом, потом тоже поднялся в воздух.
Со стороны разлива к косе несло огромное ледяное поле. Непрерывно прибывающая вода сняла его с какого-то озера и теперь старалась донести до Ледовитого океана. Волны с плеском налетали на него, издавая похожие на шлепки звуки. На самом краю льдины сидели две чайки. Когда вода окатывала их брызгами, они поднимали крылья, словно пытались взлететь, и тут же опускали их снова.
Утки перестали летать, да и охотиться больше желания не было. Но уйти из скрадка раньше Безрядьева я не мог. Это было бы не по-товарищески. Поудобнее устроившись на резиновой лодке, я думал о разных вещах.
Мне почему-то вспомнилась бабушка, у которой я жил в голодное военное время. Отец был на фронте, мать училась в институте. Уйти из него не дал дед, страшно хотевший, чтобы хоть кто-то из семьи имел высшее образование.
У бабушки была знакомая проводница, работавшая на поезде, который проходил через ближайшую станцию в город, где училась мать. Раз в неделю бабушка встречала его и передавала через проводницу полведра картошки, кулек просяной муки, а по большим праздникам бидон варенца. Иной раз увязаться за бабушкой удавалось мне. Отдавая проводнице продукты, она всегда говорила одно и то же:
— Ты уж передай Евгении, пусть не экономит. Мы тут с голоду не помираем. Картошка есть. А осенью мы ей гуся пришлем. Правда? — и бабушка трепала меня по голове.
Бабушкиной гордостью была гусыня Манька, которая всю зиму жила у нее под кроватью, а весной там же откладывала большие белые яйца и садилась парить. В тот год она вывела девять гусят.
Каждое утро, едва успев позавтракать, я открывал калитку и выпроваживал гусыню на луг, находившийся прямо за огородами. Вместе со мной пасти гусей отправлялась наша собака Шарик. В ежедневном труде он был надежным и верным другом, но имел одну слабость — никогда не упускал случая стянуть то, что близко лежит. Особенно страдала от этого гусыня. Сварит, бывало, бабушка картошку, остудит, растолчет, выставит кормить свою любимицу. Не успеет отвернуться, а Шарик тут как тут. Мигом вылижет чашку до блеска и сядет рядом, помахивая хвостом. Ох, и доставалось ему за это от бабушки.
Провожая меня пасти гусей, она постоянно наказывала:
— Ты этому прохвосту не верь. Гляди за ним в оба. Он и гусенка, чего доброго, сопрет.
Я гладил Шарика по голове и мы отправлялись с ним вслед за гусями. Красть гусят у него не было и в мыслях, это бабушка зря на него наговаривала.
За озером, около которого паслись гуси, начиналась пойма реки. Она простиралась до самого леса, синей зубчатой стеной встававшего у горизонта. В пойме было немало больших озер. На одном из них постоянно жила пара лебедей. Об этом знала вся деревня, но, несмотря на трудное время, птиц никто не трогал.
— Да разве найдется грешная рука, которая бы поднялась на лебедя? — не раз повторяла бабушка и при этом крестилась, глядя на икону, висевшую в переднем углу.
Мне всегда хотелось добраться до того озера и посмотреть, как живут лебеди. Но находилось оно далеко и я знал, что меня туда никто не отпустит. Иногда лебеди пролетали над деревенской околицей и тогда ребятишки выбегали смотреть на них. Считалось, что встреча с лебедями приносит счастье. Сердце мое сжималось оттого, что они были так близко, и я начинал завидовать их грациозному полету и беспредельной свободе.
Недалеко от нашего дома жил одинокий тяжело больной человек — дядя Андрей. Он был очень худым. Его щеки провалились, отчего скулы казались широкими, обтянутыми прозрачной синеватой кожей. Глаза дяди Андрея лихорадочно блестели, он непрерывно бухал сухим, коротким кашлем. Бабушка никогда не пускала меня к нему, боялась, что заражусь.
— У него чахотка, — говорила она. — Пристанет, тогда уж мне тебя не выходить.
Но сама она ходила к Андрею. Время от времени угощала его овощами с нашего огорода: редиской, луком, свежими огурцами. Однажды бабушка принесла от него большое белое крыло. Руки ее тряслись.
— Ты подумай, Андрюха-то наш чего натворил, — сказала она, обращаясь к деду. — Лебедя застрелил. Грех-то какой, Господи. Что теперь будет?
Дед не был таким набожным, как бабушка. Ко всем событиям он подходил с житейской мудростью.
— А, может, поправится Андрей с мяса-то? — словно размышляя вслух, произнес он. — При чахотке питание нужно. Где его сейчас возьмешь?
— Но и этим не наживешься, — отрезала бабушка. — За грех Господь обязательно покарает, поверь мне.
— Крыло-то тогда выброси, зачем взяла?
Бабушка повертела в руках крыло и положила его за печку.
— Еще сгодится, — сказала она. — Теперь уж все одно не вернешь хозяину. Отлетался.
С тех пор никто не встречал лебедей у Новоселовки. Говорили, что второй разбился. Поднялся высоко в воздух, сложил крылья и камнем упал на землю. Его подобрал проезжавший мимо Сухоруков и привез домой на телеге. На что бабушка заявила:
— Не верю я нашему председателю. Убил его, поди, как Андрюха, а теперь говорит, что подобрал в поле.
— У него и ружья-то нет, — возразил дед. — Он языком воюет.
— Много ты знаешь, что у него есть, а чего нету, — отрезала бабушка.
Дед промолчал, потому что в самом деле никто точно не знал, что есть, а чего нету у Сухорукова. Но пророчество бабушки оказалось верным: осенью наш сосед умер.
От этих воспоминаний мне стало холодно. Солнце закатилось, оставив после себя на горизонте широкую кровавую полосу. Большое ледяное поле подплыло к мысу и, сев на мель, остановилось. Около его кромки плескалась вода. Наступила белая ночь. Теперь заря, скрывшись за разлившейся водой, почти тут же появится с другой стороны горизонта, чтобы снова занять половину неба. Охотничий день для меня закончился.
Я окинул взглядом лежавшую на траве дичь. И тут словно ножом полоснули меня по сердцу. Гусь, которого я добивал вторым выстрелом, оказался жив. Он смотрел на меня серым, полным невыразимого ужаса глазом, и пытался поднять окровавленную голову. Он испытывал нестерпимую боль, но облегчить ее, помочь ему я не мог.
На охоте постоянно сталкиваешься со смертью, ее несет каждый твой выстрел. Но когда дичь погибает сразу, не испытываешь угрызений совести, не видишь в этом ничего необычного. Однако от этого взгляда гуся, его тихого хрипа у меня поползли по спине мурашки. Я сознавал, что самым гуманным поступком с моей стороны было бы добить его. Но мной уже руководило не сознание, а чувство.
Я схватил гуся, прижал к груди и побежал к палатке. Но, вспомнив о ружье, которое тоже надо было взять с собой, повернул назад. Держа в одной руке раненого гуся, другой взял ружье и здесь мой взгляд упал на сегодняшние трофеи. На траве рядом со скрадком лежало шесть селезней и еще один гусь. В другое время при одном виде такой добычи меня бы охватил счастливый восторг. Но сейчас мне стало не по себе.
Я осторожно положил гуся на траву, столкал в рюкзак дичь, чтобы не видеть ее. Закинув рюкзак за плечи, я попытался взять еще и резиновую лодку, но понял, что с такой поклажей будет очень тяжело. Лодку пришлось оставить. Зато подранка я нес, прижимая обеими руками к груди. Так и донес его до палатки.
Антона еще не было. Я положил подранка рядом с палаткой, снял рюкзак и ружье. Затем пошел с котелком за водой, чтобы напоить гуся. Я где-то читал, что раненым всегда хочется пить. По реке несло льдины, по всей вероятности, попавшие в нее с пойменных озер. Вода уже затопила все луга и заливные озера. За день она заметно прибыла, это я определил по лодке. Мы оставили ее на сухом месте, а теперь она покачивалась на воде.
Я подтянул ее повыше и привязал к толстой осине, стоявшей на самом берегу.
Подранок от воды отказался. Он сидел, прижавшись к палатке, но ему стало немного легче потому, что он уже начал поднимать голову. Несчастная птица, чем мне загладить вину перед тобой? Теперь уж нечем. Я нарвал большую охапку сухой травы и положил на нее подранка. Он не сопротивлялся. Постояв немного рядом с гусем, я пошел разводить костер. Надо было готовить ужин.
Наши продовольственные запасы подходили к концу и мне волей-неволей пришлось варить уток. Мне не хотелось смотреть на птицу, но Безрядьев, как нарочно, не возвращался. А по неписаному правилу обед на охоте готовит тот, кто приходит первым.
Я развел костер, затем выбрал двух селезней и начал теребить их. Через полчаса оба селезня были в котелке. От костра пахло таловым дымком, сучья потрескивали, рассыпая малиновые искры. День окончательно угас. Белая ночь, похожая на сумерки, начала развешивать на небе еле заметные бледные звезды. В природе разлился покой. Чуткую тишину лишь изредка нарушал свист утиных крыльев. Отдохнув и подкрепившись за день, птица устремлялась дальше на север.
Похлебка сварилась, а Антона все не было. Я отставил ее в сторону и повесил над костром маленький закопченный котелок, служивший нам вместо чайника. Вскоре он закипел. Со стороны залива послышались шаги. Я оглянулся и увидел Безрядьева, неторопливо идущего к костру. На его поясе висело всего две утки.
— Ну и устал же я, — сказал он, снимая с пояса добычу. — Просто наваждение какое-то. Столько стрелять и все без толку. А у тебя что?
— Два гуся и шесть уток, — сказал я, поднимаясь от костра.
— Да ну? — удивился Антон.
Я показал рукой на подранка, лежавшего на траве и прижавшегося одним боком к стволу осины. Заметив мое движение, он попытался встать на ноги, но тут же опустился на землю.
— Гуменник, — сразу определил Антон. — Что же ты его не добил?
— Жалко. Увезу домой, пусть живет.
— Этот не жилец. Помучается и околеет.
Я принес к костру брезентовый дождевик и выложил на него хлеб, кружки, сахар. Затем подвинул к нему котелок с похлебкой. Антон поднял свой рюкзак, пошарил в нем рукой и достал солдатскую фляжку. Тряхнул ее, поднеся к лицу, во фляжке что-то булькнуло.
— За твоих гусей, — сказал он. — Ты сегодня охотник по всем статьям.
Должен признаться, мне была приятна эта похвала. Тем более от Безрядьева, скупого на слова, но хорошо знающего цену каждому охотничьему трофею.
— Этот суходол, — сказал он, кивнув в сторону залива, — открыл мой батя. А я уж потом нашел это место по его рассказам. Охота здесь добрая только в большую воду. Когда ее нет, залив остается сухим. Потому и называется суходолом. Батя уходил сюда пешком через реку перед самым ледоходом. Не совсем пешком, конечно. Забереги и полыньи на долбленке переплывал. А там, где лед крепкий, волок ее за собой на полозьях. До этого суходола он дня три шел, если не больше. Палаток в то время как у нас с тобой, не было. На каждый ночлег строил шалаш. Трудная была охота. Погода здесь, сам знаешь, шальная. После первого тепла иногда пурга зарядит. На Оби такую волну поднимет, что мужики на этом берегу по три дня сидят, в деревню перебраться не могут. Охотником батя был мировым, но больше всего любил пашню. Как только снег сойдет, он все землю рукой трогает. Мнет ее в пальцах, нюхает. Определяет, когда можно сеять. Помню, убил я свою первую утку, несу ему, а у самого сердце от радости готово выскочить. Похвалит, думаю. А он посмотрел на утку и сказал:
— Уж лучше бы ты, сынок, землю пахал. Оно надежнее. Охота — подспорье, не ремесло.
Было это поздней осенью, перед самым отлетом птицы на зимовку. А следующей весной батя утонул. Долбленку его нашли, а он так и не выплыл. Может, под корягу занесло, может, песком замыло. На Оби такое часто случается.
Антон немного помолчал, глядя на догорающий костер, потом продолжил:
— Вот и я свою жизнь доживаю, а вспомнить, кроме охоты, нечего. Иногда в тайге думаю: пожалуй, и первобытный человек так же жил. А ведь, если бы не Сухоруков, все в нашей семье могло сложиться по-другому. И батя своей смертью помер бы, и я, может, до председателя колхоза дослужился. Думаешь, нет?
— Ну почему же? — ответил я. — Всяко могло повернуться.
— Вот и я так думаю. Почему же за подлость негодяя должны рассчитываться невинные люди? Он бы бабу свою наказал, а не нас, которые еще детьми были.
— Никому в голову не придет считать тебя в чем-то виновным.
— Разве мне от этого легче? Я ведь свое уже заплатил.
Антон снова замолчал. Достал из кармана сигарету и, прикурив ее от уголька, сделал глубокую затяжку. Я ждал, когда он заговорит, но Антон не торопился. Что-то мучило его.
— Знаешь, какое время самое тяжелое на Севере? — вдруг спросил он.
— Зима, конечно, — ответил я.
— А вот и не зима. Самое тяжелое время — это апрель, когда все запасы уже кончились, а на реке еще лед стоит. Ни рыбы не добудешь, ни зверя не убьешь. Когда нас сюда привезли, весны, как назло, одна за другой затяжными были. Самых голодающих они доводили до крайности. На второй или третий год нашей нарымской жизни был такой случай. Вышел я из дому, а по улице ребятишки бегут.
— Айда с нами, кричат. Мать Веньке Спирину голову отрубает.
Я кинулся за ними. С Венькой мы дружили, ему в ту пору тоже было лет десять-одиннадцать. У них зимой в тайге отец пропал. Пошел на охоту и не вернулся. Энкэвэдешники приезжали, опрашивали всех в поселке. Моего батю раза три вызывали. Но поскольку следов никаких обнаружить не удалось, решили, что Спирин сбежал на большую землю. Всех взрослых предупредили, чтобы за его женой следили день и ночь и сразу же с нарочным сообщили в район, если заметят что-либо подозрительное. Жена Спирина с двумя ребятишками страшно голодала в ту зиму. К весне все они еле передвигали ноги. И помочь было некому, в ту весну голодали все. Моя мать говорила, что Спириха зарезала даже свою собаку. Пес у них и вправду исчез. Но то ли пропал вместе с хозяином, то ли его действительно съели, никто этого в точности не ведал.
Не знаю, следили за Спирихой взрослые или нет, мы, ребятишки, ничего особенного в ее поведении не замечали.
И тут такая сногсшибательная весть. Спириха в самом деле собралась отрубать Веньке голову. Она выволокла его за шиворот во двор, бросила у чурки, на которой кололи дрова, и кинулась в сени за топором. Венька даже не пытался бежать. Он лежал около чурки на снегу и кричал: «Ой, мама! Ой, мама!» Выскочив из сеней с топором, Спириха кинулась к нему. Спас Веньку мой отец, шедший в это время по улице. Как он успел перескочить через изгородь, до сих пор не могу понять. Спириха уже занесла топор над Венькиной головой, но отец оказался на мгновение проворнее. Он прямо с изгороди прыгнул на нее и сшиб с ног.
— Что же ты делаешь, твою мать? — закричал он, и Спириха тут же на снегу свернулась калачиком рядом с Венькой и заплакала.
Как выяснилось, она на самый черный день берегла в мешочке стакан пшена. Венька нашел его и съел. За это и хотела отрубить ему голову. Но делала она это уже не в своем уме. Увидев, как Венька доедает пшено, Спириха свихнулась. Ее куда-то увезли, а Веньку с сестрой отправили в детский дом. Недели через две нашли и Спирина. Он вытаял на берегу ручья километрах в пяти от поселка. Никаких ран на нем не было. Человек помер в дороге. Может, сердце было больное, может, с головой плохо стало. Прихватило на ходу, а пилюль, как у меня, не было. Упал и готов. Вот так и жили мы, паря, — закончил рассказ Безрядьев и затянулся сигаретой. — А ты говоришь — простить Сухорукова. Списки на отправку сюда составлял он, причем без всякого принуждения. Кого вписал, того и выслали. Один не так ему ответил, другой не так посмотрел на его жену. Все на Севере оказались.
Я молчал, не зная, что ответить. Костер догорал, и я подвинул необгоревшие концы сушняка на тлеющие розоватые угли. Они зачадили, у Антона заслезились глаза, он закашлял. Я наломал тоненьких прутьев, положил их на угли и раздул огонь. Пламя выпорхнуло из-под сучьев, потянулось кверху. Дым сразу исчез, словно сгорел, растворился в нем. Антон сосредоточенно посмотрел на огонь, поставил ближе к костру кружку с чаем. Но пить не стал, а заговорил снова.
— Я Вовку хочу на агронома выучить. И знаешь, что думаю: приняли бы его в Новоселовке?
— А почему бы и нет? — ответил я. — И председателем может стать, если себя покажет. Сегодня о людях судят по их хватке, по тому, как умеют поставить дело. Заслужил человек — выберут и председателем.
— Ну, не говори, — возразил Безрядьев, взяв кружку и с громким швырканьем отхлебнув горячего чая. — Посмотри, кто в районе на самых высоких постах. Кто больше других языком ворочать умеет. Вон Логунов, глава администрации. Это же он колхоз в зверопромхоз переделал. Вот кого нужно высылать и как можно дальше. Он своей бездумностью столько вреда в районе наделал, за годы не исправишь. Ах, да что я об одном и том же?
— Наболело, наверное, — сказал я.
— Оно у меня все время болит. Давай лучше поговорим о твоих гусях.
При этих словах у меня снова заскребло на сердце. У палатки, сжавшись в большой серый комок, лежал раненный гуменник.
Я понимал, какую боль испытывает он, но поднять на него руку еще один раз было выше моих сил. Мужество изменило мне.
Я все надеялся, что ему станет лучше и он оправится от ран.
В стороне от нас за краем леска заклинькали лебеди. Я повернул голову в их сторону. Шесть больших белых птиц возвращались на залив, откуда мы их согнали. Очевидно, они решили переночевать под затишьем леска.
— Тебе никогда не приходилось есть лебедей? — вдруг неожиданно спросил Безрядьев.
Этого мне еще не доставало! Конечно, не приходилось. Даже сама мысль о таком не могла прийти мне в голову. Я вспомнил, как дрожали руки бабушки, когда она принесла домой лебединое крыло. Всю деревню захлестнуло тогда болью и гневом. Человека, поднявшего руку на лебедя, спасла от расправы только его жестокая болезнь. Люди гордились тем, что около их селения жили эти птицы. Глядя на них, они оттаивали душой. Лебеди всегда были символом красоты и верности. Издавна считалось, что если они селятся около деревни, значит в ней живут хорошие люди. Вот почему никто не смел трогать их даже в такое голодное время.
— Нет, не приходилось, — ответил я, вспоминая лебединое крыло. — И не придется.
— А мне пришлось, — просто и как-то безучастно сказал Антон. — Когда нас здесь высадили, ели все, что было можно. Мужики добывали и лебедей.
Как нехорошо заканчивается сегодня день. Сначала этот подранок, а теперь такой странный разговор о лебедях. Неужели Антон решил поохотиться и на них? Ведь вечером они наверняка соберутся в заливе. Может, он специально прощупывает почву, выясняет мое отношение к такой охоте?
— Когда мы домой? — спросил я, пристально посмотрев на него.
— Куда ты торопишься? — удивился Антон, не отводя взгляда. — Нам пока ехать не с чем. Два гуся — это не добыча.
Я молча поднялся и начал собирать в рюкзак остатки ужина. Антон тоже встал, поднял с земли ружья и отнес их в палатку. После этого мы завалились спать. Все-таки день был тяжелый, и мы оба устали.
Проснулся я с ощущением легкости на душе. Антона в палатке не было. Выглянув наружу, я увидел, что он сидит у костра и греет чай. Легкий дымок поднимался от горящих сучьев. Антон ломал и подбрасывал в костер тонкие сухие ветки. Я оделся и вылез из палатки. На свежем воздухе было прохладно. Погода резко изменилась. Пасмурный день брезжил сквозь тучи, скупо освещая холодную свинцово-серую воду. Она значительно прибыла. Это я определил по льдине, бывшей вчера у мыса, а теперь находившейся в центре залива. Ее загнало туда ветром.
Я вздрогнул от холода и подошел к костру.
— Ну, как спалось? — спросил Безрядьев, в голосе которого слышалась нескрываемая бодрость.
— Отлично, — сказал я, протягивая руки к огню.
— Погода мне что-то не нравится, — сказал Безрядьев, глядя поверх деревьев. — Как бы снег не пошел.
— Это плохо? — спросил я.
— Для охоты, может, и нет. А для житья на этом острове утешения мало. Мокрота всегда нагоняет тоску.
Я посмотрел на небо. Низкие серые тучи неторопливо двигались с севера. Казалось, они вот-вот заденут за деревья и с тихим шипением, словно проткнутый воздушный шар, опадут на землю. Но тучи не цеплялись и не опадали. Медленно и упрямо они ползли в одном и том же направлении и тянули за собой холод. Глядя на них, мне стало нехорошо и я передернулся.
— Давай пить чай, — предложил Безрядьев, доставая из рюкзака хлеб.
Его лицо было сосредоточенным, тяжелые брови сдвинуты вниз, а тонкие губы плотно сжаты. Безрядьев выглядел суровым и замкнутым. Таким, каким я привык его видеть в деревне.
Я подошел к ложбинке, наполненной чистой водой, и умылся. И только тут заметил, что рядом с палаткой нет подранка. Клочок сухой травы, которую я стелил вчера, остался, а гусь исчез. Неужели пришел в себя и улетел? У меня радостно екнуло сердце. Словно огромный камень, давивший все это время, свалился с души. Дай Бог тебе здоровья, гуменник. Прости меня за причиненные страдания. Я никогда больше не подниму руку на гуся.
— А подранок-то упорхнул, — произнес я, не в силах сдержать улыбки.
— Никуда он не упорхнул, — тут же отрезвил меня Антон. — Околел. Я его положил рядом с утками. Я же тебе говорил — такие не выживают.
У меня так сжалось сердце, что я невольно опустил руки. Расхотелось и завтракать, и идти на охоту. Но Антон уже торопил меня. В заливе собралось много птицы, и сегодня он решил наверстать упущенное за вчерашнюю охоту.
— Давай быстрее перекусим да пойдем, — нервно сказал он.
Выпив кружку чая, я взял свое ружье и пошел к скрадку. Надо было собрать чучела и принести лодку. Об охоте я уже не думал. Очевидно, на Севере я был действительно чужим. Катя была права, когда говорила об этом.
Едва я вышел на открытое место, утки и лебеди стали подниматься в воздух. Я заметил, что среди обитателей залива появились гогли. Вчера их не было. Несколько уток пролетело прямо надо мной. Раньше я бы не удержался и обязательно выстрелил, но сегодня я пошел на охоту лишь для того, чтобы не обидеть Антона. Он бы не понял моего отказа. Зачем тогда было ехать в такую даль, терпеть столько лишений?
Но оказалось, что в скрадке интересно сидеть и не охотясь. Едва я уселся в нем, как раздался свист крыльев и в трех метрах от меня на воду плюхнулась хохлатая чернядь. Я только начал поворачивать голову, но селезень заметил мое движение. Он тут же сорвался с места и растаял в воздухе, словно его никогда и не было.
Вторая утка появилась так же неожиданно, как и первая. Я увидел у самых чучел белую птицу, которую сначала принял за чайку. Но вскоре разглядел ее короткий узкий, почти куриный клюв и догадался, что это луток — небольшая уточка, живущая обычно на глухих, глубоких лесных озерах. Я никогда не видел ее в весеннем оперении. Заметив, что я шевельнулся, луток тоже улетел.
И тут появились гогли. Селезень и уточка сели метрах в ста от меня. Она была темно-коричневой с сероватой грудкой, он черно-белый, с крупной сизой головой и белыми щеками. Вдруг уточка нырнула. Сизоголовый красавец покрутился на месте, ища подругу, и нырнул вслед за ней. Она тут же вынырнула и с любопытством смотрела на воду, ожидая селезня. Но стоило ему показаться из воды, как уточка нырнула снова. Я первый раз видел игру гоглей.
С каждым нырком они приближались к скрадку. Зрелище настолько увлекло меня, что я уже не мог оторваться от уток. Они словно играли в прятки и догонялки одновременно. Стоило вынырнуть одному, как другой тут же уходил под воду. Эта игра продолжалась минут десять. Но тут выстрелил Безрядьев. Уточка задержалась на воде ровно столько, сколько потребовалось селезню, чтобы появиться на поверхности. Увидев его, она поднялась в воздух. Селезень со свистом взлетел вслед за ней.
Я уже сидел, не прячась. Утки летели на чучела, но, увидев меня, поднимались вверх. Антон стрелял очень часто, и я почему-то вздрагивал от каждого его выстрела.
В это утро я выстрелил только один раз. Большой табун шилохвостей летел прямо на мой скрадок. Я поднял ружье и скорее машинально, чем сознательно, нажал на спуск. Табун летел так низко, что утки, казалось, стлались над водой. Услышав выстрел, они резко отвернули в сторону и взмыли вверх. Но одна, словно споткнувшись, упала на воду и, лежа на спине, кружилась на одном месте, беспорядочно хлопая крыльями. Через минуту она затихла. Я клял себя за случайный выстрел, но раскаяние было слишком поздним.
Вскоре поднялся ветер. Вода между льдиной и берегом покрылась рябью. Затем пошел редкий снег. Потом он стал гуще, небо почернело, и я понял, что надо уходить. Но сначала мне пришлось накачать резиновую лодку, чтобы собрать чучела. Вода прибыла, и добраться до них в резиновых сапогах я уже не мог.
Я еще раз окинул взглядом место, где провел почти сутки. Еще вчера здесь плавали десятки лебедей, а сегодня залив забило льдом, принесенным с озер.
Я затолкал лодку в чехол, закинул на плечо рюкзак с чучелами и пошел к палатке. Тяжелый, мокрый снег, гонимый холодным ветром, летел так густо, что залеплял лицо и слепил глаза. Из-за него я не заметил своего напарника, который бежал навстречу, крича и размахивая руками. Я увидел Антона, когда он оказался рядом. Понять его жесты было трудно, но я догадался, что случилась беда. Антон был без шапки, всклокоченные, засыпанные снегом волосы придавали ему дикий вид.
— Лодку раздавило! — закричал он, хватая меня за рукав.
— Какую лодку? — спросил я, почувствовав, как похолодело под ложечкой.
Антон ошалело посмотрел на меня, но не ответил, а потащил к тому месту, где стояла наша лодка. Потом отпустил мою руку и побежал. Я тоже побежал, хотя мешали рюкзак и резиновая лодка. Теперь уже снег не имел никакого значения, я просто не замечал его. Холодок под ложечкой перешел в страх, охвативший душу. У палатки я сбросил груз и кинулся к берегу.
Моторки, на которой мы приехали сюда, не существовало. Вместо нее на берегу лежало несколько досок и мотор «Ветерок» с искореженным облупившимся бачком, из которого тонкой струйкой вытекал зеленоватый бензин. Огромная льдина, наехав на лодку, перемолола ее. Льдина раскололась пополам. Одна ее часть лежала в воде, зацепившись краем за берег, другая вылезла на землю, придавив доски от нашей лодки. Вода принесла льдину с какого-то озера.
Я осмотрелся по сторонам и только сейчас понял, что мы находимся на узком, выгнутом подковой островке, поросшем по самому хребту редкими осинами. Я как-то не замечал этого раньше и только теперь осознал, в каком безвыходном положении мы оказались. Противоположный, более низкий берег реки уже скрылся под водой. Наверху торчали только верхушки кустов тальника, росшего по его краю. До ближайшего островка было не меньше километра открытой воды. Он едва проступал сквозь снег. А кругом, насколько хватало глаз, простирался безбрежный, похожий на океан, разлив.
Безрядьев, лучше меня понимавший положение, в котором мы очутились, стоял согнутый, опустивший руки и растерянно смотрел на льдину. Таким я его никогда не видел. Мне всегда казалось, что с ним можно вывернуться из любой ситуации. Ведь он всю жизнь занимался охотой и бывал во всяких переделках. Но сейчас при одном взгляде на него у меня начинало сосать под ложечкой. Я чувствовал, что он не видит выхода из положения. Что делать? Как выбраться отсюда? Кто поедет мимо этого, никому не нужного островка? Ведь завтра его затопит водой.
В голову не приходила ни одна спасительная мысль. В душе возникло опустошение и полное безразличие ко всему. Я скользил бессмысленным взглядом по нашей маленькой палатке, ружьям и дичи, лежавшей около нее, по тому, что осталось от лодки и не видел этого. Были мы с Антоном и огромная стихия враждебной свинцово-серой воды, захлопнувшей за нами ловушку. Она справляла ненасытное торжество, с утробным бульканьем перекатываясь через край льдины, по сантиметру отвоевывая пространство, на котором мы могли существовать. Нам оставалось только наблюдать это, не в силах что-либо противопоставить.
Чтобы хоть немного успокоиться, я закурил. Безрядьев нервно посмотрел на меня и сглотнул слюну. Я протянул ему пачку с сигаретами. Он вытащил одну трясущимися пальцами, долго прикуривал, ломая спички, потом сказал:
— Это конец.
— Успокойся, — произнес я. — У нас есть резиновая лодка, топор. Что-нибудь придумаем. Главное — не впадать в панику.
Все это я сказал только для того, чтобы подбодрить его. Мне самому не думалось, мозги словно окаменели. Антон не ответил, прищурившись, посмотрел на горизонт. Он был ровным, как в уходящем в бесконечность океане. Холодный ветер закручивал на волнах белые барашки.
Я повернулся и пошел к палатке. Надо было чем-то заняться, и я решил развести костер. Но то место, где он у нас был раньше, затопило. Сквозь холодную воду виднелась серая зола и картофельные очистки.
Я наломал сухих веток и развел огонь у самой палатки. Он был маленький, еле живой, но с ним стало легче. Короткие голубоватые язычки пламени облизывали ветки, те, не дымя, вспыхивали, передавая огонь дальше. Ветки, разгораясь, потрескивали, и это был единственный живой звук, раздававшийся на нашем островке. Я достал двух чернедей, одну стал щипать сам, другую отдал Безрядьеву. Опустив голову, он взял утку за ноги, подсел к костру и начал теребить. Антон делал это молча, не глядя на меня, лишь время от времени бросая взгляд на горизонт. Но он по-прежнему был пустынным.
Ощипав утку, я отдал ее Антону, а сам полез в рюкзак за картошкой. Пока я чистил ее, Антон опалил и выпотрошил обеих чернедей.
Ели молча, говорить было не о чем. Вода прибывала на глазах. Она подошла почти к палатке, хотя та стояла на самом высоком месте. Островок, вытянутый подковой метров на двести, в ширину был не более двадцати метров. Если вода будет прибывать такими темпами, через сутки она затопит нас. Ожидать собственной гибели, не предпринимая никаких усилий спастись, было неимоверно тягостно.
— Может, одному рискнуть на резиновой лодке? — неуверенно произнес я, чтобы нарушить ставшее уже невыносимым молчание. — Потом с кем-нибудь приехать за другим.
— Куда на ней сунешься? — Антон кивнул в сторону горизонта. — Река разлилась на полсотни километров.
Я и сам понимал, что воспользоваться одноместной резиновой лодкой можно было только от безысходного отчаяния. Ни один нормальный человек не рискнул бы отправиться на ней в такую погоду до обского берега. Лодку могло захлестнуть первой же волной. Кроме того, одного из нас надо было оставлять на острове практически на верную гибель. Но ждать помощь можно было только с Оби. Антон прекрасно понимал это. Как понимал и то, что плыть пришлось бы ему. Только он мог найти правильную и самую короткую дорогу к обскому берегу.
— Так что же будем делать? — спросил я, глядя на мрачного, почерневшего Антона.
— Не знаю, — ответил он и добавил: — Попадись мне сейчас этот Сухоруков, пристукнул бы его, как вошь.
— Он-то при чем? — возразил я. Мне казалось, что сейчас нам было не до Сухорукова.
— Если бы не он, я бы пахал землю, а не стрелял уток, — резко, не скрывая озлобленного раздражения, сказал Антон. — Я вот думаю, почему мы так терпимы ко злу? Боимся чего-то или в крови это у нас? Нельзя же так. Ведь должен человек отвечать за содеянное. Зло, оставленное без наказания, не умирает. Оно творит новое зло.
Он поднял на меня глаза, ожидая поддержки. Но что я мог ответить ему? В моей памяти председатель колхоза всегда был сухим, сутуловатым стариком с быстрым и жестким взглядом. Из-за его вздернутой брови казалось, что он на всех смотрит с подозрением. Многие не выдерживали этого взгляда, опускали глаза. Но боялись его не из-за этого. В деревне Сухорукова называли сексотом. В те времена это была самая оскорбительная кличка. Сексот или секретный сотрудник доносил в органы на своих соседей и близких. Достаточно ему было сказать о ком-нибудь плохое, и человек тут же исчезал. Когда моя бабушка начинала открыто ругать председателя, дед недаром сразу же уходил из избы. Боялся, что из-за ее языка мы можем оказаться там же, где и Безрядьев.
Меня это время не затронуло, а Антона опалило с ног до головы. Он сидел, понуро опустив голову, изредка бросая взгляд на угасающий костер. Маленький язычок пламени вспыхивал на головешках, пытался бежать, перескакивая с одной на другую, но, обессилев, уходил в глубь обгоревших сучьев, чтобы через некоторое время вновь появиться снаружи. Утешить Антона мне было нечем.
Конечно, будь Сухоруков другим, может быть, и спас бы несколько семей от раскулачивания и ссылки. Но ведь стал он таким не только из-за своего характера. Его породило время.
— Так что же будем делать, Антон? — спросил я еще раз, глядя на своего напарника.
— Не знаю, — отрешенно произнес он. — Наверное, ждать.
— Чего ждать? — не понял я.
— Сказал же тебе, не знаю, — раздраженно ответил Антон. — Боюсь я этой воды. В резиновой лодке по такой погоде до Оби не доберешься.
— Другого шанса все равно нет, — сказал я не столько Антону, сколько самому себе. — Может, мне рискнуть? Чем Бог не шутит?
— Ну куда ты поплывешь? — спросил он, отвернувшись и пошевелив палкой угли в костре. Потом поднял голову и посмотрел на меня жалостливым взглядом. — Тебе до Оби за неделю не добраться. Туда дорогу знать надо.
— Тогда давай останемся и будем ждать.
— Чего ждать? — спросил он с явным раздражением. — Вода прибывает каждую минуту.
— А что, если кто-нибудь поедет мимо? — не сдавался я.
Антон не ответил. Он сидел на разостланном дождевике, обхватив колени руками, и смотрел на догорающий костер. Положение наше было безвыходным. Не думал я, что охота может закончиться таким образом. Еще три дня назад она казалась мне увлекательной прогулкой. А теперь весь трагизм северной жизни ясно предстал перед глазами. Все охотники здесь постоянно рискуют. В нашем положении может оказаться любой. Если уж Антон потерял свою лодку, то что говорить о таких, как Шегайкин. Хотя в жизни часто бывает наоборот. Случайным людям иногда везет больше, чем опытным.
Я бросил взгляд на резиновую лодку и мне до щемящей боли стало жалко самого себя. Пуститься на ней в плаванье по такой воде было безумием. И как только могла прийти в голову подобная мысль? Так неужели этот остров станет последним прибежищем в нашей жизни?
От тяжелых мыслей ли, от холода ли меня начал бить озноб. Это заметил Безрядьев.
— Иди в палатку, — сказал он, окинув меня взглядом. — Погрейся под одеялом. Не хватало только захворать.
В его голосе уже не было растерянности и отчаяния, которые звучали недавно. Наверное, он обдумывал какую-то мысль. Может быть, и спасительную.
— Иди-иди, — повторил Антон, видя, что я не двигаюсь с места. — Хворому здесь конец.
Мне показалось, что ему мешает мое присутствие. Я поднялся и направился к палатке. Меня по-прежнему трясло.
У палатки я еще раз обвел взглядом наш островок. До завтрашнего дня мы здесь, конечно, выдержим. А там может случиться всякое. Может, поедет кто-нибудь мимо или начнет спадать вода. В любом случае шанс выжить остается. Наверно, на это и надеется Антон. Он сидел, согнувшись, и задумчиво шевелил палкой угасающие угли костра. Они дымили, разбрасывая розовые искры, которые, остывая, тут же превращались в белые хлопья пепла.
Я нырнул в палатку, снял тяжелые и холодные резиновые сапоги и залез под одеяло. Меня так трясло, что впервые в жизни я услышал, как стучат у человека зубы. Я прижал рукой подбородок, но это не помогло. Зубы продолжали стучать. И я подумал, что это не озноб, а скорее всего реакция на нервное перенапряжение.
Вскоре я согрелся и стал успокаиваться. Дрожь начала проходить. Я услышал, как Безрядьев, чмокая губами, прикурил от огонька и тяжело вздохнул. За три дня охоты он осунулся и почернел, щеки его покрылись колючей, немного рыжеватой щетиной. Наверное, так же оброс и я. Мы оба находимся в одинаковом положении. Надо попытаться найти выход из него. Набраться сил и предпринять какой-то отчаянный шаг. Только он может спасти. Но ничего конкретного не приходило мне в голову. Вспоминалась лишь история отца Безрядьева. Вот в такую же воду он плыл домой на долбленке. А ведь долбленка по сравнению с нашей лодкой — настоящий корабль. С этими мыслями, все более расслабляясь от тепла, я незаметно для самого себя задремал.
Проснулся от журчания воды. Мне показалось, что она начинает заливать палатку. Я резко вскочил и в страхе высунулся наружу. Рядом с палаткой бежал ручеек. Он брал начало от кучи серого ноздреватого снега, лежавшего между осинами. Сразу за ними начиналась вода. Метрах в двадцати от берега на ней сидела хохлатая чернядь. Увидев меня, она сорвалась с места и исчезла за деревьями.
Я надел сапоги и вылез из палатки. Снаружи было тепло и тихо. На соседнем дереве пела пичуга, невесть каким образом залетевшая сюда. Она сидела на мокрой ветке, снизу которой висели тяжелые прозрачные капли. Это все, что осталось от снега, летевшего два часа назад. Льдины, раздавившей лодку, не было. Прибывшая вода понесла ее дальше вниз по течению.
Я посмотрел на разлив, пытаясь обнаружить ее, но из воды торчали только верхушки кустов тальника.
И вдруг я снова ощутил страх. Он, словно холодок, толкнулся в сердце, заставив замереть. Я растерянно обводил взглядом наш островок, не находя Безрядьева. И от этого сердце леденело и останавливалось совсем. Я переводил беспомощный взгляд с одного дерева на другое, с палатки на рюкзак, около которого лежала убитая нами дичь, но ни между деревьями, ни у палатки Антона не было. Как не было и резиновой лодки. Страшная догадка обожгла меня. Я бросился к дереву, около которого стояли наши ружья. Там было только одно ружье — мое. Двустволка Безрядьева исчезла.
У меня стало першить в горле. Я понял, что Антон уехал, оставив меня на этом островке. Первая мысль была о том, что он решил спасти шкуру, пожертвовав товарищем. Но я тут же отбросил ее. Он слишком хорошо понимал, что значит оставить человека одного в такой ситуации. Спастись можно было лишь в том случае, если бы одному из нас удалось добраться до берега Оби, встретить там охотников и вместе с ними приехать за другим. Антон боялся, что я буду его отговаривать, и потому уехал тайком. Вода прибывала, и положение осложнялось с каждым часом. Если бы я не уснул, я бы не дал ему сделать это.
Я втянул голову в плечи и пошел к другому концу острова — туда, где охотился утром. Мне не хотелось видеть наш бивуак — разбросанные вещи и палатку, к которой уже почти вплотную подошла вода. Идти пришлось между деревьями по мокрому, раскисшему снегу. Он был насквозь пропитан влагой и ноги вязли в нем, словно в глине. Пройдя шагов двадцать, я понял, что дальше идти бесполезно и вернулся к палатке. Надо было поставить ее повыше, иначе к утру она окажется в воде. На это ушел почти час. Затем я перетаскал на новое место вещи. На глаза попались утки Антона, их было шестнадцать. Но какую цену нам пришлось заплатить за эту охоту.
Постояв у палатки, я уронил взгляд на палку, конец которой уходил в воду, и заметил на ней маленького жучка, на всех парах устремившегося наверх. Мне показалось, что он испугался прибывающей воды. Наверное, почувствовал, что она наступает слишком стремительно. Мне стало не по себе.
Я сломил длинный прут, очистил его от коры и, пользуясь спичечным коробком, сделал на нем зарубки через каждые пять сантиметров. Воткнул прут в воду и стал ждать, когда в ней исчезнет первая зарубка. Но, просидев часа полтора, я не заметил, чтобы вода поднялась хотя бы на сантиметр. Я успокоился и пошел посмотреть на то, что осталось от нашей лодки. Мне показалось, что ей еще можно было воспользоваться. Но на том месте, где она лежала утром, плескалась вода. Лодку унесло. Меня удивило, что не осталось даже обломков. Из воды торчал лишь покореженный мотор. Я поднял его и перенес к палатке.
И тут из дальнего далека донесся шум двигателя. У меня екнуло сердце. Уж, не Безрядьев ли, добравшись до обского берега и встретив там охотников, едет за мной? Я стал напряженно смотреть в сторону разлива, но лодки так и не увидел. Тогда я схватил ружье и начал стрелять, прислушиваясь после каждого выстрела к шуму мотора. Но его звук становился все тише и тише, пока не исчез совсем. Мной овладело отчаяние. Я едва сдерживал себя, чтобы не разрыдаться от чувства собственного бессилия.
К ночи поднялся ветер, разогнав на открытой воде большую волну. Она с шумом разбивалась о мой островок, осыпая деревья тяжелыми леденящими брызгами. Я смотрел на взбесившуюся воду и думал об Антоне. Если он не добрался до какого-нибудь островка, с таким валом ему не справиться. А вся надежда теперь была только на него.
В эту ночь я почти не сомкнул глаз. Прежде, чем залезть в палатку, заготовил огромный ворох дров, чтобы мгновенно разжечь костер, если услышу шум лодочного мотора. Я постоянно вставал, высовывал голову из палатки и прислушивался, стараясь уловить посторонние звуки. Но до самого утра кроме свиста ветра ничего не услышал.
Утром я прежде всего проверил свою водомерную линейку. Вода поднялась на десять с лишним сантиметров. Это было видно и невооруженным глазом. Белая пена, всегда появляющаяся во время подъема воды, шевелилась, словно живая, у самой палатки. Дальше отступать было некуда.
Прежде чем разжечь костер и вскипятить чай, я залез на дерево, чтобы осмотреть окрестности. Мне казалось, что недалеко от острова может показаться какая-нибудь лодка. Но во все стороны виднелось лишь безбрежное, пустынное море. С тяжелым чувством я спустился на землю. Меня охватило отчаяние, но я внушал себе, что нас уже начали искать. Я не отделял себя от Безрядьева.
За день вода прибыла еще на восемь сантиметров. От острова осталась полоса шириной всего в несколько шагов. Вернее, не полоса, а цепочка маленьких островков. Мой остров был немного выше остальных, но завтра должно затопить и его. Я вспомнил какой-то фильм о пиратах, которые казнили своего бывшего товарища за предательство. Связав руки, они закопали его на морском берегу по самую шею. Вскоре начался прилив. Вода подобралась сначала к подбородку, потом коснулась губ жертвы, поднялась до ноздрей. Пират тряс головой, отплевывался, задирал лицо, но ему не удалось заставить море остановиться. Он смог только продлить свои мучения. Мне казалось, что я похож на этого пирата.
Вечером я распечатал последнюю пачку сигарет. Скоро будет последний хлеб, последний сахар. А потом, может, последний день жизни. Я все время думал о Безрядьеве. Неужели он еще не добрался до обского берега? Или, может, добрался и сидит там в ожидании охотников? А что, если с ним случилось самое худшее? При одной мысли о гибели Антона моя душа леденела от страха. Ведь тогда и мои шансы на спасение становятся практически равными нулю…
За ночь, как и должно было случиться, вода снова прибыла, и теперь у меня под ногами оставался крошечный пятачок твердой суши. Островок длиной метров десять и шириной не более трех. Я чувствовал себя обреченным, как пират, на которого надвигался прилив. Надежда рушилась с каждой секундой, и оптимизм уступил место отчаянию.
В голову лезли разные мысли, но все они в конце концов возвращались к Безрядьеву. Мое спасение зависело только от него. Доберется он до Оби, значит, вызволит отсюда и меня. На Оби он обязательно встретит какую-нибудь лодку. Не может быть, чтобы не встретил. А если не доберется, мне придется разделить участь его отца и его самого.
Трудную жизнь прожил Антон и тяготы ее у него не кончатся до самой смерти. Говорят, что судьба каждого написана на роду. При этом подразумевают Бога. Судьбу Антона написали люди без совести и сердца. Они не спрашивали, как он хочет жить и кем думает стать. Для них он не был человеком. Его отправили туда, где люди не выживают.
Когда утонул отец, Антону было двенадцать лет. С этого времени он и стал охотиться, чтобы прокормить семью. Благо, берданка отца осталась дома. Несколько дней назад он рассказал мне, как убил своего первого медведя.
Было это ранней весной. Антон поставил сети на озере, расположенном у самого края тайги. Рассчитывал наловить щук, которые поднимались сюда на нерест по небольшому истоку. Утром поехал проверять снасти на долбленке. В них попалось несколько крупных рыбин. Самая большая щука настолько запуталась в сети, что с ней пришлось возиться почти целый час. И вдруг Антон краем глаза заметил, что кто-то идет по берегу. Он повернул голову и увидел огромного медведя, который то тыкался носом в землю, то останавливался и, задрав морду кверху, жадно ловил ноздрями густой утренний воздух. Медведь шел по следу. Может быть, незадолго перед этим здесь пробежал лось, оставив после себя запахи, дурманящие голову голодному зверю. Антон подумал, что медведь повернется и уйдет в тайгу. Но зверь неожиданно бросился в воду и поплыл к лодке. От страха щука вывалилась у Антона из рук.
Он вспомнил о берданке, лежавшей на дне долбленки, когда медведь был уже в нескольких метрах от него. Не отрывая взгляда от зверя, дрожащей рукой Антон стал шарить по дну лодки. Нащупал берданку, быстро передернул затвор и почти в упор выстрелил зверю в голову. Медведь завертелся на месте, страшно крича и окрашивая воду кровью. От его рева у Антона встали дыбом волосы. Он бросил берданку и что было мочи начал грести к берегу. Километрах в двух от озера мужики готовили лес к сплаву. Выскочив на берег, Антон, не оглядываясь, побежал к ним. Ему казалось, что медведь гонится по пятам и вот-вот настигнет и схватит.
Антон прибежал к мужикам, дико вращая испуганными глазами, и, захлебываясь словами, начал рассказывать о встрече со зверем. При этом все время показывал рукой в сторону озера. Он был убежден, что медведь прячется за деревьями. Лесорубы зарядили ружья и отправились добивать зверя. Однако делать этого не пришлось. Медведь добрался до берега, но вылезти из воды не смог. Рана оказалась смертельной.
— Штаны-то теперь не отмоешь, — смеялись мужики, похлопывая Антона по худенькой спине.
Они радовались неожиданно привалившей удаче. В медведе было не меньше двух центнеров мяса. С тех пор Антон и стал профессиональным охотником. Ему приходилось неделями бродить по тайге, терпеть нужду и лишения. И все-таки он не ожесточился. Был суровым и замкнутым, это верно. Но о людях судил справедливо, и душа его осталась чуткой к другим…
Я так ушел в свои мысли, что когда далеко-далеко раздалось тарахтение лодочного мотора, сначала не обратил на него внимания. Плескавшаяся у самых ног вода смазывала трудно различимые звуки. Еле слышное тарахтение сливалось со свистом ветра и плеском волн. Я напряг слух после того, как оно смолкло. Только тут до меня дошло, что по разливу кто-то едет.
Я тут же влез на дерево и увидел лодку, остановившуюся у дальнего островка. Напрягая легкие и срывая голос, я начал кричать. Но охотник меня не слышал, он находился с подветренной стороны. Поняв это, я слетел на землю и стал стрелять в воздух, трясущимися пальцами доставая из патронташа патроны и вставляя их в стволы. Я выстрелил не меньше двадцати раз подряд. Если в лодке охотник, он поймет, что по дичи так не стреляют.
И тут я услышал, что мотор застучал снова, и его звук стал приближаться ко мне. От волнения меня начал бить озноб. Чтобы успокоиться, я стал бегать взад-вперед по острову: десять шагов в одну сторону — десять в другую. Я уже видел лодку, видел, как она направляется ко мне. Наконец, она ткнулась носом около моей палатки. Я сразу узнал ее хозяина. Это был пожарник Витек Бровин.
— Чо это ты так палишь? — спросил он, заглушив мотор и перебрасывая ногу через борт. Но, увидев, как меня трясет, тут же испуганно добавил: — Чо это с тобой? Лихорадка, что ли?
Я рассказал Витьку все от начала до конца. И про охоту, и про то, как льдина раздавила лодку, как уехал Безрядьев, пытаясь добраться до Оби. Он молча выслушал и, подойдя к костру, начал подбрасывать в него последние оставшиеся у меня дрова.
— Чаю у тебя нету? — спросил вдруг он.
Я зачерпнул котелком воды и повесил его над костром. Потом начал рыться в рюкзаке, ища заварку. Витек молча смотрел на меня. Он сразу все понял. Понял и то, что ему придется менять свои планы и везти меня домой. Ни о какой охоте не может быть и речи.
— Ну и забрались же вы, твою мать! — глядя на искореженный мотор, качнул головой Витек. — И какой черт вас сюда погнал? Ах, Антон, Антон…
Последние слова он произнес таким тоном, что у меня заныло под ложечкой. Я посмотрел ему в глаза, но он отвернулся. Достал из кармана смятую пачку папирос, закурил и, глядя на дичь, лежавшую у самой палатки, заметил:
— Уток-то сколь настреляли…
— В последнее утро Антон убил шестнадцать, — сказал я.
— Ах, Антон, Антон, — горестно повторил Витек.
— Как думаешь, добрался он до берега? — спросил я. Меня начали одолевать нехорошие предчувствия.
— Не знаю, — ответил Витек. — Волна была — врагу не пожелаешь.
Я обратил внимание, что из носового отсека большой деревянной лодки Витька все время доносилось странное поскребывание. Я насторожил ухо, склонив голову в сторону лодки.
— Лису поймал, — сказал Витек, заметив мое любопытство. — Куковала на острове, как и ты. Я в такую дурную воду всегда несколько знакомых островков обшариваю. Бывает, штуки по четыре привожу.
— А что с ними делаешь? — спросил я. — Ведь они сейчас все облезлые. Шкуры на портянки не годятся.
— Держу до зимы. А там на воротники. Иногда попадаются на сносях. Последний раз одна мне пять лисят принесла.
— Ты и на этот остров приезжаешь? — спросил я, очерчивая рукой пятачок суши, на котором мы находились.
— На этот нет. — Он обвел островок взглядом и повернул лицо ко мне. — Здесь я случайно. Думал сократить дорогу, а напоролся на тебя. Складывай шмутки, придется ехать домой.
Возвращаться Витек решил не по руслу протоки, которое теперь было обозначено лишь верхушками торчащих из воды кустов, а напрямик по разливу. Именно так, по его мнению, должен был плыть к Оби Безрядьев.
Но сколько мы ни обшаривали водное пространство, ничего, кроме редких кустов, обнаружить не удалось. И чем дольше мы искали Безрядьева, тем больше во мне крепла вера, что он перебрался через дикую воду. В лодке Витька я чувствовал себя в полной безопасности. Мне казалось, что и Антон на своей резинке должен был преодолеть эту стихию. У меня даже появилась обида на него. Почему же он в таком случае не приехал за мной? Ведь он знал, что на острове я обречен на верную гибель.
— Поехали домой, — сказал я Витьку после того, как мы обогнули очередной торчащий из воды куст. — Антон, наверное, сидит сейчас в тепле и хлебает горячие щи.
Однако Витек послушался меня не сразу. Он объехал еще несколько маленьких островков и рощицу затопленного тальника и только после этого повернул к Оби. Очевидно, у него были какие-то соображения, но ими он со мной не поделился.
Приехав в поселок, мы сразу направились к дому Безрядьева. Жена Антона Таисья чистила на кухне картошку. Увидев меня вместе с Витьком, она настороженно подняла глаза.
— Где Антон? — спросил я без всяких предисловий. Я был уверен, что он дома.
Таисья сразу побледнела, ножик выпал из ее рук в чашку с картошкой.
— Да ты успокойся, — произнес Витек, положив руку ей на плечо и посмотрев прямо в глаза. — Ты что, не знаешь Антона? Ничего с ним не стало.
Она дернула плечом, сбрасывая руку Витька, и резко встала. Повернулась ко мне и обожгла меня острым, пытающим взглядом. Я развел руки, не зная, что ответить.
— Ты успокойся, — повторил Витек, отодвигая меня плечом, чтобы оказаться лицом к лицу с Таисьей. Очевидно, он думал, что она поверит ему больше, чем мне. — Антон вывернется из любой ситуации.
— Так почему же его нет с вами? — почти крича, спросила Таисья. — Куда он делся?
— Надо ехать за реку, — сказал я Витьку, отступая к порогу.
— Что с Антоном? — спросила Таисья, перескакивая взглядом с меня на Витька.
— Вашу лодку раздавило, — как можно спокойнее произнес Витек. — Антон поехал через разлив на резинке. Может, сидит где-нибудь на острове и считает селезней, которые пролетают мимо. Не кричи, еще ничего не случилось. Соберем сейчас мужиков и найдем твоего Безрядьева.
Витек толкнул меня локтем к двери и мы вышли. Таисья кинулась за нами.
— Я с вами поеду, — решительно заявила она.
— Чего тебе делать на реке в такую погоду? — спросил Витек. — Тебе жить надоело? Иди домой и жди нас.
Таисья остановилась, а мы спорым шагом направились к реке.
— Худо дело, паря, — сказал Витек, когда мы завернули за угол.
— Ты уверен? — спросил я.
Он молча бросил на меня быстрый взгляд и тут же отвел глаза в сторону. Только теперь до меня стало доходить, что с Антоном могла случиться беда.
Найти мужиков, которые бы поехали с нами искать Антона, оказалось нетрудно. Безрядьева все знали, а среди охотников он пользовался особым уважением. Вскоре к нам присоединились два соседа Витька и мы на трех лодках отправились через Обь.
Миновав озеро, на котором встречал открытие охоты Витек, мы разошлись по разным направлениям, договорившись встретиться на небольшом островке. Такие островки еще встречались на разливе и мы надеялись, что Антон может ждать помощи на одном из них. Несколько часов бороздили мы с Витьком дикую воду, израсходовав почти два бачка бензина. Я сидел на носу лодки и до боли в глазах всматривался в каждый кустик, в каждый островок. Но все было напрасно. Никаких следов Антона обнаружить не удалось. Наконец, Витек сбавил обороты мотора и, нагнувшись ко мне, крикнул:
— Что будем делать? — Он показал рукой на море воды, простиравшееся до горизонта.
Я пожал плечами. Все мое существо восставало против мысли о том, что Антона уже нет в живых. Но куда ехать, где его искать, я не знал. Витек повернул лодку к острову, на котором условились встретиться с другими мужиками. Его тоже не было видно на горизонте.
Когда мы добрались туда, мужики уже поджидали нас. Они развели костер и кипятили чай. Увидев нашу лодку, они встали у самой кромки воды в напряженном ожидании. Мы тоже с напряжением всматривались в группу людей, ожидающих нас. Нам всем казалось, что найти Антона посчастливится кому-то другому. Но стоило нашей лодке ткнуться носом в берег, напряжение сменилось тягостным разочарованием.
— Нигде? — в один голос спросили мужики.
— Нигде и ничего, — ответил Витек, опустив голову.
Настроение у всех было подавленным. Говорить не хотелось, каждого одолевала одна и та же мысль. Никто не верил, что Антон может утонуть. Его смерть была не только не логичной, просто нелепой. Стоило ли проходить через столько испытаний, выносить нечеловеческие тяготы и уйти из жизни тогда, когда все самое трудное осталось позади. Нет, я ни за что не поверю, что Безрядьева нет в живых. Он наверняка добрался до какого-нибудь острова и ждет помощи. Надо спешить, прока еще не поздно.
— Допивайте этот чай и поехали, — сказал я мужикам. Они сразу же повернулись ко мне.
— Куда ехать? — спросил Витек. — Мы объехали все, что могли.
В это время со стороны разлива раздался стук лодочного мотора. Мы насторожились. Лодка была очень далеко, но шла в нашу сторону. Она показалась на горизонте черной точкой и если бы не шум мотора, мы бы не разглядели ее. Мы напряглись, всматриваясь в горизонт. Прошла целая вечность, прежде чем лодка приблизилась. В ней сидели два человека. Они хотели пройти мимо, но мужики во главе с Витьком закричали, отчаянно махая руками, и лодка повернула к нам. Когда она приблизилась, мы увидели, что в ней сидят не двое, а один. За второго человека мы приняли резиновую лодку, край которой торчал из-за борта. У меня больно сжалось сердце.
За рулем мотора сидел Кузьма Шегайкин. Он уезжал на охоту в тот же день, что и мы с Антоном. Я хорошо помнил, что никакой резиновой лодки у него не было. Это знал и Витек с друзьями. Витек уже открыл рот, чтобы задать вопрос, но Шегайкин опередил его.
— Во, бля, трофей выловил, дак трофей, — сказал он, перешагнув через борт, и показал рукой на резиновую лодку.
Одного взгляда на нее мне было достаточно, чтобы узнать посудину, на которой уплыл Антон. Я сам привязывал к ней крышку ниппеля шнурком от ботинка. Этот шнурок и сейчас блестел металлическим наконечником.
— Где ты ее выловил? — спросил Витек, сдвинув брови.
— На большой воде, где же еще? — ответил Шегайкин и насторожился. — Вижу, чернеет что-то у куста. Сначала подумал, покойник. Даже страшно стало. А когда подъехал, вижу, бля, лодка.
— Ты хорошо осмотрел этот куст?
— А чего его смотреть? Одна макушка торчит. Она вот этим зацепилась, — Кузьма показал на шнурок. — Принесло, видать, откуда-то. А чего ты спрашиваешь?
— Антон Безрядьев на ней уехал, — все так же не поднимая головы, ответил Витек.
— Куда уехал? — не понял Шегайкин.
Мы рассказали Кузьме о том, что случилось на охоте со мной и Антоном. Он сразу сник и сгорбился, втянув голову в узкие плечи. Уже почти сошедший с его лица синяк проступил под глазом черной узкой полоской.
— Когда я уезжал на охоту, Антон сказал мне: живешь ты, Шегайкин, бестолково и так же бестолково помрешь. А надо же, как все наоборот получилось, — горестно заметил Кузьма, словно пожалел, что в этой лодке оказался Безрядьев, а не он сам.
— Да не хорони ты его, — сказал Витек. — Поехали туда, где нашел лодку.
Над дикой водой уже давно разлилась белая ночь. Острова и кусты выступали из нее словно сумеречные приведения. Мы кидались к каждому из них, надеясь увидеть Антона. Но уже вскоре поняли, что этому не суждено сбыться. Даже если бы Безрядьев выплыл и ухватился руками за куст, продержаться столько времени в ледяной воде он не мог. Устав от бесполезных поисков, Витек дал команду возвращаться домой.
— Завтра прочешем это место кошками, — сказал он и, покачав головой, в который раз повторил. — Ах, Антон, Антон…
Витек прибавил обороты мотора и лодка, застучав днищем по гребешкам волн, направилась к Оби. Я все еще смотрел по сторонам, на что-то надеясь, хотя надеяться было не на что. Я был совершенно подавлен. Меня угнетало чувство вины перед Антоном, и я знал, что теперь не избавлюсь от него всю жизнь.
Как же я посмотрю в глаза Таисье, Вовке? Что скажу Кате? Ведь я все время был рядом с Антоном. Почему в этой лодке поплыл он, а не я? Ведь мне первому пришла в голову мысль отправиться на ней в путь. Я все еще жадно всматривался в пространство до самого горизонта. Но кругом была только вода да редкие кусты, торчащие из нее.
Мне вдруг опять вспомнилась Новоселовка, по которой Антон тосковал всю жизнь. И сразу пришла неожиданная мысль. Не льдина и не дикая вода стали причиной его гибели. В этом было виновато время, выпавшее на его детство. Это оно породило сухоруковых, оно позволяло вершить произвол в отношении невинных. Оно отсрочило жестокий и несправедливый приговор, а теперь привело его в исполнение.
Но тут же подумалось о другом. Будь на месте Сухорукова иной человек, Безрядьевы так и остались бы землепашцами. Ведь и в то время были люди, сохранившие чистыми совесть и достоинство. Времена смуты выплескивают на поверхность пену. Когда отменяется совесть, карьеру на костях других делают подлецы.
Что я могу сделать для Безрядьева теперь, чтобы исправить несправедливость хотя бы задним числом? Рассказать людям о том, кто такой Сухоруков? Но они знают это и без меня. Знают и молчат потому, что не верят в справедливость. Простой человек как раньше, так и сейчас никому не нужен.
Я до сих пор не помню, как мы с Витьком приехали в поселок, что говорил я жене Антона. Помню только ее расширившиеся зрачки и сразу ставшее белым, словно известь, лицо.
Я отдал ей всех уток, которых мы настреляли вместе с Антоном, отдал обоих гусей. Отдал все, что могло напоминать мне об охоте. Никогда в жизни я больше не возьму в руки ружье.
Потом мне пришлось повторять свой рассказ в милиции. Вместе со следователем, Витьком и Шегайкиным мы снова на трех моторках ездили на то место, где Кузьма нашел резиновую лодку Безрядьева. Мы прочесали кошками все окрестности, но найти утонувшего человека в такое половодье можно было лишь при особом стечении обстоятельств. Нам это не удалось. Потратив на поиски целый день, мы вернулись назад.
Когда я рассказал обо всем Кате, она стала убеждать меня, чтобы я взял отпуск и хотя бы на месяц уехал из поселка.
— Тебе надо прийти в себя, — сказала она. — У тебя до сих пор трясутся руки. А, может, тебе совсем уехать отсюда?
Катя посмотрела мне в глаза. Она понимала, что чувство вины перед Антоном теперь будет преследовать всю жизнь и боялась, что здесь, в поселке, мне этого не вынести. Но я был убежден, что искупления не надо бояться. Очищение от вины проходит только через него. Она ждала ответа, не опуская глаз.
— Нет, — твердо сказал я. — Я выполню желание Антона: помогу Вовке хорошо закончить школу и поступить в сельхозинститут. Я сделаю это во что бы то ни стало. А еще, — я посмотрел на Катю, — а еще мне надо поговорить с тобой. Но это — потом.
Она опустила глаза и не стала продолжать разговор. Я проводил Катю до калитки и на прощание дотронулся пальцами до ее ладони. Она позволила мне это сделать.
На следующий день я договорился об отпуске и поехал в Новоселовку. У меня возникло нестерпимое желание побывать там. Тем более, что я получил письмо о болезни бабушки. Она уже неделю не поднималась с постели.
Первым, кого я встретил на деревенской улице, был Сухоруков. Он сильно изменился с тех пор, как я его видел последний раз. Это был сморщенный, совершенно высохший старик с трясущейся головой и такими же трясущимися руками. На них, как и на лысине, появились коричневые пятна, которых я раньше не замечал. Сухоруков разговаривал у калитки с почтальонкой Авдотьей, принесшей ему пенсию. Авдотья была такая же старая, как и он. Никто не знал, откуда она появилась в деревне сразу после войны, но жалостливые люди, узнав, что у нее погибла вся семья, сразу приютили ее у себя. Сначала она жила по квартирам, потом колхоз выделил ей маленькую избенку. С тех пор вот уже более тридцати лет она работает почтальонкой. Давно могла бы уйти на пенсию, но не хочет. Хозяйства у нее нет, а сидеть дома, как она сама говорит, тошнее тошного.
Проходя мимо, я услышал, как Сухоруков, обращаясь к Авдотье, произнес:
— Была бы жива старуха, чаю с тобой попила бы.
— А ты его уже и не пьешь? — насмешливо спросила Авдотья. Сухоруков, кроме всего прочего, слыл в деревне скупым человеком.
— Я теперь, Авдотья, встречи с Господом Богом жду, — сказал Сухоруков, стараясь придать своим словам как можно больше значительности.
— Ты жа в него всю жисть не верил, — удивилась Авдотья.
— А теперь он по ночам ко мне приходить стал.
— Может, покаяться надо? — осторожно спросила Авдотья. — Грех, коли он есть, на душе камнем до смерти лежит.
— Мне за свою жизнь каяться нечего.
Я стоял рядом, слушая странный разговор, но старики не замечали меня. Тогда я подошел к ним вплотную и поздоровался. Сухоруков, подозрительно посмотрев на меня, замолчал, а Авдотья, узнав, ласково ответила:
— Здравствуй, здравствуй, Натальин внучек. Откуда приехал?
— Издалека, — ответил я. — С самого Севера.
— Эко куда тебя занесло, — удивилась Авдотья.
— Привет вам, Александр Кузьмич, — произнес я, в упор глядя на Сухорукова.
— Это от кого же? — насторожился, вытянувшись в струнку, старик.
— От Безрядьевых.
Я ожидал чего угодно. Растерянности, гнева, недоумения, вопроса о том, откуда я знаю Безрядьевых и почему они передают привет? Что с ними стало за эти годы? Да мало ли что может спросить председатель, сыгравший такую роль в судьбе односельчанина. Но Сухоруков, отвернувшись к калитке, произнес:
— Не знаю таких.
— Они же у нас в Новоселовке жили, — попытался напомнить я.
Он еще раз посмотрел на меня и твердо повторил:
— Не знаю таких.
Я растерянно замолчал, потому что готов был ко всему, кроме этого. Как же ты живешь с таким грузом, Сухоруков? Ведь столько лет прошло… Пора бы осознать содеянное. Наверно, и совесть не раз мучила?
Но Сухоруков не захотел со мной разговаривать. Зажав в руке пенсию, он захлопнул калитку и, сгорбившись, мелкими, шаркающими шажками заспешил к дому.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





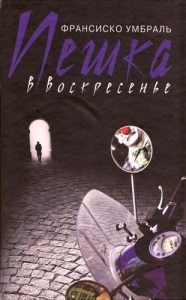



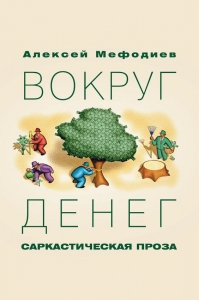


Комментарии к книге «Дикая вода», Станислав Васильевич Вторушин
Всего 0 комментариев