От переводчика
Он ничем не выделяется — ни ростом, ни манерой держаться. Единственное, что невольно привлекает внимание, — это его глаза, большие, необычайно выразительные. Взгляд их задумчив, чуточку грустен, но может быть и веселым, и даже слегка ироничным. Глуховатый голос, спокойная, неторопливая речь. Скромен, можно сказать, застенчив. Случайно встретив его в сутолоке индийской столицы, никто, пожалуй, не сможет предположить, что этот небольшого роста человек — один из крупнейших прозаиков современной Индии, лауреат премии Литературной академии Индии, лауреат Международной премии «Лотос», Генеральный секретарь Федерации прогрессивных писателей Индии. Ныне имя Бхишама Сахни (род. в 1915 г.) стоит в одном ряду с крупнейшими мастерами слова современной Индии. Его перу принадлежат семь сборников рассказов: «Линия судьбы» (1953), «Первый урок» (1956), «Блуждающий прах» (1965), «Рельсы» (1973), «Ван Чу» (1978), «Стрельба из рогатки» (1980), «Ритуальная церемония» (1981) и два сборника повестей: «Окна отчего дома» (1967), «Звенья цепи» (1970). В последние годы Б. Сахни обратился к более крупным жанрам: вышли в свет его роман «Тьма» (1973), удостоенный премии Литературной академии Индии, и в конце 1980 года роман «Девушка с делийской окраины» (в оригинале роман называется по имени героини — «Басанти»).
Можно сказать, что к этому роману Сахни шел многие годы: знакомясь с его творчеством, невольно отмечаешь, что ряд рассказов, публиковавшихся уже в ранних сборниках, представляют собой своеобразные эскизы, подготовительные наброски для этого повествования. «О каждом мавзолее в Дели написаны поэмы, — с грустью говорит автор, — каждый памятник имеет свою историю, но от жалких мазанок тех, кто создавал эти мавзолеи и памятники, не осталось и следа. В отстроенных кварталах Нью-Дели ничто уже не напоминает ни об этих убогих лачугах, ни о тех драмах, которые разыгрывались под их кровлями». Остается неповторимая красота мавзолеев, остаются имена тех, по чьему повелению они построены, не остается лишь памяти о тех, кто в палящий зной и в зимнюю стужу своими руками возводил эти чудеса архитектуры и зодчества. И своим новым романом Б. Сахни как бы исправляет эту историческую несправедливость, делая героями повествования простых, ничем не примечательных людей, которые, бросив в деревне клочок земли и переселившись в город, возводят новые микрорайоны и прокладывают современные магистрали. Именно они, бежавшие от полунищенского деревенского существования с его малоземельем, ежегодными наводнениями или засухами и ныне ютящиеся на задворках новых кварталов столицы, являются главными героями последнего романа Сахни, хотя слово «герой» применимо к ним только, может быть, в чисто литературоведческом смысле. Нет в них того, что обычно ассоциируется со словом «герой», кроме одного — героизма повседневного, на грани человеческих возможностей изнурительного труда, способности противостоять всем невзгодам и бедствиям, на которые их обрекает лишенная стабильности и уверенности в завтрашнем дне жизнь современного индийского города.
В центре повествования девушка, почти подросток, неугомонная, задорная, полная энергии и оптимизма. Таких, как Басанти, в Дели тысячи, без них невозможно представить жизнь индийской столицы: они трудятся на фабриках и стройках, подметают улицы и наводят чистоту в домах, стирают белье, готовят пищу и, делая еще массу всяких больших и малых дел, успевают рожать и воспитывать детей.
Образ Басанти является несомненной удачей автора, сумевшего зорким взглядом художника подметить и воплотить в произведении то новое, что появляется в жизни. По рождению своему и воспитанию Басанти принадлежит к традиционному индийскому обществу, живущему в соответствии со сложившимся в течение веков укладом и законами каст, то есть в соответствии с тем, что регламентирует жизнь этого общества, придавая ей определенную стабильность. Но традиция под влиянием городской цивилизации неизбежно трансформируется, хотя и продолжает существовать. И еще тягостнее становится для людей ее сила и власть, и сильнее крепнет желание, особенно у молодежи, освободиться от нее. Являясь продолжением «женской линии» в индийском романе, образ Басанти вместе с тем значительно отличается от своих литературных предшественниц; сама, может быть, того не сознавая, она восстает против этой веками складывавшейся традиции, когда родители своей волей устраивают судьбу дочери, подчас сводя это «устройство» к тривиальному акту купли-продажи, столь привычному в обществе, где мерилом человеческого достоинства служит денежная единица, как бы она ни называлась — рупия, доллар или фунт стерлингов. Басанти уже не может смириться с тем, чтобы ею помыкали, не хочет, чтобы ее продавали, она полна решимости сама строить свою жизнь. Образ Басанти олицетворяет бунт против традиции, рождение того нового, что неизбежно ведет к полному — не только юридическому, но и фактическому — равноправию женщины. И пусть семья у Басанти не сложилась — не вина, а беда ее в том, что спутником, жизни по неопытности она избирает мелочного и в сущности подлого человека, но она уже прошла горнило жизни, на своем горьком опыте поняла, что счастье — достижимо.
Роман заканчивается на минорной ноте: человек, которого Басанти любит, покидает ее, жилье разрушено, никаких средств к существованию не осталось. Басанти с ребенком на руках идет навстречу своему будущему. Каким это будущее будет? Ответ на этот вопрос может быть только однозначным: Басанти обретет свое счастье, свое прочное место в жизни, ибо, сумев выстоять под ударами жизни, она доказала, что достойна счастья и ключи от него держит в своих руках.
Создав образ Басанти, писатель убедительно показал, что будущее страны за такими, как она, строителями новой Индии.
В. ЧернышевГлава 1
Чаудхри вышел из мазанки, когда над землей висела голубовато-белесая дымка — легкий туман, какой обычно бывает здесь ранним утром. Тянул холодный предутренний ветерок. Чаудхри взглянул на небо: оно было затянуто черными тучами, которые за ночь, казалось, опустились еще ниже. И непонятно было, то ли продолжается хмурое утро, то ли уже наступил пасмурный день. «Быть дождю», — недовольно пробормотал Чаудхри. Поселок уже проснулся и словно нехотя приступал к повседневным делам. С большим пузатым кувшином на голове из соседней мазанки появилась Джамуна — жена Бисесара — и направилась вверх по откосу к колонке. В лавке Гобинди, что располагалась рядом с колонкой на самом краю поселка, шла бойкая торговля; языки пламени в топившейся печке были видны издалека. Из мазанок, жавшихся друг к дружке по обе стороны узкого, покрытого выбоинами переулка, были слышны голоса и звон посуды. Кое-где дымили сложенные во дворе печи. Вниз по переулку спускалась хрупкая девичья фигурка, плотно закутанная в старенькое покрывало, — в одном из уютных коттеджей поблизости ее уже ждала груда грязной посуды. На шоссе, которое проходило поодаль, движение тоже становилось оживленнее, и оттуда все чаще доносились приглушенные туманом резкие сигналы грузовиков.
Перед дождем Чаудхри всегда что-то недовольно бормотал себе под нос. Над землей стелется туман, по небу клубятся тучи — того и гляди начнется дождь, так что идти на обычное место сегодня не было никакого проку — кому в такую погоду взбредет в голову заниматься своей внешностью: побриться или привести в порядок шевелюру. Считай, целый день пропал зря. Видя, что торопиться некуда, Чаудхри вынул из кармана бири[1] и, закуривая на ходу, неторопливо направил шаг к лавке Гобинди: там каждое утро за чашкой чаю собирались люди и можно было узнать последние новости, тем более что вчера целая делегация во главе с Хиралалом с утра отправилась в муниципалитет и до самого вечера не появлялась в поселке. Было очень важно узнать, добились ли они встречи с нужным человеком, и если добились, то выяснить, какой ответ получили.
В лавке действительно уже сидели люди, и еще издали Чаудхри услышал голос Хиралала.
— Мы к начальнику, — пискляво ораторствовал Хиралал. — Руки этак сложили, стоим. «Мы строители, сахиб, говорю я, мы дома строим, а самим нам жить негде. Мы возводим жилье, говорю, а самим даже голову приклонить некуда. Сделайте, говорю, милость, сахиб, не оставляйте нас без крыши над головой, ведь сезон дождей начинается».
— Ну и что ответил начальник? — донесся чей-то голос.
— Хороший попался начальник… — продолжал Хиралал. — Выслушал нас внимательно, ни разу не перебил. Начальники-то, они хорошие, это всякая мелкота чиновная — подлый народишко.
Хиралал умолк.
— Ну, какие вести принес, Хира? — спросил Чаудхри, входя и усаживаясь на возвышении. — Чем порадовали вас там?
На Чаудхри никто не обратил внимания, хотя в лавке собралось уже человек восемь. На почетном месте восседал Хиралал в высоком раджастханском тюрбане и новеньком черном пиджаке — в этом одеянии он и ходил вчера на прием в муниципалитет.
Несмотря на то что Чаудхри уже много лет жил в поселке, его считали чужаком, потому что он был из ахиров[2], а почти все остальные жители поселка вели род от воинской касты раджпутов. И занимались они разным делом: Чаудхри был парикмахер, а они — каменщики, маляры, плотники. Во всей округе насчитывалось лишь три семьи из касты ахиров, а мощная община раджпутов имела даже свой панчаят[3], да и вообще все они крепко держались друг за друга.
Обращенный к нему вопрос Хиралал пропустил мимо ушей, сделав вид, что не расслышал.
— Все шло хорошо, пока начальник не передал нас подчиненному, — выдержав паузу, продолжал Хиралал. — «Вот, говорит, человек, который вам все объяснит». Тут-то все и пошло кувырком. Как только вошел этот поджарый, мне будто на ухо кто шепнул: «Ну, Хира, держись, дело — дрянь». Передал нас начальник поджарому, будто козу мяснику. И хоть при начальстве поджарый говорил вежливо, мне сразу стало ясно: дело наше — труба.
— А почему?
— Как почему? Мне даже рта раскрыть не дал. Молчком провел в свой кабинет, а там сообщил решение: «Вам, говорит, придется подыскивать другое место для жилья, поселок сохранить нельзя». Не верите, спросите у Рампракаша! Он тоже хотел было вставить слово, да поджарый тут же оборвал: «Муниципалитет, говорит, уже принял решение, которое считал нужным принять, и обсуждать его я не вижу необходимости». Ну, что это за манера разговаривать с людьми! Что будет дальше, на то воля всевышнего, а с людьми говорить надо вежливо. Какой тебе прок от того, что ты грубишь людям? Тебе повезло, ты выбился в чиновники. У нас другая судьба, мы простые рабочие, но все равно говорить с нами надо вежливо. Мы пришли к тебе как просители, зачем же унижать нас?! Отцы наши и деды владели землей, да и теперь у каждого из нас остался на родине участок. Но разве ж мы виноваты, если что ни год, то засуха? Вот мы и пришли в Дели. Нужда привела. И говорить с нами надо вежливо!
В устах Хиралала слова о вежливости звучали как припев давно знакомой песни.
Для Чаудхри стало ясно: ничего не вышло. А еще вчера Хиралал и другие торжественно направлялись в муниципалитет. По такому случаю делегаты нарядились в новые просторные пиджаки, веки подвели сурьмой, на головах у них были белые тюрбаны, в руках у каждого — внушительных размеров посох. Чаудхри сам побрил их на прощанье, добавив со смехом: «Таким молодцам любое дело по плечу! И не вздумайте возвращаться с пустыми руками, как в прошлый раз». А в муниципалитете чиновник их даже слушать не стал, да вдобавок пригрозил, что, если они еще раз посмеют переступить порог его кабинета, он вызовет чапраси[4] и прикажет выгнать их.
— Напасть на хорошего начальника — это уже полдела, — продолжал Хиралал. — В прошлый раз, когда еще только зашла речь о сносе поселка, мы ведь тоже ходили на прием в муниципалитет. Так вот тот начальник, который принял нас тогда, два часа кряду слушал нас и, как вы знаете, решил дело в нашу пользу.
— Так вы бы опять к тому же начальнику, может, и по-другому бы все обернулось.
— Вот и я о том же говорю. Да уж если сразу не повезет — толку не будет… Мы пошли к тому, да его, говорят, уже нет, куда-то на другое место перевели. Да, если б удалось попасть на прием к прежнему, тот непременно б нашел какой-нибудь выход.
— Ну, а что было потом?
— А что еще могло быть? Смиренно пришли, без шума ушли. Руки лодочкой — и домой.
— Прежнего начальника нет, так вы бы к какому другому пошли. К министру б, наконец!
— А помните, я же с самого начала говорил: не надо строиться здесь, — угрюмо заметил Мульрадж. — И земля чужая, и договора на аренду нет.
— Да если б речь шла о неделе-другой, мы б и в шалашах прожили. А сейчас о чем говорить? Не один год уже тут живем. И если основательно обстроились, греха в этом нет.
Мульрадж, поджав ноги, сидел на стуле с железными ножками и спокойно потягивал бири. Вчера, несмотря на ползущие по небу тучи, он целый день был занят побелкой мазанки и даже не успел как следует отмыть известь: белая точка до сих пор виднелась над верхней губой.
— Так что же, значит, и на работу сегодня можно не выходить?
— Почему не выходить? Такие дела быстро не решаются. Пока нас отсюда попросят, пройдет месяц, а может, и два. Теперь все бумаги пойдут наверх, к высшему начальству.
— А ведь разговоры о сносе поселка поднимались уже много раз. Чем-то кончится на этот раз? Кто знает, что они там замышляют?
— Еще месяц назад была официальная бумага. А месяц этот уже прошел… — проговорил Чаудхри, оглядывая собеседников.
— Бумага! Бумага — она бумага и есть. Что ни день, то новая.
— Эх вы, мужчины! — сидя на корточках у кипящего чайника, проговорила хозяйка лавки. — Всего-то вы боитесь, перед всеми дрожите! В следующий раз пойдете в муниципалитет, меня с собой возьмите. Я такого наговорю им там — пусть только слушают.
— Ну и что ж, к примеру, ты им скажешь?
— А вот что: землю, на которой стоят наши мазанки, закрепляйте за нами. Устанавливайте цену — мы уплатим. Мазанки-то мы на свои деньги строили, зачем же ломать их? И ущерб нам нанесете, и без крыши над головой оставите… Из вас ведь и щипцами слова-то не вытянешь. А еще нарядились как на праздник. Только и знают, что выряжаться!
— Верно говоришь, Гобинди, — поддержал ее Мульрадж. — Все, что она сказала, Хира, нам самим надо было сказать.
— Если б нас слушали… Разве раньше об этом не говорили? Все эти годы только о том и твердим, я уж и так, и этак толковал им, да разве ж их убедишь? Я ведь не новичок: как-никак десяток домов тут построил.
— Сегодня идите опять да прихватите с собой Гобинди, — пошутил Чаудхри. — Как ты думаешь, Хира? Тебе и собираться не надо. Ты с утра уже в новом пиджаке, будто и вовсе не снимал.
Хиралал согласно кивнул.
— Попадется хороший начальник — дело выгорит.
Не дожидаясь окончания разговора, Чаудхри поднялся и молча вышел из лавки.
Поселок, в котором они жили, напоминал собой обычную раджастханскую деревню, возникшую на окраине Дели. После того как страна обрела независимость, город стал стремительно расти вширь. Для возведения новых районов столицы требовались рабочие руки, много рабочих рук. И в Дели отовсюду потянулись люди — из ближних и дальних деревень, где случилась засуха или наводнение; люди поднимались с насиженных мест и устремлялись в Дели. Двигались целыми семьями либо одни мужчины, прихватив с собой подростков. Шли из Раджастхана, из деревень Харияны и Пенджаба, приезжали с далекого юга. Однако каменщиков больше всего прибывало все-таки из Раджастхана. В поисках заработка в Дели тянулись не только строительные рабочие, но и дхоби[5], парикмахеры, мелкие торговцы. И всюду, где начиналась закладка фундамента, тотчас же возникали бесчисленные глинобитные мазанки строителей. Среди сваленных кучами балок, кирпича, цемента, бутового камня женщины пекли лепешки, ребятишки играли в прятки, а к концу рабочего дня вся местность оглашалась песнями строителей, возвращавшихся к своим очагам. Люди обживались, привыкали к своим глинобитным жилищам. Но едва рядом возникал квартал новых, двухэтажных коттеджей, мазанки тотчас же сносились, рабочие переходили на другое место, а там, где прежде стояли ряды глинобитных времянок, укладывались трамвайные рельсы, возводились кирпичные стены, и никто из прежних обитателей не мог бы точно сказать, в каком месте стояла его лачуга.
Однако этот поселок сносить не стали даже после того, как Рамеш-нагар был отстроен. Причина заключалась в том, что мазанки стояли в стороне от жилого массива, их ряды тянулись по склонам выжженного солнцем холма, что возвышался неподалеку от шоссе. Сначала беспорядочно разбросанные мазанки выросли у подножия холма; вокруг них возникали новые нехитрые строения, образуя нечто вроде поселка. Потом мазанки стали взбираться все выше по склону. Между их рядами появились переулки. Строители, осевшие здесь, стали звать родственников из деревень: «Переезжайте в Дели. Город большой, работы — непочатый край». А работы действительно было хоть отбавляй. Рядом с Рамеш-нагаром возвели Южный Рамеш-нагар, потом Западный. Когда все три микрорайона были построены, начал возводиться Пандав-нагар, и глинобитные поселки строителей стали расти как грибы после дождя. Город стремительно расширялся. О поселке на склоне холма будто забыли. Почувствовав прочность своего положения, обитатели вместо глинобитных времянок стали возводить домики из кирпича. В конце концов, в поселке жили строители, и поставить вместо глинобитной стены кирпичную, а дерн на крыше заменить черепицей для них особого труда не составляло. Каменщики перешли на оседлый образ жизни, а их жены больше уже не работали подсобницами, а нанимались служанками и судомойками к хозяевам коттеджей, возведенных их же руками в Рамеш-нагаре. Правда, мужчинам теперь приходилось добираться до работы городским транспортом. Но как бы там ни было, они уже считали себя коренными жителями Дели. У них был свой поселок, и у всякого, кто заглядывал сюда, сразу же возникало ощущение, будто он попал в раджастханскую деревню: женщины в широких цветастых юбках, на щиколотках у них ножные браслеты с бубенчиками, а стены мазанок, по обычаям Раджастхана, разрисованы танцующими павлинами, слонами либо скачущими конями с всадниками. В поселке шумно отмечались праздники, справлялись свадьбы, действовал панчаят. Переулки, в которых прежде стояла непролазная грязь, замостили камнями и битым кирпичом. Через поселок проходила водопроводная труба, и, посовещавшись между собою, члены панчаята приняли решение: в трех местах поставить колонки. В поселке появились лавки, где торговали всякой нужной в хозяйстве мелочью. А когда у Гобинди разбился на стройке муж и она осталась без средств к существованию, панчаят вынес решение: на общественные деньги построить для нее чайную. Отстраивался поселок, крепли связи его жителей. Уже подрастали ребятишки, родившиеся здесь, которые, хотя и считались раджастханцами, никогда в жизни не видели Раджастхана; они стайками носились по поселку и улицам Рамеш-нагара. Девочки, взрослея, начали пользоваться косметикой, охотно позировали фотографам-любителям, а когда в городе впервые появилось телевидение и в коттеджах Рамеш-нагара загорелись голубые экраны, тайком смотрели телепередачи, пристроившись где-нибудь к щелке между шторами. В поселке с утра до вечера звучали передаваемые по радио популярные песни из кинофильмов. Словом, новому поколению раджастханцев воздух столицы пришелся явно по вкусу. Не было ни одного фильма, который не посмотрела бы молодежь, и не было ни одной песенки, которую не выучила б наизусть. Дети подрастали — возникали новые семьи. Случалось и такое, о чем раньше никто и не слыхивал. Так, дочь лавочника Радха, выйдя замуж и став матерью двоих детей, сбежала с кондуктором автобуса. Подростки пристрастились к вину, игре в карты, бродяжничеству, и старики, собираясь по вечерам в лавке Гобинди, каждый раз заводили речь о том, как бы приструнить молодежь, удержать от разлагающего влияния города.
В том же самом поселке вместе с выходцами из Раджастхана жили парикмахеры, сапожники и дхоби, приехавшие сюда из Харияны и Уттар-Прадеша. Эти люди принадлежали к другим кастам, поэтому родственных связей с ними никто не имел, однако дружбу водили многие. Мазанка парикмахера Чаудхри сначала стояла у самого подножия холма, но потом он перебрался повыше, поселившись в домишке, освободившемся после смерти хозяйки. Работал он, как правило, где-нибудь на обочине оживленной улицы. Обосновавшись здесь много лет назад, Чаудхри уже не мыслил свою жизнь вне этого поселка.
Покинув лавку Гобинди, Чаудхри стал торопливо спускаться вниз по переулку.
— Надо что-то делать, а то как бы поздно не было, — пробормотал он себе под нос и ускорил шаг. В его маленьких глазках появился блеск. Смуглый долговязый человек в длинной голубой рубахе, он чем-то напоминал медведя, неуклюже шагающего на задних лапах.
Заметно похолодало. С неба сеялась противная морось. Словно возникая из тумана, холодная водяная пыль острыми иглами колола его разгоряченное лицо, каплями стекала по подбородку. Ветерок задул сильнее — туман стал рассеиваться, поселок вновь обретал свои краски. В переулке начали появляться люди: мужчины спешили на работу, женщины давно уже занимались делом — из мазанок доносился перезвон посуды. Задымили печки, сложенные во дворах, хозяйки принялись печь лепешки.
Подходя к своему домишку, Чаудхри краем глаза заметил, что жена, как обычно перепачканная с ног до головы, раздувает огонь в печке.
— Припозднился что-то ты нынче, — завидев мужа, сказала она. — Иль не пойдешь работать?
— Кому ж в такую погоду взбредет в голову бриться или стричься? Не видишь, какие тучи собрались?
— Чаю выпьешь? Я мигом приготовлю.
— Буди Басанти! — сердито оборвал ее Чаудхри. — Слышишь ты? Я сказал: поднимай Басанти. Да пусть умоется почище. Я сейчас…
И Чаудхри быстрым шагом стал спускаться вниз, пока наконец не остановился у дверей крохотной лавчонки-мастерской, что стояла у самого подножия холма и принадлежала хромому портному Булакираму, который уже открыл свое заведение и, держась одной рукой за поясницу, подметал площадку у входа. На веревке, протянутой над прилавком, висели готовые изделия: широкие цветастые юбки, детские рубашонки, штанишки и шапочки.
— Не рано за дела-то принялся, Булаки?
— Входи, Чаудхри, входи, дорогой, — с трудом распрямляясь, приветствовал его Булакирам. — Проходи, пожалуйста, садись. Спасибо, что наведался.
Проворно сняв с прилавка циновку, портной расстелил ее перед посетителем.
— Когда же залог получу? — осторожно спросил он.
— Залог, говоришь? Залог ждет, когда ты его возьмешь, — отвечал Чаудхри, не сводя своих крохотных глазок с лица портного. — Хоть бы и сегодня.
Хромой чуть не подпрыгнул от радости, и у него вырвался какой-то хриплый возглас.
— А не получится как в прошлый раз? Я привел свадебный поезд, а невеста травиться вздумала.
— На этот раз обойдемся без свадебного поезда. Потихоньку сделаем.
— Ты приготовь все в своем доме, а я уж будущую жену сумею принять у себя с почетом. — И из горла у него снова вырвался хриплый звук.
— Тысячу двести, и можешь забирать ее хоть сегодня, — твердо проговорил Чаудхри, не сводя глаз с портного.
— Почему вдруг так дорого? — удивился портной. — Ведь в прошлый раз сошлись на восьми сотнях. И шесть ты уже получил… А сегодня вдруг тысячу двести? Побойся бога, Чаудхри! Нехорошо это! Слово надо держать…
— Тысячу двести, Булаки! Согласен — получай ее хоть сегодня. Еще четыре сотни — и будет ровно тысяча. Остальные две сотни отдашь, когда невеста войдет в твой дом.
— Почему тысячу двести? По какой такой причине? — горячился портной. — В прошлый раз ты соглашался на восемьсот.
— Вот потому, что соглашался в прошлый раз… Четырнадцать лет девочке, пятнадцатый пошел. И цветочек этот я отдаю такой развалине, как ты… Ну, а если не согласен, то ведь мой товар не залежится: от женихов отбою нет. Твое последнее слово?
— А невеста сегодня же перейдет ко мне? — вкрадчиво спросил портной, облизывая сухие губы, и все его тело как-то странно дернулось, точно ему захотелось зевнуть.
— Конечно. Твое согласие — и через час она будет здесь.
— Не передумаешь? — дрогнувшим голосом спросил портной, и из горла у него снова вырвался хриплый звук.
— Я же сказал!
— Ты и раньше говорил — и не раз, а два.
— Значит, не веришь? Думаешь, обману? Разве я хоть раз обманывал тебя за эти годы? Словом, ждать мне некогда, давай деньги — и можешь забирать ее.
— Какие еще деньги? Разве я не отдал тебе шестьсот?
— Еще четыре сотни… Чтоб ровно тысяча. Остальные две сотни отдашь после.
Портной недоверчиво смотрел на Чаудхри. Он не верил хитрому парикмахеру и поэтому колебался, но желание заполучить наконец жену, да к тому же еще и молодую, было слишком сильно. Однако как тут было не сомневаться, если Чаудхри уже дважды надул его. В первый раз портной даже свадебный поезд привел к мазанке, где жила семья парикмахера, но хитрый Чаудхри отложил свадьбу под тем предлогом, что дочь его Басанти приняла крысиный яд и лежит без сознания. Во второй раз, когда, казалось, ничто уже не могло помешать свадьбе, невеста вместе с сестрой неожиданно уехала в деревню к родственникам. «Как только вернется, сразу же сыграем свадьбу», — клятвенно заверил тогда портного Чаудхри и взял у него еще две сотни задатка. А после этого всякий раз, встречаясь с портным, Чаудхри недоуменно разводил руками: «Все еще не вернулась, не сегодня-завтра ждем…»
Наконец откуда-то из-под вороха готового платья портной молча достал шкатулку, быстро отсчитал несколько десяток и, протягивая деньги Чаудхри, твердо проговорил:
— В последний раз поверю тебе, Чаудхри… Бери, тут ровно двести.
— Почему двести? Надо четыреста.
— Больше пока нету. Остальные получишь, когда невеста войдет в мой дом… Скажи-ка лучше, сколько человек можно привести с собой и кто из нас должен пригласить пандита[6]? Ты или я?
— Выкладывай еще две сотни, тогда и поговорим.
— Нет больше. Если бы были, разве б я стал торговаться? Сказал же, что нет. — И, дружески похлопав Чаудхри по колену, портной с кривой улыбкой добавил: — Отдаю все, что есть. К вечеру будет остальное.
Наконец после долгих препирательств портной приоткрыл шкатулку, отсчитал еще пятьдесят рупий и протянул их Чаудхри.
— Господь свидетель: отложил для будущей жены. Должен же я что-то подарить ей, когда она войдет в мой дом. Для того и отложил, а ты отбираешь последнее.
Чаудхри, не считая, сунул деньги в карман.
— Ну, ты не тяни, — сказал он, поднимаясь. — Захвати пандита — и сразу ко мне. А я еще должен кое-что сделать.
Тяжело припадая на правую ногу, портной направился к чулану, приговаривая на ходу:
— Для Басанти, моей голубушки, я своими руками сшил две юбки и две кофты. Одну пару можешь взять с собой. Пусть в этой обновке она и войдет в мой дом.
Портной скрылся в чулане и тут же снова появился, неся на вытянутых руках желтую юбку, темно-красную в крапинку накидку и темно-зеленую блузку.
— Бери, — проговорил он, нежно поглаживая одежду. — Видишь, даже измяться еще не успела. Бери… А я захвачу пандита — и сразу же к тебе…
Когда Чаудхри со свертком под мышкой подошел к своей мазанке, его жена, сидя на корточках, все еще пыталась раздуть огонь в печке — отсыревшие дрова никак не загорались, а Басанти досматривала последние сны.
— Дрыхнет еще? — удивился Чаудхри. — Давай-ка буди ее да одевай во все это: с минуты на минуту жених явится. Нынче же устроим свадьбу. Я только что обо всем договорился.
— В сезон дождей дочь замуж выдавать надумал? Прямо сегодня?
— Что ты там болтаешь? Я же объясняю тебе: я только что обо всем договорился… Разве в такой сезон не играют свадьбы? — раздраженно заключил он и прошел в дом.
Басанти спала крепким сном, правой рукой прижимая к груди головку младшего брата. Увидев это, Чаудхри вскипел. Он подскочил к койке, и его тяжелый кулак опустился на спину дочери.
— Ах, подлая! — заорал он. — На дворе давно уже день, а она дрыхнет! А ну, поднимайся! — И Чаудхри за косу стащил дочь с кровати.
Басанти тут же вскочила на ноги, испуганно тараща на отца заспанные глаза. В полумраке мазанки она видела перед собой только перекошенное от ярости лицо отца. Рядом с ним тотчас же выросла фигура матери.
— Целый день готова спать, проклятая! — вторила она отцу. — Дел по горло, а она все еще почивает! А ну, поднимайся. Живо! Беги к колонке да умойся почище!
Басанти смотрела на нее опухшими от сна глазами, и где-то в подсознании у нее мелькала мысль: будет ей взбучка от матери или нет? Мать сначала накричится и только потом принимается колошматить, а отец бьет молча, поэтому отца она боялась больше, чем мать. К тому же мать колотит ее по спине, пока Басанти не вырвется и не убежит, а от отцовского кулака не убежишь: как ударит — ни вздохнуть, ни охнуть.
Басанти окончательно проснулась, только увидев в руках матери целый ворох обновок.
— Отправляйся к колонке да умойся! — визгливо продолжала мать.
В следующий же миг Басанти словно ветром сдуло: она выскочила из мазанки и бегом бросилась к колонке.
Следом за нею вышел и сам хозяин. Издали слышался какой-то неясный, словно приглушенный туманом, рокот. Чаудхри насторожился. Грохот доносился откуда-то снизу, где начинался поселок. Парикмахер вслушался. У стоявшей рядом мазанки неподвижно застыла жена соседа.
— Что это там за шум? Ты слышишь? — обратился к ней Чаудхри.
— Какой еще шум? Я ничего не слышу.
Чаудхри внимательно посмотрел на людей, торопливо шагавших вниз и вверх по склону. Никто из них не обращал никакого внимания на доносившиеся звуки. Чаудхри обратился к сидевшей у двери слепой старухе — матери Бисесара, мазанка которой была напротив.
— Матушка, вы слышите что-нибудь?
— Да, шлышу, — прошамкала старуха. — Штранный какой-то жвук… Шлева.
Мелькнувшее в голове Чаудхри подозрение крепло — он весь обратился в слух.
Басанти вприпрыжку неслась к колонке. День давно уже вступил в свои права, и в переулке царило оживление. У одной из мазанок сидела подружка Басанти Шамо и кусочками гура[7] кормила своего маленького брата.
— А мы вчера фотографировались! — крикнула Шамо. — Заходи, покажу.
Басанти завернула к ней.
— А где вы фотографировались?
— Я сейчас. — И, нырнув в дверь мазанки, Шамо появилась с пакетом в руках.
На фотографии были Шамо и Джамна — обе ее подружки, они стояли обнявшись и весело улыбались.
— Ты только посмотри: даже сурьма на веках видна, — щебетала Шамо. — Видишь? Мы подвели веки сурьмой, а потом уж пошли сниматься. Мы еще немножко подрумянились, но фотограф сказал, что на карточке это не будет видно.
— Значит, вы и румянились?
— Конечно. Мы и нарумянились, и губы подкрасили. Джамна надела зеленую юбку, а я — красную. А на фотографии получилось, будто юбки у нас одного цвета. Правда, об этом фотограф заранее нам сказал.
— А сегодня вечером по телевизору новую картину показывают, — торопливо сообщила Басанти, возвращая подруге фотографию. — Я обязательно посмотрю…
Басанти произнесла это с таким выражением, словно хотела сказать: «Фотография? Тоже нашла чем хвастаться!»
— А что за картина? Ты у кого смотреть будешь?
— У тети Дэоки, — гордо отвечала Басанти. — Кроме меня, там никто не смотрит.
— А мне на заказ паджеб[8] сделали, — не сдавалась Шамо. — Показать? Десять рупий заплатили.
Шамо юркнула в дверь, но Басанти уже мчалась дальше: она вспомнила об отце и поспешила к колонке.
Чаудхри все еще стоял у своей мазанки, но теперь он заметил, что в других местах тоже собирались люди и вглядывались в ту сторону, откуда, постепенно нарастая, доносился рокот. У всех на лицах было недоумение и испуг: кажется, они начинали наконец сознавать, что значит этот шум, и теперь стояли скованные страхом. Чаудхри мельком взглянул в противоположную сторону: там, на площадке перед своей лавкой, неподвижно стояла Гобинди, всматриваясь в тот конец поселка, куда убегала кривая улочка. Вдруг на ней показался человек. Он стремительно бежал вверх по склону.
— Я же говорила, что-то случилось, — донесся сверху голос Гобинди.
Жители поселка высыпали на улицу. Некоторые, точно сбросив оцепенение, бегом стали спускаться вниз.
— Эй, Ману! — окликнул Чаудхри бегущего. — Что там такое?
— Полиция! — отвечал Ману, задыхаясь. — Вся улица запружена военными грузовиками. Сносить нас будут!
— А ты куда мчишься?
— К Хиралалу! Предупредить надо!
Ворот рубахи у парня был расстегнут, он тяжело дышал, и амулет на черном шнуре то поднимался, то опускался в такт его дыханию.
Безмолвно стоявшие люди бестолково засуетились. Многие побежали вниз. Толпа у подножия холма росла.
Лицо у Чаудхри посерело, губы беззвучно шевелились.
Снизу, из-за стен лепившихся друг к дружке мазанок, поднялось облако пыли и донесся тупой тяжелый звук, точно камень бросили в глубокий колодец. В толпе, что собралась внизу, началась паника. Люди рванулись к своим мазанкам. Прошло всего несколько минут, а посреди переулка уже выросли горы нехитрого домашнего скарба: обитатели поселка — мужчины и женщины, старики и дети — вытаскивали мебель, посуду, ящики и узлы с одеждой. Мирный пейзаж изменился до неузнаваемости. Внизу группы людей таяли на глазах.
Хиралал, Мульрадж и Шамбху давно уже покинули лавку Гобинди и с озабоченным видом стояли на перекрестке. Все трое были в высоких тюрбанах и новых пиджаках. Рядом топтался еще не отдышавшийся Ману. В лице у Хиралала не было ни кровинки, и он что-то невнятно бормотал посиневшими губами. Наконец он устало снял с головы пышный тюрбан и, сунув его под мышку, молча направился к своей мазанке, стоявшей позади лавки. Остальные последовали его примеру и, сорвав тюрбаны, со всех ног бросились к своим домам. Гобинди принесла ведро с водой и залила огонь в жаровне.
Какая-то женщина тяжело бежала вверх по переулку.
— В чем дело, Ганго? Что случилось?
— Поселок сносят! Полицейских там — видимо-невидимо, — на бегу сыпала Ганго. — Я ходила к своим господам убираться. А как только узнала — бегом сюда. Спасай, кто что сумеет! Не сумеете… пеняйте на себя… Все порушат!
У дверей мазанок росли горы узлов, ящиков, бидонов. Некоторые хватали узлы, взваливали их на голову и, взяв еще канистру или бидон, мчались вниз. Шум нарастал.
— А куда же мне-то деваться? — донесся голос Гобинди. — Кто поможет унести мой скарб?
Глядя на людей, Гобинди поначалу вытаскивала на улицу все свое имущество: тарелки, пиалы, стаканы, кастрюли и сковородки, но потом вдруг отчаянно махнула рукой и, усевшись прямо посреди улочки, горько разрыдалась.
— Басанти! Басанти! — вдруг громко закричал Чаудхри, в растерянности взиравший на все происходящее.
С узлами, бидонами и канистрами, а кое-кто и с чарпаи[9], обитатели поселка спешили по переулку вниз. У входа в мазанки скорбно застыли сидящие на земле женщины, с головы до пят закутанные в старенькие покрывала. Они до сих пор не могли поверить, что им придется покинуть давно обжитое место. А внизу снова и снова поднимались облака пыли и каждый раз доносился тяжелый тупой звук. Иногда на фоне пыльного облака возникала одинокая фигура, стоявшая на крыше мазанки. Фигура маячила несколько минут, рядом с ней возникала другая, потом обе они исчезали в облаке пыли, и крики людей заглушал грохот рушащихся стен. Поднимался столб пыли, слышались вопли, и вновь наступала тишина, нарушаемая лишь рокотом моторов.
Все это началось, когда Басанти была уже у колонки, что напротив лавки Гобинди. Недоуменно тараща глаза, девушка долго осматривалась. Поняв наконец, что самое интересное происходит там, где поднимаются столбы пыли, она сорвалась с места и, прыгая, как горная козочка, помчалась вниз.
У мазанки Чаудхри уже громоздилась куча домашнего скарба, а рядом суетилась плачущая хозяйка. Она вытаскивала из мазанки имущество: какие-то коробки, узелки и свертки. Пряди растрепанных, как всегда, волос падали ей на лицо, кофта была расстегнута, а на стареньком, грязном сари в нескольких местах виднелись дыры. Горько плача и причитая, она выносила посуду и мебель.
Чаудхри еще раз позвал Басанти и стал нагружать на жену имущество. Сначала он поставил ей на голову деревянный ящик, на ящик — бидон с мукой, на бидон — сумку со своим инструментом, а на самый верх взгромоздил медный тазик и старенькую лоту[10]. Не говоря ни слова, он нагружал ее, а она, маленькая и хрупкая, стояла перед ним и молча плакала. Когда на бидон легла его сумка, колени у нее дрогнули.
— Отделаться от меня хочешь? — сквозь слезы выкрикнула она. — Не выдержу я такой тяжести!
— Если ты сама не понесешь, так думаешь, твой отец придет подсобить?
Многое пришлось бросить. Будь дочь рядом, он и ее бы нагрузил, но Басанти — черти б ее побрали! — будто сквозь землю провалилась. А младший его сын — Раму — был любимчиком родителей, и поэтому его разбудят, когда из мазанки вынесут все имущество семьи. Кровати пришлось бросить, как, впрочем, и кресло для клиентов, ручную мельницу, коробки, старые циновки и многие другие нужные в хозяйстве вещи. Нагрузив жену, Чаудхри вошел в мазанку, осторожно завернул спящего сына и бережно поднял с кровати. Держа сына на руках, Чаудхри стал спускаться вниз.
Неожиданно хлынул дождь.
— Вишь, как хлещет! — обращаясь к кому-то шагавшему рядом, прокричал Чаудхри. — В дождь, может, и не станут сносить…
Одной рукой его попутчик придерживал взгроможденные на голову два ящика, в другой у него был узел. Он шел медленно, стараясь не поскользнуться и не упасть.
— А не все ли равно, Чаудхри, когда снесут — сегодня или завтра? — искоса взглянув на парикмахера, недовольно буркнул попутчик. — Все равно тут нам теперь не жить.
Дождь лил недолго, а вся проезжая часть улочки превратилась в сплошное месиво. Хотя переулок был выложен кирпичом, ноги скользили по глинистой жиже.
Жена Чаудхри поскользнулась и села прямо в грязь. Тазик и лота слетели в сторону, сумка с инструментом свалилась, следом обрушились бидон и ящик. Крышка бидона откинулась, и желтую жижу вмиг будто посыпали мелом. Через минуту здесь уже снова была сплошная грязь. Держась одной рукой за поясницу, жена Чаудхри с трудом поднялась и, заливаясь горючими слезами, принялась собирать свое имущество. Завернутый в теплую накидку, Раму все еще спал на плече отца. Обе руки у Чаудхри были заняты: в одной он нес спящего сына, в другой — ведро. Конечно, разбуди Чаудхри малыша, то и сам бы мог прихватить побольше, и Раму взял бы кое-что, но Чаудхри не сделал ни того, ни другого — это было ниже его достоинства.
Люди уже двигались по склону сплошным потоком. Скользя по грязи, они шли под проливным дождем, нагруженные домашним скарбом, а рокот моторов все нарастал. Оставив многое у покинутых очагов, добрую половину из взятого багажа люди теряли во время спуска: где-то валялась сломанная кровать, разбитый кувшин, покореженный ящик. Все, что случайно выскользнуло, упало или рассыпалось, поднять или собрать было уже невозможно. Тетушка Ганго — мать Шамо — шла вместе со всеми, прижимая к груди ребенка и придерживая рукой ящик, который несла на голове. Сзади кто-то — видимо, споткнувшись — толкнул ее, она с трудом удержалась на ногах, едва не выронив ребенка, но ящик свалился на землю, крышка отлетела в сторону, одежда вывалилась в грязь, и перепачканные глиной ноги людей через минуту превратили ее в грязные лохмотья. Прижав к груди ребенка, Ганго дико завопила, видя, во что превращается ее достояние: ее красное свадебное сари уже через минуту стало бурой тряпкой, которая комом катилась вниз. Не выпуская из рук ребенка, Ганго бросилась к ящику, пытаясь спасти остатки добра, однако новая волна переселенцев подхватила ее и стремительно понесла вниз.
Тем временем, обогнав всех, кто спешил вниз, Басанти очутилась там, где ломали мазанки, и, дивясь, смотрела на все, что творилось вокруг. Несколько солдат в стальных касках, вскинув на плечо дубинки с металлическими наконечниками, преграждали путь толпе, спускавшейся со склона, и заворачивали ее в узкий переулок слева. На ремне, перекинутом через плечо, на боку у солдат болтались решетчатые деревянные щиты. Их гимнастерки были мокрые, и тонкие струйки дождя стекали с касок. За спинами солдат видны были развалины, торчали потемневшие от времени балки и стропила. Басанти теперь не могла узнать, чьи мазанки стояли на месте этих развалин. Вокруг валялись пустые ящики. В некоторых из них, вероятно, хранили рис: в серой грязи белело несколько зерен. Стена одной мазанки обрушилась, но покривившийся косяк двери каким-то чудом еще держался. На месте печки, выложенной у входа, осталась груда обгорелых кирпичей. Подняв глаза, Басанти увидела на стене мазанки, что стояла чуть правее, двух солдат: железными ломами они крушили крышу. Солдат внизу, тоже вооружившись ломом, первым делом развалил печку, потом принялся долбить стену. На белой стене синей краской были нарисованы два больших танцующих павлина. Это была мазанка Вишну. Такие павлины, большие, красивые, с гордо распущенными хвостами, были только у него на стене, на других изображались либо скачущие кони с седоками, либо слоны.
— Это же дом Вишну! — неожиданно вырвалось у Басанти. — Зачем же вы ломаете его?
В тот же момент орудовавший ломом солдат резко повернулся к ней и, оскалив зубы, пробуравил ее злыми глазами.
— А ну-ка дуй отсюда, собачье отродье! Не то я сейчас объясню тебе зачем!
Басанти испуганно попятилась.
Тем временем солдаты уже принялись ломать соседнюю мазанку, а полицейские пошли дальше вверх по переулку. Неожиданно у следующей мазанки стала собираться толпа.
— Эй, Мехру! — закричала стоявшая рядом с Басанти женщина, протягивая к нему руки. — Ты что ж, сукин сын, сам свой дом решил сломать?
На крыше мазанки стоял человек в драной рубахе и широких полосатых штанах, волосы у него были всклокочены. Тяжелой лопатой он ломал крышу своего жилища.
— Свой же дом собственными руками развалить решил, сукин сын! — послышалось из толпы. — Ни стыда у человека, ни совести! И проказа таких не берет…
— Какое ж это свое? — огрызнулся человек на крыше. — Теперь все — казенное!
— Так ты же своими руками дом-то строил! — выкрикнул кто-то из толпы.
— Вот именно, своими, — неслось сверху. — Так что ж, строил я, а ломать будут другие? Нет уж! Я построил, я и сломаю!
— Ни стыда у тебя, ни совести, Мехру! — укоряли его собравшиеся внизу. — Свое жилье сам же рушит!
— Вон кто рушит! Неужели вы думаете, если я сам не сломаю, то они не тронут?
— Чтоб ты сдох, проклятый! Что б тебе заживо сгнить! — размахивая руками, на все лады проклинали Мехру собравшиеся внизу женщины и плевали на стены его мазанки.
Неожиданно появился полицейский и, грубо толкнув в грудь одну из женщин, хрипло заорал:
— Ты замолчишь, или, может, лучше арестовать тебя? А ну убирайся отсюда!
— Чтоб ты подох, проклятый! — едва удержавшись на ногах, запричитала женщина. — Я тебе в матери гожусь, а ты руки распускаешь!..
В управлении полиции по опыту знали, что за один день такой крупный поселок снести трудно, однако надо было как можно скорее сровнять с землей десятка три мазанок, чтобы люди покинули обжитые места и навсегда оставили мысль о возрождении поселка. Поэтому поступили просто: в том же самом поселке наняли нескольких безработных жителей, прельстив их небывало высоким заработком — по двадцать рупий в день. Конечно, большая часть с негодованием отвергла это предложение, однако такие, как Мехру, — давно уже искавшие какую-нибудь работу — согласились.
Басанти заметила, как маленькая девочка, ловко юркнув между ног полицейского, со всех ног бросилась к своей мазанке и уже через несколько секунд мчалась назад, крепко прижимая к груди копилку из обожженной глины, сделанную в виде морды тигра. И только тут Басанти вспомнила о своих сокровищах, которые она хранила в стене: тайком от отца вынув неплотно пригнанный кирпич, в образовавшийся тайничок она сложила две пары стеклянных браслетов, две зеленые заколки для волос и медное колечко. Ей захотелось скорей добраться до своего дома, чтобы спасти спрятанные сокровища. К тому же она вдруг вспомнила об отце и матери и, потихоньку выбравшись из толпы, побежала вверх по склону.
Дождь немного утих, но по обочинам уже неслись мутные потоки. По всему переулку были в беспорядке разбросаны сломанные коробки, ящики, старые деревянные кровати. У входа в мазанку Мульраджа на глаза ей попалась забытая в спешке клетка, в которой сидел нахохлившийся, испуганно озиравшийся попугай. В другом месте дымилась печка. В печке полыхал огонь, а сверху стояла глиняная миска. Пробежав еще несколько шагов, в толпе, валившей навстречу, Басанти неожиданно заметила синюю рубаху отца. Поверх его тюрбана высился бидон с откинутой крышкой, а через плечо висела сумка с инструментом. Рядом с отцом мелькнула фигура ее брата Раму: одной ручонкой он держался за руку отца, а другой прижимал к груди лампу. Следом за ними плелась мать.
Завидев своих, Басанти рванулась было к ним, но тут же испуганно остановилась. Отец непременно поколотит ее. А мать добавит. Правда, у нее тут же мелькнула мысль: ведь у отца сейчас обе руки заняты, и уж теперь-то он никак не сможет поколотить ее! Однако она знала отца, особенно когда тот бывал злой. Ему ничего не стоит сбросить ношу на землю, и уж тогда ей несдобровать… Стоя на обочине, она следила за отцом, пока его долговязая фигура не исчезла в людском потоке.
И Басанти вдруг расхотелось идти к родному дому. Она повернула назад и, держась обочины, стала спускаться вниз и скоро смешалась с толпой. Заколки и браслеты потеряли вдруг для нее всякий смысл.
Выбравшись наконец на улицу, Басанти забыла про свои огорчения и с любопытством стала разглядывать все, что творилось вокруг.
Улица была запружена грузовиками. Всюду валялась поломанная мебель, стоял невообразимый шум и грохот. Растерянные жители грузились в машины. Дождь утих, однако сверху еще сыпалась мелкая морось. Вскинув на плечо дубинки, вдоль улицы выстроились полицейские.
Кузова машин быстро заполнялись. Прямо перед Басанти стоял грузовик с откинутым задним бортом, куда люди бросали свои пожитки. Здесь тоже было полным-полно солдат: они следили, чтобы люди не тащили в кузов всякую рухлядь. Басанти узнала маляра Химмату, который вместе со всеми грузил свой скарб. Став ногой на заднее колесо и ухватившись обеими руками за борт грузовика, он вскочил в кузов, а стоявшая внизу жена стала подавать ему сваленные рядом вещи. Лицо ее скрывал край натянутого почти до подбородка сари. Люди все еще грузились, когда, стуча по земле дубинкой, подбежал полицейский.
— Что тут происходит? — спросил он, окидывая взглядом наваленные в машине пожитки, и ловко прыгнул в кузов. — Если все будут тащить с собой по стольку, на каждую семью придется выделять по грузовику. А ну-ка выкидывай барахло. — И он выбросил из кузова две старенькие деревянные кровати. — Если не хотите расставаться со всей этой рухлядью, тащите на себе! В кузове нет места! — И он отдал приказание кровати не грузить.
Когда, спрыгнув с машины, полицейский ушел, Химмату снова закинул в кузов обе кровати. Но тут не выдержали остальные: взобравшись в машину, они выбросили их на землю.
— Нам нельзя, а тебе можно?!
Громко заплакали стоявшие рядом дети маляра, а его жена, размахивая руками, стала на чем свет стоит костить обидчиков. Перепалка все еще продолжалась, когда водитель включил мотор. Химмату кричал, требуя, чтобы ему дали погрузить вещи, но грузовик уже дернулся, готовый тронуться с места.
— Бросай их, бросай кровати-то! — испуганно завопил маляр. — Возьми ребятишек! Скорей! Подавай сюда! Выше поднимай!
Однако выбившаяся из сил жена маляра была уже не в состоянии поднять детей. К тому же мокрый от слез край сари лип к лицу, мешая смотреть. Видя ее беспомощность, стоявшие вокруг люди помогли ей поднять в кузов обоих ребятишек. Когда же она сама собралась залезть в машину, грузовик тронулся с места. Держась за край борта, женщина бежала за грузовиком, а стоявшие в кузове кричали водителю:
— Останови! Останови машину! Женщина осталась!
Но грузовик все набирал скорость. Наконец женщина отпустила борт и, хватая ртом воздух, упала прямо посреди улицы.
— Садись на другую машину! — стоя в кузове, кричал ей Химмату. — Да смотри прихвати обе кровати!
Однако женщина ничего не слышала. Она с трудом поднялась на ноги, горько плача и причитая, добрела до обочины и тяжело опустилась на землю.
В этой неразберихе кто-то успевал взобраться в кузов, кто-то нет. Рядом с отставшей женой Химмату на обочине сидела слепая старуха — мать Бисесара. Зажав в руке дешевые часы сына, она бормотала:
— Бисесара не видели? Моего Бисесара никто не видел?.. Хоть бы кто-нибудь отвез меня к моему сыночку.
Из поселка все еще валил народ. Около одного грузовика, чтобы оттеснить напиравшую толпу, солдаты стали размахивать дубинками, и люди сперва отхлынули назад, потом начали разбегаться.
Басанти торопливо шагала, на минуту задерживаясь то в одном месте, то в другом. Около одной мазанки, прямо посреди улицы, валялись сковородки, старые ботинки, поношенная, но еще крепкая одежда: как видно, чей-то узел вывалился из кузова, и его содержимое рассыпалось. На проезжую часть, звеня, выкатилась старенькая лота, а вдогонку за ней с противоположной стороны улицы несся чумазый парнишка. Он схватил ее обеими руками и, бережно прижимая к груди, побежал назад.
Стоявшие на улице обитатели Рамеш-нагара, перебрасываясь короткими репликами, с любопытством наблюдали за происходящим. Они видели знакомые лица, потому что женщины из поселка наводили у них чистоту, а мужчины красили и белили их дома. Многих из тех, кто стоял вдоль тротуара, Басанти знала в лицо с давних пор, но сейчас глаза ее искали только одного человека — тетушку Шьяму. Басанти почему-то была уверена, что тетушка Шьяма находится здесь. Она пересекла улицу и направилась к коттеджам.
— Что делать! Закон есть закон! — донесся до нее голос господина Ахуджи из коттеджа номер четыре. — Я и Мульраджу не раз говорил об этом. «Ты, Мульрадж, не строй кирпичный дом, — говорил я. — Возводить такие постройки — незаконно».
— Незаконно не только это, незаконным является уже сам факт поселения на земле, принадлежащей государству. Да и на постройку своих жилищ они не потратили ни пайсы[11].
Все, что происходило на их глазах, каждый комментировал по-своему, не обращая никакого внимания на девушку, неслышно скользившую за их спинами, а Басанти все шла, не теряя надежды увидеть тетушку Шьяму, однако той нигде не было, и Басанти пришлось повернуть назад.
Когда она пересекла улицу, первым человеком, который попался ей на глаза, был хромой портной, одетый в роскошный красный с желтым наряд, с огромным тюрбаном на голове. Веки портного были густо подведены сурьмой. Вид у него был такой забавный, что Басанти стало смешно, и, остановившись прямо перед ним, она беззвучно засмеялась, зажав ладошкой рот. Она еще не знала, что портной Булакирам — ее жених и что вырядился он так для свадебной церемонии. Она и не подозревала, что, если бы снос поселка начался хотя бы на час позже, тащить бы ей сейчас бидоны и узлы из мастерской портного… Сначала он не узнал девушку, но, когда, насмеявшись вдоволь, она отвела руку, лицо портного осветилось улыбкой.
— Басанти! — воскликнул он. — Басанти, рани[12] моя! — И протянул к ней руки.
Однако не успел он и глазом моргнуть, как девушка ускользнула и тут же растворилась в толпе.
— Басанти! Подожди! Басанти, рани моя! — И, тяжело припадая на правую ногу, стуча по земле палкой, портной ринулся за нею.
Убежав от старого хромуши портного, Басанти ловко лавировала между стоявшими грузовиками. И вдруг она снова увидела отца: стараясь удержать под мышкой выскальзывающий узел, он бежал по улице. Отстав на несколько шагов, следом за ним семенила мать. Тюрбан на голове отца развязался, и конец его волочился по земле. Мокрая от пота рубаха прилипла к спине. Кофта на матери была расстегнута. Взгромоздив на голову бидон и узел, мать, обливаясь потом, едва поспевала за отцом. Лицо у нее было бледно-желтое, как у покойника. И Басанти стало жалко родителей: в царившей вокруг сумятице и неразберихе они казались такими беспомощными и никому не нужными. И в душе у нее поднялась вдруг волна нежности; не раздумывая, она бросилась к ним.
— Что же вы так долго? — закричала она с укором. — Все машины уже загружены. Остался только один грузовик, он там — позади. Я сама видела.
— Ты где носишься, дрянь такая?! — повернулся к ней отец. — Тут Раму отстал, а она разгуливает! Ступай и найди мальчонку! — И, отвернувшись от дочери, Чаудхри стал заглядывать в кузовы машин, отыскивая, куда бы пристроить свои вещи.
Едва Басанти отошла от грузовика, чтобы идти на поиски брата, как он сам возник перед нею: не выпуская из рук керосиновую лампу, Раму, оказывается, давно уже разыскивал родителей.
И здесь началось то же, что происходило в других местах. Кулаками и локтями прокладывая путь через толпу, Чаудхри добрался до свободного грузовика. Растолкав людей, он ухватился за борт и, поставив ногу на колесо, попытался влезть в кузов, но нога сорвалась, и он чуть не свалился. Басанти замерла от страха и, размахивая руками, рванулась, чтобы помочь отцу.
Наконец один узел был заброшен в кузов, однако с остальным произошла заминка. В следующий же миг Басанти стояла на подножке машины и кидала в кузов вещи своей семьи, которые подавала ей мать. И вдруг грузовик тронулся, стоявшие внизу люди закричали. Басанти спрыгнула с подножки. Отец был в кузове, а мать осталась посреди улицы. От страха она завопила и стала бить себя кулаками в грудь.
— Раму! Где Раму?! — что есть мочи кричал отец. — А ты что разинула рот, негодница? Скорей подавай мне брата!
Кто-то из стоявших рядом подхватил Раму и протянул его перегнувшемуся через борт Чаудхри. Мать бежала за грузовиком.
— Стой! Да стой ты! — крикнул Чаудхри.
Ко всеобщему удивлению, грузовик остановился, и женщину с трудом втащили в кузов. Грузовик снова тронулся, набрал скорость и скрылся вдали. В общей сумятице и спешке о Басанти просто забыли. Сердце у нее готово было разорваться от обиды и боли. Удивленно смотрела она вслед машине, увозившей родителей и брата, и к горлу ее подступил комок. «Раму взяли, а меня бросили», — мелькнуло у нее, но, упрямо тряхнув головой, она тут же отогнала от себя эту мысль. Разве трудно ей было взобраться в кузов? Сначала ногу на колесо, потом — на скобу и через борт в кузов. Все очень просто. А вот ждала, когда позовут!
Басанти постояла немного в нерешительности, потом пересекла улицу и направилась к белым коттеджам Рамеш-нагара.
Глава 2
— Спускайся, Басанти, только осторожней. Сорвешься — костей не соберешь. Спускайся!
— Ничего не случится, тетя! — Басанти сидела на толстой ветке мангового дерева, свесив ноги, болтала ими в воздухе и ела недозрелый плод.
— Вам нарвать, тетя? — прожевав, спросила она и, ухватившись за сук, полезла выше.
— Ничего мне не надо. Спускайся вниз. Да спускайся же ты наконец!
Но Басанти с проворством ящерицы стала взбираться еще выше.
— На верхних ветках плоды крупнее. Два я специально для вас сорву, а один съем сама. Ладно, тетя? — И Басанти звонко рассмеялась.
Тонкая веточка под ногой у нее хрустнула, и она едва не полетела вниз, но, вовремя ухватившись за толстый сук, повисла на руках.
— Ты видишь? Я же говорила! Спускайся сейчас же! Слышишь?
Но Басанти уже весело смеялась.
— Ничего со мной не случится, тетя! — И подтянувшись, она вскарабкалась еще выше. — Как жалко, — донеслось сверху. — Все птицы поклевали! А такие крупные были плоды!.. Уж эти попугаи! Но один поклеван чуть-чуть. Вы не побрезгуете, тетя? — спросила Басанти со смехом.
— Слезай, говорю тебе! Не нужны мне никакие плоды!
— Если плод поклевала ворона, то его есть нельзя, а после попугая можно… Правда ведь, тетя?
— С тобой мне даже причесаться некогда. Спускайся сейчас же, еще раз говорю тебе!
— Ловите, тетя! — донеслось из густых зеленых зарослей сверху, и, сбивая на лету листья, на землю шлепнулся крупный плод манго.
— Хватит, хватит, больше не надо… Слезай.
— Сейчас слезаю, тетя… Если не хотите, то больше рвать не буду. А сама наемся и тут. — И Басанти опять звонко рассмеялась.
Немного погодя Басанти действительно стала спускаться, но вместо того чтобы спрыгнуть на землю, она прямо с ветки ступила на перила балкона и, словно канатоходец, балансируя обеими руками, прошлась с одного конца балкона на другой.
От страха у Шьямы даже дух перехватило, и, закрыв глаза, она бессильно опустилась в плетеное кресло, стоявшее рядом. Казалось, еще миг — и Басанти полетит вниз, переломает руки-ноги, разобьет голову… Свалилось же на нее такое несчастье! Шьяма хотела накричать на Басанти, но слова застряли у нее в горле, и, молитвенно сложив руки, она стала просить всевышнего о спасении неразумного дитяти.
А Басанти, осторожно переставляя ноги по перилам, продвигалась вперед. Направо — балкон, спрыгнуть туда легче легкого, хуже, если потеряет равновесие и свалится налево: высота — пятнадцать футов, а внизу — вымощенный камнем двор. При одной лишь мысли об этом сердце замирает. Как же быть?
Когда женщина открыла наконец глаза и со страхом взглянула вверх, Басанти стояла уже на противоположном конце балкона.
— Слезай, умоляю тебя, — не унималась Шьяма.
В следующее мгновенье Басанти прыгнула на балкон.
Женщина вздохнула с облегчением и, невнятно пробормотав что-то, прошла в дом.
Шьяма боялась судьбы. Первые облачка над ее семейным очагом появились лет через двенадцать после свадьбы. Облаков становилось все больше, они сгущались и превращались в черные тучи по мере того, как росло материальное благополучие семьи. Она подсознательно чувствовала: что-то тут не так. Смутная тревога охватила ее тогда. Ей казалось, будто надвигается что-то неотвратимое, как рок, и она вздрагивала всякий раз, когда раздавался стук в дверь: кого это несет к ним и зачем? Ее возили к докторам, заказали ей чудодейственный амулет, кто-то посоветовал постоянно носить перстень с топазом, и она послушно последовала совету, но ощущение смутной тревоги не проходило. И тогда в дом пригласили садху[13] — чудотворца.
— Успокойся, женщина, — изрек святой старец, положив руки на ее низко склоненную голову. — Страхи твои улягутся, и тревога твоя рассеется.
Она благодарно сложила руки и еще ниже опустила голову.
— От тревоги и страхов, женщина, освободит тебя служение людям, — продолжал старец. — Служи человеку, и ты избавишься от всего, что тревожит тебя.
— Какому же человеку должна служить я, святой отец?
— Тебе не придется искать его, — отвечал старец. — Он сам явится пред тобою. Им будет первый человек, которого ты увидишь завтра утром, едва выйдешь за порог дома. Кто бы он ни был, служи ему верой и правдой.
И первым человеком, которого увидела она на следующее утро, когда, приоткрыв дверь, выглянула на улицу, была Басанти, проходившая мимо ее дома. Следуя совету старца, Шьяма встретила ее как родную.
Так Басанти стала прислугой в доме Шьямы. Само собой разумеется, Шьяма ни словом не обмолвилась девушке о том, что приютила ее, лишь следуя совету святого старца, однако, помня его наказ, она дарила Басанти поношенное платье, в праздники угощала сладостями, давала мелочь на карманные расходы и милостиво разрешала смотреть телепередачи. И скоро в доме Шьямы Басанти чувствовала себя как в родном доме. Двери коттеджа были всегда открыты для нее, и она вела себя с детской непосредственностью: стрелой влетала в апартаменты госпожи на втором этаже; не спрашивая разрешения, готовила для себя чай; когда у госпожи начиналась мигрень, массировала ей голову, попутно рассказывая последние новости и сплетни обо всем, что творилось в переулке и в городе. Лишь одной темы не касалась она в своих рассказах: жизни прислуги в других богатых домах. Так Шьяма поневоле сделалась теперь единственной опорой девушки.
И предсказание старца действительно стало сбываться. Тревога и страхи ее улеглись, головные боли уменьшились, гипертонические кризы прекратились, хотя давление и продолжало оставаться высоким. У Шьямы улучшились аппетит и общее самочувствие. Словом, сбывалось все то, что предсказал ей святой старец. Даже ссоры со свекровью прекратились, и когда однажды ссора все-таки вспыхнула и родители мужа, связав вещи, перебрались к другому сыну, Шьяма восприняла это как милость всевышнего. «Десять лет сидели на моей шее, а теперь собрали пожитки и сами ушли, хотя никто их не гнал. Вот оно, предсказание святого старца!» После этого Шьяма стала относиться к девушке с еще большим вниманием. Конечно, когда Басанти, случалось, начинала вести себя слишком вольно, Шьяма не на шутку сердилась, готовая немедленно выгнать девушку из дома, однако, вспомнив слова старца, тотчас же остывала. «Какая б она ни была, мне нет до нее дела, — убеждала себя Шьяма. — Я должна выполнять наказ святого старца».
Немного погодя Басанти и Шьяма уже сидели на веранде.
— Ну а если бы свалилась? — волновалась Шьяма.
— Ну и что ж! — ответила Басанти со смехом и тряхнула головой.
— Могла б сломать руку или ногу, разбить голову.
— Ну и что из того, тетя!
— А ты думаешь, сломать ногу — это так себе, пустяки?
— Что на роду написано, того не миновать… Ну, сломала б — и сломала!
— Ноги твои целы остались, вот потому ты так и говоришь. А сломала б ногу, — ворчала хозяйка, — лежала б сейчас на кровати и орала что есть мочи. Болтаешь ты много, глупостей много говоришь. Когда-нибудь накажет тебя всевышний…
— А когда он доволен-то бывает, всевышний? — проговорила Басанти. — Он уж и так на меня постоянно косится да хмурится. — Она сделала недовольное лицо, нахмурила брови и скосила глаза. Потом звонко расхохоталась. — Говоришь много — недоволен, смеешься — недоволен, взбираешься на дерево — недоволен, слезаешь с дерева — он тоже недоволен… — И Басанти снова рассмеялась.
— Цыц, негодница! Никогда не говори так. Жить надо в страхе божьем.
— Перед кем же все-таки я должна жить в страхе, тетя? Перед отцом? Перед матерью? Перед вами? Или перед всевышним? — И видя, что госпожа сердится, тут же перевела разговор на другую тему: — Давайте-ка лучше я вам волосы расчешу. Может, голову маслом смажем? Да вы не сердитесь, тетечка, я же просто так…
— Не надо мне никакого масла! Ишь, принялась умасливать! Еще раз увижу на дереве — сама тебе ноги переломаю!
— Я никогда больше не буду лазить туда, тетечка, никогда. Обещаю вам. Хотите, я клятву дам: за уши себя возьму или носом по земле проведу. Хотите?
Не переставая смеяться, Басанти схватила себя за уши, опустилась на колени и провела носом по земле.
— Клянусь, что никогда больше не стану есть зеленые плоды манго, буду есть только спелые… — И, не вставая с колен, Басанти опять расхохоталась.
Глядя на девушку, Шьяма поражалась: эту хохотушку всевышний наградил неисчерпаемым запасом жизнелюбия и веселья. Готова хохотать по всякому пустяку. Всевышний дал ей облик девушки, а душа у нее как у вольной птахи: ни одной минуты не посидит спокойно — все прыгает, скачет, щебечет…
— Тетечка, натереть вам голову маслом?
— Не надо.
— Тогда я подмету, хорошо, тетечка? А то на веранде очень грязно… Может, вам чай приготовить, тетя? — И девушка опять рассмеялась.
— Ладно, ступай приготовь чай. И себе, и мне. Да смотри сахару поменьше клади.
— Вам тоже поменьше класть? — лукаво спросила Басанти и скрылась в кухне, откуда тотчас же донеслась песенка из нового кинофильма:
Мне достался муж-старик, Мне достался муж-старик. Что мне делать с муженьком, С этим старым дураком?Последние слова прозвучали дважды: видно, они особенно понравились Басанти.
«А ничего и не надо делать, — вздохнув, подумала Шьяма. — Живешь ты в радости, вот и живи себе и ни о чем не думай». — Она уже не сердилась на девушку.
В дверях кухни появилась Басанти: в одной руке у нее была чашка с чаем, в другой — чайник.
— Когда наш поселок стали сносить и начался переполох, — заговорила она, направляясь к госпоже, — меня, тетечка, чуть было замуж не выдали. И знаете, что я б тогда делала сейчас? — И она снова рассмеялась.
— Ну, что бы ты делала? — без улыбки спросила Шьяма.
— Растирала бы ноги старому хромому мужу… Да нет, я, пожалуй, другую б ногу ему сломала. — И она захохотала так, что чай выплеснулся на пол.
— А что плохого, если б и выдали замуж? — пожала плечами Шьяма. — Жила бы спокойно. И не пришлось бы мыть грязную посуду в чужих домах.
— Там бы я жила спокойно, это точно! Растирала б ноги хромому старику, втирала б масло в его лысину! Словом, весело б жила! — И Басанти снова зазвенела серебряным колокольчиком.
— А отец у тебя не злой?
— Отец-то у меня строгий. На каждом шагу подзатыльники отвешивал. Мне и в тот день досталось.
— А он что же, только тебя бьет или и остальных?
— Матери тоже иногда попадает, но больше всех достается мне. — Басанти опять рассмеялась.
— А Раму?
— Нет, тетечка, Раму он пальцем не трогает. Он же сын.
— Единственный сын, поэтому, наверно… А сколько у тебя сестер, Басанти?
— Он не единственный, тетечка. Всего у меня три брата — это вместе с Раму — и две сестры.
— Один-то брат, ты говорила, служит где-то чапраси, у него давно уже своя семья. А где же остальные?
— Есть у меня еще один брат. Да мы его много лет не видели.
— Почему так?
— А кто ж его знает, где он сейчас. Очень хороший был, сильный и ласковый. Он намного старше меня. Когда он пропал, я была еще совсем маленькая. Давно это было. Мы тогда из деревни в Дели ехали. — И, переходя почти на шепот, Басанти добавила: — Вот тогда-то он и пропал. Где он и что с ним, никто не знает. А может, и в живых уже нет.
— Ну, что ж ты замолчала? Куда хоть ушел-то он?
— А кто ж его знает?.. Бойкий он был, подвижный, ни минуты, бывало, не посидит спокойно. Когда ехали в поезде, выскакивал на каждой станции. А вскакивал на ходу — то через одну дверь, то через другую. Со мной еще, помню, в прятки играл. А когда приехали в Дели, его с нами уже не было.
— Что случилось?
— А кто же его знает, тетя! Мать-то и старшие сестры в одном вагоне ехали, а отец, я и тот брат — в другом. Выскочил брат, отец думает: к матери пошел. А он, смотришь, уже стоит перед нами. А приехали в Дели — нету брата, пропал…
— Может, сбежал?
— Кто ж его знает? Может, и сбежал, — грустно произнесла девушка. — Помню только, на одной станции случилось что-то… Когда поезд тронулся, кто-то сорвал стоп-кран. Поезд дернулся и стал. «Парнишка, — кричат, — под поезд попал!» Может, это и был мой брат.
— Но как же так? Неужели твой отец даже выяснить не пытался?
— Все пассажиры из окон смотрели. Отец тоже высунулся, а мне даже до окна добраться не удалось. Слышу только: «Ноги, — говорят, — отрезало». — «Жив, — спрашивает кто-то, — или уже помер?» — «Везите его, — кричат, — в больницу, видите, крови-то сколько!» — И Басанти вновь слышит те же голоса, что звучали тогда, вновь мелькают перед нею те же лица, мечутся те же люди. — В вагоне было много людей из нашей деревни. «Если из наших, то несите сюда, в вагон!» — кричат. «Да нет, не ваш это, — отвечают. — Из местных он, лоточник. Жареным арахисом торговал. Решил вскочить на ходу, да сорвался». — «В больницу его везите, в больницу!» — надрывался кто-то. — И перед глазами Басанти точно живая встает толстая женщина, которая, поджав под себя ноги, сидела тогда на нижней полке напротив. «Ну, отвезут его в больницу, а дальше что? — несколько раз повторила она. — Что дальше-то, я спрашиваю?» — «Как — что дальше? В больнице спасут человека». — «Ну и что от того, что спасут? У него же ноги отрезало, ты понимаешь это? Что ему делать без ног-то? Весь век милостыню просить?» Обливаясь потом, она все время твердила: «Что ему делать без ног-то?» — Может, и вправду брат это мой был, кто же знает?.. Потом поезд тронулся, все разбрелись по своим местам. Я так и не увидела, кому отрезало ноги. Отец тогда отошел от окна и молча сел на лавку… А когда приехали в Дели и пассажиры высыпали из вагонов, брата нигде не было, — голос у девушки дрогнул.
— А отец так и не выходил из вагона? — спросила Шьяма. — На той станции, где это случилось?
— Он собирался, говорил, что надо бы выйти, да так и не собрался. В вагоне ехал один человек из нашей деревни — кожевник Джанку. Так вот он сказал, что парнишку того видел своими глазами. «Это, говорит, точно: обе ноги отрезало, но то был не твой парнишка». Ну, отец и не пошел… Кто ж его знает, тетя, может, и впрямь подумал: «Хоть он и сын мой, да что я с ним делать-то буду, с безногим? Притащу его с собой в Дели, а потом? Станет он ползать по улицам да просить милостыню у прохожих?» Может, и помер, бедняга. Искать все равно никто его не станет. А может, и живой… и сам когда-нибудь объявится.
С трудом выдавив из себя последнюю фразу, Басанти почувствовала странное облегчение, у нее будто камень с сердца свалился.
— Мать говорит, что с тех самых пор отец озлобился и глаза у него стали красные… Ну, а почему ж тогда он с Раму такой ласковый? Вечно с ним нянчится, а злобу на мне срывает… А вы знаете, тетя, что еще он вздумал?
— Что ж такое он вздумал?
— Собственными дочерьми торговать!
— Ты думаешь, что болтаешь?
— Да не болтаю я, тетечка, истинную правду говорю. Старшую мою сестру он выдал за какого-то старикашку в деревню. Взял с него восемьсот рупий. Она и сейчас с этим старикашкой мается.
— Тебя тоже хотел отдать за старика? — усмехнулась хозяйка.
— Меня тоже. А почему это я должна идти за старика, да еще за хромого?
— А если свадьба все-таки состоится, что тогда?
— Тогда посмотрим. Опять крысиного яду наглотаюсь, но по его все равно не будет. — И, решительно тряхнув головой, Басанти снова беззаботно рассмеялась.
— Но ты же сама говорила, что таблетки не помогли.
— Точно, тетечка, не помогли. В тот день, когда меня решили отдать старику, я нашла таблетки, проглотила их все сразу и легла спать. Думала: вот, мол, во сне и помру. И вдруг среди ночи просыпаюсь. Внутри все огнем горит. Помню, у двери стоит большой кувшин с водой. Я бегом туда. Почти весь кувшин выпила — и хоть бы что: по-прежнему горит все внутри. А потом началась рвота, так меня рвало, так рвало — все внутренности вывернуло. Вот таблетки-то из меня, наверно, и выскочили.
— Ну а если б померла, сумасшедшая?
— Что ж, померла так померла.
— А где сейчас этот хромой старик?
— Да тут неподалеку поселился — рядом с мастерской, где автобусы чинят. У него там лавчонка. Раньше-то он в нашем поселке жил… — Басанти вскочила, будто ее пружиной подбросило. — Ну, я пойду, тетя? Госпожа из пятого дома, наверно, уже проснулась, я ей обещала посуду почистить. — И девушка стремительно помчалась к лестнице. — А вечером будем смотреть телевизор? — спросила она. — Сегодня ведь новая картина…
— Будем, конечно, будем, — добродушно улыбаясь, проговорила Шьяма.
— До свиданья, тетечка, до вечера! — Спускаясь по ступеням, Басанти снова принялась напевать песенку из кинофильма:
Мне достался муж-старик, Мне достался муж-старик. Что мне делать с муженьком, С этим старым дураком?Глава 3
На месте поселка остались одни развалины. Нижняя его часть была снесена до основания, однако у мазанок, что стояли выше по склону, успели разворотить только крыши и рамы — дома смотрели на мир пустыми глазницами окон. В первые дни даже шакалы и бродячие собаки, напуганные шумом и грохотом, не решались приближаться к развалинам. Все вокруг безмолвствовало, но постепенно здесь началась новая жизнь. Дворы и переулки заросли буйной растительностью, и даже внутри уцелевших мазанок из пола пробивалась трава. Бродить там было небезопасно: в развалинах расплодилось множество змей и скорпионов, а по ночам оттуда доносился вой шакалов да тявканье собак. Однако, несмотря на полное запустение, кое-где еще сохранялись остатки того, что было создано руками человека. На стенах все еще красовались выведенные яркими красками танцующие павлины, слоны и скачущие кони. Среди зарослей валялись разбитые кувшины, подносы и миски, где-то из травы выглядывала часть побеленной стены или выложенного кирпичом пола, словно бы напоминая о том, что когда-то здесь жили люди, звучали песни и звенели детские голоса, гулко стучали влюбленные сердца, с натруженных за день спин катился пот. Теперь поселок выглядел так, будто здесь пронесся смерч, который смел все, что встретилось на его пути. Никакого смерча, однако, не было. Поселок, в котором жили люди, был сметен с лица земли руками других людей. Теперь эти развалины заселили шакалы, змеи и прочая живность, которая неизвестно откуда появляется и устанавливает свое безраздельное господство, едва на месте жилья остаются полуразрушенные стены.
Вскоре весь склон холма был обнесен колючей проволокой, а у входа посажен чаукидар[14]. Теперь уже нельзя было появляться на территории поселка, хотя в первые дни после сноса прежние его обитатели постоянно наведывались сюда: одному хотелось взглянуть на свою мазанку, другому — откопать надежно упрятанные сбережения, а кто-то являлся просто так. Поднимая с земли что-то оброненное в спешке, каждый чувствовал себя чуть ли не вором. Не прошло и недели, как поселок стал точно чужой, и тот, кто рвался сюда сегодня, на следующий день уже не приходил: вид развалин повергал людей в уныние.
После того как поселок перестал существовать, его обитателей разметало в разные стороны. Кто-то перебрался к родственникам в противоположный конец города, кто-то вернулся в деревню, а кто-то в поисках пристанища продолжал мыкаться по делийским окраинам. Обитателей поселка вывезли на машинах в открытое поле милях в пяти от Рамеш-нагара, заверив, что здесь им будет выделен участок земли под застройку. Удовлетворенные этим обещанием, большинство прежних жителей вместе с женами и детьми стали обосновываться тут, делая ежедневные вылазки на другие городские окраины в поисках временного заработка. Не найдя работы поблизости, они отправлялись в Рамеш-нагар. Пешком или на автобусе женщины и девушки стали ежедневно являться в коттеджи Рамеш-нагара, где принимались за прежнее занятие — мытье грязной посуды или уборку квартир.
— Разве я могу оставить вас, госпожа? — обычно говорила женщина, возвращаясь к прежней своей хозяйке. — Столько лет работала у вас! Я так привыкла к вам, что ваш дом для меня как родной.
— Прежде-то я подсобницей тут работала, госпожа, — взывала к памяти хозяйки другая. — Когда строился вон тот дом, ну, тот, что напротив… у меня в те дни, помню, еще Радха родилась.
Не прошло и нескольких недель, как жизнь прежних обитателей поселка потекла по новому руслу. Ранним утром у обочины Рамеш-нагара тормозил автобус или крытый брезентом грузовик, и на тротуар высыпала шумная толпа девушек и женщин: худые смуглые лица, яркие кофточки, пестрые юбки. Толпа тут же растекалась по улицам и переулкам Рамеш-нагара.
Как и в прежние дни, дело здесь находилось для всех, за исключением каменщиков. У въезда в Рамеш-нагар Гобинди прямо на тротуаре открыла свою чайную. Из развалин бывшего поселка ребятишки притащили ей несколько кирпичей да две жаровни. Здесь никого не интересовало, к какой касте принадлежит тот или иной посетитель. Выпить чашечку крепкого чая сюда заворачивали случайные прохожие, водители грузовиков и моторикши. Деревенских можно было определить по тому, что они чувствовали себя здесь явно не в своей тарелке и, прихлебывая чай, хмуро озирались по сторонам. Торговля шла бойко, и Гобинди, как в прежние времена, опять стала сводить концы с концами.
Потеряв надежду найти работу каменщика, Мульрадж упросил хозяина четвертого коттеджа разрешить ему устроиться на задворках и заняться глажением. Из кирпичей соорудил возвышение, застелил его сложенным вдвое стареньким ковриком и притащил внушительных размеров чугунный утюг.
Сын Хиралала приобрел тележку и стал торговать цветами, обосновавшись под деревом у входа на рынок, и тут же рядом, на берегу канала, расположились два сапожника — раньше они были каменщиками. Вместе с прежней жизнью исчезали и кастовые ограничения: ахир уже не считал для себя зазорным гладить чужое белье, а раджпут — шить сандалии и босоножки.
На третий или четвертый день на улицах Рамеш-нагара появилась длинная тощая фигура Чаудхри. После долгих поисков он принял наконец решение: его парикмахерская будет располагаться прямо на тротуаре у самого въезда в Рамеш-нагар. Среди развалин поселка он отыскал большущий плоский камень. Чаудхри повезло: ему попалась уже готовая площадка — часть кирпичного фундамента, валявшаяся почти у самого тротуара. На плоском камне Чаудхри разложил бритвенные принадлежности, а на кирпичной площадке поставил кресло для клиентов. Вечером, заканчивая работу, Чаудхри сдвигал обломок фундамента к стене, а плоский камень прятал в расщелину. «Заперев» таким образом свое заведение, он со спокойной душой отправлялся «домой» — в открытое всем ветрам поле.
Когда он выносил камень из развалин поселка, ему попалось на глаза его собственное старенькое кресло, валявшееся в кустах. Несказанно обрадованный, Чаудхри кинулся в кусты — кресло всегда могло пригодиться. Но оказалось, что у кресла отломаны задние ножки и левый подлокотник — кто-то, видимо, в сердцах швырнул его на землю. Однако Чаудхри было жалко бросать добро: если не удастся починить, можно пустить хоть на растопку — такими вещами не кидаются! Взвалив кресло на плечи, Чаудхри двинулся в обратный путь, но в этот самый миг, почуяв что-то неладное, чаукидар, сидевший у входа, стал колотить своей палкой о землю. Заслышав тревожные звуки, Чаудхри скрепя сердце бросил кресло.
— Это кресло мое, — сказал он, подлезая под колючую проволоку.
— Может, когда-то и было твое, — спокойно возразил чаукидар, — а теперь — казенное.
— Если казенное, то в казну его, что ли, положат, браток? Мне-то оно еще и послужить может, а казне-то зачем оно? — недовольно бубнил Чаудхри. — Чиновник, что ли, сидеть на нем будет?
— Ты не больно задирайся, — угрожающе произнес чаукидар. — А ну иди отсюда. — И, высыпав на ладонь щепоть табаку, чаукидар стал разминать его пальцами.
— Посудину-то эту хоть дашь вынести, или она теперь тоже казенная? — в досаде пнув ногою медный горшок, спросил Чаудхри.
— Бери, мне не жалко, — продолжая разминать табак, поднял голову чаукидар. — Попросил бы как следует, может, и кресло опять было б твое…
Конечно, место, что облюбовал Чаудхри для парикмахерской, было не очень удачное. Неподалеку стояла колонка, откуда с раннего утра до позднего вечера слышались голоса людей и шум льющейся воды, прямо напротив находилась стоянка такси, а за углом — общественный туалет, и, когда дул восточный ветерок, с той стороны весь день несло зловонием. Таксистов на стоянке обычно собиралось много, но все они были сикхи, которые, как известно, никогда не стригутся и не бреются, хинду среди них был только один — тот, что с брюшком, — но и он никогда не посещал заведение Чаудхри. Прямо над головой у парикмахера был прикреплен лист фанеры с рекламой телевидения. Лист был большой, но совершенно бесполезный: ни от солнца не спасал, ни от дождя. Когда ветер задувал сильнее, лист раскачивался и грохотал. Таких щитов по городу развешено было много, кое-где они валялись на земле, сорванные ветром. Когда-нибудь и этот рухнет и тогда непременно свалится ему прямо на голову. Раньше, еще живя в поселке, Чаудхри располагался под священным деревом пипал, листва которого шелестела над головой, и в его благодатной тени дело потихоньку спорилось. Двух своих дочерей он выдал замуж за людей солидных и в возрасте; из настоящего жженого кирпича построил себе домишко, и будь у него в тот день еще один лишний час, то Басанти тоже не удалось бы отвертеться…
Обосновавшись на новом месте, Чаудхри с гордостью разложил на камне свои бритвенные принадлежности и поднял, наконец, голову. Его внимание тотчас же привлек какой-то молодой парень: остановившись рядом с Чаудхри, он бросил на землю свою сумку. Сначала Чаудхри подумал, что это первый клиент пришел побриться, и на душе у него сразу стало радостно. Однако своей внешностью и поведением парень никак не походил на клиента. В руках у него была деревянная табуретка, при одном лишь взгляде на которую у Чаудхри тупо заныло в затылке: наконец-то до него дошло, что парень его конкурент, которому тоже приглянулось это место. Прищурив глаза, Чаудхри окинул парня с головы до ног: пришелец из другой касты, хотя лицо кажется удивительно знакомым — наверно, когда-то в поселке видел.
И Чаудхри не выдержал.
— Земля — достояние божье, браток, — вставая, сказал он и подбоченился, всем своим видом показывая, что не боится парня. — Всякий устраивается, как умеет, никто ему запретить не может, но обоим нам на этом месте не прокормиться. Если мы будем сидеть рядышком, то ни тебе ничего не достанется, ни мне.
— Ну, а я вот пришел, не уходить же, — без тени смущения ответил парень и принялся раскладывать свое имущество.
— Господа-то у нас не стригутся, в настоящие парикмахерские ходят. Молодежь нынче вообще стричься перестала. Кто сейчас приходит к нам? Случайно забредет пожилой человек — и то спасибо.
Однако никакого впечатления на пришельца слова Чаудхри не произвели.
— Ну не уходить же мне, дядя! — повторил парень.
Маленькие колючие глазки Чаудхри буравили непрошеного гостя. Любому доведись — легко не уступит.
— А я ведь все равно не дам тебе обосноваться здесь, — переходя в наступление, повысил голос Чаудхри, рассчитывая, что парень станет спорить, ругаться, полезет в драку, но парень стоял спокойно и только улыбался.
Маленькие глазки Чаудхри опять буравили конкурента.
— Не забывай, что я ахир, сынок! — пуская в ход свой последний козырь, выкрикнул Чаудхри.
— Ты ахир, а я раджпут, дядя! — весело парировал пришелец. — Ахиры по касте выше раджпутов, и работать парикмахерами им не положено. Ахирам на тронах нужно сидеть.
От такой наглости Чаудхри опешил.
— Так, значит, ты не уйдешь отсюда?
— А куда ж я пойду, дядя?
— Я все равно тебя выживу отсюда!
— Это ты мне говоришь, дядя?
У Чаудхри даже жилы на шее вспухли. А вдруг парень одолеет его, что тогда? Возвращаться назад в деревню?
— Ты чей будешь-то? — уже мягче спросил Чаудхри. Угрозами, видно, тут ничего не добьешься. — В поселке, кажется, я тебя не видел.
— Отца моего зовут Манглу, он из раджпутов, только в Дели, дядя, каста ни к чему. Это в деревне, дядя, с кастой считаются. Не обижайся: ты спросил — я ответил. А Дели город большой: тут и ахиров полно, и раджпутов хоть отбавляй.
Чаудхри возмущенно отвернулся. Глаза у него налились кровью. Чтобы скрыть волнение, он стал подкручивать жиденькие свои усики. У него руки чесались при одном только взгляде на эту самодовольную рожу. «Не связывайся с ним, — словно кто-то нашептывал ему на ухо. — Держись от него подальше. Раджпуты — это не свой брат, ахиры. Проглоти обиду, а дальше будет видно».
Однако будто какая-то сила бросила Чаудхри вперед: он схватил сумку парня и швырнул ее через стену. Потом молча отряхнул руки и как ни в чем не бывало уселся на свой камень.
Парень, не двигаясь с места, продолжал улыбаться.
— А ты, я вижу, рассердился, дядя, — проговорил он спокойно. — Сказал бы по-человечески, я б давно перебрался на другое место.
Чаудхри удивленно поднял глаза — парень медленно надвигался на него. Легкая улыбка дрожала в уголках его губ.
— Подними мою сумку и принеси сюда, — произнес парень, подойдя вплотную к Чаудхри. — Принесешь, и я уйду.
«Вот так-то учить вас надо, подлецов! — злорадно подумал Чаудхри. — Ишь, раджпут выискался! Я и не таких еще обламывал!» — И Чаудхри искоса взглянул на парня. Тот по-прежнему улыбался.
— Принеси мою сумку, дядя, и я уйду, — опять проговорил парень.
Поняв, что дело принимает дурной оборот, Чаудхри вскочил — сидеть в таких случаях не годится. Тут сработала, вероятно, привычка, оставшаяся еще от тех времен, когда Чаудхри — а было это в молодые годы — занимался борьбой.
— Сам принесешь, если надо, да проваливай с моих глаз, пока… — Но не успел он закончить, как земля мгновенно выскользнула у него из-под ног. Руки раджпута, словно клещи, взметнули его в воздух и перебросили через низкий забор. Чаудхри опомниться не успел, как уже лежал на земле по другую сторону забора, даже искры из глаз посыпались. Хорошо еще, что земля после дождей оказалась рыхлой.
— Я же в отцы тебе гожусь, бесстыжая твоя рожа! — простонал Чаудхри, лежа на земле. — И с отцом своим так же обращаешься, сукин сын?..
Раджпут стоял на заборе и по-прежнему улыбался.
— Подними мою сумку, дядя. Вон она — перед тобой лежит.
— И откуда только берутся такие выродки? И чему их только учат? Поднять руку на человека, который ему в отцы годится? — схватившись рукой за поясницу, Чаудхри со стоном попытался подняться. Про себя он уже проклинал свою горячность. Ну что ж, кому как повезет: к кому судьба милостива, к кому нет. Он раза два с опаской взглянул на парня, пробормотал что-то и только потом протянул сумку владельцу. Левой рукой принимая сумку, правую парень подал Чаудхри. Тот на миг замер, но потом неохотно взял протянутую ему руку.
— Я уйду, дядя, ты не волнуйся, — проговорил парень, одним движением поднимая Чаудхри и помогая ему перебраться через забор…
Случилось это в первый же день, как он открыл «парикмахерскую». Парень ушел, а Чаудхри, чтобы привести в порядок свои чувства, кряхтя уселся на прежнее место. Он положил ногу на ногу, вытащил из кармана рубахи бири, не спеша прикурил и с наслаждением затянулся, сосредоточенно глядя перед собой.
Но сегодня его поджидала новая неприятность. На дереве, что возвышалось напротив, с самого утра тревожно каркала ворона. Поначалу Чаудхри не обращал на нее никакого внимания. Раза два ворона срывалась с ветки и, не переставая каркать, перелетала на рекламный щит, что висел над самой его головой. Однако и тогда Чаудхри не удостоил ее взгляда. Он впервые обратил внимание на вещунью лишь после того, как проклятый раджпут, собрав свои пожитки, уже исчез за углом, а сам он, сидя на камне, мысленно проклинал выпавшие на его долю тяжкие испытания.
— Непременно явится кто-то, — пробормотал Чаудхри. — Кто бы это мог быть? Один уже явился — чуть кости не переломал. Кто бы все-таки это мог быть? Может, полицейский?
При одной лишь мысли об этом Чаудхри вздрогнул, и первым его побуждением было поскорее собрать и уложить в сумку бритвенный прибор. Заявись полиция, он сделает вид, что оказался тут случайно. Чаудхри взглянул на дерево, и, точно поймав его взгляд, ворона склонила голову набок и прокаркала три раза подряд, будто предупреждая его о чем-то. Чаудхри даже затрясло от ярости. Снять бы башмак да запустить в проклятую ворону! Жаль только, нельзя — примета плохая. Не вставая с камня, Чаудхри чиркнул спичкой, поднес ее к концу погасшей бири, затянулся, и в этот самый миг со стороны общественного туалета послышался знакомый стук посоха о тротуар. Тяжело припадая на правую ногу, улицу пересекал портной Булакирам.
Да, это был именно он, Булаки, которого Чаудхри прочил в зятья. Постукивая по тротуару увесистой тростью с железным наконечником, Булаки ковылял вдоль ограды, явно направляясь в его сторону. В светло-бежевом пиджаке и бледно-розовом тюрбане он и теперь все еще выглядел как жених. При виде портного сердце у Чаудхри ушло в пятки. «Бежать! Скорей!» — мелькнуло у него в голове. Окурок бири упал на землю. Левой рукой прикрыв лицо, правой Чаудхри стал лихорадочно собирать разложенные на камне бритвенные принадлежности, но трость портного ударяла об асфальт где-то уже совсем рядом. Чувствуя, что улизнуть все-таки не удастся, Чаудхри воскликнул:
— О! Кого я вижу! Булакирам! Иди сюда, дорогой! А я-то думаю, что это с самого утра ворона каркает. Непременно, думаю, гость пожалует.
Не отвечая на приветствие, Булакирам подошел к нему и остановился. Всем своим видом он походил на коршуна, который на какой-то миг замер вдруг, прежде чем наброситься на жертву.
— Где дочь? — сквозь зубы процедил портной.
Глава 4
Велосипед катился по асфальту. Конечно, не так быстро, как показывают в кино, но все равно было здорово. Басанти очень хотелось, чтобы велосипед покатил наконец под гору быстро-быстро, и тогда, сидя на багажнике, она могла бы взмахнуть руками, будто вольная птица крыльями, — ну, совсем как героини тех фильмов, что она видела, — а велосипед бы несся вниз все быстрее и быстрее.
Басанти словно играла главную роль в кинокартине, единственным зрителем которой была она сама, — она была героиней и зрителем одновременно. Действие захватывало ее, возбуждая в ней все больший интерес и как зрителя, и как героини. Нет, нет, это совсем не представление, это жизнь, но сама она уже не Басанти, а настоящая героиня — такая же, каких она видела в кино, с той лишь разницей, что в кино актриса ничем не рискует и храбрость у нее наигранная, в то время как Басанти по-настоящему храбрая, потому что она многим рискует и ей грозят вполне реальные опасности.
А велосипед все катится и катится.
— Давай повернем сюда, — подает голос Басанти, — проедем этим переулком.
— Не стоит. Там дхоби с женой. Еще узнают тебя.
— Ну и пусть. Поворачивай.
Велосипед поворачивает в переулок. Сердце у Басанти колотится часто-часто. Проезжая мимо домишка дхоби, велосипедист прибавляет скорость. Сам хозяин гладит какую-то красную одежду, а хозяйка сидит рядом и, подперев голову руками, равнодушно смотрит перед собой. Когда велосипед проносится мимо мазанки, Басанти неожиданно прыскает и заливается звонким смехом. Жена дхоби вскидывает голову и смотрит вслед велосипеду. Прикрыв лицо концом тюрбана, Басанти все еще продолжает смеяться.
Когда переулок остается позади, Басанти показывает рукой, что надо повернуть направо, к молочной лавке.
— Там твоя мать сидит, — бросает через плечо велосипедист. — Я еще утром ее заметил. Увидит — плохо тебе будет.
— Ничего не будет, поворачивай.
У молочной лавки действительно сидит ее мать в замызганном, грязном сари. Вид у нее такой, будто ее только что вываляли в пыли. Рядом с нею стоит корзина с пустыми бутылками. На двери еще висит замок: как видно, мать приходит сюда задолго до открытия.
Когда они проезжают мимо лавки, Басанти презрительно отворачивается.
Миновали дом номер четыре. Справа начинался забор: там школа. Ровный ряд аккуратных двухэтажных коттеджей остался позади. Захватывающее ощущение риска кружит Басанти голову.
— Ты куда? — окликает она сзади. — Давай повернем. Поедем здесь.
— Где здесь?
— Мимо стоянки такси.
— С ума сошла, что ли? А если отец увидит?
— Ну и пусть. Едем здесь.
Проскочив мимо длинного забора, у общественного туалета завернули за угол и чуть не налетели на Чаудхри, который брил клиента. При виде отца у Басанти заныло под ложечкой и задрожали колени. Боже, что она натворила? Заметит — несдобровать ей. Отец распрямился и, держа в руке намыленную кисть, устало взглянул на улицу. И тут прямо перед его носом проскочил велосипед. Прикрыв лицо концом тюрбана, Басанти краешком глаза испуганно взглянула на отца. Крохотные глазки Чаудхри негодующе посмотрели вслед велосипедисту, он что-то прошипел, но, к счастью, не узнал дочь, сидевшую на багажнике, и велосипед покатил дальше. Когда опасность миновала, Басанти снова рассмеялась.
— А знаешь, я так перепугалась, так перепугалась… Он глядит на меня — я гляжу на него. Слава богу, не узнал.
Повернув направо и въехав в тень, которую отбрасывало здание школы, велосипедист остановился.
— Почему остановились? — удивилась Басанти.
— Иди сюда, — мрачно произнес велосипедист. — Дело есть.
— Что еще за дело? — нетерпеливо спросила Басанти и, соскочив с багажника, забежала вперед.
— Ну а если б тебя узнали, что тогда? — с напускной строгостью спросил велосипедист. Нахмурив брови, он поднял на нее глаза и тут же расхохотался. Уж очень забавный был у нее вид: на голове — небольшой тюрбан, какие обычно носят сикхские юноши, рубашка навыпуск и модные узкие брюки. На миг ему даже показалось, что перед ним действительно стоит сикхский парнишка. При виде ее никому б и в голову не пришло, что это переодетая девушка.
Когда Басанти решила бежать с Дину, они договорились, что девушка, переодевшись в мужское платье, будет поджидать его на пустыре, который находится за домом Шьямы; Дину приедет за ней на велосипеде, усадит на багажник и увезет. Все так и вышло. Однако, едва Басанти уселась на багажник, сердце захлестнула волна неведомого ей восторга, она почувствовала себя отчаянно храброй, и, вместо того чтобы побыстрее скрыться из Рамеш-нагара, ей вдруг захотелось прокатиться по всем его улицам и переулкам.
— Ну ладно, садись, — с улыбкой проговорил Дину, оглядев ее с головы до пят.
— Давай еще раз прокатимся, — усаживаясь на багажник, попросила Басанти. — Теперь проедем мимо рынка. Да ты не бойся, никто не увидит.
— И себя погубишь, и меня тоже, — бросил через плечо Дину, но, чувствуя, что девушка хочет испытать его, перечить не стал и послушно направил велосипед в сторону рынка.
А в Басанти точно бхуты[15] вселились. Она хотела, чтобы они еще раза два проехали под самым носом у родителей и соседей: полюбуйтесь, дескать, вот я еду на багажнике, а вы мне все равно сделать ничего не можете. Басанти представила себе, что будет, если ее узнают: зашипев от ярости, точно кобра, мать бросится на нее и стащит с багажника. Об отце и говорить нечего: изобьет до полусмерти. Басанти знала — с огнем играет. Однако это ощущение доставляло ей какое-то особенное наслаждение. Они проехали мимо лавки, когда там уже толпился народ, а мать возвращалась домой с корзиной, наполненной бутылками молока. Велосипед промчался, едва не задев ее, и, не удержавшись, Басанти показала ей язык, но, занятая своими мыслями, мать не обратила на них никакого внимания, а Басанти, прикрыв лицо концом тюрбана, весело рассмеялась.
Миновав рынок, они снова стали колесить по знакомым переулкам. У многих здесь доводилось ей работать, и, проезжая мимо коттеджей, Басанти впервые поняла, что покидает эти места навсегда. Вот позади остался дом господина Харгопала. Когда хозяйка проснется, то первым делом обнаружит на кухне гору грязной посуды. «А Басанти точно сквозь землю провалилась», — скажет она в сердцах. Басанти представила себе лицо хозяйки, и ей вдруг стало весело. Когда проезжали мимо дома тетушки Шьямы, Басанти мельком взглянула вверх — на балконе никого не было. Тетя Шьяма, наверно, еще спит. И невдомек ей, что Басанти навсегда уезжает от нее. Во дворе стоит манговое дерево — ни одна веточка не шелохнется, а вокруг все усыпано сухими листьями. И при виде дерева Басанти вдруг словно услышала голос Шьямы: «Слезай, Басанти! Кому я говорю, слезай!» — и ей почему-то стало немножко грустно.
Но дерево давно осталось позади. Теперь они проезжали мимо особняка, где жил врач, и в ушах Басанти будто звучит ее собственный голос: «Найдите-ка меня! Где я спряталась?» А супруга доктора, уперев руки в бока и не двигаясь с места, сердито отчитывает ее: «Где б ты ни спряталась, выходи сейчас же. Мне совсем не нравятся эти твои штучки…» Когда Басанти впервые пришла сюда, она была совсем еще глупышка. Ей вдруг захотелось поиграть с хозяйкой в прятки. «Глаза у тебя, Басанти, как у лесной лани, — подбоченясь, выговаривала ей тогда жена доктора, — однако лань — животное благородное и умное, а у тебя одни только глупости на уме».
Знакомые дома и предметы проплывали мимо и оставались позади — ну точь-в-точь как будто едешь в поезде: то, что однажды промелькнуло за окном, во второй раз уже не увидишь.
Сделав разворот у дома номер восемь, велосипед снова покатил в сторону особняка, где жила Шьяма. Поравнявшись с домом, Басанти взглянула на балкон. Там по-прежнему никого не было. Тетя Шьяма прилегла после обеда. «Если днем не вздремну часок-другой, головная боль, начинается», — обычно говорила она. А интересно, узнала бы она Басанти, если б оказалась на балконе? Ведь она еще спала, когда Басанти переоделась в мужское платье и уехала на багажнике велосипеда. Неужели и в этом наряде Шьяма узнала бы ее? И вдруг на балконе появилась тетушка Шьяма. Протерев глаза и убрав со лба выбившуюся прядь волос, она оперлась локтями о перила балкона и посмотрела вниз. У Басанти даже сердце замерло от страха. Она тотчас же отвернулась, но любопытство одолело, и она снова подняла голову кверху. Убедившись в том, что ее не узнали, Басанти очень огорчилась. И ей вдруг захотелось крикнуть: «Да взгляните вы сюда, тетя Шьяма! Это же я, Басанти! Это же я еду на багажнике!» — но она удержалась. Повернув голову и чуточку склонив ее набок, Шьяма внимательно смотрела им вслед. Сердце Басанти снова захлестнула волна восторга, и она помахала Шьяме рукой. Она все еще махала, когда велосипед свернул за угол.
И Басанти вдруг стало грустно. Кто знает, куда она едет и когда вернется, если вообще когда-нибудь вернется? И доведется ли увидеться с тетей Шьямой еще раз?.. Нет, нет, она непременно вернется сюда, чтобы специально повидаться с ней. Она тайком проберется с заднего хода и на цыпочках прокрадется в гостиную, где тетя Шьяма в это время будет смотреть телевизор. Заметит ее, перепугается. «Ты зачем явилась, бесстыдница? — закричит она, вскакивая. — Тебя никто не видел?» Тетя Шьяма давно уж исчезла из поля зрения. Ну и хорошо, что не узнала. Если б узнала, ух как рассердилась бы! А все-таки обидно… Так и не узнает она, что Басанти на прощанье дважды проезжала под ее балконом.
У булочной Басанти заметила свою старшую сестру. Вместе с тремя ребятишками — мал мала меньше — она пришла сюда за сухими лепешками. Басанти поспешила отвернуться: если мать не признала, то сестра не ошибется, а узнает — в два счета продаст. Старенькое сари на сестре — грязное, того и гляди расползется, зубы желтые, давно не чищенные, глаза постоянно гноятся. Ребятишки неухоженные, немытые. Вот так вчетвером и ходят целыми днями по улицам. От усталости она еле ноги волочит. Кое-как перебивается: в одном доме посуду почистит, в другом — пол вымоет или двор подметет.
А вон спешит ее муженек — заросший грязью старый бездельник. Явился, наверно, отбирать у жены заработанные гроши. Он каждый день отбирает у нее деньги, и, стоя посреди переулка, они долго спорят и ругаются.
Басанти перевела взгляд на взмокшую на спине рубаху велосипедиста, и по всему ее телу вдруг пробежали мурашки, а шея и лоб покрылись испариной. Он очень нравился ей, верный ее поклонник, она даже гордилась им: в отличие от замызганного мужа сестры Дину чистюля и у него свой собственный велосипед. И Басанти ласково погладила его спину.
— Чего тебе?
— Ничего.
— Совсем ничего?
— Совсем ничего.
— Тогда сиди спокойно.
— Я и так сижу спокойно.
И она взглянула на его затылок. Волосы у Дину были тонкие-тонкие и черные, с чуть заметным сизым отливом. Этот хрупкий на вид парень нравился ей все больше и больше. «И не старый», — с гордостью подумала она.
— Проедем еще раз мимо стоянки такси, — попросила она.
— Нет, — решительно заявил Дину.
— Ну последний раз…
— И не проси.
Вырвавшись наконец за пределы Рамеш-нагара, велосипед покатил по широкой улице.
Вечерние тени уже ложились на землю, когда они миновали высокие ворота и въехали на широкую аллею. Городской шум стал глуше — они будто погрузились в тишину. У Басанти было ощущение, что все переменилось сразу же после того, как велосипед дернулся на последней выбоине. Привычная жизнь осталась позади, Басанти почувствовала себя так, словно вошла в чей-то чужой, незнакомый двор и еще неизвестно, что ждет ее здесь. Но как бы там ни было, она совершенно свободна, и от сознания свободы в душе ее вновь прокатилась теплая волна.
По обе стороны аллеи застыли высокие развесистые деревья джамун. За ровным строем деревьев, словно сгустки тьмы, виднелись близко поставленные друг к другу двухэтажные здания.
«Знакомые места, — подумала Басанти. — Знакомые. Улочка, что направо, ведет прямиком к кварталу Махешпури. Туда даже автобус не ходит. А вон там — биржа труда. Знакомые места. Когда-то мы ходили сюда, чтобы нарвать плодов джамуна».
— А ты не очень-то крути головой, — обернувшись, предупредил ее Дину. — Никто не должен знать, что приехала девушка.
— Но девушка-то в обличье парня! — прощебетала Басанти.
Вдалеке показался шедший навстречу лимузин. Басанти вся похолодела от страха и что было сил ухватилась за багажник. Лимузин с легким шорохом промчался мимо.
— Это машина управляющего, — объяснил Дину.
План побега на велосипеде предложила сама Басанти. Что будет с ней после, об этом она как-то не задумывалась. Куда ее везет Дину, где намерен спрятать от людских взоров и как сложится ее дальнейшая судьба, она не имела ни малейшего представления. Въехав в аллею, Дину стал еще осторожнее, он косо поглядывал на каждого попадавшегося навстречу рассыльного или клерка.
— Ночью тут чаукидар обход делает, — предупредил Дину. — Никогда не попадайся ему на глаза.
Справа показался белый двухэтажный коттедж. Вытянувшиеся длинным рядом окна первого этажа были ярко освещены.
— Это библиотека, — пояснил Дину. — По вечерам сюда приходят заниматься.
— А я знаю, — отозвалась Басанти. — Здесь где-то неподалеку цветочные клумбы. Мы сюда за цветами ходили.
Они проехали еще немного и слева действительно увидели клумбы. Воздух был напоен ароматом цветов.
— Тут одни только розы, — с гордостью в голосе проговорил Дину.
— Может, нарвем?
— Рвать цветы здесь не разрешается. Категорически запрещено.
— А кто увидит? На улице почти совсем темно.
— Нет, лучше не надо.
Однако Басанти уже соскочила с багажника, пересекла аллею и оказалась около клумб.
— Ты что делаешь? — крикнул Дину. — Вернись сейчас же! Не смей ходить туда!
Дину спрыгнул с велосипеда и, прислонив его к придорожной тумбе, бросился следом. Но пока он нагнал ее, она успела сорвать несколько крупных роз.
— Ты что делаешь, сумасшедшая? — накинулся на нее Дину. — Тут постоянно садовник на страже. Чаукидар тоже следит за клумбами.
— Ну, следит — и пусть себе следит, — упрямо тряхнув головой, беззаботно отвечала девушка и, облюбовав еще три цветка, быстро сорвала их. — А без цветов какая же свадьба? — проговорила Басанти, намереваясь воткнуть одну розу себе в прическу, но, вспомнив, что она одета в мужское и на голове у нее повязан тюрбан, сунула цветок за ухо.
— Ну как, нравится?
— Что нравится?
— Цветок, что ж еще? А ты что думал?.. Конечно же, нравится! Вот дочка тети Прамилы тоже очень любит цветы. Смотришь, бывало, у нее и в волосах цветы, и за ушами. А в кино, что показывали по телевизору, цветами любит украшать прическу Хема Малини[16]. — И Басанти звонко рассмеялась.
— Значит, ты тоже как Хема Малини?
— А чем я хуже? — задорно воскликнула Басанти.
— Не шуми. Говори потише.
Басанти выпрямилась и, подбоченившись, внимательно взглянула на Дину. На небе появилась луна, и, словно радуясь встрече с ней, бутоны роз раскрылись, наполнив воздух нежным ароматом. Басанти стояла перед Дину и смотрела на него — в лунном свете он казался ей дивным красавцем. Каждая частица ее тела трепетала от волнения, а на верхней губе мелким бисером блестели капельки пота. Она была намного ниже Дину и, одетая в мужское, стала похожа на подростка. А Дину долго глядел ей в лицо, потом перевел взор на грудь, которая в такт дыханию то поднималась, то опускалась под тонким полотном рубахи.
— Что же ты делаешь? Поймают — меня ведь со службы выгонят.
Но переубедить ее было невозможно.
— Никто ничего не скажет, — беззаботно махнула рукой Басанти. — Спросят — скажу, что приехала с мужем. А вот этот человек — мой муж, — ткнув Дину пальцем в грудь, сказала она и расхохоталась. — Ты мой муж, так ведь? — И она стала водить пальцем по его узкой груди. — Мой муж! Это мой муж! — повторяла она и радостно смеялась. Встав на цыпочки, Басанти приладила розу ему за ухо. — Ты сразу еще красивей стал!
В глазах Дину все это было капризами взбалмошной девчонки, а для Басанти — естественным проявлением радости, которая переполняла все ее существо. Она гордилась тем, что перед нею не старая уродина портной, которому хотел продать ее отец, а молодой красивый парень, и убежала она с ним по собственной воле: она сделала то, на что не могла решиться ни одна из ее сестер.
— Идем отсюда, — тоном приказа проговорил наконец Дину, и Басанти последовала за ним, на ходу заворачивая сорванные цветы в конец тюрбана.
— Ого! Уже приказывать начал! — смеясь ответила Басанти.
Сев на велосипед, Дину почувствовал себя гораздо свободнее, чем прежде. Близость юной Басанти околдовывала его: сомнения рассеивались, служебные правила не казались столь строгими, а суровая действительность постепенно окрашивалась в розовые тона.
До студенческого общежития было еще далеко, но Дину остановил велосипед и сказал, чтобы она слезла.
— Пройдешь через эту площадку и подождешь вон под тем деревом.
— А ты? — удивленно спросила Басанти.
— А я поеду по улице дальше. То дерево на заднем дворе общежития, — пояснил Дину. — Дойдешь туда — смотри внимательно: направо в самом углу моя комната. А я тем временем открою дверь и зажгу лампу. Зажгу и тут же погашу ее. Это сигнал. Иди прямо на свет, выйдешь к веранде. Если кто окликнет — не отзывайся. Дверь будет открыта. Входи без стука.
— Хорошо.
Дину поставил ногу на педаль и тут же исчез в сгущающемся вечернем мраке.
Оставшись одна, Басанти немножко перетрусила. Кругом не было ни души. Несколько минут она стояла в нерешительности. Впервые за все это время она поверила наконец, что с прошлым покончено навсегда и через дверь комнаты, где живет Дину, она скоро вступит в свое будущее. Любопытно, увлекательно, заманчиво, но тревожно и немножко страшно. Она не привыкла задумываться над тем, как сложится ее судьба, но вместе с тем ей никогда прежде не доводилось оставаться один на один с неизвестностью, когда с неведомым будущим ее связывает одна лишь тоненькая нить. И двухэтажное здание студенческого общежития вдруг показалось ей еще более таинственным. Напрягая зрение, она смотрела в дальний угол первого этажа. Две крупные слезы незаметно скатились по ее щекам.
Басанти познакомилась с Дину всего несколько недель назад, но их взаимное влечение росло с каждой встречей. Впервые она увидела Дину в тот самый день, когда хозяева трехэтажного особняка под номером одиннадцать справляли свадьбу дочери. Басанти пригласили туда мыть посуду, а Дину готовить угощенье. Шутка ли — накормить две сотни гостей. Все слуги называли его тогда не иначе как Дину-велосипедист. Грязной посуды набралась целая гора. Усевшись на корточки, Басанти старательно мыла каждую тарелку, как вдруг кто-то строго прикрикнул на нее:
— Побыстрей, побыстрей шевели руками! Так дело не пойдет!
Басанти недовольно оглянулась. За ее спиной стоял Дину.
— За это время можно двадцать тарелок вымыть, — продолжал отчитывать Дину, — а ты с пятью еле-еле управилась.
— А ты сам попробуй, — огрызнулась Басанти.
К ее удивлению, Дину уселся на корточки рядом и принялся мыть посуду: тарелки так и мелькали у него в руках. Он принес большой таз с горячей водой и свалил в него всю грязную посуду: тарелки, соусники, ложки. Сноровисто выхватывая из таза тарелку или соусник, он натирал их смоченной в мыльном растворе тряпкой и откладывал в сторону.
— Ты ополаскивай чистой водой, да побыстрее.
— А почему это я должна ополаскивать? Ты же моешь посуду, вот и ополаскивай.
Он удивленно взглянул на нее своими большими глазами, и Басанти, не вступая больше в пререкания, принялась домывать посуду под струей воды из колонки, стоявшей рядом. Не прошло и нескольких минут, как гора грязной посуды была перемыта.
Дину говорил мало, и, хотя работа так и кипела в его руках, ни одна капля не попала на одежду. Когда, перемыв всю посуду, он поднялся, его рубаха и брюки по-прежнему были чистыми.
— А ты приходи каждый вечер, — со смехом сказала Басанти, — будешь мне помогать.
— Мыть посуду — не мое дело.
— А какое у тебя дело? Отдавать приказы?
Дину не ответил ей. Он действительно был не из разговорчивых. Все это время говорила Басанти. Дину вытер руки, молча повернулся и ушел. Молчаливый чистоплотный парень понравился девушке.
К вечеру перед Басанти снова лежала груда грязной посуды. К тому же надвигались сумерки, и Басанти совсем растерялась: даже если колонка рядом, мыть посуду в темноте просто невозможно. Среди тех, кто толпился у входа, поджидая момента, чтобы вовремя подхватить с тарелки недоеденный кусок или горстку риса, находилась и ее мать, но в отличие от других она сидела в стороне, надеясь, что дочь сама догадается и вынесет ей несколько лепешек. Галдеж стоял невообразимый. И в это самое время перед нею снова возник Дину. Не говоря ни слова, он притащил ведро горячей воды и, усевшись рядом, начал мыть посуду.
— Ополаскивай под краном, — бросил он Басанти. В голосе его слышались начальственные нотки. — Погоди, — вдруг остановил он ее, — лучше принеси-ка таз: он там под столом стоит, и сложи в него грязную посуду. В тазу мыть удобнее.
Басанти молча подчинилась.
Дину работал проворно и ловко — Басанти даже невольно залюбовалась. Это скучное занятие вдруг показалось ей интересным и увлекательным.
— А ты парня-то видел? — спросила Басанти.
— Какого парня?
— Ну, того… жениха.
— Нет, не видел.
— А я уже видела, — сказала Басанти и засмеялась. — На тебя немножко похож. Такой же жиденький. А глаза большущие… как у совы. — И, довольная шуткой, Басанти расхохоталась. Отложив в сторону тарелку, Дину вдруг замер, хмуро взглянул на нее и, не сказав ни слова, вновь принялся за дело. Он действительно был худощавый и тонкокостый. Закатав рукава своей белой рубахи, Дину продолжал заниматься делом. Смущенная Басанти несколько раз украдкой окидывала его взглядом.
— Тебе принести поесть? — наконец, решившись, спросила она.
— А где ты возьмешь? — ответил Дину. — Гостей-то сколько, их всех еще накормить надо.
— А я вынесу потихоньку, — кивнув на стоявшую рядом корзину для грязной посуды, сказала Басанти.
— Я тебе вынесу! Все зубы пересчитаю!
— А я тебе такую оплеуху отвешу, что ты все свои зубы проглотишь! — И довольная Басанти звонко расхохоталась.
— Иди-ка ты лучше занимайся делом, нечего трещать тут.
Как только свадебные торжества были закончены, Дину вдруг исчез и не появлялся в Рамеш-нагаре недели две. Басанти увидела его, когда однажды под вечер сидела во дворе у тетушки Шьямы. Дину на своем велосипеде колесил по переулкам Рамеш-нагара. Заметив Басанти, он подъехал к ней и соскочил с велосипеда.
— Ну что, меня искал? — засмеялась Басанти. — А я сижу и жду… с того самого дня.
— Я постоянную работу получил.
— Где?
— Да тут неподалеку, в студенческом общежитии.
— У тебя и так работа была — свадьбы обслуживать. Зачем же бросил?
— Да разве ж это работа? Сегодня есть, завтра — нет. А теперь у меня постоянная работа. Мне даже комнату дали.
— А что ж ты раньше думал? Может, спал за рулем, как сова на ветке? — потешалась над ним Басанти. — У нее ведь тоже так: глаза выпучены, а ничего не видит…
Басанти даже закатилась от хохота и, ухватившись руками за живот, повалилась на землю. Не отводя от нее глаз, Дину недовольно хмурился…
А сейчас, стоя под деревом, затерянная в ночи, Басанти смотрела на общежитие, где работал Дину. В руках у нее был букет цветов и сумочка, куда в спешке она сунула все свое имущество — две юбки да две кофты.
Наконец в комнате Дину загорелся свет. И по всему ее телу прокатилась горячая волна — волна радости, восторга, безграничного доверия к Дину. Как только свет в окошке погас, Басанти тотчас же оставила свое убежище и направилась к общежитию.
Долго плескались и ныряли они в море охватившего их восторга. Переполненная счастьем Басанти уснула только под утро.
До комнаты, где ждал Дину, она добралась в считанные секунды. Перепрыгнув через перила, на цыпочках пробежала по веранде. Осторожно потянув на себя дверь, она скользнула внутрь и плотно прикрыла ее за собою. Дину в комнате не было. Басанти тихонько позвала его и, не получив ответа, решила, что его вызвали по неотложным делам. В комнате стоял запах табачного дыма и сырости. Не зажигая света, она попыталась рассмотреть, что находится в помещении. Ногой нащупала ножку кровати. На кровати расстелен коврик, валяется какая-то одежда. Постепенно глаза привыкли к полумраку комнаты — оконце ее выходило на освещенное пространство перед общежитием, — и теперь уже она могла различить неясные очертания предметов. Басанти уселась прямо на полу в уголке и стала терпеливо поджидать Дину.
Из окон общежития слышались голоса. Откуда-то доносился звон посуды: там, наверно, находятся столовая и кухня, где работает Дину. Капала вода из неплотно привернутого крана. Кто-то, напевая песенку, прогуливался по веранде: голос звучал то громче, то становился глуше. Слова песенки были знакомые:
Мне достался муж-старик, Мне достался муж-старик…Басанти беззвучно рассмеялась. Эту песенку она сама постоянно напевала. Теперь ее поет вся молодежь Дели. И в душе Басанти снова поднялась волна радости.
Что мне делать с муженьком, С этим старым дураком? —еле слышно закончила она и засмеялась. Сейчас уж до нее никто не доберется — ни отец, ни мать. Она выскользнула из их лап. Басанти захотелось вдруг закурить. Из кармана рубашки она достала бири и уже было собралась зажечь спичку, но вовремя спохватилась. С улицы могут увидеть свет, и тогда Дину рассердится, начнет выговаривать, зачем зажигала. Басанти отложила спички в сторону и несколько минут сидела молча. Потом ей с новой силой захотелось хоть один раз затянуться горьким дымом. «Я же в уголке сижу, и меня никто не видит, — подумала она. — Комната закрыта, кто сможет увидеть меня тут?» Басанти чиркнула спичкой и с наслаждением затянулась. Она дала спичке догореть и в слабом ее свете успела рассмотреть убранство комнаты. На палке, прикрепленной над кроватью, висели широкие белые штаны, на подоконнике стоял кувшин с длинным узким горлышком, к стене прислонен велосипед, рядом с дверью — низкая деревянная кровать. Она успела заметить даже разбросанные по полу окурки.
Сделав несколько затяжек, она погасила бири, осторожно ступая по полу, добралась до оконца, сняла с горлышка кувшина стакан и, наполнив до краев, с жадностью выпила. Как здорово, когда есть холодная вода! Она и не думала, что ей вдруг так захочется пить.
Передвигаясь почти неслышно, Басанти подошла к кровати. Присела на краешек, потом, словно испугавшись чего-то, вскочила и, опустившись на пол, оперлась спиной о ножку. Ей захотелось еще раз чиркнуть спичкой, чтобы внимательнее рассмотреть обстановку комнаты. Она сунула руку в карман, где лежали спички, но передумала и пробормотала:
— Ладно, оставим, а то еще рассердится! — Помолчав, добавила: — Меня бросил в потемках, а сам смылся куда-то!
Но на сердце у нее было светло и радостно: она любила Дину и ей нравилась эта комната, которую она рассматривала при свете спички, она ее уже считала своею. И сидеть на полу, опираясь о ножку кровати, ей тоже нравилось. У Басанти было такое ощущение, будто в душе что-то ломается и сразу же возникает нечто новое — ну точь-в-точь как у дерева: бесшумно падают вниз пожелтевшие листья и тут же прорастают зеленые побеги. Что-то, отмирая, уходит из души навсегда, что-то, неведомое раньше, пробуждается. «В комнате я приберу завтра, все перестираю, наведу чистоту», — подумала она и сонно улыбнулась.
Так и не дождавшись Дину, она уснула, переполненная захлестнувшими ее новыми чувствами.
Она проснулась, когда чьи-то руки нетерпеливо пробежали по ее телу и стали ласково гладить его.
— Кто тут? — испуганно выдохнула она и, уронив что-то в потемках, вскочила. Спросонья Басанти не сразу поняла, где она и почему вокруг такая непроглядная темнота.
— Не шуми, услышат! — прошептал ей на ухо Дину.
Узнав голос Дину, Басанти облегченно вздохнула. Она опустилась на прежнее место и, прижавшись щекой к острой коленке Дину, снова погрузилась в сон.
— Ты где так задержался? — пробормотала она.
Не отвечая, Дину крепко обнял ее. Раньше ее никто так не обнимал. Она делала слабые попытки вырваться. Когда она ходила мыть посуду, в некоторых домах хозяева, будто ненароком, тоже пытались обнять ее, и она еще долго потом ощущала над самым своим ухом тяжелое сопенье стоящего рядом человека. И бьющий в нос запах мужского пота. Если Басанти замечала устремленный на нее взгляд влажных, похотливых глаз, она вздрагивала и под любым предлогом старалась поскорее убежать. Но сейчас все было по-другому: когда Дину обнимал ее, ей было жутко и невыразимо приятно, словно она входила в теплые, ласковые волны океана, и чем глубже она погружалась, тем больше охватывала ее блаженная истома.
Неожиданно, словно очнувшись, Басанти оттолкнула Дину и вскочила.
— Вставай! Вставай!
— Что случилось?
— Вставай, говорю тебе! — настойчиво повторила девушка и, протянув в темноте руку, растрепала его волосы.
— Что случилось, Басанти?
— Можно включить свет?
— Нет, нет, что ты!
— Все равно вставай!
— Не шуми. Вдруг услышат.
— Никто не услышит. Вставай.
Держась за край кровати, Дину наконец встал.
— У тебя тут есть изваяние божества?
— Что-что?
— Изваяние божества!
— Ты что, спятила? Откуда у меня это?
— Ну, может, картинка найдется? Ну, картинка, где бог изображен?
— Что ты болтаешь, Басанти?
— Не говори так! — строго сказала Басанти. — Мы с тобой будем мужем и женой только после того, как станем рядом перед ликом всевышнего, сложим руки… вот так, лодочкой, и низко поклонимся ему. Потом мы поставим друг другу на лоб тику — знак счастья… Ну, так есть у тебя картинка, где изображен бог?
И тут вдруг Дину вспомнил, что у него в шкафу лежит настенный календарь, и на самом первом его листе — картинка с изображением Кришны. Он вытащил календарь из шкафа.
— В игрушки решила поиграть? — усмехнулся Дину.
— Это совсем не игрушки.
— А что ж еще? Разве так свадьбы справляют?
— Что это ты там вытащил?
— Календарь. Здесь изображен Кришна.
— Наконец-то! — радостно воскликнула Басанти. — А теперь выйдем.
— Это куда еще? Ты, я вижу, совсем спятила, Басанти!
— Выйдем на веранду. Да не бойся ты — ничего не случится. Все давно уже спят.
Басанти действительно будто помешалась.
— Погоди. Сначала набери из кувшина воды — прополощи рот. Я тоже прополощу.
Дину давно уже испытывал неодолимое влечение к Басанти, и с каждой минутой это чувство становилось все сильнее. В душе он проклинал причуды Басанти, но возражать ей или тем более вступать с нею в пререкания не решался. Поэтому он молча выполнял все, что она требовала.
Набрав в пригоршню воды, они сполоснули лица, а Басанти еще смочила волосы — так обычно делают бенгалки, — потом, взволнованная, медленно подошла к Дину.
— Возьми в руки картинку, где нарисован всевышний, и мы оба выйдем на веранду. Сейчас там нет ни одной живой души.
Дину взял в руки календарь, и они вышли на залитую лунным светом веранду. Еле слышно шелестели листья под легкими порывами прохладного ветерка. Оглядевшись, Басанти поставила надорванную картинку с изображением божества в нишу.
— Становись лицом к нему… вот так, — вполголоса приказала Басанти.
Криво улыбаясь, Дину стал лицом к нише.
— Сложи руки… вот так.
Дину тряхнул головой и сложил руки лодочкой.
Басанти торжественно совершала свадебный обряд, который ей не раз доводилось видеть в кинофильмах и без которого — она свято верила в это — мужчина и женщина не могут стать мужем и женой.
Неожиданно Басанти побежала в комнату и, отыскав брошенный на кровати букет, быстро вернулась, держа в руках цветы. Одну розу она подала Дину.
— Эту розу вставь мне в волосы.
Дину молча покорился.
— Одним цветком каждая женщина украшает волосы, — волнуясь, проговорила Басанти. — А два цветка в прическе бывают только у невесты. — И она вложила в руку Дину вторую розу.
Дину уже порядком надоела эта игра. Близость Басанти сводила его с ума, но он молча принял розу и осторожно вставил ей в прическу.
— Теперь красной краской проведи мне по пробору. У тебя есть красная краска?
— Ну, хватит, хватит, а то уж слишком. Пойдем в комнату.
— Не смей говорить так, стоя перед ликом всевышнего… Отныне я — твоя жена, а ты — мой муж!
Ошеломленный Дину молчал.
Поднявшись на цыпочки, Басанти осторожно приладила две розы в густую шевелюру своего избранника, потом оборвала лепестки с оставшихся роз и осыпала ими себя и Дину.
Залитое луной лицо Дину, застывшего посреди пустой веранды, было красивое и строгое, точно высеченное из мрамора. Беря его под руку и прижимаясь к нему, Басанти тихо проговорила:
— Теперь возьми мою руку и никогда больше не отпускай ее!
Эту фразу она слышала в каком-то фильме.
И подражание героиням виденных кинофильмов, и детская игра в жениха и невесту, и настоящий брачный обряд, и свойственное каждой женщине трепетное ожидание счастья — все это причудливо переплелось в только что закончившейся церемонии. На усыпанном звездами небе сияла полная луна, все вокруг, залитое ее серебристым светом, казалось удивительным и немножко таинственным.
Глава 5
Из прежних членов панчаята остался теперь один Мульрадж — как и прежде, говорил он мало, только изредка покачивал головой в высоком тюрбане. Дела в новом панчаяте не ладились. После того как поселок снесли, а людей на грузовиках вывезли за город, в лагере, что возник на открытом поле милях в пяти от городской черты, осталось меньше половины прежних обитателей поселка — другие разбрелись, найдя прибежище в разных концах Дели. Те, кто обосновался тут, с рассветом отправлялись в город на поиски работы. В двух фарлангах[17] от лагеря проходило шоссе, и если выйти пораньше, то можно было попасть на рейсовый автобус или доехать на попутном грузовике. До ближайшей колонки было не меньше фарланга: люди ходили туда за водой, там же выясняли отношения, случалось, возникали скандалы, нередко доходившие до рукопашной. В поле, что простиралось вокруг, росло всего два дерева. Рядом с лагерем гордо возвышалось развесистое дерево ним, в тени которого целыми днями — с раннего утра до позднего вечера — сидели древние старухи, немощные старики да дети. Второе дерево было все какое-то искореженное и изломанное. Стояло оно на другом конце поля, рядом с тропинкой, что вела к шоссе. При одном только взгляде на искореженного великана, неожиданно возникавшего рядом с тропкой из мрака ночи, у припозднившегося путника от страха по спине невольно пробегали мурашки. Днем земля раскалялась, порой проносились пыльные смерчи, а ночью порывами налетал душный суховей. Однако обитатели не сидели сложа руки. Они тащили в лагерь глину, цемент, битый кирпич, камни, и вскоре посреди поля возник десяток плотно жавшихся друг к дружке мазанок. Перед входом в мазанки играли полуголые ребятишки, женщины раздували огонь в печах; здесь же в поле, отойдя чуть в сторонку, справляли большую и малую нужду. Дверные проемы были завешены старенькими циновками. Жизнь постепенно входила в привычную колею: в новом поселке уже успели справить две свадьбы. Как и прежде, женщины возвращались домой с песнями. А когда задувал обжигающий суховей, дряхлый старик — отец Будхраджа, — подняв глаза к зеленой кроне нима, шамкал беззубым ртом:
— Видно, швятой шадху пошадил дерево. Шлава ему, благодетелю нашему…
С наступлением вечера на площадку сходились члены нового панчаята. Теперь на всех заседаниях председательствовал Мульрадж. Прежний глава панчаята Хиралал нанялся грузчиком к оптовому торговцу красками у Аджмерских ворот и в поселке бывал редко.
— С начальником я встретился, — начал разговор Мульрадж. — Он показал поземельный план. Начальник сказал, что каждой семье выделят по девять ярдов земли.
— Об этом нам говорили еще четыре месяца назад!
— Помолчи, Будхрадж. Сначала выслушай до конца, а потом уж говори. А ты чуть что — сразу спорить.
— Продолжай, Мульрадж, продолжай, что там у тебя.
Будхрадж сидит как на иголках. Он недавно вернулся с работы и узнал, что его единственный сын заболел. Будхрадж успел только пощупать головку ребенка — ужинать было уже некогда, так голодный и отправился на заседание панчаята. Черная шапочка у Будхраджа надвинута на лоб. На шапочке и на обожженном солнцем морщинистом лице — засохшие брызги извести. Курит одну бири за другой, а когда говорит, правое веко у него начинает дергаться.
— Начальник сказал, что поземельный план уже готов, — продолжал Мульрадж. — Теперь только остается его утвердить, и сразу же начнутся работы.
— Какие еще работы?
— Работы по возведению поселка, какие ж еще? Я же сказал: каждая семья получит по девять ярдов земли.
— Это ты каждый раз твердишь, — заметил сидевший на камне Матирам, перемешивая в ладони щепотку табака с известью. Он, как и Будхрадж, давно уже не верил словам.
— Сначала готовят план, так или нет? Ты же сам каменщик, знаешь.
— Какой еще план тебе нужен?
— План поселка, вот какой план! Где возводить строения, где пройдут улицы, переулки…
Не выдержав, Будхрадж вскочил.
— Тут ни одной колонки нет, а он об улицах и переулках толкует!
— Да сядь ты, Будхрадж! Что ты все дергаешься?
— Ладно, оставьте его в покое! Когда сделают, тогда и посмотрим.
— Возвращаешься с работы весь разбитый, ведь с семи утра уже на ногах, а до работы не ближний свет — целых семь миль педали крути, — и выслушивай всякую ерунду: «План готовят, дорогу прокладывают». — Сердито ворча, Будхрадж зашагал к мазанкам.
— Да погоди ты, погоди. Присядь на минутку.
— «Присядь», «послушай», только меня никто не хочет слушать, — недовольно бросил Будхрадж, однако остановился. — А этому твоему начальнику надо было сказать: «Пойдемте, мол, сахиб, вместе со мною, своими глазами взгляните, как мы живем». Так нет, этого он ему не сказал, а теперь еще и оправдывать его принялся.
— Никуда я больше не пойду! — вспылил Мульрадж. — Посылайте кого хотите! Ну вот хоть Будхраджа, если он такой умный!
— Да не горячись ты, Мульрадж. А ты, Будхрадж, иди сюда.
— А что может ваш панчаят? — стоя на том же месте, с вызовом крикнул Будхрадж. — Где был панчаят, когда сносили поселок? Тогда Мульрадж тоже пороги всяких канцелярий обивал. А что можете вы сделать сейчас? Что б мы тут с вами ни решили, начальники все равно сделают по-своему.
— Это мы и без тебя знаем, — спокойно заметил Матирам. — А собрались мы тут, чтобы поговорить о своих делах, поделиться общим горем… Ты лучше присядь.
Будхрадж вернулся, на ходу сердито ворча:
— Что тут может панчаят? Вон у Раму дочка сбежала с кондуктором, ну и что? Может, панчаят наказал беглянку?
— Ты садись, садись, — потянул его за руку Матирам.
— Ты лучше скажи мне, вернулась она или не вернулась? — горячась, заговорил Мульрадж. — Вернулась. И сейчас живет со своим мужем.
— А при чем тут панчаят? — снова вскинулся Будхрадж, усаживаясь рядом с Матирамом. — Панчаят, что ли, вернул ее? Она сама вернулась. — И, обращаясь уже прямо к Мульраджу, со злобой добавил: — А ты, Мульрадж, снимай свой тюрбан. Посидел на почетном месте — и хватит.
— Ты сиди и помалкивай. Панчаят собирается не только затем, чтобы выслушивать твои речи. У него и других дел хватает. А тут вроде бы тебя одного и слушать надо.
— Говорите, говорите!
— Продолжай, Мульрадж! Дело не ждет.
Ободренный возгласами, Мульрадж поправил тюрбан.
— Рамдаял! — позвал он. — Скажи ты, брат… А где же Рамдаял?
— Тут я.
— Расскажи им.
— А о чем рассказывать? — вмешался Матирам. — Все и так ясно. Жена к нему вернулась.
— Вернуться-то вернулась, да как бы опять не сбежала, — угрюмо пробасил Рамдаял.
— А где сейчас жена твоя? Позовите ее.
— Не придет она, — подал голос Матирам.
— Это еще почему? Стыдно показаться или, может, еще по какой причине?
— А ты у него спроси, — ткнув пальцем в Рамдаяла, бросил Матирам. — Перед тобой же сидит.
— В чем дело, Рамдаял? — спросил Мульрадж.
— Проучить ее надо.
— И каким же образом?
— Не выпускать ее из дому, и все тут. Запретить ей выходить из поселка.
Матирам рассмеялся.
— Как же вы запретите, когда и поселка-то нет? — сквозь смех проговорил он. — Поле, оно и есть поле. Или, может, запретите ей ходить за водой? Или выходить по нужде? Можно запретить выходить из поселка, когда поселок есть, а если нет? А кроме того, запретим мы, будет она сидеть в четырех стенах. Сейчас она хоть что-то зарабатывает, а тогда и этого не будет.
— Тогда надо запретить ей ходить в Рамеш-нагар.
— Ладно, мы запрещаем ей ходить в Рамеш-нагар, — строго проговорил Мульрадж. — Это, пожалуй, совсем другое дело…
Его прервал громкий смех Матирама.
— Ну, не будет она ходить в Рамеш-нагар, но разве тот парень… ну, тот, что хахаль ее… разве не сможет он прийти сюда? И разве она не сумеет перемигнуться с кем-нибудь еще? Ты, Рамдаял, лучше взгляни на все здраво… Перестань ее колотить, и бегать она от тебя никуда не станет.
— Она такие номера откалывает, а я, значит, пальцем ее не тронь? — недовольно пробасил Рамдаял.
— От кулаков твоих она сбежала. А будешь бить, опять сбежит.
Поднялся невообразимый гвалт. Одни кричали, что Рамдаял даже пальцем не должен трогать жену, другие доказывали, что ничего особенного не случилось: ну, проучил муж жену! Все так делают. Издревле считается: только страх может удержать жену от неверного шага. Третьи склонялись к тому, чтобы позвать сюда Радху, перед панчаятом все могут давать показания — и мужчины, и женщины. Если у нее есть что сказать в свое оправдание, пусть придет и скажет людям. Наконец кто-то отправился звать виновницу. Но Радха наотрез отказалась явиться на заседание. Члены панчаята стали в тупик. Стараясь перекричать друг друга, они все еще спорили, когда невдалеке появился какой-то человек. Припадая на правую ногу, он направлялся в их сторону. Человек подошел поближе, и все узнали портного Булакирама. На нем был новый пиджак, в руке он держал посох.
— Так это ж Булакирам! — захохотал Матирам. — Не иначе как был на приеме у самого махараджи Джодхпура[18].
С появлением Булакирама атмосфера в панчаяте несколько разрядилась. Радостно улыбаясь, все принялись расспрашивать портного о здоровье, о том, как идут дела.
— Проходи сюда, пожалуйста, Булакирам, проходи, — радостно приветствовал портного Мульрадж.
Оказалось, Булаки обосновался в Руп-нагаре, где арендовал лавчонку, стоявшую прямо у шоссе. Рядом находился поселок строителей, среди которых было немало раджпутов. Чем занимается? Тем же, чем и раньше, — открыл пошивочную мастерскую.
— К нам-то каким ветром занесло? — поинтересовался Мульрадж.
— До меня дошли слухи, что сегодня у вас панчаят заседает, вот я и пришел. Правды искать пришел. — У Булаки что-то булькнуло в горле, и, резко взмахнув рукой, он выпалил: — Чаудхри обманом выманил у меня девятьсот рупий!
— Как же ему это удалось, Булаки?
— Как? Он обещал выдать за меня свою дочь. Вот как!
— Но это же грабеж! — сочувственно качая головой, возмущенно проговорил Матирам.
— Что ж ты молчал до сих пор? — вступил в разговор Рамдаял. — Такое пережить!
Все знали, что Булаки женится не в первый раз и не впервые с него берут выкуп.
— Что пережить пришлось, о том сейчас и речи нет, — ободренный словами сочувствия, заговорил Булакирам. — Три раза обещал — и трижды обманывал. Я-то молчу, а будь на моем месте кто другой — живо б за решетку его упрятал.
— Что верно, то верно, — поддакнул ему Матирам и, покосившись на сидевшего рядом Рамдаяла, улыбнулся. — Вот с того самого дня Булаки и не снимает нарядный пиджак. Как знать, может, прямо завтра и свадьба…
— А новый пиджак, Булаки, снимешь, когда жена переступит порог твоего дома? — насмешливо бросил кто-то.
— Ты истинный раджпут, Булаки! Храни честь раджпутов, Булакирам, и мы все как один поддержим тебя.
Лицо портного расплылось в довольной улыбке. Вроде бы каждый сам за себя, а вот сумели же понять чужое горе и посочувствовали. Булаки действительно дал зарок: он снимет новый пиджак в тот самый день, когда Басанти войдет в его дом.
Разногласий между членами панчаята как не бывало. И даже задиристый Будхрадж, только что сцепившийся с Мульраджем, присоединился к общему мнению.
— Хиралала позвать бы, — предложил кто-то. — А то забился в свою мазанку и носа не кажет, а тут вся работа встала.
— Люди, идите сюда! Спешите! — вдруг стал выкрикивать сидевший рядом с Будхраджем насмешник Ганеш. — К нам пожаловал Булакирам! Мужчины и женщины, старики и дети! Торопитесь! Спешите сюда!
Продолжая разыгрывать Булакирама, Матирам поднял из-под ног камень и, проведя по земле глубокую борозду, торжественно возгласил:
— Дело яснее ясного, братья! — Смеющимися глазами он обвел собравшихся. — Честь Булакирама — это наша с вами честь.
— Но сначала я хотел бы спросить его, — величественно тряхнув тюрбаном, вмешался Мульрадж. — Если Чаудхри трижды обманывал его, почему он ни разу не сказал нам?
— Правильно, почему не сообщил нам? Сообщи он вовремя, жена давно б была уж на сносях.
Кое-кто из сидящих тихонько прыснул.
— И вот еще какой вопрос задать ему надо: оказывается, он трижды собирался сыграть свадьбу, а почему ни разу не позвал нас? Я уж не говорю об угощенье, хоть бы поглядеть пригласил.
Со всех сторон неслись сочувственные возгласы, и в первые минуты Булаки даже растерялся. Раньше на него и внимания не обращали: перекинутся парой слов, и все, а вот сейчас он ощутил подлинный интерес к нему со стороны собратьев по касте. Они поняли, сердцем почувствовали его боль. И упреки их справедливы: не позвал на свадьбу — что верно, то верно. В надвигающихся сумерках он уже не мог разглядеть выражения лиц, однако в голосах ему слышалось искреннее сочувствие.
И, движимый чувством раскаяния, он протянул к ним обе руки и дрожащим от волнения голосом сказал:
— Бейте хоть сотню раз башмаком по моей дурной башке — руки не отведу. Виноват, извините великодушно. Я не раз, десять раз отблагодарю вас, только сделайте о чем прошу: пусть девчонка войдет в мой дом.
— Сложную задачу ты задал нам, — пробасил кто-то. — Я всегда говорил, что просто так Булакирам не придет, не такой человек.
Постепенно подходили новые люди — по одному, по двое.
— Свадьба, будем считать, у тебя состоялась, Булакирам, — сказал Мульрадж. — Ты нам все рассказал, и теперь этим делом займется панчаят.
— Договорились? — радостно воскликнул Булакирам.
— Наше слово твердое, что гранит, — торжественно произнес Матирам. И, сделав паузу, выразительно добавил: — По этому случаю не мешало б и сластями угостить…
— Чаудхри взял у меня девятьсот рупий, — размахивая руками, горячо заговорил портной. — Я готов доплатить ему остальные триста: сошлись на тысяче двухстах. Девчонке четырнадцать годочков. Я готов, но только пусть он больше не увиливает и не обманывает меня.
Привычным жестом сунув руку во внутренний карман пиджака, портной вытащил завернутую в платок пачку денег.
— Вашей милостью, деньжата у меня водятся, и душа у Булаки — широкая.
— Доброе дело никогда не надо откладывать, — перекрывая оживленный гомон, громко произнес Матирам. — Хороший выдался нынче денек. Мульрадж был на приеме у начальства… А тут вот еще наш Булакирам… Словом, на одном заседании два таких дела провернули. — И, обведя взглядом собравшихся, спросил: — Кто из нас самый младший? — Не дожидаясь ответа, обратился к сидевшему рядом юноше: — Вставай-ка, Ганеш, вставай. Возьми деньги у дяди Булаки, садись на велосипед Рамдаяла и привези два кило ладду[19].
— Да хватит и одного, наверно, — подал голос кто-то.
— Ну что вы, два кило! Только где взять их, вот вопрос. Поезжай-ка ты к кинотеатру «Натарадж», там у входа сидит продавец пенджабских сладостей. Попросишь два кило… — Матирам подумал немного и, обращаясь к сидящим, спросил: — Только ладду или, может, еще чего взять?
— Спроси у Булаки.
Рамдаял повернулся к портному:
— Чем больше сахару, тем слаще, ты сам это знаешь, Булакирам. Чем богаче угощенье, тем лучше будет сделано дело.
Мульрадж забеспокоился. На дармовщинку они готовы съесть хоть четыре кило, а потом, случись что не так, всю вину на него свалят.
— Хватит ладду, — решительно заявил он, — ничего больше не надо. На угощенье — ладду, так уж повелось исстари, а все остальное будем есть на свадьбе.
Ганеш вывел велосипед. Из мазанок потянулись люди. У портного было такое ощущение, будто идут приготовления к его свадьбе. Растроганный вниманием, он вынул из пачки еще две бумажки по десять рупий и сунул их в руку Ганешу.
— Только смотри, чтоб свежие были, — напутствовал юношу Матирам.
Когда Ганеша наконец проводили, Булакирам поведал собравшимся свою печальную историю.
— Трижды обманул меня Чаудхри, — дрогнувшим голосом начал он. — Промашку допустил я, братья: первым делом надо было идти к вам.
— А теперь что говорит Чаудхри? — подал голос подошедший Хиралал. Он явился с опозданием и еще не понял, что здесь происходит.
— Что говорит? — заметно волнуясь, произнес портной. — Дочку-то он отослал в деревню, к сестре.
— Он с тебя еще потянет, — решительно тряхнув головой, сказал Мульрадж. — Я хорошо знаю этого человека.
— Надо твердо сказать Чаудхри: хватит! И примерно наказать его. Почувствует силу панчаята — сам придет с повинной.
— Да как же ты его накажешь, когда он и к нашей общине-то… — начал было Будхрадж, но его тут же шепотом прервал Матирам:
— Т-с-с… Пусть сначала угощенье привезут, а потом уж и удивляйся на здоровье! А пока — молчок!
Будхрадж в замешательстве умолк.
— Снимай свой тюрбан, Мульрадж, заседание панчаята кончилось.
Мульрадж снял с головы свой тюрбан и положил его рядом. На дороге показался Ганеш. В предвкушении угощенья все заулыбались, стали громко расхваливать Булакирама, в один голос заверяя его, что непременно вызовут Чаудхри на заседание панчаята, а если не явится, то Булаки может подавать на него в суд: они все как один пойдут к нему в свидетели.
Когда угощенье было съедено и люди стали расходиться, Булаки двинулся домой. После того как он скрылся вдали, раздался всеобщий хохот, посыпались шуточки. Кое-где в мазанках загорались огоньки светильников. Неторопливо потягивая бири и выковыривая из зубов остатки ладду, жители поселка перемывали косточки Чаудхри и бедняге портному, однако даже в шутку никто не спросил, почему это вдруг шестидесятилетнему портному вздумалось взять в жены четырнадцатилетнюю девочку. Промолчал даже язвительный Будхрадж.
Глава 6
В надвигающихся сумерках Басанти кружилась по комнате и, раскинув руки в стороны, тихонько напевала:
— Ах, я кого-то полюбила-а-а!
Она все кружилась и кружилась.
— Хватит, хватит! Прекрати! — говорил Дину. — Вдруг услышат!
— Никто не услышит, — беззаботно отвечала Басанти. — А это я вспомнила песенку из кинофильма «Двое». Смотрел? Очень интересная картина. Слезы сами из глаз катятся…
Дину глядел на нее не отрываясь. Голос у нее слабенький, нет в нем ни гибкости, ни покоряющей душу красоты, зато любую мелодию она схватывает на лету, и, если песенка нравится ей, она готова напевать ее целыми днями…
Ах, я кого-то полюбила, полюбила-а-а! —и, оборвав пение, Басанти пояснила:
— Да картина-то так себе, зато песни — одна другой лучше. Ты смотрел?
— Какой, ты говоришь, фильм?
— Да я сказала — «Двое»… Девушка там заболела, а парень взял ее на руки и перенес к себе домой. А на следующий день она поправилась. И знаешь, что ему заявила? «Ты, говорит, теперь муж мой!» — Басанти фыркнула. — Ну, да что с нее взять? Она ведь больная — у нее с головой что-то не в порядке было, — и она не знала, что парень перенес ее к себе домой.
Из самой дальней комнаты общежития — все двери выходили на веранду, — послышалась музыка: кто-то включил транзистор.
Басанти, прислушиваясь, замерла на миг.
— А эту песню я тоже знаю! — радостно воскликнула она. — Не раз слышала, когда смотрела телевизор у тети Шьямы.
И, отбивая ладонями такт, она негромко запела:
Полюбила я того, Кто встревожил мое сердце И не дал мне ничего!Басанти чувствовала себя как вольная птица. Она танцевала, раскинув руки и покачивая головой.
Дину был встревожен не на шутку: а вдруг услышат?
— Хватит, Басанти! Замолчи! — прикрикнул он.
Басанти умолкла и, закрыв лицо руками, глухо проговорила:
— Хорошо, я не произнесу больше ни слова. Даже когда в следующий раз ты вернешься домой, я первым делом закрою лицо накидкой… Но что же мне прикажешь делать, если ты все время где-то пропадаешь. Я же целыми днями сижу одна.
Дину и сам знал, как бывала она рада его появлению и, когда он входил в комнатку, ей хотелось выговориться за все часы вынужденного молчания.
— Когда-нибудь меня выследят, схватят и отведут к отцу, — вдруг печально произнесла Басанти, стоя посреди комнаты, но тут же рассмеялась, кокетливо взглянув на Дину. — Что тогда будешь делать?
— Что я буду делать?.. Да управляющий к тому времени меня тоже, наверно, прогонит с работы.
Басанти шагнула к нему и твердым голосом проговорила:
— Давай уйдем отсюда, снимем комнату где-нибудь в другом месте и будем жить. Здесь я все время одна да одна. Не нравится мне такое житье… Все украдкой, все тайком. Ну почему мы должны таиться?
— Да потому что ты тайком сбежала из дому. И если отец твой узнает, где ты находишься, он схватит тебя за косу и вернет домой.
— А ты будешь стоять и любоваться? — спросила Басанти и рассмеялась. — Никто меня не схватит. — И, садясь на кровать рядом с Дину, снова сказала: — Давай снимем комнату где-нибудь в другом месте. И никто нас там не отыщет.
— А эту комнату бросить, что ли?
— У тебя есть велосипед. Ты будешь приезжать сюда.
— Нет, так не годится.
— Да ты не упрямься, не упрямься, мой любимый Динурам, — ласково гладя его по голове, ворковала Басанти, — не упрямься. — И, одним движением руки взъерошив его прилизанные волосы, звонко расхохоталась: — Ты взгляни только на себя — ну прямо обезьяна.
Дину привлек ее к себе и обнял.
— Ты сначала поговори со мной, — пытаясь вырваться, тараторила Басанти. — Я же целыми днями молчу и молчу. Даже словечком перекинуться не с кем.
Но руки Дину все настойчивее притягивали ее.
— Хватит, хватит, ты сперва поговори со мной. А то ты только одно и знаешь. Как заявишься, так и начинаешь мять, точно тесто в квашне! — И она опять задорно рассмеялась.
— Тише ты. Услышат, — все больше распаляясь, шептал ей в ухо Дину.
А когда Басанти и на этот раз стала вырываться, Дину со злостью выпалил:
— А ты думаешь, зачем я привез тебя сюда?!
Он повторял это всякий раз, когда Басанти пыталась вырваться из его рук. Ей уже не нравилось в этой душной комнатенке, где пахло плесенью и грязным бельем. Как только Дину переступал порог, он тотчас же набрасывался на нее, не обращая внимания, какое время сейчас — день или ночь. А чуть не подчинилась — у него уже готов вопрос: «А зачем я привез тебя сюда?»
С того вечера, как Басанти поселилась здесь, она всего несколько раз выходила за дверь, да и то в самую глухую предутреннюю пору. Выскочив на задворки, она торопливо справляла нужду и, подбежав к колонке, брызгала на лицо ледяной водой. Ух, как здорово это было! Закончив утренний туалет, Басанти вприпрыжку возвращалась в убогую комнатенку. Как только рассветало, дверь для нее была наглухо закрыта, она не смела даже выглядывать в окошко, не то чтобы ступить за порог убежища, а просыпалась Басанти затемно. Дину, намаявшись, спал как убитый и поднимался, когда солнце было уже высоко. За все это время она так ни разу и не стирала свою одежду. Но у Дину и в мыслях не было взять да и выстирать ей белье.
Басанти сидела рядом с Дину на постели, держа его руки в своих.
— Нынче мне почему-то Бхоли вспомнилась, — тихо проговорила она. — Ты ее не знаешь. Бхоли была моя подружка. Ее выдали замуж незадолго до того, как начали сносить поселок… А ведь меня тоже чуть было не выдали замуж в тот самый день, как стали ломать наши мазанки… Из-за этого все и расстроилось.
— Знаю, знаю, ты уж не раз рассказывала.
— А Бхоли-то муженек смертным боем бил. Явится пьяный и начинает колошматить. Мужчины в нашем поселке все пьющие, а пьют они самогонку. Сами пьют и его заставляют: «Ты, говорят, тоже с нами пей». Трезвый он говорил, что терпеть самогонку не может. Терпеть не может, а пьет. Никто же не заставляет. А напьется до чертиков — и начинает жену колошматить…
Басанти гордилась тем, что не в пример другим, муж у нее непьющий.
Дину молча стал освобождать свои запястья от ее пальцев.
— Один раз притащил он откуда-то жестяную банку из-под консервов, и в банке — чуть не литр самогонки, — продолжала Басанти. — А явился-то не один, дружка прихватил. Вдвоем они эту банку быстренько высосали. Потом затеяли драку. У нас ведь, когда выпьют, начинают ссориться, задираться… Бедняжка Бхоли кинулась их разнимать. Так знаешь, что муженек-то ее устроил? Взял да и выгнал из дому. А за что, спрашивается? В чем она провинилась? Она ведь хотела разнять их… Наутро встал он — голова трещит, под глазом фонарь, скула распухла, а вдобавок Бхоли дома нету: сбежала куда-то. И хорошо сделала, что сбежала, и никто не знает куда!
За окном сгущались сумерки, девушка продолжала неторопливо рассказывать.
Сильным рывком Дину освободил наконец руки и обнял Басанти. Она попыталась высвободиться.
— Да что это ты? Утро ли, вечер — как только пришел, первым делом играться, — рассмеявшись, сказала Басанти. — Мне совсем не нравится возиться в такой грязи. Да и сама я давно уж не мылась, и белье на мне нестираное. — И, словно продолжая прерванный разговор, тихо проговорила: — Отец у меня такой же. Поэтому мать по ночам его и отчитывала. И детей родила точно щенков. Фи, какая гадость!
Но когда Дину сделал еще одну попытку обнять ее, а Басанти оттолкнула его, он рассвирепел:
— Ты смотри, а то мигом по морде схлопочешь!.. Я зачем привез тебя сюда?
Басанти на миг замерла.
— Неужели только для этого?
— А ты что думала?
От изумления глаза у Басанти округлились. Отправляясь сюда, она думала совсем не о том, о чем Дину. Басанти ехала сюда как невеста, которой настала пора переезжать в дом мужа. И она считала, что поселилась наконец под одной крышей со своим супругом. Но слова Дину прозвучали грубо и резко.
— Разве так говорят с той, кого выбрал в жены?
— Кто это тебя выбрал в жены?
— Ты — кто ж еще? Может, ты и клятву не давал перед ликом всевышнего? Может, и пробор мой не красил? Может, и прическу мне розами не украшал? А что же это тогда, если не свадьба?
— Ты сама увязалась за мной, а что мне оставалось делать? Да таких, как ты, тут полным-полно.
Его слова оглушили ее словно удар обухом. Она отпустила его руки и только молча смотрела на него.
Голос Дину стал мягче:
— Ты считаешь себя моей женой, ну и считай себе на здоровье, а я тут при чем?
— А разве ты не считаешь себя моим мужем?
Дину промолчал. В сгустившихся сумерках она совсем рядом видела его большие темные глаза и впервые за все время их знакомства не могла понять, что на душе у этого человека.
— Скажи, о чем ты думаешь. Одно только слово — и я сегодня же уйду отсюда.
С первого дня их совместной жизни, с той самой минуты, когда она перешагнула порог этой комнаты, Басанти вела себя так, как, по ее понятиям, должна вести себя жена. Она ежедневно подметала пол, следила за тем, чтоб одежда Дину была всегда выглажена. В первый же день она натянула провисшую сетку кровати. И, возвратившись к вечеру в свою берлогу, Дину не без удивления отметил, как преобразилась его комната. Старательно уложив на затылке тугой узел волос, Басанти, негромко напевая, поджидала его. Все его имущество она разложила по полкам, вымела разбросанные на полу окурки, и комната вдруг сразу приняла жилой вид.
Когда Дину, протянув руку, осторожно коснулся ее плеча, она ничего не сказала, а продолжала сидеть неподвижно, словно мысли ее были далеко-далеко. Глаза у Дину всегда были какие-то скользкие, и по их выражению никак нельзя было определить, говорит он правду или лжет. Первым побуждением девушки было оттолкнуть его — да так, чтобы на ногах не устоял, однако ей тут же стало жалко Дину. Все-таки он ее муж, она сама его выбрала и даже сбежала с ним. Если он не считает ее своей женой, это его дело. Для нее он — законный муж. И, растроганная этими мыслями, Басанти стала гладить его по голове. Он сделал доброе дело — увез ее с собой. Если б не Дину, отец позвал бы пандита, и хромуша портной привел бы к их мазанке свадебный поезд. И в сердце девушки с новой силой вспыхнула любовь к Дину: иссякший, казалось, родник опять напоил их сердца живительной влагой.
Немного позже Басанти лежала на земляном полу и молча смотрела в темный потолок. Рядом, повернувшись к ней спиной, сонно сопел Дину. Басанти нежно гладила его по спине.
— Значит, ты не считаешь себя моим мужем? — ласково спросила она.
Не поворачиваясь, Дину ответил:
— Какой еще муж? Я уже давным-давно женат.
От неожиданности она вздрогнула и в следующее же мгновение поднялась.
— Что ты сказал?
— Я сказал, что я уже давным-давно женат.
— А почему же ты ничего мне не говорил об этом раньше? — резко спросила Басанти.
— А зачем бы я стал говорить? Ты не спрашивала — я не говорил.
— Где твоя жена сейчас?
— В деревне.
— А деревня далеко?
— В горах. Через Патханкот[20] надо ехать.
— Почему же все-таки ты не сказал, что женат? Ты обманул меня…
— Это я-то обманул?! Да тебе самой захотелось убежать со мной!
— Я что же, просто так убежала? Я ведь думала, ты увозишь меня, чтобы замуж взять.
— Откуда мне знать, что было у тебя на уме?
— А почему не сказал, когда клятву давал перед ликом всевышнего?
— Ну, если хочется ходить в женах, ходи, пожалуйста, меня от этого не убудет. И живи здесь — твое право. Члены моей касты могут иметь и две жены, и три… Дину вдруг вспомнил, как Басанти вывела его на веранду и поставила лицом к картинке с изображением божества. Тогда он воспринимал все это как игру. Единственное, к чему были устремлены все его помыслы в тот час, — поскорее сжать ее в своих объятиях. Басанти стояла тогда посреди веранды, залитая лунным светом, и от ее волос исходил такой дивный аромат, что Дину совсем потерял голову. При одном лишь воспоминании об этих минутах ему становилось стыдно за то, что сейчас он был так груб с девушкой.
Когда Басанти переступила порог комнаты, вожделение серой пеленой застлало ему глаза. И в этом ослеплении он уже не думал ни о чем. Да и о чем было думать, когда она сама, по своей воле пришла к нему и готова была исполнить любое его желание. Ей некуда бежать, да она и не собирается никуда бежать. Тогда что же?.. Она хочет создать семью — пусть, она ведь ничего от него не требует. А дальше видно будет… Она целыми днями смеется, щебечет. Еду он приносит ей прямо из кухни, что при общежитии. И сам питается бесплатно, и ее кормит. Плохо ли? Она тоже не сидит сложа руки. А устроится на работу, совсем хорошо будет: лишняя рупия никогда не помешает…
Долго сидела Басанти, уставившись невидящим взглядом в его спину. Удары судьбы обрушиваются мгновенно, и во время удара человек обычно не чувствует боли, он продолжает вести себя так, будто ничего не случилось. Боль приходит после.
— А как звать твою жену? — уткнувшись подбородком в колени, глухо спросила Басанти.
— Рукмини.
— Сколько ей лет?.. Она старше меня?
— Старше.
— Не очень смуглая?
— Не очень.
— Она раньше тоже здесь жила?
— Нет, она живет в деревне.
— И дети есть у вас?
— Нет, детей у нас нет.
— Ни одного?.. А почему?
— Откуда мне знать?
— У моей матери было семеро.
— А вот у меня ни одного.
Наступило молчание. Басанти думала. Единственное, вероятно, что умеет его жена, — это серпом в поле махать, ничего-то, кроме своей деревни, она не видела. Кинофильмов, конечно, не смотрит, о телевизоре знает только по слухам, автобуса боится хуже нечистой силы. И Басанти сразу почувствовала свое превосходство: разве может сравниться с ней какая-то деревенщина неотесанная?
— И хочется тебе жить с ней?
— Ну а почему бы нет? Она ведь моя жена.
— Почему же ты не привез ее сюда?
— Она живет в деревне, у моей матери.
У Басанти тоскливо заныло сердце.
— Почему ж ты не бросил ее? — заметно волнуясь, спросила она. — Почему не женился снова?
— А зачем? — спокойным, равнодушным тоном отвечал Дину. — Ты сама прибежала ко мне, и я согласился.
— Это правда, — коротко бросила Басанти и умолкла. Она еще долго сидела, потом тяжело вздохнула, улеглась на пол и, как прежде, уставилась в потолок.
Близилась полночь. Общежитие постепенно угомонилось, и вокруг воцарилось безмолвие, не нарушаемое ни осторожным скрипом двери, ни приглушенными звуками транзистора, ни звоном посуды, ни журчаньем воды из неплотно закрытого крана, ни размеренным стуком о землю тяжелой дубинки бородатого чаукидара. Лежавший рядом Дину сонно засопел.
— А ты привези ее сюда, — вдруг тихо сказала Басанти. — Все вместе будем жить. В твоей касте ведь разрешается брать вторую жену?
Дину молчал.
— Всю работу по дому буду делать я. И ее всему научу. Ты только привези ее. Мы снимем где-нибудь комнатку и будем жить.
Дину опять ничего не ответил. Басанти продолжала уговаривать его, пока не поняла, что Дину давным-давно уже спит.
Она неподвижно смотрела в потолок. Как она ни пыталась забыться, сон не шел к ней. Ночную тишину нарушали только легкое похрапывание Дину да назойливое гуденье комаров. Долго лежала Басанти, одолеваемая противоречивыми чувствами. Разве думала она, что Дину женат? Какая-то она окажется, его жена? Говорит, не очень смуглая. Но ведь она ничего не знает и не умеет, только серпом, наверно, размахивать и может. А тут столица — одних улиц и переулков не сосчитать. Без привычки-то и заблудиться недолго. «Ну, ничего, поживет здесь, я все ей покажу. А домашними делами поначалу буду заниматься только я. По этим делам Дину будет говорить только со мною. «Сделай то, приготовь это, сходи сюда, съезди туда…» А чтобы всюду успеть, я научусь ездить на велосипеде, тем более что велосипед у Дину собственный».
И вдруг острая боль пронзила ее грудь — Басанти даже дернулась как от удара. «Подлец! Ведь ни словом не обмолвился, что дома у него жена!» По щекам девушки скользнули две теплые капли. «Ну и что, если у него жена? Не буду же я бегать за ним как собачонка!»
Но ею уже овладело какое-то странное беспокойство. Басанти тревожно заворочалась. Может, встать и уйти? Но куда?
Издали донесся бой часов. Сон по-прежнему не шел. Что-то будет с нею завтра? Вдруг она заснет, когда на востоке еле-еле забрезжит рассвет? Тогда не придется ей ни сбегать по нужде, ни поплескаться под краном колонки. Пожалуй, сегодня она вот что сделает: как только часы на башне пробьют три, она потихоньку встанет, незаметно выйдет из комнаты и еще до рассвета вернется назад. На улице сейчас дует прохладный ветерок, стрекочут сверчки, квакают лягушки, громко хлопая крыльями и издавая пронзительные крики, с дерева на дерево стаями перелетают попугаи…
Сквозь распахнутое настежь оконце виден крохотный кусочек темного неба. На небе ярко блестят звезды. Самое интересное бывает, когда ночная тьма начинает редеть: зажмуришься на миг, а потом откроешь глаза — уже немножко светлее. А когда занимается заря, на востоке словно громоздятся огромные пласты и комья красной глины, откроешь глаза — еще один багряный ком прибавился. Красота неописуемая! Отяжелевшие веки Басанти начали слипаться.
Глава 7
Шьяма подняла голову — перед нею стояла Басанти. От изумления Шьяма на миг даже лишилась дара речи.
— Э, откуда это ты свалилась? — спросила наконец она и быстро встала. — Тебя никто не заметил? — Не дожидаясь ответа, она плотно прикрыла дверь, ведущую на задний двор, и задвинула засов. — Ты откуда? И какими судьбами?
Басанти улыбалась спокойной, чуть горькой улыбкой, которая обычно появляется у человека, изрядно помятого жизнью.
— Где тебя носило все это время?.. Ты уверена, что никто не заметил, как ты входила ко мне? Правда?… А то отец твой уж раз двадцать наведывался — все тебя искал. Я ему: «Ничего, говорю, не знаю». И это действительно правда. Откуда мне знать, куда тебя унесло. Я даже не видела, когда ты исчезла из дому. Так где же ты была все это время?
Шьяма успела заметить, что Басанти уже не щебечет, как бывало, и лицо у нее усталое-усталое. Раньше, едва появившись в комнате, она начинала напевать, без умолку тараторить, бегать и скакать по дому. Сейчас от детской беззаботности девушки не осталось и следа — перед нею стояла обремененная заботами женщина. В уголках ее губ дрожала робкая улыбка. Прошло совсем немного, чуть больше трех месяцев, со дня ее побега, но это была уже совсем другая Басанти, казалось, взгляд ее больших, прежде таких лукавых, глаз был словно бы обращен куда-то внутрь.
— Так где же ты была все это время? — еще раз переспросила Шьяма.
— Здесь же и была, тетя, в Дели.
— А почему же тогда ко мне явилась тайком? Нашла время, сумасшедшая! — отчитывала ее Шьяма. — Если тайком, то надо приходить в ночное время. Днем-то разве приходят? Тут через два дома от меня целыми днями торчит твой отец. Тем более твоя сестра и ее муж целыми днями шастают по кварталу и все подозревают меня — будто это я куда-то тебя спрятала.
Басанти молча стояла и, не спуская глаз с ее сердитого лица, устало улыбалась.
— Где твой муженек-то? По-прежнему небось в общежитии работает?
— Нет, тетя. Он… его сейчас нет в Дели. Он уехал в свою деревню.
— Что? Уехал, говоришь, в деревню? А тебя что же с собой не взял?
Басанти промолчала.
— Когда уехал-то?
— Да несколько недель назад.
— А ты где живешь сейчас?
— Я?.. Жить мне сейчас негде, тетя!
— Как то есть негде? Что это значит?
— А это значит, что ночую я где придется. — И, как бывало прежде, Басанти рассмеялась.
— Он бросил тебя на произвол судьбы? Что случилось? Говори, да только правду.
Шьяма с самого начала заподозрила неладное. По выражению лица девушки она видела: Басанти что-то скрывает, и не успела та рта открыть, как Шьяма погрозила ей пальцем:
— Говорила я тебе или нет?.. Говорила, много раз говорила! А ты?
— О чем вы, тетя?
— О том, что парень, с которым ты водишься, очень нехороший человек. Говорила?
Низко опустив голову, Басанти не произнесла ни звука.
— Бросил на произвол судьбы, а сам, видите ли, отправился в деревню! Ну, как это называется, по-твоему?
Шьяма любила поворчать, но в ее тоне было всегда столько доброты, что девушка обычно сама приходила к ней со всеми своими заботами и печалями. И только сейчас, впервые за все время их знакомства, Басанти показалось, что тетя Шьяма получает какое-то удовольствие от того, что своим поведением Дину лишний раз подтвердил ее правоту.
— Денег-то он хоть оставил тебе?
Басанти промолчала.
Молчание девушки еще более утвердило Шьяму в ее сомнениях.
— Что же, муженек твой в отпуск уехал? — продолжала допрашивать Шьяма.
Басанти на какой-то миг заколебалась, но потом тихо проговорила:
— Нас выгнали из общежития, тетя.
— Выгнали? А почему?
— Потому что я тайком жила с ним там.
— А почему тайком? Замуж-то выходила за него?
— Замуж-то я выходила, да жили-то мы в мужском общежитии, а женщинам там жить не разрешается. Кто-то узнал и пожаловался…
Шьяме снова представился случай доказать свою житейскую мудрость.
— Если жена живет, за это с работы не выгоняют, — изрекла она. — Ну, рассказывай. Все как было. Свадьбу-то вы хоть справляли?
— Конечно, тетечка!
— Где?
Басанти до сих пор пребывала в полной уверенности, что свадьбу они с Дину справили по всем правилам. Поэтому она подробно поведала Шьяме обо всем: как, взявшись за руки, они стояли перед вырванным из календаря листком с изображением Кришны; как Басанти осторожно воткнула сорванные на клумбе розы в шевелюру Дину; как Дину неловко приладил цветы к ее прическе и как потом он взял бумажку с мелко наструганным грифелем красного карандаша и, макнув большой палец, провел им по ее пробору… Не забыла Басанти рассказать и о том, какая полная луна сияла на небе и как при лунном свете они поклялись друг другу…
Басанти рассказывала, а Шьяма, поджав губы, смотрела на нее сердитыми глазами и скорбно качала головой.
— И это ты называешь свадьбой? — наконец вымолвила она. — Ну разве я не говорила тебе? Разве не предупреждала?
— О чем, тетя?
— О том, что доверять этому человеку нельзя. О том, что сначала надо выйти замуж, а уж только после этого переступать порог его дома.
— Но ведь свадьбу-то мы справили.
— И ты называешь это свадьбой? Свадебный обряд совершает пандит. Это во-первых. А во-вторых, на церемонии присутствуют все члены общины, чтобы в случае чего могли подтвердить: да, свадьба была… Эх ты, Басанти, какую глупость сделала! Ни пандита, ни одного свидетеля! Взяли и все сами устроили! А теперь этот человек натешился — и поминай как звали.
— Нет, тетечка, нет! — еле слышно выдавила из себя Басанти.
— Что нет? А если он скажет, что никакой свадьбы не было, что тогда?
— Ну, скажет — и скажет, — уже спокойнее произнесла Басанти.
— Ох, плакать тебе горькими слезами, Басанти! Ничего-то ты еще не смыслишь.
— Ну и что, тетя? Плакать — значит, плакать.
Басанти спокойно вскинула на нее глаза. У Шьямы было такое ощущение, будто Басанти околдовали, она не в состоянии отличить, где белое, а где — черное. Раньше была такая боевая, а теперь вдруг ко всему стала безразличная. Что бы это могло значить? И вдруг Шьяму точно осенило:
— Э, да ты никак беременна! А я-то, дура старая, гляжу на тебя, а самой и невдомек. Ну, проходи же, проходи, садись, — и, взяв девушку за руку, Шьяма усадила ее рядом. С души у Басанти словно камень свалился.
Уж так устроен человек: не боится он никаких трудностей, не страшится бед и несчастий, только бы любил его кто-то, только бы одаривал заботой и лаской, оберегал от одиночества, и тогда он с легкостью преодолеет все препятствия. Вот это желание поделиться с кем-то и быть понятой и привело сюда Басанти.
— Ты все еще ходишь будто во хмелю, Басанти. Вот наступит похмелье, узнаешь, почем фунт лиха. Сейчас-то ты точно слепая… А ты и впрямь считаешь, что он вернется?
— Вернется, тетечка, непременно вернется, — быстро проговорила Басанти, и Шьяма удивленно взглянула на нее.
Жизненный опыт Басанти был еще мал, она не могла понять того, что говорила ей Шьяма: что, например, означает «быть во хмелю»? А до того, как «быть во хмелю», — как назвать это? А когда «хмель» проходит, значит, «наступает похмелье»? И при чем тут «хмель» и «похмелье»?.. Она была еще так неопытна, что не могла понять смысл сравнения, которое помогает человеку познать мир, оценить, что в нем истинное, а что — показное. С тех пор как Дину бросил ее, она жила, словно переходя из прохладной тени на жаркий солнцепек и снова попадая в густую тень. Когда Басанти вспоминала Дину, в сердце ее поднималась волна нежности, но потом она принималась ругать и проклинать его. Нить, что связывала их, была еще крепка, только изредка, натягиваясь до предела, начинала мелко вибрировать.
— Ну а дальше? Что было дальше? — продолжала выспрашивать Шьяма.
Что могла ответить ей Басанти? Многого она и сама толком не понимала. Шьяма умело направляла беседу в нужное русло.
— Ох, тетечка, всего не расскажешь, — горько вздохнула Басанти. — Если бы его не выгнали с работы, все равно я там долго прожить не смогла бы. С утра до ночи — под замком! Даже в окошко выглянуть — и то нельзя. Так и сидела где-нибудь в уголке. Старик чаукидар делает обход — я или под кровать прячусь, или за выступ стены. — И Басанти грустно засмеялась. — Однажды вышла я за дверь: ухитрилась изнутри открыть засов. Пить очень хотелось. Напьюсь, думаю, у колонки — и мигом назад.
— Ну, вот тут-то ты, наверно, и попалась, — вставила Шьяма.
— Да нет, тетя! Меня никто не видел. Я уж и не знаю, как все вышло. Дину говорил, будто повар давно уже что-то подозревал. Он и донес начальству.
Случилось это в полдень. Уже не слышно было звона посуды. Большой холл студенческой столовой опустел, и все служащие общежития, усевшись во дворе, курили и рассказывали всякую всячину. Некоторые тут же улеглись на циновки. Видя, что все заняты разговором, Дину потихоньку поднялся, незаметно достал из-за печи припрятанную тарелку с едой, вывалил в нее содержимое еще одной тарелки и, стараясь не привлекать к себе внимания, выскользнул из кухни.
Он прошел веранду и уже заворачивал за угол, как скорее почувствовал, чем услышал, что кто-то крадется следом. Дину застыл на месте, и в это самое время за спиной у него послышался вкрадчивый голос:
— Еду-то для кого несешь, Дину?
Дину обернулся — позади него стоял повар Манглу, самый хитрый из всех, что работали в общежитии. Плюгавенький человечек, с маленькими щегольскими усиками и дешевыми деревянными бусами на шее.
— Для кого? — не растерялся Дину. — Для больного из четвертой комнаты.
— Из четвертой? Да он только что пообедал вместе со всеми и четверть часа назад ушел.
— К нему гость приехал, — нашелся Дину. — Для него и несу.
Манглу расхохотался.
— Так на его ж двери замок висит. Пойдем покажу…
Дину стиснул зубы, но тут же взял себя в руки.
— Наверно, как всегда, Теджу все перепутал. Тот, что живет в четвертом номере, несколько раз требовал, чтобы еду принесли ему в комнату. «Ну, думаю, Теджу заболтался: дай-ка я сам отнесу».
Он взглянул на Манглу — тот ехидно улыбался, почесывая за ухом.
— Говори: кто? — тихо спросил Манглу и, подмигнув, снова улыбнулся.
Дину лихорадочно соображал, что бы еще придумать, но, так ничего и не придумав, доверительным тоном, словно оправдываясь, сказал:
— Да тут… жена из деревни вчера приехала… Ночью прямо сюда и заявилась. Дядя у нее в Басант-нагаре живет, да поздно уже было.
Но Дину видел, что Манглу не верит ни одному его слову: продолжая улыбаться, Манглу как-то странно смотрел на него и неторопливо почесывал за ухом.
— Давай-ка, брат, и я попробую! — снова подмигнув, хрипло проговорил Манглу. — Ты пока не ходи туда, а тарелку я сам ей отнесу.
Дину рассвирепел.
— Ах ты мерзавец, — срывающимся голосом произнес он. — Я сейчас как двину по твоей роже подносом… Это моя жена, слышишь? И говорить гадости я не позволю!
На следующий же день управляющий вызвал Дину к себе в кабинет и приказал в течение часа освободить служебную комнату.
Лишившись работы, Дину вместе с Басанти поселился в крохотной комнатенке у одного своего друга, которого звали Барду. Перед глазами Басанти промелькнуло все, что было потом, и это воспоминание заставило ее содрогнуться, а в душе поднялась волна бессильной ярости.
Жилище Барду они с Дину отыскали уже поздно ночью. Утром, едва проснувшись, Басанти вышла на улицу и принялась осматривать все вокруг. По склону холма, прямо от обочины дороги, что вела к Сат-нагару, лепились друг к дружке какие-то странные сооружения из обломков кирпича, старых досок, деревянных ящиков, пустых бидонов, ржавых кусков жести. В одном из них жил Барду. Вместо дверей были старые циновки. Днем по поселку бродили свиньи, бегали крысы — неподалеку находилась городская свалка, куда свозили мусор со всего Сат-нагара и других кварталов. Привязав за спину большие плетеные корзины, женщины ходили по улицам Сат-нагара, собирая обрывки газет, битое стекло, пустые консервные банки. В кучах мусора возились грязные ребятишки, отыскивая пустые бутылки и чашки с отбитыми ручками. Вот в этом-то поселке и обосновался Барду, приютивший Дину и Басанти.
У Барду они прожили дней пять, а потом Дину удалось недорого снять мазанку на самом краю поселка.
Проснувшись однажды утром, Басанти обнаружила, что Дину рядом с нею нет. Протирая заспанные глаза, она вышла из мазанки и увидела закутанного в старенькую порванную накидку Барду, который сидел у двери. От давно не мывшегося Барду пахло помойкой.
— А где Дину? — спросила Басанти.
В ответ Барду рассмеялся, оскалив гнилые зубы.
— Дину больше не вернется сюда.
— Почему?
— Он уехал.
— Куда уехал? — Она удивленно раскрыла глаза.
— Домой… в деревню.
Дину действительно несколько раз заводил разговор о поездке в деревню. Он говорил, что в деревне продаст урожай и привезет немного денег, но чтобы уехать тайком, не сказав ни слова, — такое не укладывалось у нее в голове…
Лицо Барду было худое, бескровное, накидка — грязная, рваная, волосы давно не чесаны.
— Ты оставайся тут, — сказал наконец он. — Ни о чем не беспокойся.
Басанти заволновалась.
— Дину говорил что-нибудь тебе? Что он говорил? Куда уехал?
— Больше сюда не вернусь — вот что он сказал.
— Вернется — не вернется, тебе-то какое дело?
— Как то есть какое? — обнажая гнилые зубы, рассмеялся Барду. — Я из своего собственного кармана выложил ему три сотни рупий.
— За что же это сразу три сотни?
— А за тебя… Эти деньги я за тебя отдал…
Что он говорит?! Басанти смотрела на него широко раскрытыми глазами.
— И не стыдно тебе? А еще друг называется! Вчера только сестрой меня называл.
Слова его больно задели Басанти. Прошлой ночью она действительно обнаружила в кармане у Дину триста рупий и несказанно удивилась этому. Когда она спросила Дину, откуда деньги, тот сказал, что продал велосипед, хотя велосипед, как и прежде, стоял у двери. После того как Дину рассчитали из общежития, он ничем не занимался и даже не пытался искать работу. Целыми днями бродили они с Барду по улицам, горячо обсуждая что-то.
— Ты не жена ему, — прервал молчание Барду. — Его жена живет в деревне, к ней он и поехал. А тебя он продал мне. Я женюсь на тебе… по всем правилам. Устрою свадьбу, приглашу членов общины. Денег на это я не пожалею.
Неожиданно Басанти расхохоталась. Откуда только и смелость взялась! Она прошла в мазанку и появилась оттуда с замком, которым, уходя, они обычно запирали свое жилище. Плотно захлопнув за собою дверь, она повесила замок и положила ключ в карман.
— А чем ты докажешь, что он продал меня?
— Разве не достаточно того, что я говорю?
— Тебе, Барду, он продал свой велосипед, — спокойно возразила Басанти. — Меня он не продавал.
— За велосипед я уплатил ему отдельно — сто рупий.
— Откуда бы тебе взять такие деньги, Барду? Сам-то живешь в халупе.
— Тебе не придется там жить. Ты, как и прежде, будешь жить здесь, я тоже переберусь сюда.
Басанти незаметно все дальше отодвигалась от двери, потом повернулась и быстро зашагала прочь.
— Ты куда?
— Готовь свадебный поезд! Я сейчас вернусь!
Барду рванулся следом за нею, но Басанти быстро пересекла пустырь и оказалась на улице.
— Ты куда? Ты куда несешься? Возвращайся добром, не то…
— Не то что?
— Не то верну силой.
— Силой вернет! Тоже мне силач нашелся! — бросила Басанти и выбежала на проезжую часть улицы, в эти часы запруженную повозками, велосипедами и моторикшами. — Пойди сначала в Джамне отмойся! — повернувшись, насмешливо крикнула она. — А еще лучше вон в том вонючем пруду! Эх ты! Жену друга купить надумал! — И, ловко лавируя в уличном потоке, Басанти устремилась дальше.
— Я это так не оставлю! Я целых три сотни выложил из собственного кармана!.. Добром, говорю, вернись, не то хуже будет!
Но Басанти пересекла улицу и, торопливо шагая по тротуару, скрылась в узких переулках Сат-нагара.
Хотя Басанти удалось выскользнуть из лап Барду, он был уверен, что в конце концов она сама придет к нему: ведь в этом огромном городе голову приклонить ей все равно негде. Несколько дней ей удавалось скрываться. Вспомнив всех знакомых, которые жили в разных концах города, кроме Рамеш-нагара, она будто случайно навещала их. Однако проходил день-другой, и, поблагодарив гостеприимных хозяев, Басанти отправлялась дальше. Барду разыскивал ее по всему городу. Напав случайно на след, он целыми днями шнырял по поселку, где скрывалась Басанти. На несколько дней ее наняли судомойкой в один дом рядом с рынком. Спать ей разрешали на веранде. Это было совсем неплохо, но долго продолжаться так не могло — недавно около рынка она заметила Барду. Убедившись, что на ее след напали, она незаметно выскользнула из дома, села в первый попавшийся автобус и доехала до самого конца. Так во время своих скитаний по Дели она неожиданно встретила знакомую женщину из их поселка. Женщину звали Лали, у нее было два домика, в одном она жила сама, другой сдавала. Лали отнеслась к Басанти как к родной сестре, приютила у себя, устроила на работу, но уже через неделю с работой пришлось распрощаться: у девушки начались головокружение, рвота, постоянные слабость и недомогание…
И сейчас, сидя рядом со Шьямой, Басанти живо представляла себе, что ей довелось испытать за эти несколько месяцев. Что она могла сказать в свое оправданье?
— А почему ты ушла от той хозяйки?
Ну что сказать ей — почему ушла?
Расставшись с гостеприимной Лали, Басанти вынуждена была вернуться в свою мазанку, но провела там всего два дня. Вспомнив об этом, Басанти рассмеялась.
— Чему это ты?
— Открыла мазанку, вхожу — и вдруг меня точно осенило. Закрываюсь изнутри и выглядываю в окошко. На мое счастье, парнишка какой-то шел мимо. Я подзываю его, даю ему замок с ключом и объясняю, чтобы он закрыл дверь на замок, а ключ передал мне. Я же знала, что Барду непременно придет сюда. Придет — на двери замок: значит, еще не вернулась. — И, довольная своей хитростью, Басанти весело рассмеялась.
— Ну, и чего же тут смешного?
— Ой, тетечка! Первый день прошел спокойно. А на второй я прилегла вздремнуть. В полдень встаю, подкрадываюсь на цыпочках к двери, заглядываю в щелку: рядом с дверью сидит Барду. Да не один — с ним еще какой-то человек. Испугалась я: что-то, думаю, теперь будет? Посидели они до вечера, гляжу — ушли. Я выбралась оттуда и больше уже не возвращалась.
— Где ж ты жила все это время?
— Что вам сказать на это, тетя? Поначалу-то я совсем было растерялась: куда идти, ума не приложу. Чувствую: тошнить меня часто стало. Потом все сильнее…
— Ну, и что же ты сделала?
— Что сделала? Отправилась к своей сестре. Чему быть, думаю, того не миновать…
Рассказ девушки Шьяма слушала со все возрастающим интересом.
— Она в Винай-нагаре живет. Вот я и подумала: расскажу-ка я обо всем ей, она не проболтается. Да и Винай-нагар — не ближний свет. Пока отец да Барду разнюхают, меня уж и след простыл.
— Ну, и что же было потом?
— Что было потом, тетечка? Я прожила у нее целых три дня.
— Почему же так мало?
— Да все потому, что муженек у нее — грязная скотина!.. Вообще у всех мужья — скоты порядочные, тетя. — Басанти усмехнулась: — Скотина, и все тут. — Она помолчала, затем продолжила: — Я-то спала в мазанке, а сестра с мужем и все их ребятишки — на улице. Я крепко сплю — не добудишься. Вдруг чувствую однажды, будто кто-то уселся на мою кровать. Сначала спросонья никак понять не могла, где я. И чудится мне, будто все это во сне: сижу будто я в нашей комнатке при общежитии, и входит Дину. И все это будто вечером, в потемках. Подвигаюсь я к стенке, а он ложится рядом. И тут я говорю вдруг: «Что ж ты делаешь? Это же дом моей сестры!» Да как вскочу. «Кто это?» — кричу, а он рукой мне рот зажимает… Подлец он, тетя, подлец, каких мало!
— Ну а потом?
— А что потом? Мой крик разбудил всех, сестра проснулась. «В чем дело, Басанти? — спрашивает с улицы. — Ты еще не спишь?» Я молчу. Она встает и входит в дом. — Басанти хохочет. — А этот сукин сын говорит ей: «Мне пить захотелось. Воду искал я». А кувшин с водой всегда стоял у них во дворе. «Ну что ж, — говорит сестра, — пойдем, напою я тебя», — и за шиворот его из дому.
— Боится, видно, он жены-то, — вставляет Шьяма.
— Никого он не боится, тетечка! Сестра и уговаривает его, и кричит, и ругается, а он знай себе помалкивает.
Шьяма не отрываясь смотрит на Басанти: всего несколько месяцев прошло, а как изменилась она. Теперь о многом судит как взрослая.
— Я на следующий же день ушла от них, тетя. От сестры б житья не стало. Она такая. «Явилась мужа у меня отбивать!» — сказала бы. Да и я боялась, что Барду ненароком пронюхает, где я. Мужчины-то, они по всему городу рыскают, тетя, а мой зятек тут же рассказал бы, где я скрываюсь.
— А ему известно, куда ты ушла? — испуганно спросила Шьяма. — Сюда-то Барду не заявится? Ты смотри, чтоб ни одна душа не появлялась здесь.
— А зачем мне это, тетя? Я сама не знаю, куда бы подальше от него спрятаться.
— Я вот что хочу сказать тебе, Басанти.
— Что, тетечка?
— Отправляйся-ка ты с миром к отцу-матери.
— Там старик портной ждет не дождется, когда я заявлюсь, тетя. Стоит мне только показаться, как отец схватит за косу и отведет к портному. Отец с него уже девятьсот рупий взял.
— Ты сама всю эту кашу заварила, Басанти.
— Почему я, тетечка? Что я сделала?
— Скоро у тебя будет ребенок. Куда определишь его? Где будешь жить? Куда приклонишь свою голову? — И Шьяма, словно спохватившись, снова спросила девушку, где она живет теперь.
— Сейчас ты где остановилась?
— А нигде, тетечка.
— Как это нигде? Ты же сама говорила, что у тебя мазанка.
— Туда идти я не могу. Там Барду поджидает. — И Басанти звонко рассмеялась. — Сюда пойти — отец ждет, туда пойти — Барду поджидает…
И тут Шьяма глубокомысленно изрекла:
— Как знать, Басанти, может, Дину и в самом деле продал тебя.
Басанти молчала.
— Если твой родной отец может продать тебя за девятьсот рупий, то почему бы Дину не продать тебя за три сотни?
— Нет, тетя, — тихо проговорила Басанти, не отводя широко открытых глаз от лица Шьямы.
— Он бросил тебя и сбежал, — продолжала Шьяма. — И больше не вернется.
— Он вернется, тетечка.
Шьяма поразилась: после стольких ударов и потрясений у Басанти все еще сохранилась детски наивная вера в то, что Дину обязательно вернется. Связывавшая их тоненькая ниточка еще не оборвалась, потому что от нее, от этой ниточки, зависела жизнь Басанти.
— Сумасшедшая ты все-таки, Басанти, — проговорила Шьяма. — Дал он знать о себе? Как скрылся, так ни письма, ни весточки. И ты еще убеждаешь меня, что он вернется.
— Вернется, тетечка, непременно вернется!
— Ну а если все-таки не вернется?
— Обязательно вернется.
— Ты, видно, и в самом деле рехнулась!
Шьяма была поражена. Неужели она действительно верит, что Дину не продал ее? Неужели даже после всего, что было, она так ничему и не научилась? А может, она просто играет какую-нибудь роль, как бывало прежде, только на этот раз ее героиня томится в разлуке с любимым и живет одной лишь надеждой на его скорое возвращение?
— Картин всяких насмотрелась, вот рассудок-то у тебя и помутился.
— Да я уж забыла, когда в кинотеатре была, — улыбнулась Басанти. — А кстати, что сегодня показывают по телевизору? Сегодня ведь воскресенье?
— Не смотрела бы все эти картины, сидела бы себе спокойненько дома…
— И растирала бы ноги старику портному, — в тон ей подхватила Басанти, — либо в деревне траву серпом резала.
— Ну а сейчас что ты имеешь? Ни кола, ни двора.
— Что значит дом, тетя? Где живешь, там тебе и дом, — возразила Басанти. И, помолчав, взволнованно сказала: — Так вы, тетя, говорите, нет у меня ни кола, ни двора? Есть у меня и угол, и муж есть, а скоро и ребенок появится. Вернется Дину, и я снова буду жить в своем доме.
Это было уж слишком, и Шьяма не выдержала.
— О каком еще доме ты твердишь, если твой Дину давным-давно женат?
Смутившись, Басанти растерянно взглянула на Шьяму, но тут же упрямо тряхнула головой.
— Вы правы, тетя, но Дину все равно вернется.
— Ну зачем ему возвращаться? Разве сможет он прокормить двух жен?
— По законам его касты, тетя, он может иметь двух жен.
— Кто же это в наше время сможет содержать двух жен?
— Он сможет, тетя. В их касте мужчина может иметь не только двух, даже трех жен сразу.
— Кто тебе сказал это?
— Дину.
— И ты поверила?
Увидев в глазах Басанти непоколебимую надежду и веру, Шьяма только скорбно покачала головой.
— А я ему говорю: «Вези свою жену сюда», — продолжала Басанти. — Жена-то у него из деревни, тетя, совсем темная. Нигде не была, ничего не знает. В доме я сама хозяйничать стану.
— Тебя обманули, а ты так ничего и не поняла, — поджав губы, проговорила Шьяма. — Ой, Басанти, сколько тебе в жизни еще хлебнуть придется.
— А что это такое, жизнь, тетя? — спросила Басанти и рассмеялась, и смех ее звучал задорно, как прежде. — Нет, тетя, — переходя на шепот, проговорила она, — он вернется, обязательно вернется. Детей-то у них нету. А родится ребенок, своей женой он признает только меня.
— Пустое говоришь, Басанти, пустое. У вас даже свадьбы не было. Поэтому в любой день он может выгнать тебя из дому. Сейчас-то ведь бросил… Или, может, нет?
Перед мысленным взором Басанти снова одна за другой промелькнули картины ее свадьбы… Веранда, залитая лунным светом, стройная фигура Дину, розы в его черных волосах. Все было так торжественно, что вмиг развеялись последние ее сомнения, по телу прокатилась горячая, хмельная волна, наполнив ее трепетным ожиданием чуда. Не в силах сдержать охватившего ее волнения, Басанти протягивает руку и, взъерошив волосы Дину, пускается в пляс, напевая что-то из старого фильма… Очнувшись, она вскакивает.
— Ну, тетечка, сейчас я займусь уборкой, — весело, как прежде, затараторила она.
— Сиди, сиди.
— Нет уж, тетя, сейчас я буду заниматься уборкой.
— О какой уборке ты говоришь? Ведь ты же беременна.
— Вот мать моя до самых родов работала, и хоть бы что. А я чем хуже? — Схватив веник, Басанти пронеслась через веранду в задние комнаты.
Немного погодя оттуда уже слышался ее голос:
Ты приходи, когда наступит вечер, Ты приходи, когда зажгут огни…Неожиданно песня оборвалась, и в дверном проеме показалась Басанти. Она стояла, устало прислонившись плечом к косяку.
— А если он не вернется, тетя, я возьму ребенка и уеду куда-нибудь.
На глаза у нее навернулись слезы, и она выскочила на веранду.
— Не приедет — и не надо! — выкрикнула она. Вытерев глаза концом сари, она постояла немного на веранде, потом тихо проговорила: — Но он вернется, тетя, он обязательно вернется.
Басанти прошла в комнату и принялась подметать пол, негромко напевая. Шьяма смотрела на ее согнутую спину и думала о своем. Пока она говорила с девчонкой о том о сем, не сболтнула ли чего лишнего? Ведь теперь это не прежняя Басанти, теперь она многое повидала. Схватила веник, пошла в задние комнаты, а там все раскидано, разбросано, исчезнет вещь — и не заметишь. Сейчас-то ее, видно, нужда привела, а впрочем, как знать, с чем она пожаловала? Столько дней не было — и вдруг является. Среди бела дня пожаловала. Может, уже в компании какой орудует? Наговорила-то много, пойди разберись, где правда, а где ложь. И перепуганная Шьяма позвала девушку:
— Нынче не стоит подметать. Лучше иди посиди со мной.
— Ну давайте я вам прическу сделаю, тетечка, — входя в комнату, сказала Басанти. — Точь-в-точь будете как Хема Малини.
— Нет, прическу тоже не надо. Ты лучше присядь, отдохни.
Басанти уселась напротив. С хозяйкой она говорила, ничего не тая, и рассказала ей все, что пережила за последние месяцы. Она полагала, что в их отношениях ничего не изменилось и все будет так же, как в прежние дни.
Сейчас они сидели друг против друга. Однако хозяйка почему-то то и дело отводила глаза в сторону. В ее взгляде появилась странная отчужденность, хотя Басанти, как и прежде, смотрела на нее влюбленными глазами, убежденная, что тетя Шьяма — единственный человек, который поинтересовался ее делами и к которому она может прийти в любое время суток: в глухую полночь или на рассвете. А Шьяма уже смотрела на нее с подозрением: теперь это была не прежняя наивная девчонка, и доверять ей нельзя. Из дому сбежала; где жила, чем занималась — ничего не известно.
— Где ночевать-то собираешься? — неожиданно спросила Шьяма.
— Да сегодня я уж у вас заночую, тетечка. Я и кровать свою принесла. Там, на заднем дворе, поставила.
— Ты с ума сошла, Басанти? — забеспокоилась Шьяма. — Ведь на перекрестке через два дома от меня отец твой сидит. Неужели, думаешь, он не дознается? Он и раньше-то думал, что это я тебя спрятала.
— Да ни о чем он не узнает, тетечка.
— Как же не узнает, когда по всему кварталу тебя ищейки вынюхивают? Неужели ты думаешь, что Барду оставит тебя в покое? А если вдруг он сюда заявится? А если отец твой опять пожалует?
— Ни одна живая душа ни о чем не узнает, тетя, — уверенно произнесла Басанти. И, подумав, тихо добавила: — Ну хорошо, я буду спать на крыше. Уж там-то меня никто не увидит.
— А где нам спать прикажешь? Да и утром, когда будешь подниматься, думаешь, тебя не заметят? Как ты это себе представляешь?
— Куда же мне идти тогда? — упавшим голосом спросила Басанти.
Шьяма заволновалась. Оставить девушку у себя — значит, ежеминутно подвергаться опасности. Ведь Басанти скрывается — от отца, от Барду. А что за человек этот Барду? Уж наверно, какой-нибудь негодяй! Да тут такое начнется!
— Нет, дорогая, ночевать у меня ты не будешь.
— Да мне бы каких-то два-три дня, тетечка… А потом я работу подыщу.
Но Шьяма уже так запугала себя, что для нее не имело значения ни то, что Басанти беременна, ни то, что она измотана бесконечными скитаниями, ни то, что идти ей сейчас некуда.
— Послушай, Басанти, что я тебе скажу: отправляйся-ка ты к своему отцу. Там твой дом. Хороший ли, плохой, а твой дом!
— О тетя, что вы говорите!
— И лучше вернуться туда, чем вот так скитаться. Дальше видно будет, а несколько дней ты сможешь отдохнуть спокойно.
Басанти кольнула неприятная догадка, и несколько минут она молча смотрела на Шьяму.
— Ну что ж, тетечка, — прежним беззаботным тоном произнесла Басанти, — пойду куда-нибудь еще.
Шьяма внимательно взглянула на девушку. С души у нее будто камень свалился, однако она заметила, что Басанти обиделась.
— Куда же ты пойдешь? — наигранно озабоченным тоном произнесла Шьяма. — Я знаю, ты умница.
— Где-нибудь и для меня место найдется, — сказала Басанти и встала.
— Да смотри глупостей не натвори, — назидательно проговорила Шьяма.
Басанти была уже у лестницы, когда Шьяма, отыскав кошелек и на ходу открывая его, заспешила следом:
— Да погоди ты, погоди… Вот тут немного денег. Возьми. — И протянула Басанти бумажку в пять рупий.
— Оставьте, тетя, себя я еще прокормить сумею.
Басанти стала быстро спускаться по ступенькам, а Шьяма почти бегом пронеслась через комнаты и выскочила на балкон: ей не терпелось узнать, куда же пойдет Басанти и что намерена делать.
На город давно опустился вечер. Улица погрузилась в зыбкий серый полумрак. Басанти вышла во двор и сразу же направилась к прислоненной к стене кровати. И тут Шьяма впервые почувствовала смятение в душе. Ей тотчас же вспомнился святой старец и данный им наказ. Она вдруг с ужасом подумала, что, если Басанти унесет свою кровать, обет, который она дала старцу, будет нарушен, и всевышний покарает ее.
— Кровать-то пусть остается, — подала голос Шьяма.
— А зачем, тетя? — задрав голову, спросила Басанти.
— Пусть стоит.
— Зачем? А вдруг утащат?
— Никто не утащит. Пусть стоит.
Басанти на миг заколебалась, потом решительно направилась к воротам.
— Эй, Басанти! — донесся с балкона громкий шепот Шьямы.
— Что, тетя?
— Стой! Погоди! Подойди к лестнице!
Басанти вернулась. Шьяма прошла через комнаты и остановилась на верхней ступеньке.
— Не боишься идти? А вдруг схватят?
Опершись о стену, Басанти глядела на темную фигуру наверху и улыбалась.
— Ну и что, тетя?
Что же делать? Шьяма была в затруднении. Конечно, оставить Басанти в своем доме она не могла — это было слишком опасно. А если обиженная Басанти все-таки уйдет, со Шьямой непременно что-нибудь случится! Как же поступить, чтобы отвести гнев всевышнего?
— Ты погоди, я устрою тебя… Уж там-то тебя никто не найдет. Иди сюда. Я тебя в таком месте спрячу…
— Где, тетя?
— В доме семнадцать живет моя подруга. У нее ты и переночуешь. Пойдем.
— Ничего со мною не случится, тетя, ничего.
— Остановись ты, прошу тебя. Вернись.
Устало улыбаясь, Басанти неподвижно стояла у лестницы не в силах двинуться с места.
Глава 8
Однако на третий день Басанти все-таки изловили. И выследил ее не Барду, не хромой Булаки, а собственный отец, который, прихватив с собою старшего зятя, задолго до рассвета кружил вокруг особняка, где жила подруга Шьямы.
Когда хозяин особняка, господин Сури, вышел на утреннюю прогулку, у самых ворот он столкнулся с каким-то долговязым человеком в грязной рубахе. Поначалу господин Сури принял было его за бродягу, которых немало слоняется по улицам и переулкам новых кварталов, однако, всмотревшись внимательнее, он обнаружил, что этого немолодого человека он видел где-то раньше: уж очень знакомым он показался.
— В чем дело? — строго спросил он. — Зачем открыл ворота? Хотел незаметно войти внутрь? Это еще что такое?!
Из своего личного жизненного опыта, как и из опыта других, господин Сури твердо усвоил, что с любым бедняком надо говорить строгим тоном. Конечно, узнав, кто перед тобой, тон можно и смягчить, но первая фраза должна звучать сурово, тем более если видишь, что человек собирается проникнуть в твой собственный дом.
— Я за Басанти, сахиб.
Господин Сури осмотрел долговязого с головы до пят. Ну конечно же, это парикмахер Чаудхри, которого, возвращаясь с прогулки, он ежедневно видит на перекрестке. Однако сейчас лучше сделать вид, что он не узнал его.
— Что еще за Басанти? Первым делом выйди за ворота. Вон со двора! Лезут тут всякие! — И вслед за долговязым вышел на улицу.
Чаудхри почтительно сложил руки. Господин Сури снова окинул его строгим взором. «Никакой Басанти я не знаю!» — хотел сначала сказать он. Но во дворе его дома действительно спала Басанти. Несмотря на настоятельные просьбы девушки разрешить ей спать в доме или на заднем дворе, они с женой не позволили. Как же теперь заявить, что никакой Басанти он не знает?
— А ты кто будешь?
— Я отец Басанти, сахиб!
— Явился за дочерью? А где ты был раньше, когда она скиталась по городу и терпела лишения? — принялся отчитывать его господин Сури.
— Ах мерзавка! Терпела лишения…
— Извольте не грубить! Ты думаешь, с кем говоришь?
— Дрыхнет на чужом дворе да еще позорит меня!
Два дня назад, когда Басанти впервые появилась в их доме, между господином Сури и его супругой произошел крупный разговор, и тогда господин Сури приводил совсем другие доводы. «Она бездомная девка, — убеждал он жену, — а те, кто преследуют ее, отпетые мерзавцы. Парень, с которым она сбежала, — негодяй, а тот, кому он продал ее, — негодяй вдвойне. Как ищейка, идет по следу. Такую девицу я ни минуты не намерен держать в своем доме». Конечно, супруге его тоже не очень хотелось возиться с Басанти, но девушка была беременна, а выгнать беременную нельзя. Разве могла она нарушить заветы предков? Шьяма хорошо знала свою подругу, поэтому-то и отправила Басанти к ней.
Госпожа Сури горячо убеждала мужа, но он так и не согласился с нею. Для отца Басанти, однако, у него нашлись совсем иные аргументы.
— Ты видел, в каком она состоянии? Неужели ты думаешь, что мы способны были вышвырнуть ее на улицу? Кто мы, по-твоему, — люди или живодеры? — И, выдержав паузу, господин Сури назидательным тоном продолжал отчитывать Чаудхри: — Ты хоть раз поинтересовался, жива она или, может, давным-давно померла? Неужели ты думаешь, мы тоже бросим ее на произвол судьбы? — И, упиваясь собственным великодушием, господин Сури продолжал: — Кем она доводится нам? Какое нам дело до того, где она живет, где ночует, где, наконец, скитается? Казалось бы, никакого, но вот, как видишь, позаботились.
— Девчонка нахваталась городского духу, сахиб, — по-прежнему прижимая к груди сложенные лодочкой руки, произнес Чаудхри. — У меня и другие дочери есть. У каждой — муж, дети, и только эта от рук отбилась.
А Басанти давно уже проснулась и увидела у ворот отца. Что же делать? Прокрасться незаметно в дом и спрятаться? Или, может, бежать?.. Но куда?.. Она неподвижно стояла посреди двора. При виде отца Басанти поначалу перепугалась, но потом ею вдруг овладело странное равнодушие. На лице ее появилась чуть заметная улыбка, словно она решила про себя: чему быть, того не миновать.
Чаудхри перевел хмурый взгляд на Басанти.
— Забирай свою кровать да ступай сюда! — хрипло крикнул он от ворот.
— За тобой пришел твой отец, — подходя к девушке, отечески назидательным тоном проговорил господин Сури. — Будет правильно, если ты пойдешь с ним. Двери нашего дома всегда открыты для тебя. Все, что зависит от нас, мы сделаем.
— Ты иди, — тихо сказала Басанти отцу. — Я сейчас приду.
— Нет, ты пойдешь со мною! — снова выкрикнул Чаудхри.
Не двигаясь с места, Басанти перебирала в уме все возможные варианты спасения. В другое время тут бы и раздумывать нечего: одним махом через забор, на задворки, только б ее и видели, а там ищи ветра в поле. Но теперь она уже знала, что убежать не сможет, а если б даже и смогла, то все равно бежать ей было некуда.
— В таком положении тебе следует жить со своими родителями, — продолжал внушать ей господин Сури. — Хорошие они или плохие, но они твои родители.
Басанти нагнулась, чтобы взять кровать.
— Понесешь кровать сам! — строго прикрикнул господин Сури на Чаудхри. — Не видишь, что ей трудно!
— Погоди, я сам, — бросил Чаудхри и шагнул во двор.
— Какие грубые люди! — проговорил господин Сури. — Своими глазами видит, что… — И, не закончив, прошел в дом.
Вскинув легкую деревянную раму кровати на голову, Чаудхри зашагал со двора, за ним поплелась Басанти. Шествие замыкал зять Чаудхри. Выйдя за ворота, все трое повернули направо. Никто даже не оглянулся.
— Какой все-таки невоспитанный народ. Могли бы и попрощаться с людьми, которые дали приют, — глядя им вслед, возмущался господин Сури. — Все трое точно воды в рот набрали. Даже ворота за собой не закрыли! — И господин Сури прошел во двор, чтобы закрыть ворота. — Басанти ушла, — придя домой, бросил он жене. Затем развернул утреннюю газету и уселся в плетеное кресло. — Ушла Басанти, говорю я, — повторил он, откидываясь на спинку кресла.
— Слыхала уже, — донесся из кухни голос жены. — Если уж решила уйти, то рассиживаться было не к чему.
— За ней отец явился. И как только пронюхал, что она тут, ума не приложу.
Жена не ответила. Немного погодя из кухни снова донесся ее голос:
— Тебе заварить чай? На прогулку-то, наверно, уж не пойдешь?
— Я ведь сам проводил ее, — заговорил он, оживляясь. — Как-никак родители. Думаю, у них ей будет лучше. — Не дождавшись ответа, господин Сури заговорил вновь: — Ты все проверила? Ничего не пропало? За этими людьми нужен глаз да глаз… Таким ничего не стоит наплевать в колодец, из которого сами же воду пьют… Ты еще раз проверь, как бы чего не пропало.
И в ожидании чая господин Сури принялся просматривать газету.
Глава 9
Басанти полулежала на кровати, а рядом на полу сидел портной Булакирам, гладил ей ноги и говорил без умолку.
Случилось то, чего так боялась Басанти: старик портной взял ее в жены и привел в свой дом. Сейчас он был на седьмом небе от счастья.
— Я всегда верил, что вернется моя рани Басанти, непременно вернется. — Голос его дрожал. Когда он был особенно взволнован, из его горла вырывался какой-то странный булькающий звук и вместе с ним на нижней губе повисала капля слюны.
Басанти чувствовала себя разбитой. Глаза ее все время слипались, и она с трудом снова раскрывала их. У нее было такое ощущение, что все происходящее — не более как сон. Однако, открывая глаза, она всякий раз видела Булакирама, сидящего на том же самом месте, видела его густо подведенные сурьмою веки. По-прежнему облаченный в светло-бежевый с красными полосками пиджак, портной все говорил и говорил.
— Я готов жизнь за тебя отдать, — гладя ступни Басанти и покачивая головой, продолжал он. — Какие же крохотные ножки у моей рани Басанти! Прелесть, просто прелесть!
Хотя Басанти очень устала, ей было приятно. С тех пор как портной привел ее в свой дом, он был неизменно ласков с нею. Два раза покупал шербет. Показывал разноцветные юбки и блузки, которые сшил для нее собственными руками. Полуприкрыв глаза, Басанти равнодушно рассматривала обновки. Иногда только в душе ее возникало желание сделать что-нибудь наперекор или просто созорничать.
— Разотри мне, пожалуйста, ноги, — проговорила она. — Если уж взял в жены молодую, растирай ей ноги! — И тут же злорадно подумала: «Сегодня ублажай меня, растирай мне ноги, а завтра — посмотрим». Но завтра он, может, примется честить ее последними словами. Как знать? Думать о будущем она не хотела. Только изредка по ее щекам катились непрошеные слезы. Дину сказал, что вернется, но так и не вернулся. Однако она отказывалась верить, что больше не увидит его, и ничто не могло поколебать ее веры. «Он знает, что у меня будет ребенок, — думала она. — и он обязательно вернется».
Из-под кровати Булакирам вытащил небольшой сундучок и стал вынимать оттуда разноцветные блузки, накидки, юбки — зеленые, красные, желтые.
— Ты только примерь, рани Басанти, сшито прямо по тебе. Я уж давно наизусть знаю все твои размеры, моя рани.
Басанти никогда не думала, что старик портной будет так внимателен и ласков. Она была уверена, что, как только ее отдадут хромуше, тот начнет помыкать ею, как помыкают женами все мужчины их касты. И если, упаси бог, не выполнишь повеление супруга, узнаешь, что такое его кулаки. А этот сидит и гладит ей ноги.
Когда Басанти силой привели к портному, первым ее желанием было самого старика разорвать на части, всю мебель порубить, а дом сжечь. Однако он оказался человеком нежным, заботливым, соскучившимся по женской ласке. Сначала она стыдилась его нежностей, потом ей стало казаться, что старик притворяется, разыгрывая сцены, которые можно увидеть в кинофильмах, но которые к ее жизни никакого отношения не имеют. Однако постепенно к ней приходило понимание, что ни уйти, ни сбежать отсюда она уже не сможет. И, лежа на мягкой постели, она безвольно расслабилась, подобно утопающему, который, потеряв всякую надежду на спасение, прекращает борьбу.
— Ты только примерь, рани Басанти! — упрашивал Булакирам, держа на вытянутых руках ярко-желтую шелковую блузку. Потом произошло то, что удивило Басанти еще больше. Он уткнулся лицом в желтый шелк блузки и, как пьяный, качая головой, стал нежно гладить и покрывать его поцелуями.
— Хватит, хватит, — не выдержала Басанти. — Что вы делаете? Ни к чему это! — И вырвала блузку из рук портного.
Булаки поднял голову и долго смотрел на нее.
— Сердишься? — заикаясь, проговорил он. — Моя рани сердится? Разве я сказал ей что-нибудь обидное?
С тех пор как портной переболел оспой и окривел — а случилось это свыше тридцати лет назад, — он часто предавался мечтам о том, что когда-нибудь кончится его одиночество и рядом с ним поселится живое существо. Он уже слышал во дворе своего дома мелодичный перезвон женских ножных браслетов, сквозь приоткрытую дверь видел край широкой разноцветной юбки и конец накидки, в каждом углу чудился ему приглушенный женский смех. Булакирама охватило какое-то странное беспокойство, и он настойчиво стал поговаривать о женитьбе. И вот местный парикмахер согласился отдать за него свою дочь. Портной так обрадовался этому, что даже не мог сидеть в своей мазанке. Он целыми днями ходил по поселку, а встретив однажды невесту, когда она с несколькими другими женщинами шла по улице, Булаки не удержался.
— Рани Чамели! — окликнул он ее. — Ты бы прислала мне юбку с кофтой, к твоему приходу я бы сшил для тебя отличный костюм.
Невеста от стыда готова была сквозь землю провалиться. Подруги подняли ее на смех. Зардевшись от смущения, девушка убежала, но с того самого дня проходу ей не стало. Подружки весело подшучивали, мальчишки дразнили. А вдобавок ко всему Булакирам повсюду следовал за нею как тень. Они стали посмешищем для всего поселка. Дело кончилось тем, что, не выдержав, невеста уехала. Таков был печальный конец его первой попытки обзавестись семьей.
Но неудачника Булакирама люди в беде не оставили. Ему стали искать невесту на стороне. То один заявлялся к нему с сообщением, то другой: есть, дескать, на примете невеста. Денег с Булаки тянули много, но каждый раз он оставался ни с чем. Поэтому и сейчас, когда портной стоял уже на пороге старости, он по-прежнему был не женат, хотя все еще жил надеждой на то, что женщина — хранительница очага переступит наконец порог его дома. В ожидании этого часа, он поддерживал в доме чистоту и порядок, а на кровать каждое утро набрасывал дорогое шелковое покрывало; в ожидании этого часа он ежедневно вывешивал над входом в свою мастерскую красивую разноцветную женскую одежду, а на двери прикреплял гирлянду из листьев и цветов. Кто знает, когда судьба сжалится над ним и та, которой суждено стать спутницей жизни, позвякивая ножными браслетами, войдет наконец в его дом!
Хотя желание Булакирама и осталось неисполненным, он так набил себе руку на шитье женского платья, что от клиенток теперь отбоя не было: у его лавки постоянно толпились женщины, которые не упускали случая и подтрунить над беднягой портным.
— Дэоки, а Дэоки, — говорила одна подружке, — Булакирам-то не раз уж о тебе спрашивал!
— Ты не очень заглядывайся, — подхватывала другая, обращаясь к портному, — не то девушка сама прибежит к тебе. А зачем тебе это? Чего тебе не хватает?
Но Булакирам не обижался на них. Он продолжал надеяться, что счастье в конце концов улыбнется ему. Он чувствовал постоянную готовность к семейной жизни и, как положено жениху, густо подводил сурьмою веки и носил яркий пиджак. Он не только сам готовился, но и потихоньку приобретал кое-что для будущей жены: коробочки с сурьмой, румяна, бусы, серьги, браслеты. Более того, в темном углу комнаты, где он занимался портняжным делом, Булакирам поставил искусно расписанную детскую кроватку, украсил ее гирляндой из бумажных цветов и крохотными медными колокольчиками.
В этом ожидании прошло тридцать лет, но в душе его по-прежнему мерцал огонек надежды. После переезда в Дели он еще раза два или три пытался свататься, но всякий раз его поднимали на смех. И вот как-то случайно он встретился с давним знакомым Чаудхри и завел с ним речь. То ли из-за природной жадности, то ли из-за желания отделаться от лишнего рта, Чаудхри согласился выдать за него свою младшую дочь. Дело, однако, стало затягиваться, прежние соседи по поселку в один голос советовали проучить пройдоху Чаудхри. Поддавшись их уговорам, портной подал на парикмахера в суд, и только колесо судебной машины завертелось, как однажды вечером Чаудхри, пригласив к себе Булакирама и пандита, вручил портному свою дочь Басанти.
И несколько дней назад Басанти впервые переступила порог его дома. После того как ее привели из особняка господина Сури, она находилась под замком, а чтобы еще раз не попыталась сбежать, у двери, поочередно меняясь, несли караул то отец, то мать. Вступать в разговор с нею разрешалось только Раму, а он мог передать ей лишь то, что сам слышал от родителей. Басанти и без него уже знала, что ее выдают за старика, но в душе у нее все еще теплилась надежда на возвращение Дину. Ведь он же сам говорил ей, что вернется ровно через три месяца. Правда, прошло уже четыре, но Басанти по-прежнему верила и все смотрела через крохотное оконце на улицу. Она верила, что Дину, подобно героям виденных ею фильмов, явится в самый последний момент и освободит ее из заточения, а отец и Булаки останутся с носом. Когда Дину будет уводить ее с собой, мать и отец только рты раскроют от изумления. Несмотря на горький опыт своей короткой жизни, Басанти не могла расстаться с мечтой, что Дину, подобно киногерою, явится в самый последний момент. Сидя в темной каморке под замком, она не переставала надеяться на освобождение. Даже утром, когда к дверям подкатил скутер, первое, что мелькнуло у нее в голове, — это Дину после долгих поисков наконец нашел ее… Но из скутера вышли Булакирам и пандит. Постукивая посохом, Булакирам прошел к мазанке и опустился на землю у входа.
Тут же наскоро устроили свадебную церемонию. Пандит прочел мантры[21], мать переодела Басанти во все новое — юбку и кофту, которые еще раньше подарил Булакирам. На ладони невесты мать нанесла затейливый узор, губы слегка подкрасила, веки густо подвела сурьмою. Обнявшись на прощанье с дочерью, родители прослезились. На голову Басанти накинули красное свадебное покрывало, так чтобы один конец его закрывал лицо, и мать за руку вывела дочь из дома. Пандит повязал ей на запястье разноцветный шнур и снова прочел мантры.
— Вот моя дочь, Булакирам, — сказал Чаудхри. — Теперь она твоя. Свое обещание я выполнил, — голос у него дрогнул. — Отдать дочь свою — это все равно что камнем придавить собственное сердце… Правду говорю тебе. Многие приходили сватать ее, но я всем отвечал: «Нет, моя дочь пойдет к тому, кому я дал обещание».
— Твоя дочь, Чаудхри, будет почивать на постели из лепестков роз, — заикаясь, отвечал ему Булакирам. — О ней ты не беспокойся.
Мать Басанти продолжала плакать. Слезы текли по ее морщинистым щекам, она беспрерывно шмыгала носом и вытирала глаза концом накидки.
— Ступай, доченька, будь счастлива. С этого дня ты вроде бы уже и не наша. Выполняй каждое желание своего мужа, доченька.
От этих слов у Булаки ком подкатился к горлу. Опираясь на посох, он поспешно встал.
— Тяжело родителям расставаться с родной дочерью, — проговорил он. — Но ты пойми, Чаудхри, твоя дочь отправляется в свой собственный дом.
— Это ты все торопил нас, Булакирам, — со слезою в голосе отвечал Чаудхри, — мы толком даже и попрощаться-то с дочкой не успели. Дал бы нам еще денька два-три, мы бы музыкантов пригласили, праздник устроили, кока-колой угостили.
При этих словах мать невесты горько зарыдала. Не в силах сдержаться, она обняла дочь и, вытирая нос концом накидки, сквозь слезы проговорила:
— Если уж ей суждено, то кока-колу она будет пить и в своем собственном доме.
— Не беспокойся, мать, — еле сдерживая слезы, согласно кивал головой Булакирам, — будет Басанти пить кока-колу, непременно будет!
— Моя самая младшенькая, самая любимая, — сквозь слезы причитала мать. — Взрастила я ее в любви и ласке, а теперь она уходит от нас. И опустеет дом наш.
На проводах дочери оркестра может и не быть, друзья и знакомые тоже не обязательно должны присутствовать — проводы могут состояться и без этого. Однако какие же проводы обходятся без слез? Поэтому, провожая дочь в дом мужа, мать Басанти заливалась в три ручья, искренне убежденная, что младшенькую воспитала в любви и ласке и что для них с мужем Басанти точно зеница ока.
Никому и невдомек было, что накануне между Чаудхри и Булакирамом состоялась обычная торговая сделка — без дружеских объятий, без объяснений во взаимной любви и привязанности.
— С тебя, Булакирам, причитается еще пятьсот рупий, — начал Чаудхри. — Ты выкладываешь мне эту сумму — и можешь забирать товар.
— Это почему же с меня причитается еще пятьсот рупий? — возмутился портной. — Уговор был — тысячу двести. Из них девятьсот я тебе уже отдал. Значит, с меня причитается триста рупий.
— Да, конечно: три сотни по прежнему нашему уговору, а еще две сотни — за ребенка. Неужели это не стоит двухсот?..
— А ты не подумал, что люди плеваться станут, когда узнают, что я женился на брюхатой? — не дослушав его, завопил Булаки. — Пусть люди говорят что угодно, я стерплю, но за что я должен тебе еще две сотни?
— От меня-то зачем скрываешь, Булакирам? Женился ты трижды, а ребенка ни у одной ведь не было, — коротко урезонил его Чаудхри. — Поэтому все жены от тебя и сбежали. Учти, что я прошу только две сотни. Другой бы на моем месте заломил все пятьсот, а то и тысячу. Когда в твоем доме появится ребенок, кто посмеет сказать что-нибудь против тебя?
Припертый к стенке, Булакирам хмуро смотрел в сторону. В конце концов он выложил пятьсот рупий.
Однако сейчас, провожая дочь, родители Басанти со слезами на глазах ласково гладили ее по голове, желали долгой и счастливой супружеской жизни: «В молоке тебе купаться и приносить только сыновей!»
А Булаки стоял рядом и тоже еле сдерживал слезы.
Отец, мать и Раму помогли Басанти сесть в скутер. Натянув конец покрывала почти до самого подбородка, Басанти уселась рядом с Булаки. Подбрасывая пассажиров на выбоинах, скутер промчался по улицам и затормозил перед входом в мазанку Булакирама.
И вот сейчас Булаки стоял перед нею, держа в руках целую стопку детских рубашек и распашонок.
— Ты только взгляни, рани моя, это все для твоего ребенка. Я еще раньше сшил. Тут все есть, даже шапочки.
При виде детского приданого в руках Булаки глаза у Басанти округлились. Она растерянно переводила взгляд с детских вещей на портного. Рубашонка с голубой каймою, на зеленого цвета шапочке — белая кисточка, распашонки — нарядные, яркие.
На душе у Басанти сразу стало теплее.
— Ну как, нравится? — довольный произведенным впечатлением, спросил Булаки. — Пусть только родится поскорей, я сделаю еще лучше. Детское шить очень трудно: чуть-чуть не так — и все насмарку… Это я все из остатков сшил.
Басанти почувствовала, как в ее чреве шевельнулся ребенок, и ей сразу стало легко и хорошо. Наконец-то и ее ребенок получит пристанище, и, когда он родится, она будет поить его из бутылочки, как делала тетя Сушма, накупит ему разноцветных игрушек, а спать он будет в расписной колыбели.
— Нравится? — качнув колыбель, спросил Булаки. — По краям, видишь, я повесил крохотные бубенчики и цветочную гирлянду. Из японских ниток очень красивые цветы получаются.
Напряжение постепенно ослабевало. Глаза у Басанти стали слипаться, еще минута, и она погрузится в глубокий сон, где не будет ни крадущегося по ее следу Барду, ни змеиных глазок отца, не будет и безотчетного страха, что за нею постоянно гонятся какие-то страшные демоны.
— О чем задумалась, рани моя? — донесся до нее голос портного. Басанти, вздрогнув, проснулась. Склонив голову набок и прижимая к груди детское приданое, Булакирам смотрел на нее. — Ну, нравятся рубашонки-то? — спросил портной. — А как цвет? Детям идут яркие тона.
У входа в мазанку послышались женские голоса:
— Жену, говорят, привел? Может, покажешь?
Раздался дружный смех. Кто-то постучал в дверь.
— С молодой женой милуется. Тут уж дверь не откроет!
— Открой, портной. Хочу взять свой заказ! А то как бы твоя разлюбезная не прихватила его, когда бежать надумает!
За дверью снова засмеялись.
— Что днем-то закрылся? С женой в ночное время надо заниматься!
Женщины снова захихикали.
— А ночью, думаешь, у него мужская сила появится?
— Прежде-то, говорят, мужик как мужик был, — со вздохом завела речь одна из клиенток. — Оспа все напортила. Вот бабы и не хотят с ним жить.
Кто-то опять постучал в дверь.
— Эй, показывай молодуху!
— Неужели не знаешь? — громким шепотом затараторила другая. — Это ж дочка парикмахера Чаудхри. Ты ее, наверно, не раз видела.
Отпуская шуточки, женщины со смехом удалились.
— Это они завидуют тебе, рани Басанти, все как одна завидуют, — смущенно пробормотал Булаки. — Каждую неделю непременно постучит какая-нибудь: возьми, дескать, замуж. А я им: «Если, говорю, и женюсь, то только на Басанти». — И, наклонившись к ней, быстро заговорил: — Одна-то из них, Джанаки, болтает все, что взбредет на ум. Отец хотел выдать ее за меня. А когда я наотрез отказался, стал самым заклятым моим врагом.
Сидя на кровати, Басанти с безразличным видом слушала. Лицо портного было желтым и усталым, а с нижней губы ниточкой свисала слюна. Неожиданно Булаки, обхватив обеими руками ноги Басанти, плачущим голосом начал умолять ее:
— Не бросай меня, Басанти, не уходи от меня, моя рани. Не уходи, прошу тебя. Здоровый я, здоровый. Ничего со мной не случилось…
Поднявшись, он достал с полки в углу бутылку какой-то жидкости.
— Это знахарь дал мне. Выпьешь, говорит, три бутылки — и не будет больше гневаться на тебя матушка Шитла[22]. — Он протянул бутылку Басанти. — Две я уже выпил, это третья. Теперь осталось совсем немного — каких-нибудь два месяца.
Глаза Басанти снова начали слипаться. В доме стояла тишина, постель была мягкая, и, хотя кое-где и валялись на полу какие-то вещи, комната имела уютный, домашний вид. Сонно улыбнувшись, Басанти свернулась калачиком. Слава всевышнему, теперь ей никуда не надо спешить. Изредка открывая слипающиеся глаза, она видела Булаки со стопой детского белья в одной руке и бутылкой — в другой, и он казался ей волшебником, который охраняет ее покой. Она уснула глубоким, спокойным сном.
Было уже далеко за полночь, когда Басанти проснулась и, потихоньку поднявшись, подошла к окну. За окном царило безмолвие. Такую ничем не нарушаемую тишину Басанти впервые в жизни ощутила, когда украдкой выходила по ночам из комнаты, где жил Дину. Там тоже в глухую полночь вокруг было тихо-тихо, а площадка перед общежитием освещалась серебристым светом луны. В такие часы Басанти усаживалась у окна и смотрела на улицу. Тогда на постели спал Дину, сейчас раздается ровное похрапывание хромуши портного. И здесь тоже перед окном была площадка, а за ней — темное скопище неказистых строений. Басанти подняла глаза к небу и увидела усеянный бесчисленными звездами купол небосвода, и ей вдруг показалось, что она впервые в жизни видит безграничный небесный простор. Из окна комнаты Дину был виден только кусочек неба с несколькими робко мерцающими звездочками. А здесь небосклон открывался ей от края до края, густо усыпанный звездами. Неужели и она когда-то навеки исчезнет и растворится в этом бескрайнем небесном просторе?
Площадка перед домом была залита неровным лунным светом. Стоя у окна и любуясь красотой этой ночи, Басанти вдруг вспомнила Дину. Где-то он сейчас? В каких горах скрылся от нее? Говорил: «Приеду, через три месяца обязательно приеду», — а вот уже и четыре минуло, а он так и не вернулся. Где-то он теперь? Может, вот так же, стоя у окна, разглядывает звездное небо, а рядом спит его жена? И в свете луны Басанти вдруг отчетливо увидела красивое молодое лицо Дину. И впервые за эти дни она поняла, какое это было счастье — хоть изредка видеть его! Ребенок снова зашевелился в ее чреве, и волна радости захлестнула ее
Глава 10
Почти в то же самое время, когда Басанти переезжала в дом Булакирама, Дину шагал по горной дороге, направляясь к храму богини Джвала-дэви[23] Впереди топал ослик, на котором мешком сидела молодая женщина — жена Дину. Затейливо петлявшая среди бескрайней зелени полей дорога вела к самой высокой горе, на противоположном склоне которой находился храм. Легкий полуденный ветерок раскачивал стебли. У самой кромки полей кое-где виднелись хижины горцев.
До храма оставалось еще не меньше коса[24]. Дорога серой лентой тянулась вверх и, у самой вершины круто вильнув, убегала по склону за гору. Рукмини то и дело съезжала с ослика, и каждый раз Дину, подбегая, снова усаживал ее на спину животного. Они прошли только пять миль, но у жены его разболелось все тело, а спина стала точно деревянная — не разогнуть.
— Ох, не доехать мне, помру прямо посреди дороги, — тихонько всхлипывая, изредка начинала жаловаться она, на что Дину всякий раз грозно прикрикивал:
— А ну-ка помолчи! Ничего с тобой не случится! Постыдилась бы!
— С сердцем у меня что-то нехорошо.
— Что еще такое?
— Будто лапкой кто скребет…
Дину останавливал ослика, помогал жене слезть, и она тут же валилась на обочину дороги.
В храм Джвала-дэви Дину вез жену по настоянию матери. Соседи не раз говорили ей, что сноха не может забеременеть, потому что богиня сердита на нее, и, пока они не совершат жертвоприношение, детей у Рукмини не будет. У нее уже дважды был выкидыш. Года два или три назад Рукмини возили к какому-то знахарю в дальнюю деревню. Знахарь читал над ней заклинания, потом вручил священный амулет, однако никакой пользы такое лечение не принесло. К концу третьего месяца пребывания Дину дома мать уже ни дня не давала ему покоя, умоляя свезти жену в храм Джвала-дэви, чтобы сноха могла наконец забеременеть.
День клонился к вечеру, солнце стало медленно опускаться за вершину горы. Вытягиваясь все длиннее и длиннее, тень от горы скоро покрыла всю изумрудную долину, а у подножия медленно начала разливаться темнота. Дину забеспокоился, сумеют ли они засветло добраться до храма. Он стал усердно погонять ослика, и копытца затопали по камням бойчее. Редким встречным Дину задавал один и тот же вопрос:
— До храма далеко еще?
Повернувшись лицом к горе, каждый крестьянин неизменно отвечал:
— Да нет, близко.
Но путешествию, казалось, не будет конца.
Если бы в их деревне был врач, то Дину, конечно, повел бы жену к нему. В Дели все, кто заболевал, сразу же обращались к врачу. Однако врача не было не только в их деревне, но и во всей округе. Поэтому, когда деревенский пандит заговорил о недовольстве богини и мать в тот же день передала сыну его слова, Дину тотчас же стал готовиться в дорогу. Оттого, что он долгое время жил в городе, знаний у него не прибавилось, зато появились практическая хватка и самоуверенность. На следующий же день Дину попросил у дяди ослика, усадил на него жену и они отправились в путь. Дину дал себе зарок: в деревню он вернется лишь после того, как умилостивит богиню, совершив обряд жертвоприношения и возложив дары к ее алтарю.
Солнце было еще высоко, когда они наконец добрались до подножия горы и двинулись по узкой тропке к вершине.
Едва они оказались на противоположном склоне, все вокруг переменилось. По дороге группами двигались люди. В двух шагах от тропы журчал горный ручеек. По всему склону возвышались могучие стволы деревьев с пышными кронами. Кое-где вдоль дороги сидели нищие и прокаженные, а чуть подальше от них — притомившиеся ребятишки паломников. Здесь же, на обочине, стояла каменная статуя Ханумана[25], покрытая толстым слоем красной краски, а у ее подножия, выставив перед собой камандаль[26], неподвижно сидел садху с собранными в высокий пучок волосами. Глаза у садху были красные. От бесконечных прикосновений человеческих рук изваяние Ханумана снизу было черное и блестело, точно отполированное. Когда Дину поравнялся с изваянием, садху окликнул его. Сложив руки лодочкой, Дину тотчас же отвесил ему низкий поклон и опустил в широкое блюдо монетку в полрупии. Рукмини тоже сложила руки лодочкой и, коснувшись статуи, поднесла их ко лбу. Только после этого они продолжили путь.
Немного дальше красной краской была покрыта целая скала, чем-то похожая на фигуру Ханумана. У подножия скалы Дину опять положил монетку в полрупии.
Неподалеку от тропинки стоял развесистый баньян. От соседей Дину знал, что в тени дерева сложено возвышение, на котором приносят жертвы, а уж дальше начинаются ступеньки, ведущие прямо в храм Джвала-дэви, где храмовой жрец-пуджари совершит необходимый обряд. Привязав ослика к дереву, что стояло у обочины, Дину и Рукмини направились к баньяну. Сюда же двигались паломники, приехавшие из ближних и дальних деревень. Кто-то нес под мышкой курицу, кто-то тащил козленка либо волок его на веревке. Вся эта живность предназначалась для жертвоприношения. Но жертвенного козленка можно было за умеренную плату приобрести и на месте. Получив нужную сумму, пуджари делал знак, и козленка тотчас же вели к возвышению, где уже через минуту происходило заклание. Дину купил козленка на месте.
В стороне от возвышения находился небольшой дворик-загон, обнесенный стеной. Усадив жену в тени баньяна, туда и отправился Дину, чтобы обо всем договориться. Подойдя к загону, он с удивлением отметил, что на всех его четырех стенах расставлены крохотные изваяния богини. Совершив жертвоприношение, неосвежеванную тушу сразу же волокли сюда. Три статуэтки над входом были измазаны запекшейся кровью: после каждого жертвоприношения кровавый знак наносился на чело богини, а потом уж на лоб паломника. Таков был ритуал. Каменный пол дворика был в пятнах непросохшей крови, повсюду валялись куриные перья.
Служитель сказал Дину, что жертвоприношение обойдется ему в рупию с четвертью. Взяв деньги, он тут же схватил за рожки первого попавшегося козленка и поставил его на возвышение, где уже поджидал полуобнаженный человек с секачом в руке. Служитель привычным движением схватил козленка за задние ноги и чуточку оттянул их назад, чтобы жертва не могла вырваться, хотя козленок, как видно совсем недавно появившийся на свет, еще нетвердо стоял на ногах. Козленок покорно застыл на месте, только по грязному, покрытому нежным пушком телу животного изредка пробегала дрожь.
Короткий взмах широкого, перепачканного кровью секача — и обряд жертвоприношения был закончен. Обезглавленное туловище козленка еще некоторое время стояло на дрожащих ногах, потом повалилось на камни возвышения. Служитель резко повернулся и кивком головы показал на дворик.
Когда Дину вернулся к жене, на лбу у него красовался выведенный кровью козленка знак.
Огромный двор храма был вымощен квадратными плитами белого и красного цвета. Почти у самых ворот, в тени развесистого дерева, находился знаменитый колодец, внутри которого возвышалась Шива-линга[27], и многие шли сюда за сотни миль только затем, чтобы лицезреть это чудо. Войдя во двор, Дину и Рукмини, движимые любопытством, направились прямо к колодцу. Около него сидел полуголый брахман и громко читал нараспев санскритские мантры. Подойдя поближе, супруги с удивлением обнаружили, что это вовсе и не колодец, а небольшая, хотя очень глубокая, яма. Дину нагнулся и заглянул внутрь. Где-то глубоко внизу он заметил неяркое поблескивание колышущейся воды. Он продолжал рассматривать, что же там еще, как вдруг кто-то, схватив его за шиворот, оттащил от ямы. Это был тот самый брахман, что читал мантры. Не отпуская ворот его рубахи, брахман протянул Дину большой половник и велел положить туда рупию.
Когда блестящий кружочек упал в половник, брахман, продолжая читать мантры, опустил туда же благовония — мускус с камфорой, поджег их и сделал знак, чтобы они нагнулись над колодцем. Горящий уголек полетел вниз. Достигнув поверхности воды, уголек ярко вспыхнул на миг, высветив часть скалы, которая в отблесках пламени казалась голубоватой и будто извивалась как змея, а прямо посредине из воды выступало высеченное из черного камня изваяние Шива-линги. Дину и Рукмини широко открытыми глазами смотрели вниз. Когда огонь погас, они молитвенно сложили руки, поднесли их ко лбу и, низко поклонившись брахману, отступили на шаг.
— Ну как, видели? — грубо спросил брахман. — Заметили змей, что обвиваются вокруг Шива-линги?
При мерцающем пламени действительно создавалось впечатление, будто черное изваяние обвивают змеи. Правда, Дину заметил только отливающую голубым часть скалы, а Рукмини — что-то неясно различимое, выступающее из черной воды.
Отойдя от колодца, они попали наконец во двор, выложенный большими квадратными плитами. Справа от них находился храм, в глубине которого они увидели изваяния богов и богинь в ярких одеждах, увешанные жемчужными ожерельями и гирляндами из живых цветов. Прежде чем ступить во двор, паломники должны были подойти к небольшому бассейну, у которого стоял еще один брахман: он черпал ведром из бассейна воду и почтительно просил каждого совершить омовение. Вымыв руки и ноги, супруги прошли во двор, и Дину выложил на поднос сладости и все остальное, что необходимо для обряда. Все это он захватил с собой по совету деревенского пандита.
Но дальше произошло то, от чего сердце у Дину заколотилось.
Усевшись прямо посреди двора, пуджари стал совершать обряд. Рукмини оказалась между пуджари и Дину. Сначала пуджари долго читал мантры, потом встал и принес бронзовый сосуд, до краев наполненный горящими углями. Продолжая читать мантры, он брызгал на угли топленое масло или бросал что-то из принесенного паломниками — угли на миг вспыхивали и начинали дымиться. Пуджари поставил сосуд посреди двора и велел Рукмини нагнуться над ним. Из сосуда валил густой дым. Рукмини исполнила приказание, однако скоро ей стало невмочь. Не обращая на нее внимания, пуджари поднял сосуд и кругообразными движениями стал водить им около ее лица. Чувствуя, что задыхается, Рукмини отвернулась. Пуджари заметил это и строго приказал Дину, чтоб жена держала голову прямо, иначе богиня не сменит гнев на милость.
Рукмини заволновалась. Глаза у нее испуганно забегали, лицо посерело от страха. Однако совершение этого обряда составляло главную цель их паломничества, и вести себя надо было так, как предписывает обычай. Дину держал голову жены, крепко зажав ее в ладонях. Собрав последние силы, Рукмини вырвалась из рук мужа. Край накидки соскользнул с головы, и ветерок трепал ее волосы. Перед глазами у нее клубились рои огненных мух.
— Оставь ее! — сказал пуджари. — Это дух богини входит в нее.
Дину с опаской отступил на шаг в сторону. Голова у Рукмини бессильно болталась, волосы были растрепаны, нижняя челюсть отвисла. В этой женщине с трудом можно было узнать Рукмини.
Пуджари возвысил голос — мантры зазвучали внятней и громче. Быстрым движением он отодвинул за спину сосуд с углями, поднос, наполненный сладостями, и еще какой-то предмет.
— Богиня гневается. Сейчас бить станет. Отодвинься дальше.
Дину послушно отступил еще на полшага. Брови Рукмини были страдальчески сведены, черты лица обострились. Дышала она тяжело, ей явно не хватало воздуха. Вдруг Рукмини дернулась всем телом и, упав на спину, стала биться точно в приступе падучей. Голос пуджари звучал все громче.
— Богиня гневается! Взгляни только на ее брови! — воскликнул пуджари. — Она качается в колыбели гнева!
Повернувшись к Дину, пуджари приказал ему положить жене в рот кусочек сладостей: так ей будет легче. Сказать-то легко, а как это выполнить, когда она корчится как в падучей! Однако Дину покорно взял с подноса ладду и стал запихивать его в рот извивающейся Рукмини. Но губы жены были крепко сжаты.
— Что же ты медлишь? Богиня гневается!
Тогда Дину придавил жену коленом к земле, одной рукой с силой нажал ей за ушами, а другой сунул ей в рот сладкий комочек. Рукмини дернулась и замотала головой. Не теряя времени, Дину ухватил ее за волосы и втиснул в рот еще один комочек ладду. Глаза у Рукмини, казалось, готовы были выскочить из орбит. Лоб стал влажным от пота, губы посинели, грудь тяжело вздымалась. Пуджари еще более возвысил голос.
Дину устал. Руки у него дрожали, сердце бешено колотилось в груди. Однако, когда Дину во второй раз попытался разжать Рукмини зубы, она сама открыла рот, и Дину тотчас же вложил туда комочек ладду. Липкие крошки рассыпались по каменным плитам. Наконец Рукмини успокоилась. Она уже не билась, а, безмерно усталая, с растрепанными волосами, неподвижно лежала на полу. Во рту у нее торчал комочек ладду.
— Страждущая обрела исцеление! — возгласил пуджари. — Богиня осталась довольна ею!
От пережитого волнения сердце у Дину продолжало колотиться.
Пуджари поднял поднос и, мельком взглянув на Дину, небрежно бросил:
— Пять рупий.
Дину поспешно вскочил, вынул из кармана три рупии и протянул их жрецу. Пуджари презрительно швырнул их на пол и, взмахнув рукой, повторил:
— Пять рупий!
Дину вскипел. Ему уже давно не нравилась вся эта затея. Пообтершись в столице, он теперь смотрел на обряды скептически и, если бы не мать, ни за что бы не повез сюда жену.
— Ты почему бросил деньги на землю? — выпалил Дину. — Не мог в руки отдать?
— Как ты смеешь оскорблять богиню, презренный? — завопил брахман и взглянул на Дину с такой ненавистью, что у того от страха дрогнули колени. Пока совершался обряд, Дину успел заметить, что по двору шныряют еще несколько жрецов-пуджари, на площадке для жертвоприношения с секачом в руках неподвижно застыл детина, рядом с ним — его помощник, у колодца торчит еще один брахман, а посреди двора без сознания лежит Рукмини. Поняв, что силы неравны, Дину молча собрал раскатившиеся в разные стороны серебристые кружочки и, достав из кармана еще две рупии, протянул их жрецу.
Пуджари принял деньги и, взяв с подноса горсть сладостей, протянул Дину.
— Прими благословение богини!
Дину подставил пригоршню.
— Богиня больше не гневается на вас, — торжественно произнес пуджари. — Великой милостью покровительницы нашей станет теперь жена твоя приносить потомство. — И, внимательно изучив лоб Дину, добавил: — У тебя будет сын! По милости богини у тебя будет сын! Приноси ей подношения каждые пятнадцать дней!
Рукмини все еще не приходила в сознание, губы у нее были синие, и Дину поторопился вынести ее со двора и отправиться восвояси.
Глава 11
Сегодня квартал показался Басанти совсем чужим и незнакомым. Неужели все могло так измениться за каких-то несколько месяцев? Многие здания обветшали, белые когда-то стены были в грязных подтеках. Из дверей коттеджа, что рядом с молочной лавкой, выходит господин Капур. Он тоже как-то постарел и сгорбился. Господин Капур смотрит на Басанти и не узнает ее. Он отворачивается, медленно переходит на противоположную сторону улицы, и Басанти про себя решает, что господин Капур, как и в прежние дни, отправился в ближайшую чайную выпить на досуге стаканчик крепкого чаю с молоком. Он и прежде выходил в это же самое время. Старушка из дома напротив осторожно идет вдоль тротуара, катя перед собою что-то наподобие узкой металлической рамы на колесиках. И Басанти про себя отмечает, что прежде старушка обходилась одной лишь тростью. Старушка очень похудела за это время, и Басанти вдруг стало жалко ее. Во дворе господина Мехты срублены все деревья. Голым теперь кажется двор и неуютным. И зачем надо было рубить деревья? Басанти несколько раз забиралась в сад господина Мехты — полакомиться плодами или просто так, чтобы побыть в одиночестве. А теперь там даже деревца не осталось.
На руках у нее ребенок — сын Паппу. Она гордо несет его, с непривычки то и дело перебрасывая с руки на руку. Ежеминутно останавливаясь, она рассматривает знакомые здания. Следом за нею, тяжело припадая на правую ногу и громко постукивая тростью по тротуару, шествует ее муж. Дойдя до квартала, Басанти жадно разглядывает все вокруг: точно потеряла здесь что-то и уже не надеется найти.
На остановке такси машин стало намного больше, чем прежде. И таксистов тоже стало больше. Озорной все народ. Басанти уже почти миновала остановку, как вдруг за спиной послышался чей-то голос:
— Братцы, да неужели мы хуже этого хром-ноги?
В ответ раздался дружный хохот.
Шуточка таксиста нисколько не задела Басанти: просто, наверно, кто-то из них узнал ее, и, если бы не было рядом мужа, она бы нашла что ответить нахалу. Раньше она не давала спуску шутникам. Раньше, когда они еще жили в поселке и женщины направлялись работать в Рамеш-нагар, у стоянки такси непременно начиналась веселая словесная перебранка… «Все переменилось, — подумала Басанти со вздохом, — а этим нахалам хоть бы что», — и неторопливо прошествовала дальше.
Солнце стояло уже высоко, и к молочной лавке из коттеджей потянулась прислуга с корзинами, полными пустых бутылок. Может, мать тоже сидит здесь вместе со всеми?
— Эй, Басанти! — вдруг окликает ее кто-то. Она оборачивается и видит Джассу — слугу тетушки Сушмы. Он сразу же узнал ее.
— О, да у тебя уже усики пробиваются, Джасса!.. — весело приветствует его Басанти. — А как вытянулся! У кого служишь-то теперь?
— Все там же — у тети Сушмы.
— И по-прежнему молоко разбавляешь водой?
— Кто разбавляет водой?
— Ладно, ладно! А разве не ты разбавлял молоко водой из колонки, что на задворках?
— Теперь в колонках воды рано утром не бывает, — сердито бурчит Джасса, потом, кивнув головой на хромого портного, вполголоса спрашивает: — А это кто?
— Где?
— Да за тобой тащится… хромой такой.
Басанти оглядывается и тоже вполголоса отвечает:
— Отец твой.
— Какой же это мой? — Лицо Джассы расплывается в улыбке. — Вот этого пацана, наверно, — кивает он на малыша, которого Басанти держит на руках.
— Ты Дину не видал? — неожиданно вырывается у нее.
— Откуда ему быть, Дину-то?
Но Басанти, спохватившись, уже берет себя в руки. Она сама была поражена — имя Дину вырвалось у нее совершенно непроизвольно. Поэтому она, тотчас же меняя тему, заговаривает о другом:
— А тут вот раньше дхоби сидел, мой дядя — брат отца. Где он теперь?
— Дхоби? Да он и теперь тут сидит, — говорит подросток. — Ты, наверно, слыхала: и тележку, и утюг у него полицейские отобрали.
— А как же он теперь?
— Как теперь? Работает у тех, кто пригласит. Тележки-то у него нету. И спит где придется.
— А почему же так получилось?
— Выгнал его из дому старший сын — Манглу.
— Да что ты говоришь? Неужели выгнал?
— Обоих выгнал — и отца, и мать. Они же решили у него жить. В один прекрасный день он их обоих и выгнал, а новую тележку приспособил фрукты возить. Он фруктами торгует теперь, на той стороне площади сидит.
Наступает неловкое молчание.
— Сейчас-то они работают? — произносит наконец Басанти.
— Жена его ходит по домам, а самому не до того. Помнишь, дочка у него была, Лачхми звали? Так вот он занимается тем, что разыскивает ее.
— Это еще почему?
— А сбежала от них Лачхми-то! И никто не знает куда.
Опять помолчали. Действительно, многое за эти месяцы переменилось в квартале. И людей будто наполовину стало меньше. Когда они направлялись в Рамеш-нагар и Булакирам сказал ей, что по пути им первым делом надо навестить тестя, Басанти промолчала: у нее не было ни малейшего желания встречаться с отцом. И сейчас она была рада, что отца нет на обычном месте — у стены напротив стоянки такси. Чуть в стороне от того места, где располагался отец, работают два незнакомых ей молодых парикмахера. Матери тоже нет у молочной лавки, хотя она всегда являлась сюда задолго до открытия.
У лавки толпился народ — прислуга из ближайших коттеджей, на досуге оживленно обмениваясь новостями. Басанти большинство лиц показались незнакомыми.
Тем временем, постукивая посохом, к ним подходит Булакирам. Но Басанти даже не двигается с места.
— Ты ступай, подождешь меня на рынке, — произносит она и продолжает разговор с Джассой. От подростка она узнает кучу новостей. Оказывается, теперь в большинстве коттеджей Рамеш-нагара чисткой посуды и уборкой занимаются мадрасцы. Прислуги в домах тоже почти не осталось — все стараются подыскать место чапраси, кондуктора или устроиться рабочим на фабрику.
— Помнишь Вишну? — продолжает Джасса. — Он еще был в услужении у господина Бадхеры. Теперь Вишну грузовик водит.
«Где-то теперь тетя Шьяма? — подумала вдруг Басанти. — Может, она тоже перебралась куда-нибудь в другое место? Эта, как только увидит меня со стариком, непременно скажет: «Правильно поступил твой отец! А то моталась бы бог знает где. А сейчас и посмотреть любо-дорого: шелковое сари, на ногах браслеты. И ребенок разодет».
Басанти непременно хотелось повидаться с тетей Шьямой. В этом, собственно, и заключалась основная цель ее визита в Рамеш-нагар. Басанти не терпелось показать ей своего ребенка, своего Паппу, который, уткнувшись носом в плечо матери, сейчас безмятежно спал. Ну и, конечно, блеснуть перед ней своими нарядами.
Кроме желания прогуляться по Рамеш-нагару, у Басанти была еще одна мечта, которая то переполняла все ее существо восторгом, то вызывала в сердце щемящую боль. Поэтому, дойдя до поворота, за которым улица вела прямо к дому тети Шьямы, Басанти вдруг резко поворачивает и направляется к рынку.
У входа на рынок ее уже поджидает Булакирам. Портному надо купить материала, а Басанти намеревается приобрести для малыша бутылочку с соской. Кормить ребенка Басанти теперь будет только из бутылочки, как те хозяйки, у которых ей доводилось работать. Перед кормлением она уже повязывает ребенку нагрудник, а после купания присыпает детской пудрой. Она старается ни в чем не уступать хозяйкам, у которых она прежде чистила посуду. Когда ребенок немного подрос, Басанти стала укладывать его в расписной кроватке, увешанной разноцветными игрушками.
Сделав необходимые закупки, они вышли с рынка и направились в примыкавший к нему парк. Она с жадным любопытством рассматривала знакомые места. Перед входом в парк раньше сидел продавец сладостей. Теперь его здесь не было — видно, куда-то перебрался. Неужели ее так долго не было здесь?
Крохотный парк показался ей прелестным. Сердце у нее снова наполнилось детской радостью и смутным ожиданием. По зеленой траве лужаек с криками и воплями носились ребятишки. Сюда, в этот парк, она когда-то возила в коляске малыша тети Сумитры. Может, сейчас он вместе с другими бегает по поляне, но узнать его среди детворы не так-то легко. Однако, вглядевшись повнимательнее, она узнала не только малыша тети Сумитры, но и еще одного карапуза, с которым ей приходилось бывать здесь.
Многое в квартале изменилось, а вот сам парк ничуть, только казался меньше, чем прежде, а стены обступивших его зданий уже не сверкали белизной. Как и в прежние дни, сюда стекались безработные, которые коротали время, лежа на зеленой траве. Парк был чем-то вроде пристанища для безработных и стариков. В те дни, когда Дину оказался без работы, он тоже приходил сюда и, лежа на траве, одну за другой курил бири. Безработные, у кого в кармане не оставалось и ломаной пайсы, целыми днями лежали под кустами, а те, у кого еще водилась какая-то мелочишка, сбивались в компании, резались в карты, хрустели жареным арахисом и пустословили. На скамейках, расставленных вдоль аллей, уже сидели первые посетители — старички и старушки из ближайших коттеджей. Старушки размещались отдельно, облюбовав себе самый дальний уголок парка. Басанти знала почти всех завсегдатаев этих мест. Вот господин Капур, как обычно, читает газету. «В кармане у него, тетечка, всегда какая-нибудь газета. Чуть где присел на минутку, вынимает из кармана газету и начинает читать», — обычно докладывала Басанти Шьяме о странном господине Капуре, а заодно и об остальных посетителях парка. «А один раз вот что случилось! Смотрю — господин Капур, как всегда, проходит к своей скамейке, усаживается. А на другом конце скамейки сижу я — занимаюсь с малышом тети Сумитры. И вы знаете: это был единственный день, когда при нем не оказалось ни газеты, ни очков. Сидит и не знает, куда себя деть. Потом, смотрю, встает, подходит к старичку на соседней скамейке, извиняется и просит у него пару страниц газеты. Потом подходит к другому и просит дать ему очки. Когда у него в руках появилось и то и другое, он тут же уселся на скамейку и уткнулся в газету… А если соберутся вместе двое или трое, — со смехом обычно рассказывала Басанти, — то все разговоры у них только о лекарствах: кто чем лечится… А еще один говорит: «Я за день выпиваю только шесть стаканов воды, и ни капли больше». Другой: «Я, говорит, две пресные лепешки съедаю утром и одну — вечером. Конечно, я бы и еще что-нибудь съел, но режим есть режим. Зато я никогда не жалуюсь на желудок», — и, подражая поборнику режима, Басанти с серьезным видом поглаживает рукой по животу и тут же, не выдержав, долго хохочет. Насмеявшись, она продолжает: «А я, — говорит третий, — на ужин съедаю всего лишь два сухаря: размочу в молоке и ем. Ужин — ровно в семь, после этого не беру в рот ни крошки». — И, снова подражая кому-то, с важным видом произносит: «Причина всех болезней в нашем возрасте давно известна: это хронические запоры. Никогда не следует допускать запоров». А еще, тетя, когда соберется несколько человек, обязательно упоминают про «диспуты». Что такое «диспуты», тетя?..»
В самом дальнем уголке парка, на больших скамейках, уже сидят старушки, оживленно обмениваясь новостями. Непременным членом этих собраний — Басанти это знала — была и свекровь тети Шьямы. Неторопливо двигаясь вперед, Басанти окидывает внимательным взглядом лица собравшихся. Тете Шьяме Басанти рассказывала и о свекрови и была не прочь посмеяться над нею. «А вы знаете, тетя, они сидят там до самого вечера. Расходятся, когда на небе уже звезды начинают высыпать. Очень все боятся своих невесток. И расходятся с таким расчетом, чтобы прийти домой, когда домашние уже поужинали. Нынче свекровь тети Сушмы говорит: «Я покупаю себе отдельно бутылку молока. Спасибо продавцам в молочной лавке — они оставляют мне… Чтобы дома не выслушивать попреки, что кто-то выпил молоко».
Басанти неподражаемо копировала их манеру говорить и вести себя, однако при одном лишь взгляде на них ей всегда становилось почему-то грустно. Свекровь тети Сумитры, например, ежедневно приходила сюда и каждый раз, справившись о здоровье собеседниц, неизменно изрекала одно и то же: «Все мы ходим под богом. Я вот каждый день совершаю утренний обряд, творю молитву, но легче на душе все равно не становится…»
Иногда старушки вполголоса пели гимны во славу бога Кришны, хором читали молитвы, однако чаще одна из них начинала рассказывать какую-нибудь историю из жизни богов и богинь. Случалось и так: поют, бывало, они гимны, как вдруг, прервав пение, одна из них начинает жаловаться на свою жизнь и тут же разрыдается. «Терпи, сестрица, — принимаются утешать ее подруги. — Наберись терпенья, молчи да уповай на всевышнего. Не поддавайся мирским соблазнам. Вручи судьбу свою воле божьей…» Вытерев слезы, старушка смиренно отвечает: «Помрешь, сестрица, когда смерть придет, а от нас с вами это не зависит. А пока жива, и о хлебе насущном думать приходится».
Иногда с детской площадки прибегал малыш и, схватив бабушку за руку, принимался тащить ее домой, словно там ее ждали райские кущи. При виде малыша морщины будто разглаживались, на лице появлялась добрая улыбка, а руки ласково обнимали ребенка и прижимали его к груди: «Внучек ты мой, Субхаш… А скажи-ка тете, как звать тебя…»
Не увидев знакомого лица, Басанти поворачивает назад. Ей очень хотелось, чтобы свекровь тети Шьямы сегодня была здесь: ее можно было бы расспросить о тете Шьяме. Но старухи не было, и Басанти направляется к выходу, где на скамейке у ворот ее терпеливо поджидает Булакирам, держа на руках ребенка и не сводя глаз с приближающейся жены.
— Может, отсюда до автобуса пройдем улицей? — робко предлагает Булакирам.
Однако Басанти заупрямилась.
— Ну нет, — твердо произносит она. — Мы пройдем мимо хлебной лавки, выйдем к перекрестку, а уж там повернем к остановке.
Втайне она все еще надеялась увидеть тетю Шьяму. Идти к ней Басанти не хотелось, а встретиться вот так, случайно, было бы совсем неплохо.
Миновав хлебную лавку, они свернули направо и оказались прямо перед домом Шьямы. Басанти почему-то была уверена, что сейчас тетя Шьяма непременно выйдет на балкон. Как раз в это самое время она просыпается, а встав с постели, первым делом выходит на балкон. Однако на балконе никого не было, только развевались на ветру вывешенные для просушки сари.
Хромой Булакирам ковыляет впереди, а Басанти, задрав голову, медленно следует за ним, не спуская глаз с балкона. На ней ярко-красное шелковое сари, край которого то и дело соскальзывает у нее с плеча, на ногах мягко позвякивают браслеты. Малыш — в желтой сатиновой распашонке, на голове у него, несмотря на жаркий день, зеленая шапочка с белой кисточкой.
Тетя Шьяма так и не появилась на балконе.
Басанти опускает голову и уже собирается повернуть к площади, как вдруг застывает на месте — навстречу ей движется Дину. Она стоит точно громом пораженная, не сводя с его лица широко раскрытых глаз.
Дину тоже узнает Басанти, правда не сразу: он не привык видеть ее в таком роскошном наряде. Ну конечно же, это Басанти. Узнав ее, он тотчас переводит взгляд на человека, который, тяжело припадая на правую ногу, ковыляет впереди. На голове у того пышный белый тюрбан, в руках посох, которым он постукивает по асфальту. Хромой, а держится важно. За ним, как добродетельная жена, покорно следует Басанти. Поначалу он даже глазам своим не поверил.
Басанти по-прежнему стоит не двигаясь. Сейчас она ничего не видит, кроме Дину. У нее такое ощущение, будто отнялись руки и ноги, и, теряя остаток сил, она еле держится на поверхности, а накатившая волна накрывает ее с головой. При одном лишь взгляде на Дину ноги у нее делаются точно ватные.
— Ты когда… вернулся? — произносит наконец Басанти, когда он ближе подходит к ней. Ее огромные глаза смотрят ему прямо в лицо. — Это твой сын! — радостно говорит она и протягивает ему малыша. — На тебя похож. Ведь правда похож? Ты только посмотри на него. Когда же ты все-таки вернулся?
Малыш внимательно разглядывает Дину своими большими черными глазами. При виде ребенка Дину испытывает странное, неведомое ему до сих пор чувство. Сначала в душе шевелится какая-то робость, потом безграничная радость охватывает его. Действительно, это его сын! За десять лет, что он прожил с женой, она так и не смогла принести ему ребенка. Каждый раз у нее случался выкидыш. А тут его сын, его собственный сын! Дину изумленно смотрит на малыша.
А Басанти кажется, что одно только прикосновение его руки в один миг восполнило бы все то, чего ей так не хватало в прошлом, недостает в настоящем и без чего она не сможет жить в будущем.
— Ты же сказал, что вернешься очень быстро. Почему же ты не вернулся? — дрогнувшим голосом продолжает Басанти. — Почему даже весточки не подал?
Дину не отрываясь смотрит на малыша. Он явно отдает предпочтение сыну, а не матери.
— Когда я шла сюда, почему-то была уверена: сегодня непременно что-нибудь случится, — радостно произносит Басанти.
Дину молчит. Потом, кивком головы показав в сторону хромого старика — тот уже успел уйти далеко вперед, — тихо спрашивает:
— Твой муж?
Лишь какой-то миг колеблется Басанти.
— Мой муж — ты.
— Ты же не со мной, а с ним идешь. Тебя все-таки выдали замуж?
— Ну и что?
— А то, что ты с ним живешь.
— Ну и что из того?
Все ее существо переполняет чувство радости. Она жадно смотрит на Дину и вновь ощущает себя озорной беззаботной девчонкой. Вдруг, задорно засмеявшись, Басанти поднимает малыша над головой и подает его Дину:
— Бери! Это твой сын!
Протянув руки, Дину принимает ребенка — крохотное, бесконечно дорогое существо, по-прежнему строго и с недоверием смотревшее на него своими большими черными глазами. И снова странное чувство овладевает им — неужели это действительно его сын, плоть от плоти его? Оказавшись на руках у Дину, ребенок глубоко вздыхает и прижимается к его груди.
— Ты где живешь теперь? — спрашивает Басанти.
— В мазанке у Раму.
— Где это?
— А там… за прудом…
— Пошли, — коротко бросает Басанти и, ухватив Дину за локоть, тащит его в ту сторону.
Тем временем Булакирам достигает наконец дерева ним на противоположной стороне площади. Остановившись в его тени, он поворачивается и с трудом различает вдали Басанти, которая разговаривает с каким-то мужчиной. Потом вдруг Басанти и тот мужчина быстрыми шагами удаляются в противоположную сторону. Уж не мерещится ли ему? Портной протирает глаза и еще раз смотрит в ту сторону. Видя, что они действительно уходят, портной тонким голосом кричит:
— Басанти-и-и! Рани-и-и Басанти! Я здесь!..
Однако мужчина и женщина уходят все дальше и дальше. Ребенка не видно — кто-то из них несет его на руках. И тогда на портного нападает вдруг панический страх.
— Басанти-и-и! Басанти-и-и!! — И, больше обычного припадая на правую ногу, он торопливо движется назад. До старика наконец доходит: произошло что-то непредвиденное и непоправимое.
— Басанти-и-и!! — задыхаясь от быстрой ходьбы, кричит портной. — Остановись, Басанти! Куда ты бежишь?
Хромая, старик быстро пересекает улицу. Басанти и незнакомец уходят все дальше. Вот они достигают хлебной лавки и скрываются за углом.
— Басанти-и-и! — в отчаянии кричит Булакирам и, остановившись, в бессильной ярости швыряет вслед беглецам свой посох. — Вернись, мерзавка! Вернись, говорю тебе!
На шум из лавки выскакивают трое. Отложив инструмент, неторопливо поднимается сидевший под деревом сапожник.
— Я в суд подам! — плача, кричит портной. — Я это дело не оставлю!.. Басанти-и-и! Вернись, потаскуха! Вернись, говорю тебе!
И портной спешит дальше, все больше припадая на правую ногу и держась левой рукой за поясницу. В пылу погони он не заметил, куда исчезли беглецы.
— Караул! Караул! Помоги-и-те! Жену украли! Помогите, люди добрые! Я полторы тысячи рупий отдал за нее!..
Глядя на портного, прохожие смеются. Только один человек решает помочь старику, но, пробежав с ним десятка два метров, возвращается назад. Продолжая оглашать воплями улицу, портной спешит дальше.
У Басанти было такое чувство, что наконец-то все встало на свои места. Дину с ней, значит, она получила все, что хотела, и ее скитаниям пришел конец. Только сейчас, идя рядом с Дину, она впервые поняла, что такое семья: муж, жена и их дитя.
Они вошли в заросли кустарника, буйно разросшегося перед длинным рядом убогих лачуг. В глубине зарослей — все местные называли их садом — прятался небольшой пруд. Вода в этом пруду не пересыхала даже в самое жаркое лето, поэтому жители ближайших поселков именовали его озером. Вот здесь, на зеленой траве в тени двух развесистых деревьев, росших на берегу пруда, беглецы и присели отдохнуть.
На языке у Басанти вертелись десятки вопросов, которые она намеревалась задать Дину, ей хотелось высказать все, что накипело на душе, но, едва она уселась рядом с ним, все вопросы отпали как-то сами собой, сделались ненужными, потеряли всякий смысл.
— А ты знаешь, еще по пути в Рамеш-нагар я предчувствовала: что-то обязательно должно случиться, — тихо проговорила Басанти. — Ноги словно сами несли меня туда. Мы свернули у хлебной лавки, а ведь хотели идти совсем в другую сторону! Почему бы это? Ну бывает же так!
Паппу крепко спал на руках у Дину. Дину изредка гладил его по голове, а потом, расчувствовавшись, даже поцеловал.
— Где родила? — спросил он наконец.
— А тебе-то не все равно где? — с обидой в голосе произнесла Басанти. — Ты же бросил нас!
— У тебя был еще кто-нибудь?
— Никого у меня не было, — тихо проговорила она, прижимаясь щекой к его плечу. — У меня был только ты.
Наступило молчание. Долго сидели они так: Дину со спящим ребенком на руках и Басанти, доверчиво положившая голову на его плечо.
— А тетя Шьяма говорила, что ты никогда больше не вернешься. «Не вернется, говорит, и не жди». А я ей: «Дину, говорю, непременно вернется, тетя, вот увидите…» Я же тебя лучше знаю, чем она, правда?
Теперь Басанти уже была уверена, что какая-то неведомая сила привела ее к хлебной лавке только потому, что там находился Дину. И, повинуясь этой силе, она шла.
— А твой муж… он не доберется сюда? — спросил Дину.
— У меня есть только один муж: это ты, — твердо произнесла Басанти. — А в этих переулках да закоулках не только он — отец и тот меня не отыщет. Я-то уж знаю эти места.
Басанти не хвасталась. Действительно, не было в этом квартале ни одной стены, которую бы она не перелезла, не было ни одного дерева, на которое бы она не взбиралась, и, кроме того, во время своих вынужденных скитаний, когда ей приходилось прятаться то от Барду, то от отца, она хорошо изучила этот лабиринт и могла с закрытыми глазами отыскать нужный переулок.
— Лицом в тебя пошел, — с гордостью в голосе произнесла она, наклоняясь к спящему малышу. — И глаза как у тебя, и подбородок. Правда?
— А волосы как у тебя — вьются, — сказал Дину.
От его слов Басанти расцвела.
— Да сейчас-то совсем уж почти и не вьются. А были настоящие кудряшки. Будем мыть ему головку, смазывать маслом, вот тогда они опять начнут виться. Когда я работала в Суджансинх-парке, у моей хозяйки волосы были по-настоящему вьющиеся. Я как-то помыла голову и из ее флакона потихоньку смазала. Думала, обычное масло, а это было вовсе и не масло, что-то совсем другое.
— И хозяйка ничего тебе не сказала? — удивился Дину.
— В тот же день прогнала. «Хочешь, говорит, смазывать волосы дорогим маслом, поищи другую работу!» — Басанти весело рассмеялась. — А в таких местах, как Лоди-колони или Суджансинх-парк, работы хоть отбавляй, даже, случается, комнату для жилья выделяют. А вот платят мало. И есть почти ничего не дают: два тоненьких ломтика хлеба и чашку чая, вот и все. У нас-то тут куда лучше. Тут хоть чаю пей сколько влезет. Утром, бывало, придешь на работу, а хозяйка: «Ты, Басанти, говорит, сначала ступай выпей чаю. Приготовишь себе на кухне». А в десять, когда хозяин отправляется на службу, хозяйка выходит проводить его. А возвращается, первым делом: «Ступай, говорит, Басанти, приготовь для начала по чашечке чая. И мне, и себе. Потом принимайся за работу, а я тем временем помоюсь».
Басанти весело щебетала, как в былые дни, а Дину смотрел на нее и глаз не мог отвести. И ей нравилось, что он смотрит на нее такими глазами. От его взгляда в душе ее поднималась горячая волна. Дину вернулся, она вырвалась из лап хромого старика, а то бы сейчас распустил слюни и все обнимал бы ей ноги. Теперь рядом с нею сидит настоящий ее муж, на руках держит их сына, и больше ей ничего не надо. Басанти так истосковалась после долгой разлуки, что сейчас у нее было только одно желание: протянуть руку и погладить Дину по голове.
— Ты занимал у Барду триста рупий? — неожиданно для себя самой спросила Басанти.
От изумления глаза у Дину округлились.
— Для чего ты занимал у него триста рупий? — продолжала допрашивать Басанти. — Или, может, не занимал, а продал ему что-то?
Дину по-прежнему смотрел на нее округлившимися глазами.
— Велосипед, что ли, продал?
— Велосипед, — пробормотал Дину, кивнув головой.
— Ты действительно велосипед ему продал?
— Мне нужны были деньги, в деревню ехать собирался.
— Барду говорил, что за три сотни ты продал ему меня. Это правда?
— А зачем бы я тебя-то стал продавать? Я продал ему свой велосипед.
— Он говорил, что за велосипед отдельно отдал тебе сотню.
— Брешет подлец! — сверкнул глазами Дину и, помолчав, добавил: — Сначала-то за велосипед он сотню давал, но я уперся, и в конце концов ему пришлось выложить три. Мне очень нужны были деньги.
— А почему мне ничего не сказал? Скрылся точно вор…
— Да тогда отправлялось несколько человек наших, деревенских. Вот я к ним и примкнул.
Басанти неотрывно смотрела в лицо Дину, стараясь заглянуть в его влажно поблескивающие глаза. Трудно было понять, правду говорит Дину или лжет. Однако в душе Басанти уже ликовала. Какая разница — правду говорит или лжет? Она поверит, что бы он ни сказал. И какая разница, спросит она его об этом или промолчит?
Дину теперь смотрел на нее другими глазами. Перед ним была уже не прежняя Басанти — наивно-восторженная девочка, которую он привез в свою каморку при общежитии. Перед ним была совсем другая Басанти — взрослая женщина, которая вручила ему судьбу их сына.
— Как поживает твоя жена?
От неожиданности Дину вздрогнул. Конечно, он ждал этого вопроса, но не думал, что он всплывет так скоро.
— Она родила наконец ребенка?
Дину отрицательно покачал головой, и на лицо его легла тень печали. Порывисто прижав к груди сына, он хрипло сказал:
— У нее каждый раз случается выкидыш.
— Вези ее сюда, — решительно сказала Басанти. — Я еще тогда говорила тебе. Говорила ведь? Вези ее сюда. У тети Шакунталы тоже поначалу были выкидыши. Это госпожа из дома номер семь. Она съездила в Мератх, и там одна женщина-врач прописала ей лекарство — черный такой порошок, точно уголь толченый. Попила она этот порошок, и все наладилось. На шестнадцатом году замужества родила сына… И потом еще двоих. Правду тебе говорю: вези-ка ты ее сюда, — горячо продолжала Басанти. — Я же еще тогда говорила тебе. Говорила ведь? Мы с тобой будем работать, а она в доме хозяйничать. Ну как, договорились?
И с тем же жаром, с каким рассказывала о лечении тети Шакунталы, Басанти принялась упрекать его:
— Ты почему вестей не подавал о себе? Уехал на три месяца, а вернулся через год? А я-то все это время ждала тебя, все глаза проглядела. Знаешь ли ты, что я ждала даже в тот день, когда меня везли к хромому старику? Все смотрела на дорогу и думала: вот приедет, вот приедет… Разве так поступают? А что мне оставалось делать? Даже крыши над головой не было, а скоро роды…
Они поднялись, когда по земле протянулись длинные тени. Басанти снова чувствовала себя уверенной и довольной жизнью, и ей казалось, что будущее ждет ее как дорогого гостя — с радостно распростертыми объятиями. Теперь она снова могла строить планы их совместной жизни.
До мазанки Раму они добрались уже в сумерках. Впереди шел Дину, за ним — с ребенком на руках — Басанти. Подойдя к мазанке, они остановились, Дину сделал еще несколько шагов вперед и постучал в дверь. Немного погодя дверь отворилась, и в проеме возникла фигура молодой горянки. Басанти так и впилась в нее глазами.
— Вот это и есть Рукмини, — негромко сказал Дину. — Она вместе со мной приехала сюда.
Глава 12
Как-то само собою произошло разделение жизненного пространства. На широкой кровати спали Дину с женой, на узенькой, что стояла у противоположной стены, — Басанти с ребенком. Замужней женщиной считалась Рукмини, хотя она на этом и не очень настаивала: как и Дину, Рукмини была не из разговорчивых. Просто так сложилось само собою: на одной кровати спали муж с женой, на другой — мать с ребенком. Ничего особенного Басанти в этом не усмотрела. Главное — ее ребенок был рядом с нею. Пусть законной женой Дину остается Рукмини, и спит с ним пусть тоже она, но сына-то у Рукмини нет, сын — у нее, у Басанти. Она испытывала гордость уже от одной этой мысли.
Басанти заговорила с Рукмини сразу же, едва переступила порог дома, и постепенно Рукмини перестала ее дичиться. И уже на следующий день, когда Дину отправился к Барду выкупать свой велосипед, Басанти принялась обучать Рукмини:
— В городе закрывать лицо не принято, дорогая моя. Да и неудобно это: как работать, если ничего не видно?
Лицо у Рукмини было почти белое, лишь слегка покрытое легким загаром. Слушая Басанти, она прятала глаза, смущалась, и щеки ее заливал густой румянец. Увидев в волосах Рукмини старинную гребенку, Басанти весело рассмеялась.
— Кто же теперь носит гребенки? Здесь повязывают волосы лентой. Вот, смотри, как у меня, — и она показала Рукмини ленту, которой были перехвачены ее волосы. — А еще тут принято украшать прическу цветами. Вот принесу цветов и покажу, — продолжала она наставлять подругу. — А ты слушай да запоминай… И одна никуда не ходи. Тут столько машин, что одна ты даже улицу перейти не сумеешь. Я научу тебя, как переходить улицу. Ты видела на перекрестках фонари?
Рукмини кивнула головой.
— Так вот, они называются «светофоры». Загорелся красный свет, нужно остановиться. Запомни: переходить улицу можно только на зеленый свет. Красный свет означает «Стой», зеленый — «Иди».
Потом Басанти принялась обучать ее, как следует одеваться.
— У тебя, видишь, шальвары из грубого домотканого полотна. Такие здесь уже никто не носит. Поняла? — И, словно вспомнив что-то, тут же продолжала — А еще носи корсет. Ты когда-нибудь надевала корсет?
Рукмини отрицательно покачала головой. Она представления не имела, что такое корсет, а когда Басанти показала ей свой, от смущения Рукмини залилась румянцем и замотала головой.
— Ничего, ничего, — рассмеялась Басанти. — Корсет тебе я тоже куплю.
Рукмини смотрела на нее с видом испуганной лани, из чего Басанти заключила, что добилась своей цели: Рукмини признала ее превосходство над собой. И тут Басанти выложила свой главный козырь:
— А телевизор ты видела?
Рукмини опять отрицательно покачала головой.
— А что это такое?
— Что же ты тогда видела в своей жизни? Ну, я свожу тебя как-нибудь к тете Шьяме. Сама увидишь, что это такое. Тут ведь почти в каждом доме телевизор.
Произнеся имя Шьямы, Басанти невольно смутилась. А что скажет тетя Шьяма, если она приведет с собою Рукмини? «Ну, кто был прав? — уже слышался ей голос Шьямы. — Я же говорила, что обманет!» На миг Басанти заколебалась, но тут же упрямо тряхнула головой.
— Значит, ты не знаешь, что такое телевизор? По телевизору кинофильмы показывают… Э, да ты, кажется, и кинофильма-то ни разу не видела! Ну, кинофильм — это… движущиеся картинки. Словом, по телевизору можно смотреть кинофильмы, не выходя из дома. Я много передач видела. У тети Шьямы хороший телевизор, заграничный.
Басанти еще о чем-то рассказывала Рукмини, потом стала напевать песенки из кинофильмов, попутно сообщая название кинофильма и имя исполнителя.
— Всем этим песенкам я тебя обязательно научу. Я их много знаю. Когда я была беременна, одиночество скрашивала песнями: все время пела.
И тут же вновь затянула звонким с легкой хрипотцой голосом:
Полюбила я того, Кто лишил меня покоя. Полюбила-а-а…Доведя мелодию до конца, Басанти спросила:
— А у тебя так никогда и не было ребенка?
Лицо Рукмини сразу как-то посерело, в уголках глаз блеснули слезы.
— А зачем плакать? Ну и что из того, что не было ребенка?! — Басанти ласково взяла ее за руку. — Не надо плакать, плакать ни к чему. Кто это у нас плачет? — утешив Рукмини, она продолжала наставлять ее: — А ты знаешь, я никогда не плачу. Я и плакать-то почти не умею. Но вот когда смотрю кинофильм, бывает, и заплачу. Не знаю почему, но случается. — И Басанти весело рассмеялась. — Ты же старше меня. Старше, а плачешь! — Подойдя к Рукмини, Басанти краем своего сари вытерла ей глаза и улыбнулась. — Мне же все известно, это я просто так спросила. Ты не расстраивайся. — И Басанти стала рассказывать ей историю тети Шакунталы: — В Мератхе живет одна женщина, вот она-то и знает средство. И дает всем, кто нуждается, а денег за прием не берет. Может, у тети Шакунталы еще остались те порошки. Я нынче же схожу к ней и спрошу. А нет — так и в Мератх съезжу. Мератх-то тут неподалеку. Утром поеду, к вечеру вернусь. Или вдвоем скатаем. Тогда эта женщина и осмотреть тебя сможет. А Паппу тоже с собой возьмем. Хорошо?
Глаза Рукмини блеснули, и она с надеждой взглянула на Басанти.
Прошлым вечером, когда Дину привел Басанти в дом, Рукмини несказанно удивилась. Она никак не могла взять в толк, кто ж такая эта Басанти и зачем она заявилась к ним. Ни в деревне, ни здесь Дину не обмолвился о ней ни единым словом. Правда, однажды после очередной ссоры он пригрозил ей, что опять уедет в Дели, а там у него есть женщина. Услыхав про женщину, Рукмини расплакалась. И хотя плакала она долго, утешать ее Дину даже не пытался. Однако прошло несколько дней, и Дину сам предложил Рукмини ехать с ним в Дели: он надеялся, что там ему удастся вылечить жену. По мере того как угасала надежда, неудержимо росло желание иметь ребенка. Поэтому неожиданная встреча с Басанти принесла ему огромную радость: у него есть сын! «Если у Рукмини и не будет ребенка, то у меня все равно есть сын», — думал он, ведя Басанти в свою мазанку. Как только Рукмини увидела за спиной Дину женщину с ребенком, сердце у нее тоскливо заныло. Не зная городских правил — может, так и положено? — она ничем не выдала своих чувств. Однако, видя, как дружески относится к ней Басанти, Рукмини постепенно оттаивала.
— Как только Дину найдет работу, мы с тобой поедем в город, — щебетала Басанти. — Я все покажу тебе: Красный форт, Коннат-плэйс[28]… Там столько народу, столько народу… Бывало, идешь — почти локтями проталкиваешься…
При одном упоминании имени Дину лицо Рукмини сделалось серым.
— Не называй по имени, — сказала она испуганно.
— Кого?
— Его.
— Этого прохвоста? — удивленно произнесла Басанти и звонко расхохоталась.
Щеки у Рукмини покрылись бурыми пятнами, и она поспешно закрыла лицо концом накидки.
— Грех называть мужа по имени.
— Если это грех, называй его на английский манер — дарлинг[29], — со смехом парировала Басанти. — Тетя Шьяма своего мужа всегда так называет — дарлинг. — И, подражая бывшей хозяйке, Басанти произносит: — Тебе еще чапати[30] положить, дарлинг? Скушай еще чапати, дарлинг. Ты почти совсем ничего не съел, дарлинг! — И, не удержавшись, расхохоталась.
Ее болтовне, казалось, не будет конца.
— Когда он найдет работу, мы с тобой купим одинаковые сари, закажем одинаковые кофточки — одного цвета и одного фасона. Ну как? Идет?
Рукмини ее предложение пришлось явно не по душе.
— Потом вместе отправимся гулять по улицам города. Я провезу тебя по всему Дели. Тут я каждый уголок знаю. Покажу тебе Красный форт, Коннат-плэйс, Ворота Индии… Там на каждом шагу мороженое продают. Ты пробовала мороженое?
По-детски раскрыв рот, Рукмини смотрела на Басанти.
— Мы с братом любили на автобусах кататься, — не дождавшись ответа, продолжала Басанти. — Тогда мы еще жили в поселке. А билет никогда не брали — и ни разу не попались. — И, вновь возвращаясь к прежней теме, заговорила, не скрывая своего восхищения: — Потом мы все вместе сфотографируемся. Тут неподалеку в Рамеш-нагаре одно фотоателье есть. Мы сходим как-нибудь туда.
У Басанти было такое чувство, что она начинает жизнь заново, и после перерыва, заполненного взрослыми волнениями и тревогами, к ней снова вернулось детство с его надеждами, радостями и огорчениями.
Но в это самое время вошел Дину, и вместе с ним — суровая правда их теперешнего положения.
А вечером произошло то, о чем Басанти никогда даже и помыслить не могла. Когда, намотавшись по городу, Дину вернулся домой, она заговорила с ним тем же высокомерным тоном, каким до этого говорила с его женой:
— Ты кого же это приволок сюда? Совсем дикарка, ну ничегошеньки не знает. Ее даже за порог выпускать нельзя, заблудится и дороги домой не найдет. Придется, видно, всему учить ее.
Тон ее очень не понравился Дину. Ему показалось, что это она не Рукмини поднимает на смех, а его самого — за то, что у него такая неотесанная жена. И он не сдержался. Когда Басанти еще раз повторила: — Кого же это ты приволок сюда? — Дину закатил ей такую пощечину, что у Басанти зазвенело в голове и она едва устояла на ногах. Ошеломленная, она застыла у входа, потирая рукой сразу загоревшуюся щеку.
— Ну, что встала? Мне, что ли, печь разжигать прикажешь?! — тем временем кричал Дину.
Она недооценила роль Дину в том будущем, о котором, размечтавшись, только что делилась с его женой. Басанти забыла, что она всего лишь одна из двух жен Дину и обязана исполнять любую его прихоть, хотя на руках у нее ребенок и на жизнь себе она сможет заработать сама. Она забыла, что хозяин в доме всегда мужчина, а не женщина.
Басанти долго стояла у двери, погруженная в горькие размышления. Конечно, нельзя сказать, что пощечина развеяла ее мечты и надежды, однако заставила кое над чем серьезно задуматься. Самое удивительное для нее заключалось в том, что, хотя трудности и невзгоды продолжали преследовать ее, ни изменить свой характер, ни расстаться с мечтой она была не в состоянии.
Время шло, а работы Дину так и не нашел, да он не очень-то ее и искал. Несколько дней он потратил на то, чтобы выкупить у Барду свой велосипед. Для этого он занял у Басанти семьдесят рупий из тех денег, которые когда-то дал ей на расходы старик портной. Сезон свадеб давно закончился, а до начала нового оставалось еще больше трех месяцев. Наняться в услужение к кому-нибудь Дину не хотел. Басанти сразу в трех местах договорилась об уборке квартир, однако при одном лишь упоминании о такой работе Дину презрительно морщил нос. Басанти несколько раз говорила ему, чтобы он тоже занялся этим, но в ответ он брезгливо кривил губы.
— Какой прок в такой работе? Лучше я на фабрику пойду или устроюсь чапраси в каком-нибудь офисе.
— Попадется какая другая работа — устроишься, но неужели ты думаешь, что она придет к тебе сама?
Иногда Дину заводил вдруг речь о том, как было б здорово научиться делать золото из меди и бронзы. Он заверял, что в Винай-нагаре живет один человек, который знает этот секрет. Так вот он пойдет к этому человеку и упросит открыть ему тайну. Все было, однако, гораздо проще: Дину считал для себя зазорным заниматься мытьем грязной посуды. Как это он, принадлежа к высшей касте и имея двух жен и собственный велосипед, будет делать такую работу? Басанти отметила появившуюся у него привычку жевать табак — раньше он терпеть не мог табак. Теперь он часами сидел у мазанки с Паппу на руках. Так обычно проходил его день. Случалось, с раннего утра он вдруг пропадал, и никто не знал, куда он исчезает. Возвращался обычно он на закате и тут же отдавал приказания обеим женам, кому и чем заниматься.
— Если твоя тетя Сушма не станет платить тебе тридцать рупий, бросай эту работу, — поучал он Басанти. — Нам такая работа ни к чему. В другом месте больше дадут.
Это была его старая привычка — отдавать распоряжения, поучать, чтобы избавить себя не только от работы, но и от лишних хлопот. А по ночам он наведывался то к Рукмини, то к Басанти и, кажется, стал считать это единственным достойным мужчины занятием.
Басанти очень скоро привыкла к новой обстановке: ей потребовалось совсем немного времени, чтобы окончательно приспособиться к ней. «Так будет продолжаться и дальше», — говорила она себе. Вперед она никогда не заглядывала, а впрочем, если б даже и попыталась это сделать, все равно бы ничего не увидела. Такие люди, как она, живут одним днем: для них «сегодня» никак не связано с «завтра» и каждый день существует как бы сам по себе. Сегодня есть работа — хорошо, завтра не будет работы — и не надо. В ее сознании один день мог увязываться с другим лишь в том случае, когда у человека есть постоянная работа и ее надо во что бы то ни стало сохранить. А там, где ежеминутно можно остаться без работы, лишиться куска хлеба и крыши над головой, каждый день выступает изолированно, тогда вряд ли возможно строить планы на ближайшее будущее, не говоря уж о месяцах и годах вперед. День прошел — и слава богу, а что дальше, одному всевышнему известно. И жизнь, которая началась для Басанти теперь, будет, по ее глубокому убеждению, продолжаться до тех пор, пока сам собою не наступит конец.
Дни шли за днями, в крохотной мазанке становилось все более душно, возникали новые трудности и росла напряженность в отношениях между ее обитателями.
А в самом начале все было совсем по-другому. Когда Дину в первую ночь пришел к ней, Басанти была счастлива.
— Сегодня вот ластишься… — обвивая руками его шею, шептала Басанти. — А где ты был, когда я Паппу носила под сердцем?.. Сбежал?
Не говоря ни слова, Дину молча протянул руку к ребенку и ласково погладил его по голове. Басанти до глубины души тронул этот жест. Для нее было огромным наслаждением лежать вот так, тесно прижавшись к Дину, и ей не хотелось высказывать ему упреки и совсем ее не раздражало, что на соседней кровати спит другая женщина. Перед ее мысленным взором мелькали картины их прошлой жизни — приятные и неприятные, но она ничего не говорила Дину, только теснее прижималась к нему, потому что рядом с ним она чувствовала себя в полной безопасности, И когда Дину попросил у нее денег, она тотчас же вручила ему семьдесят рупий. Однако даже в минуты близости не было в его отношении к ней нежности или душевного тепла — Дину влекла к ней только страсть. А Басанти близость с ним приносила истинное счастье. Потом, когда их семейную колымагу стало подкидывать на ухабах, она все чаще испытывала смутное недовольство, чувство мелочной зависти, глухого озлобления.
Из трех взрослых обитателей хижины работала одна Басанти, и весь ее заработок шел в общий котел. Сначала она обслуживала три дома, и в каждом ей платили по пятнадцать рупий в месяц, потом ее заработок сократился больше чем наполовину, потому что за ней осталось только два коттеджа, где ей платили по десять рупий. Малыша она обычно оставляла на попечение Дину и Рукмини, однако, когда, закончив работу, Басанти бегом возвращалась домой, ее все чаще ожидала безотрадная картина: печь холодная, Дину дома нет — ушел к соседям болтать на досуге, ужина тоже нет — Рукмини не приготовила, потому что никто не закупил продукты, а весь заплаканный и перепачканный Паппу спит на полу прямо у порога. Глухая злоба поднималась в душе Басанти, но она молчала. Быстро разжигала печь, пекла лепешки, варила рис. Когда все было готово, на пороге появлялся веселый Дину, молча усаживалась на свое место Рукмини.
— Тетя Сушма не повысила еще тебе жалованье? — принимался допрашивать Дину. — Что молчишь? Или языка нет? Ты могла сказать ей, что десять рупий нас не устраивают? Сегодня же сходи и скажи ей.
Рукмини все чаще стала нашептывать Дину на Басанти. Чуть отвернулась — уже шепчутся. С Басанти они почти не разговаривали, она тоже предпочитала отмалчиваться. Плохо ли, хорошо, а за малышом присматривают. Плачет Паппу или играет, сытый или голодный, все-таки под присмотром. На работу его не возьмешь. Правда, однажды она пыталась было взять его с собой, но не прошло и часа, как он напачкал в зале, и хозяйка заставила ее мыть пол во всех комнатах, а приносить с собой ребенка строго-настрого запретила.
Однажды ночью Басанти долго лежала с открытыми глазами. Сытый Паппу посапывал у нее под боком. На соседней кровати, как обычно, началось оживленное перешептывание.
— Эй, Басанти, — неожиданно прозвучал голос Дину. — Приходи и ты, если хочешь.
Басанти не успела ответить, как к горлу вдруг подступила тошнота. Поспешно вскочив, она бросилась к выходу. Не понимая, что случилось, Дину продолжал подавать реплики.
Немного погодя Басанти вернулась и молча улеглась на постель.
— Ты лежишь — и лежи, — наконец еле слышно произнесла она.
— А то приходи, — снова позвал Дину.
— Не насытился еще, что ли?! — почти выкрикнула Басанти и снова повернулась на другой бок. — Даже вздохнуть свободно не дают в этом доме.
Дину промолчал. Он уже не настаивал, как бывало прежде.
Вдруг, точно подброшенная пружиной, она села.
— Ты брал деньги у Барду?
— Какие еще деньги? Чего мелешь?
— А про три сотни забыл? Говори: брал у него триста рупий?
Такого Дину не ожидал.
— Я же говорил тебе: велосипед я ему продал.
— Значит, за три сотни он купил, а за семьдесят вернул? Так?
— Остальные я отдам ему после… И хватит тут каркать!
— А Барду говорил, что ты меня продал ему, — негромко произнесла Басанти.
Дину промолчал. Его молчание только подхлестнуло Басанти.
— Говори. Что же ты молчишь? Продавал меня или нет?
— А ну замолчи и не ори на всю улицу! — повысил голос Дину. — Не то я так проучу тебя — ни одного зуба не останется!
— И ты подлец, и он подлец! — окончательно выходя из себя, яростным шепотом выпалила Басанти. — Вы оба подонки!.. И поберегись, если кто захочет хоть пальцем тронуть меня или моего ребенка! Тоже явился… продавец! Меня наградил ребенком, и меня же продавать надумал! Ах ты гнида! Ах ты ублюдок!
Басанти сама не могла понять, что такое произошло вдруг с нею. Ее всю затрясло от ярости. В эти мгновенья ей вспомнилось, как она, падая от усталости, бродила по бесконечным делийским переулкам, едва не помирая от жажды и голода, но ни одного худого слова не сорвалось с ее уст в адрес Дину. Иногда она жаловалась на судьбу, но Дину в ее глазах был чист. Сегодня впервые искра, тлевшая под кучей пепла, неожиданно вспыхнула ярким пламенем.
— Завтра же возьму ребенка и уйду. Найду какую-нибудь развалюху!
— Иди хоть сейчас. Но Паппу я тебе не отдам.
— Что ты сказал? Попробуй только дотронься до него, башку расшибу! Тоже нашелся мне — Паппу присвоить задумал!
Дину, который и раньше, случалось, поколачивал Басанти, намеревался и на этот раз проучить ее, но, слыша, с какой яростью звучит ее голос, решил, что сейчас этого делать не следует.
— Двое вас, а как живете? Как собаки бездомные! Ни стыда у людей, ни совести! Даже Паппу покормить — и то лень!..
— Ты у меня поговори, поговори! Как тресну, будешь знать, — прервал ее Дину, но прежней уверенности в его голосе уже не было.
— Я тебя сама так тресну — век помнить будешь! Понял? Попробуй только пальцем тронь!
Неожиданно проснулся Паппу — их крики разбудили его. Заслышав детский плач, Дину вскочил с кровати и шагнул к малышу.
— Хватит, сынок, хватит… Спи, детка, спи…
— Не тронь ребенка, — прошипела Басанти. — Если тронешь…
Не слушая ее, Дину взял малыша на руки.
— Успокойся, детка, успокойся, — ласково поглаживая сына, стал баюкать его Дину.
Ссорясь постоянно с матерью, в сыне Дину души не чаял и много возился с ним. Раза два судорожно всхлипнув, малыш прижался к его груди и замолк.
Басанти тоже понемногу успокоилась: она остывала так же быстро, как и выходила из себя. В кромешной темноте мазанки она словно видела, как Дину баюкает сына, ласково склоняясь над ним.
— Ты ступай, спи. Я сама укачаю его, — шепотом сказала она.
— А он уже спит, — тоже шепотом ответил Дину и положил малыша.
Всю злость Басанти как рукой сняло. «На меня орет, а Паппу с рук не спускает, жить без него не может», — подумала она и, тяжело вздохнув, снова улеглась. На сердце стало спокойно, и на короткий миг у нее возникло ощущение, будто в мазанке только они втроем: Дину, Паппу и она сама, будто здесь, под этим кровом, живет семья, о которой она могла лишь мечтать
— Если хочешь, иди ложись с Паппу, — шепотом произнесла Басанти. — А я лягу на полу.
Ответа не последовало, а немного погодя донеслось легкое похрапывание Дину.
Глава 13
На следующий день, выйдя из мазанки, Басанти говорила и смеялась так, точно никакой ночной ссоры и не было.
— Я сбегаю за молоком, а ты, почтенная, разжигай-ка печку да вскипяти чай, — полушутя приказала она Рукмини и, заглянув в мазанку, удивленно произнесла: — А высокородный сахиб еще изволит почивать. Ну, к чаю он встанет. А ты не стой, займись чаем.
И перед тем как отправиться на работу, стала давать Рукмини наказы:
— Принеси воды, да побольше, чтоб вот этот кувшин был полон, а то в десять воду отключают. — И весело рассмеялась. — Да не забудь у кого-нибудь спросить, который час… Да еще не забудь постирать его благородию рубахи и штаны… прямо там, у колонки. — Заметив, что Дину проснулся, со смиренным видом сказала: — О повелитель, я отправляюсь в дальний путь. — И, подражая какой-то киноактрисе, Басанти добавила фразу, которую обычно слышала в тех домах, где мыла посуду: — Встретимся за ленчем! Салют!
Она быстро выскочила из дому, на ходу ловко заткнув конец сари за пояс. Не сбавляя шагу, она чиркнула спичкой и с наслаждением затянулась бири.
Басанти, которая еще вчера по каждому пустяку обращалась к Дину, сегодня стала вести себя как полновластная хозяйка. Она словно заново узнавала себя, поняв наконец, что надо проявить незаурядное искусство и твердость, чтобы сохранить семью, не дать ей окончательно развалиться. «Дину очень привязан к Паппу, зачем же мне разлучать их? — думала она. — Рукмини он тоже не бросит. Не для того он привез ее сюда». Рукмини она воспринимала не как соперницу, но лишь как нахлебницу, которая целиком зависит от нее. Теперь, когда, по мнению Басанти, она поставила все на свои места, ее положение в семье небывало упрочилось. В обиду она себя и раньше не давала, а теперь делала лишь то, что сама считала нужным. Однако только сейчас она поняла разницу между прежним и сегодняшним своим положением и уже не испытывала чувства беззащитности, неуверенности и страха — всего того, что так тревожило ее раньше. Все это осталось в прошлом, как опавшая поздней осенью пожухлая листва. В течение одной только ночи она словно переступила порог детства и шагнула во взрослую жизнь, где сразу же завоевала себе положение хозяйки дома.
Дни шли за днями. Басанти научилась ездить на велосипеде и теперь на работу мчалась, бойко крутя педали и попыхивая бири. На ней всегда было яркое сари, пучок волос на затылке перевязан красной лентой, конец которой развевался на ветру. Она, как и раньше, старательно выполняла порученную ей работу, а возвращаясь домой в середине дня, успевала еще навести порядок и тут, помыть и накормить Паппу, отдать необходимые указания. Закончив уборку — она уже опять обслуживала три коттеджа, — Басанти вскакивала на велосипед и мчалась домой. Едва переступив порог, она сбрасывала с головы конец сари, кормила Паппу и принималась печь лепешки.
Отношение Дину и Рукмини к ней почти не изменилось, однако помыкать ею они уже не решались. Более того, Рукмини старалась всячески угодить Басанти и мучительно завидовала ей, ничем, однако, не выдавая своих чувств. Она приехала в Дели со своим супругом, слово которого для нее всегда было законом, но здесь его авторитет очень скоро упал. И все из-за этой — втерлась в их жизнь вместе со своим ребенком и сейчас верховодит тут. Только изредка из тлевшего в душе Рукмини уголька вырывался язычок пламени, обжигая сердце. Ее беспомощность — она даже на улицу одна выходить не решалась — все больше угнетала и раздражала ее. Если б хоть ребенок… Но ребенка у нее не было, а у этой паскуды — ребенок, зачатый от Дину, и Дину души в нем не чает. По всякому пустяку ей приходилось обращаться к Басанти: не даст денег — и очаг в доме останется холодный. А ко всему прочему она зависела от Басанти в самом главном: она надеялась, что Басанти поможет ей излечиться от бесплодия. Дину по-прежнему чванился, по-прежнему покрикивал на Басанти, даже деньги у нее брал так, словно делал одолжение, однако он тоже отдавал себе отчет в том, что помыкать ею, как прежде, уже не может.
А тут еще новые неприятности. Старик портной подал в суд, и Дину два раза вызывали как ответчика. Явившись в суд, Дину под присягой дал показание, что он действительно женился на Басанти, и сделал это потому, что детей в семье у него не было, и в качестве доказательства того, что Басанти — его жена, предъявил их ребенка. Парикмахеру Чаудхри судебная волокита тоже причинила немало хлопот, и он грозился при случае оторвать головы обоим — и Басанти, и Дину. Басанти эти угрозы только развлекали, и она ежедневно с форсом проносилась мимо отца на велосипеде. У молочной лавки на обычном месте сидела мать, но, едва завидев Басанти, демонстративно отворачивалась, а та делала вид, что не замечает ее. Только однажды как-то само собою получилось, что Басанти соскочила с велосипеда и, протягивая матери сетку с бутылками, сказала:
— Я спешу. Вот деньги и бутылки. Купи молока…
Это значило, что семейные дела у Басанти стали налаживаться и появилась уверенность, что к худшему они не изменятся.
Прошло несколько месяцев, и случай снова привел ее к тете Шьяме. Конечно, она и до этого изредка наведывалась к ней, хотя видела, что глаза Шьямы уже не излучают прежней доброты.
Едва Басанти переступила сегодня порог, как Шьяма сделала кислую мину.
— Ты что же, воровством, вижу, занялась? — недовольно начала она. — Ославить меня захотела?!
— Что вы говорите, тетя? — весело рассмеялась Басанти. — Кого я обокрала?
Басанти никак не могла понять, шутит Шьяма или говорит серьезно.
В светло-желтом сари Басанти стояла перед нею с ребенком на руках. Паппу был разодет как игрушка: в розовой шапочке, в такой же распашонке, на ногах носочки и туфельки, а ресницы густо подведены сурьмой. Глядя на нее, никто бы даже подумать не мог, что она — служанка в богатых домах.
— А откуда, скажи, у тебя деньги? — подозрительно спросила Шьяма. — И сама разодета, и ребенок тоже.
Басанти звонко расхохоталась.
— Вот с этого, тетечка, и надо было начинать, — проговорила она и, не дожидаясь приглашения, уселась рядом с хозяйкой. — Это сари подарил мне муж.
— Какой муж?
— Хромой Булакирам, какой же еще? — усмехнулась Басанти и, подражая портному, заговорила: — Ты взгляни только, рани Басанти, что я принес тебе. Звать тебя Басанти[31], и сари я тебе купил тоже желтое, как сама весна. — Она снова расхохоталась.
— А туфельки, носочки — это откуда? Ведь с того дня, как ты бросила портного, ой-ой сколько времени прошло.
Щеки Басанти залил густой румянец.
— Это мне дали…
— Кто?
— О тетя, вы мне будто допрос устраиваете. Ну, в подарок получила…
— Это нейлоновые-то носочки и туфельки?
— Честное слово, тетя, мне подарили.
— Ну, вот что, Басанти, больше не ходи ко мне.
— Но почему, тетечка?.. Ну, не хотите, больше не приду.
— С такими фокусами тебя и на порог-то никто пускать не будет… А все-таки скажи честно, где взяла туфельки?
— Я знаю, тетя, прислуга обычно ворует, — тихо проговорила Басанти. — Но я чужой булавки никогда не взяла.
— Тогда откуда все это у тебя?
— Туфельки я нашла в парке: валялись под кустом, что рядом с качелями. Но в первый день я даже поднимать их не стала, только задвинула ногой поглубже в кусты. — Басанти рассмеялась. — На другой день вижу: лежат на прежнем месте. Да и то я не сразу взяла, а дождалась, когда стемнеет. — И она прищелкнула пальцами. — Но ведь это же не воровство, правда?
— А что же еще, если не воровство?
— Только наполовину, тетечка, только наполовину.
— А носочки?
— Носочки, тетя, я купила на свои собственные деньги. Честное слово!
— Нейлоновые носочки — на свои деньги?
— Ну, на деньги хромуши портного. Тогда это были уже мои собственные деньги, — расхохоталась Басанти. — Туфельки долго лежали у меня — все не решалась надеть. А потом думаю: туфельки — одно загляденье, надо к ним и носочки хорошие купить. А вы знаете, тетя, в парке все думают, что Паппу вовсе и не мой ребенок. Считают, что я просто нянька и в парк привожу его на прогулку.
Однако по лицу хозяйки было видно, что та не верит ни одному ее слову.
— Все, что я делаю для своего Паппу, тетя, воровством я не считаю, что бы там ни говорили. Вот если я возьму что для себя, тогда я действительно буду воровка.
Шьяма долго испытующе смотрела ей в глаза.
— А у людей столько всего разбросано по дому, что они и счет потеряли, — словно оправдываясь, добавила Басанти.
— Значит, что плохо лежит, то бери?
— Ничего это не значит, тетя. Я просто сказала вам, что думаю.
— А ты лучше попроси, — посоветовала Шьяма. — Попросишь — тебе никогда не откажут.
— Проси, не проси — ничего не дождешься! Даже каури[32] ломаной не дадут!
— А ты, я смотрю, совсем безмозглая стала.
— Это почему же безмозглая, тетечка?
— Будешь одевать малыша как на выставку, на порог никто не пустит.
— Получается, что, если одел ребенка прилично, ты уже вор! И даже если все это приобрел на свои деньги — все равно ты вор!
Шьяма не отрываясь смотрела на Басанти. Потом пренебрежительно бросила:
— А сегодня каким ветром занесло?
— О тетечка, сегодня я принесла вам очень важную новость. Это вы меня сбили. У Рукмини скоро будет ребенок.
— Неужели?
— Она забеременела, тетечка, и выкидыша теперь не будет. Целыми днями лежит в постели.
— Значит, ты все-таки свозила ее в Мератх и она принимает лекарство, которым лечилась Шакунтала?
— Нет, тетечка, Дину сводил ее к доктору. А я уж так, за компанию с ними пошла. «Меньше движения и полный покой», — сказал доктор. Везет же человеку, тетечка: лежи себе и ни о чем не беспокойся.
Шьяма на минуту задумалась, потом подняла голову, и лоб ее прорезала морщинка.
— Видно, весь век тебе маяться, Басанти, — грустно произнесла она.
— Это почему же, тетечка?
— Когда у нее родится ребенок, для них ты станешь что старый стоптанный башмак.
— Почему же это, тетя? — побледнев, с тревогой в голосе спросила Басанти. — Вы что-то не то говорите, тетечка. Дину очень любит Паппу, я же знаю. Он так носится с ним — с рук не спускает.
— И Паппу любить он будет до тех пор, пока у него не появится свой ребенок.
— Но ведь Паппу тоже его ребенок, тетя.
— Ты, видно, так никогда и не поумнеешь… Да, конечно, Паппу — его ребенок, но все дело в том, что муж-то он не твой.
— Как то есть не мой? Он же сам в суде заявил, что женился на мне.
— Заявить-то он, может, и заявил, а вот будет он жить с тобою или не будет, это уж как ему захочется.
— А без меня им и есть будет нечего, ведь работаю-то одна я.
Шьяма понимающе кивнула головой.
— Так вот ты и послушай, Басанти, что я скажу тебе. Они считаются с тобой только из-за твоего ребенка. А когда у Рукмини родится свой ребенок, никто считаться с тобой не станет.
— А что это значит, считаться, тетя?
— А это значит, что никому в семье ты нужна больше не будешь.
Затаив дыхание, Басанти смотрела на Шьяму.
— Конечно, выкидыш может случиться у нее и на этот раз. Но даже если ребенка и не будет, Дину поступит так, как ему заблагорассудится.
— Как это, тетя?
— А вот как. Предположим, что ребенка у нее опять нет. Тогда он забирает Паппу и переезжает куда-нибудь в другое место.
— Да что вы говорите, тетя? Кто посмеет отобрать у меня Паппу?
— Если в суде признали, что вы муж и жена, то кто же тогда Дину — отец Паппу или не отец?
— А разве может он сына забрать, а меня бросить?
— Он что угодно может. Такие на все способны.
Басанти замотала головой, однако в сердце ее закралась тревога.
— Ты как слепой щенок, Басанти, — продолжала Шьяма, — ничего-то ты вокруг себя не видишь. Дину нигде не работает, но, как только он найдет наконец работу, они могут подстроить так, что тебе придется познакомиться с тюремной решеткой. И Паппу останется с ним. А в деревне у него клочок земли, мать-старуха…
— Но он может поступить и по-другому: жену отвезти в деревню и вернуться. Ведь раньше-то жена его жила в деревне, а он — в городе.
— Откуда мне знать, что будет дальше? Только не нравится мне все это.
В голове у Басанти никак не укладывалось то, о чем говорила ей Шьяма, однако речи ее заставляли быстрее колотиться сердце и наполняли тревогой душу.
— Не была б ты полоумная, все бы было по-другому.
— А что я сделала, тетя?
— Что сделала? А то, что, не подумав, сбежала с Дину. Ну разве так нормальные люди поступают?
— О тетечка, не уйди я с ним тогда, сразу отдали б за старика.
— Ну, тогда и получай что заслужила. Терпи.
— Ох, тетечка, — простонала Басанти и умолкла.
От слов Шьямы будущее, прежде такое ясное и безоблачное, сразу будто затянуло черной пеленой.
Переменился даже тон, которым говорила с ней бывшая хозяйка. Прежде ее голос звучал доброжелательно, теперь в нем слышалось открытое осуждение. Конечно, Шьяма и теперь принимала Басанти, однако делала это больше для формы: обет все-таки надо исполнять. Изменилось отношение к ней и самой Басанти. Если прежде она не придавала значения словам хозяйки и каждое ее предостережение встречала беззаботной шуткой или смехом, то теперь она жадно внимала им и чувствовала, как ее бросает в дрожь. Прежде радостно бившееся сердце теперь будто кто-то царапал когтистой лапой.
Они неподвижно сидели друг против друга. При виде разнаряженной Басанти в душе у Шьямы снова всплыли прежние подозрения. Кто ее знает, чем она занимается теперь. Живет с каким-то бродягой, а ведь она, Шьяма, не раз предупреждала ее: «Ох, смотри, девка, не пришлось бы пожалеть…»
Посидев еще немного, Басанти вдруг заторопилась.
— Ну, что ж, тетя, я, пожалуй, пойду. Засиделась я у вас.
Она взяла ребенка на руки и, подхватив свою сумку, заспешила к выходу.
— В сумке-то что у тебя? — спохватившись, спросила Шьяма, когда Басанти была уже у лестницы. — Может, покажешь?
— А ничего особенного, тетя, просто одежонка Паппу.
— Дай-ка взгляну. — И, догнав ее, Шьяма стала копаться в сумке.
Вдруг рука наткнулась на какую-то коробку.
— А это что? — спросила Шьяма, вытаскивая подозрительный предмет: в руках у нее была коробка с детской смесью. — Откуда это у тебя?
— В лавке купила, тетя. Одиннадцать рупий выложила, — отвечала Басанти. — Дома-то молоко не всегда Паппу достается. Вот я и купила.
Шьяма еще раз подозрительно осмотрела Басанти и положила коробку в сумку.
— Ты вот что, Басанти, — неприветливо проговорила она, — в следующий раз, когда придешь, оставляй свою сумку на дворе. — И, не прощаясь, захлопнула за нею дверь.
Глава 14
События развивались так стремительно, что оставалось только поражаться.
Прежде всего — родила Рукмини.
Отношение Басанти к этому событию было более чем странным. Она неподвижно сидела у постели роженицы, вокруг которой хлопотала повитуха, и широко открытыми глазами смотрела, как та мучается. Она искренне сочувствовала Рукмини, но вместе с тем ее одолевало любопытство, и ей хотелось своими глазами увидеть, живым родится ребенок или мертвым. И когда в мазанке раздался наконец заливистый плач новорожденного и измученная Рукмини крепко заснула, в душе Басанти боролись противоречивые чувства: она испытывала одновременно и радость, что все благополучно завершилось, и глубокое разочарование.
Такое состояние теперь сделалось для нее обычным.
Однажды Басанти показалось, что молоко у Рукмини черное. А раньше она слыхала, что черное молоко — верная гибель для ребенка. Что делать? За советом надо бежать к тете Шьяме!
— Я правду вам говорю, тетечка, молоко у нее совсем черное! — сообщила Басанти, вбегая в дом.
— Разве молоко бывает черное, сумасшедшая?
— А я вам говорю — черное. Своими глазами видела — черное и вонючее!
Шьяма внимательно посмотрела на Басанти.
— О ее ребенке ты не тревожься, — проговорила наконец она. — Выживет он или нет, это одному богу известно. Ты лучше о себе подумай.
Басанти, которая прежде легко переносила все тяготы и лишения, теперь не оставляла мысль, что ее преследуют неудачи. Это рождало в душе чувство тревоги, и она выходила из себя по каждому пустяку.
Прошло два месяца. Ребенок у Рукмини был жив и здоров: молоко не причинило ему никакого вреда. Однако, как и раньше, на душе у Басанти было тревожно, и всякий раз, когда Рукмини принималась кормить своего ребенка, она смотрела на них каким-то странным взглядом, а ночью, когда ребенок просыпался и начинал плакать, Басанти тоже вскакивала с колотящимся сердцем: уж не расхворался ли? А иногда вдруг ей начинало казаться, что дыхание у него прерывистое, тельце посинело и судорожно вздрагивает.
— Что это с ним?! Ты взгляни, как ножками-то сучит! — наклоняясь над кроваткой, говорила она. — И глазки закатил!
Внимательно осмотрев ребенка, Дину брал его на руки. Почувствовав тепло, ребенок затихал.
— С ним ровным счетом ничего, — тоном хозяина отвечал Дину. — А ты что это вдруг? Орет, а почему, и сама не знает.
— Он сразу как завизжит, — оправдывалась Басанти. — Разве дети без причины могут так визжать? У него, наверно, колики.
— Вот съезжу по роже, — замахиваясь на Басанти, ворчал Дину. — Колики, а почему у меня притих?
— Да мне-то что… Кормит своим вонючим молоком, где уж тут ребенку быть здоровым?
С каждым днем испытывая все большее раздражение, Рукмини не на шутку стала побаиваться, как бы Басанти не отравила ее ребенка. Астролог, который сидел у моста, посмотрев ее ладонь, сказал, что на ее чадо падает тень человека, и Рукмини тотчас же подумала, что этим человеком может быть только Басанти. Да и как же иначе? До рождения ребенка Басанти относилась к ней как к подруге — и помогала, и советовала, — а не успел ребенок родиться, ее будто подменили. Один взгляд чего стоит — ну ведьма, да и только…
Тревожно было на душе и у Басанти. Раньше, уезжая на работу, она оставляла Паппу дома. Дину и Рукмини присматривали за ним. Теперь она стала брать его с собой: Паппу возится во дворе, а она тем временем занимается уборкой. Но работать так было трудно, да и хозяевам не нравится: а вдруг что-нибудь разобьет, испачкает. И носить его на руках уже стало нелегко. Однако другого выхода не было. Однажды, правда, она оставила малыша с Дину, но, пока работала, вся душа изболелась. Кое-как закончив уборку, она стремглав помчалась домой, схватила малыша на руки и унесла с собой. Беспечности и беззаботности в ее характере не осталось и следа. Теперь, когда плакал ребенок Рукмини, в душе Басанти крепла уверенность, что это действие черного молока — от него извивается и корчится крохотное тельце.
Рукмини тоже переменилась: теперь это была уже не прежняя забитая Рукмини, которая с удивлением и завистью внимала каждому слову Басанти. Теперь она отчитывала Басанти по каждому пустяку, и та не решалась возражать ей, так как на помощь жене тотчас же приходил увесистый кулак Дину. Теперь в доме было словно две змеи. Рукмини оберегала своего ребенка от Басанти: не дай бог, тень ее упадет на малыша! Басанти оберегала Паппу от Рукмини. Обе подозревали друг друга в коварных замыслах и только изредка обменивались косыми взглядами.
Ко всем этим неприятностям добавились новые. Положение Басанти осложнилось — казавшаяся прежде такой безупречной, ее репутация сильно пошатнулась. Когда принаряженная, в ярком шелковом сари либо в пенджабском костюме она с ребенком на руках шествовала по улицам поселка, женщины начинали шушукаться: на какие это деньги стала вдруг такой щеголихой? А к тому же ее прежняя хозяйка проговорилась как-то одной из соседок, что в сумке у Басанти она обнаружила дорогую коробку с детской смесью. В тот же день об этом знал весь поселок. Женщины тут же вспомнили, что еще раньше она сбежала с каким-то молодым лоботрясом, потом бросила его, а сейчас живет с женатым человеком, в одном доме с его законной женой! И если бы только пересуды, то куда б ни шло… Но вот однажды в доме господина Джаганнатха, где работала Басанти, ее обвинили в том, что она украла наручные часы. Украла она или не украла, одному богу известно, и никто с уверенностью не мог сказать, что именно она совершила кражу, потому что Басанти всячески старалась уберечь себя от любых неблаговидных поступков, однако как знать: чужая душа — потемки. Как бы там ни было, с работы ее выгнали, а хозяин дома даже пригрозил, что, если она еще хоть раз появится у его ворот, он ноги ей переломает или отправит за решетку.
Теперь вместо пяти домов, как прежде, Басанти обслуживала только три, и семья еле-еле сводила концы с концами. Дину по-прежнему не работал. При одном упоминании о грязной посуде он презрительно морщил нос, однако палец о палец не ударил, чтобы найти себе какую-нибудь другую работу. И тогда в голове у Басанти родился план: хватит ей ходить по дворам, пора заводить собственное дело. Нужно где-нибудь поставить тандур[33] и печь на продажу лепешки, и она отправилась к Шьяме.
— У вас на задворках, тетя, небольшой пустырь, — сразу же начала она. — Если вы не возражаете, я поставлю там тандур. Лепешки печь буду. За лепешку — двадцать пайс. У нас тут многие ленятся печь лепешки дома.
Согласие было получено, но где взять деньги на то, чтобы поставить тандур?
С тех пор как Шьяма объяснила Басанти, что будет с нею после того, как у Рукмини родится ребенок, Басанти стала плохо спать. И чувство смутного беспокойства с каждым днем становилось все сильнее. Советы и наставления Шьямы она прежде пропускала обычно мимо ушей, и какое-то время даже вовсе перестала ходить к ней, обидевшись, что в самую трудную минуту та не разрешила ей остаться в своем доме, а препроводила к подруге, где ровно через два дня ее нашли. Однако, сбежав от портного с Дину, она вновь стала навещать прежнюю хозяйку: кому еще, кроме тети Шьямы, она могла поведать самое сокровенное? Речи Шьямы, такие диковинные прежде, теперь, когда Басанти жила бок о бок с Рукмини, воспринимались как очень разумные и потому оставляли в ее душе глубокий след, к тому же она все более теряла душевное равновесие, и ей нужна была моральная поддержка. Она регулярно наведывалась к Шьяме и каждый раз возвращалась от нее еще больше объятая беспокойством и тревогой, будто кто-то до предела натянул все струны ее души и они вот-вот лопнут. Она постоянно слышала голоса, неслышные другим. Басанти, которая прежде ни на минуту не задумывалась о будущем, теперь часами сидела у Шьямы, обсуждая планы своей дальнейшей жизни.
Когда ей становилось уж очень тяжело, она спрашивала себя: «Что это со мной приключилось? Когда Барду преследовал меня, я ничуть не тревожилась; когда отец приволок меня домой и насильно выдал замуж за хромого старикашку, это тоже не очень огорчило меня, а что же это теперь? Дину — рядом со мной, ребенок тоже при мне, почему же на душе у меня все время неспокойно?» Иногда, правда, у нее мелькала мысль, что ей, пожалуй, станет легче, если она прекратит свои визиты к Шьяме и будет поступать, как подсказывает сердце. Когда она сидела у Шьямы, ей казалось, что та каждый раз приоткрывает занавес, за которым, оскалив зубы и сверкая налитыми кровью глазами, притаился какой-то страшный зверь.
В один из таких дней, когда она вернулась от Шьямы, ей сказали, что ребенок Рукмини заболел. Сердце у Басанти тревожно сжалось. При слабом, колеблющемся свете крохотного фитиля, плававшего в плошке с маслом, она осмотрела ребенка, и ей вдруг почудилось, будто тельце у него холодное, как-то странно вытянулось, глаза закатились. Ребенок жалобно застонал, и в этом стоне ей послышался горький плач беззащитного существа — крик о помощи, который издал ребенок, наполовину уже находившийся по ту сторону порога, отделяющего жизнь от смерти.
— Что это с ним? — почти беззвучно произнесла Басанти.
До прихода Басанти Рукмини не волновалась — и прежде у ребенка расстраивался животик, — но, заметив мертвенную бледность на ее лице, испуганно вздрогнула.
— Что с ним? Что с моей крошкой? — в ужасе пролепетала она и принялась причитать, заглушая стоны ребенка.
Рукмини растолкала спавшего Дину. Протирая заспанные глаза, он недовольно заворчал:
— Что еще там такое? Понос, говоришь? Ну и что? Ничего особенного. Понос у него почти каждый день случается. Дай ему укропной воды, как сказал лекарь.
— Да ты только взгляни, что с ним! — не отводя глаз от ребенка, полушепотом произнесла Басанти. — А ты — ничего особенного! Я еще раньше говорила, что молоко у нее черное.
Дину зло посмотрел на нее, затем поспешно вскочил с кровати.
— Чего несешь околесицу?
— Не видишь, как дышит?
Рукмини стояла ни жива ни мертва, не отрывая испуганных глаз от лица Дину. Услышав стоны ребенка, Дину тоже перепугался не на шутку.
— Эта ведьма накормила чем-то мою крошку! — сквозь слезы выкрикнула Рукмини.
— Это ты обо мне? — удивленно спросила Басанти. — Значит, по-твоему, я накормила его? Чем же это я могла его накормить?..
Ребенок еле слышно стонал. Дыхание у него стало тяжелое и прерывистое.
— Дай ты ему хоть водички! — сказал Дину.
Рукмини заметалась, не зная, где взять воду… Если бы Басанти кричала на него, то Дину, наверно, и ухом бы не повел — мало ли что с детьми случается — и, повернувшись на другой бок, спокойно продолжал бы спать. Но Басанти говорила почти шепотом, и Дину перепугался по-настоящему.
— При чем тут я, если у тебя молоко черное? — повторила Басанти.
Она не отрываясь смотрела на ребенка, и теперь ей уже казалось, что и живот у него вспух, и дышит он натужно. Почему эти люди ничего не замечают? В тусклом свете колеблющегося язычка пламени все выглядело так, будто на дом действительно опустилась тень смерти и все ближе подвигается к изголовью детской кроватки.
Рукмини принесла наконец воды и из чайной ложечки стала по капле вливать малышу в рот. Басанти заметила, что руки у нее трясутся и вода проливается на ребенка.
— Эта ведьма накормила чем-то мою крошку! — сквозь слезы снова выкрикнула Рукмини. — О господи, что же теперь будет?
— По-твоему, значит, я накормила его чем-то? — спокойно отвечала Басанти. — А зачем бы я стала это делать?
Однако у нее самой вдруг возникло такое ощущение, будто она действительно угостила чем-то ребенка и Рукмини прознала об этом.
— Пусть подохнет ребенок у той, что отравила моего сыночка, — простонала Рукмини и снова залилась в три ручья.
— За что ты проклинаешь мою крошку? Что я тебе сделала?
Рукмини не отвечала. Ее глаза неотрывно следили за каждым движением крохотного тельца.
И вдруг Дину вспомнил, как поступала в таких случаях его мать. Когда у ребенка начинался понос, она прикладывала к его животу что-нибудь теплое, закутывала в одеяльце, и ребенок затихал. Он тут же сбросил с малыша все пеленки и крепко перепоясал его теплой тряпицей.
Басанти показалось, что глазки у малыша закатились и дыхание снова стало прерывистым. Дрожь прошла по телу Басанти, и у нее невольно вырвался вопль:
— Ой, батюшки! Что же это делается?! А вы что стоите, рты поразинули?!
Она бросилась к ребенку, подхватила его на руки, торопливо завернула в покрывало и выбежала в темноту.
— Она убьет моего ребенка! — завопила Рукмини. — Убье-ет!
Дину все еще не мог двинуться с места, а Рукмини уже рванулась к двери.
— Вернись, Басанти! — выскочив из мазанки, кричал Дину в темноту. — Кому сказал: вернись! Куда потащила его?
В сером вечернем сумраке на противоположной стороне пустыря смутно виднелась фигура Басанти. Было холодно, по земле уже стелился густой туман, в котором скоро исчезла, будто растворилась, Басанти.
— Задушит она мою кроху! — сквозь рыдания причитала Рукмини. — Жизни лишит младенца!
— Басанти-и-и! Верни-и-и-и-сь! — что было мочи заорал Дину.
— Беги, беги за ней! — набросилась на него Рукмини. — Да беги же, говорят тебе! Прикончит ведь ребенка!
Дину выскочил за дверь и, не прекращая звать Басанти, побежал в ту сторону, куда умчалась она. Однако Басанти будто сквозь землю провалилась: ее не было видно ни на дороге, ни у пруда, ни в зарослях кустарника.
Не найдя Басанти, Дину вернулся и молча присел на кровать. Рукмини ничком лежала на земляном полу и издавала протяжные стоны. Ее бил озноб.
— Ничего не случится… и нечего плакать, — громким голосом говорил Дину, как все безвольные люди, когда стараются убедить себя и других, что никакой опасности нет.
— Случись что с моей крошкой — своими руками задушу ее щенка! — злобно выпалила Рукмини. — А ты тоже хорош! На глазах утащили ребенка, а он хоть бы палец о палец ударил!
А тем временем Басанти носилась вокруг дома, в котором жил врач. Она уже раз пять принималась осторожно стучать в дверь. Выждав еще несколько секунд, она стала колотить в дверь ногой.
— Доктор-сахиб!.. Откройте! Откройте, пожалуйста!..
Наконец в окне загорелся свет, и дверь открыл сам доктор. Перед ним, тяжело дыша, почти теряя сознание, стояла молодая женщина с ребенком на руках.
— Осмотрите его… доктор-сахиб, — задыхаясь, еле слышно проговорила она. — У него… понос начался. И дышит… слышите как?
— Когда хотят, тогда и приходят… — недовольно заворчал он. Но, кинув беглый взгляд на искаженное страхом лицо пациентки, сразу же стал добрее: — Иди за мной. — И, повернувшись, зашагал по коридору.
В кабинете доктор уложил ребенка на кушетку, быстрым движением снял тряпку, которой тот был перевязан, и долго осматривал и ощупывал крохотное тельце.
— А почему он глазки закатывает?
— Пройди вон туда, сядь и не мешай мне, — раздраженно бросил доктор, и Басанти, отойдя от кушетки, покорно уселась на краешек стоявшего у стены дивана.
— Он будет жить? — с тревогой в голосе спросила она.
Наклонившись над ребенком, доктор продолжал молча обследовать его.
— Что с ним? — наконец сухо спросил он.
— У него… кровавый понос, доктор.
— Где ты увидела кровавый понос? — протягивая пеленку Басанти, резко спросил он. — Где, я спрашиваю, кровавый понос?
— Значит, он будет жить, доктор?
— Что же все-таки случилось с ним, объясни мне.
— У него начался понос, доктор, дышать стал этак… с перерывами… и глазки закатывать. А ручки и ножки вдруг холодеть стали. Тут я его в охапку — и прямо к вам…
Доктор, как видно, был не из разговорчивых. Он молча прошел к столу и, взяв бумагу, стал писать. Потом повернулся к дрожащей Басанти и, протягивая ей рецепт, скупо улыбнулся.
— Это лекарство будешь давать ему через каждые три часа. Поправится твой ребенок.
Басанти вскочила с дивана и с благодарностью посмотрела на доктора. Она почувствовала огромное облегчение и радость.
Уже была глубокая ночь, когда, крепко прижимая к груди ребенка, Басанти возвращалась домой. У нее было такое ощущение, будто все, что произошло недавно, привиделось ей в кошмарном сне, а сейчас дурной сон кончился. На руках у нее спал ребенок, и дыхание его было спокойным и ровным.
«Что же это делается со мной?» — уже не раз спрашивала она себя и ответа не находила.
Войдя в мазанку, она осторожно передала ребенка бросившейся ей навстречу Рукмини.
— Возьми его! А я сбегаю за лекарством. — И, вынимая из сумки деньги, сказала: — К доктору его носила, а при себе — ни пайсы. Хорошо еще, что денег не потребовал…
Глава 15
Снова дни потянулись за днями, однако после той памятной ночи Басанти переменилась — озлобления, ревности, зависти больше не было в ее сердце. На нее снова снизошло умиротворение, и она радостно щебетала целыми днями, как и раньше. Это была прежняя Басанти — жизнерадостное существо, душа которого всегда была открыта свету и добру. А когда ей становилось особенно радостно, она пускалась в пляс, беспричинно смеялась и веселилась. Такой уж у нее был характер.
В ту ночь, когда, прижимая к груди больного ребенка, она с улыбкой вошла в мазанку, Рукмини наконец поняла, что не погубить ее ребенка хотела Басанти, а, наоборот, вырвать из лап смерти. Ни слова не произнесла она тогда, только, громко всхлипывая, заплакала от радости. Сама же Басанти никак не могла разобраться, то ли действительно ребенок был при смерти, то ли она поддалась панике.
Теперь, после всех тревог и волнений, душа ее вновь обрела покой.
Несколько дней спустя она сообщила домашним о своем решении:
— Тут неподалеку я хочу поставить тандур. Вот и будем работать все вместе.
— Что ты мелешь? — скривился Дину.
— Я поставлю тандур, — спокойно отвечала Басанти. — И мы будем работать все втроем.
Дину все еще не мог взять в толк, о чем она говорит. Глядя на него, Басанти рассмеялась.
— Ну, что смотришь, как сыч? Повторяю тебе: я поставлю тандур. Тут неподалеку есть небольшой пустырь, вот там и поставлю. Будем печь лепешки, готовить приправу: ну, горох, овощи, еще что-нибудь и тут же продавать… Я узнала: когда-то там уже стоял тандур.
Дину сердито хмурился и презрительно кривил рот. Работа эта казалась ему слишком обременительной, более того, даже недостойной. Одно дело — готовить дорогие угощения на свадьбах, и совсем другое — печь на продажу грошовые лепешки! Однако на свадьбы его давно не приглашали, а никакой другой работы он так и не нашел, дома же — как-никак — две жены и два ребенка. Но выйти из роли хозяина и повелителя он уже не мог.
— Никакого тандура не будет, — изрек Дину. — Я сказал, и точка.
— Сейчас я одна работаю, и если раньше у меня было пять домов, то теперь осталось только три. На то, что я зарабатываю, нам не прожить. А поставим тандур, будем работать все втроем.
Дину заворчал, недовольный, но пререкаться с ним Басанти не стала. Уже на следующий день она приступила к делу. Кирпичи в изобилии валялись на задворках, и она потихоньку перетащила их на пустырь. От москательной лавки приволокла два брошенных за ненадобностью искореженных железных прута и сама же распрямила их. Пошли в дело и обрывок брезента — чтобы застелить площадку перед тандуром, — и три старых джутовых мешка, которые Басанти выпросила у Шьямы. Заприметив в кустах глиняный кувшин для воды — в холодный сезон в нем никто не нуждался, — Басанти прихватила и его. Все свои надежды она возлагала сейчас на дело, которое затеяла. Когда тандур будет готов и в нем заполыхает огонь, рядом она поставит большой, начищенный до блеска медный котел. Проходя мимо, всякий прохожий невольно почувствует голод. Лепешки будет печь Дину, а Басанти станет продавать их и получать деньги. Пройдет месяц-другой, и еще до наступления жары они сумеют сделать навес и купить лампу: при свете лампы торговлю можно продолжать даже с наступлением темноты. Заведутся деньги — дешевую лампу они сменят на газовый фонарь, свет которого будет виден издали. Рядом с тандуром будут возиться их малыши. Басанти, бывало, так размечтается, что уже чуть ли не наяву видит, как она сидит на площадке около тандура, рядом на брезенте спит ребенок Рукмини, ее Паппу играет разноцветными стеклянными шариками, а висящая на крючке лампа излучает ровный свет — словно маяк в будущее.
Наконец тандур был готов, и Басанти действительно принялась выпекать пресные лепешки, а ее малыш играл рядом. И среди первых клиентов, пожелавших отведать испеченных ею лепешек, — случается же такое! — оказался хромой Булакирам, который явился сюда в поисках Басанти и, проголодавшись, присел у тандура перекусить.
К этому времени, сменив Басанти, лепешки пек Дину, а сама она, сидя рядом, помешивала горох, варившийся в котле. Портной, к счастью, в лицо Дину не знал, а Басанти, еще издали заметив его, тотчас же натянула конец сари почти до самого подбородка и, сгорбившись, втянула голову в плечи.
Булакирам не спеша ел и попутно расспрашивал, не знают ли они подлеца по имени Дину, который уже во второй раз умыкнул у него жену, а если знают, то не подскажут ли, где он сейчас живет. Басанти усмехнулась и, наклонясь к Дину, прошептала:
— А ты спроси, кто его жена?
Булакирам назвал имя жены, и Басанти снова шепнула на ухо Дину:
— А теперь спроси, почему она сбежала от него?
Дину спрашивал — Булакирам пространно отвечал, а Басанти, не открывая лица, потешалась.
Закончив еду, Булакирам поднялся.
— Да благословит вас всевышний… А если ты, брат, узнаешь что-нибудь про этого подонка, сообщи парикмахеру по имени Чаудхри, он тут неподалеку сидит. А уж остальное мы сделаем сами. — И, постукивая посохом, удалился, а Басанти еще долго тряслась от беззвучного хохота.
Тандур полыхал с раннего утра до поздней ночи, однако, вопреки расчетам Басанти, любителей отведать свежих лепешек оказалось на удивление мало. Обитателям двухэтажных особняков добираться сюда было не с руки, к тому же они могли покупать хлеб в соседней лавке. Басанти трудилась не покладая рук, но над ее головой снова стали сгущаться тучи. Рукмини опять о чем-то оживленно перешептывалась с Дину, изредка бросая на нее косые взгляды, в которых без труда угадывались и подозрение, и зависть, и открытая неприязнь, а Дину снова говорил с ней на повышенных тонах и грозил проучить за каждый пустяк. Весь ее дневной заработок он отбирал. Басанти интуитивно чувствовала, что опять ее ждут какие-то неприятности, однако, занятая с утра до ночи, не придавала этому значения.
И вот однажды разразилась гроза.
В тот день, едва протерев глаза, Рукмини принялась собирать свой немудреный скарб. Дину молча подавал ей вещи. Удивленная Басанти наблюдала за ними.
— Что это ты делаешь? — наконец, не выдержав, спросила она у Дину.
— А ты что, не видишь? — с нескрываемым раздражением бросил тот. — Мы возвращаемся в деревню.
Слова Дину ошеломили Басанти, она даже не нашлась что ответить. После этого между ними не было произнесено ни слова. Басанти подхватила на руки Паппу и, крепко прижимая его к груди, молча следила за их сборами.
И вот, проводив их до автобусной остановки, с ребенком на руках она устало возвращается домой. Дину и Рукмини отправились в родную деревню. Басанти только что помогла им сесть в автобус и теперь шла, чувствуя в душе какую-то гулкую пустоту. Когда они стали втаскивать в автобус свой сундук, кондуктор сказал, что такой громоздкий багаж перевозить в автобусе категорически запрещается. Между кондуктором и Дину началась перепалка, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы Басанти не сунула кондуктору монету в четверть рупии; кондуктор поворчал еще немного, но внести сундук все-таки разрешил. Прощаясь с Басанти, Дину шепнул, что он только отвезет Рукмини и ребенка, а сам непременно вернется назад. Но кто ж его знает, вернется он или нет? Сердце подсказывало Басанти, что теперь-то уж не вернется. Зачем возвращаться, если она ему больше не нужна?..
Бережно прижимая малыша к груди, Рукмини осторожно опустилась на сиденье. Она не скрывала своей радости. Басанти и Паппу она не удостоила взгляда, слова единого не сказала. Ну, не сказала, и не надо — экая важность! Хуже, что Дину на прощанье даже сына не приласкал. Правда, он взял Паппу на руки, но всего лишь на какую-то минуту и, когда кондуктор объявил отправление, сунул малыша ей и прыгнул в автобус. Даже не оглянулся. Второй раз бросил ее и укатил. Нет, теперь уж ему возвращаться незачем. Теперь он будет жить со своей Рукмини.
Дни стали длиннее, в воздухе был разлит тонкий аромат распускающихся деревьев, а солнечные лучи мягко ласкали кожу. С наступлением весны все вокруг сразу переменилось. Однако Басанти ничего не замечала.
Проходя мимо дома, где жила Шьяма, Басанти по привычке мельком взглянула на балкон, но навестить свою прежнюю хозяйку ей не захотелось. Она уже заранее знала, что сочувствия здесь не найти. «Уехал, говоришь? — заведет Шьяма. — Ну, разве я не говорила тебе, что змею ты пригрела на своей груди? Сколько раз твердила: как только появится у Рукмини ребенок, ему на тебя станет наплевать. Разве не я постоянно твердила тебе, что твой Дину — пустой человек и цена ему — две каури в базарный день? Говорила или нет? Он тебя уж напоил один раз из грязного башмака». Басанти давно знала эту манеру своей прежней хозяйки: в разговоре последнее слово должно быть за нею. И она ничуть не огорчится, узнав, что Дину снова бросил ее на произвол судьбы, более того, она даже будет рада, что ее предсказание в конце концов сбылось. Басанти перестала ходить к ней после той ночи, когда ребенок Рукмини заболел и пламя ревности, дни и ночи полыхавшее в ее груди, само собой угасло. Басанти совсем не хотелось снова выслушивать речи Шьямы. Однако, что бы ни случилось, первой, кого по старой привычке она вспоминала, была тетя Шьяма: а не пойти ли к ней, не поделиться ли своей радостью или горем? Но сегодня Басанти прошла мимо ее дома и направилась в сторону рынка.
Паппу уже подрос, и носить его на руках становилось все труднее. Устав, Басанти спускала его на землю, а он, крепко ухватившись за ее палец, делал первые неуверенные шаги.
Она все-таки рассчитывала сохранить тандур. Конечно, прокормить семью в пять человек на эти доходы — дело безнадежное, но обеспечить двоих можно было без особого труда. И Паппу постоянно будет на глазах. Потом сама жизнь подскажет, что делать дальше. А теперь хорошо уже и то, что холодный сезон позади и дни стали длиннее. Одной-то ей будет трудновато, однако вешать нос не стоит. Всегда можно пойти к своим. Как знать: может, Радха уже вернулась под родительский кров и согласится трудиться вместе с нею. А может, и мать захочет помочь. Не все ли равно ей, где работать? И едва она вспомнила о матери, как ей тотчас же захотелось повидаться с нею. В тот день, встретив дочь после долгой разлуки, мать впервые говорила с нею как с равной. Прежде, завидев Басанти, она презрительно морщила нос и отворачивалась. А все из-за того, что отца боится пуще огня. Правда, в последнее время соседи передавали ей, что при каждой встрече мать постоянно расспрашивала о ее житье-бытье.
Басанти шла по тротуару погруженная в свои мысли, когда позади неожиданно возник какой-то странный шум. Она удивленно оглянулась, потом взгляд ее скользнул по кроне деревьев на противоположной стороне улицы. Вдруг справа послышались торопливые шаги: взгромоздив на голову сундучок с инструментом, улицу перебегал старый сапожник, который обычно располагался под брезентовым навесом у стены соседнего особняка. Долговязый полицейский длинной бамбуковой палкой разрушал его нехитрую мастерскую, а еще трое стояли рядом. Все были в зеленых касках, обтянутых сверху веревочной сеткой.
Начался переполох. Здесь и там замелькали зеленые каски. Полицейских сегодня было никак не меньше, чем в тот день, когда сносили поселок на склоне холма.
— Сносят все, что на тротуаре! — раздался вопль и, повторяемый десятками уст, эхом прокатился вдоль улицы.
Подхватив на руки Паппу, Басанти отошла в сторону. На улице, что вела к базару, полицейские окружили торговца с ручной тележкой, доверху нагруженной фруктами: тот размахивал руками и что-то кричал. В воздухе мелькнуло сразу несколько дубинок — тележка перевернулась, и по асфальту покатились апельсины и яблоки. Сидевший на тротуаре чуть подальше другой торговец фруктами стал быстро перетаскивать свои корзины во двор соседнего дома.
Старый сапожник споткнулся, сундучок упал, и все его содержимое — колодки, ножи, шила, обрезки кожи, сапожные гвозди — рассыпалось по тротуару. Старик топтался на месте и никак не мог сообразить, что же ему делать. Заметив полицейского, который направлялся в его сторону, старик бросился наутек и через минуту юркнул в ворота парка. На противоположной стороне канала полицейские разрушали лоток торговца сладостями: они опрокинули начищенный до блеска медный котел, дубинкой разбили пузатый глиняный кувшин с сиропом, и сладкая жидкость ручейками растеклась по асфальту.
Издали снова нарастал мощный шум. Басанти оглянулась: по улице мчался грузовик с солдатами в зеленых касках, а следом за ним еще один. Она испуганно отпрянула в сторону. За грузовиком, что-то крича и размахивая руками, бежал ее отец — она сразу узнала его.
— Отдайте! — донеслось до нее. — Отдайте сумку!.. Сумку отдайте!
Видно было, что отец бежал из последних сил, но продолжал гнаться за грузовиком. Он хватал ртом воздух, синяя рубаха его почернела от пота. Грузовик был уже далеко, а Чаудхри все бежал и бежал. Басанти успела заметить, что второй грузовик был нагружен тележками, ящиками и прочей домашней утварью.
При виде отца Басанти чуть не расплакалась, и жесткий комок подкатил ей к горлу. Никогда прежде она не думала, что ей доведется увидеть его вот таким — с обнаженной головой, обливающегося потом, беспомощного и жалкого в своей попытке догнать грузовик.
— Отец! — невольно вырвалось у нее, но он не услышал. Ах, как бы она сейчас кинулась следом! Но где уж тут догонять отца, когда на руках Паппу!
Синяя рубаха отца еще некоторое время маячила в конце улицы, хотя грузовик уже исчез вдали. На глазах у нее навернулись слезы, и вдруг она заметила мать, бегущую вслед за Чаудхри. Мать была босая, конец сари сполз с головы и теперь жгутом обвивал шею. По всему было видно, что силы оставляют ее.
— Воротись! — задыхаясь, еле слышно выкрикивала она. — Воротись!.. Умоляю… вороти-и-и-сь!
Басанти окликнула мать, но ее голос потонул в грохоте.
«Если уж они отняли у отца его сумку с инструментом, то дядя Мульрадж, надо думать, лишился стиральной доски и утюга, а сын Хиралала — своей тележки», — невольно подумала Басанти и только тут на перекрестке увидела Гобинди. На ходу вытирая слезы, тучная Гобинди то бежала, то переходила на шаг, не переставая горько причитать:
— Проклятые!.. Все порушили! Где же я теперь жить-то буду?.. Все порушили!.. Даже сундук и тот уволокли!.. Мерзавцы!
Владельцы крупных лавок и мелких лавчонок, составлявших базарные ряды, стояли на улице и наблюдали, как со столичных улиц изгоняются лоточники, парикмахеры, сапожники — все те, кто открывал свое «заведение» прямо на тротуаре.
— Во дает! — стоя у входа в лавку и почесывая за ухом, произнес толстый лавочник. Полицейский ударил дубинкой по бидону, висевшему на конце бамбукового коромысла, воткнутого в щель стены, — пустой бидон грохнулся на тротуар и покатился по асфальту. Полицейские, выстроившиеся вдоль тротуара у входа в парк, дубинками погнали бидон дальше.
— Во дает! — опять донесся тот же голос.
Стоявший ближе всех к Басанти полицейский небрежно поддел ногой ящик мальчишки-чистильщика и отшвырнул его в сторону, затем сорвал с головы мальчишки шапчонку и зашвырнул ее на крышу ближайшей лавки. Лавочники засмеялись.
— А ну, дуй отсюда! Не то и сам вместе с шапкой окажешься на крыше! — сказал полицейский и, обернувшись к лавочникам, весело осклабился. Чтобы подразнить чистильщика, он не спеша принес ящик и поставил его на тротуаре у своих ног. Лавочники опять засмеялись, довольные шуткой. Басанти перевела взгляд на улицу, но матери там уже не было. И куда это они оба понеслись? Из глаз Басанти покатились крупные слезы.
С грохотом промчались несколько грузовиков, нагруженных всяким скарбом, каждый под охраной двух или трех полицейских. В некоторых грузовиках сидели еще и те, кто оказал сопротивление представителям власти.
И только теперь Басанти вспомнила о своем тандуре. Может, и его тоже уничтожили? А там ведь остались и посуда, и скамейка, и доска для разделывания теста, и бидон с мукой. Басанти забеспокоилась. Отправляясь провожать Дину и Рукмини, присмотреть за тандуром она попросила старуху соседку. Басанти повернула назад, но с ребенком на руках идти было нелегко. Она торопилась, хотя сердце подсказывало ей, что спешить бесполезно: чему быть, того не миновать. Свернув в свой переулок, она наконец отчетливо поняла, что здесь все уже кончено. В воздухе висела плотная завеса пыли. И ни одной живой души. Ни жителей, ни полицейских. Только потом сквозь пыльную пелену она различила фигурки ребятишек, которые бегали среди развалин.
Там, где был тандур, торчали из земли две бамбуковые палки. На них с наступлением вечера она вешала лампу. Лампа лежала на земле с разбитым вдребезги стеклом, тут же валялись черепки от кувшинов. У скамейки осталась одна-единственная ножка. Брезентовый навес исчез. Вокруг валялись только обожженные, покрытые сажей кирпичи.
Басанти долго стояла, не отрывая глаз от развалин того, что прежде было ее семейным очагом. И вдруг она увидела Шьяму, которая приближалась к ней, осторожно ступая через битый кирпич и доски.
— Ходила на рынок, — заговорила она, заметив Басанти. — Гляжу — полиция. Меня будто осенило. Дай, думаю, схожу взгляну, как она там…
Остановившись, Шьяма окинула взглядом развалины.
— А где же Дину? — спросила она. — Где жена его? Я думала, что уж тандур-то он не бросит.
Басанти окружили игравшие поблизости ребятишки, и один из них сказал:
— Все, что было у тебя, они покидали в грузовик. Бидон с мукой тоже.
— Бабушка не хотела было отдавать. Как закричит на них, — подхватил другой, — но полицейский обругал ее да еще и дубинкой огрел.
Басанти по-прежнему стояла, не проронив ни слова.
— Где ж все-таки Дину и его жена? — не унималась Шьяма.
— Они уехали, тетя, — негромко произнесла наконец Басанти.
— Уехали, говоришь? — удивленно подняв брови, переспросила Шьяма. — Куда ж уехали-то они?
— В деревню вернулись, тетечка!
— И ты позволила ему? Уехать и бросить тебя на произвол судьбы? — Подойдя к Басанти, она поднесла указательный палец почти к самому ее носу. — Ну, что ты теперь скажешь? Говорила я тебе или не говорила?
Басанти скупо улыбнулась.
— Говорили, тетенька, говорили.
— Я всегда говорила тебе: нехороший это человек. Сто раз повторяла: поломает он тебе жизнь.
— Ну и что из того, тетя? — произнесла, улыбаясь, Басанти.
Шьяма ошеломленно уставилась на нее.
— А куда ты подашься сейчас, сумасшедшая? Ни работы, ни крыши над головой.
— Почему это вы так решили, тетя? У меня есть мазанка, со мной мой сын Паппу.
Еще раз окинув взглядом развалины, Шьяма удрученно покачала головой.
— Говорила ж я тебе: не ставь тандур на этом месте. Нет, она сделала по-своему — поставила на чужом участке.
— Ну и что из того, тетя? — спокойно произнесла Басанти.
— А то, что его и разрушили.
Басанти ничего не ответила, только упрямо тряхнула головой. На ее усталом лице играла улыбка.
Басанти нагнулась к Паппу, который возился у ее ног с обломком тарелки, взяла его на руки и, не говоря ни слова, направилась в ту сторону, откуда только что пришла.
— Куда же ты, Басанти? — удивленно воскликнула Шьяма.
— Они даже сумку отняли у отца, — поворачиваясь, серьезно проговорила Басанти. — Я сама видела, как они бежали за грузовиком — отец и мама… Пойду искать их. Взгляну хоть, как они теперь…
И, взяв малыша поудобнее, она решительно зашагала по улице.
1
Бири — местная сигарета, изготовляемая из цельного листа табака. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Ахир — каста пастухов.
(обратно)3
Панчаят — орган местного самоуправления.
(обратно)4
Чапраси — рассыльный.
(обратно)5
Дхоби — мужчина-прачка.
(обратно)6
Пандит — ученый, получивший традиционное индуистское образование; член жреческой касты, занимающий самое высокое положение в кастовой иерархии индийского общества.
(обратно)7
Гур — неочищенный сахар.
(обратно)8
Паджеб — женский ножной браслет, обычно с бубенчиками.
(обратно)9
Чарпаи — легкая деревянная кровать с веревочной сеткой.
(обратно)10
Лота — невысокий кувшин с широким горлом.
(обратно)11
Пайса — мелкая монета, 1/100 рупии.
(обратно)12
Рани — царица, владычица, госпожа.
(обратно)13
Садху — странствующий аскет.
(обратно)14
Чаукидар — сторож.
(обратно)15
Бхут — злой дух.
(обратно)16
Хема Малини — известная индийская киноактриса.
(обратно)17
Фарланг — мера длины, около 400 м.
(обратно)18
Джодхпур — одно из крупнейших княжеств Раджастхана, сохранявшееся до провозглашения независимости Индии.
(обратно)19
Ладду — индийские сладости в виде шариков, приготовленных из муки, молока и сахара.
(обратно)20
Патханкот — конечная железнодорожная станция в штате Пенджаб, находящаяся у границы штата Джамму и Кашмир.
(обратно)21
Мантра — молитвенная формула или заклинание.
(обратно)22
Шитла — мифологическая богиня, насылающая оспу.
(обратно)23
Джвала-дэви — богиня, которая, по поверью, помогает излечиться от бесплодия.
(обратно)24
Кос — мера длины, 3,3 км.
(обратно)25
Хануман — царь обезьян.
(обратно)26
Камандаль — высокий сосуд из полой тыквы.
(обратно)27
Шива-линга — изображение Шивы в виде фаллоса.
(обратно)28
Коннат-плэйс — центральная часть Дели, где расположены фешенебельные магазины, рестораны и кинотеатры.
(обратно)29
Дарлинг — дорогой (англ.).
(обратно)30
Чапати — пресная лепешка.
(обратно)31
Басанти — значит весенняя.
(обратно)32
Каури — мелкая раковина, которая прежде использовалась как разменная монета.
(обратно)33
Тандур — глиняная печь для выпечки лепешек.
(обратно)





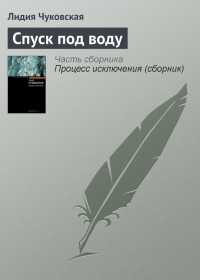

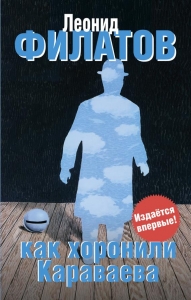


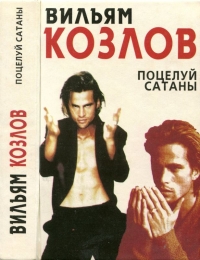
Комментарии к книге «Девушка с делийской окраины», Бхишам Сахни
Всего 0 комментариев