Саймон Ван Бой Любовь рождается зимой
Simon Van Booy
Love begins in winter
© Simon Van Booy, 2014
© Жихарев Г., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2018
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛОРИЛИ ВАН БОЙ
Если тебя здесь нет, почему везде – ты?
Любовь рождается зимой
I
Я жду в полутьме.
Моя виолончель уже на сцене. Она была вырезана в 1723 году на склонах Сицилии, где море хранит покой. Струны дрожат близ смычка, будто в ожидании любовника.
Меня зовут Бруно Бонне. Кулиса, за которой я стою, цвета сливы. Тяжелый бархат. Моя жизнь – по ту сторону кулис. Иногда я хочу, чтобы она продолжалась без меня.
Софиты здесь, в Квебек-Сити, слишком яркие. Искорки пыли кружат над грифом и колками, пока меня представляют на канадском французском. Эта виолончель принадлежала моему деду, случайно погибшему во Второй мировой.
Кухонный табурет моего деда тоже на сцене. Я могу опереться только на три ножки. Плетеный центр сиденья порван. Однажды табурет развалится. Когда его доставляют в зал за день до концерта, взволнованный концертмейстер обязательно звонит с плохими новостями: «Ваш стул был сильно поврежден в дороге».
Взрыв аплодисментов, и я выхожу на сцену.
Кто все эти люди?
Как-нибудь я сыграю без своего инструмента. Я сяду на сцене, выпрямлю спину и замру. Я закрою глаза и представлю течение жизни за стенами концертного зала: дымящиеся кастрюли и помешивающих их содержимое женщин в тапочках; тинейджеров в своих комнатах в наушниках; чьего-то сына, ищущего ключи; разведенную женщину, чистящую зубы под пристальным взором своего кота; семью, смотрящую телевизор, – самый младший уже спит, но не запомнит свой сон.
Когда я сжимаю свой смычок, люди в зале разом умолкают.
Я бросаю взгляд на их лица за миг до начала.
Их так много, но ни один из них не знает ничего обо мне.
Если хотя бы один узнал меня, то я смог бы спрыгнуть с ветвей дерева моей жизни, отряхнуть года со своих одежд и отправиться в долгое путешествие через поля к тому месту, где я когда-то потерялся. Мальчик, опершийся на створку ворот, ожидающий пробуждения своего лучшего друга. Заднее колесо велосипеда Анны, все еще крутящееся в воздухе.
Вот уже десять лет как я, профессиональный виолончелист, воскрешаю мертвых в концертных залах по всему миру. Как только мой смычок касается струн, появляется образ Анны. Она одета так же, как и тогда. Я старше на двадцать лет. Но она – все еще ребенок. Ее образ мерцает, сотканный из света. Она наблюдает за мной в нескольких футах от виолончели. Она смотрит на меня, но не узнает.
Сегодня концертный зал полон. К концу последней части я чувствую, как она начинает таять. Задерживается одинокая рука; фрагмент плеча; мерцающий локон.
Но она уже ускользает внутрь – торопясь покинуть мир живых.
Некоторые исполнители предпочитают не замечать образы, парящие над сценой: силуэты, скользящие, словно во сне, с грацией клубящегося дыма; образы, вызванные виной, любовью, сожалением, удачей и случаем. Некоторые исполнители, я слышал, не могут оторвать от них глаз. Одни дают трещину и бросаются с мостов; другие напиваются до беспамятства или встречают полночь? стоя в ледяной реке.
Мне кажется, что музыка – то, чем когда-то стремился стать язык. Музыка позволяет нам предстать перед Богом как равными, поскольку она возносится за пределы бренной жизни.
Я чувствую приближение финала.
Мышцы моей смычковой руки напрягаются. Финальные ноты звонки; я ровняю мой смычок, как весло в реке, направляя нас всех к берегу сегодняшнего, завтрашнего и последующих дней. Дни впереди как бескрайние поля.
Снаружи концертного зала сгущается ночь. Город – все еще промокший насквозь. Стеклянная стена концертного зала открывает вид на сад. Капли дождя пунктиром покрывают окна, вздрагивая от каждого вздоха ветра. Звезды заполняют небо, чтобы пролиться на улицы и площади. Во время дождя даже в самых Богом забытых лужах – карта вселенной.
Когда представление окончено, я встаю и поднимаю смычок к залу. Я слышу, как на сцену падают предметы – цветы и записки, прилепленные на кусочки пластика.
Овации оглушают. Я нащупываю в кармане рукавицу Анны.
Под светом софитов с меня течет пот. Каждая капля уносит свою крохотную аплодирующую публику. Как всегда, мне хочется выпить чего-нибудь сладкого. Я спешу за кулисы, все еще сжимая смычок. На ступеньках я снова нащупываю рукавицу Анны, и вдруг вижу ее лицо с пугающей ясностью. Такие прямые волосы, и так много веснушек. Лишь подлинные воспоминания находят нас так ясно – словно письма, адресованные тем, кем мы когда-то были.
Я спешу в свою гримерную. Нахожу полотенце, пью апельсиновый сок из бутылки и падаю в кресло.
Я замираю, закрыв глаза.
Еще один концерт окончен.
Я думаю, сколько их мне еще осилить. Сколько осталось Анн. Ей было двенадцать лет, когда ее не стало. Ее отец – пекарь, и с того самого утра каждый двенадцатый его багет помечен буквой А. Он разрешает детям бесплатно есть пирожные в своей пекарне. Они шумят и устраивают беспорядок.
Носильщик стучит в дверь, потом входит с телефоном в руке. Он подает его мне. У него тот тип квадратных плечей, пользующийся популярностью у женщин. Его глаза в глубоких морщинах, но ему не дать больше сорока. Я протягиваю ему свою бутылку с соком. Он держит ее на расстоянии от тела. Я подношу телефон к уху. Это Сэнди. Она хочет узнать, как все прошло. Ей было плохо слышно из-за помех в телефоне носильщика. Кто-то дал ей номер этого телефона, чтобы она могла послушать из-за кулис. Сэнди – мой агент. Она родом из Айовы. Она профессионал и знает, как устроены творческие личности, – она не церемонится ни с кем, кроме своих подопечных. Я говорю ей, что все прошло хорошо. Потом я спрашиваю разрешения что-то ей сказать.
«Например?» – говорит она.
Я редко завожу разговор. Бóльшую часть четвертого десятка своей жизни я не видел причин делиться чем-либо с людьми. Но в юности я был страстно влюблен, рыдал ночи напролет (уже не помню из-за чего). Я следовал за женщинами до их домов, а потом писал сонаты и оставлял их среди ночи на крыльце. Я прыгал в пруд в одежде. Я чуть не упился до смерти. В юности любой конфликт был выходом – чуть более хлопотным заполнением внутренней пустоты.
Сэнди знает обо мне немного – что я француз и что я никогда не забываю послать ее дочери открытку, куда бы я ни поехал.
Я рассказываю ей о своем сне во время полета до Квебек-Сити. Сэнди говорит мне, что сны – это либо неразрешенные конфликты, либо нереализованные желания. Согласно Фрейду, добавляет она. Она умолкает. Я слышу, как работает телевизор. Потом она говорит, что ее дочери пора в кровать. Я спрашиваю, что она натворила. Сэнди смеется. Они вяжут и смотрят фильм. Сэнди – одинокая мать. Она обратилась в клинику, где ей помогли забеременеть. Я часто думаю, что если Сэнди умрет, я бы хотел, чтобы ее дочь жила со мной. Я научу ее играть на виолончели. Правда, ей часто придется быть одной из-за моих разъездов.
Я буду оставлять ей рукописные «ноты» по всему дому. Мы можем дать имена двум портретам восемнадцатого века, висящим в моей квартире. Они могут оберегать нас. Мы можем беречь друг друга.
Я отдаю носильщику телефон и благодарю его. Он интересуется, добрые ли известия.
Мой самолет на Нью-Йорк улетает завтра в обед. У меня есть целый вечер для прогулок. Я прилетел в Квебек-Сити только этим утром. Таксист, подвезший меня, был родом из Боснии. На нем была шерстяная шапка с эмблемой любимой футбольной команды.
Через полчаса после окончания моего концерта в Музее Цивилизации моя гримерная заполняется шумом – несколько пар моих поклонников приглашают меня на ужин. В каждом городе эти пары на одно лицо. В древнем сицилианском городе Ното (где была вырезана моя виолончель) их одежды были бы покрыты сложнейшим узором. Мне представляются лица, люди во внутреннем дворике: наслаждение тени; вино на губах; запылившиеся ноги поверх сандалий; снаружи тянет конским духом; дети бегают по дому, локоны прыгают по плечам; смех сменяется плачем – палитра человеческих чувств не изменилась.
Меня всегда приглашают на ужин или провести уик-энд с попечителями – может быть, я даже захвачу с собой виолончель, просят они.
По молодости мне было неудобно отказывать. Но в последние несколько лет я учтиво отклоняю предложения. Сэнди утверждает, что у меня уже сложилась репутация непростого в общении человека.
Я объяснил, как и всегда, что мне необходимо восстановиться; что у меня довольно серьезная простуда. Я тяжело вздохнул пару раз для пущего эффекта. Женщина рассмеялась. Ее муж обнял ее одной рукой. На нем – бабочка канареечного цвета. Под глазами у него – темные пятна.
Перед представлением я взглянул на себя в зеркало. Задумался, стоит ли побриться. В прошлую среду был мой день рождения – тридцать пятая гирька к грузу моих лет. На самом деле, сами годы не значат ничего. Вся важность в том, чем они наполнены. Для кого-то я – знаменитый виолончелист. Бруно Бонне. А кто я для себя, я не знаю; наверное, все тот же испуганный мальчик, зачарованный миром, или в лучшем случае мальчик, навсегда прильнувший к запотевшему заднему стеклу семейного автомобиля, коричневого Renault 16. Когда я был ребенком, моя семья часто отправлялась в длительные поездки, иногда даже не останавливаясь на ночь. Мне кажется, мой отец вел машину так же, как думал. Мать разламывала хлеб и давала мне с братом по куску. Когда хлеб заканчивался, мы наконец делали остановку. Благодаря хлебу мое детство не выходило за пределы разумного.
Мой отец был одним из немногих мужчин моего детства, который не курил. Его отец был убит во время войны. Когда Париж заполнили нацисты, кричащие и опасные, дороги на юг были забиты людьми – груженные пожитками автомобили, повозки на конной тяге, детские коляски, везущие радиолы, семейные фотографии и столовые наборы. Гитлер захотел уничтожить дороги.
Пилотам люфтваффе было нетрудно разглядеть дороги с высоты – они текли, словно реки. Мой дед пахал в поле. Ему оторвало голову осколком снаряда. Моему отцу было десять лет.
Когда мне было десять лет, мой отец дал мне фотографию своего отца, на которой тот держал свою старинную итальянскую виолончель. Он попросил, чтобы я сохранил фотографию, что однажды она будет много значить. Я помню, как сказал ему, что она уже много значит. Потом я спросил невзначай, могу ли я научиться играть на виолончели. Я даже не осознал толком, о чем я попросил.
Через пару недель, в канун Рождества, под деревом стояла бесценная виолончель восемнадцатого века. Это был инструмент моего деда, его инициалы на кожухе. Моя мать повязала на кожух ленточку. Когда я подошел к виолончели, отец встал и вышел из комнаты.
Отец слушал мои упражнения со слезами на глазах. В этом и есть секрет моего профессионального успеха.
Когда моя гримерная наконец начала пустеть, мужчина в канареечной бабочке спросил, может ли он с женой отвезти мою виолончель в своей машине в отель Chateau Frontenac, где я остановился, а они собрались отужинать в ресторане Jean Sоuchard. Его жена добавила, что аккуратность их обращения с ней превзойдет мои ожидания. Я поблагодарил их, и объяснил, что концертмейстер уже распорядился о доставке виолончели служащими музея в специальное хранилище отеля. Супруги выглядели расстроенными, и я проводил их до машины. Они чего-то хотели от меня. А я хотел дать им понять, что доверять сложнее, чем доверие оправдывать.
Я люблю гулять. Особенно когда я налегке (что случается нечасто). По дороге в отель начинается дождь: сначала чуть крапает, но вскоре бьет тяжелыми ледяными каплями. Я останавливаюсь на улице, ведущей к Chateau Frontenac. Мостовая блестит. Она отражает мир с пленительной неточностью.
Мой старый учитель географии когда-то сказал классу, что музыка, картины, скульптуры и книги – это зеркала, в которых люди видят свои разные отражения.
Что-то в дожде, скользящем под уклон, не дает мне сдвинуться с места. Мимо спешат люди, стремящиеся куда-то и никуда. Машины притормаживают. Люди в них пытаются понять, на что я смотрю. Стремительные отблески фар – словно диковинные животные.
Когда я вернусь в Нью-Йорк, я выучу начальные строфы самого знаменитого творения Данте. Мне кажется, оно начинается так: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…»
На ум приходят «Грезы» в исполнении Горовица. Дольше, чем у кого-либо, на двадцать пять секунд. Или мне это показалось? Если вы их не слышали…
Они о детстве.
Мои родители во Франции проводят вечера перед телевизором в носках, присланных мной из Лондона. Я люблю своих родителей и прощаю им все. Над диваном в рамке висит акварель снежного барса. Она может их убить, если упадет. Рисунок напечатан ограниченным тиражом. Где-то в мире есть еще 199 таких же.
Им выпало быть моими родителями один-единственный раз. Им выпало быть моими единственными родителями в истории всей вселенной. Мне интересно, чувствуют ли они, что я думаю о них здесь, в Квебеке, под дождем – мне интересно, ощущают ли они меня маленьким зверьком, покусывающим их от избытка чувств.
Я продолжаю свой путь на вершину холма. Chateau Frontenac возвышается над городом, как благосклонный диктатор. С восемнадцатого этажа видны Лаврентийские горы. Монреаль – в пяти часах на юго-западе. Замок был построен для обеспеченных пассажиров железной дороги, пару десятилетий спустя после американской Гражданской войны. Предположу, что это самое высокое здание в жизни некоторых квебекцев. Влюбленные забираются сюда и прогуливаются по закатному городу. Их можно увидеть на променаде, ютящихся под одним зонтом, замедляющих шаг только для поцелуя и взгляда вниз, на черную, холодную реку с отблесками уличных фонарей.
Когда я играю, мне кажется, что я парю. Я делаю круг над аудиторией. Я отправляюсь куда угодно, кроме своего тела. Без музыки я был бы узником, замурованным в стене.
Когда я играю, я иногда представляю своих родителей. И в тот же момент, когда струны умолкают, громом взрываются аплодисменты. Люди торопятся хлопать, потому что их аплодисменты предназначены для них самих; они аплодируют тому, что их признал кто-то умерший много лет назад в комнате при мерцающем свете свечей.
Я хочу позвонить отцу, но мои родители уже в постели. Они будут недовольны, если я позвоню сейчас, но назавтра – благодарны. Мой отец все равно считает меня взбалмошным. Он рассказывает про меня своим друзьям в кафе, про то, какой я эксцентричный. Это повод для него рассказать обо мне.
Уже слишком поздно звонить кому-то в Нуаяне, маленькой французской деревушке, где я вырос. Я представляю ясно, как городок замер. Пустынные улочки. Мои родители спят. Красные цифры на будильнике, увеличенные поставленным перед ними стаканом. В стакане крохотные пузырьки, всплывающие ночью на поверхность. В холодильнике – остатки ужина. У дома покрыта тонким кружевом ночной росы машина – новенький Renault. Мой брат подарил им ее на Рождество. Моя мать была готова идти кататься на ней в ночной рубашке; брата переполнила радость. Отец вымыл руки и поглядел на машину через кухонное окно, прежде чем выйти на улицу. Он постоял возле нее и положил руку на крышу. Затем ушел на огород за дальней стеной дома и стал выкапывать оставшиеся после сбора картофелины. Мать пригласила брата в дом и заверила, что мы все вместе прокатимся на машине после завтрака. Брат никогда не понимал отца. Мой брат все воспринимает буквально. Женщины всегда любили его. Мне его не хватает. Мы выросли в коттедже, пристройке к небольшой усадьбе, за которой присматривал отец.
Длинный дом восемнадцатого века ждет во тьме своих заезжих обитателей, рассыпанных бо́льшую часть года по Парижу, словно детали механизма. Замечательная семья. Хотя одна ее половина склонна к сдержанности, а другая – наполнена страстью. Длинный белый дом полон окон. На чердаке хранится коробка мундиров наполеоновских времен. В одной из спален – три десятка романов Агаты Кристи в мягкой обложке. В другой – гравюра с изображением птиц.
Завтра я буду в Нью-Йорке, моем городе вот уже десять лет. В конце недели – еще концерты. Один в клубе Лотос, другой – благотворительный, в Центральном парке, затем Лос-Анджелес – концерт в Голливудской Чаше, затем Сан-Франциско, затем Финикс.
Мне нравится Нью-Йорк, но не хватает тишины деревенской Европы. Американцы прямолинейны. Мне кажется, мой брат найдет здесь жену в два счета.
Баховские «Сюиты для виолончели соло» были созданы для обучения, но несут в себе загадочную нить, влекущую музыкантов без видимой причины; в них карта, указывающая расположение других миров. Они не менее популярны, чем классические вещи Моцарта и Гайдна. Сюиты Баха расходятся лучше всего остального в моем репертуаре. Именно благодаря Баху и моему брату мне удалось купить маленькую квартиру в Бруклине. Брат не знает, что я знаю – он купил тысячи дисков с моими записями для новогодних подарков своим работникам. Они любят его всем сердцем. Если случится война, они станут его личной армией. Удивительно, как многого он добился на своем поприще. Он не оставил от своих конкурентов и следа. Его фотографии были на обложках деловых журналов по всему миру. Никто, кроме нас двоих, не знает, как ему удалось, практически в одиночку, сделать Renault самой популярной в Европе маркой малолитражного автомобиля. Даже у меня здесь, в Нью-Йорке, есть Renault. Все хотят познакомиться с машиной поближе. Они всегда норовят добавить «Т» в произношении имени. Мой автомеханик работает в Квинсе. Он из Сенегала, и тоже вырос на Renault. Я оставляю машину у его дома, и он возит на ней своих шестерых детей. Вот уже почти два года я ее не видел. Моему брату об этом не известно, но я уверен, что он в этой истории меня бы поддержал. У нас с ним одинаковые машины – коричневые Renault 1978 года. Мы цепляемся за детство; может оттого, что не можем обнять друг друга. Его подружки неизменно удивлены, когда кавалер с миллионами приезжает на Renault 16-й модели 1978 года.
На исходе часа после окончания концерта в Квебеке я разминулся со своим отелем и углубился в лабиринт старых улочек. Как можно было пропустить такой прекрасный дождь. Я наткнулся на маленький французский ресторан, Le Saint Amour. Меню напомнило мне о родных краях. Я объяснил официанту, что не заказываю вина из-за аллергии, и тогда он принес маленькие рюмки, чтобы я смог уловить носом букет под фуа-гра, филе миньон и чечевицу с соусом из трюфелей. У меня нет аллергии на алкоголь; совсем наоборот – чрезмерная любовь.
Ресторан был полон пар. За одним столом молча сидела девушка-подросток с отцом. Она была сердита или огорчена им. Он знал об этом, но не подавал виду. Мне кажется, все дети недовольны родителями, если им вообще выпадает удача узнать их поближе.
Я оставил огромные чаевые. Мне никогда не забыть своего официанта. Он все пытался заговорить со мной на итальянском, зная, что я француз. Он не переставал упоминать дочерей. Его очки делали его намного старше. Ему нравилась его работа. Он сказал, что каждый ужин оставляет о себе память. Он сказал, что делает доброе дело, не с него начавшееся, и не на нем ему закончиться. Выйдя из ресторана я почувствовал пронзительную грусть. Я больше никогда его не увижу.
По дороге мне попались несколько закрытых магазинов, темных и холодных. Куклы в витрине глазели на улицу, делая вид, что меня не замечают. Я осторожно пробирался по обледенелой мостовой. Пошел снег легкой порошей. Дома стояли безмолвно, полные спящих обитателей. Был уже второй час ночи, и в полной тишине я слышал жужжание уличных фонарей, проплывающих надо мной.
Город изменился. Я оказался посреди площади перед маленькой, сгорбленной серой церковью, Notre-Dame-des-Victoires. Когда-то здесь сняли грустный фильм. О мальчике и его отце-неудачнике. Ночная прогулка по старым местам делает тебя похожим на духа, преследующего мир после смерти.
Я продолжал идти, стреляя глазами в сторону статуй и наделяя каждую именем своих любимых и друзей, словно сентиментальный пьянчужка.
И тут я остановился как вкопанный. Краем глаза я уловил движение. Не берусь утверждать, что это было – скорее всего, силуэт, проплывший на фоне темного окна, словно рыба, едва различимая в толще воды.
В каждом окне стояла своя собственная свеча. Но свечи были не настоящими – просто светильники в форме свечей. Весь длинный дом был втиснут в улочку, подсвеченную снегом. Фонари у дальнего конца дома отбрасывали громадную тень на сгорбленную церковку. Дом казался уменьшенной копией того, где я вырос – особняк буржуа, за которым всю свою жизнь смотрел мой отец, словно немой первенец семейства. В доме были и другие окна, окна без светильников, темные настолько, что нельзя было различить стекла. Над дверью было выбито: «Сердцу моего сына», и рельеф руки, проникающей в человеческое сердце. На дереве массивной двери было вырезано большое распятие. Чистота и порядок коридора, просматриваемого сквозь единственное, ярко освещенное окно на первом этаже, навело меня на мысль, что передо мной женский монастырь.
Затем я снова увидел силуэт, проплывший на фоне окна. Темная фигура замерла. Таинственный кто-то увидел меня, стоящего на морозном воздухе улицы. Шел уже четвертый час ночи. Мы были единственными жителями целого города, цепочками следов на необитаемых островах друг друга.
Силуэт скользнул к другому окну, окну со свечой, и я увидел наконец, кто это.
Мне был виден ее профиль, но детали лица остались тайной. Ее осанка говорила о молодости. Рука ее опиралась на оконное стекло. И тогда, на затуманенной поверхности предрассветного стекла – запотевшего, словно с единственной целью осуществить то, чему суждено было произойти через мгновение, – эта женщина, которую я теперь знал, но никогда не узнаю, эта одинокая фигура, блуждающая по бессонным коридорам студеной зари, медленно вывела пальцем на стекле слово. Подняв свечу, она осветила буквы:
Allez[1]
Я вынул руки из карманов. Начался дождь, и силуэт исчез. Я повернулся и медленно побрел прочь.
Я повторял слово про себя снова и снова, блуждая по городу. Внезапно я почувствовал прилив тепла, сил, жизни и желания делиться жизнью. Получается, что мне нужно услышать от другого то, что я давно знаю сам.
Мои отец и мать уже проснулись.
Кухонная раковина полна овощей, только что выдернутых из земли.
Мой брат читает у окна в Париже – его новая подруга еще спит.
Мой агент, Сэнди, – в теплой кровати со своей дочкой, лежат, крепко обняв друг друга. Их дыхание нежно и интимно; приоткрытые рты на склонах подушек.
Я, должно быть, вернулся в отель лишь под утро. Всю ночь проведя на улице, я промок насквозь. В лифте я оставил небольшую лужу. Наверняка подозрение падет на пару моих соседей по этажу, хозяев миниатюрного пуделя. Персонал гостиницы отличается чрезвычайной любезностью, словно весь отель Chateau Frontenac был рожден фантазией Чехова.
Теперь я отмокаю в горячей ванне.
Пена окружает мою грудь, словно остров, на котором ожила вытесанная голова какого-то великого божества. Надо не забыть записать в дневник, что я провел первые часы дня, строя глазки городским статуям и отмокая в ванне.
Мои туфли промокли так сильно, что перестали стучать по булыжнику мостовой. Я положил их в раковину. Кожа стала слишком мягкой; я не думаю, что им суждено вернуться в изначальный вид. Я думаю о слове на запотевшем стекле. Чувствую, как ее палец скользит по моей спине, выводя буквы.
Allez
Когда вернусь в Нью-Йорк, начну рано вставать по утрам. Приглашу брата навестить меня. Мы будем сидеть в парке в толстых пальто. Мы будем наблюдать, как плывут облака. Иногда я представляю себе, что каждое облако несет груз того, чему суждено случиться.
Вода в ванне остывает. Я вижу в ней свое отражение. Мои глаза поднимаются к окну, затем сквозь него. Я нахожу взглядом реку и следую за ее изгибом. Французы отняли Квебек-сити у его древнего народа, когда Шекспиру было столько, сколько мне сейчас. Из окна моей комнаты видна река Святого Лаврентия. Течение несет льдины. Женщины Квебека когда-то ловили рыбу, забрасывая жесткие побеги кукурузы с деревянных настилов по берегу реки. Я вижу их белое дыхание и серые зубы – они раскидывают сверкающую рыбу по бочкам. Их передники намокли. Мороз припорошил жирную коричневую землю. Она тверда как камень. Руки женщин потрескались от холода. Они смеются и машут детям в лодчонках на реке. Облака плывут в рыбьих глазах.
Мне нравится моя комната в Chateau. Из окна видно реку, но прямо под окнами – парк. Деревья в парке раздеты зимой и дочерна пропитаны дождем. Ранние поселенцы семнадцатого века не идут у меня из головы. Запах мокрой кожи. Глупые лошади не слушаются приказаний. Плачущие дети. Сырое дерево. Везде лед, режет по живому. Замерзшая земля не принимает усопших. И ничего не растет. В лесу то здесь, то там мороженые ягоды, как глаза. Люди болеют от незнакомой еды.
Наверное, я уснул в ванне. Меня будит тихий стук в дверь. Я молчу, надеясь, что меня оставят в покое. Снова стук. Может быть, принесли мою виолончель из хранилища отеля, которое, как меня уверяют, существует? Я нахожу полотенце, открываю дверь, и благодарю посыльного парой монет. Он спрашивает, хочу ли я позавтракать, затем говорит, что для него было честью доставить мой инструмент. Он удаляется, что-то насвистывая. Мне кажется, персонал гостиницы ко мне расположен. Две горничных считают, что подслушали мою репетицию перед вчерашним концертом, но это не так. Это был Пау Казальс. Я поставил одну из его старых записей, «Токката до мажор» И. С. Баха. Горничные топтались под дверью. Я прибавил звук. Когда запись закончилась, они захлопали в ладоши. Надо написать кому-нибудь в Bose, что их динамики удались на славу.
Большинство людей эту музыку так и не услышат за всю жизнь. Музыка помогает нам понять наши истоки, но и, что еще важнее, понять, что с нами произошло. Бах написал «Сюиты для виолончели» для своей молодой жены, в помощь ее занятиям виолончелью. Но в каждой ноте любовь, которую не выразить словами. Я чувствую ее досаду и радость, когда мой смычок извлекает ноты смиренного органиста, который представлял себе сочинительство музыки ежедневной работой. Когда Бах умер, кто-то из его детей продал его партитуры мяснику; они решили, что лучшее применение бумаги – для заворачивания мяса. В маленькой немецкой деревушке отец принес домой обмякшего гуся, завернутого в бумагу, исписанную странными и прекрасными знаками.
Я открываю футляр виолончели, и аромат напоминает мне деда. Я поднимаю инструмент и нежно пробегаю пальцами по струнам. В каждой ноте живут все трагедии мира и каждый миг его спасения. Пау Казальс знал об этом. Музыка полна тайн только для тех, кто пытается ее объяснить. Музыка как любовь.
Я держу виолончель в руках и гляжу на камин в моей комнате. Мои мысли возвращаются к родителям. Отец не слушает мои записи, но иногда приходит на мои концерты, когда я в Туре или Сомюре.
В футляре рукавица дочки пекаря. Я держу ее в кармане во время выступлений. Мы были соседями по парте в школе. Ее звали Анна. Ее лицо было усыпано веснушками, и она держала карандаш тремя пальцами, не считая большого.
Зимой пустеет деревня моей юности, но весной парки снова заполняются детьми – они учатся ездить на велосипедах и делать все наперекор.
II
Увидеть его – большая удача. Он стоит у фонтана и плавно поднимает руку. Со всех деревьев слетаются птицы, чтобы усесться ему на плечи. Некоторые из них зависают на мгновение, а затем падают ему в руки мягкими камушками. Дети вопят от восторга. Родители хотят выяснить, кто он такой. Они называют его Птичником Беверли-Хиллз и обсуждают его за ужином с друзьями, которым интересно его прошлое. Кто-то говорит, что его жена и дети погибли. Кто-то говорит, что он прошел войну. Многие верят, что он – взбалмошный миллиардер.
На нем пыльный смокинг и штаны, короткие настолько, что ясно видны белые носки. Волосы с проседью слишком длинны. Поношенные каштановые мокасины намекают на иную фазу его жизни.
Иногда Птичник подносит руку к лицу и шепчет что-то пухлой птичке на ладони. Мгновения спустя эта птичка летит в толпу и садится на мальчишечье плечо или вытянутую руку девочки.
Однажды пятничным утром не одна, а сразу три птицы опустились на колено старика. Старик был огорчен тем, что никто не пригласил его на обед в тот день и не написал ему письма. Когда птицы сели на его колено, у него задрожали губы и тени обиды в его глазах разбежались.
Когда птицы улетели, он воскликнул: «Какой замечательный подарок на день рождения!» Птичник кивнул в ответ. Старик немедля отправился домой, спрятал веревку и спустился на нижний этаж, чтобы пригласить своего юного соседа-мексиканца на ужин. Они говорили обо всем подряд. И за десертом старик пообещал научить соседа читать. Они были пьяны. Все идеи казались отличными. На следующий день юный сосед принес старику подарок и пиньяту, купленную в кондитерской в Восточном Лос-Анджелесе, что рядом со старым госпиталем для кошек и собак.
К тому времени, когда мексиканский юноша научился читать, они выяснили, что подходят друг другу как частицы мозаики. Они встречали вместе праздники. Они отвели друг другу роли звезд в особом мирке, выгороженном из мира их жизней.
Надежда – лучший из даров.
Однажды черноволосая женщина и ее сын спросили у Птичника его имя. Он медленно вздохнул. Ему не нравились вопросы. Но птицы вокруг затрепетали крыльями. Усталая женщина и ее маленький сын не сводили с него глаз.
«Пожалуйста, – взмолился ребенок. – Скажите нам свое имя!»
Женщина и ребенок стояли, взявшись за руки. Послеполуденное солнце пригревало их макушки. Женщина подвернула левую туфлю, словно пытаясь ее опорожнить.
«Джонатан», – ответил Птичник. Потом он повернулся и ушел.
Птицы полетели вместе с Джонатаном, словно они тянули его худощавую фигуру прочь из парка на тонких нитях. Все в парке вернулось на круги своя. Бездомная женщина уснула под шум проезжающих машин. Белки продолжили свои погони друг за другом вокруг стволов деревьев с желудями в зубах.
III
Шесть месяцев спустя женщина с черными волосами рассказала о Птичнике своей сестре за обедом в отеле Beverly-Hills.
«Птичник наконец заговорил – его зовут Джонатан», – сказала она, смеясь.
За соседним столом женщина уронила чашку с чаем. Чашка упала на блюдце и раскололась на две аккуратные половины. Чай побежал по скатерти. Из-за двери выскочила команда официантов. Будет трудно избавиться от пятен.
Женщина поднялась и быстро направилась в туалетную комнату. На ней была старомодная юбка с пайетками и темно-зеленые туфли. Она выросла в Уэльсе. Ее брата также звали Джонатаном.
Было почти пять часов вечера. Снаружи кренился день, тяжелый от пополуденной жары, словно старый корабль, перекатывая людей с одного конца до другого.
В отеле «Beverly-Hills» все светится богатством. Он весь пропитан гордостью. Здесь есть салон и несколько ресторанов. Для любителей розового цвета – здесь райские кущи. Женщина, разбившая чашку, закрылась в кабинке туалета и разрыдалась. Она представила себе, как официанты убирают за ней; вскоре на столе будет свежая скатерть и сверкающее столовое серебро. Через несколько минут от ее происшествия не останется и следа.
Женщина нащупала в кармане желуди. Она сжала их в руке. Ее Джонатан собирал орехи. Он хранил их в маленьких плошках в своей спальне. Он хотел кормить ими птиц. Птицы были его страстью. И они вили свои гнезда в темных местах под крышей, за окном его спальни. Он говорил, что видел их глаза, когда они заглядывали ночью в окно. Может быть, они знали с самого начала, чему было уготовано с ним случиться. Это было давно, в одноглазой уэльской деревушке, полной овец, грязи и звезд.
Скорбь – это страна, где не прекращается дождь, но ничего не растет. Покинувшие нас живут в других местах – в тех одеждах, в которых мы их запомнили.
IV
Когда малыша Джонатана, завернутого во все белое, принесли из госпиталя, я не могла оторвать от него глаз. Я сидела около него по ночам. Он дышал коротко и часто. Когда его ручки окрепли, он протягивал их ко мне, своей сестре.
Мы жили в коттедже, отапливаемом углем, что тлел медленно и степенно в кухонной печи. Летом камины в жилых комнатах чернели зимней золой. Моя мать делала сэндвичи с листьями салата с огорода. Когда Джонатан научился ходить, я отвела его в поле за коттеджем и усадила в тени на расстеленное полотенце. Я строила ему крошечные лачуги из глины и сена, а он держал в своих пухлых пальчиках коричневых пластмассовых мышей, которые, мы знали оба, были нашими друзьями.
По субботам мы все вместе отправлялись в деревню. Цельные туши животных свисали с крюков из отполированной стали у магазина мясника. Джонатан указывал на них пальцем, но еще не мог подобрать слов.
В жару я снимала с него одежду и помогала прыгать на кровати. Мне хочется верить, что это было его первым воспоминанием детства.
Мои куклы валялись в коробке для игрушек, пока Джонатану не исполнилось два года и он их не обнаружил. Так начался великий период игры в куклы. Две из них стали нашими младшими сестрами. Однажды мы завернули их в алюминиевую фольгу и играли ими, словно роботами. Наш немногословный отец посылал куклам открытки из своих командировок. Я читала их куклам вслух, а Джонатан кивал и, укладывая их спать, приговаривал: «Неплохо, правда? Открытка из мест, которые вам никогда не посетить».
Когда Джонатан начал носить трусы, у него вошло в привычку надевать свои неиспользованные подгузники на кукол. Его трусики были крошечными. Если, придя из школы, я находила их на полу в гостиной запачканными, то я знала, что он ждет меня в слезах на кровати. Тогда я снимала свои трусы, мочила их под краном и показывала ему. Он переставал рыдать. У братьев и сестер есть своя тайная жизнь, скрытая от родителей. Родители любят своих детей, но дети нуждаются друг в друге, чтобы не потеряться в странном лесу своего детства.
Вскоре я была поймана с поличным. Джонатан голышом стоял в двери ванной, когда я мочила свои трусы холодной водой. Он подошел ко мне и прижался своим маленьким телом к моим ногам. В окне горел последний квадрат дневного света. Было очень ярко и очень тихо. Снизу доносились звуки мультфильмов из телевизора. С этого дня Джонатан никогда не плакал, если у него случался конфуз. Я верю всем сердцем, что хотя ложь и обман разрушают любовь, они могут и укреплять и защищать ее. В любви воображение важнее опыта.
Никто не знает, когда умер Джонатан. Однажды утром отец увидел что-то на снегу из окошка ванной. Мне не разрешили выходить на улицу, и тогда я села в ванной и стала рвать себе волосы. Моя мать, увидев клочья волос на моих ногах, разрешила мне подойти к телу Джонатана. Я стала кричать и не прекратила кричать до тех пор, пока не встретила мужчину по имени Бруно Бонне.
V
Ночной Лос-Анджелес пульсирует потоками машин, пока я добираюсь до концертного зала вечером следующего дня; парные нитки красных фар пронизывают долину с ее плоскими домиками и прозрачными бассейнами. Самые старые дома – с закругленными краями; они осыпаются каждый раз, когда трясет землю. Представьте себе пригороды: круглосуточные прачечные, наполненные свежестью чистой одежды; молодые матери с пластиковыми цветами в волосах. Дети глядят сквозь прорехи в горячих полотенцах, приложенных к подбитому глазу. Толпы мужчин наклоняют головы, чтобы надкусить тако в придорожной забегаловке. Ветер несет мусор с одной стороны шоссе на другую, затем обратно.
Дальше на север, ближе к Голливуду – прилавки продавцов хот-догов с неоновыми стрелками и выцветшей краской; женщины с татуировками и обрезанными черными волосами покупают блеск для губ в голливудской аптеке; бездомный толкает перед собой тележку, набитую обувью, но сам идет босиком. Он не перестает оборачиваться. Его живот висит поверх ремня. Когда-то в 60-х он оказался в трепещущих руках своей матери. Если бы только это могло произойти заново. Лос-Анджелес – это место, где мечты бесконечно балансируют на грани реальности. Город на скале, удерживаемый своим собственным весом.
Мне нравится давать здесь концерты, особен в Голливудской Чаше. Что-то есть здесь в особом движении воздуха. Моя музыка ловит восходящие потоки, и я представляю себе ноты птицами, заполняющими город. К тому же здесь жарко – настоящая противоположность Квебек-Сити двухнедельной давности, где мои ноги замерзли после ночной прогулки по городу и разговора с изваяниями. Когда мои туфли высохли, они стали жесткими, как дерево. Я спрятал их в прозрачный полиэтиленовый пакет с надписью «Прогулка по Квебеку». Мне кажется важным хранить предметы гардероба, связанные с эмоциональными переживаниями.
Я возвращаюсь мыслями к той женщине в окне, что я увидел на ночной прогулке. С той ночи я стал по-другому относиться ко многим вещам. Я поговорил об этом с братом. Ему кажется, что я наконец возвращаюсь к жизни. Он думает, что я в депрессии. Но я просто немногословен. Одиночество и депрессия – не одно и то же, все равно как плавать и тонуть. Много лет назад, в школе, я узнал, что цветы иногда распускаются, не открывая бутона.
Я прекрасно выспался и ем мясной рулет в отеле Beverly-Hills. На самом деле еще только позднее утро. На веранде снаружи бразильское мятное дерево, уже давно не подающее признаков жизни. Официант утверждает, что дереву уже больше ста лет, но разве мы продолжаем стареть после смерти? Если это так, если только это так… Я обрываю себя. На столе остатки багета. Мои мысли вызывают в памяти пекаря. Он вытирает руки о фартук. Я снова обрываю себя.
После – я снова погружусь в воды памяти.
После – я выгребу на простор моря, приложив смычок к парящему телу Анны. Я так ясно вижу ее лицо. Она умерла, когда ей было двенадцать лет. Мне было тогда тринадцать. Она не повзрослела вместе со мной, но иногда я представляю ее женщиной.
«Каждую неделю приходит девочка». Официант вернулся, чтобы рассказать о дереве на веранде. «Она играет с искусственными листьями на ветках».
Я разглядываю ветки и улыбаюсь.
«Те, кто ухаживает за деревьями здесь, смотрят на это и смеются, – сказал он. – Им, наверное, это кажется глупым».
Мне нравятся официанты, но их симпатию нужно завоевать очень быстро, прежде чем ты становишься очередным клиентом, очередным столиком номер 23. Митлоф здесь весьма посредственный, но обслуживание прекрасное. Я почти никогда не ем дома; я всегда в разъездах. Этот отель – словно заботливая мать, которая не умеет готовить.
Самый вкусный хлеб в мире пекут в моей деревне. Это как-то связано с минеральными солями в воде. Мы с дочкой пекаря ездили на окраину на велосипедах. Не забывайте, что Нуаян – это маленькая деревушка. Мы приставляли велосипеды друг к другу и перелезали через шатающиеся ворота на мягкие поля фермера Рикара.
Фермер был большим человеком с выпученными глазами. Его губы тоже были огромными; он любил носить зеленые военные свитера. Однажды он нес теленка на спине, по пояс в снегу, несколько километров полем. Ветеринар в соседней деревне пил ромашковый чай и смотрел в окно. Сломанная нога была вправлена и залечена в хлеве, отапливаемом газовым светильником. В деревне помнят, как все случилось. Корове дали умереть своей смертью.
На кухне фермер Рикар держит фотографию своего отца. Он был в движении Сопротивления, и его замучили до смерти. Мадам Рикар привыкла разговаривать с фотографией, когда фермер Рикар работает в поле. Иногда она слышит, как он стучит молотком в коровнике. Он любит пить кофе, держа чашку обеими руками. Они не занимались любовью уже много лет, но спят, взявшись за руки.
Пианист в холле отеля играет «Девушку из Ипанемы». Бутылки с алкоголем переливаются отраженным светом за стойкой бара. Салфетка на моем столе отделана по краям камешками. В середине едва заметный отпечаток абриса отеля. Ресторан почти пуст. Ресторанный зал разделен на множество частей. Через три стола от меня пожилой человек показывает фокусы своей внучке-подростку. Мне кажется, что на ней платье с выпускного. Ее волосы собраны сзади. На ней новые сережки. Каждый раз, когда нож пропадает в салфетке, она улыбается.
За другим столом я вижу молодого мексиканца и очень старого, совсем седого старика. Они читают вместе одну книгу и едят из одной чашки мороженое.
В таком месте любили делать фотографии в довоенное время. Глянцевые черно-белые снимки, что теперь висят в тишине над кроватями в спальнях отеля Beverly-Hills, где пахнет нафталином. Женщины в черных перчатках. Мужчины с сигаретами и лакированными прическами. На заднем плане пальмы. Бокалы уже выпитого джина, пополняемые тающим льдом.
Когда мы перебирались на подернутые дымкой поля фермера Рикара, дочка пекаря и я наполняли карманы камнями. Если одному из нас удавалось не забыть принести пакет, то дела шли еще лучше. Набрав камней больше, чем мы могли унести, мы кое-как доволакивали ноги до края поля и сваливали камни в кучу. Затем мы расходились, и поиск камней начинался заново.
Мы собирали камни, чтобы уберечь лезвия плуга.
Месье Рикар давал нам франк за каждый десяток камней. Если нам удавалось найти камень такой тяжести, что ни один из нас не мог его унести в одиночку (в этом заключалась проверка тяжести), то такой камень сам по себе стоил франк. Когда мы выбивались из сил, то садились прямо на землю и наблюдали за птицами. Иногда нас обнаруживал фермерский кот, и его хвост поднимался трубой. Частенько кот оборачивался и смотрел в пустоту, словно видел там что-то. Я делаю то же самое вот уже двадцать два года.
После обеда я отправлюсь в сувенирный магазин отеля Beverly-Hills. Магазин стоит напротив парикмахерской. Там сидят в ряд женщины с серебряной фольгой в волосах. Мастера обсуждают знаменитостей, и вскоре женщины сами начинают представлять себя знаменитыми.
В магазине отеля я куплю шляпную коробку.
Затем я наполню ее камнями.
VI
На четвертый день рождения Джонатану подарили книгу в твердой белой обложке – Британскую энциклопедию птиц. Она, без сомнения, стала его самой драгоценной собственностью. Когда он был сильно расстроен, он сжимал в кулачке цветной карандаш и неказисто срисовывал птиц со страниц книги.
Как раз в это время мы не раз отправлялись в чудесные семейные путешествия.
Наблюдать за отцом, колдующим над прицепом семейного автомобиля, было сродни наблюдению за Атласом, поднимающим на спину Землю. Потом, уже в дороге, мой брат и я устраивались на заднем сиденье, рука матери протягивала назад две апельсиновых дольки, словно две улыбки, для нас, а отец бесшумно направлял нашу крепость на колесах к полю на склоне холма, на таком удалении от нашей уэльской деревушки, что мы не могли себе этого даже представить.
К вечеру моя мать, отец, Джонатан и я сидели на пластиковых стульях где-нибудь на уэльском побережье, под зонтиком с эмблемой «Чинзано». Запах холодного светлого пива в отцовской кружке, вина в бокале матери, сигаретного дыма с соседнего столика. Шум машин с улиц города, запах жареной рыбы с картошкой фри; женщины на высоких каблуках, цокающих по узким дорожкам к городскому ночному клубу. Затем снова в автодоме – Джонатан и я на двухъярусных кроватях. Мы общались посредством тихого стука по тонкой стенке, к которой крепились кровати. Одеяла всегда были влажными, и запах еды часто держался до утра.
Уже взрослой я поняла, откуда Джонатан взял свою мягкость. Наш отец был застенчивым, добропорядочным мальчиком – привлекательным мужчиной из Южного Уэльса, достаточно сильным, чтобы поднять прицеп за петлю, но и достаточно мудрым, чтобы не давить ночную бабочку, скользящую по мерцающему экрану черно-белого телевизора. Я помню, как он выпустил ее сквозь приоткрытую дверь автодома в темноту ночного поля, словно вес его детских грез покоился на ее припудренных крыльях.
Мы проводили дни, исследуя городок и окрестности. Моим самым любимым воспоминанием был пикник у реки, где мы жарили сосиски. Мы бродили по лесу, не заходя в чащу, в полном одиночестве. Моя мать выросла в страхе от тех бед, что причинили ей люди. И теперь была полна страхов за нас. В своей семье она была застенчивой, любящей, молчаливой и бесконечно преданной, но для окружающего мира она представляла себя сильной, находчивой и эффектной. Прирожденный коммерсант.
Я помню ее тонкую руку – мы переходим речушку недалеко от моря, наш дом на колесах остался позади, на бетонной площадке в лесу, с другими кемперами. Маленький Джонатан держит меня за руку. Он намочил один из ботинок. Не рассчитал один из своих шагов. Нам показалось это смешным.
Я жалею, что не сохранила его ботинки, когда избавлялась от всех его вещей. Я очень любила эти ботинки и носки тоже.
А за нами – отец с сосисками, завернутыми в газету, – он еще не добрался до берега. Я помню, как наши лица посерьезнели при переправе через холодную, мутную, быструю реку. Я направляла Джонатана, осторожно выбирая камни, высунувшиеся из воды, словно они собирались что-то сказать.
Я помню, как я обернулась, чтобы найти отца, притормозившего от предвкушения радости, когда он увидит нас, близких, но еще невидимых. Я помню дрожащий голос матери на подходе к другому берегу и смех Джонатана, накрывающий скатертью его страх. Затем отец перебрался по камням через реку, и мы стали жарить сосиски у воды.
Джонатан пропал той зимой. Это случилось за несколько дней до Рождества. Я помню, как я спросила мать, где он прячется. Она предложила посмотреть под его кроватью. На огне варился картофель. Пар заполнил кухню. Я протерла стекло рукавом.
«Он не может быть на улице, дорогая, – посмотри, какой идет снег».
Я никогда не забуду этот миг. Потому что он был на улице.
Мой отец оставил стремянку приставленной к огромной ели во дворе.
Он обрезал ветви электропилой, когда начался снег.
Джонатан забрался по лестнице. Никто об этом не знал.
Когда он оказался на дереве, он продолжил лезть все выше и выше. Мы не знаем зачем. Может быть, он знал, что его жизнь подходит к концу, и хотел стать птицей.
Я надеюсь, что он ей стал.
Я слышу его голос каждый день с дерева под окном моей квартиры.
К вечеру мы были всерьез взволнованы. Мать вызвала полицию. Мой отец обошел деревню, а потом у нас на пороге появились молодые люди с фонарями и тяжелыми тростями.
Я забылась сном под утро, против своей воли. Мне было стыдно за это почти всю мою жизнь. Может быть, если бы я не уснула, я услышала бы его зов.
На следующее утро во дворе стояли несколько старых «Лендроверов» с брезентовыми крышами. Мужчины за кухонным столом пили крепкий чай. На сковородке шкворчали яйца. С просмоленных курток фермеров стекала вода на каменный пол.
Они ничего не нашли и чуть не замерзли.
Собаки на полу у их ног.
Собаки отказывались от обрезков бекона. Мужчины объяснили, что собаки переживали, что не смогли найти мальчика. Они все еще помнили его запах.
На Рождество мы вынесли подарки. Моя мать заплакала и разбила туфлей окно. Я возносила небу молитвы, читая вслух Британскую энциклопедию птиц Джонатана. Небо отвечало россыпью мягких белых слов, но они ничего нам не сказали.
Две недели спустя, в январе, отец брился в ванной, когда заметил пятно на снегу во дворе.
Пятно цвета на белой целине.
Он бросился на улицу, в глубокий снег, не стерев крем для бритья с щек. Тело Джонатана лежало без движения. Ветка, на которой он застрял, сломалась ночью во время бурана. Он лежал в снегу лицом к небу. Его тело одеревенело, а рот был открыт. В руке зажаты три замерзших желудя. Для него Рождество все еще не наступило.
Мы до сих пор не знаем, почему он не позвал на помощь. Возможно, он боялся быть наказанным: детям свойственен величайший страх разочаровать своих родителей.
Когда они увезли тело Джонатана, отец ушел в сарай. Он закрыл дверь и отрубил себе правую руку топором.
Приехала полиция, и его увезли в больницу.
Почти три десятка лет я храню желуди в кармане. Я постоянно проверяю, на месте ли они.
Иногда я катаю их на ладони и слышу смех, затем треск ломающейся ветки, глухой удар в снег чем-то мягким, упавшим с большой высоты.
Песню птицы.
VII
Продавщицы сувенирного магазина отеля Beverly-Hills помогли мне завернуть камни в розовую бумагу и упаковать их в шляпную коробку. Они поинтересовались, не из Франции ли я родом. Они сказали, что меня выдал не столько акцент, сколько манера одеваться. Они были очень оживлены участием в эксцентричном предприятии.
У той, что помоложе, глаза были подведены голубыми тенями. Она спросила меня, как переводится «Voulez-vous coucher avec moi». Ее старшая напарница захихикала и сказала, что она просто добивается, чтобы я сказал эту фразу. Девушка с голубыми тенями шлепнула подругу по руке.
Я попросил еще бумаги, и молоденькая девушка поинтересовалась, зачем вообще я заворачиваю камни. Я сказал ей, что это просто моя особенность.
Когда я закрывал коробку, молодая продавщица запустила в нее руки. Я ждал, сжимая в руках крышку.
«У камней особая красота, вам не кажется?» – наконец сказала она. Скобки на ее зубах сверкнули, отражая магазинные светильники.
Я прошел мимо парикмахерской, поднялся по лестнице. Когда позади осталась гостиная Поло, из-за угла вывернула женщина и столкнулась со мной на полном ходу. Сила удара была достаточной, чтобы сбить меня с ног. Я уронил коробку, и камни покатились, гулко сталкиваясь друг с другом. Женщина несла в руке, как мне показалось, горсть маленьких камней, которые рассыпались по гладкому, глянцевому полу.
Она бросила на меня сердитый взгляд. И в этот момент луч солнца протянул руку сквозь высокое окно и коснулся ее лица. Я увидел ее глаза с такой ясностью, словно мы были прижаты друг к другу в очень тесном пространстве.
Коридорный кинулся к нам и стал подбирать ее камешки.
«Желуди!» – воскликнул он.
Женщина с ужасом посмотрела на него.
«Пожалуйста, оставьте», – сказала она. Коридорный смутился и продолжил поднимать желуди, но с еще большей осторожностью.
«Не надо. Я сама их соберу, пожалуйста», – снова сказала женщина. Коридорный взглянул на меня и поспешил прочь.
По непонятной мне причине я поднялся не сразу. Я наблюдал, как она собирает желуди. На ней были красивые туфли. Солнце скрылось, и я заметил, что из ее глаз капают слезы. Наконец, я встал и стал собирать те пять камней, что мы так тщательно упаковывали с продавщицами из магазина.
«Извините», – ее голос звучал искренне.
У нее был акцент, который мне не доводилось слышать прежде. Ее волосы падали мягкой волной, но я продолжал изучать ее туфли.
Несколько мгновений мы молча стояли друг напротив друга. Пауза стала неловкой. Ни она, ни я не трогались с места. Со стороны могло показаться, что мы ведем беседу, но мы не проронили ни слова.
Самые важные беседы нашей жизни происходят без слов.
«Извините меня», – снова сказала она. Я ответил, что я тоже извиняюсь. За мной не было вины, но я все равно чувствовал себя виноватым.
На ее щеках и лбу была россыпь веснушек. Ее глаза были самого зеленого цвета.
Когда она ушла, я сел на скамейку у стойки, сжимая в руках коробку с камнями. Я сидел довольно долго и даже представил, как я отставлю свою коробку и догоню ее, чтобы схватить за руку и отвести в укромное место, где мы могли бы присесть вдвоем. Я хотел только глядеть в ее зеленые глаза и слышать мелодию ее голоса, будто слова ее были теми нотами, что я всегда искал, теми полными жизни звуками, что мне так и не удалось извлечь.
Самые значительные ноты в музыке не торопятся раскрыть свою подлинную сущность до тех пор, пока звук не завладел уже ухом слушателя. Они – в паузах между музыкальных строк, что проникают в сердце и опрокидывают порядок вещей.
В конце концов я вернулся в свой номер.
Прошло какое-то время. Мой телефон мигает красным. Сообщение от Сэнди, моего агента, – какие-то подробности о концерте в Сан-Франциско и уверения концертмейстера, что стул моего дедушки пришел в негодность. Мне хотелось позвонить ей и рассказать о женщине, которую я встретил, но по какой-то причине мне показалось, что это ее расстроит. Скоро день рождения ее дочки, и Сэнди спросила, могу ли я купить ей велосипед. Ее дочь потребовала, чтобы я подарил ей велосипед и научил на нем кататься. Мне кажется, спустя много лет я стану для нее опорой, когда ее мать впадет в депрессию. Мне кажется, что Сэнди часто впадает в депрессию. Я не раз заставал ее за рабочим столом в полной темноте.
Помню, как родители купили мне первый велосипед. В 70-х годах в Европе производство вещей было ограничено, и я был не первым хозяином многих моих игрушек и одежды. В моей деревне велосипеды продавали в выходной день перед Рождеством. Люди приставляли велосипеды к стене церкви. На руле висела бирка с указанием цены в франках и имени продавца. Так, если ребенок перерастал велосипед, то в рождественскую ночь тот начинал новую жизнь. Пара десятков велосипедов обходили всю деревню, меняя владельцев каждые несколько лет.
Иногда, не в силах сдержать чувства, бывшие владельцы подавали голос, когда их велосипеды проезжали мимо, во власти своих новых хозяев.
«Ну разве не красавец – но следите за передним тормозом!», или «Полегче на поребриках – а не то заработаете себе восьмерку!».
Просто удивительно, как много детских воспоминаний может всплыть за один день. То был лучший подарок в моей жизни. Я помню родителей, что шли вдоль линейки велосипедов у церковной стены, нащупывая деньги в карманах, и детей, с нетерпением ожидающих родителей дома, – им было запрещено смотреть за выбором даже со стороны.
Мой велосипед был золотисто-коричневым, с динамо-генератором для света – маленькой шестеренкой на заднем колесе, прикрепленной к небольшому цилиндру, который использовал энергию движения для питания фонарей спереди и сзади.
Я позвонил Сэнди и рассказал ей о своем первом велосипеде.
«С каждым днем ты становишься все более невыносимым, – ответила она. – Но не перестаешь быть моим любимым клиентом».
Мы обговорили все детали дневного концерта в Сан-Франциско. Нет стула – нет концерта, сказал я ей. Потом я набрал номер брата. Ответила его помощница – брат уехал стрелять.
«Стрелять?» – сказал я.
«Но стрелять он не будет, – пояснила помощница, – он просто в лесу с Англичанином».
Я рассмеялся. «Англичанином» брат называл отца своей очередной подружки, который носил вельветовые штаны с вышитыми фазанами.
«Так по-английски», – подкалывал брат.
«Он всегда рад вашему звонку», – добавила помощница и повесила трубку, не попрощавшись.
Я не умею вешать трубку и норовлю проститься еще раз, хотя слышу, что на другом конце уже никого нет.
Затем я наполнил ванну и дал жару сойти. Прежде чем залезть в воду, я снова подумал о женщине, с которой я столкнулся в лобби. Внезапно ко мне вернулось чувство необыкновенной надежды на то, чему суждено было случиться, чувство, вселившееся в меня в Квебек-Сити. Я не испытывал подобного с детства. Это чувство не посещало меня с тех далеких дней, когда мы сидели в поле.
VIII
Кто этот человек, что словно призрак преследует каждую мою мысль? Я думала о нем прошлым вечером в своей маленькой натопленной квартире. Я вынула фотографии Джонатана и разложила их на кухонном столе. Потом я отправилась спать, и мне приснилось, что мужчина из отеля сидит на краю моей кровати. Следом я увидела эту сцену сверху, и на месте моего спящего тела был камень. Каменный человек, по форме напоминающий меня.
Я думала о нем сегодня утром, на террасе, с чашкой кофе в руке, рядом с бассейном, в котором никто никогда не купается. На дне лежат листья. Лицо этого мужчины напоминает мне концовку книги или начало новой.
Если бы я знала, что увижу его в парке, то наверняка бы не пошла. Но желание увидеть этого Птичника – еще одного Джонатана… или моего Джонатана. Бывает всякое.
Я уверена, что вы поймете – мне необходимо было удостовериться. Скорбь подчас не что иное, как тихое, навязчивое помутнение рассудка. Невозможно пройти мимо совпадений.
Я, конечно, добралась до парка раньше времени. Редкие обитатели дремали, закутанные в одеяла, подле своих магазинных тележек. Я остановилась, чтобы взглянуть на бездомную женщину. Ее морщины, невероятной глубины, превращали лицо в карту – карту былых событий. Я хотела дотронуться до них, но не стала этого делать. Она блуждала далеко в своих снах, пробиваясь сквозь сон обратно в парк.
Все парки прекрасны в тишине, когда можно увидеть много интересного, например забытую на скамейке книгу, которую листает ветер. И много другого: кто-то снял туфли, чтобы пройтись босиком по траве, и забыл о них. Туфли так и провели ночь рядком, украшенные цветными камешками. Мне стало интересно, почему никто их не подобрал.
Я выбрала скамейку поближе к фонтану.
Птичник появился через час. Он был слишком стар, чтобы оказаться моим братом. У него была темная, потрескавшаяся кожа. Его широкий нос неуклюже выпирал на узком лице. Белки его глаз были неправдоподобно белы, в противовес черным зрачкам. Его одежда отличалась изяществом, но была истрепана до неузнаваемости. Просто удивительно, что я расстроилась, поняв, что это не мой Джонатан. Еще один способ извести себя – оглядываться в поисках того, кого я чувствую, но не могу увидеть.
И тут я заметила мужчину на другой стороне парка. Поначалу я не была уверена, что это он, но стоило ему поднять на меня глаза, как мои сомнения испарились. Он был более симпатичным, чем мне запомнилось, и в его движениях, в том, как он сидел, был особый дух значительности. Словно он был носителем важных известий, который забыл, куда он направляется. Меня пробрала дрожь – ведь это было описание меня. Может быть, все мои мнения о других людях – лишь попытки определить себя.
Не знаю почему, но я не удивилась, увидев его. Он сидел, скрестив ноги, словно это была его любимая поза. Он тоже не был удивлен, увидев меня.
Подошли дети и окружили Птичника. Они топтались сандалиями в пыли.
Он уронил коробку с камнями, когда мы столкнулись. Я до сих пор не понимаю, как он упал – наше столкновение было не таким сильным. Может быть, он потерял равновесие. Может быть, он давно уже ждал, чтобы кто-нибудь сбил его с ног, позволив уронить груз, что он нес с таким усердием.
Мы наблюдали за Птичником около часа, то и дело заливаясь смехом. Я увидела у него в руках багет – должно быть, он собирался кормить птиц. Птицы кружились над головами детей, подчиняясь, казалось, воле Птичника. Они летали по дуге, словно привязанные нитями. Дети смеялись и прыгали. И не переставая глазели друг на друга.
Я поглядывала на мужчину, и он бросал на меня взгляды. Наша встреча стала неминуемой. Мы текли друг к другу, как две реки.
И в какой-то момент я поднялась и подошла к его скамейке. Маленькие камешки рассыпались под моими туфлями. Я сосчитала шаги. Сердце готово было выпрыгнуть из моей груди. Я села и опустила глаза на его руки. Он выглядел удивленным, и я не знала, что делать дальше. Моя рука затрепетала, и он потянулся к ней. Я не отстранилась. Другой рукой он достал из кармана горсть желудей и положил мне на ладонь.
Я достала из своего кармана большой камень и вложила в его открытую руку. Если и есть такое понятие, как бракосочетание, оно заключается задолго до официальной церемонии: в машине по дороге в аэропорт; или когда полутемная спальня наполняется светом зари и влюбленный не сводит глаз со своей возлюбленной; или между двумя незнакомцами, под дождем, в ожидании автобуса, с руками, занятыми пакетами с покупками. В тот миг нам это еще неизвестно. Но позже мы понимаем – это и был тот самый момент.
Он всегда происходит без слов.
Слова подобны карте некой страны. Любовь – это жизнь в той стране, освоение территории.
Как могут двое понять друг друга так близко, не поделившись своими историями? Приходит возраст, когда истории теряют свой смысл, и те, что рассказывались с таким пылом, становятся шумом волны, которая так и не достигает берега, остается безмолвной. И нет ничего предопределенного, но нет и ничего случайного.
Я не влюбилась в Бруно в тот день. Я всегда любила его, и мы всегда были вместе.
Любовь, как жизнь, но она начинается до и не заканчивается после – мы приходим и уходим в середине.
IX
Мой отец когда-то сказал мне, что совпадения указывают на правильность твоего пути. Когда женщина, столкнувшаяся со мной в отеле Beverly-Hills, подошла к моей скамейке и села, я не знал, что должно случиться, но мне не было до этого дела. Единственное, что меня занимало, было чувство того, что я всегда хотел быть с ней рядом. Меня не тянуло излить ей душу – в этом не было никакой нужды; она знала все, что ей было нужно знать, не спрашивая меня ни о чем.
Мы сидели в парке, бок о бок, когда две птицы сели нам на колени. Птичник смотрел на нас. Дети тоже смотрели на нас. Женщина не шевельнулась. Она смотрела на свою птицу, но та глядела на меня. Маленькая птица на моем колене беззаботно крутила головкой. Потом она повернулась ко мне. Она потерла клювом, издав звук, похожий на звук пилы. Я думаю, она просила дать ей семечку.
Самый младший в толпе детишек закричал, птичник свистнул, и птицы вернулись на его простертые руки.
«Ты знала, что это случится?» – спросил я.
«Я для этого и подошла, – сказала она. Ее голос струился елеем. – Ты – француз?»
«Должно быть, батон выдал меня с головой?»
Она улыбнулась.
«Хочешь немного?» – предложил я.
Она покачала головой. «Он слишком красив».
Я оторвал верхушку батона, и она взяла ее. Разломив пополам, она дала мне кусок. Ватага голубей спикировала к нашей скамейке.
«Откуда ты?»
«Я родилась в горах Северного Уэльса. – Она закусила губу. – Ты знаешь, где это?»
«Да».
«Отлично, – сказала она. – Я возьму тебя с собой, если у тебя есть теплые вещи и любовь к сосискам».
Целый час мы сидели на скамейке, наблюдая за толпами людей, проходивших мимо.
Потом она сказала:
«Что нам теперь делать?»
Я был очень рад, что она сказала это. Значит, наши чувства были взаимны. Я все еще держал в руке камень, который она вложила мне в ладонь. А она убрала мои желуди в карман.
«У меня завтра концерт в Сан-Франциско – поедешь со мной?»
«Кто ты? – спросила она. – Скажи мне хотя бы свое имя – у меня нет привычки следовать за незнакомыми мужчинами».
Мы оба посмотрели на Птичника.
«Правда?» – сказал я.
Когда она смеялась, ее глаза слегка прикрывались.
«Бруно, – ответил я. – Мое имя – Бруно, и я – просто маленький мальчик из французской деревни, который умеет играть на виолончели».
Мой ответ ее удовлетворил. Но она поспешно заметила: «Может быть, это виолончель играет тобой. – Потом она добавила: Я думаю, что ты очень хороший виолончелист – может быть, даже талантливый».
«Почему?» – спросил я.
«Потому что ты – ключ, открывающий людей».
«Сомневаюсь».
«Не только людей», – добавила она.
Внезапно она смутилась, как это делает женщина, когда она боится сказать лишнее.
«Как тебя зовут?» – спросил я.
Она улыбнулась. «Ты можешь спрашивать меня каждый день, и каждый раз получать новый ответ».
Она прикусила ноготь и отвернулась.
«Не самый лучший ответ, не правда ли?»
«Лучше не бывает», – сказал я, и это было чистой правдой.
«Меня зовут Ханна».
Настоящее вырастает на просторах прошлого.
Я спросил ее о планах на уик-энд. Я не мог поверить, что приглашаю ее в Сан-Франциско – разрешаю незнакомке войти в мою жизнь, перелезть через ограду и направиться по полю к маленькому коттеджу, где я обитал не один десяток лет наедине с моей музыкой, моими камнями, моими французскими батонами; с рукавицей.
Я вспомнил женщину в заледеневшем окне в Квебек-Сити, монашку, написавшую мне пальцем на стекле слово.
Нет красоты без угасания. Я прочитал это где-то.
Каждый момент – это дилемма: сейчас или никогда.
Если бы мой брат во Франции мог быть свидетелем этой сцены в парке, он бы расплакался от счастья. Он часто плачет, и женщинам это нравится, но он может быть упрямым и мужественным, и это им тоже нравится. Я представляю, как я расскажу ему о Ханне. Он захочет прилететь и встретиться с ней. Он захочет слать ей цветы, шоколад, сыры – подарить ей последний кабриолет Renault. Я вижу их на прогулке по полям Нуаяна, рука об руку, мой брат поднимает и бросает палки.
«Приезжай в Сан-Франциско, – говорю я. – Садись на послеобеденный самолет, чтобы успеть на концерт, а там мы возьмем машину напрокат и приедем обратно в Лос-Анджелес – здесь твой дом?»
«Да, – ответила она. – У меня магазин в районе Сильвер-Лейк, я продаю плакаты, фотографии и картины».
«Птиц?»
«Я бы хотела, чтобы все картины изображали птиц – но не у всех такой вкус».
«Мне кажется, ты в моем вкусе».
«Мне не пришлось выбирать, какой становиться», – сказала она.
Я почувствовал укол своей гордости – словно я был частью того, что она не выбрала для своей жизни.
Потом я сказал: «Иногда мне кажется, что жизнь сама выбирает нас – мы тешим себя мыслями, что штурвал в наших руках, когда на самом деле мы лишь сосуды замысловатого устройства жизни».
«Тогда почему все может так легко оборваться?» – спросила она.
Я не знал, к чему она сказала это. Но рискнул ответить.
«Все обрывается так внезапно, чтобы мы больше ценили жизнь», – предположил я.
Она повернулась ко мне всем телом.
«Нет, Бруно. Мы ценим ее, потому что она коротка – но почему она коротка? Почему жизнь отлетает так внезапно, когда тем, кто остается позади, еще так много нужно сказать? Так много, что тишина – словно набившая рот вата, и когда наступает время говорить, ты способен только молчать. Так много остается несделанного. Что происходит с теми поступками, которые человек уже не совершит?»
Я взвесил ее слова.
«Мне кажется, что я больше ничего не хочу знать», – сказал я.
Она закусила губу. Я видел в ее глазах, что она-то хотела ответов на все свои вопросы.
Мы говорили без конца. Многое из того, что я сказал Ханне в те первые, длинные, насыщенные дни, слетело с моих губ без предварительного обдумывания. Слова сгущались в тишине, как тучи, и проливались на нее дождем. В наших разговорах я понял, что знаю то, о чем даже не подозревал.
Она согласилась поехать в Сан-Франциско. И мы вернемся в Лос-Анджелес по дороге вдоль скал на берегу океана – по самому краю страны, в которой мы прожили долгие годы.
Прежде чем мы отправились на парковку, Ханна захотела отдать Птичнику принесенную для него вещь.
Мы подошли к нему, и дети расступились, чтобы дать нам место. Ханна достала из сумочки потрепанный томик. Книгу. Она протянула ее Птичнику.
Это была Британская энциклопедия птиц.
«Посмотри на обороте», – сказала Ханна.
Он открыл книгу.
Надпись гласила:
Нашему любимому сыну Джонатану.
Пусть птицы, которых ты так любишь, всегда любят тебя.
«Видишь, эта книга принадлежит тебе», – сказала Ханна сентиментально.
«Нет, милая девушка, – сказал Птичник. – Эта книга принадлежит тебе – но ты не принадлежишь этой книге».
Он наклонился к ней совсем близко.
«Ты принадлежишь самой себе», – добавил он.
X
Мы были двумя молчаливыми попутчиками в машине. Мне кажется, какой-то французский писатель написал, что мы замечаем рождение любви и ее угасание по степени неловкости наедине друг с другом.
Ханна прилетела в Сан-Франциско на концерт. Он прошел вскоре после полудня. Благодаря столь раннему времени среди слушателей было больше, чем обычно, детей. Извлекая каждую ноту из своего инструмента, я не переставал ощущать ее присутствие, как она смотрит на меня, слушает – закусывает губу.
Силуэт Анны возник, как и прежде, но он показался мне очень далеким. Когда я обернулся взглянуть на нее, мой взгляд поймал лишь тонкий контур ее тела. Она покидала меня, и это меня не удивило. Я задумался, куда она отправится теперь. Я буду по-новому скучать по ней.
Мы уехали из Сан-Франциско сразу после концерта, по прямой, как стрела, дороге через городские холмы. Свет солнца стал золотым, отразившись от воды; многие дома были красного цвета, с маленькими башенками в углах. Люди в парках сидели и пили воду из пластиковых бутылок. Мужчина в черной футболке выгуливал собаку и болтал по сотовому телефону. Мимо проехала девушка на велосипеде. Велосипедная корзинка была полна лимонов. Волосы девушки завивались кудрями. В придорожных кафе не было свободных мест. Лица скрыты за газетами. Компании в ожидании свободного столика.
Наша машина ползла в потоке – мы выбирались из Сан-Франциско больше часа, но мы были вместе, два единственных попутчика в путешествии, назначение которого не играло роли. Ханна рассказывала о концерте. Она сказала, что была единственной в зале, кто не хлопал по окончании концерта. Что для нее концерт не закончится никогда.
Когда мы наконец повернули по-настоящему на юг, на автостраду Pacific Coast, Ханна замолкла надолго. Я думал, что она наслаждается видом. Мимо нас проехал мотоциклист. Потом мы догнали дом на колесах и плелись за ним медленно несколько миль.
Я стал задавать Ханне вопросы, но она отвечала односложно. Я рассказал ей о Метрополитен-музее изобразительных искусств в Нью-Йорке – о длинном фонтане, полном монет.
«Интересно, сколько из этих пожеланий сбылось», – сказала она.
Снова тишина.
«Ты слышишь?» – спросил я.
«Что? – сказала она. – Я не слышу ничего».
«Это звон ключей на моей связке, – сказал я. – Рано или поздно, я найду к тебе ключик».
Она ничего не ответила, но положила свою руку на мою.
Мы проскочили несколько крутых поворотов, и затем шоссе выровнялось.
Я поглядел на океан. Представил себе рыбу, качающуюся на дне. Колебания водорослей.
Ханна прервала молчание: «Я хочу рассказать тебе о Джонатане».
И слово за словом его жизнь развернулась передо мной, как карта с маленькой прекрасной страной в ее середине.
Я увидел его с книгой в саду, делающим наброски в альбоме.
Тело, распростертое на снегу.
Зажатые в кулаке желуди.
Отрубленная рука отца в сарае.
Идиотская приставная лестница.
Годы спустя:
Вереница блюд, остывающих на столе перед ее матерью.
Гложущее отца чувство вины – вот он смеется над чем-то в телевизоре и тут же умолкает и выходит из комнаты.
В одну из ночей, вспоминала Ханна, он вышел на улицу в носках, схватил в сарае пилу и срезал дерево. Ее мать не могла поверить, что ему это удастся. Но как-то, левой рукой и обрубком правой, ему это удалось. Он пилил его шесть часов. Дерево упало на теплицу соседа. Позже тем же днем они нашли в почтовом ящике записку. Она была от соседа.
Мне всегда не нравилась эта теплица,
и я собирался ее разобрать на этой неделе.
Мне так вас жаль.
Билл.Перед моими глазами встает Анна.
Дождливый день.
Несчастный случай.
Машина, уносящаяся прочь.
Заднее колесо ее велосипеда все еще вращается.
Я остановил машину, мы нашли стол для пикников и сели, взявшись за руки. Пару часов спустя служитель парка с длинными седыми волосами подошел к нам и попросил заплатить пять долларов за пикник, и мы собрались. Дело было не в деньгах – воздух стал другим. Я завел машину, выжав тормоз.
Когда мы выехали на дорогу, Ханна захотела есть.
Набежали тучи.
Скалы обернулись толстым одеялом тумана.
Потом пошел дождь.
Шелест дворников по лобовому стеклу успокаивал.
Мы свернули на первую же дорогу, ведущую от океана.
Туман стал рассеиваться.
Навстречу летели птицы, прочь от материка. Я не смог придумать, куда бы они могли лететь. Возможно, на высокий мокрый утес, вдалеке от берега.
В поисках еды мы остановились в продовольственном магазине в Кармеле. Мы держались за руки, проходя сквозь распахнувшиеся перед нами стеклянные двери. Я направился в хлебный отдел (одной из неизменных составляющих еды в моем детстве). А по соседству, в паре шагов, Ханна выбрала яблоко. Я кивнул. Она выбрала еще одно. Я показал ей багет. Она кивнула. В тот самый момент я решил, что никогда не расскажу ей об Анне.
Продавец в гастрономическом отделе хотел, чтобы мы попробовали деликатесы, разложенные перед ним в сверкающих чашах. Он протягивал нам кусочки сыров и мясных закусок на зубочистках. Он спросил, как долго мы были вместе.
«Всегда», – ответила Ханна.
На кассе Ханна заметила коробку с воздушными змеями. Они продавались со скидкой. Она купила два.
Кассирша вертела змея в поисках штрих-кода.
«Возьмите и себе один», – посоветовала ей Ханна.
«Змеи меня не интересуют», – ответила кассирша.
«Тогда что вас интересует?» – спросила Ханна.
Кассирша подняла на нее глаза. «Музыка», – ответила она.
XI
Мы с Ханной провели ночь в буддистском центре для отшельников, в горах над Санта-Круз. Я слышал о нем от Сэнди, моего агента. Она считала, что мне должно там понравиться. Она пообещала мне тихое место с огромными молитвенными барабанами, раскрашенными в яркие цвета. Я остановился в Санта-Круз заправить машину. Напротив бензоколонки какой-то человек бросал в проезжающие машины бутылки и страшно кричал. Я очень надеялся, что он не подойдет к нам. Отъехав от станции, я продолжал думать о нем. Ханна спросила, что случилось.
«Все в порядке», – ответил я.
Ключ от комнаты уже ждал нас. Было еще не поздно, когда мы добрались до места, но окружающий лес отбрасывал на дома густые тени.
Ханна задержалась в душе очень надолго. Звук льющейся воды напомнил мне звук ливня, и я уснул.
Когда я проснулся, Ханна сидела на краю кровати и сушила волосы полотенцем. В комнате было жарко из-за открытого окна. Я сел на кровати и завернул ее в простыню. Она повернулась ко мне, и тогда я поцеловал ее плечо, шею, щеку и, наконец, – губы.
Мы слились в поцелуе; ее вкус на моих губах. Наши языки соприкоснулись. Я почувствовал прилив крови. Наши тела прижались друг к другу.
Невероятно близко.
Она сжала мои руки. Ее ногти вонзились в меня. Очень скоро мы оба пылали. Пот собирался в ложбине на моей спине, в такт моим движениям – движениям приливной волны, непреклонной в своем стремлении разбиться о древние скалы.
А затем – за мгновение до – я замер внутри нее. Наши тела продолжили свой танец. Тело Ханны проглатывало, поглощало все то, что мое могло предложить. В эти последние мгновения мы слились в одно целое – всякая память перечеркнута желанием, что было нами рождено и нами же овладело.
А после мы лежали без движения, словно два корня, на которых держится лес.
Пот высох.
Мы лежали на спине, с открытыми глазами. Мне хотелось бы заглянуть в ее глаза в тот момент. Мои были прозрачны.
Наконец она повернулась ко мне, излучая нежность. Она спросила, хочу ли я есть. Я кивнул, мы оделись в темноте и выскользнули на улицу, к машине.
Первый ресторан, попавшийся нам на пути, был полупуст. Но женщина у стойки предупредила, что они ожидают большую компанию с минуты на минуту. Она предложила другой ресторан. И мы отправились туда пешком, оставив машину.
Тротуар был очень узок и заполнен растениями. Без уличных фонарей было совершенно темно. Ханна вела меня вперед за руку. Мы прошли десяток домов в стиле тридцатых годов. Внутри сидели люди. Мы могли за ними наблюдать. Двое, каждый в своем кресле, смотрели телевизор. Они смеялись одновременно, но не смотрели друг на друга. В другом доме маленький мальчик сидел за кухонным столом. Он чистил апельсин. В третьем – женщина сняла одежду и выключила свет; я представил себе Эдварда Хоппера в фетровой шляпе, наблюдающего в тени здания напротив.
Когда мы добрались до другого ресторана, в баре шла свадебная вечеринка. Музыканты играли скверно, но не перевирая мелодию, и гости пели хором. Друзья жениха обступили его со всех сторон. Галстуки были ослаблены. В каждом коктейле торчал зонтик.
Ханна заказала бокал холодного вина. Нашей официанткой была школьница. На ней была косметика. Несколько ручек торчали из передника, а концы ее джинсов были подвернуты.
Мы ели один и тот же салат, но с разных тарелок. Когда принесли блюдо из макарон, мы стали есть из одной тарелки. Потом мы просто сидели и держались за руки под столом.
«Как ты думаешь – есть жизнь после смерти?» – спросила Ханна, пока я расплачивался по счету.
«Мне кажется, мы уже там», – сказал я, и мы выскользнули из ресторана, никем не замеченные.
Мы шли к своей машине сквозь темный пригород. Большинство огней в домах уже были потушены. Я поискал глазами маленького мальчика, но он, должно быть, отправился спать.
На следующий день мы продолжили свой путь на юг. Мы завернули остатки завтрака в салфетки. Машина пахла гостиницей. На нас была та же одежда, что и вчера, но волосы пахли шампунем Ханны. Она надела туфли, которые, по ее словам, ей долго не нравились. Бежево-бордовые туфли на высоком каблуке. Я сказал ей, что мне они нравятся. А еще я сказал ей, что обратил внимание на ее туфли сразу после нашего столкновения. Она посмотрела вниз и пошевелила ногами.
Настроение Ханны улучшилось. Она не упоминала Джонатана, но я замечал, когда она вспоминала его, – она превращалась в статую, безмолвную и неподвижную. В греческой трагедии героический персонаж со своим последним вздохом превращается в мрамор.
Она рассказала мне о своей жизни в Лос-Анджелесе и захотела узнать о Нью-Йорке. Больше всего ее интересовал Центральный парк. Она слышала где-то, что в парке водятся попугаи. Я ответил, что попугаи живут в Бруклине.
Я рассказал ей о своем недавнем концерте. Общество Охраны Центрального парка наградило меня «ключом» от парка. Одной из привилегий обладания ключом была бесплатная поездка на карете. Я вспомнил, как стоял в очереди за мужчиной с дочкой. Маленькой девочке было года три. В ее волосах были заколки с Золушкой. Ее переполняло возбуждение от скорой поездки в карете с отцом. Мужчина наклонялся к ней для разговора. Он что-то прошептал ей на ухо, и она взяла его лицо в свои ручки. Я услышал, как она напомнила ему, что уже носит трусики – что она уже не маленькая.
Возничий оторвался от маленького телевизора, закрыл свой сотовый телефон, встал с сиденья и объявил, что лошадь сильно устала и вскоре должна сделать продолжительный перерыв – осталось всего три поездки. Девочка с отцом были в очереди четвертыми. Она дернула отца за край пиджака и спросила, что сказал возничий. Отец положил ей руку на голову, но ничего не ответил. Он поглядел по сторонам и вздохнул. Дочка попросила его рассказать еще о лошади.
«А Золушка каталась когда-нибудь на лошади? Или только в карете?»
И внезапно две женщины в спортивных костюмах, стоявшие перед ними, вышли из очереди. Отец схватил руку девочки и они подвинулись вперед на одно место. Она спросила, замужем лошадь или нет, и любит ли она яблоки.
Одна из женщин, вышедших из очереди, сказала своей подруге, что она устала и хочет вернуться в отель. Ее подруга рассмеялась, и они взялись за руки.
Ханне история понравилась. Мы проехали лежбище, как мне показалось, морских львов. Но они оказались морскими слонами, и Ханна попросила остановиться, чтобы сделать несколько снимков.
Каждые сорок миль мы останавливались для прогулки или пары сигарет. Мы даже несколько раз целовались.
У меня был концерт в Финиксе через два дня. Мне стало интересно, назвали ли город в честь сказочной птицы, восстающей из пепла. Ханна согласилась, что по-другому и не могло быть.
Когда стемнело, я предложил взять из багажника одеяла и развести костер на песчаном берегу. Я свернул на парковку небольшого круглосуточного магазина и предположил, что, если мы переберемся на пляж, никто не заподозрит, что мы там. Ханна согласилась, что это неплохая идея, и я забежал в магазин отдать продавцу двадцатку. Он был не против такого расклада.
На пляже было куда холоднее, чем нам представлялось, но мы были не против, ведь, запарковавшись, мы двадцать минут целовались в машине с выключенным кондиционером. Ханна поводила головой, когда я целовал ей шею, направляя мои губы туда, где ей хотелось почувствовать мое прикосновение.
Мне не удалось развести костер из-за сырости. Вскоре еще похолодало. Тогда мы просто обнялись и укрылись одеялами. Я прижался шеей к ее волосам. Ее тело повторяло все изгибы моего. Она закинула ноги повыше. Мы лежали без движения, отпечатывая на песке свой силуэт. Где-то недалеко волны разбивались о россыпь камней.
Я проснулся на рассвете. Было все еще холодно, но дышалось легко и веяло свежестью. Ханны нигде не было. Я сел и огляделся. На пляже не было ни души. Я подумал, что она ушла погреться к машине. Я поднялся, чтобы поискать ее, и увидел фигуру на утесе в сотне ярдов. Она запускала воздушного змея.
Когда я добрался до нее, порыв ветра разметал ее волосы. Ветер был таким сильным, что у нее заслезились глаза.
Сперва я собирался сесть и просто наблюдать за ней.
У ее ног лежал другой змей, уже готовый к полету.
«Это ваш змей, месье Бонне», – сказала она, не поворачивая головы.
Я быстро распутал нить; Ханна подсказала мне, что надо начать на пляже и забежать на утес, чтобы змей поднялся. Я скатился с утеса вниз.
Я поднял змея и побежал в ее сторону. Змей легко поднялся в воздух.
Это было пьянящее чувство. Я не запускал змея уже лет тридцать. Сила, тянущая меня вверх, была куда сильнее, чем я предполагал. Но конец нити был у меня в руках. Я был ловцом, а не пленником.
Мы запускали змеев почти все утро, поглядывая друг на друга.
Наконец Ханна отпустила змея.
Он быстро поднялся, закрутившись блестящей спиралью на фоне встающего солнца.
Allez, подумал я.
И мои пальцы отпустили нить моего змея.
Та сила, что мы держали на привязи, в один момент оборвалась.
Змеи понеслись к небесам. Вскоре от них остались лишь два цветных пятнышка. А затем и они пропали. Мы знали, что они где-то там, но вернуть их назад было невозможно.
Шесть месяцев спустя у меня был концерт в Париже, всего один вечер. Вместо номера в отеле я снял машину и отправился в Нуаян. Я добрался до города к шести утра. Повсюду пели птицы, и дороги были пусты. Я нашел пекаря в его маленькой пекарне. Я рассказал ему, как столкнулся с Ханной в калифорнийском отеле. Мне хотелось объяснить ему, почему я перестал писать в последние несколько месяцев, и признаться, что счастье все еще кажется таким далеким – словно все происходит не со мной, а я лишь наблюдатель. Утро было прохладным. Дети нехотя тянулись к школе, так до конца и не проснувшись. Небо затянуло затертым серым цветом. Облака проплывали, как раскрытые ладони. Вскоре небо наполнят капли дождя. Пекарь сел со мной за стол и вытер руки о фартук. Сзади подошла его жена. Пахло свежими грибами. Работало радио.
Пекарь взял мои руки и сказал, что они были очень рады, когда я перестал писать, – и что я должен пообещать перестать присылать им камни. Внезапно я показался себе таким показным и себялюбивым. Я сгорбился и высвободил руки.
Но тут он добавил: «Бруно, мы потеряли дочь, мы не хотим потерять и сына».
«Сыном был бы нам ты», – сказала его жена.
«Им ты нам и стал». – Пекарь взял жену за руку.
«Теперь посылай нам открытки, ладно?» – сказал он.
«Не нужно камней», – добавила его жена.
Прежде чем я отправился к своим родителям, жена пекаря попросила меня познакомить их с Ханной, когда та приедет во Францию. Может быть, они могли бы испечь ей торт и угостить ее в кондитерской, с чашкой дымящегося кофе – четыре человека за нехитрой вечерней трапезой.
XII
Почти через год после нашего знакомства с Ханной Птичник умер. Его некролог был одним из самых длинных за всю историю «Лос-Анджелес Таймс». Его жизнь оказалась далекой от тех слухов, что о нем ходили. Тысячи людей пришли в парк помянуть его со свечами в руках. Вместо птиц в небе кружили вертолеты.
Но я был далеко, в сердце Франции, в Нуаяне – за столом в пекарне, со стариком и его женой. Дети глазели на нас через запотевшие окна. Они терли стекла варежками и громко переговаривались. Они были возбуждены, ведь это был первый день, когда велосипеды выставлялись на продажу у церковной стены.
Шел сильный снег. Бока пекаря были круглы, и фартук плотно обтягивал его посередине. Он вышел в кухню и тут же вернулся с подносом остатков выпечки. Дети увидели его и столпились у двери. Нам были видны руки, тянущиеся к подносу, и слышен хор: «Спасибо, месье». Когда он пришел обратно, на его плечах таяли снежинки.
«Они уже привыкли». – Он пожал плечами. – «Я кормил их с тех пор, когда они сами были не больше багета».
Его жена рассмеялась.
«Они зовут его детским пекарем», – добавила она.
Пекарь зашел за стойку и налил себе стаканчик бренди.
Он поглядел на Ханну долгим взглядом.
Потом он подошел и поцеловал ее в макушку.
Жена пекаря глядела в окно – на мир за его пределами и на чудесный край за пределами этого мира.
Мы с Ханной вышли из пекарни, когда уже начало темнеть. Велосипеды направлялись сквозь снег к своим новым хозяевам. Старушки оставляли друг другу сладости на порогах домов. Мясник нарядился Санта-Клаусом.
Дети выглядывали в темноту из окон верхних этажей. И мы с Ханной отправились вдаль, по заснеженным полям, за старые ворота, мимо поваленных деревьев, непрестанно смеясь и перекликаясь, пока наши фигуры не исчезли из вида.
Остались только тени.
Дары от ушедших, не принижающие наше счастье, а направляющие его, наполняющие его смыслом, а нас – пылом для укрепления любви на дни грядущие.
Тонкое напоминание, что то, что у нас есть сейчас, – уже прошло.
Тигр, о Тигр
Когда я в первый раз увидела Дженнифер, мне показалось, что она мертва. Она лежала на диване лицом вниз. Шторы были не задернуты. Лунный свет, падающий из окна, заливал ее нагое тело, и от ее спины исходило сияние.
Дженнифер – мать Брайана. Когда он, в ужасе, перевернул ее на спину, она застонала. Затем отмахнулась рукой с яростью, но не пытаясь ударить. Брайан попросил меня набрать номер службы спасения, но Дженнифер криком его остановила. Он зажег лампу и, отступив на шаг, промолвил: «Мама, мама…» Потом он спросил об отце. Она снова застонала. Мы не знали, что делать.
Брайан достал халат и положил ей на спину. Она села и с усилием его запахнула на себе. Он был ей слишком велик и открывался прорехами тут и там. Одна из ее грудей была на виду. Я уверена, что Брайан ее увидел. Она была словно старая бледная птичка. Я решила сварить кофе. В холодильнике нашелся торт. На коробке было написано «Кондитерская Тэйта». Я разрезала веревку. Тем же ножом я отрезала три одинаковых куска. Мы пили и ели в тишине. Дженнифер проглатывала каждый кусочек торта бесшумно; мой наставник по йоге назвал бы ее сосредоточенной. Она покачала головой из стороны в сторону. Затем, не смущаясь наших взглядов, она спрятала лицо в руках, словно просматривая галерею картин своей жизни на раскрытых ладонях.
На ковре, рядом с одеждой Дженнифер, я увидела несколько автомобильных рекламных проспектов. Обручальное кольцо и опрокинутый бокал. Содержимое бокала засохло на ковре пятном, напоминающим карту Италии.
Мы сидели в тишине, невольные приятели, словно три незнакомца, пережидающие под навесом крыльца проливной дождь.
Я вспомнила сон из своего детства: в ночь перед каким-нибудь радостным событием, поездкой на отдых или днем рождения мне снилось, что я случайно все проспала. Во сне я была уверена, что все пропустила – что то событие, которого я так ждала, прошло без меня.
Мы с Брайаном встречались восемнадцать месяцев к тому моменту, когда его родители захотели со мной познакомиться. Я была не против. Мне было тридцать четыре, и у меня была стабильная медицинская практика с несколькими партнерами-врачами. Мне не было дела до того, соответствую ли я их ожиданиям. Я устала от этого, еще когда только начинала неловко резать трупы в медицинском колледже. Каждый день я соприкасаюсь с жизнью и смертью, но не на примере немощных пенсионеров, жалующихся на боли в сердце и хрупкость в костях, а на примере детей, которые никогда не виноваты в том, что с ними происходит. С самого начала я хотела быть педиатром.
Бесконечная вереница детей прошла через мою приемную, где сидит секретарша Лорен, рыжая южанка с безупречной кожей. Я объясняю родителям причину болезни, предстоящую процедуру и риски, с ней связанные, – именно в таком порядке. Родители никогда не плачут поодиночке, но пары часто пускают слезу, даже если прогноз положителен. Пока они успокаивают друг друга, я часто думаю о маленькой крутящейся головке в приемной, занятой книгой о кораблях, или растением в кадке, или уставившейся на Лорен, не подозревая о долгой и зачастую тяжелой дороге, уготованной им некой вселенской силой.
Детям не стоит видеть своих родителей расстроенными, и я иногда разрешаю им отправиться вместе с Лорен за мороженым.
Несколько лет назад родители Брайана купили летний дом в Хэмптон-Бэйс. Мне лично не нравится Лонг-Айленд. Здесь слишком тесно, и люди ищут спасения в излишествах. Смысл жизни вращается вокруг собственности и роскоши – как это было когда-то для англичан четыреста лет назад. Против этого и протестовали мои родители в шестидесятых. Либо Америка сильно изменилась за последнее десятилетие, либо излишнее образование превратило меня в циника. Слишком многие превозносят «Хаммеры» и другую облагороженную технику с полей, в то время как проводят жизнь, даже не представляя, как работают их органы. Мы молимся Господу оградить нас от болезней, а сами осознанно накачиваем свое тело токсинами.
К Хэмптону я тоже не пылаю особой любовью. За те годы, что я сюда приезжала, здешние места превратились в полицейское государство – и полиции здесь прекрасно платят за охрану поместий нескольких доморощенных аристократов.
Возможно, мои взгляды не покажутся вам такой крайностью, если я скажу, что мои родители родом из штата Орегон. Я выросла, гуляя по подернутым дымкой полям и рисуя коров. Моя мать вязала одежду, а отец построил мой первый и единственный кукольный дом в своей мастерской. Мой городок всегда был на стороне демократов и получил известность как приют для лесбиянок – представьте себе кофейни и мебельные магазины, которыми заправляют татуированные женщины, пекущие друг для друга перевернутые пироги.
Они навестили меня вдвоем один-единственный раз. Моя мать чувствует себя покинутой мной, ее единственным ребенком. Но с другой стороны, она всегда была странной – умудряясь казаться чужой и холодной в самые важные минуты. В старших классах я отписывала это на менопаузу, но теперь я думаю, что корни таятся в ее детстве. Мой отец никогда не критиковал ее – он лишь потирал подбородок или поглаживал ей руку. Он провел жизнь, потирая что-то, как Аладдин.
Мои родители, конечно, не оценили Хэмптон, приехав летом незадолго до моей встречи с Брайаном. Особенно мой отец, которого очень рассердило, когда нас остановили на въезде на пляж и попросили заплатить за парковку у океана. Отец высказал служащему, которому не было и двадцати, что магистратура города Саутхемптон ничем не лучше мафии. Но затем люди позади нас стали сигналить. За ужином в забегаловке, где подавали раков, вблизи от причала для рыболовных лодок, мой отец заявил, что было бы лучше, если бы британцы победили. Моя мать возразила, что если бы британцы сохранили свои колонии, единственным отличием были бы плохие зубы у нас всех. Официантка услышала это и рассмеялась. Она принесла отцу бесплатное пиво и попросила не вешать нос.
На обратной дороге в город отец выглядел необычно грустным. Мне кажется, он сильно переживал из-за чего-то, чем он не мог поделиться с матерью. Я жалею, что не спросила его о причине. В прошлом году он умер.
После этой длительной поездки магия жизни преуспевающих ньюйоркцев перестала на меня действовать, и я по-новому оценила город за его достоинства – равнодушный, ритмичный пульс жизни и бесчисленные возможности для новых направлений в поиске себя.
Было приятно услышать от Алана и Дженнифер, родителей Брайана, что я была первой его девушкой, которую они пригласили в летний дом в Хэмптон-Бэйс. Но они моментально испортили дело, объяснив, что желали знакомиться только с теми девушками, с которыми у Брайана были самые серьезные намерения, словно менее серьезные для них не существовали. Алан и Дженнифер часто упоминали свой летний дом, оставляя сообщения на автоответчике Брайана, чем навели меня на мысль, что они выросли в бедности. На самом деле это было не так. Дженнифер выросла в семье двух агентов по недвижимости из Гарден-сити, работавших вместе. Алан был сыном еврейского портного с нижнего Истсайда, который умел экономить деньги и выведывать секреты, не отрываясь от снятия мерок длины шагового шва. Брайан рассказывал, что познания деда о личной жизни его клиентов помогли устроить Алана в частную школу, где евреев не жаловали. Когда отец Алана умер, немногие пережившие его клиенты на Парк-авеню вздохнули с облегчением.
У Брайана есть младшая сестра – Марта. Мы встретились однажды на концерте на Ирвинг-плаза. Возможно, оттого, что она была нехороша собой, Марта стала относиться к жизни с иронией и превратила свое тело в полотно для коллекции странных татуировок, одна из которых изображала артишок.
Мама Брайана, Дженнифер, когда-то была писаной красавицей. На фотографиях, развешанных в гостиной их летнего дома в Хэмптон-Бэйс, она всегда выглядит на вершине блаженства – ее рот накрашен и раскрыт, словно роза, распускающая лепестки.
В тот вечер, когда мы с Брайаном добрались до Хэмптон-Бэйс, мы целовались в машине, прежде чем зайти в дом. Так у нас завелось. Мы всегда целуемся. Брайан внезапно отпрянул, когда увидел, что весь дом погружен в темноту.
«Что-то не так, – сказал Брайан. – В доме не горит ни одно окно». Я почувствовала неладное.
Глаза Дженнифер опухли так сильно, что мне было неловко смотреть на нее. Я тихо спросила Брайана, хочет ли он, чтобы я ее осмотрела. Он ответил, что ее глаза всегда опухают, когда она расстроена, но чтобы так сильно, он еще не видел.
Алан, муж Дженнифер, ушел от нее в тот день, незадолго до нашего приезда. Он вернулся после своего теннисного матча и стал собирать чемодан. За ним заехала женщина на кабриолете. Она ждала его в конце аллеи, не выключая мотора. Он объявил, что не вернется. Он сказал, что Кен, их адвокат, уладит все детали. Дженнифер погналась за машиной и бросила в них туфлями. Потом она вернулась домой. Они были женаты тридцать четыре года. Они поженились в год моего рождения.
Отцу Брайана было пятьдесят семь, когда он ушел от Дженнифер. Отец Алана, еврейский портной, умер в пятьдесят семь от сердечного приступа. Для психоаналитика это был классический случай, но я ничего не сказала Брайану – даже самые разумные люди теряют рассудок, когда речь заходит о родителях.
Я снова спросила Брайана, хочет ли он, чтобы я осмотрела его мать, но он ответил отказом – у них был близкий друг семьи, доктор Феликсон, которому мать доверяла и который оказался в своем летнем доме в Саутхэмптоне. Я не смогла скрыть разочарования. «Давай сначала доживем этот день до конца, – сказал он. – Тебе все равно стоит встретиться с этим доктором – еще в семидесятых он написал книгу по педиатрии или что-то в этом роде».
«Да ладно», – ответила я.
Пока я ждала доктора в темноте на улице, Брайан вынес его книгу, «Молчание после детства». Странное название. Я пообещала ее прочитать. Потом он сказал мне, что знал об измене отца. Оказывается, Алан признался ему за ужином несколько месяцев назад. Дженнифер была у родных во Флориде. Брайан думал, что я буду сердиться, что он не рассказал мне раньше. Но это было не так.
«Какой мужчина откажется от возможности прожить вторую жизнь?» – пытался оправдаться перед Брайаном отец. Молчание сына он принял за неохотное одобрение, но на самом деле Брайан был разочарован. Ему пришлось признать трусость отца. Брак отца с матерью никогда не был идеальным, но он не разрывал его. По мнению Брайана, если бы его отец не был таким трусом, он разбил бы сердце Дженнифер еще тридцать лет назад, вместо того чтобы причинить ей боль и унизить теперь, после трех потерянных десятилетий.
«Но тогда не родилась бы Марта», – сказала я. Брайан замолчал. Мне показалось, что он рассердился, но он ответил, что, несмотря на рождение сестры, его отец разбил жизнь матери.
«Но ведь Дженнифер позволила ему это сделать», – добавила я.
Брайан кивнул. Мне кажется, он был благодарен мне за прямоту, но все же мне не стоило этого говорить в тот момент.
Доктор приехал на старом пикапе-универсале. На крыше был привязан каяк. Он вылез из машины и помахал рукой. Затем он открыл багажник, чтобы достать свой саквояж.
Он был высоким, стройным мужчиной, который сошел бы за фермера девятнадцатого века со Среднего Запада. Его непослушные седые волосы и странная раскачивающаяся походка придавали ему вид человека в подпитии. Он родился и вырос в Стокгольме. Переехал в Нью-Йорк в семидесятых годах. Он был холост.
«Брайан, мой мальчик, мне жаль, что нам приходится видеться при таких обстоятельствах, но вместе мы обязательно всё уладим», – сказал доктор Феликсон вполголоса. Он подошел ко мне и положил руку мне на плечо. Потом он спросил: «Какое временное помешательство заставило вас взять в руки эту книгу?»
Прежде чем переступить порог, он обернулся: «Брайан рассказывал, что вы оба побывали в Стокгольме, да?»
«Да, – ответила я. – Было очень красиво, но снега мы так и не дождались».
«Времена меняются, должно быть», – сказал он.
Мне припомнилась одна ночь, может быть, наше третье свидание. Мы с Брайаном в кровати. Комната прописана лунным светом. Улица за окном погрузилась в тишину. Идет снег, но мы об этом не знаем.
Брайан рассказывает, как они с сестрой дрожали от страха, слушая разборки родителей. «Они клекотали, как птицы», – сказал он.
Брайан добавил, что никогда не женится. Я промолчала. Годы юношеских ночных разговоров сложили в моей голове образ безупречного свадебного дня. Но, по правде говоря, я уже много лет не думала о замужестве.
Брайан почувствовал мое смятение. Он нащупал мою руку под одеялом. Я разрешила ему ее взять. Он не был трусом – может быть, это стоило тысячи безупречных свадебных дней.
Для Брайана свадебный союз давал одной стороне право вести себя невыносимо без страха быть покинутой, поскольку развод находился в ведении государства. Он говорил, что во многих известных ему парах либо муж, либо жена дожидались свадьбы, чтобы вывесить свое грязное белье. Он считал женитьбу устаревшим институтом, таким как обрезание у неевреев.
«Но не у евреев?» – спросила я.
«Тут все немного сложнее», – сказал он, но таким тоном, чтобы дать понять, что я отчасти права.
На следующий день мы пошли в Маккарен-парк и слепили снеговика. Латиноамериканский мальчишка помог нам его украсить. Он немного подержался за мою руку. Потом сказал, что нам с Брайаном нужно пожениться. Брайан взглянул на меня и рассмеялся, потом спросил, не согласится ли мальчик выпить с нами по чашке горячего шоколада в кафе «Гринпойнт». Мальчик принял приглашение. Я не собиралась ни с кем делиться Брайаном, но мне нравилось, что он был открыт для общения. Я предложила мальчику позвонить маме и предупредить, куда он направляется. Я дала ему свой сотовый телефон. Вечером того дня я не нашла в исходящих незнакомого номера. Мальчик просто приложил телефон к уху и сделал вид, что разговаривает.
Тот день был одним из лучших дней, проведенных мной в чьей-либо компании. Вечером мы отправились в ресторан фондю, а после – всю ночь напролет пили и слушали Гетца и Жильберто. Я танцевала. Брайан наблюдал за мной.
Неделю спустя, когда снег растаял, мы решили отправиться на длинные выходные в Швецию. Поездка обошлась нам дороже, чем мы предполагали, ведь всегда забываешь принять в расчет такие траты, как такси до аэропорта или деньги, беззаботно просаженные в магазинах беспошлинной торговли. Мы к тому времени оба были в магистратуре, так что расплачиваться за поездку пришлось целый год. Я помню, что мы держались за руки в самолете. Ритуалы любви бесценны, ведь мы никогда не знаем, что́ нам уготовила судьба. Страх потери усиливает наслаждение, и одного без другого не бывает.
Доктор Феликсон осмотрел Дженнифер с глазу на глаз. Она плакала. Потом мы услышали голос доктора. По всей видимости, он разговаривал с отцом Брайана по телефону. Прежде чем уйти, он попросил нас звонить ему, если появятся вопросы, и добавил, что, с Божьей помощью, все мы это происшествие переживем. Я была слишком измотана, чтобы достать из машины свою визитку, и пообещала написать ему электронное письмо. Стоит ли говорить, что письма я так и не написала.
Вскоре после ухода доктора успокоительные стали клонить Дженнифер в сон, словно буксир, вытягивающий корабль на морской простор. Она пробормотала, что если Алан позвонит или приедет, сказать ему, что она умерла. Я кивнула.
Затем она легла на диван, и успокоительные утянули ее в сон так быстро, что она засопела, едва закрыв глаза.
Я сама удивилась тому, что поняла, почему она не смогла пойти и лечь в спальне. Я накрыла ее еще одним покрывалом. Ночью температура тела падает.
Брайан подошел и обнял меня. Он выключил свет и поцеловал меня в губы. Вдруг мне стало не по себе.
Я отстранилась.
Пару мгновений он оставался недвижим.
Потом поцеловал меня в лоб и вышел. Я услышала, как он завел машину и уехал. Он не рассердился, ведь мы понимаем друг друга с полуслова – словно две карты в атласе, прижатые друг к другу лицами.
Виной тому могла быть полутьма комнаты, или аромат позднего лета, проникающий внутрь, невзирая на сетки на окнах, или даже – прикосновение диванной обивки к моим голым ногам. Все это было словно реквизитом, искусно расставленным моей памятью, которая решила перенести меня в давно прошедший день моей жизни.
Во мне затрепетало ощущение детства, подлинное ощущение себя в двухлетнем возрасте. Я замерла. Словно пещерный человек, которому случайно удалось высечь огонь и которому больше всего на свете хочется, чтобы он не потух еще пусть несколько мгновений.
Словно я, двухлетняя, сидела у себя внутри, как предпоследняя по величине матрешка. Теперь она всплыла на поверхность моего сознания, и я почувствовала с абсолютной точностью, каково было быть двухлетней девочкой в один особенный день из семидесятых.
Мои родители привели меня в парк напротив нашего дома, чтобы отметить мой день рождения. Они пригласили гостей, пришли дети. Не мои друзья, а просто другие дети. Моими лучшими друзьями были родители, отчего и было так больно, когда они меня за что-то отчитывали.
Мои ноги оторвались от пола и подтянулись к уменьшающемуся телу. Я снова почувствовала запекшиеся ссадины на коленках, словно маленькие островки. Язык прошелся по местам, где когда-то не было зубов. Засохший праздничный торт. Сок с крошками в нем. Легкая тошнота. Я представила себе свечи, но ощущение было сильнее и глубже, чем вызываемые мной зрительные образы. Так, будто я вернулась в тот день, но без способности видеть и осязать. Я помню, как бежала по высокой траве. Я чувствую как травинки касаются моих ног, будто длинные тонкие руки. Пронзительные крики других детей. Подарки, спускаемые ко мне большими, чужими руками.
Конец праздника. Я не хотела идти домой. Мне было обидно, что всем нужно было разойтись. Я хотела перемотать день заново. Потом я погналась за мальчиком. Мои родители что-то кричат мне. Его родители наблюдают за нами, улыбаются, подбадривают. Он падает, оборачивается, смеясь. Я тоже смеюсь. Я подбегаю к нему. Беру его за руку и вонзаю в нее зубы. Ниоткуда появляется кровь, растекается по коже. Он смотрит на свою руку. Начинает кричать, его родители подскакивают и бегут к нам. Его подхватывают, словно жука. Я хочу сказать им, что я тигр, а тигры кусают. Я хочу им напомнить, что я могу быть тигром. Лицо мальчика наливается краской, когда он оказывается в гнезде маминых рук. Я замечаю, что тон плача сменился – вместо шока что-то другое. Он поднимает руку. Его мама целует место укуса. Она баюкает его. Его отец стоит выпрямившись, оглядываясь по сторонам, беспомощный, жалкий.
Я приросла к месту от страха. Вдруг кто-то сдергивает вниз мой подгузник. Я пытаюсь вырваться, но мамина рука хватает меня за мягкое место. Треск ее ладони о мою плоть. Мое маленькое тело, дергающееся вперед при каждом ударе. Мое рассерженное лицо, вздернутая губа, словно блестящая темно-красная волна.
Мои глаза открыты, но сама я – почти без чувств от шока и унижения.
Я чувствую прикосновение ветра к моей оголенной попке. Моя мама уходит. Во мне горит огонь переживаний, слишком больших для моего маленького тела. Меня раздели на глазах у всех. На траве – капли крови. Взрослые собрались вокруг и смотрят вниз, на меня, с сожалением.
Я слышу, как женщина спрашивает, мальчик я или девочка.
Мне страшно даже подтянуть свой подгузник.
Моя мама ушла от меня.
Мой отец несет меня через лужайку к нашему дому. Как только он подтянул мой подгузник, я обкакалась. Он потрепал меня по голове. Моя мама осталась в парке, скрестив руки на груди. Она сняла свои выходные туфли.
Мой отец говорит мне: «Кусаться нельзя – кусаться плохо». Но он не вкладывает в эти слова чувства. Мы добираемся до дома.
Отец относит меня в родительскую спальню. Он закрывает жалюзи, но полосы света пробиваются и лежат на полу, словно ребра небесного существа, в животе которого я оказалась. Меня раздевают до подгузника. Он полон до верха. Мне было так страшно, что я боялась даже заплакать. Я испугалась, что меня могут убить, хотя я не знала, что такое смерть. Обивка стула пристала к моим маленьким, пухлым ножкам. Это был день моего рождения. Мне исполнилось два года. Пот тонким полотном засох на моей коже.
Чуть позже я услышала, как родители оставили тарелку с тортом за дверью спальни.
«А вдруг она все еще спит?» – прошептал отец. «Не думаю», – оборвала его мама.
Мне не нужен был торт. Я хотела, чтобы моя мама забыла на минуту о себе и вспомнила обо мне. В конце концов они занесли торт в комнату. Я ела его сквозь слезы, сидя между ними и повторяя снова и снова, как автомат, что кусаться нехорошо. Но в глубине души я все так же любила этого мальчика и кусала бы его опять и опять, без конца. И он знал, что я его любила. И все это было совершенно искренне и спонтанно.
Так я стала педиатром. Я хотела стать рукой, протянутой душам, цепляющимся за край скалы в полной темноте.
Прошло около двух лет с той ночи, когда мы с Брайаном нашли Дженнифер на диване в Хэмптон Бэйс, прежде чем я добралась до книги доктора Феликсона «Молчание после детства». Я прочитала ее в один присест. Было три часа ночи понедельника. Я схватила телефон и позвонила Брайану.
«Я только что закончила книгу доктора Феликсона».
После секундной паузы Брайан сказал:
«Ну, что я тебе говорил?»
«Ты не хочешь приехать ко мне?» – спросила я.
«Тебе разве не пора на работу через пару часов?»
«Господи, Брайан».
«Хорошо, хорошо – я возьму с собой одежду на завтра».
Меня трясло мелкой дрожью. Интуиция доктора Феликсона, его догадки прокатились волной колебаний по моему телу, которые добрались до моей памяти, словно мягкие, теплые руки, готовые отыскать спрятанное там.
Когда приехал Брайан, я усадила его, поцеловала, поблагодарила и вручила ему бокал с виски. Открыв книгу наугад, я прочитала ему один абзац.
«Послушай вот это».
Для детей родители могут казаться кусками дерева – или в лучшем случае печальными созданиями, которые всегда готовы вот-вот их разлюбить. Позже, когда мы сами становимся взрослыми, мы узнаем, что наших родителей снедают неврозы, которые они считают настоящими проблемами, чтобы отвлечь внимание от еще более мучительной реальности…
Я захлопнула книгу и открыла на другой странице. Брайан подался вперед.
Нельзя вернуться в детство, если только не остается какая-то связь и вы не чувствуете его притяжение, словно тягу воздушного змея из невидимой дали; тогда ваш мир откроется вам через ваши чувства и станет одновременно нежным и жестоким, и вы не будете иметь ни малейшего представления, каким будет следующий день. И вы полюбите всех беззаветно, но научитесь никому не доверять…
«Ничего себе, – сказал Брайан. – Доктор Феликсон написал это?»
«Разве ты не читал эту книгу?»
Он посмотрел на меня. «Она была у нас в доме так долго. Я все собирался ее прочитать…» – сказал он.
Я перевернула несколько страниц, и мой взгляд упал еще на один абзац:
Детство невыносимо оттого, что взрослые заставляют детей чувствовать свою неполноценность, будто те ничего не знают, в то время как инстинкт ребенка подсказывает ему обратное – что он знает все на свете. Может быть, самые вредоносные злодеяния общества совершаются в неведении большинством его жителей, из поколения в поколение…
Дженнифер живет теперь во Флориде. Она пишет свои мемуары. Встречается с кем-то. Он итальянский итальянец, говорит она, состоит в родстве с Тони Беннетом и унаследовал семейный голос. Алан круглый год живет в Хэмптон-Бейс. Его роман не продержался и пары месяцев после ухода от Дженнифер. По его словам Брайану, он «решил погулять». Он стал пользоваться одеколоном. Иногда мне кажется, что Алан и Дженнифер никогда не были так близки, как мы с Брайаном.
Я знаю, Брайан считает, что я переживаю, как бы он не бросил меня таким же образом. Но Брайан совсем не такой, как его отец. Он – замечательный ребенок, но в нем нет ребячества. Дети ближе всех нас к настоящей мудрости, и они становятся взрослыми в тот момент, когда последняя капля непостижимого просачивается прочь. Мне кажется, в каждом из нас это происходит незаметно, словно пересечение границы штата, пока мы спим в дороге.
Мы с Брайаном можем однажды расстаться, но это не будет настоящим расставанием – нельзя отменить то, что уже произошло. В худшем случае нас ждет неопределенность будущего. Хотя в душе я сохраню копию Брайана. Но разве будущее бывает определенным? Судьба теперь – не больше, чем удел генетики. Но интересно, сколь многие важные события моей жизни на первый взгляд явились следствием случайностей. Свобода – самый увлекательный из жизненных ужасов:
Как-то я решила зайти в книжный без видимой причины. Там я встретила Брайана.
Иногда я гадаю, о чем бы я думала все то время, которое я думала о нем, если бы я не встретила Брайана. Может быть, моя голова была бы пуста? Было бы это похоже на сон? Или же другие мысли заняли бы место мыслей о нем? Где же эти мысли сейчас и о чем бы они были?
Я начала думать о подобных вещах с тех пор, как занялась редактированием неопубликованных записей доктора Феликсона. Через пару дней после того, как я перевернула последнюю страницу «Молчания после детства», я решила ему позвонить. Женщина, снимавшая его старую операционную, сообщила мне, что он умер.
У меня было сорок страниц вопросов.
К удивлению Брайана, некоторые дневники доктора Феликсона оказались у Дженнифер. Я обнаружила это, позвонив во Флориду. Мне хотелось побольше узнать о его жизни. На заднем плане кто-то пел. Дженнифер захихикала и спросила, слышу ли я пение. Я объяснила, какое значение для моей жизни имела книга доктора Феликсона. Она захотела узнать, где Брайан. Он был рядом со мной. Она попросила его к телефону. Потом она рассказала сыну, что у них с доктором Феликсоном был недолгий роман за несколько лет до размолвки с Аланом. После этого романа их брак так никогда и не стал прежним. Брайан был настолько поражен, что бросил трубку. Дженнифер немедленно перезвонила и заверила, что не стала бы его огорчать, но не могла по-другому объяснить, почему у нее были только некоторые дневники доктора. В своем завещании доктор Феликсон оставил ей свои дневники периода их близости.
Дженнифер переслала мне эти дневники из Флориды быстрой почтой, что было одновременно любезным и очень смелым жестом. По ее словам, та небольшая часть, написанная о ней, была лишь малой долей по сравнению с его заметками о пациентах и ежедневных размышлениях на общие темы.
«Он пишет о самых обыденных вещах – облаках, например», – сказала она.
Ей очень хотелось, чтобы дневники попали в руки врача. Я была чрезвычайно польщена.
Когда дневники были доставлены, я написала Дженнифер, чтобы узнать, любила ли она доктора Феликсона и почему их роман не продлился и пары недель. Она ответила почти немедленно. Бликс Феликсон был единственным мужчиной в ее жизни, который умел любить безоговорочно, не нуждаясь в том, чтобы быть любимым в ответ. Ее смущало, что его никогда ничего не огорчало.
Или же его огорчало все. Но я не стала говорить это вслух. Я выучила свой урок.
23 декабря, 1977
Для ребенка любая мера дискомфорта уравновешивается, будем надеяться, физическим и эмоциональным контактом с родителем или опекуном. Может ли быть в таком случае, что в тишине и смятении нашего преждевременно переживаемого расставания с детством ощущение дискомфорта ведет нас к тому же инстинкту поиска утешения по образу ребенка? Эмоционального утешения, полученного в объятьях другого человека? В таком случае может ли так статься, что мы проводим бо́льшую часть своей сознательной жизни в поисках утешения от незнакомцев?
Страхи взрослого человека раздуты до такой степени, что уже несопоставимы по размеру со своей причиной.
Ожидания партнеров в отношениях завышены, а потому разочарование, одиночество и зачастую боль становятся неизбежными спутниками в союзе, который должен был стать универсальным ответом (эмоциональной панацеей) на все наши страхи. Те из нас, кто ощущает эмоциональную пустоту при продолжительном одиночестве, относятся к браку как бедняк – к выигрышу в лотерее.
Войны – лишь внешнее проявление наших внутренних баталий. Люди должны отучиться винить друг друга в своих страхах, разочарованиях и боли. Возможно, мы научимся видеть близких в качестве попутчиков, а не спасителей, попутчиков на обратном пути в детство. Но нам ничего там не найти. Нам останется лишь распуститься, как клубку ниток. А до тех пор – следует снизить требования к близким (и самим себе!), чтобы «любить» глубже и человечнее.
Уже сгустились сумерки. Я слышу стук дождя по окну, но не вижу его. Мимо проезжает машина. Мне интересно, кто в ней.
Иногда я пытаюсь представить свою жизнь, если бы я был женат. Возможно, в доме бы пахло тортом. Я думаю про отца и мать. Вспоминаю, как запускал модели аэропланов с холма в Скансене. Поездку под ярким полуденным солнцем в офис отца в Стокгольме. Я вспоминаю лицо отца. Лицо матери. Если бы я только мог с ними поговорить сейчас. Это был бы совсем другой разговор. Я бы их простил.
Доктор Феликсон умер в одиночестве, и его тело обнаружили лишь спустя пару дней. Местная газета «Саутгемптон пресс» напечатала сообщение о смерти доктора, достаточно известного в нескольких областях, ушедшего из жизни по неизвестной причине в своем коттедже в Шиннекок-Хиллз и обнаруженного косильщиками травы, которые и вызвали местную полицию, увидев лежавшего без сознания старика через открытое окно.
7 июля, 1977
Нет сомнений, что люди, встречающиеся на нашем пути, оказывают на нас влияние. Но те, кого мы так и не встретим, формируют нас в не меньшей, а то и в большей степени, благодаря тому, как четко мы представляем их себе.
Есть люди, которых мы стремимся встретить, но это нам никак не удается. Взрослые тянутся к незнакомым людям, но на самом деле мы ищем свое детство. Мы тянемся к тому, что мы потеряли, став теми, кто мы есть.
Брайан – часть вселенной, и я – часть вселенной, и наши настоящие имена не звуки и буквы на бумаге, а наши тела. Мы сталкиваемся и отступаем.
Хотя мы оба подобны рекам, наши воды никогда не станут одним морем.
21 июня, 1978
Мы не находим себе места в мире, потому что мы представляем себе его подобным тому, какими стали мы, – полным бесцельного стремления, и забвения, и надежды найти что-то столь искреннее, что у нас не хватит слов его описать. Мы думаем о мире, как о множестве начинаний и завершений, но забываем про то, что между, и даже про то, как вдохнуть жизнь в наши собственные тела. А позже, став взрослыми, мы удивляемся чувству растерянности.
Воскресным вечером мы с Брайаном едем в Хэмптон-Бейс повидаться с Аланом. Мы вместе уже почти четыре года. Я редактирую дневники доктора Феликсона. Через два года они выйдут у издателя, который наверняка вызвал бы уважение у доктора Феликсона. У меня теперь своя практика, но в будущем я бы хотела преподавать. Я опубликовала статью в авторитетном медицинском журнале о методике доктора Феликсона в области педиатрической психологии. Его первая книга, «Молчание после детства», переиздается в следующем году в Берлине. С момента опубликования моей статьи я получила тридцать четыре письма от докторов со всего мира.
Брайан иногда рассказывает мне забавные истории о том, как доктор Феликсон осматривал его ребенком. Мне они очень нравятся, и я их записываю.
Мы с Брайаном решили жить вместе, но не заводить семью.
17 ноября, 1980
Сегодня в супермаркете, когда я выбирал себе клубнику, меня тронула за рукав женщина. Она спросила, не я ли детский доктор из Германии. Я поправил ее и объяснил, что Швеция в некоторых смыслах намного холоднее, но не во всех. Она спросила, не могу ли я уделить ей минуту времени, и я, конечно, ответил согласием, хотя подумал, как странно об этом даже говорить, ведь наша жизнь есть не что иное, как цепочка минуток. Каждая жизнь – словно жемчужное ожерелье.
Эта женщина хотела понять, почему ее четырехлетний сын отдал свой рисунок макарон маме другого ребенка, а не ей, когда она забирала его из школы. Она сказала, что не разговаривала с ним всю дорогу домой и даже всплакнула. Дома ее сын разрыдался и закрылся в своей спальне. Она беспокоилась, что сын ее не любит – по какой иной причине он мог отдать рисунок матери другого ребенка?
Я рассмеялся и положил одну из ягод в рот. «И это все?» – спросил я. Она кивнула головой. Что ж, пояснил ей я, вы волнуетесь совершенно зря. Причина, по которой ее сын отдал свой рисунок другой женщине, была как раз в том, что он любил свою маму такой слепой, такой беззаветной любовью, что ему было совершенно естественно почувствовать жалость к любой другой женщине, которую он не любил с такой страстью.
И тут, кто бы мог подумать, женщина заплакала. Она снова дотронулась до моего рукава и поблагодарила меня: «Спасибо, доктор». Она решила купить ему игрушку, чтобы загладить свою вину, но я предложил ей: «Мадам, может быть, вам стоит вместо покупки игрушки отправиться домой, найти своего сына и напомнить ему о происшедшем, и уверить его, что вы любите его с не меньшей преданностью и никогда больше не усомнитесь в тех способах, которые он находит для проявления своей любви».
Чем больше я думал об этой встрече по дороге домой, тем больше я расстраивался. Приехав в дом, я переоделся в халат и высыпал клубнику птицам. Из головы у меня не шло, как замечателен сын этой женщины. Что за гениальный ребенок и какая же тяжелая жизнь предстоит ему в этом мире, где красота разложена по полочкам, а настоящая любовь разменяна на лесть.
Игрушки
Игрушки – это подручные средства, при помощи которых дети делятся с окружающим миром своими страхами и надеждами, разочарованиями и успехами.
Покупая игрушки, родители задают границы игры ребенка (его воображения). Игрушка, наделенная особенно характерным атрибутом, может ограничить игру ребенка, свести ее только к тем аспектам, которые ассоциируются у него с этим атрибутом. Например, игрушка, сделанная по подобию телевизионного героя, заставит ребенка играть определенным образом, ограничивая его воображение.
Игрушки, не несущие атрибутов третьего лица (сам ребенок и игрушка выступают в роли первого и второго лица), позволяют ребенку развивать свое воображение без излишнего искажения. В то же время, если вашему ребенку не нравится идея игры с кусками дерева или шерстяными формами, можно ввести в игру предметы из окружающей среды (листья из парка или твердые овощи – тыкву или картофель). Они позволят вашему ребенку направить свое воображение в сторону природы.
Дайте ребенку кастрюлю, и он притворится, что варит суп. Дайте ему пистолет, и он начнет стрелять. Для думающих родителей выбор очевиден (если, конечно, мы не имеем дело с ребенком из древней Спарты!).
Для ребенка приглашение играть – это проявление его доверия. А доверие дает рост любви. Ведь ребенок жаждет поделиться с вами (посредством игрушек) своим внутренним миром, выразить игрой (используя игрушки) то, что он не может выразить словами – либо оттого, что не доверяет языку (да и с чего ему доверять? – см. главу 2, «Все есть метафора»), либо оттого, что не владеет им в достаточной мере, чтобы понятно выразить себя.
Для эмоционального развития ребенка игра важна так же, как питание – для его физического развития. Игра – это средство выражения любви. Даже самые успешные взрослые пары в моей практике опирались в своих отношениях во многом на разные формы игры.
Разговор с четырехлетней Дороти
Доктор Феликсон: Почему игрушки так важны?
Дороти: Они важны для детей.
Доктор Феликсон: Почему?
Дороти: Потому что дети любят играть.
Доктор Феликсон: Хм, интересно, а почему они любят играть?
Дороти: Я не знаю.
Доктор Феликсон: А скажи мне, почему дети любят играть со взрослыми?
Дороти: Может быть, потому что взрослые им так нравятся?
Удивительно, не правда ли? Дороти понимает, что ее расспрашивают с какой-то целью, и, как любой ребенок, она хочет угодить. Она отвечает с удовольствием, но, может быть, более эффективным для понимания ребенка было бы перейти на его собственный язык. Возможно, я понял бы мир Дороти более ясно, если бы поиграл с ней (оставив выбор игрушек за ней), а затем изучил эту игру. Моей большой ошибкой было расспрашивать ее, словно она была обыкновенным взрослым человеком. С момента того разговора я изменил свой подход к изучению детского мышления. Чтобы познать яблоко, не надо его есть – надо стать семечком.
Стр. 221–223, глава восьмая, «Значение игрушек»,
Доктор Бликс Феликсон,
издательство Greenpoint Paperbacks,
Нью-Йорк, 1972 г.Когда мы проезжаем Риверхед, Брайан просит достать сэндвич, купленный нами в дорогу в кафе «Гринпойнт». Он следит, как я разворачиваю бумагу, потом тянется к отрезанной половине. Я хлопаю его по руке.
«Нет, – говорю я. – Я хочу, чтобы мы разделили одну половину».
Бесхитростные таинства и безмолвные соглашения поддерживают наши отношения.
Мы проезжаем Ист-Куог. Дорога сузилась до серой тропинки, бегущей сквозь лес. Лес кажется мне моим детством.
Брайан дотрагивается до моей шеи. Напряжение спадает. Оно схлынуло, словно волна, ударившая о берег.
«Помнишь фужеры для шампанского?» – спрашивает он.
Я представляю себе два хрупких фужера, оставленных нами в горах Адирондак пару недель назад. Мы были в походе. Там есть такие чащобы, куда свет не проникает даже днем, словно там вечная ночь – или бездна подсознания, как заметил Брайан. Воздух разрежен и свеж. Ночью мы засыпали с запахом костра в волосах.
После девятимильного подъема к вершине, где дыхание горы разливается белым молоком, мы пропали для одного из миров, но были приняты в лоно другого. Брайан услышал плеск реки. Мы пошли на звук, и вскоре приметили большой валун на середине реки, достаточно плоский, чтобы было удобно сидеть. Только прошел дождь, но солнце с удивительной быстротой высушило умытую землю.
Мы с Брайаном устроились на камнях. Я закрыла глаза. Плеск воды заглушал все остальные звуки. Брайан достал бутылку шампанского и два бокала, завернутых в пару футболок. Меня удивило, что он взял их с собой в лес. Потом он объяснил. Тот день был годовщиной нашего знакомства. Я сказала ему, что это не так, но я помогу ему выпить шампанское, чтобы облегчить его ношу.
Мы лежали на спине. Солнце то появлялось, то пропадало в облаках. Молчание неба было немного пугающим. Пейзаж застывшей мысли.
Потом Брайан рассмеялся и согласился, что я права. Тот день не был годовщиной нашего знакомства. Я почувствовала, что он расстроен, и сказала, что каждый день с ним – это в некотором роде годовщина. Я не могу объяснить, что я имела в виду. Просто это первое, что пришло мне на ум.
Мы поцеловались, потом занялись любовью. Не спеша и с наслаждением. Моя нога рассекала воду, как лодочный руль.
После Брайан достал из рюкзака и положил нам под головы полотенце.
Когда я проснулась, Брайан сидел на краю валуна и глядел в глубину озера. Его обнаженная спина переливалась бронзовыми мускулами. Я вспомнила, как мужественна его красота. День клонился к закату. Небо потеряло свою безмятежность. Дул ветер, и деревья качались. Странная штука – ветер. Слово само описывает происходящее.
Я потянулась к Брайану. Положила руку ему на спину. Он указал в сторону заводи около нашего валуна. Сосновый запах перебивал все остальные.
Пока я спала, наши бокалы для шампанского выкатились из сумки и упали в воду. Чудесным образом в воде они остались стоять. Река бурлила по камням и изливалась в заводь, где стояли бокалы. Каждый из них выдерживал тяжесть целой реки, не зная, ни откуда она пришла, ни сколько силы в ней еще осталось.
В машине, за несколько миль до дома Алана, я внезапно хватаю руку Брайана. Наклонив голову, я впиваюсь в нее зубами. Я чувствую теплоту его плоти. Он вскрикивает, потом начинает кричать всерьез, ведь я не разжимаю зубов. Машина съезжает с дороги в лес. Глухие удары в днище машины. Брайан вырывает руку, все еще заходясь криком. Наконец передние колеса замирают в ворохе листьев и веток. У меня во рту – солоноватый привкус крови Брайана.
Он переводит недоуменный взгляд с меня на свою руку. На ней – идеальный отпечаток моих зубов, хотя полукружья размыты сочащейся кровью.
Его испуганные глаза широко распахнуты.
Мы оба тяжело дышим, словно пытаясь вдохнуть друг друга. Начинается дождь. Стук капель прерывает тишину. Задние фонари проезжающих машин расплываются кроваво-красными цветами на залитом дождем лобовом стекле.
Мои глаза, как большие влажные листья.
Алан приготовил лазанью. Он расставил стулья таким образом, чтобы мы все сидели рядом, чтобы позже, когда свет погаснет и упадет занавес еще одного скромного дня, мы не потеряли в темноте глаза друг друга, даже если все то, что нас разделяет, уже прошло, опало одним туманным вечером под шум проезжающих машин.
Пропавшие статуи
Одним ярким утром, в среду, молодой американский дипломат без сил упал на скамейку у площади Святого Петра в Риме.
Упав, он разрыдался.
Увиденное им открыло в его сердце потаенную дверь.
Вскоре его рыдания стали столь громкими, что молодой польский священник, парковавший желтый мотоцикл, счел необходимым проявить участие. Священник молча сел на скамейку рядом с ним.
Мимо проковыляла собака с седыми усиками и улеглась на боку в тени. Собравшись по двое, по трое, толковали дворники, опершись на метлы. Священник обнял рыдающего одной рукой и чуть сжал его в объятьях. Молодой дипломат обернулся к священнику всем телом и уткнулся, плача, в его одежды. Ткань отдавала едва уловимым ароматом древесного дыма. Прошла старуха в черном, кивая головой, перебирая четки и тихо бормоча что-то неразборчивое
Когда Макс наконец затих, священник мыслями перенесся туда, где он должен был быть в это время. Он представил себе пустой стул у стола. Нетронутый стакан с водой. Тяжелую провисшую портьеру и запах полировки. Совещание наверняка уже началось. Ему пришло в голову, что он всегда – там, где ему положено быть, даже если на первый взгляд кажется, что это не так.
«Вам лучше?» – спросил священник. Его польский акцент подрезал английские слова, словно ножницы в умелых руках.
«Мне так стыдно», – сказал Макс.
Он указал рукой на ряд статуй, обрамлявших площадь Святого Петра.
Священник бросил на них взгляд.
«Они очень хороши, но что это – одной статуи не хватает, – воскликнул священник. – Это просто удивительно».
Он повернулся к Максу.
«Почему вас так расстроила пропавшая статуя, синьор американо, – ведь вы не украли ее, а?»
Макс покачал головой. «Воспоминания детства».
«Я всегда полагал, что ключи к нашему истинному отношению к прошедшим событиям спрятаны в будущем, – сказал священник. – Разве не всё в нашей жизни – воспоминания детства? – продолжил он. – Детские каракули, так и не повешенные на стену, недоброе слово на ночь, забытый день рождения…»
«Да, но не всем же им быть плохими, отче, – прервал его Макс. – Ведь есть и те моменты, которые спасли наши души, разве нет?»
«Если таких моментов нет, – сказал священник, – то Бог пустил мою жизнь на ветер».
Двое мужчин умолкли, словно пара старых друзей. Священник пропел под нос несколько нот из ноктюрна Шопена и принялся считать облака.
Вдруг птица села на то место, где когда-то стояла фигура святого – откуда взгляд его падал на толпу людей, снующих по площади, жующих бутерброды, щелкающих фотокамерами, кормящих детей, птиц и случайных бродяг, забредших втихую с набережной реки.
Священник посмотрел на Макса и махнул рукой в сторону статуй. «Им всем давно пора пропасть», – пошутил он, но тут же подумал, что его сосед по скамье мог не понять, что он имел в виду.
Макс высморкался и убрал волосы с лица. «Пожалуйста, простите меня, – сказал Макс. – Вы очень добры, но мне правда лучше – grazie mille[2]».
Сидевший рядом с ним поляк принял сан, проработав с детьми из беднейших районов Варшавы. Он не мог там поверить своим глазам. Его карьера пошла в гору, когда раскрылся его талант управляться с бюрократией, что так изводит деятельных людей. Работа с трудными детьми научила его тому, что люди не желают обсуждать свои проблемы.
«Вы можете рассказать мне все, что угодно, – сказал священник. – Я не только молюсь, но и даю советы».
Макс улыбнулся.
«Мне просто интересно узнать, почему пропавшая статуя довела до слез молодого американского бизнесмена», – добавил священник.
Волосы священника напоминали цветом солому. Они сами по себе падали на одну сторону. Священник был красив, и Макс пожалел, что тому не суждено было завести семью.
«Это старинная история, когда-то мной услышанная», – сказал Макс.
«Звучит заманчиво, мне нравятся истории, – воскликнул священник. – Они помогают мне лучше разобраться в самом себе».
Он закурил сигарету и скрестил ноги. Макс уставился на него.
«Это единственный разрешенный порок, – выдохнул священник. – Хотите сигарету?»
Макс поднял руку в отказе.
«Ваша история произошла в Вечном городе?»
«В Лас-Вегасе».
«В Лас-Вегасе?»
«Вы когда-нибудь были в Лас-Вегасе?» – спросил Макс.
«Никогда, но я видел его на открытке».
«Представьте себе женщину, сидящую на парапете у входа в казино».
«Женщину?»
«Да».
«Хорошо, – сказал священник и закрыл глаза. – Считайте, что представил».
«Женщина сидит на парапете около казино. Очень жарко. В воздухе запах пива и духов. Ее зовут Молли. Она рано вышла замуж».
«Невеста – тинейджер?» – спросил священник.
«Точно – очень рано, – сказал Макс. – Родители Молли выросли в округе Файет, но осели в округе Нокс – это всё в Техасе. Ее отец водил школьные автобусы, а мать не работала. В старших классах Молли ходила в школу округа Нокс. Талисманом школьных спортивных команд был медведь. У некоторых игроков футбольной команды на руках были татуировки медвежьих когтей. Рядом с городом было озеро. Оно пользовалось большой популярностью среди подростков, которые любили сидеть у воды в своих пикапах.
Если вы помните открытку Лас-Вегаса, отче, то представьте себе призрачное свечение неона, накрывающее город и меняющее цвет лиц вокруг. Яркие, сверкающие огни, обещающие ребенку так много, но не дающие ничего.
Лас-Вегас виден издалека: надо лишь поискать восставшую груду металла на горизонте. Если вы подъезжаете ночью, свет города поманит вас из черной пустыни, словно когтистая лапа в неоновой перчатке.
Первого мужа Молли сбило насмерть машиной вскоре после свадьбы. Потом она встретила женатого тренера школьной футбольной команды.
Молли встречалась с тренером для интимных отношений пару раз в неделю на протяжении нескольких лет. Когда она обнаружила, что беременна, футбольный тренер сделал вид, что с ней незнаком.
Сын Молли не плакал даже при рождении, в 1985 году. Она считала, что в нем – душа старика. И первые четыре года она воспитывала его сама».
Священник улыбнулся и прикурил еще одну сигарету, показывая, что он готов слушать дальше.
Макс продолжил:
«Так вот, Молли сидела на парапете у казино и плакала, но так тихо, что никто не мог этого заметить, – даже ее четырехлетний сын, блуждающий по кругу за своей тенью. Время от времени Молли протягивала к нему руку, но так и не дотронулась до него.
Поездка в Лас-Вегас была идеей Джеда. Отношения Молли и Джеда стали серьезными три месяца назад. Джед руководил мебельным складом. Он настаивал, чтобы мальчик называл его „папа“. Когда его пикап подъезжал к дому, мальчик бежал в мамину спальню. Там под кроватью лежала кучка маленьких пластиковых животных. Но это было не лучшим местом дожидаться, когда уедет Джед. Маленькому мальчику казалось, что он слышит, как они по очереди умирают».
«Мы дожидаемся твоего отца, – сказала Молли. – Он приедет с минуты на минуту».
Она повторяла это уже несколько часов. Больше говорить было не о чем. Когда она сказала это первый раз, сын ответил: «Он мне не отец».
«Он хочет быть им, если только ты ему позволишь», – оборвала его мама.
Шум казино выплескивался на улицу. Пустой звон падающих монет доносился из динамиков. Пьяные игроки смотрели на свои руки, пока несуществующие монеты сыпались между пальцев. Если бы они смогли сорвать банк, их жизнь пошла бы по-другому. Те, кто когда-то их любили, полюбили бы их снова. Все ошибки можно было бы исправить. Если у человека есть деньги, он может навести порядок в делах – если только ему удастся вытянуть счастливый билет. Тогда он может стать щедрым.
Мимо Молли с сыном пробежал официант с подносом аппетитных фруктов. Потом, взявшись за руки, прошла худощавая пара в солнцезащитных очках. Старая женщина неловко оступилась на проезжую часть, и на нее прикрикнул мужчина на мотоцикле, огибая ее по дуге. Трое мужчин в костюмах аккуратно выволокли на тротуар игрока в разорванной рубашке. Его ноги висели, как два сломанных весла.
«Чтобы я тебя больше здесь не видел, если не хочешь быть арестованным», – сказал один из них.
«Хорошо», – тихо сказал мужчина и стал поднимать рассыпавшиеся из карманов монеты. Маленький мальчик помог ему. Мужчина поблагодарил его: «Спасибо, мальчик».
Некоторое время было тихо, а потом мальчик заплакал. Он сел на землю. На нем были шорты, и ноги его стали красными от солнца. На носках были вышиты гусеницы. Один из носков сполз в ботинок от бесконечного хождения.
К трем утра мальчик и его мама перестали существовать для толп пьяных страховых агентов, дантистов из округа Оранж, приличных игроков из захолустий Кентукки, и женщин из обслуги казино и баров кабаре, идущих на работу или домой.
Горло мальчика так пересохло, что он слизывал слезы с уголков рта. Где-то ранним утром он достал из кармана наклейку и прилепил ее на асфальт между глянцевыми карточками с обнаженными женщинами, которыми усыпаны тротуары Лас-Вегаса.
На светофоре остановился лимузин. Внутри отмечали свадьбу. Женщины курили и подпевали песне в стиле кантри из магнитолы. Невеста была молода. Она поглядела на Молли и закричала.
Мальчик снял сандалии и поставил их рядом с мамиными туфлями, которые та сняла давным-давно.
Кошелек Молли со всеми ее деньгами был в машине Джеда.
«Я буду следить за деньгами», – сказал он ей.
Дорога из Техаса заняла четыре дня. Мальчика все время тошнило, потому что Джед курил в машине, не опуская стекол и не выключая кондиционер.
Ночью они спали все вместе на матрасе в кузове. Было холодно. Небо наливалось лиловым цветом на заре, потом выплескивалось золотом, когда рождался новый день.
Сын Молли боялся попроситься в туалет. Его тошнило от одной мысли, что надо будет зайти в казино. Спустя час его трусики подсохли, и горение кожи на ногах сменилось легким покалыванием.
К нему кто-то подошел.
Мужчина постоял, наблюдая за ним, потом отошел.
Потом он вернулся, неся что-то в руках.
Мальчик почувствовал прикосновение холодной тарелки к голой ноге.
Потом он заметил, что над ним кто-то стоит.
«Mangia», – сказал мужчина тихо и указал на белый кубик кремового десерта.
На мужчине были черные штаны с красным кушаком вместо ремня и плотная рубашка с длинным рукавом в черных и белых горизонтальных полосках.
«Тирамису, – пояснил обстоятельно мужчина. – Из отеля и казино „Венеция“ в паре кварталов отсюда – я принес его для тебя».
Мальчик прищурился и обернулся к маме. Молли с подозрением разглядывала незнакомца опухшими глазами.
«Не волнуйся, Mama, – сказал Молли незнакомец. Он указал на себя обеими руками: – Amico – друг».
У Молли были прелестные глаза. Благодаря им у нее появлялось немало «друзей», о которых она хотела бы поскорее забыть.
«Нет, спасибо», – ответила она достаточно громко, чтобы услышали прохожие. Ее голос звучал хрипло от жажды и усталости.
«Мама – можно мне это съесть? – спросил ее сын, опуская палец в крем. – Мне кажется, оно хорошее».
Молли поднесла тарелку к лицу, внимательно осмотрела содержимое и поставила тарелку обратно на парапет. «Ешь и поблагодари дядю».
Мужчина уселся на парапет в нескольких ярдах от них и закурил тонкую сигару. У нее был очень сладкий аромат. Он стал насвистывать. Когда мальчик закончил есть свой десерт, он передвинулся к незнакомцу и аккуратно поставил тарелку на парапет.
«Мне очень понравилось», – сказал он.
«Мы называем это тирамису, что по-итальянски означает „подбодри меня“».
Потом мужчина наклонился к уху мальчика. От него пахло сигарами.
«А еще в нем есть алкоголь», – подмигнул он.
Мальчик посмотрел на пустую тарелку. Огни Лас-Вегаса горели в маленькой лужице растаявшего крема в самой середине.
«Почему вы так странно говорите?» – спросил мальчик.
«Ты о моем акценте?» – сказал мужчина.
Мальчик кивнул, хотя никогда прежде не слышал слова «акцент».
«Я гондольер, а мой акцент – из Италии».
«Гон…»
«Гондольер, si».
«Гобдольер?»
«Si, ты знаешь, что это означает?»
«Черт побери, – прикрикнула его мать, не поднимая головы. – Перестань приставать к дяде».
«Но мама, он хороший».
«Все они поначалу хорошие», – ответила она.
Мужчина подмигнул мальчику и поднялся на ноги. Он вынул из кармана три маленьких апельсина.
«Допустим, все они были поначалу хорошие, Mama, – но все ли они умели поначалу жонглировать?» – сказал мужчина.
Мальчик следил за апельсинами не отрываясь. Он ощущал их тяжесть в своих маленьких ладонях.
«Трюк тут заключается в том, что ты волшебным образом ловишь каждый шар в последнее мгновение, не дав ему упасть», – пояснил незнакомец.
«Я хочу попробовать», – сказал мальчик.
Гондольер прекратил жонглировать и нагнулся к мальчику.
Макс взял в руки апельсины и внимательно их осмотрел.
«Они для меня слишком большие».
«А!» – воскликнул гондольер, извлекая из кармана три кумквата.
Молли рассмеялась.
«Кумкваты проложат тебе дорогу к сердцу любой женщины, мой юный друг!»
Мальчик снова посмотрел на свою маму. Он хотел, чтобы она была веселой. Они были в отпуске.
«Мы дожидаемся моего жениха, – сказала Молли. – Он заканчивает дела».
Маленький мальчик положил кумкваты рядом со своими ботинками и тихо сказал гондольеру: «Он проиграл все наши деньги, мистер».
«Он отыграется», – ответила Молли.
Гондольер уселся обратно на парапет и закурил еще одну сигару.
«Курить вредно», – сказал ему мальчик.
Гондольер пожал плечами: «Тебя что, моя бабушка попросила мне об этом напомнить?»
«Нет, – ответил мальчик. – Я слышал об этом по телевизору».
Когда Молли очнулась ото сна, уже занималась заря. Ее сын спал, положив голову на полосатую рубашку гондольера. Гондольер курил, глядя в пустоту. Молли показалось, что это была та же самая сигара.
«Мы, наверное, кажемся вам жалкими», – сказала Молли.
Гондольер задумался на мгновение, потом ответил:
«Вы позволите мне оказать вам и вашему сыну одну услугу?»
«Не знаю, – сказала Молли. – Мой жених наверняка будет не в духе, когда выйдет».
«Ладно, – сдался гондольер. – Будь как будет – просто я думал, что вам понравится».
Между ними широко открылась пара маленьких глаз.
«Понравится что?» – спросил тонкий голосок.
«Понравится быть почетными гостями на моей гондоле – на волнах каналов Венеции».
Мальчик забрался к маме на колени.
«Мы не можем не согласиться», – сказал он очень серьезно.
Молли повернулась к гондольеру.
«Я не знаю, почему вы делаете это для нас, но если бы вы собирались нас убить, то уже давно бы это сделали».
Ее сын бросил на нее сердитый взгляд.
«Он не собирается нас убивать».
Когда они вошли в здание отеля-казино «Венеция», гондольер воздел руки к небу.
«Добро пожаловать в самую красивую страну на свете».
Мальчик посмотрел на статуи, стоявшие в вышине, на краю крыши.
Их белая мраморная кожа блестела в лучах утреннего солнца, их руки замерли на взлете – пальцы чуть вытянуты, подчеркивая значительность их веры.
«Мне кажется, это статуи святых праведников, малыш, – сказал гондольер. – Они хранят меня – и тебя тоже».
Одной статуи не хватало. На крыше было пустое место там, где она когда-то стояла.
«А где вон та?» – спросил мальчик.
«Я не знаю, – ответил гондольер, задумавшись. – Но только представь себе – caro mio, он может быть где угодно».
«Мне кажется, я верю в святых», – сказал мальчик и представил себе, что пропавший святой мог каким-то образом оказаться его отцом.
«Ты на самом деле веришь в святых?»
«Да, верю».
«Тогда ты – итальянец, малыш, самый настоящий – в тебе горячая итальянская кровь. Попробуй сделать вот так. – Гондольер сложил пальцы щепоткой и потряс ими в сторону неба. Мальчик повторил его жест. – А теперь скажи – Madonna».
Мальчик сложил пальцы, потряс ими и сказал: «Madonna».
«Отлично, но еще громче, caro, громче!» – воскликнул гондольер.
«Madonna!» – закричал мальчик.
На крик обернулись люди.
«Что это значит? – спросила Молли. – Это не ругательство?»
«Нет, Mama, все очень просто – это значит: я влюблен в этот прекрасный мир».
Мальчик посмотрел на святых, его руки сложились в маленький домик, наподобие церкви.
«Madonna!» – сказал он тем нежным голоском ребенка.
Они прошли втроем через все казино, не обмолвившись ни одним словом.
Несколько печальных душ не могли оторваться от игровых автоматов. В машинах бурлила жизнь.
Двое черных мужчин в костюмах, со сложенными на груди руками, улыбнулись гондольеру.
«Ричард, как она?» – спросил один из них.
«Ciao», – ответил он сквозь зубы.
«Вас зовут Ричард?» – спросила Молли.
«В другой жизни».
«В Италии?» – заинтересовался мальчик.
«В другой жизни, малыш», – сказал гондольер.
«Кстати, вы не могли бы не называть меня „малышом“?» – попросил мальчик.
Пол коридора был выложен мрамором, по бокам высились колонны молочного цвета. Потом они дошли до комнаты, на стенах которой были нарисованы тысячи золотых листьев. Мальчик поднял голову к потолку. Нагие фигуры в свободных одеяниях плавали в море цвета. Там были и фигуры ангелов – даже ангелов-младенцев с пухлыми личиками и розовыми щеками.
«Madonna», – сказал мальчик.
Когда они пересекли комнату, они услышали музыку – несколько нот, извлеченных из прижатого к животу мужчины инструмента.
«Caro mio»[3], – сказал аккордеонист, увидев гондольера.
«Ciao fratello[4], – ответил гондольер. – Позволь представить тебе двух моих друзей с далекой родины».
Карло улыбнулся и покачал аккордеоном перед собой. Его пальцы прижали клавиши, и инструмент издал свой неповторимый протяжный хрип. Меха наполнились воздухом, словно аккордеон сделал вздох.
«Очень мило», – сказала Молли.
Карло пошел за ними, держась в паре метров позади и наигрывая одно и то же трезвучие. Малыш все время оборачивался, чтобы улыбнуться. Он никогда еще не чувствовал себя таким важным. Когда они наконец остановились, они оказались на мосту снаружи отеля.
Восходящее солнце появилось между двух башен здания казино.
«Видишь это, дружище? – спросил мальчика гондольер. – Каждое утро может быть началом твоей жизни – у тебя есть тысячи жизней, но каждая – лишь в день длиной».
Когда солнце прокатилось над ними и открылось всему миру в небе, женщина в черном платье вынесла им поднос. Она была очень высокого роста, и ее каблуки цокали по каменной мостовой.
«Доброе утро», – сказала она, передавая поднос с едой гондольеру.
Молли заволновалась. «Мы это не заказывали».
«Нет, нет – это от вашего друга», – сказала женщина, указывая на один из искусно изогнутых балконов на фасаде казино. Неузнаваемая фигура замахала им с огромной высоты. Когда площадь огласило знакомое трезвучие, мальчик помахал в ответ.
На подносе лежали полдюжины глазированных пончиков Krispy Kreme и стояла маленькая винная бутылка с розой внутри.
«Венецианские пончиковые кольца», – восторженно протянул гондольер.
Мальчик глядел на них, не отрываясь. «На вид очень вкусные», – сказал он.
Гондольер взял один пончик, втянул носом его запах и передал своему маленькому другу. «Они свежие – от силы пара минут из печки», – сказал он.
«Совсем как день», – добавил мальчик. Гондольер воодушевленно покачал головой.
Кроме этого, на подносе было три маленьких чашки – две с черным кофе, а третья – с молоком.
«Это детские чашки?» – спросил мальчик.
«Конечно, – ответил гондольер. – Ведь какими бы взрослыми ни становились сыновья и дочери, они всегда остаются детьми в глазах родителей».
Молли рассмеялась.
После завтрака гондольер подвел Молли и ее сына за руку к краю огромного бассейна, который тянулся под мостами и огибал главную площадь.
На воде бассейна качались в унисон связанные друг с другом лодки странной формы.
«Нам пора возвращаться», – сказала Молли.
«Совершенно верно, Mama, – ответил гондольер, – но одна поездка займет совсем немного времени».
«Теперь пусть Джед дожидается нас», – добавил мальчик.
«Черт», – бросила Молли в сердцах.
«Почему бы и нет?» – спросил гондольер.
«Пошли, Макс», – сказала Молли.
Молли направилась к выходу. Ее сын нехотя поплелся следом. Ему снова хотелось расплакаться, а ноги его горели.
Молли внезапно обернулась: «Вы ничего про нас не знаете».
Гондольер не сдвинулся с места, словно ожидая, что она вернется.
«Все мне известно, Лола», – сказал он без намека на итальянский акцент.
Молли остановилась.
«Почему вы назвали меня этим именем?»
Гондольер посмотрел на свои поношенные туфли.
«Это имя носила моя дочь», – сказал он, пожав плечами.
«Ваша дочь?»
«Да – моя прекрасная дочь. Это было ее имя».
Молли смотрела на него со смесью гнева и жалости.
«Что ж, у меня другое имя».
«Но, может, и нет, – не сдавался гондольер. – Оно могло быть твоим».
«Вы ведь даже не итальянец, ведь так?»
«Мама», – позвал мальчик.
Молли глядела на гондольера, не видя его. Мальчик потянул ее за руку. И в этот момент на нее обрушилась тяжесть реальности того, что в действительности представляла ее жизнь.
На нее нахлынула усталость и тошнота.
Безоблачное небо пересекла стайка птиц, не ведающих ни о чем, кроме своих маленьких жизней.
Мальчик отпустил мамину руку и опустился на корточки.
Его голова свесилась в ладони. Он снял сандалии. На утреннем жарком солнце его ноги снова стали саднить.
Люди обходили их стороной.
Молли нагнулась и поправила его носки с гусеницами.
«Если ты хочешь попасть на гондолу, надень ботинки», – сказала она ему.
На лодочном причале были и другие мужчины, одетые в полосатые рубашки. Они курили и пили кофе из маленьких чашек. Они поднимали руки, приветствуя друг друга, и кивали головой, не улыбаясь.
За пару минут гондольер, Молли и ее сын забрались в лодку. Мальчик сказал, что лодка напомнила ему по форме усы. Он держался за мамину руку. Ему очень хотелось показать ей, что она приняла правильное решение. У рук есть свой язык.
Гондольер встал на корме, словно превратившись в механическую игрушку, которая направляла лодку, отталкиваясь от голубого дна длинным шестом. Все обернулись в их сторону. Карло шел рядом с ними по набережной, наигрывая свое трезвучие.
«Buongiorno!» – приветствовал прохожего гондольер. Японка захлопала в ладоши.
Молли смотрела во все глаза на людей на балконах. Рестораны начали заполняться. Зловещие персонажи, сновавшие мимо них ночью, пропали, и город наполнялся новой жизнью – тихими и добрыми людьми, которые вставали с солнцем и просыпались ночью только для того, чтобы выпить воды.
Когда они добрались до более широкого места канала, гондольер спустился в лодку и открыл крышку кормы, на которой он стоял. Он откинул замок и достал большой ящик из темного дерева. Гондольер поставил его на скамью между кормой и сиденьем изумрудного цвета, на котором прижались друг к другу Молли и ее сын.
«Что это?» – спросил мальчик.
«Сейчас увидишь, дружище».
Гондольер достал из под крышки кормы тонкий, но твердый черный диск и положил его на верх деревянного ящика. Потом он резко крутанул ручку и опустил на диск толстую металлическую трубку с иголкой на конце.
Поначалу Молли и ее сын слышали только шипение. К тому времени, когда по венецианским площадям разнесся сильный золотой голос Энрико Карузо, гондольер уже стоял на своем месте на корме, открывая рот в такт словам песни.
Прохожие собрались у перил моста и хлопали в ладоши. Дети наблюдали в немом изумлении.
Гондольер открывал и закрывал рот в точном соответствии со словами песни. Людям казалось, что он и вправду поет песню сам. Но голос принадлежал тому, кто умер много лет назад.
Молли откинула голову и закрыла глаза. Она никогда не слышала, чтобы мужчина пел с такой страстью. Она обняла одной рукой своего сына и остро почувствовала, что та любовь, о которой она мечтала, сидела рядом с ней в сандалиях и носках с гусеницами.
Песня закончилась, но иголка продолжала бежать по пластинке. Деревяный ящик шипел, когда они вернулись к тому месту, откуда началась их поездка. Гондольер быстрым привычным движением привязал лодку к остальным, стоящим рядком. У него были старые заскорузлые руки, словно две побитые собаки.
Гондольер сел на скамейку рядом с патефоном.
«Еще раз», – попросил мальчик.
Гондольер снова завел машинку. Заслышав шипение, остальные гондольеры обернулись к нему, бросив свои дела. Он гордо встал на корму, прочистил горло и запел.
Пронзительная красота одинокого голоса поднялась от канала к площади, вытягивая людей из кроватей и от плоских телевизоров к перилам их балконов.
Несколько мгновений голос был слышен даже в зале казино – кто-то сложил карты, кто-то поднял голову от стола.
«О чем эта песня?» – прошептал мальчик своей матери.
«Я не знаю», – ответила Молли.
«А я знаю», – сказал мальчик.
Люди на площади захлопали в ладоши.
Когда пришло время прощаться, маленький мальчик не хотел отпускать гондольера. Они слышали, как бьются вместе их сердца.
Очереди к склепу на площади Святого Петра стали очень длинными. Молодые итальянцы в джинсах продавали воду и яблоки. Гиды стояли неподвижно с поднятыми табличками. В колясках спали дети. Мимо проносились подростки на урчащих дымом мопедах. Распорядители ресторанов зазывали туристов, которые, остановившись на миг, проходили мимо.
Иногда кто-то замечал отсутствие пропавшей статуи.
Священник достал из кармана платок и промокнул глаза.
«Madonna», – сказал он тихо.
И прежде чем расстаться, двое мужчин подумали об одиноком гондольере, толкающем лодку по каналам бассейна в невадской пустыне, – ловце неприкаянных душ, поющем им ту песню, что он когда-то пел своей дочери на ферме в Висконсине.
Визиты незнакомцев
Путешествие Уолтера под дождем
Уолтер направлял свой разогретый, постукивающий на ходу мотоцикл вдоль раскисшей дороги, вдыхая и выдыхая в ритме маленького целеустремленного паровозика. Пар вырывался из его рта густыми бутонами, которые, зависнув в воздухе, раскрывались над каждой проеханной пядью. Уже скоро он увидит дом своей любимой. Вдалеке воскресный день завис над маленьким городком, словно немой старик, спрятавший лицо за завесой тяжелых туч. С полудня шел сильный дождь, и поля развезло.
Уставший и промокший, влюбленный Уолтер представлял себе воскресные улицы городка, церковные гимны и горячие ужины, крахмал и шипение утюга; начищенные туфли у камина, отражающие боками сполохи огня; собак, лающих на задних дворах. Ранние звезды.
Он остановился и замер, придерживая мотоцикл. Прислушался к звукам далекого городка. Поначалу он слышал только свое тяжелое дыхание. Потом до него донеслось рычание автобуса, забирающегося в гору, скрип деревьев и, наконец, издалека – крик чаек с прибрежных скал.
Черный бензобак мотоцикла Уолтера был заляпан грязью. В спицах колес застряли листья и ветки, на своем языке отмечая вехи его путешествия. Еще не погас свет дня, но луна уже взошла на небо, придавая голым деревьям мертвецкий вид.
Следующие пару сотен метров дорога шла под уклон. Вдали он мог различить коров, застывших на крутом выгоне и торжественно мычащих в темноту моря. Уолтер представил себе их черные глаза, полные бессловесных вопросов. Что они были способны понять? Холодную водную страну, раскинувшуюся за скалами? Чувствовали ли они неподвижность воскресного дня?
Уолтер достал корзину яиц из молочного ящика, прикрученного позади его седла. Потом он положил мотоцикл на бок. Руль одним концом ушел в лужу.
Это место было самой высокой точкой графства. Где-то на западе лежала Америка, о чем он прочитал в одной из немногих книг в трейлере своего дяди. Он выдохнул и представил себе, как ночь, словно волна, переносит его дыхание через море в Нью-Йорк. Он представил себе, как совершенно незнакомый ему человек вдыхает воздух, когда-то наполнявший его тело.
Уолтер снял перчатку и потер лицо. Под ногтями была черная грязь с маслянистым отливом. Уолтер представил себе мать – дома, у огня, с маленьким братишкой на руках, не понимающая, что делает ее сын под дождем. Его отец наверняка встал со своего инвалидного кресла и забрался на крышу трейлера, насвистывая и прибивая новые листы к крыше над умывальником, где образовалась течь.
«Эта страна – только дожди да песни», – когда-то сказал отец со своим цыганским акцентом.
Маленький Уолтер спросил, хорошо ли это.
«Ай, это замечательно, Уолтер – потому что каждая песня тенью следует за важными воспоминаниями, а дождь ласкает весь город сразу тысячами маленьких рук».
Уолтеру нравилась рок-группа The Smiths. На прошлой неделе, когда мать усадила его в трейлере для стрижки, он показал ей фотографию Моррисси.
«Это что еще за худющий тип?» – спросила она.
«Ты сможешь так меня постричь, сможешь, ма?»
«Что это ты вдруг захотел все волосы на одну сторону?»
Уолтер пожал плечами. «Я так хочу, и всё».
«Ну ладно – раз ты так хочешь…»
«Спасибо, ма».
«Он, верно, поп-певец какой-то, а?»
Уолтер вздохнул. «Он не какой-то, ма». Потом Уолтер подумал, что ни одна разумная женщина не сможет ему отказать, если он будет выглядеть как один из The Smiths – что на его цыганском ирландском звучало с твердым «т» на конце.
Однажды далекой ночью отец Уолтера сам пытался соблазнить песней женщину, которую только что встретил. Она слушала, не поднимая рук из раковины. Она влюбилась, вцепившись в обеденную тарелку. Совсем не так, как ей это когда-то представлялось.
А спустя несколько лет он уже тихо тянул другой мотив маленькому Уолтеру, в такт дождю, что барабанил по крыше раскачиваемого ветрами трейлера.
Цыгане на холме
Семья Уолтера с самого его рождения жила на окраине городка Уиклоу, на восточном побережье Ирландии. В отличие от многочисленной цыганской родни, их семья осела в одном месте, а самому Уолтеру, вопреки традициям своего народа, не возбранялось посещать местную школу и общаться с городскими жителями.
Все в городке знали его и историю того, как его семья поселилась на холме в миле от города.
Обе пары бабушек и дедушек Уолтера перебрались в Ирландию в 1943 году, спасаясь от смертоносного наваждения Гитлера. В начале 60-х родители Уолтера встретились на пологом лугу на юге Ирландии во время цыганского схода. Было довольно темно, но они различали лица друг друга. Вечер выдался холодный. На ней не было обуви. Отец Уолтера спросил одного из ее братьев, откуда они. Чуть погодя он предложил ей кусок торта. Она взяла торт из его рук и проглотила целиком. Они вместе рассмеялись. А потом – она слышит стук в дверь трейлера. Ее брат – за книгой. Она – босая, у раковины, с засученными рукавами. Брат догадывается, кто за дверью. Он открывает и выходит покурить. В руках у мужчины гитара. Наконец это должно произойти, и она замирает.
Две ночи спустя они убегают. А затем, по традиции, их семьи собираются и смеются, и спорят в равной мере, как заведено. На исходе недели установлена цена за невесту, и родители Уолтера, в то время не достигшие еще и двадцати, возвращаются домой.
Они отправились в Уиклоу сразу после церемонии, хотя многие шутили, что свой медовый месяц они уже справили.
«Это прекрасные, дикие, пустынные места», – рассказывал невесте отец Уолтера, пока они ехали в машине. Он все еще волновался, потому что она держалась тихо. Он накрыл ей колени покрывалом. Ее трясло – но не от холода.
Ее табор стоял под Белфастом, а его – перемещался в окрестностях Дублина.
Обе семьи зарабатывали на пропитание продажей подержанных машин, запчастей к ним, металлолома, а также заточкой ножей и укладкой щебенки. Женщины занимались гаданием – многовековым ремеслом, доведенным до совершенства и основанным на простой идее, что все люди стремятся к одному и тому же: любви и одобрению.
Проехав городок, молодая пара запарковалась на холме и принялась ставить брачный шатер в поле с видом на море. Шатер был оранжевого цвета; его полотна крепились к новомодным полым шестам, которые вставлялись друг в друга.
Поставив шатер, они легли внутри под толстым одеялом, и сами собой потекли истории. Где-то за стенами шатра ветер уносил облака на морские просторы.
Заяц прыгнул ко входу, но тут же убежал в густые заросли.
После близости ее тело трепетало. Она прижалась к нему. Он прислушивался к звукам ночи и моря, обволакивающего ледяными объятьями огромные валуны, шуму белой соленой пены, треску смываемых прибоем рачков.
Наутро отец Уолтера приготовил завтрак из привезенных продуктов – еду цыганскую, до последней капли.
Пока полдюжины сосисок шкворчали и постреливали на сковородке, покрываясь золотистой корочкой с одной стороны, мать Уолтера услышала тихий всплеск. Она умывалась у живой изгороди кустарника. Вода была мышиного цвета. Она обернулась и посмотрела на шатер – его мандариновые бока парусили на ветру на темно-зеленом контрасте кустарника. Мать Уолтера вернулась к умыванию. В тот день ветер дул изо всех сил.
Потом отец Уолтера услышал что-то – слабый крик вдалеке. Подняв взгляд от сковородки, он увидел две точки на скале в нескольких сотнях ярдов. Он уронил вилку в траву и побежал. На краю скалы стояли двое детей с пустой коляской. Тот, что постарше, пошатываясь от напряжения, смотрел на воду.
В этот момент второй малыш закричал.
Что-то всплыло и закачалось на волнах, не менее чем в ста футах внизу, под скалами.
Вода отливала темной зеленью.
Отец Уолтера скинул сапоги и прыгнул.
Когда он входил в воду, в его правой ноге треснули несколько костей.
Он пропал на глазах своей жены. Она открыла рот, чтобы закричать, но не смогла произнести ни звука.
Все посчитали их погибшими, поскольку от них не осталось ни следа. Полиция снарядила катер. Но не нашли ни носка, ни детского ботинка. Ни следа.
Полиция отвезла мать Уолтера в дом, где жили дети; ей налили чаю, к которому при других обстоятельствах она бы не притронулась, соблюдая цыганский обычай.
Мать детей села к ней совсем близко. Со временем они взялись за руки.
Дети сидели у их ног.
Они не двигались, устремив взгляд в пустоту.
Тяжелая деревенская дверь впускала все новых родственников. Люди начинали с крика, но быстро понижали голос. Холостой дядя рыдал в кулак. Затем две родственницы подошли к цыганке на стуле. Они погладили ее по плечу, коленям, а потом крепко обняли, так как не осталось ничего другого – ничего, кроме слепых, нежных, бессловесных прикосновений.
Наверху раздался звук бьющегося стекла.
Мужские голоса.
Что-то тяжелое упало на пол.
Время текло, не замечаемое никем.
И вдруг – чудо.
Почти полночь, и полиция стучит в дверь.
Загораются огни.
Люди на стульях оживают.
Огонь горит с кроваво-красным отливом.
Снова раздаются крики, но другого толка – с заднего сиденья полицейской машины выводят мужчину и маленькую девочку.
Он – темный. Цыган. Ребенок крепко держится за него.
Они завернуты в толстые покрывала. Оба всклокочены. От страха девочка не сводит глаз с Цыгана, который прыгнул со скалы, чтобы спасти ее. Его лицо окаменело. Он все еще не может до конца поверить, что остался жив. Когда он наконец видит свою жену, он разрешает себе поверить, что это не сон, не прелюдия к загробной жизни.
Мать бросается к испуганной малышке, потеряв туфлю на ходу. Ребенок тянет к ней ручки и, уткнувшись в знакомую грудь, наконец заходится рыданиями и криком.
Мать Уолтера бьет мужа по лицу и тут же покрывает его поцелуями.
Дорога к дому освещается фарами новых гостей.
На кухне слышен стук чашек.
Дом наполняется радостью.
Мужчины тормошат друг друга за волосы.
Люди прыгают и кричат.
Где-то бьется стекло.
Кто-то поет.
Цыгана с девочкой нашли на дороге, ведущей вверх по скале к городку. Их смыло на несколько миль от того места, где ребенок упал в воду. Отлив оттащил их от скал.
Его руки, ободранные до крови, горели.
В его черных глазах светился яростный огонь желания выжить.
Намокшая одежда тянула их на дно.
Наконец мужчину и ребенка вынесло на отмель, и они смогли добрести до берега сквозь пену прибоя.
Отец Уолтера потерял счет времени. Возможно, прошли года. Возможно, они остались одни на всей планете. Возможно, они будут теперь жить вместе. Такие мысли посещали его, пока ребенок все кашлял, и кашлял, и кашлял водой.
Отец Уолтера снял с девочки одежду и прижал ее замерзшее тельце к своему, спрятав ее в своей одежде так, что только голова торчала наружу. Когда ее тело напиталось его теплом, она успокоилась и заснула.
Она была жива, он чувствовал это. Он слышал ее дыхание. Он чувствовал ее жизнь, сросшуюся с его собственной.
Наконец вдали показалась машина. Отец Уолтера помахал из последних сил.
«Пошел прочь, цыганское отродье», – крикнул водитель через окно.
Снова пешком.
Потом им попался старый фермер с фургоном, полным овец.
Он был на войне и мгновенно распознал вид отчаяния в фигуре человека в свете фар.
Фермер увидел, что мужчина, бредущий по темной дороге, промок насквозь. Потом он увидел вторую голову. Съехав на обочину, он помог им залезть в фургон, отпустив для этой цели пару овец. И помчался домой, не останавливаясь даже, чтобы закрыть ворота.
Его жена принесла одеяла. Огромные куски сахара в фарфоровых чашках с чаем.
Фермер глядел на огонь и думал, что им стоит остаться на ночь.
Только после того, как Уолтер перестал дрожать, он смог рассказать фермеру, что маленькая девочка – не его дочь, что он нашел ее на глубине, в холоде черного водоворота, где их руки сплелись, словно две лозы, которым суждено было быть вместе навсегда.
Фермер выслушал его с очень серьезным видом.
Его жена позвонила в полицию с телефона в коридоре.
На следующий день, когда мать и отец Уолтера складывали свой оранжевый шатер, через открытые ворота на поле выехали несколько старых «Лендроверов». Потом еще несколько машин. Даже полицейская среди них. Мать Уолтера помогла мужу подняться. Его нога была забинтована. Ему казалось, что в его ноге осы свили гнездо.
К ним направилась большая группа людей, во главе с детьми со скалы и их родителями. Толпа остановилась в нескольких ярдах, и отец девочки подошел к отцу Уолтера. Он встал напротив него и протянул руку. Когда отец Уолтера наклонился вперед, чтобы пожать ее, молодой отец девочки просто взял и обнял его. Кто-то из толпы захлопал. Полицейский снял шляпу. Женщины перекрестились поверх своих анораков.
Мужчина протянул отцу Уолтера конверт.
«За то, что ты сделал для нас, Цыган», – прохрипел отец девочки, Его щеки блестели на солнце…
Отец Уолтера посмотрел на конверт.
«Это письмо от меня тебе и дарственная. Мы отдаем тебе эту землю, на которой мы сейчас стоим».
Отца Уолтера не раз предупреждали не вмешиваться в дела нецыганские.
«Возьми, – настаивал мужчина. – Ради Марии, Святой Богородицы, возьми конверт, парень».
Уолтер посмотрел на небо и вздохнул.
Что скажет его семья, если он начнет заключать сделки с чужаками.
В этот момент у отца девочки подкосились ноги. Двое мужчин подошли, чтобы поддержать его.
Тогда сестра спасенной девочки подбежала к отцу Уолтера и схватила его за смуглую руку.
«Нам все равно, что вы цыгане», – сказала она.
Мать Уолтера стояла рядом со своим мужем.
«Вы можете привезти сюда всю вашу семью, – добавила девочка. – Мы будем все жить вместе – как в раю».
Так оранжевый шатер и не покинул холма. Наоборот, вокруг него расположился табор, и их стали называть «цыгане с холма».
А когда год спустя отец спасенной девочки решил перевезти свою семью под сень Дублина, он сделал в своей мастерской металлическую табличку и в один ветреный день укрепил ее на скале.
Табличка гласила:
На этом месте, в 1963 году
Ирландский цыган прыгнул со скалы,
Чтобы спасти мою дочь.
Примерно в то время, когда появилась эта табличка, был зачат Уолтер.
Канадская сирота
Уолтер посмотрел на свой мотоцикл, лежащий на боку в луже. Он представил себе, как он заводит мотор и несется на всех парах к ее дому. Где-то вдали волны бились о скалы: пена и черные камни – две одинаково целеустремленные силы. Уолтер ощущал две таких силы в самом себе. Он вспомнил смелый поступок своего отца, совершенный еще до рождения Уолтера.
Уолтер направлялся в тот самый фермерский дом, куда привезли его мать, когда ее муж бросился в море со скалы.
После отъезда семьи спасенного ребенка в Дублин в доме поселился мужчина средних лет, принявшийся возделывать землю вокруг. И теперь, по странному стечению обстоятельств, в этом доме жила возлюбленная Уолтера. Канадская сирота.
Уолтер поднял свой мотоцикл и направил его к ее дому. Осталось не больше мили.
Он надеялся, что сможет узнать ее имя – это было бы прекрасным началом, подумал он. Он представил, как слетает со скалы на мотоцикле, выкрикивая ее имя.
Когда он в первый раз увидел ее, Уолтер ехал на мотоцикле по городку. Он выехал с дороги и чуть не задавил старушку.
«Бог ты мой, – шептал он себе под нос, водя глазами за ней от одного магазина к другому. – Что за красавица, Святая Богородица». Старуха грозно глянула на него и помахала палкой.
Уолтер предположил, что она из Америки – одна из той многочисленной толпы туристов, что объявляются (обычно поздним летом) с детьми и называются в пабе потомками тех-то и тех-то.
Уолтер наблюдал, как она плыла по городку, задерживаясь у магазинных витрин. Потом он закурил, делая вид, что не следит за тем, как она ждет автобус № 36, который оставлял пассажиров после каждой остановки у обочины по всей протяженности северной окраины.
Уолтер решил было следовать за автобусом на мотоцикле, но побоялся, что его шумный мотор придется ей не по душе, да и не было уверенности, что автобус не поедет быстрее, чем сможет его мотоцикл.
Он принял решение выведать, кто она и где она живет, у хозяев магазинов, которые, не один, так другой, знали все, что происходит в пределах двадцати миль от городка.
В газетном ларьке он попросил пачку сигарет Players и между делом обронил, что видел в городке незнакомку – девушку, гуляющую сама по себе, словно одинокое облако в небе, – но тут его дыхание вдруг прервалось, и он не смог закончить фразы.
«Тебе всерьез стоит подумать о здоровье, – сказал продавец, держа в руке сигареты. – Ты еще слишком молод, чтобы столько курить; посмотри на себя, Уолтер, – ты совсем задохнулся».
Но прежде чем Уолтер вышел из магазина, продавец вдруг вспомнил, о чем спросил его Уолтер, и позвал его.
«Ай, та девушка, о которой ты спрашивал, Уолтер. Да, она заходила; неплохая девушка, и очень высокая, и немного для тебя взрослая, мой мальчик, понимаешь, о чем я – лишку опытная». Продавец засмеялся своим мыслям. Уолтер пожал плечами и почувствовал, как по телу побежали мурашки от смущения.
«Я уже тоже не юнец», – воскликнул Уолтер.
И когда он уже собирался закрыть за собой дверь, он услышал, как продавец добавил: «И очень жаль, что все так вышло с ней и ее сестрой».
Уолтер просунул голову обратно в дверь.
«Что вы сказали?»
«Очень жаль, Уолтер – очень жаль, что все так случилось с ее отцом и матерью».
Уолтер снова сделал шаг внутрь магазина. В этот раз он показался ему светлее. Он дотянулся до пинты молока и поставил ее на прилавок.
«Я думаю, ты и не догадываешься, что она из Канады».
«Из Канады? Что ж, неплохо», – ответил Уолтер, делая вид, что ему все равно.
«Она приехала в Ирландию с сестрой в этом месяце. Попси встречал их в аэропорту…»
«Откуда Попси их знает?» – спросил Уолтер.
«Я слышал, что Попси был в аэропорту в первый раз и спросил девушку из Aer Lingus, где именно на посадочной полосе люди выходят из самолета».
Продавец фыркнул.
«Ну не тупица ли он, а?» – сказал он.
Уолтер закатил глаза.
«Так что случилось с ее семьей?» – спросил он, забирая сдачу и засовывая молоко за пазуху.
«А они, мой мальчик, – они сгорели в автокатастрофе в пригороде Торонто».
«Это в Канаде?»
«Ай, теперь все, что осталось от семьи, – та высокая девушка, что ты видел, младшая сестра – ее точная копия да старый глупый Попси».
Продавец ухмыльнулся.
«Он жил бобылем всю свою жизнь, а теперь на нем две девочки. Иисус, Мария и Иосиф – что-то еще будет?»
«Да, странные дела, и то правда», – сказал Уолтер.
«Но что-то мне подсказывает, что он справится», – добавил продавец с таким истинно ирландским поворотом – укорить, высмеять и смутить, чтобы в конце полюбить.
«Как твой па?»
«Нормально», – ответил Уолтер.
«Все так же в кресле?»
«Ай, зато как он с ним управляется».
«Ай, таких людей, как твой па, больше не делают. Передай ему от меня привет».
«Ай, конечно», – пообещал Уолтер.
Уолтер выскочил из залитого светом магазина на закатную улицу. Фонарь его мотоцикла горел, отбрасывая паутину желтоватого света на черный асфальт.
Уолтер никогда не разговаривал с Попси, но знал, кто он такой. Тот так и не завел семью. Он жил один в отдаленном фермерском хозяйстве на скалах. Иногда его видели в пабе – обычно летом, – он говорил приятным тихим голосом и приказывал своей собаке лечь на пол. Уолтер не знал его настоящего имени, но ему было известно, что Попси был мастером столярного дела. Отец Уолтера как-то сказал, что Попси делает дерево тверже стали.
Уолтер все ехал под дождем по мокрой грунтовой дороге со своей корзинкой с яйцами в багажнике. Птица упала вниз рядом с ним и спланировала на обочину чуть впереди, чтобы проглотить червя.
Уолтер научился плавать в семь лет на приливной волне под пристальным наблюдением дяди, который жил с ними, пока Уолтер был малышом. Его дядя хотел жениться на девушке не из цыган, родом из Сетлоу, но она оставила его в конце концов ради англичанина, который работал на нефтяной платформе. Однако дядя Иван не выглядел особенно расстроенным, когда она однажды заявилась в табор с новым приятелем на коричневом «ровере». Даже наоборот, дядя Иван смеялся и тряс руку нового приятеля что было сил.
Став постарше, Уолтер понял, что на самом деле дядя Иван приехал жить с ними из-за происшествия с отцом Уолтера, который остался частично парализованным. Он чувствовал свои ноги и даже мог на них стоять (превозмогая боль), но не мог ходить – а стало быть, и работать. Дядя Иван обладал той неуемной энергией, которая позволяла ему выполнять работу двоих за половину времени. Кроме того, он был знаменит. Дядя Иван был единственным цыганом (и ирландцем), который стал олимпийским чемпионом.
Цыган на батуте
Дядя Иван когда-то жил в трейлере, принадлежащем теперь Уолтеру. На стенах висели черно-белые вырезки из газет, выцветшие от времени, на которых было запечатлено невозможное – белая фигура, парящая в воздухе.
Ребенком Уолтер часто замирал перед каждой вырезкой и внимательно рассматривал выражение дядиного лица. На зернистых фотографиях дядя Иван всегда был в белой майке с номером, белых шортах с завязками спереди, тонких черных носках и черных брогах.
Уолтер вспомнил, как учился плавать, свое белое тощее тело, вытянутое в холодной воде. Его дядя подгонял его с берега счетом. Иногда Уолтер натыкался на обмыленные пучки водорослей, качающихся в воде. Ему это не нравилось. Он представлял себе других обитателей моря, притаившихся на дне. Однажды осенью Уолтера укусил в бедро морской угорь. Поначалу ему показалось, будто что-то обожгло ему ногу – может быть, безмозглую медузу занесло с глубины, но, глянув в воду, Уолтер увидел черную голову и невозможно толстое тело, извивающееся между его ног. Уолтер помнил дядины шорты, завязанные поверх раны. Водянистая кровь бежит по ноге и капает с большого пальца вниз.
Дядя пробежал милю вверх по тропинке с Уолтером на руках, потом позвали местного врача. Врач был родом из Северной Ирландии и ездил на «Мерседесе»-универсале. Он смотрел на всех из-под очков. Во время осмотра он посасывал ментоловую таблетку. Вердикт доктора был таков – принести из гостиной черно-белый телевизор и держать мальчика в кровати несколько дней, кормя чем попросит.
Дядя просидел рядом все это время, куря сигареты, подавая ему сосиски и расписывая, какой Уолтер настоящий мужчина теперь, когда он пережил укус угря – страшно даже подумать. Уолтеру до сих пор напоминал об этом шрам – белая изогнутая линия, правда, больше не выпуклая на ощупь.
Потом дядя Иван, бывало, жарил дюжину кровяных колбасок, и они ели их и смотрели вместе телевизор.
Дядя Уолтера любил холодную погоду и держал себя в форме, бегая по утрам в майке и шортах, даже если из-за холода закрывали школу.
Разбитые яйца
Дождь перестал.
Перед Уолтером, словно на картине, раскинулся пейзаж – темно-зеленые полоски живых изгородей, небольшая роща облетевших деревьев, старинные ворота, которые украшали на праздник сбора урожая, белые точки овец на холмах, а затем – полотно моря.
В то утро, когда Уолтер нашел дядю Ивана застывшим в кровати, через открытое окно намело снега, покрывшего все тело дяди. В завещании дядя Иван оставил свой трейлер, мотоцикл и золотую олимпийскую медаль племяннику.
Уолтер смотрел на нитку дыма, подымавшегося вдали над домом его возлюбленной. На груди его, под рубахой, лежала медаль. Он ощущал ее тяжесть на шее, словно предвестие надежды и успеха.
На похоронах дяди Ивана торт был в виде батута. Пекарь соорудил из соломинок каркас, на котором качалась подвешенная фигурка из марципана.
При погребении кто-то зачитал статью из газеты об умершем, напечатанную в 1972 году. Название гласило: «Ирландский цыган парит в полете».
Уолтер почти уже добрался до коттеджа фермера. Он все повторял про себя заглавие статьи голосом священника, зачитывающего на проповеди строки из Библии.
«Ирландский цыган парит в полете».
«Ирландский цыган парит в полете».
Потом он представил заглавие статьи о себе:
«Цыганский герой парит от любви к канадской девушке».
Кожаная куртка Уолтера и его штаны сильно намокли. Он чувствовал, как последние капли дождя отскакивают от его шлема. Он проехал двадцать миль по тучным зеленым долинам. Овцы поднимали свои кучерявые головы, чтобы проследить, как он с шумом проносится мимо. Длинная дорога к холодному фермерскому дому была полна глубоких луж, в каждой из которых отражалась луна маленьким белым якорем и тусклым медом светились далекие окна.
Уолтер представлял, как девушка гуляет по дому, словно прекрасная мысль, навещающая закоулки чьей-то головы.
Уолтер протиснул свой мотоцикл в ворота. Он ощущал ее дыхание на своих губах, ее руки готовы были обвить его черные краги, вырастая из руля мотоцикла. Он представил, как она отбросит корзину с яйцами и, прежде еще чем они разобьются о каменный пол, она прижмется к его губам долгим влажным поцелуем. В темноте он, возможно, еще больше похож на Моррисси.
Заглушив мотор и подкатывая мотоцикл к дому за руль, Уолтер рассудил, что сможет посмотреть на нее через окно, прежде чем он постучит в дверь и спросит дядю Попси самым невинным голоском, не нужны ли ему яйца, оставшиеся с утреннего сбора.
Раннее утро Уолтер провел, выбирая самые лучшие яйца в курятнике и декламируя «Песни Невинности» Уильяма Блейка курам, которые смотрели на него сердито и, кудахтая, убегали в страхе.
Выложив яйца по одному на траву у трейлера, он нашел старую зубную щетку и наполнил ведро теплой мыльной водой.
Уолтер принялся отчищать скорлупу каждого яйца от перьев и прилипших желтых испражнений, когда он заметил, что его мать, отец и маленький братик наблюдают за ним из низких окон своего трейлера. Отец Уолтера сидел в коляске с ребенком на коленях. Мать стояла рядом в пушистых тапочках. Она постучала по тонкому стеклу костяшками пальцев.
«Уолтер, ты что теперь – чистишь яйца?»
«Хочешь чаю?» – прокричал отец из коляски. Однажды, потянувшись за чем-то слишком тяжелым, он неудачно упал. Он лежал на земле несколько часов, пытаясь себе представить свою новую жизнь.
Сначала прилетели птицы и закрыли небо. Потом его обнаружил товарищ по работе.
Доктор из Лимерика уверял, что в течение следующего десятилетия появится технология, которая поставит его на ноги. Ему сказали, что он не парализован – просто какая-то штука с нервными окончаниями. Все говорили, что это от падения со скалы – что его спина была после этого уже не та.
Уолтеру нравилось возить отца на коляске по дороге. Тонкие черные колеса, прокатившись по лужам, блестели на солнце. Завидев их с отцом, водители машин притормаживали и глядели на них пустыми глазами.
В последний раз, когда Уолтер отвез отца в новый супермаркет в нескольких милях от их трейлера, он заметил, что волосы на голове отца стали совсем мягкими. После ланча с пончиками и крепким сладким чаем, по дороге домой, Уолтер чуть не расплакался, глядя на редеющую макушку отца. Его посетило неуловимое ощущение, что сидящая перед ним фигура – король всех отцов, сгорбившийся в своей коляске, – был не отцом Уолтера, а его сыном или братом; что жизнь есть лотерея душ.
Уолтер собрал яйца и продолжил чистить их с прежним рвением в своем маленьком трейлере. Когда каждое из яиц сверкало так, что на скорлупе играло уменьшенное отражение окна трейлера, Уолтер сел на свою «Хонду 450», которую он держал внутри, у своей кровати (совсем не по-цыгански), и закурил одну из любимых сигарет. Ему нравилось, как выглядит его мотоцикл в свете единственной свисающей с потолка лампочки.
Углы потолка комнаты скрадывала густая паутина. Этот трейлер когда-то принадлежал дяде Ивану. Теперь он был собственностью Уолтера, и Уолтер любил его так, как никогда не полюбит ни один другой дом в своей жизни, каким бы прекрасным, дорогим или особенным он ни был.
Уолтеру было девять, когда дядя Иван решил провести свет.
Яйца лежали рядком на столе, касаясь друг друга, что удерживало их от падения на пол. Этот стол когда-то подпирал локти его дяди, который одним очень далеким днем рассматривал лампочку.
Провозившись с проводами несколько часов, пересыпанных ругательствами, дядя Иван медленно ввернул лампочку в ее аккуратный патрон. Он вызвал отца и мать Уолтера из их трейлера. Иван хотел, чтобы Уолтер нажал выключатель, который должен был вдохнуть жизнь в лампочку, но тому не разрешили. Мать Уолтера сказала, что дядя Иван был олимпийцем, но не электриком.
Все захлопали, когда лампочка загорелась от прикосновения к выключателю.
«Что за чудо, – сказал дядя. – Словно кусочек солнца скользнул туда».
«Тебе уже давно пора было провести электричество в трейлер, Иван», – сказала мать Уолтера.
Они некоторое время посидели вчетвером в свете лампочки, пока мать Уолтера наконец не сказала:
«Посмотрите на нас – сидим тут как идиоты».
Дядя Иван встал и нажал выключатель пару раз, а потом они отправились в паб пропустить по паре стаканчиков, которые барменша рада была держать отдельно от остальных стаканов. Надо помнить, что цыганские обычаи чистоты имеют символическое, а не практическое значение.
Уолтер задумался, почему вдруг ему вспомнилась лампочка. И понял, что его сердце тоже – маленькое, яркое и горячее. Он доставит яйца по назначению в тот же день, а не то его лампочка каким-то загадочным образом замигает и погаснет.
Уолтер обернулся и увидел мать, стоящую в дверях.
«Так для кого эти яйца?»
«Ни для кого», – ответил Уолтер.
«Для девушки, ведь так?»
Уолтер кивнул.
Мать поцеловала его в щеку.
«Твой любимый отец так же ухаживал за мной, – сказала она. – Но он ни разу за всю свою жизнь не отчищал яйца».
Она подала Уолтеру чашку чая.
«Только, пожалуйста, не заводи эту свою штуку, пока не наденешь шлем. Никак не пойму, зачем ты держишь его в комнате – твои цыганские предки перевернутся в гробах, если узнают об этом».
По дороге обратно в свой трейлер она прошаркала в домашних туфлях мимо маленького огорода и остановилась, чтобы снять с веревки несколько подсохших носков. Уолтер увидел у нее на спине отпечатки своих промасленных рук.
Спустя минуту он услышал смех из трейлера родителей.
Уолтер представил себе, как мать ложится в кровать с мужем, как она закрывает глаза; малыш сладко спит в кроватке в глубине комнаты. Повсюду разлиты темнота и тепло. На улице снова дождь. Он стучит в окно.
Позже малыш тихо просыпается и играет со своими ножками, наблюдая за плывущими облаками, словно они его добрые друзья.
Уолтер прислонил свой мотоцикл к дереву и подкрался к кухонному окну. Он медленно подтянулся и заглянул внутрь дома.
«О, любовь моя, любовь моя», – ахнул он, впитывая ее своим взглядом.
Уолтер вжался в холодные камни стены, так близко к оконному стеклу, как только было можно. В ее вытянутой руке лежало откушенное яблоко. Белая мякоть его блестела в свете лампы. Она медленно жевала, иногда перебирая свои волосы.
Уолтеру нестерпимо захотелось, чтобы что-нибудь произошло – пожар, потоп, какая-нибудь библейская катастрофа, которая даст ему повод ворваться в дом и спасти ее.
Ее дядя неторопливо разгреб угли в камине и уселся обратно в кресло. Они смотрели черно-белый телевизор, не разговаривая. Увидев, что они оба не отрывают взгляд от экрана, Уолтер протер окно рукавом, но оно запотело изнутри.
По его телу разлилась истома, когда он разрешил себе скользнуть глазом по всей ее фигуре. Ее ноги тянулись вдоль всего стола. Младшей сестры не было видно – может быть, она играет с куклами в спальне, подумал Уолтер. Он представил себе, как она разговаривает с ними, расправляет их одежду маленькими пальчиками и усаживает за столик с пластиковыми тарелками и пластиковой едой, которую она, подбадривая, подносит к их губам.
Его охватило нежное, но сильное чувство, и в одно мгновение он постиг одержимость портретистов, о которой он прочел в книгах своего дяди; трубадуров с их печальными, сгорбленными лошадьми; отчаявшиеся души, гребущие в закатной тишине по неспокойному морю; заблудших скитальцев – опавших цветочных лепестков.
Сила первой любви вскружила юную голову Уолтера. Он был готов пойти пешком до Америки, если бы она назначила ему там встречу.
Откуда нахлынуло это чувство? – думал Уолтер. Ведь он не вкушал ничего от ее тела; между ними не было никаких прикосновений, даже рукавами в толпе они ни разу не касались друг друга. Должно быть, эти чувства по отношению к ней – пожар, полыхавший в разных его членах, – всегда были в нем, ожидая лишь искры.
А потом Уолтеру пришла на ум другая мысль. Может ли быть так, что первая любовь есть единственная настоящая любовь? И когда эти первые пожары тушатся или гаснут сами по себе, мужчины и женщины выбирают себе возлюбленных по расчету, а потом разыгрывают ритуалы и переживания того первого искреннего опыта – раздувают пламя, которое когда-то горело собственным огнем…
Уолтер мысленно объявил свою девственность духовной и решил, что он уже потерял ее с той, которой он до сих пор не был представлен. Физический акт, если ему суждено случиться, будет лишь слепым и неловким подтверждением того, что смертность человека знаменуется разделением души и духа через плоть.
Уолтер задумался, на что еще он может оказаться способен – какие чувства, таланты или прегрешения могут внезапно открыться в нем при определенных обстоятельствах.
Он вспомнил, как ребенком проводил утренние часы в поле за трейлером, наблюдая, как грозовые тучи плывут внизу над долиной. Как он не отрывал глаз от неба, пока стрела молнии не вонзится в землю; сильный ветер, рвущий деревья с размокших берегов, ранний утренний снегопад, словно разорванные в небесах подушки. Уолтер внезапно почувствовал, что все эти вещи составляли часть самой его сути. Что всю его жизнь места, где он рос, были его отражением, формой автопортрета.
И следуя за мыслями в своей голове, которые сбивали воспоминания в понимание, словно молоко в масло, Уолтер подумал об Адаме и Еве, неизбежном падении – во рту запретное яблоко, по губам стекает его сладкий сок; осознание того, что жизнь – скоротечный блеск игры противоположностей, что существование человека есть результат конфликта между физическими и духовными силами, заточенными в смертном сосуде.
Перемены в собственном поведении наполнились для Уолтера новым смыслом.
Если ему удавалось ее увидеть, на другой день он отправлялся в длинные поездки по дорогам, по которым в его воображении она могла гулять. Он мечтал остановиться и предложить ее подвезти.
Уолтер мог ехать милю за милей, покуда хватало полного бака его мотоцикла – сквозь ветер и проливной дождь, который хлестал его по лицу. Потом, в сумерках, он находил заправку и наполнял бак под полным подозрения взглядом кассира из ярко освещенного киоска, где продавались картофельные чипсы, шоколад, вермишель быстрого приготовления, журналы (скабрезные на верхней полке), поздравительные открытки, карты и кровяные колбаски.
Главной опасностью для маленького мотоцикла на проселочных дорогах Ирландии была живность – в особенность овцы, которые, приметив Уолтера на тарахтящем мотоцикле, бросались на дорогу.
Вечер сгустился в ночь. Уолтер дрожал от холода. Дождь перестал, но его одежда промокла насквозь. Он начал замерзать на своем посту у окна.
Когда она смеялась над чем-то в телевизоре, он смеялся вместе с ней. В какой-то момент она повернулась и глянула сквозь стекло, не заметив лица юноши в оконной раме – незаконченной картине с Уолтером.
Книги, прочитанные им, оказались не правы – человек любит не сердцем, а всем своим телом. Каждая его часть оказалась охваченной чувством – он ощущал ее в своих ногах, в кончиках пальцев, представлял вес ее плечей на плечах своих, ее голову – на его голой белой груди. Уолтер знал, что для нее он не пожалеет и жизни. Ему припомнились старые песни, что он когда-то слышал, старинные – времен лошадей, свечей и огромных кусков мяса, шипящих на огне костра. Эти песни были написаны для ушедших в море – высокие сладкозвучные голоса девушек, просящие Господа помочь их возлюбленным вернуться домой. Уолтер представил себя одним из таких мужчин, которого песня привела из замерзшего леса к ее коттеджу – его лошадь бредет по болоту, его руки покрыты волдырями от мокрых поводьев, дыхание на морозе вырывается белым огнем.
Уолтер упал на колени и закашлялся в мокрую траву под ногами. Потом он прислонился к стене, зная, что на другой ее стороне сидит его вечная любовь. Даже не видя ее, он осязал ее тело на стуле. Ему захотелось прикоснуться к себе так, как преподобный отец МакКарти запретил делать юношам в приходе, – и он нарушил бы запрет, если бы не чувство, что этим он осквернит чистоту своей любви к ней.
Он представил себе, как колебания ее голоса касаются его тела, и впился пальцами в землю. Дрожь напряжения пробежала по его телу. Рот широко раскрылся. Но в следующий момент он отпрянул, напуганный увиденной в нескольких ярдах фигурой.
«Святая Мария Богородица!»
«Что ты здесь делаешь», – спросил тихий дрожащий голосок. Он принадлежал маленькой девочке. Младшей сестре, в плаще и оранжевых резиновых сапогах не по размеру. В руке она зажала, головой вниз, пластмассовую куклу без волос.
«У тебя что, нет телевизора дома?» – спросила она.
«Что? Телевизора?»
«Это твой мотоцикл под деревом?»
«Мой что?»
Она повернулась и показала пальцем.
«А, мой мотоцикл – да, он мой».
«Ты не можешь нас покатать?» – спросила она.
«Нас? – спросил Уолтер, затаив дыхание. – Нас?»
Девочка подняла свою куклу.
«Ай, – сказал Уолтер. – Я приглашаю тебя и твою куколку на прогулку».
Глаза девочки расширились от восторга. Она что-то прошептала кукле на ухо.
«Но сначала ты должна мне кое-что рассказать», – добавил Уолтер тихо.
«Хорошо».
«У твоей сестры есть парень в Канаде?»
Девочка снова посмотрела на мотоцикл.
«Эти яйца для нас?»
«Может быть, но сначала ты должна сказать мне, есть ли у твоей сестры парень?»
«Парень?»
«Какой-нибудь ужасный зануда, безуспешно пытавшийся понравиться твоей сестре, даже не подозревая, что он будет недостоин ее даже в самом его чудесном сне. Ты не заметила никого, кто подпадает под это описание?»
«Никого», – сказала она, до конца не уверенная в правильности ответа. Потом голосом, который можно было услышать в доме, она спросила: «Ты влюбился в мою сестру и поэтому принес нам корзину яиц?»
Уолтер на секунду смутился.
«Все не так просто, знаешь, – ты еще слишком мала, чтобы это понять».
«Ты собираешься на ней жениться?»
«Ты это всерьез?» – переспросил Уолтер.
Девочка кивнула.
«Ты думаешь, я ей понравлюсь?»
Она кивнула еще сильнее. «Я думаю, что да».
«Прекрасно для начала! – Уолтер не мог скрыть искренней радости. – Кстати, меня зовут Уолтер».
«А меня – Джейн», – ответила девочка со смущением, свойственным всем детям в разговорах со старшими.
Уолтеру было все равно, что он разговаривал с девочкой восьми или девяти лет. Сквозь холод осенней ночи он слышал, как церковные колокола отмеряли ноты перезвона по городкам и весям, словно семена в поле. Он представил себе серьезное лицо преподобного отца МакКарти, встречающего их у алтаря. Канадская сирота – в белом, словно лебединая королева, в глазах ее – ледники, отражающие его, церковь, прихожан, шелестящий дымок благовоний, головы старух в цветастых шляпах, поникшие, как вчерашние цветы. Он наденет свою мотоциклетную куртку и олимпийскую медаль дяди Ивана.
«Что мне делать, Джейн?»
«На улице немного холодно», – ответила она.
«Так заходи в дом, – сказал Уолтер. – Еще, гляди, простуду подхватишь – не вылечат потом».
Он тут же пожалел о своих словах, вспомнив, что случилось с ее родителями пару месяцев назад.
«Мне очень жаль, что ты потеряла своих родителей».
Джейн усадила куклу на землю.
«Не переживай, Джейн – они на небесах, и когда ты проживешь свою долгую жизнь, заведешь своих детей, ты снова их увидишь, так что не переживай – они не умерли, они просто сейчас не с нами».
Джейн зашла в дом вместе с куклой.
Уолтер услышал скрип задвижки и предположил на секунду, что она расскажет все своему дяде – тогда его присутствие обнаружится и ему придется объяснять, чтó он здесь делает.
Он представил себе, как ее дядя выходит на крыльцо в черных сапогах. На его добром лице отражается презрение. Джейн показывает на сгорающий от стыда, вспотевший комок мальчишеских нервов в кустах под окном. А за ними и его возлюбленная – исполненная смущения и отвращения, изучающая его издали, с накинутыми на плечи, словно два сложенных черных крыла, концами шали.
Что ему останется сказать? К следующему воскресенью весь городок будет знать его как любителя подглядывать.
Но любовь нельзя объяснить, подумал про себя Уолтер, и с неунывающим тщеславием молодости он поверил в глубине своего юного сердца, что этих трех слов будет достаточно для защиты перед молвой.
«Любовь объяснить нельзя, – сказал он вслух. – Этим ее можно только убить».
Не осмеливаясь снова заглянуть в окно, Уолтер решил, что уйдет, но позволит себе вернуться. Он обронит одну из своих перчаток на крыльце, куда поставит корзину с яйцами – тогда ему придется за ней вернуться. Он уже вставал, когда снова скрипнул запор.
Его сердце каменным шаром скатилось в низ живота.
«Я одна», – прошептала Джейн. Она всучила Уолтеру чашку чуть теплого чая.
«Господи Иисусе, – сказал Уолтер, глотая чай большими глотками. – Ты просто звездочка, Джейн, но напугала ты меня чертовски сильно».
А в доме дядя Попси безуспешно пытался отыскать чай, который он оставил на столе в комнате минуту назад.
Когда Уолтер выпил чай, Джейн указала в ночную темноту за коттеджем.
«Теперь мы должны пойти к морю», – сказала она, и Уолтер заметил, что в одной из ее маленьких ручонок висели два красных ведерка, которыми дети строят замки на песке.
«К морю? Зачем, Джейн?» – спросил Уолтер.
«Затем», – ответила она. «Одну меня не отпускают».
«Но ты меня совсем не знаешь».
«Конечно, знаю», – решительно сказала Джейн.
Уолтер вздохнул: «Ты хочешь пойти туда прямо сейчас?»
Джейн кивнула.
«В темноте?»
Джейн снова кивнула. «Прямо сейчас и надо», – сказала она и махнула рукой на луну.
«А как же твой дядя?»
«Он смотрит телевизор с моей сестрой, – сказала Джейн. – Давай поедем на твоем мотоцикле».
«Нет».
«Пожалуйста!»
«Абсолютно исключено».
Джейн взглянула на него. Потом подняла свою куклу к лицу Уолтера, глаза в глаза.
«Пожалуйста, – сказала кукла, не разжимая рта, – не будь таким занудой».
«Господи, Джейн, – это будет слишком громко».
Джейн опустила взгляд. Ее нижняя губа выкатилась чуть вперед.
«Хорошо, хорошо, – сказал Уолтер. – Но если мы идем, то только пешком».
Джейн хлопнула в ладоши и прошептала что-то кукле на ухо.
«Ну давай, – сказал Уолтер. – Ты уверена, что оделась тепло?»
Но Джейн уже была на пять шагов впереди – ее маленькое тело дрожало от захлестывающего желания и перехватывающей дыхание скорби.
Их путешествие было непростым, ведь путь к морю был полон опасностей. Часть пути им пришлось держаться за руки, больше веры в дорогу полагаясь на свою смелость.
Джейн
Она сидела на красном полотенце, глядя на море. В отражении стекол ее солнцезащитных очков медленно проплывали люди, нагруженные сумками и пляжными стульями. Скоро будет пора собираться домой.
Песок под полотенцем принял очертания ее тела. Она бросила взгляд на свои ноги. Они были не в той форме, как хотелось бы, но ей казалось, что для своего возраста она была еще весьма привлекательной. Испаноязычные работники гастронома под ее квартирой заигрывали с ней, когда у них выпадала свободная минутка. Она подозревала, что молодые девушки в офисе – практикантки и секретарши – скорее всего, считали ее старой. Она не чувствовала себя старой. Хотя иногда у нее болели ноги. Если раньше она дышала полной грудью, то теперь она стала жизнью дорожить. Она чувствовала, как жизнь становится все тише. Ее жизнь, словно конец вечеринки: за длинными неубранными столами остались редкие люди, уставившиеся на свои бокалы, пустые стулья и друг на друга.
Лето заканчивалось, и семьи отправлялись из Ист-Хэмптона обратно в Нью-Йорк. Очереди в кафе поредели, и проблема с парковкой на главной улице ушла в прошлое.
В стороне, у кромки воды, сидели дочери Джейн – тинейджеры, обсуждающие мальчиков и другие секреты, известные только сестрам.
Джейн была близка со своей сестрой.
Они были очень похожи.
И хотя Джейн приобрела несомненный ирландский акцент, ее сестра так и не избавилась от канадского говора. Они обе были блондинками, и летом по очереди заплетали друг другу косички в саду, пока дядя Попси собирал листья салата и насвистывал.
Дочери Джейн были тоже близки.
Они обе ходили в школу системы вальдорфского образования и каждый день вместе сидели за столом на ланче. Джейн чувствовала, что ее дочерям начинает открываться мир. Телефон на кухне теперь не умолкал, а портье уже познакомился весьма близко с несколькими молодыми людьми. Джейн одобряла только тех из них, кто смущался при встрече с ней.
Жизнь ее дочерей была очень яркой – все было как в первый раз.
Корни ее собственной жизни вросли глубоко в землю, придавая ей уверенность. Джейн ощущала в себе силу и внутренний стержень, дающие ее детям надежный и верный приют. Место покоя, когда они сидели за кухонным столом и говорили о вещах, от которых хотелось плакать.
Ее дети были для нее важнее всего на свете.
Приют материнской любви был для Джейн избитой темой для размышлений, ведь ее родители погибли в автокатастрофе, когда она была совсем маленькой. А два года назад ее старшая сестра умерла от рака в Лондоне. У мужа Джейн случился приступ на похоронах, и его отвезли в больницу в районе Кингс-Кросс. Он очень любил сестру Джейн.
Джейн всегда казалось, что ее сестра так и не смогла свыкнуться со смертью родителей, словно часть ее самой умерла в то далекое утро, когда на шоссе под Торонто разбросало обожженные останки автомобиля.
Из первой машины, обнаружившей аварию, можно было увидеть только несколько языков пламени в разных местах – что-то в этом было зловеще неправильное. Не было видно людей. Этот образ Джейн представляла себе каждый день. Года, словно плуг, вскрывают истинную сущность вещей и событий. Но мудрость нам даруется только тогда, когда все уже прошло и мы уже не в силах ничего изменить. Словно пленка жизни запущена задом наперед.
Джейн понимала, что дочери должны сами выучить этот урок, а потому у нее был для них только один совет.
Она смотрела на них, сидящих у кромки воды.
Смех.
Чайки, пикирующие в бесконечном поиске объедков.
Бьющий на ветру парус лодки на горизонте, вобравший последний свет дня, будто золотой самородок.
Однажды, подумала Джейн, этот миг будет далеким прошлым.
Джейн знала, что мудрость в том, чтобы понять, когда нужно отдать всю себя, знать тот самый верный момент, когда нужно отдать все, осознать, что ты сделала, и никогда не жалеть об этом. Дорога к бессмертию пролегает через любовь, думала Джейн, а не поклонение Богу, как ее учили в Ирландии.
И она чувствовала, что история всей ее жизни каким-то образом состояла из всех тех, с кем ей довелось столкнуться: с кем-то на долгие годы искренней дружбы, а с кем-то – на мгновение в переполненном лифте.
Джейн промокнула глаза и заметила ребенка, стоящего на краю ее полотенца с красным ведерком.
У девочки были красивые глаза. Ее животик торчал вперед. Красное ведерко было наполнено морской водой. Джейн протянула к девочке руку, но та повернулась и убежала.
А над ней пара редких облаков уцепилась за небо. Они висели далеко в море, наблюдая жизнь людей, собравшихся на краю земли.
Красное ведерко напомнило Джейн об Уолтере, о том, как он позвал ее, когда она добралась до края поля, давным-давно, в Ирландии. А потом – его большую, грубую руку, которая, хотя она этого тогда не понимала, была еще совсем юной рукой.
На пляже было темно, и песок был тяжел, пропитанный отливной волной. Дождь все моросил, словно ненужное напоминание о чем-то, еще не забытом.
Уолтер побежал к кромке воды, Джейн вспомнила тот момент страха, когда он пропал в темноте – но вскоре он снова был рядом с ней. Он собрал ракушки и высыпал их в ее маленькие ладошки.
Она рассказала ему о матери и отце, а он слушал и один раз поцеловал ее в лоб, уверяя, что они никогда совсем ее не оставят – что люди, как маленькие рыбки, иногда просто остаются в тихих лагунах между камней, когда приливная вода уходит.
Джейн задумалась, кого он имел в виду – кто остался между камней, – она или ее родители.
«А если ты когда-нибудь почувствуешь себя совсем одинокой, Джейн, – сказал Уолтер, когда они возвращались домой, неся в красных ведерках луну, – прислушайся к шуму моря – в нем ты услышишь всех тех, кто уже был, и тех, кто еще будет».
Джейн вспоминала его слова длинными вечерами в коттедже, где она провела следующие пятнадцать лет.
Были ночи, когда ей казалось, что если прислушаться что было сил, она могла услышать голоса матери и отца, зовущие ее из того места, где они теперь обитали.
Были и такие пробуждения, когда за мгновение до того, как открыть глаза, она забывала, что их больше нет; тогда, как всем оставленным на этой земле, ей приходилось начинать все сначала. Ведь, несмотря на все пережитое, каждый из нас должен быть готов начать все сначала, пока не приходит черед кого-то другого начинать все уже без нас, а мы наконец окончательно освобождаемся от страданий любви, боли привязанности – цены, которую мы платим за право быть частью жизни.
Глядя на лениво катящееся за горизонт солнце, Джейн встала и сняла очки. Она отряхнула с ног песок. Ее глаза опухли от слез. Она пошла по теплому песку к воде, туда, где сидели ее дочери.
Увидев ее, они подвинулись, освобождая ей место между ними, – она села, исполненная одновременно радости и испуга от того, что она собиралась рассказать им, что самое лучшее и самое худшее в жизни приходит от умения любить незнакомцев.
И они подумают, что она говорит об отце, об Уолтере, который вырос в цыганском трейлере на скале, кто каждое Рождество дарит матери дюжину яиц, начищенных им в раковине в сочельник, в то время как они, его дочери, разговаривают с друзьями по телефону, помогают наряжать елку мишурой или глядят в окно на тающие тени, на радостную грусть вчерашнего дня, на обещание дня завтрашнего.
Город деревьев на ветру
I
Однажды Джордж Фрэк получил письмо. Оно пришло из очень далекого места. На марке красовалась птица. Крылья птицы замерли, раскрывшись в полете. Она парила высоко над лесом, тельце в красную крапинку. Джордж задумался, летит ли эта птица куда-то или возвращается домой.
Поначалу Джордж подумал, что письмо было доставлено ему по ошибке, но на конверте стояли его имя и адрес места, где он жил.
Потом он открыл письмо и достал страничку, исписанную синими чернилами, и фотографию маленькой девочки с каштановыми волосами. На девочке было синее платье из полиэстера с рисунком из мелких красных сердечек. В волосах – розовая заколка. Крохотные ручки.
Почерк изобиловал закруглениями, словно каждая буква была маленькой чашкой, удерживаемой на странице весом вложенного в нее смысла.
Когда Джордж прочитал страничку, его рот раскрылся и из горла вырвался глухой стон.
Он поднес бумагу к лицу и перечитал еще несколько раз.
Страница выпала из его рук, и он огляделся, будто из каждого пыльного угла квартиры за ним наблюдали люди.
На каминной полке стояла единственная фотография его двоюродного деда, месье Сабона, который, как и Джордж, прожил одиноко в тихом квартале городка, где он родился.
Джордж стал бродить из комнаты в комнату, без всякой цели, взвешивая в уме слова из письма, пытаясь привести свои мысли в порядок.
Когда Джордж оказался на кухне, он автоматически потянулся к чайнику. Возможно, оттого, что он был сам не свой, Джордж умудрился уронить его на пол. Поднимая осколки, он понял, что не может унять дрожь в руках, и порезал себе пальцы в нескольких местах.
Кровь потекла на разбитый фарфор, большие капли упали на белую поверхность раковины.
Джордж уселся на край ванны и замотал себе пальцы старым бинтом. Он представил себе, как пишет на каждой белой полосе бинта историю своей жизни. Какие слова он подберет; напишет ли он неправду; оставит ли он пустые места для дел, которых он не совершил, людей, которых он ждал и не дождался?
Джордж сел на крышку унитаза. Он просидел так два часа, разглядывая свои забинтованные пальцы. Когда у него закружилась голова, Джордж разделся и забрался в кровать. Кровь просочилась сквозь бинты и оставила следы на простынях.
На улице завыла пожарная машина, меняя тон на ходу – одна сирена при приближении, другая при удалении, и поймать момент перемены невозможно.
Джордж заснул еще до темноты. По всему городу зажглись огни на кухнях, встречая вернувшихся домой людей. Когда Джордж погрузился в первый сон, неизвестный ему мир продолжил вращение. Мужчины в толстых пальто выгуливали собак у парадного входа его дома. Женщины засыпали перед телевизором или продолжали бодрствовать без всякой на то причины. И как в любом городе, были дети, которые смотрели кротко в окно на дорожки и тропинки своего детства, а в головах их собирались маленькие вопросы и проливались тихим дождем, от которого к утру не останется и следа.
Когда Джордж открыл глаза на следующий день, они были полны слез. Его тело затекло. Он расправил руки и ноги, словно просыпаясь от спячки.
Небо за окном сияло ярко. Желтый свет пробивался сквозь прорехи в занавесках и рисовал причудливые узоры на кровати. Они пропадали и снова появлялись по воле проплывающих облаков.
Сначала Джорджу показалось, что это продолжение его сна, но вскоре реальность захлестнула его волной. На столе он заметил уголок конверта. Рядом с письмом должна быть фотография маленькой девочки.
По краю раковины пунцовыми каплями засохла кровь Джорджа. На полу лежали нетронутыми осколки чайника, словно останки древней цивилизации.
Джордж не пошел на работу, и никто не позвонил, чтобы узнать, что с ним стряслось.
Время от времени он проверял адрес на конверте, чтобы убедиться, что письмо действительно предназначалось для него. Потом он смотрел на фотографию. Потом снова перечитывал письмо.
Он пролежал в постели до темноты, не встал и на второй день, глотая каждые несколько часов таблетки от бессонницы слабого действия; его то и дело одолевала дремота, приносившая с собой воспоминания детства.
Джордж проснулся среди ночи, в поту и тяжело дыша. Еще несколько мгновений он был под шлейфом своего сна, уверенный в том, что он умер и родился заново, чтобы снова прожить свою жизнь, но в этот раз – помня все то, что случилось и что должно было случиться с ним. Он задумался, какой станет его жизнь, если он будет заранее знать каждую деталь каждого события? Эта мысль унесла его в объятья другого сна.
Когда Джордж наконец проснулся, в полдень следующего дня, он просидел целый час в кровати, приводя в порядок мысли, словно разрозненные кусочки нескольких мозаик.
Он снова лег на подушку, и сквозь легкую дрему кусочки сложились сами собой, и книга воспоминаний его детства распахнулась. Джордж услышал ключ отца в замочной скважине входной двери. Дома, после работы. Его костюм будет измят офисным креслом. Маленький Джордж сидит без движения в комнате, залитой магическим сиянием телевизора. Он хочет, чтобы его нашли. Он хочет, чтобы его подхватили, словно камешек из реки, оказавшийся драгоценным. И каждый вечер, когда его отец возвращался с работы, Джордж сидел затаив дыхание, как дублер, наблюдающий из-за кулис. Он жил в предвкушении своего грандиозного выхода.
Потом, во сне, Джордж тянется к телевизору, чтобы прибавить звук, когда крики становятся нестерпимыми. Если бы только они развелись. Он видел детей в школе, покалеченных нехваткой родительской любви, пустые оболочки, когда-то полные жизни. Джордж же сгорал от стыда, мечтая всего лишь остаться наедине с родителями в парке пасмурным днем, у пруда с утками.
Вместо этого Джордж провел свое детство маленьким спутником их печальной планеты.
Потом он ушел из дома. Его родители оставались вместе, пока однажды отец не спрыгнул с крыши небоскреба, где он работал. Джордж представил себе, как развевается его плащ, затем удар, согнутые под неестественным углом руки и ноги; обступившие люди, не верящие случившемуся; чей-то испорченный день.
Джордж плакал на похоронах, но не от того, что отец умер, а от того, что он так и не узнал его. Если скорбь можно было измерить, то этот уровень лишь чуть не дотянул бы до чувства вины.
На третий день после получения письма Джордж лежал на спине и изучал трещины на потолке. Он представлял себя путешественником, пересекающим крошечную арктическую равнину.
Потом он заснул и увидел это во сне.
В конце путешествия по снегам его ждала маленькая девочка с фотографии, в платье с сердечками. Во сне все сердечки пульсировали. Когда Джордж подобрался поближе, он увидел, что у нее крылья, как у бабочки. Каждый раз, когда он пытался дотронуться до девочки, она смеялась и отлетала в сторону. Звук ее смеха наполнил его сердце радостью. Джорджу удалось задержать это чувство на несколько мгновений после пробуждения. В его сердце поселилась маленькая частица этого приключения, которого никогда не было.
После обеда Джордж выпил чаю в тишине своей спальни. Он оттер пятна крови и принял душ несколько раз подряд, каждый раз концентрируясь на одной из частей своего тела. Затем он вымел мусор из квартиры и выкинул много старых вещей, которые когда-то имели для него ценность.
На пятый день Джордж сел у окна спальни, глядя на задние дворы, полные голых деревьев, детских игрушек и ополовиненных кадок с землей для растений.
Хотя он жил на городской улице, в глубине его квартиры, где Джордж проводил вечерние часы, было тихо. Иногда до него доносился лай соседской собаки, скребущейся тихонько в заднюю дверь. По какой-то причине эти звуки успокаивали Джорджа, в то время как злобный лязг автобусов, проносящихся мимо его парадных окон, раздражал и угнетал его.
Десять лет назад, после окончания университета, Джордж постепенно потерял интерес к жизни своих друзей. Вид мигающего красного огонька на телефоне, означающий оставленные для него сообщения, вводил его в тоску. Он не посещал встреч выпускников и намеренно забыл все дни рождений. Его жизнь пошла не так, как он себе представлял. Он не остался с женщиной, которую любил (она была замужем и жила в Коннектикуте). Его мать умерла за кухонным столом, не допив свой чай. У него появились необъяснимые боли в руках. Его сестра осталась одна, матерью ребенку с синдромом Дауна (по имени Доминик). Работа Джорджа не представляла интереса, и ему казалось, что вся его жизнь – не больше чем короткая вспышка света в истории вселенной, которая будет мгновенно забыта.
Уже несколько лет Джордж жил без телевизора. Когда он смотрел на экран, то чувствовал себя потерянным и одиноким. В местном отделении почты недавно повесили телевизор на стену, в попытке успокоить людей, подолгу ожидающих своей очереди. Джордж стал покупать марки в другом месте, продолжая избегать голосов, которые, по его мнению, ничего не знали, но при этом не умолкали.
Однако соседи Джорджа любили его. Его квартира располагалась на верхнем этаже дома для престарелых Гринпойнта; она была единственным жилищем, которое не относилось к «дому». Изначально эта квартира, естественно, предназначалась для медсестры-сиделки, но благодаря коктейлю из современных лекарств обитатели дома больше не нуждались в профессиональной помощи. Иногда до Джорджа даже доносились звуки интимного характера, или редкая ссора, или рыдания – если он прислушивался, приставив к стене стакан.
Предыдущий жилец его квартиры, которого все еще обсуждали в холле, когда от него приходило письмо, был столяром-поляком – он пробивал дырки в стенах, а потом проводил полночи, заделывая их, что-то разрезая, пиля и зачищая.
Джордж Фрэк был не лишен интересов. Он любил:
1. Большие китайские воздушные змеи
2. Сидеть у окна в халате с коробочкой изюма в шоколаде
3. Европейские фильмы «новой волны» (в Гринпойнте их можно было посмотреть только в маленьком кинотеатре Eric and Burt’s)
4. Гороскопы
5. Вельветовые мокасины
6. Пить кофе из термоса в парке, когда вокруг никого нет
7. Свою коллекцию фигурок Снупи со всего мира (китайский Снупи, арктический Снупи, русский Снупи, австралийский Снупи и т. д.)
8. Песни Дэвида Боуи
9. Кота по имени Годар (которое произносилось Года́р), которого уже не было в живых
10. Сильный снегопад, нарушающий все планы
Последние серьезные отношения у Джорджа были с Годаром, уличным котом, который однажды появился около их дома и стал ластиться к прохожим. Они спали под одним одеялом, и иногда Джордж просыпался и находил лапу Годара на своей руке. Проведя почти год в доме для престарелых Гринпойнта, Годар исчез одним воскресным утром, когда Джордж пошел покупать апельсины и селедку. Кот протиснулся в приоткрытое окно и аккуратно спустился по пожарной лестнице.
Спустя пару минут Годара раздавил автобус. Кто-то положил его в коробку из-под обуви – его тельце лежало в ней, словно мешочек со сломанными деталями.
Вечером того дня, когда Годар попал под автобус, Джордж разделся догола и стоял на краю пожарной лестницы, пока не стемнело и один за другим не загорелись огни квартир. Потом один из соседей заметил голую фигуру на лестнице и закричал. Одно дело – самоубийство, но устраивать сцену не входило в его планы. Джордж забрался внутрь. Потом лег в кровать. Его традиционный ужин, состоящий из коробочки изюма в шоколаде, остался нетронутым. Апельсины остались там, куда они раскатились из брошенного пакета.
Джордж сидел очень тихо в деревянном кресле у окна в спальне и держал в руках письмо и фотографию маленькой девочки. Он вспомнил, как Годар терся о его ногу своей головой.
После недели в квартире наедине с собой он увидел, как на окраине города налилась черная туча и разразилась гроза. Джордж смотрел из своего окна на надвигающуюся гряду облаков, плотную, без малейшего разрыва. Деревья нагибались, словно придавленные невидимой рукой. Свет фонарей подсвечивал идеальные колонны дождя.
Машины притормаживали у обочин. Зонты выворачивались, словно рвущиеся на свободу осьминоги.
Джордж встал со стула и пошел к шкафу за одеялом. Свет на кухне был очень приятен на фоне потемневшего дня. Он зашел уже было на кухню, но передумал заваривать чай и вернулся в спальню, где собирался устраиваться на ночь. Было шесть часов вечера.
Он сел на стул и расправил одеяло на коленях. На нем были любимые вельветовые туфли и халат. Дождь тихо стучал в стекло, увеличивая, как в лупе, дворы за окном в полосах бегущих капель. Крыши домов блестели мокрой чернотой, а в небе висели без движения крошечными каракулями птицы.
Джордж посмотрел на фотографию. Девочка на снимке будет улыбаться вечно. Он подумал, что каждая фотография – это обман, щепка, отлетевшая с дерева произошедшего. Тучи перебрались с одной стороны неба на другую. Сегодня стемнеет, как никогда, рано. Джордж прижал фотографию девочки к щеке. Он представлял себе, что ему известны ее нежные фантазии. Потом ее сердце забилось у него внутри, и он внезапно ощутил тягу к этому ребенку, дочке, которая объявилась по почте, – в платье из маленьких сердец, из города деревьев на ветру: места, где его образ вызывался десятки тысяч раз в воображении маленькой головки на подушке, попеременно с надеждой и разочарованием.
II
После грозы мокрый город накрыла ночь.
Джордж так долго оставался неподвижным в тот вечер, что его лицо отпечаталось в окне перед ним. Сквозь это лицо огни города в ветреной дали подмигивали ему. Джордж наклонился вперед. Фигура перед ним наклонилась ему навстречу, словно готовясь выслушать секрет. Джордж представил себе ручонки дочери на своем лице, как руки слепого, ощупывающие новое место. Он задумался, что сделает его дочь.
Дотронется ли она до его лица?
Будет ей интересно узнать истории, прячущиеся в уголках его глаз?
Покажется ли оно ей симпатичным?
Может быть, она увидит в нем себя.
И потом, спустя некоторое время, может быть, оно станет для нее близким – лицом, которое она будет рада видеть, которое успокоит ее ночью, когда она проснется от плохого сна.
Джордж разорвал пакетик изюма в шоколаде и начал есть, медленно пережевывая каждую изюминку. Он решил написать письмо сестре. С того момента, как он получил по почте фотографию маленькой девочки, в нем снова зашевелилась любовь к сестре – любовь, погребенная под обломками его жизни. Подростками они мало разговаривали, но иногда держались за руки в машине или вместе готовили еду, слушая Дэвида Боуи, когда их мать лежала в прострации на диване, все еще сжимая горлышко бутылки.
Однажды на Пасху Джордж оставил под дверью ее спальни несколько рисунков с кроликами. Когда он позже нашел их в мусорном ведре на кухне, Джордж ворвался в комнату сестры, схватил яйцо, которое она украшала, и растоптал его.
Только став уже взрослой женщиной, сестра Джорджа поняла, насколько он уважал ее и следовал ей во всем и насколько одиноким он должен был себя чувствовать без ответа с ее стороны. Но к тому времени Джордж уже совершенно пропал из ее жизни.
Джордж задумался о том, что он напишет сестре в письме. Он нашел ручку и немного бумаги в ящике и сел за письменный стол. Он хотел включить настольную лампу, но в ней не было лампочки. Потом он вспомнил, что в кладовке под лестницей хранились две коробки с лампочками. Он поднялся, чтобы принести одну из них.
Пару недель назад, возвращаясь с работы, Джордж прошел мимо витрины, показавшейся ему витриной магазина. За стеклом лежали упаковки подгузников, пыльные игрушки в выцветших коробках, ворох женской одежды и три грязноватых коробки с лампочками, напомнившие ему о том, что пора было пополнить запасы.
Однако, когда он попытался войти в магазин, дверь оказалась заперта. Он отступил назад, чтобы рассмотреть часы работы, и в это время в двери открылось окошко и показалась голова.
«Да?» – сказала голова.
«Почем эти лампочки?» – спросил Джордж.
Голова уставилась на него с подозрением.
«Какие лампочки?» – сказала она.
«Лампочки на витрине – в какую они цену?»
Лицо в окошке напряглось, приняв рассерженный вид, потом исчезло, оставив окошко открытым.
Через мгновение оно было на прежнем месте. Оно с интересом разглядывало Джорджа Фрэка.
«Так в какую они цену?» – спросил Джордж.
Лицо рассмеялось.
«Доллар», – сказало оно.
«Каждая лампочка или за коробку?»
«За коробку».
«Отлично, – сказал Джордж. – Я возьму две».
«Хорошо, – ответило лицо, – с вас два доллара».
«А как же налог?» – спросил Джордж.
«Хорошо, два доллара и девятнадцать центов», – сказало лицо и снова рассмеялось.
Неделю спустя полиция произвела в магазине обыск, и его забили досками муниципальные работники с сигаретами в уголках рта.
Джордж нашел две коробки с лапочками в кладовке под лестницей, где он их и оставил. Он достал одну лампочку для настольной лампы. Она загорелась прежде, чем Джордж закончил ее вкручивать.
Потом он начал письмо к своей сестре.
Она растила в одиночку сына по имени Доминик, рожденного с синдромом Дауна. Джордж не разговаривал с ней со дня его рождения. Все, что он знал, – его племянник был зачат однажды ночью, на лыжном курорте в Канаде, с мужчиной, у которого была семья. Когда Джордж написал имя своей сестры, он понял, что Доминик даже не представляет себе, кто Джордж такой.
«Дом для престарелых Гринпойнта Пентхаус
Дорогая Хелен,
Я знаю, что никогда не писал тебе прежде подобным образом никогда, но я хотел сказать, что я еду в Швецию. Я также хотел пояснить, что не писал тебе из-за сожаления о твоей поломанной судьбе.
Сегодня днем я сидел у окна и смотрел на дождь. Я думал о своей жизни – но не так, как обычно. Мне кажется, что мне больше не жаль тебя, Хелен, или нас, если уж на то пошло.
Пока я сижу здесь, жизнь идет где-то там без меня.
Если бы не событие, произошедшее со мной пару дней назад, я бы никогда не понял, что твоя жизнь с Домиником – пусть и не лишенная порой трудностей – наполнена радостью, которая нам с тобой была в детстве неизвестна.
Однажды, совсем скоро, я приеду к вам в гости.
Хорошо?
Ты увидишь свет фонарей моей машины на дорожке к дому. Я привезу продукты из магазина в белых полиэтиленовых пакетах. Может быть, мы что-нибудь приготовим втроем… как мы когда-то готовили детьми. Не могу сказать, что получалось вкусно, но ведь дело було было не в этом, и вообще – не кажется ли тебе, что качество продуктов улучшилось с тех пор, как они встроили автоматические оросители в прилавки с овощами?
Не могу сказать тебе точно, когда мы увидимся, но точно до конца этого года.
Сначала мне нужно кое-что сделать – куда-то поехать, кого-то встретить, кем-то стать.
Оказывается, я – самый важный человек на свете для одного создания, о существовании которого я и не подозревал.
Пожелай мне удачи…
Твой брат,
Джордж Майор Том
P.S. Мне почему-то кажется, что мой паспорт лежит в коробках с мамиными вещами, которые хранятся у тебя. Не можешь ли ты послать мне его как можно быстрее? ЖИЗНЬ НЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ ОТ ЭТОГО.
P.P.S. У меня был кот, но его раздавил автобус. Жаль, что Доминик его не увидел – они могли бы вместе играть.
P.P.P.S. Я сожалею о том, что не сделал, а не о том, что сделал, – странно, правда?
ppppp. Последнее слово: Ты все еще любишь Дэвида Боуи?
Прикладываю две коробочки изюма в шоколаде».
Потом Джордж зачеркнул свое имя и написал «Майор Том».
Через несколько дней ему позвонили из отдела кадров с работы. Они называли его мистер Фрэк. Он попросил их называть его по имени, но они не обратили на это внимания. С ним одновременно разговаривали два человека по одной линии, и не раз становилось непонятно, кто разговаривает с кем. Джордж разглядывал свои вельветовые мокасины. Десять минут спустя трубку взял его начальник. Судя по звукам, он что-то жевал. Он был мужланом из пригорода и ковырялся в носу, когда ему казалось, что его никто не видит.
Джордж сказал, что не знает причину их звонка. Начальник поинтересовался, не шутит ли он. Потом он сказал Джорджу, что его увольняют. Джордж вздохнул.
«Ну что ж, пусть так, – сказал Джордж, – я все равно уезжаю на время в Швецию».
После паузы его начальник спросил:
«Это еще что за место такое?»
«Где-то в Скандинавии – или около», – ответил Джордж, оглядываясь в поисках открытой коробочки изюма.
Через неделю пришел его паспорт. В посылке были:
1. Пара варежек на взрослого человека.
2. Детский рисунок кита с надписью «Удачи!» на боку желтым и синим мелком.
3. Письмо от сестры.
4. Список блюд, которые они готовили вместе в детстве.
5. Один из трех рисунков, спасенных из мусорного ведра после инцидента с пасхальным яйцом.
Письмо от сестры начиналось обращением к «Майору Тому» и было подписано «Центр Управления Полетами».
Короткий постскриптум гласил: «Ты по-настоящему набрал новую высоту».
III
По дороге в аэропорт сломалось такси Джорджа. Водитель выругался на хинди, сорвал с панели пластмассовую фигурку божества и разразился проклятиями в ее маленькое лицо.
Джордж наклонился вперед и объяснил таксисту, что у него есть дочь, которую он никогда не видел, что она ждет его и что у него был единственный шанс ее разыскать. Водитель поцеловал фигурку и поставил ее на место, затем открыл дверь и выбежал на шоссе Бруклин-Квинс, размахивая руками. Джордж заметил на ногах таксиста мокасины – из лакированной кожи.
Несколько машин занесло при торможении, и они чуть не задели грузовик, развозящий «Волшебный хлеб». Водитель хлебного фургона выпрыгнул из кабины и уперся грудью в лицо таксиста. Машины позади внезапно перестали гудеть. Когда показалось, что водитель фургона вот-вот ударит таксиста, они обменялись рукопожатием. Машины снова начали гудеть.
Джордж перебрался в хлебный фургон. С зеркала заднего вида свисал маленький пуэрториканский флажок. Водитель фургона лихо менял полосы, словно сшивая полотно дороги. Он курил сигареты одну за другой. Банка с «Ред Буллом» выпала из держателя и разлилась на вельветовые туфли Джорджа. Водитель рассмеялся. Джордж слышал, как по фургону летает хлеб, ударяясь о стенки с глухим стуком.
Когда они добрались до международного аэропорта Ньюарка, водитель фургона посмотрел на Джорджа и крикнул: «Ну давай, давай, торопись, паршивец».
Джордж схватил сумку и выпал из кабины, потом помчался в сторону терминала.
У девушки на регистрации был стеклянный глаз. Она сказала Джорджу, что у него есть пять минут, чтобы добраться до нужного выхода на посадку. Потом на электрокаре появился громадный афроамериканец с очками в золотой оправе с ненастоящими бриллиантами. Он посадил Джорджа на свою тележку, и они понеслись к месту посадки, распугивая пассажиров.
Когда самолет набрал высоту, пассажиры вокруг Джорджа стали засыпать – словно люди, которых тянет на дно сосудов своих жизней.
Джордж вспомнил дорогу в аэропорт. Он никогда больше не увидится с этими людьми. Любовь возникает между незнакомцами за секунды, но может длиться всю долгую жизнь.
Потом он вспомнил ночь, проведенную шесть лет назад на остановке для грузовиков в штате Нью-Йорк с администратором отеля из Швеции. Это была единственная ночь, проведенная ими вместе, – ночь свершений. Подумать только, что эта случайная ночь со случайным попутчиком в случайном месте дала жизнь самому драгоценному созданию во всем мире.
Шесть лет назад у Джорджа случился нервный срыв. Вместо того чтобы вызвать «Скорую» и дожидаться врача в нижнем белье на диване, Джордж решил отправиться на свадьбу своей бывшей подружки в Массачусетс и броситься на свадебный торт, когда его вынесут гостям. Он представил себя арестованным и отправленным в лечебницу. Представил себе удовольствие сидеть в халате на скамейке у цветника с розами, пока мимо, словно лебеди, проплывают медицинские сестры.
Свадьба была назначена на субботнее утро. Джордж выехал в пятницу и ехал, пока хватало сил терпеть пробки. Когда силы закончились, он съехал с шоссе и пристроился за машиной впереди. Ему стало интересно, кто был в этой машине, какую жизнь они вели. Он знал, что никогда не увидит их лица, и их огни скоро затеряются на дороге, назначения которой он не мог себе представить.
В этот момент Джордж заметил красную неоновую вывеску:
RED’S, С 1944 ГОДА
Он запарковался и зашел внутрь.
Официантки были одеты в белые рубашки с воротниками в оборках и черные жилетки. На всех столах стояли пластиковые цветы. За окнами завывал ветер.
На другой стороне дороги, в полумиле от закусочной, виднелись огни тюремной колонии.
На стенах висели фотографии бейсболистов 50-х годов. Ветер носил по парковке снег. Предупреждали о приближении метели, и официантки то и дело выглядывали в окно, показывая на что-то руками.
Столовые приборы были никудышными. Джордж согнул ложку одной рукой. Она напомнила ему руку ребенка.
Низко над столами свисали лампы в абажурах. Джордж заказал их фирменное блюдо. Когда он допил бокал диетической колы, официантка принесла еще один. Рот Джорджа был так набит хлебом, что он не смог вымолвить ни слова и только кивнул головой, когда она поставила бокал на стол перед ним.
Мужчина повел маленького сына в туалет. Оба надели в этот день галстуки. Сынишка не переставая теребил свой галстук. У самого входа стоял аквариум с единственным оставшимся раком. Джордж представил, о чем думает рак, – наверное, о том, когда же вернутся остальные.
Когда Джордж вернулся из туалета, его еда уже ждала на столе. Аквариум с раками был пуст. Джордж заставил себя проглотить несколько ложек своего блюда, потом сконцетрировался на салате из капусты с майонезом, который наполовину свисал с тарелки тоскливой горкой.
Снаружи снег плотно лег на столы для пикника. За соседним столом ужинала пара. По виду им было столько же, сколько и Джорджу. Они повязали на шеи шарфы и смеялись. Они заказали бутылку вина, которую доставили с обернутой вокруг горлышка салфеткой. Почему жизнь всех остальных казалась так прекрасно устроенной?
На другом конце ресторана отец поднял в воздух свою дочку, словно он только что вытянул ее из земли. Джордж почувствовал головокружение. На окнах висели пластиковые снежинки.
Джордж оставил чаевые по году рождения своей бывшей подружки – $19.72 – что было больше стоимости всего заказа.
Он знал, что был в двадцати минутах от того места, где на следующий день должны были сыграть свадьбу, и потому, когда Джордж увидел вывеску мотеля неподалеку от ресторана, он свернул в сторону, указанную мигающей стрелкой. Мотель оказался цепочкой коттеджей-шале, соединенных друг с другом, с входными дверями одного цвета. Парковка была забита рядами грузовиков с блестящими в лунном свете, ворчащими мордами моторов.
Водители топтались у грузовиков, куря сигареты и сбивая с ботинок снег.
Стойку регистрации освещала длинная лампа дневного света без плафона. Пепельница была доверху заполнена пеплом без единого окурка. Довершал картину календарь с глянцевой фотографией грузовика фирмы Mack.
Джордж нажал кнопку звонка и замер в ожидании. Никто не появился.
Когда он уже повернулся к выходу, вышла женщина с короткими черными волосами.
«Извините», – сказала она.
«Ничего, ничего», – ответил Джордж.
Ее лицо покрывали оспины, но глаза были редкой красоты. Ее волосы лежали неровно, словно она сама себя постригла. Она говорила с акцентом. Когда она произносила слова, казалось, что она поет.
«Комнату?» – спросила она.
«Да, пожалуйста», – ответил Джордж.
«Вы водитель?» – снова спросила она, сверяясь со своей книгой.
Джордж задумался на мгновение и вспомнил ряд грузовиков на парковке.
«Нет, – сказал он. – Обычный человек».
Женщина рассмеялась.
«Номер 245, – сказала она. – Это на втором этаже. Как вы будете рассчитываться?»
Джордж протянул ей кредитную карточку.
«Номер для некурящих – подойдет?»
«Я не курю», – сказал Джордж.
Женщина посмотрела на его карточку и произнесла вслух его имя.
«Джордж Фрэк».
«Да», – ответил Джордж.
«Смешное имя».
«Разве?»
«Звучит так, словно оно выдумано».
«И все же оно совсем не выдумано, – сказал Джордж. – Я живу с ним уже много лет».
«Ну что ж, вот ваш ключ, Джордж Фрэк».
Джордж взял ключ и поблагодарил женщину. А затем, по непонятной причине, вместо того, чтобы немедленно подняться в номер и забраться в постель, как он планировал, Джордж повернулся к ней и спросил:
«Откуда вы – мне нравится ваш голос».
Женщина пристально посмотрела на него и сказала:
«Из Швеции».
«А, – сказал Джордж, – тогда снег вам только в радость».
«Да», – ответила она.
«Что вы здесь делаете?»
«Вы имеете в виду, что я делаю в мотеле для дальнобойщиков в Дыре, штат Нью-Йорк?»
«Да».
«Это долгая и грустная история, Джордж Фрэк. А что вы здесь делаете?»
«Это тоже долгая и грустная история».
Мимо стойки прошел водитель грузовика и исчез в дверях бара, оставив за собой шлейф сигаретного дыма.
«Вы не хотите вечером посмотреть телевизор у меня в комнате?» – спросил Джордж.
«Хорошо, – ответила женщина, не поднимая глаз. – Я приду через два часа – что-то принести?»
«Апельсиновый сок, пожалуйста».
«А как насчет коробочки изюма в шоколаде?» – спросила она.
«Конфеты?» – удивился Джордж.
«Увидите».
Час спустя Мари сидела с Джорджем на кровати в его номере. Комната представляла собой печальное зрелище. Ковер, прожженный сигаретами, комок тренировочных штанов в шкафу, полные пепельницы, под кроватью – пробка от неизвестной бутылки.
Вместо телевизора Мари рассказала Джорджу, как она приехала в Нью-Йорк, чтобы найти отца. Ее мать сказала ей, что отец был дальнобойщиком, во всяком случае, в 78-м.
«Вы выбрали неплохое место для поисков», – сказал Джордж.
«Пожалуй», – ответила она.
«Сколько вы уже здесь?»
«Почти три месяца – но на следующей неделе я возвращаюсь домой, у меня заканчивается виза».
«Значит, так и не удалось его найти?»
«Я надеялась, что смогу его узнать».
«Во всяком случае, вы очень постарались».
Мари вытряхнула пару изюмин на ладонь Джорджу.
«Мой отец умер», – сказал Джордж.
«Это поэтому вы такой грустный?»
Джордж задумался на секунду. «А ведь так оно и есть», – сказал он.
«Но почему вы оказались в этом мотеле, Джордж Фрэк?»
«Мне кажется, что я уже не знаю», – ответил Джордж, забираясь под одеяло. В этот момент Мари поцеловала его.
После они лежали, обнявшись, в полной тишине.
Когда Джордж проснулся на следующее утро, Мари уже ушла. Кровать была полна изюма в шоколаде. Он проспал свадьбу. Комната отражалась в выключенном телевизоре. Джордж принял душ, забрался в машину и поехал домой. Пробок словно и не бывало.
IV
Когда самолет Джорджа коснулся земли, в Стокгольме было еще темно. Оранжевые вагончики фирмы «Вольво» замерли в ожидании между желтых линий, нарисованных вокруг пристыкованного к рукаву самолета.
Несколько человек у тележки для багажа глядели вверх на выглядывающие из маленьких окошек самолета лица. На шее у некоторых из них были синие наушники.
Заплакал ребенок.
Джорджу казалось, что его сосед спит, но тот вдруг поднял руку и дотронулся до своих усов, будто проверяя, не украл ли их Джордж.
Когда люди пробирались печальной толпой на паспортный контроль, Джордж заметил, что его сосед сильно хромает. Очень скоро его обогнали все остальные пассажиры. Мимо проехали три механика на маленьких скутерах.
Женщина на контроле едва взглянула на паспорт Джорджа. Не прошло и минуты, как он уже ожидал свой багаж. Он узнал нескольких человек со своего рейса. Большинство пассажиров были шведами и тихо разговаривали мелодичными голосами.
Он никак не мог свыкнуться с тем, что у него получилось стать отцом – приехать в Швецию. Ситуация, саму возможность которой он еще недавно посчитал бы кошмарной, теперь была самым главным событием всей его жизни.
Его имя выпало в лотерее жизни, и он, не сомневаясь, шагнул ей навстречу. Он задумался, не может ли так быть, что он становится тем человеком, которым всегда хотел быть.
В самолете он составил список мест работы, где ему могло понравиться и где удалось бы заработать достаточно денег для частых поездок в Швецию. Может быть, он даже поселится в Швеции. В конце концов, ему нравился снег, и он водил зеленый автомобиль марки Saab.
Маленькая девочка сидела на краю багажной тележки, болтая ногами, словно она сидела на краю пирса у воды в последний день семейного отпуска. Ее глаза тихонько закрывались и снова открывались. Подошли еще несколько ребят и принялись делать то же самое – сидеть на краю пустой тележки и болтать ногами.
Багажное отделение было залито ярким, но безжизненным светом. Люди наблюдали за движущейся лентой с чемоданами и коробками. Джордж присел на свой дипломат, словно он был очень маленькой лошадкой. Внутри были лишь фотография маленькой девочки, фотография кота Годара, вещи, присланные его сестрой, и несколько коробочек изюма в шоколаде.
В первый раз Джордж пожалел, что не сохранил деньги, оставленные ему после смерти матерью. Все, что не ушло на оплату его долгов, он потратил на тридцать пар вельветовых мокасинов и хрупкие воздушные змеи из Китая – из которых не осталось в живых ни одного. Из тридцати семи змеев, купленных им по почте, две дюжины порвались, когда он запускал их со скал в Нью-Джерси. Остальные поломались в небе над парком МакКаррен, где и остались, застрявшие на ветках деревьев.
Джорджу пришло на ум, что если бы его самолет упал, одной из причин мог стать упавший на лобовое стекло при взлете воздушный змей, когда-то им потерянный.
Пассажиры самолета разобрали багаж и направились толпой в одну сторону. Джордж пошел за ними. Если где-то и была таможня, то Джордж не заметил, как прошел ее. Он проследовал за несколькими группками пассажиров вниз по эскалатору на платформу для поездов. Ему показалось, что он глубоко под землей, поскольку потолок над рельсами был настоящим монолитным камнем. На платформе было очень чисто, и Джордж услышал низкое гудение неоновой вывески о времени отправления следующего поезда. Вывеска сообщала информацию сначала на шведском, потом на английском.
На станции в центре Стокгольма Джордж снял деньги в банковском автомате с вывеской «Банкомат».
С тысячью крон в кармане – и не имея никакого представления, что сколько стоит, – Джордж встал в очередь ожидающих такси. Во главе очереди стоял мужчина в желтом комбинезоне, показывая ждущим, какую занимать машину, которые, все до единой, были марки «Вольво». Впереди Джорджа оказалась женщина в инвалидной коляске – ей пришлось дожидаться в стороне, пока диспетчер вызовет специальное такси. Джорджа удивило, почему никто не поднял ее на руки, чтобы усадить в обычное такси. Даже подумал предложить свою помощь, но решил, что единственный мужчина, которому было разрешено ее поднимать, был ее муж.
У таксиста была огромная голова с редкими седыми волосами. На нем была черная кожаная куртка с нашивкой «Taxi 150 000» на рукаве. В обоих ушах висели массивные серебряные кольца.
Администратор в отеле сообщила Джорджу, что он не сможет зарегистрироваться до двух часов дня. Он вздохнул, и она предложила ему оставить багаж и найти место позавтракать. Было около десяти утра, и небо начало светлеть.
Когда он вышел на улицу, стал накрапывать дождь. Поначалу он был несильным и освежающим, но вскоре усилился, и Джордж изрядно промок. Он все шел и шел в поисках кофейни, но ему попадались одни офисные здания.
Он надеялся, что кто-то остановит его и заговорит с ним. Он хотел рассказать, что это его первый день в Швеции и что он приехал, чтобы увидеть свою дочь.
Джорджу стало интересно, почему все офисы на первом этаже имели незатененные окна во всю стену, возможно, по какой-то местной традиции.
Время от времени Джордж останавливался и наблюдал за совещанием или за секретаршей, которая сменила под столом шпильки на тапочки. Через одно огромное окно Джордж некоторое время следил за красивой женщиной с волосами, стянутыми в пучок. Она оттирала оправу старого зеркала. На полке за ней стояла маленькая микроволновка с черными следами от пальцев, особенно заметными на дверце.
Когда Джордж увидел в руках у женщины пакет с эмблемой «NationalMuseet», он пошел в том направлении, откуда она пришла, надеясь найти музей, где можно было обсохнуть и посидеть некоторое время. Но куда бы он ни пришел, везде было закрыто.
Несколько часов Джордж просто гулял под дождем. Он никогда еще так не замерзал и не промокал. Когда он наконец зарегистрировался и попал в свой номер, первым делом он принял горячую ванну, потом сел на кровать в гостиничном халате. Он высушил ноги и продержал полчаса свои вельветовые мокасины под феном.
Он вынул из кармана письмо и посмотрел на адрес. Район Стокгольма, где жила девочка, назывался Седермальм.
Он снял трубку и набрал номер, указанный в письме. Ответил ребенок.
«Алло?» – спросил Джордж.
«Hej», – ответил детский голос.
Потом несколько секунд тишины.
«Ма-ма», – сказал голосок, и Джордж услышал звук шагов. Женщина в трубке повторила свой номер по-шведски.
«Это Джордж», – сказал Джордж.
«Джордж?» – спросил голос в трубке.
«Джордж Фрэк».
Он услышал в трубке чуть слышный вздох удивления, а затем – тишину.
«Это была она?» – спросил Джордж.
Когда он был уже готов повторить свой вопрос, он понял, что женщина плачет.
Он услышал, как девочка сказала своей маме что-то нежное по-шведски.
«Я не ожидала, что ты приедешь в Швецию», – сказала Мари.
«Я знаю», – ответил Джордж.
Потом Мари сказала что-то своей дочке, что той не понравилось.
«Я сказала ей пойти в свою комнату и дожидаться меня там, – сказала Мари тихо, – потому что я собираюсь попросить тебя, Джордж Фрэк, не приходить к нам, если тебе просто интересно, на кого она похожа».
«Я знаю, на кого она похожа», – ответил Джордж, скользнув глазами по дипломату.
«А», – сказала Мари.
«Она знает, кто я?»
«Нет, – ответила Мари. – Хотя она спрашивает меня каждый день, почему у нее нет папы».
«И что ты ей говоришь?»
«Я ничего ей не говорила, пока две недели назад не сказала ей, что ты работаешь в Америке».
«Тогда ты мне и написала?» – спросил Джордж.
«Да, Джордж Фрэк, и ты помнишь, почему я тебе написала?»
«Да, – ответил Джордж, – Странно, не правда ли, как мы делаем то же, что когда-то сделали с нами».
Снова тишина.
«Когда я рассказала ей, она стала развешивать в своей комнате портреты президента Буша, и я поняла, что совершила ужасную ошибку. Я должна была тебе рассказать с самого начала».
«Я не сержусь», – поспешил вставить Джордж.
«Ее зовут Шарлотта».
«Я бы хотел, чтобы она узнала меня поближе», – сказал Джордж.
«Она еще не знает тебя, – ответила Мари, – но она уже тебя любит».
Потом она снова начала плакать.
«Ты замужем, Мари?»
«Помолвлена. А ты, Джордж Фрэк, должно быть, женат, с детьми?»
«Нет, – ответил Джордж, – но у меня был кот».
«Ты встретишься с моим женихом. Он очень хороший, старше меня намного – на двадцать лет, если уж на то пошло. Это он подсказал мне написать тебе письмо».
«Да? Как его зовут?»
«Филипп».
«Похоже, он очень неплохой человек».
«Джордж, дай мне несколько часов подумать, хорошо? Я знаю, что прошу слишком многого, но…»
«Конечно. Я остановился в отеле „Дипломат“ – позвони мне, когда будешь готова».
Джордж повесил трубку и повалился на кровать. Он вынул из дипломата коробочку изюма в шоколаде и положил горсть в рот. Потом он нашел большой конверт с эмблемой отеля. Джордж положил в конверт посадочный талон, шоколадную плитку, которую он нашел чудесным образом держащейся на подушке, перышко, завалявшееся в кармане его пиджака с незапамятных времен, маленькую тонкую пластинку мыла из ванной комнаты и рисунок, сделанный им в самолете, своего усатого соседа.
Потом Джордж взял из стола синюю ручку и написал «Доминик Фрэк» на конверте. После – адрес его сестры.
Он сел на кровать и включил телевизор. Потом снова выключил его.
Джордж снял трубку телефона и набрал номер своей сестры, не забывая в первую очередь набрать цифры кода страны.
Гудки раздавались один за другим.
Джордж подумал, что, может быть, Хелен купала Доминика. Он представил, как стоит рядом с ней с полотенцем в руках. Блестящее от воды лицо Доминика. Облака за окном. Деревья с другой стороны стекла и море неподалеку.
Через несколько минут телефон вернулся к жизни звонком.
«Джордж, – сказала Мари, – я не хочу тянуть время, потому что я боюсь, что ты передумаешь, и в этом буду виновата я».
«Хорошо», – ответил Джордж.
«Встретимся в Скансене через два часа – это парк с животными недалеко от твоего отеля».
«На улице все льет?» – спросил Джордж.
«Нет, Джордж, посмотри за окно».
За окном кружились и падали на землю снежинки размером с пуговицу. Люди на тротуаре останавливались, чтобы посмотреть на них.
Потом он услышал, как на заднем фоне его дочка что-то закричала по-шведски.
«Скажи, она только что закричала, что пошел снег?» – спросил Джордж.
Через несколько часов снег перестал, оставив по всему городу тонкий белый покров – в самый раз, чтобы собирать отпечатки ботинок и велосипедных шин.
Джордж принял душ. Потом он побрился и почистил зубы. Он медленно надел свой лучший костюм. Потом достал и надел новую пару вельветовых мокасинов, привезенных по этому случаю. В носках ботинок была свернутая бумага.
Джордж вышел из отеля и повернул на восток по улице Штрандваген, в сторону моста. Перейдя оживленную улицу, он добрался до развилки. На одной полосе был нарисован силуэт человека, ведущего за руку ребенка, на другой – силуэт велосипеда.
Было очень холодно, и после каждого выдоха Джордж проплывал сквозь облачко своей жизни.
Скансен был парком в парке. Он находился в Джургардене, который когда-то был частным охотничьим хозяйством короля. Мимо проносились бегуны в желтых костюмах из спандекса и теплых шапках. На воде рядком стояли лодки. Джордж догадался, что они развозят туристов по маленьким незаселенным островкам Стокгольма. Большинство лодок было закрыто на зиму, но на палубе одной из лодок горели огоньки. Когда Джордж приблизился к лодке, он увидел несколько работников, разложивших на палубе свои инструменты. Один из них помахал и сказал что-то Джорджу, проходящему мимо. Джордж улыбнулся и помахал ему в ответ.
Джордж вошел в парк через синюю металлическую арку с золотыми головами оленей наверху. Птицы перелетали с дерева на дерево. Дорожка повела его мимо еще одного маленького озера. Джордж проверял каждое дерево в поиске застрявших воздушных змеев. Он пожалел, что не взял змея с собой. У берега плавали утки, а чуть подальше, в поволоке, накрывшей поверхность озера, покрикивали высокие белые птицы.
Когда он добрался до входа в Скансен, Джордж увидел, что он был единственным посетителем. Мужчина в серебряных очках помахал ему из билетного окошка. Джордж подошел к нему.
«Один взрослый билет?» – спросил мужчина.
«Нет, три билета, – ответил Джордж. – Я ожидаю женщину с ребенком, примерно через час – и я хотел бы заплатить и за них тоже».
Мужчина выглядел сбитым с толка. «Как же я узнаю тех, за кого вы заплатили?»
«Я не знаю», – сказал Джордж.
«Это ваша семья?» – спросил мужчина, пытаясь помочь.
Джордж кивнул головой.
«Тогда я буду искать девочку, похожую на вас».
Джордж снова кивнул и тихонько улыбнулся.
«У нас есть еще два входа, – добавил мужчина, – так что если они войдут через другой вход, приходите обратно перед закрытием – я верну вам деньги».
«Хорошо, так и сделаем», – сказал Джордж.
«Где вы с ними встречаетесь?» – спросил мужчина.
«Где-то там, наверное», – ответил Джордж.
«Очень хорошо, – сказал мужчина. – Что ж, тогда я должен вам сказать, что Скансен был основан Артуром Хазелиусом в тысяча восемьсот первом году».
«В тысяча восемьсот первом?» – переспросил Джордж.
«Я думаю, вы будете многим удивлены».
«Мне кажется, я уже многим удивлен», – добавил Джордж.
«Вот это мы и хотим услышать», – сказал мужчина. Он был неунывающим весельчаком.
Джордж прошел через пустой модельный городок, который должен был представлять Швецию в миниатюре. Тут были пустые мастерские, пустые школы, пустые магазины, которые летом, должно быть, полны костюмированными работниками и шведскими детьми, лижущими мороженое.
В середине зимы Скансен напоминал жизнь Джорджа: мир, который ожидает в тишине, когда его заполнят люди.
Уже через несколько минут ботинки Джорджа были забрызганы грязным снегом. Высоко вверху над парком кружились птицы. Когда, он прошел мимо вспаханного квадрата земли с надписью «Herbgarden», Джордж очутился на гряде с видом на Стокгольм. Звук машин и поездов наполнял холодный воздух непрестанным гулом, который лишь изредка прерывался криком птицы с далеких деревьев.
Когда Джордж подошел к авиарию, он заметил пустую коляску. В нескольких ярдах от коляски миниатюрная женщина держала девочку на руках, чтобы та могла смотреть через перила ограды. Джордж посмотрел на часы. До их встречи оставался еще целый час. Когда он приблизился к ним, девочка обернулась, словно почувствовав его.
Джордж замер.
Он смотрел на девочку, а девочка смотрела на него. Она улыбнулась первой. Это было лицо с фотокарточки.
Потом ее мать повернулась и посмотрела на Джорджа. Она вытянула платок из рукава и промокнула глаза.
«Привет», – сказал Джордж. И хотя его рот открылся и закрылся, вырвавшееся слово было таким тихим, что только он мог его услышать.
«Здравствуй, Джордж Фрэк», – сказала Мари.
Она выглядела намного старше того, как ее запомнил Джордж. Ее тело осело посередине, а волосы потеряли объем. Но ее глаза все еще были красивыми.
«Vem ar han?» – спросила Шарлотта у своей мамы.
«Han ar George, – сказала ее мать. – Talar engelska, Lotta».
«Привет, – сказала Шарлотта, поворачиваясь к Джорджу, – меня зовут Лотта».
«Меня зовут Джордж».
«Ты хочешь пойти с нами, Джордж?» – спросила Лотта.
Джордж с трудом унял дрожание голоса.
«С большим удовольствием», – ответил он.
И тогда, под взглядом Мари, которая осталась чуть в стороне, Лотта взяла холодную, дрожащую руку Джорджа в свою маленькую горячую ладошку и повела его в авиарий.
«Здесь дома со всей Швеции, – рассказывала Лотта. – Здесь много диких животных, даже сова – две совы».
«Правда?» – сказал Джордж.
«А какое у вас любимое животное, мистер Джордж?»
«Кошки».
«У меня тоже!» – воскликнула Лотта.
На подходе к клетке с совами у Джорджа закружилась голова. Его ноги подкосились, он упал в грязь и замер, глядя на облака.
Лотта стояла и смотрела на него, не зная, что делать. Подбежала Мари. Звук ее шагов на влажной земле, потом рыдание Джорджа, такое громкое, что некоторые животные повернулись на звук в своих клетках.
После этого Лотта держалась в стороне от Джорджа, хотя изредка подсовывала ему замусоленную конфетку из кармана.
Позднее, когда они наблюдали за скучающей семейкой оленей, жующих сено, Лотта снова взяла Джорджа за руку.
«Вы в порядке, мистер Джордж?» – спросила она.
«Нет, – ответил Джордж. – По правде говоря, мне совершенно не по себе».
Тогда Мари встала на колени и взяла Лотту за плечи. Позади них олени не переставали жевать.
«Lotta, George ar dina pappa».
Лотта посмотрела на Джорджа.
Потом ее лицо скривилось.
«George ar dina pappa, Lotta», – закричала Мари, тряся Лотту, словно куклу, за плечи.
Джордж потупил взгляд.
Лотта вскрикнула и побежала.
Ее мама закричала ей вслед, чтобы она сейчас же вернулась назад.
Потом Джордж, не осознавая что он делает, побежал за ней. Он чувствовал, как грязь заляпывает ему ноги. У него снова закружилась голова, но его ноги бежали быстрее, чем он мог себе когда-либо представить. Впереди маленькая фигурка завернула за угол. Джордж последовал за ней. Он снова мог ее видеть – каштановые волосы развевались при каждом отчаянном шажке. Когда он нагнал ее, он схватил ее за плечи и они повалились в снежную грязь.
Джордж крепко прижал ее к себе. Он стал качать ее вперед и назад, оставляя след в земле, ставшей колыбелью для тяжести их тел.
Работник парка, кормивший животных, поглядел на них и отвернулся со вздохом.
Когда Лотта обвила ручонками шею Джорджа, он почувствовал на своей щеке ее горячее дыхание. Весь мир был прижат к его щеке двумя маленькими губами.
Они не отпустили друг друга, даже когда появилась Мари, запыхавшаяся от бега.
Волосы Лотты пахли яблоками.
И ее ручки были такими крохотными.
Они ушли из парка затемно. Луна висела над городом, как голое колено. Вода билась о тяжелые лодки и, обтекая Стокгольм со всех сторон, вызывала к жизни город, где прощалось все.
Лотта громко пела в коляске. В руках она держала флажок, купленный ей Джорджем в магазине музея. На флажке был нарисован кот.
Лотта все время поглядывала на Джорджа, но ее маленькое лицо было скрыто тенью. Джордж представлял себе хлопающие ресницами глазки, ее маленькие ручки под одеялом, горячее дыхание, чувство, что тебя везут в коляске домой по грязной дорожке.
V
Несколько дней спустя они – на катке в Кунгстрэдгордене. Лотта выписывает на льду фигуры. Уже поздно. Они поужинали в «Максе» – любимом ресторане гамбургеров Лотты. После третьего гамбургера Лотта заказала порцию мягкого мороженого с шоколадом «Близзер». Она сказала, что оно очень сладкое, и заставила Джорджа съесть несколько маленьких ложек. Филипп, жених Мари, присоединился к ним после работы. Он продает домашнюю технику. Жена Филиппа оставила его в 1985 году ради другого мужчины, с которым живет теперь в Гетеборге. Дочь Филиппа уже взрослая, студентка университета. Лотта любит дразнить Филиппа, убегая от него с его шляпой.
Глаз официанта, обслуживавшего их стол в ресторане «Макс», косил, поэтому никто не мог понять, с кем он разговаривает. Лотту это очень рассмешило, несмотря на то, что мужчина сердито на нее посмотрел (если, конечно, он смотрел сердито на нее). Двери ресторана были выкрашены в оранжевый цвет. Усталые отцы семейств пили кофе, повесив кое-как сумки с покупками на ручки колясок. На стене висела иллюстрированная история ресторана в фотографиях разных лет.
Открытый каток был недалеко от ресторана. Облака тихонько терлись о вечереющее небо. Вдалеке горели неоном буквы вывески банка Svenska Handelsbanken.
Уличные фонари напоминали гроздья белых шаров, удерживающих на весу единый купол света. Многие здания были выкрашены в желтый цвет.
Джордж никогда раньше не катался на коньках. Лотта тянула его за собой вокруг стоящей в середине небольшого катка статуи, за всем наблюдавшей, но ничего не видящей.
«Мы на самой верхушке Земли, – кричала Лотта, – это Северный полюс!»
Мари и Филипп наблюдали за ними со стороны, крепко взявшись за руки.
Потом Джордж отцепился и покатился сам, неуклюже, но не падая на лед.
«Посмотрите на папу», – закричала Лотта. И Джордж понял, что должен продолжать катиться, хотя ему и казалось, что в любой момент он может подскользнуться или земля может уйти из-под его ног: он должен бы удержаться, продолжать двигаться вперед, чтобы со временем научиться стоять на ногах.
VI
Когда холод катка пробрал их насквозь, Джордж и Лотта переобулись в свои ботинки и вместе со всеми отправились греться в кафе.
Город был холодным и тихим, но повсюду горели огни.
Надо будет многое уладить. Джордж, Филипп и Мари проведут долгие ночи за шнапсом, обсуждая все условия. Все четверо уверены, что смогут найти устраивающий всех вариант.
Лотта перестала писаться в кровати. Она представляет себе Нью-Йорк. Ей интересно, сможет ли она когда-нибудь взглянуть на людей с вершины небоскреба. Она поставила фотографию Годара рядом со своей настольной лампой. Ее любимая песня Дэвида Боуи – «Жизнь на Марсе?».
В метро, по дороге домой в Седермальм, Лотта рассказывает Джорджу о старинном корабле, найденном в бухте Стокгольма.
Она рассказывает ему, как в 1628 году самый красивый в мире корабль затонул, так и не выйдя в море. И вот, более трехсот лет спустя, кто-то решил достать его и вернуть к жизни.
Лотте интересно, есть ли в Нью-Йорке музеи. Джордж говорит, что есть, и много. Она спрашивает, есть ли музей кошек. Джордж отвечает, что очень хотелось бы, но такого музея нет.
Потом он задумывается об идее музея: материального подтверждения вещей и событий, истории чудес, чуда природы и чуда упования и непоколебимого упорства, сведенных вместе таким образом, чтобы никогда не быть забытыми, или потерянными, или просто принятыми за обыкновенные вещи и события, не имеющие особенного значения.
Выражаю вам мою благодарность,
Беверли Аллен, Брайан Ле Бойф, Даррен и Раха Бой, миссис Джей Бой, Д-р Стивен Бой, Дуглас Борушез Эск, Кен Бровар, Дэвид Брусон, Жюстин Клей, Кристин Кордей, Д-р Сильвия Курадо, Дженнифер Дорман, Кэти Эрвей, Даниэль Эспозито, Патрисио Феррари, Пегги Флаум, Джованни Фразцетто, Леон и Хелен Гарсия, Колин Джи, Лорен Готт, Д-р Мэрилен Хендрикс, Лукас Хант, Тим Кэйл, Кэрри Кания, Алан Клейнберг, Хилари Найт, Ева Лонцарич, Ален Мальро, Майкл Маткин, доктор Эдмунд Миллер, доктор Боб Милгром, Кэл Морган, Дженнифер Моррис, Сэмюэл Моррис III, Билл Мюррей, д-р Уильям Нил, Лукас Ортис, Джонатан Рабинович, Иван Шоу, д-р Шпигель, Мерил Шпигель, Филипп Спитцер, Дель Toro Shoe Co., Вим Вендерс, доктор Барбара Версба. И тебе, Ева.
Примечания
1
Allez – Давай! Вперед! (фр.)
(обратно)2
Grazie mille (ит.) – большое спасибо.
(обратно)3
Caro mio (ит.) – Дружище.
(обратно)4
Ciao fratello (ит.) – Здравствуй, брат.
(обратно)


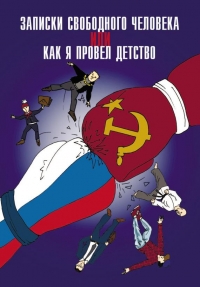







Комментарии к книге «Любовь рождается зимой», Саймон Ван Бой
Всего 0 комментариев