Али Смит
Осень
© Нугатов В., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
* * *
Посвящается Джилли Буш-Бейли, до встречи на следующей неделе и Саре Маргарет Харди многолетней Вуд
Маем станет вам зима,
Будут вам давать сады
Небывалые плоды.
Уильям Шекспир[1]
При нынешних темпах эрозии почвы Британии осталось собрать всего сотню урожаев.
«Гардиан» от 20 июля 2016 года
Мы лежали в пшенице, на солнце, зеленые, словно трава.
Осси Кларк[2]
Если бы мне судилось познать здесь с тобой счастье, какой короткой показалась бы самая долгая жизнь!
Джон Китс
Нежно разрушьте меня.
У. С. Грэм[3]
1
Это было худшее из всех времен, это было худшее из всех времен. В очередной раз. В этом суть вещей. Они распадаются, всегда распадались и всегда будут распадаться – такова их природа. Потому старого старика выбрасывает на берег. Он похож на проткнутый футбольный мяч с разошедшимися швами – типа тех кожаных, что люди пинали сотню лет назад. Море было бурным. Оно сорвало рубашку с его спины. Слова, нагие, словно я в день своего рождения, у него в голове, которую он поворачивает, но от этого больно. Так что старайся не двигать головой. Что там у него во рту – песок? Это песок у него под языком, он его чувствует, слышит, как тот скрипит на зубах, пока он поет песнь песка: я мелкая взвесь, но включаю мир весь, если ты упадешь, я всегда буду здесь, на солнце сверкаю, следы заметаю, посланье в бутылке, бутылка в волнах, стекло – тоже я, но для жатвы трудней нет зерна
нет зерна
Слова песни улетучиваются. Он устал. Песок во рту и в глазах, последние крупицы в горлышке песочных часов.
Дэниэл Глюк, твой люк наконец закрыт.
Он насилу открывает склеенный глаз. Но…
Дэниэл сидит на песке и камнях
…так вот она какая? В самом деле? Это и есть смерть?
Он заслоняет глаза. Очень яркий свет.
Солнечно. Но при этом ужасно холодно.
Он сидит на песчаном каменистом берегу, очень резкий ветер, солнце, конечно, светит, но не греет. Вдобавок голый. Немудрено, что ему холодно. Он опускает взгляд и видит все то же старое тело, изувеченные колени.
Он думал, что смерть очищает человека, сдирает с него гниющую гниль, пока он не становится легким, как облачко.
Похоже, в конце ты остаешься на берегу той самой личностью, которой был в момент ухода.
Если б я знал, думает Дэниэл, то постарался бы уйти в двадцать – двадцать пять.
Только добро.
Или, возможно (думает он, прикрывая рукой лицо, чтобы не оскорбить возможного наблюдателя, когда ковыряется в носу или рассматривает, что туда набилось, – это песок, прекрасные подробности, непривычная цветовая гамма распыленного мира, а затем вытирает его с кончиков пальцев), это и есть моя очищенная личность. В таком случае смерть – горькое разочарование.
Спасибо, смерть, что уделила мне время. Прошу извинить, но мне надо вернуться к этой, как его, жизни.
Он встает. Это не так уж и больно.
Ну вот.
Домой. В какую сторону?
Он разворачивается на сто восемьдесят градусов. Море, берег, песок, камни. Высокая трава, дюны. За дюнами – равнина. Вдоль равнины – деревья, полоска леса, которая бежит обратно к морю.
Море странное и спокойное.
Потом его вдруг поражает, как непривычно хорошо он сегодня видит.
В том смысле, что я вижу не только вон тот лес, вон то дерево и вон тот лист на вон том дереве. Я вижу черенок, соединяющий вон тот лист с вон тем деревом.
Он может рассмотреть наполненную семенную шапку на конце любой травинки вон на тех дюнах в таких подробностях, как будто пользуется оптическим зумом. Опуская взгляд на собственную руку, он видит не только свою руку в фокусе и не только налет песка на ладони, но даже несколько отдельных крупинок, так четко очерченных, что можно различить их края, хотя он (рука поднимается ко лбу) без очков!
Ну что ж.
Он стряхивает песок с ног, рук и груди, а затем и с ладоней. Наблюдает за полетом осыпающихся крупинок. Опускает руку и набирает в нее песка. Только взгляни. Как много.
Припев:
Сколько миров держит рука.
В горстке песка.
(Еще раз.)
Он раскрывает ладонь. Песок высыпается.
Теперь, встав на ноги, он чувствует голод. Разве можно быть мертвым и в то же время голодным? Разумеется, можно: все эти голодные духи, пожирающие сердца и души людей. Он полностью разворачивается к морю. Он не плавал на лодке больше пятидесяти лет, к тому же это на самом деле не лодка, а жуткий новомодный бар, заведение для речных вечеринок. Он садится на песок и камни, но болят кости в его… он не хочет выражаться, там дальше на берегу девушка, болят как, он не хочет выража…
Девушка?
Да, окруженная кольцом из девушек, исполняющих волнообразный танец, похожий на древнегреческий. Девушки довольно близко. Они приближаются.
Так не годится. Нагота.
Он снова смотрит новыми глазами туда, где минуту назад было его старое тело, и понимает, что мертв – наверное, мертв, безусловно, мертв, ведь тело не такое, как в последний раз, когда он смотрел на него: оно выглядит лучше, выглядит довольно хорошо, как и положено телу. Оно кажется очень знакомым, очень похожим на его собственное, но в ту пору, когда оно было молодым.
Девушка рядом. Девушки. Его охватывают сладкая глубокая паника и стыд.
Он бросается к длинным, поросшим травой дюнам (он умеет бегать, бегать по-настоящему!), прячет голову за пучком травы, проверяя, никто ли не следит, никто ли не идет, и – сломя голову (снова! даже не запыхавшись!) через равнину к лесу.
В лесу можно укрыться.
Возможно, там будет и чем прикрыться. Но какая чистая радость! Он уже и забыл, каково это – чувствовать. Или хотя бы осознавать собственную наготу рядом с чьей-то красотой.
Небольшая рощица. Он исчезает в этой рощице. Идеально: земля в тени, устланная листвой, палая листва под ногами (красивыми, молодыми) сухая и твердая, а на нижних ветвях – буйство ярко-зеленой листвы, и глянь-ка, волосы у него на теле снова черные как уголь – на руках и от груди до самого паха, где они густые, да и не только волосы, все утолщается, глянь-ка.
И впрямь рай.
Главное – никого не оскорбить.
Он может сделать здесь ложе. Может остаться тут, пока не сориентируется. Сорри-ентируется. (Каламбуры – прибежище бедняка; бедный старина Джон Китс, ну бедный-то он бедный, а вот старым его все-таки не назовешь. Осенний поэт, зимняя Италия, за несколько дней до смерти он вдруг стал каламбурить, словно будущего нет. Бедолага. Будущего действительно не было.) Он может навалить на себя эти листья, чтобы не замерзнуть ночью, если после смерти существует такое явление, как ночь, и если та девушка, те девушки хоть немного приблизятся, он навалит на себя целую груду, только бы их не оскорбить.
Скромняга.
Он и забыл, что в самом нежелании оскорбить есть телесность. Теперь его охватывает приятное чувство скромности, как будто он пьет цветочный нектар. Колибри просовывает клюв внутрь венчика. Такой густой. Такой сладкий. Какое слово рифмуется с нектаром? Он сошьет себе костюм из листвы, и, не успел он об этом подумать, как в руке вдруг появляются игла и какие-то золотистые пестрые нитки на катушечке, глянь-ка. Он же мертвый. Скорее всего. В конце концов, быть мертвым – это, пожалуй, довольно хорошо. Это сильно недооценено современным западным миром. Кто-то должен им сказать. Кого-то нужно послать, чтобы он пробрался обратно, куда бы то ни было. Эмиссар. Аватар. Ягуар. Юбиляр. Циркуляр. Кулинар. Экземпляр. Санитар.
Он срывает зеленый лист с ветки над головой. Срывает еще один. Соединяет края. Сшивает их аккуратным… как его, сметочным или обметочным стежком? Глянь-ка. Он умеет шить. Не сказать, что умел при жизни. Смерть полна сюрпризов. Он подбирает охапку листвы. Садится, подгоняет края и шьет. Помнишь открытку со стеллажа в центре Парижа в 1980-х – с девочкой в парке? Она казалась одетой в опавшие листья. Черно-белое фото, сделанное вскоре после войны: ребенок со спины, одетый в листву, стоит в парке и смотрит на разбросанные листья и деревья перед собой. Трагический, но притягательный снимок. Что-то в самом ребенке плюс мертвые листья – страшная ненормальность, слегка похоже на лохмотья. Но, с другой стороны, это не лохмотья, а листья, так что снимок – вдобавок о магии и преображении. Но в то же время снимок, сделанный вскоре после, в то время когда ребенок, просто играющий в листве, мог напомнить при первом, случайном взгляде ребенка, которого поймали и «ликвидировали» (об этом больно думать)
или, возможно, девочку, выжившую после ядерного взрыва, свисающие листья напоминали кожу, превратившуюся в лохмотья и свисающую с одной стороны, словно кожа – не что иное как листья.
Поэтому снимок был притягательным еще и в том смысле, что он, подобно двойнику, приходил, чтобы утянуть тебя на тот свет. Один щелчок затвора (не могу вспомнить фамилию фотографа), и этот ребенок, одетый в листья, стал всем этим одновременно: грустная, страшная, смешная, пугающая, мрачная, светлая, чарующая, сказочная, былинная правда. Более приземленная правда заключалась в том, что он купил эту открытку (Бубá![4] Вот кто ее снял!), когда приехал в город любви с другой женщиной, любви которой он добивался, но которая его не любила, разумеется, не любила, женщина за сорок, мужчина за шестьдесят, ну, если честно, под семьдесят, и в любом случае он тоже ее не любил. Ей-богу. Глубинное расхождение, никак не связанное с возрастом, ведь в Центре Помпиду его настолько тронуло неистовство картины Дюбюффе, что в знак уважения он разулся и встал перед ней на колени. А женщина, которую звали Софи как-то там, смутилась и в такси по дороге в аэропорт сказала, что в его возрасте поздновато разуваться в картинной галерее, пусть даже и современной.
Вообще-то он помнит лишь, как отправил ей открытку, а потом пожалел, что не оставил ее себе.
На обороте написал: «С любовью от старого ребенка».
Он постоянно искал этот снимок.
Но так и не нашел его.
Он вечно жалел, что не оставил его себе.
Сожаления после смерти? Прошлое после смерти? Неужели никогда не вырваться из чулана собственной личности?
Он выглядывает из рощицы на краю суши и моря.
Что ж, где бы я ни очутился в конечном счете, у меня есть это шикарное пальто из листьев.
Он укутывается в него. Как раз впору, и пахнет свежей листвой. Из него бы вышел неплохой портной. Он что-то сделал, своими руками. Его мама была бы наконец довольна.
О боже. Неужели после смерти тоже есть мама?
Он мальчик и собирает под деревьями каштаны. Раскалывает ярко-зеленые колючие оболочки и достает их, коричневые и блестящие, из податливых внутренностей. Наполняет ими кепку. Относит матери. Вот она с новым младенцем.
Не глупи, Дэниэл. Она не станет их есть. Никто их не ест, даже лошади: слишком горькие.
Семилетний Дэниэл Глюк, в хороших одежках (ему вечно говорили, как ему повезло в этом мире, где у многих так мало вещей), смотрит на конские каштаны, которыми ни за что не должен был пачкать свою хорошую кепку, и видит, как тускнеет их коричневый блеск.
Горькие воспоминания, даже после смерти.
Какая досада.
Не бери в голову. Взбодрись.
Он стоит на ногах. Снова надевает солидную личину. Идет на разведку, находит несколько крупных камней и пару больших палок, которыми помечает «двери» рощицы, чтобы потом их найти.
В ярко-зеленом пальто он выходит из леса и по равнине направляется обратно к берегу.
Но море? Безмолвное, словно во сне.
Девушка? Ни следа. Хоровод вокруг нее? Исчез. Однако на берег вымыло тело. Он идет взглянуть. Его собственное?
Нет. Это труп.
Рядом с ним лежит другой труп. За ним – третий, четвертый.
Он смотрит на темную полосу из выброшенных приливом мертвецов вдоль берега.
Среди них есть тела очень маленьких детей. Он садится на корточки возле вздувшегося мужчины с ребенком, на самом деле еще младенцем, под застегнутой курткой: ротик открыт, оттуда стекает морская вода, неживая головка лежит на груди разбухшего мужчины.
Дальше на пляже – другие люди. Такие же человеки, как и те на берегу, только живые. Они под зонтиками. Отдыхают поодаль от мертвецов.
С экрана доносится музыка. Один человек работает на компьютере. Другой сидит в тени и читает с маленького экрана. Третий дремлет под тем же зонтиком, четвертый втирает крем от загара в плечо и руку.
Визжащий от смеха ребенок забегает в воду и выбегает, увертываясь от волн покрупнее.
Дэниэл Глюк переводит взгляд с мертвых на живых, затем снова на мертвых.
Мировая скорбь.
Явно еще на этом свете.
Он смотрит на свое пальто из листьев, по-прежнему зеленое.
Вытягивает руку, по-прежнему чудесную, молодую.
Этот сон не будет долгим.
Он вырывает один листок с полы своего пальто. Держит его крепко. Заберет его с собой, если сможет. В доказательство того, где он побывал.
Что еще он может принести?
Как там было в припеве?
Сколько миров
В горсти песка
Сегодня среда, лето едва перевалило за половину. Элизавет Требуй – тридцатидвухлетняя внештатная младшая преподавательница-контрактница из одного лондонского университета, живущая в мире грез, как говорит ее мать (так оно и есть, если грезы – это когда нет никакой гарантии работы и почти все слишком дорого, а ты по-прежнему обитаешь в той самой съемной квартире, где ютилась студенткой десять лет назад), – ушла на Главпочтамт в городе, ближайшем к деревне, где сейчас живет ее мать, чтобы «проверить и отправить» свою форму на паспорт.
По-видимому, эта услуга ускоряет процедуру. То есть паспорт выдадут в два раза быстрее, если ты придешь с заполненной формой, своим старым паспортом и новыми фотографиями, а уполномоченный почтовый служащий проверит всё это вместе с тобой, перед тем как отправить в паспортный стол.
Терминал выдает ей талон с номером 233 для обслуживания в окошке. Здесь немноголюдно, если не считать очереди из сердитых людей, протянувшейся через дверь к весам с самообслуживанием, для которых талонная система не предусмотрена. Однако выданный номер так далеко отстает от тех, что высвечиваются на табло у всех над головами с надписью «следующий на очереди» (156, 157, 158), да к тому же два одиноких человека за двенадцатью окошками так долго обслуживают предположительные номера 154 и 155 (она пробыла здесь двадцать минут, а клиенты так и не сменились), что она выходит из здания почтамта, пересекает газон и направляется в букинистический на Бернард-стрит.
Когда она возвращается десять минут спустя, клиентов по-прежнему обслуживают те же два одиноких человека за окошками. Но на экране теперь «следующими на очереди» значатся номера 284, 285 и 286.
Элизавет нажимает кнопку на терминале и получает другой талон – 365. Она усаживается на круглую лавку общего пользования посреди помещения. Внутри конструкции что-то сломано, и, когда Элизавет садится, раздается лязг, а человек, сидящий рядом с ней, подскакивает на пару сантиметров. Затем этот человек меняет положение, сиденье снова лязгает, и теперь уже Элизавет резко опускается на пару сантиметров.
Глядя в окна, она видит на другой стороне улицы роскошное муниципальное здание, где раньше помещался городской почтамт. Теперь там вереница дизайнерских сетевых магазинов. Духи. Одежда. Косметика. Элизавет снова окидывает взглядом помещение. На лавке общего пользования сидят практически те же самые люди, которые находились здесь, когда она вошла в первый раз. Она открывает книгу, которую держит в руке. «Дивный новый мир». Глава первая. «Серое приземистое здание всего лишь в тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись «ЦЕНТРАЛЬНОЛОНДОНСКИЙ ИНКУБАТОРИЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» и на геральдическом щите девиз Мирового Государства: «ОБЩНОСТЬ, ОДИНАКОВОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ»[5].Час сорок пять минут спустя, когда она уже углубилась в книгу, ее окружают в основном те же люди. Они все так же смотрят в пустоту. Изредка лязгают сиденьем. Никто ни с кем не разговаривает. Никто не сказал ей ни единого слова за все время, что она находится здесь. Меняется только очередь, извивающаяся в сторону весов с самообслуживанием. Время от времени кто-нибудь пересекает помещение, чтобы посмотреть на памятные монеты на пластиковом стенде. Отсюда она может видеть, что это набор ко дню рождения или годовщине смерти Шекспира. На одной из монет череп. Значит, вероятно, годовщина смерти.
Элизавет возвращается к книге и, по случайному совпадению, обнаруживает на странице, которую читает, цитату из Шекспира: «О дивный новый мир!» Миранда возвещает, что мир красоты возможен, что даже этот кошмар можно преобразить в нечто прекрасное и высокое. «О дивный новый мир!» Это призыв, приказ. Поднять глаза и увидеть памятные монеты в ту самую секунду, когда книга демонстрирует свою связь с Шекспиром, – в этом действительно что-то есть. Элизавет ерзает на сиденье и нечаянно им лязгает. Женщина рядом слегка подскакивает, но не подает ни малейшего вида, что заметила это или что это ее волнует.
Забавно сидеть на таком индивидуалистическом сиденье общего пользования.
Однако Элизавет не с кем переглянуться по этому поводу, не говоря уж о том, чтобы поделиться своими мыслями о книге и монетах.
Так или иначе, это одно из тех совпадений, которые, возможно, означают что-то по телевизору и в книгах, но в реальной жизни не значат абсолютно ничего. Что можно поместить на памятной монете в честь дня рождения Шекспира? О дивный новый мир. Хорошо бы. Вероятно, примерно с таким чувством мы и рождаемся. Если кто-нибудь вообще это помнит.
Табло показывает 334.
– Здравствуйте, – говорит Элизавет мужчине в окошке минут сорок спустя.
– Количество дней в году, – говорит мужчина.
– Простите? – говорит Элизавет.
– Номер 365, – говорит мужчина.
– Пока я здесь ждала все утро, я успела прочитать почти целую книгу, – говорит Элизавет. – И мне пришло в голову, что, возможно, неплохо было бы завезти сюда книги, чтобы все люди, которым приходится ждать, могли бы еще и почитать, если захочется. Вы никогда не думали о том, чтобы открыть или оборудовать небольшую библиотеку?
– Забавно, что вы об этом сказали, – говорит мужчина. – Большинство людей приходят сюда вовсе не за почтовыми услугами. С тех пор как библиотека закрылась, они прячутся здесь, если на улице дождь или ненастье.
Элизавет оглядывается на свое только что оставленное место. Его заняла очень молодая женщина, кормящая грудью ребенка.
– Тем не менее спасибо за ваш вопрос, и надеюсь, что мы ответили на него, к полному вашему удовлетворению, – произносит мужчина.
Он собирается нажать на кнопку, чтобы взывать к окошку номер 366.
– Нет! – говорит Элизавет.
Мужчина помирает со смеху. Кажется, он пошутил: его плечи ходят вверх-вниз, но при этом не раздается ни звука. Это похоже на смех или на его пародию и одновременно слегка напоминает приступ астмы. Возможно, за окошком Главпочтамта просто не разрешается смеяться в голос.
– Я бываю здесь только раз в неделю, – говорит Элизавет. – Если бы вы так поступили, я смогла бы прийти только на следующей неделе.
Человек поглядывает на бланк «Проверить и отправить».
– Вполне возможно, что вы должны будете прийти еще раз на следующей неделе, – говорит он. – В девяти случаях из десяти что-то всегда оказывается не так.
– Очень смешно, – говорит Элизавет.
– Я не шучу, – говорит мужчина. – С паспортами не шутят.
Мужчина вытряхивает все бумаги из ее конверта по свою сторону барьера.
– Только я должен вам сразу же пояснить, перед тем как мы приступим к проверке, – сказал он, – что если я начну сейчас и проверю вашу форму «Проверить и отправить» сегодня, то это будет стоить 9 фунтов 75 пенсов. То есть я хочу сказать: 9 фунтов 75 пенсов сегодня. Но если сегодня что-то случайно окажется не так, это все равно будет стоить 9 фунтов 75 пенсов, и вам нужно будет заплатить эти деньги сегодня в любом случае, даже если мы не сможем отослать форму по причине какой-нибудь ошибки.
– Хорошо, – говорит Элизавет.
– Но, несмотря на это, – говорит мужчина, – если что-то будет неправильно и вы заплатите 9 фунтов 75 центов сегодня (вам придется это сделать), а затем исправите все, что было неправильно, и принесете обратно в течение месяца, то в случае, если вы покажете квитанцию, у вас не потребуют еще раз 9 фунтов 75 пенсов. Тем не менее, если вы принесете все обратно по истечении месяца и не принесете с собой квитанцию, то у вас снова потребуют 9 фунтов 75 пенсов за новую услугу «Проверить и отправить».
– Понятно, – говорит Элизавет.
– Вы уверены, что все еще хотите приступить к проверке сегодня? – спрашивает мужчина.
– Угу, – отвечает Элизавет.
– Не могли бы вы сказать «да», а не издавать какой-то неопределенно-утвердительный звук?
– А… – говорит Элизавет. – Да.
– Несмотря на то что вам придется заплатить, даже если не получится отправить бланк сегодня?
– Я уже начинаю на это надеяться, – говорит Элизавет. – Еще осталась кое-какая старая классика, которую я не читала.
– Вам это кажется остроумным? – говорит мужчина. – Хотите, чтобы я сходил за бланком для жалоб и вы могли бы его заполнить, пока будете ждать? Однако в этом случае вынужден сообщить, что вам придется отойти от окошка, пока я обслужу кого-нибудь другого, а поскольку у меня скоро обеденный перерыв, вы потеряете следующее место в очереди и вам придется взять в терминале новый талон на кассовое обслуживание и дождаться своей очереди.
– У меня нет абсолютно никакого желания на что-либо жаловаться, – говорит Элизавет.
Мужчина смотрит на заполненную ею форму.
– У вас и правда фамилия Требуй? – спрашивает он.
– Угу, – говорит Элизавет. – В смысле, да.
– А вам подходит, – говорит он. – Как мы уже удостоверились.
– А… – говорит Элизавет.
– Шутка, – говорит мужчина.
Он поднимает и опускает плечи.
– Вы уверены, что написали свое имя правильно? – спрашивает он.
– Да, – отвечает Элизавет.
– Это не общепринятое его написание, – говорит мужчина. – Обычно принято писать его через «б». Насколько мне известно.
– Мое через «в», – говорит Элизавет.
– Как вычурно, – говорит мужчина.
– Это мое имя, – говорит Элизавет.
– Обычно так пишут люди из других стран, не правда ли? – говорит мужчина.
Он пролистывает просроченный паспорт.
– Но здесь сказано, что вы британка, – говорит он.
– Я британка, – говорит Элизавет.
– И здесь такое же написание, через «в», – говорит он.
– Поразительно, – говорит Элизавет.
– Не ерничайте, – говорит мужчина.
Теперь он сравнивает фотографию в старом паспорте с новой серией снимков, сделанных в кабинке, которые Элизавет принесла с собой.
– Узнаваема, – говорит он. – Хотя и с трудом. (Плечи.) И это всего лишь перемены между двадцатью и тридцатью двумя годами. Вот погодите, увидите, какая будет разница, когда снова придете сюда за новым паспортом через десять лет. (Плечи.)
Он сверяет цифры, которые она написала на форме, с цифрами в просроченном паспорте.
– Собираетесь в путешествие? – спрашивает он.
– Возможно, – говорит Элизавет. – На всякий случай.
– Куда планируете отправиться? – спрашивает он.
– Есть куча разных мест, – говорит Элизавет. – Кто знает. Мир – раскрытая устрица.
– Страшная аллергия, – говорит мужчина. – От одного только слова. Если я сегодня умру, буду знать, кого винить.
Плечи – вверх-вниз.
Затем он кладет фотографии из кабинки перед собой. Его рот съезжает на сторону. Мужчина качает головой.
– Что такое? – спрашивает Элизавет.
– Ничего, думаю, все нормально, – говорит он. – Волосы. Их нужно полностью убирать с глаз.
– Но они же полностью убраны, – говорит Элизавет. – Ничуть не закрывают глаза.
– Они тоже ничуть не должны закрывать лицо, – говорит мужчина.
– Они же у меня на голове, – говорит Элизавет. – Они там растут. И мое лицо тоже на голове.
– Ваше остроумие, – говорит мужчина, – ни на йоту не изменит требований, установленных для того, чтобы вы могли в конце концов получить паспорт, который вам понадобится, прежде чем вам разрешено будет выехать за пределы нашего острова. Иными словами, оно не приведет вас никуда.
– Ладно, – говорит Элизавет. – Спасибо.
– Думаю, все нормально, – говорит мужчина.
– Хорошо, – говорит Элизавет.
– Подождите, – говорит мужчина. – Подождите минутку. Всего одну…
Он встает со стула и нагибается позади барьера. Опять распрямляется с картонным ящиком в руках. Там лежат всякие ножницы, ластики, степлер, скрепки и свернутая мерная лента. Он берет ленту и разворачивает первые несколько сантиметров. Прикладывает ленту к одной из фотографий Элизавет, сделанных в будке.
– Да, – говорит он.
– Да? – повторяет Элизавет.
– Так я и думал, – говорит он. – 24 миллиметра. Как я и думал.
– Хорошо, – говорит Элизавет.
– Ничего хорошего, – говорит мужчна. – Боюсь, совсем ничего хорошего. У вас лицо неправильного размера.
– Как у меня может быть лицо неправильного размера? – говорит Элизавет.
– Вы не следовали инструкциям по заполнению лицевой рамки, если, конечно, фотобудка, которой вы воспользовались, соответствует паспортным инструкциям, – говорит мужчина. – Конечно, будка, которой вы воспользовались, возможно, не соответствовала паспортным инструкциям. Но, боюсь, это все равно не поможет.
– Какого размера должно быть мое лицо? – спрашивает Элизавет.
– Правильный размера лица на фотографии, – говорит мужчина, – от 29 до 34 миллиметров. Вашему 5 миллиметров не хватает.
– Почему мое лицо должно быть определенного размера? – спрашивает Элизабет.
– Потому что таковы требования, – говорит мужчина.
– Это для технологии распознавания лиц? – спрашивает Элизавет.
Мужчина впервые смотрит на нее в упор.
– Разумеется, я не могу обработать форму без соблюдения надлежащих требований, – говорит он.
Он берет лист бумаги из стопки справа от себя.
– Вам нужно сходить в «Моментальные снимки», – говорит он, ставя металлической печатью маленький круглый штамп на листе бумаги. – Они сделают для вас все согласно надлежащим требованиям. Куда вы планируете поехать?
– Никуда, пока не получу новый паспорт, – говорит Элизавет.
Он указывает на непропечатанный кружок рядом с пропечатанным.
– Если вы вернетесь в течение месяца, начиная с этой даты, при условии, что все будет правильно, вам не придется платить еще раз 9 фунтов 75 центов за новую услугу «Проверить и отправить». Так куда, вы там сказали, собираетесь поехать?
– Я ничего не сказала, – говорит Элизавет.
– Надеюсь, вы не поймете превратно, если я напишу в этой рамочке, что у вас не все в порядке с головой, – говорит мужчина.
Его плечи не движутся. Он пишет в рамочке рядом со словом «Другое»: ГОЛОВА НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗМЕР.
– Если бы это был телесериал, – говорит Элизавет, – знаете, что произошло бы теперь?
– По телевизору в основном показывают всякую чепуху, – говорит мужчина. – Мне больше нравятся телеприставки.
– Я хотела сказать, – говорит Элизавет, – что в следующих кадрах вы бы умерли от отравления устрицами, а меня бы арестовали и обвинили в том, чего я не совершала.
– Сила внушения, – говорит мужчина.
– Внушение силы, – говорит Элизавет.
– Очень умно, – говорит мужчина.
– А суждение о том, что моя голова на фотографии неправильного размера, означало бы, что я, вероятно, совершила или собираюсь совершить что-то действительно неправильное и противозаконное, – говорит Элизавет. – И то, что я спросила вас о технологии распознавания лиц, то, что мне случайно известно о ее существовании и я спросила вас, пользуются ли ею паспортисты, также ставит меня под подозрение. А в вашем личном отношении к нашей истории сквозит мысль о том, что я, возможно, какая-то ненормальная, раз в моем имени вместо «б» стоит «в».
– Простите? – говорит мужчина.
– Как, например, если ребенок в сериале или фильме проезжает на велосипеде, – говорит Элизавет, – если вы смотрите фильм или сериал, и там ребенок уезжает на велосипеде, и вы видите, как ребенок удаляется все больше и больше, особенно если камера расположена сзади ребенка, в общем, с этим ребенком обязательно что-то должно случиться, вы наверняка видите в последний раз этого ребенка, хотя он по-прежнему ни в чем не виновен. Просто вы не можете быть ребенком и уезжать на велосипеде, потому что вы уже уходите в магазин. Или если счастливый мужчина либо женщина ведет машину, просто с удовольствием ведет машину, и больше ничего не происходит – особенно если эта сцена монтируется с той, где кто-то другой ждет этого человека домой, – то он или она, скорее всего, разобьется и погибнет. Или если это женщина, то ее похитят, и она станет жертвой чудовищного сексуального преступления либо пропадет без вести. Скорее всего, он или она, так или иначе, мчится навстречу своей гибели.
Человек складывает квитанцию «Проверить и отправить» и засовывает ее в конверт, который Элизавет дала ему вместе с формой, старым паспортом и неправильными фотографиями. Он протягивает все это обратно через барьер. Она видит в его глазах страшное отчаяние. Он видит, что она это видит, и еще больше ожесточается. Выдвигает ящик стола, достает оттуда ламинированный лист и ставит его перед барьером.
«Касса закрыта».
– Это не кино, – говорит мужчина. – Это почтамт.
Элизавет провожает его взглядом, пока он выходит через вращающуюся дверь.
Она прокладывает себе дорогу сквозь очередь самообслуживания и выходит из некиношного почтамта.
Пересекает газон и идет к автобусной остановке.
Она отправляется в ОАО «Медицинские услуги Молтингс» на встречу с Дэниэлом.
Дэниэл все еще жив.
Последние три раза, когда Элизавет здесь была, он спал. Он будет спать и на этот раз, когда она туда доберется. Она сядет на стул рядом с кроватью и достанет из сумки книгу.
Дивный старый мир.
Дэниэл будет спать так крепко, как будто он больше никогда не проснется.
– Здравствуйте, мистер Глюк, – скажет она, если он все же проснется. – Простите, что опоздала. Мне измеряли лицо и отвергли его по причине неправильных габаритов.
Но об этом не стоит и думать. Он не проснется.
В противном случае он первым делом сообщил бы ей какой-нибудь факт о том богатейшем месте в мозгу, куда он глубоко погрузился.
– Какая длинная очередь вдоль всей горы, – сказал бы Дэниэл. – Вереница бродяг от подножия до самой вершины одной из гор Сакраменто.
– Звучит нешуточно, – сказала бы она.
– Так оно и было, – сказал бы он. – Любая шутка – это очень серьезно. А он был величайшим на свете комиком. Он нанял их, целые сотни, и они были настоящими – настоящие бродяги для его бродяги-кинозвезды, настоящие одиночки, пропащие бездомные люди. Он хотел, чтобы это было похоже на настоящую «золотую лихорадку». Местная полиция сказала, чтобы продюсеры не платили бродягам ни цента, пока их всех не загребут и не отвезут обратно в Сакраменто. Не хотели, чтобы они расползлись по всему округу. А когда он был еще мальчиком – мальчиком, который потом стал одним из богатейших и известнейших людей в мире, – когда он был мальчиком в работном доме для детей, в сиротском приюте, когда его мать увезли в психушку, на Рождество ему подарили мешочек с конфетами и апельсином: все местные детишки получили то же самое. Но разница была в том, что он растянул этот декабрьский мешочек с конфетами до самого октября.
Он покачал бы головой.
– Гений, – сказал бы он.
Потом бы покосился на Элизавет.
– А, здравствуй, – сказал бы он.
Посмотрел бы на книгу у нее в руках.
– Что читаешь? – спросил бы он.
Элизавет показала бы обложку.
– «Дивный новый мир», – сказала бы она.
– А, это старье, – сказал бы он.
– Мне в новинку, – сказала бы она.
Тот минутный диалог? Только в воображении.
Дэниэл сейчас в фазе усиленного сна. Каждая сестричка, которая случайно оказывается на дежурстве, всегда считает нужным объяснить, пока Элизавет сидит с ним, что фаза усиленного сна наступает, если человек при смерти.
Он такой красивый.
Такой крошечный в кровати. Кажется, будто он всего лишь голова. Он стал таким маленьким и хрупким, худым, как скелет мультяшной рыбы, оставленный мультяшным котом, его тело настолько истончилось под одеялами, что не производит почти никакого впечатления: просто голова, лежащая сама по себе на подушке, голова с выемкой, и эта выемка – рот.
Его глаза закрыты и слезятся. Между вдохом и выдохом проходит много времени. Во время этой долгой паузы он вообще не дышит, так что всякий раз, когда он выдыхает, есть риск, что он может больше не вдохнуть: вряд ли кто-нибудь способен не дышать так долго и при этом оставаться дышащим и живым.
– Старость – не радость, но он молодцом, – говорят сестрички.
– Ему и так подфартило, – говорят сестрички, словно намекая, что уже недолго осталось.
– Да что вы говорите?
Они не знают Дэниэла.
– Вы ближайшая родственница? Просто мы безуспешно пытались связаться с ближайшими родственниками мистера Глюка, – сказали в регистратуре, когда Элизавет пришла в первый раз. Элизавет солгала, даже не запнувшись. Она дала им номер своего мобильного, домашний номер и домашний адрес своей матери.
– Нам понадобятся документы, удостоверяющие личность, – сказали в регистратуре.
Элизавет достала паспорт.
– Извините, но этот паспорт просрочен, – сказали в регистратуре.
– Да, но всего месяц назад. Я собираюсь продлить срок его действия. Ведь ясно же, что это я, – сказала Элизавет.
Женщина из регистратуры принялась распинаться о том, что разрешено, а что не разрешено. Затем что-то произошло у входной двери: колесо инвалидного кресла застряло в пазу между пандусом и краем двери, и женщина из регистратуры пошла найти кого-нибудь, чтобы он высвободил кресло. Из подсобки вышла ассистентка. Заметив, как Элизавет положила свой паспорт обратно в сумочку, ассистентка предположила, что паспорт уже проверили, и распечатала карточку посетителя для Элизавет.
Глядя на мужчину в инвалидном кресле, застрявшем в пазу, она улыбается. Мужчина оглядывается на нее, как будто не знает, кто она такая. Впрочем, он и впрямь не знает.
Она заносит стул из коридора и ставит его рядом с кроватью.
Потом достает книгу, прихваченную с собой на тот случай, если Дэниэл откроет глаза (он не любит знаков внимания).
С раскрытой книгой в руках – «Дивный новый мир» – она смотрит на макушку его головы. Смотрит на темные пятна на коже под остатками волос.
Дэниэл лежит неподвижно, как покойник. Но он все еще жив.
В растерянности Элизавет достает телефон. Набирает на нем слово «еще» – просто взглянуть, что выскочит.
Поисковик мгновенно находит череду предложений, демонстрирующих употребление слова.
«Еще не вечер!
Она все еще держала Джонатана за руку.
Когда они обернулись, Алекс был еще верхом на лошади.
Она еще выглядела стильно.
Толпа еще стояла и ждала.
Псамметих испробовал еще один план.
Еще были живы люди, знавшие братьев Райт».
– Ах да, Орвилл и Уилл – летучие братья, с которых все это началось, – молча говорит Дэниэл, неподвижно лежащий на кровати. – Всего за один день эти ребята подарили нам целый мир: воздушную войну и все эти скучающие, беспокойные очереди на проверку безопасности по всему свету. Но я готов поспорить (говорит/не говорит он), что в этом списке нет слова «вещество».
Элизавет прокручивает вниз, чтобы проверить.
– А это слово «прокручивать», – молча говорит Дэниэл, – напоминает мне обо всех свернутых свитках, не читанных вот уже два тысячелетия, что все еще ждут своего часа в пока еще не раскопанной библиотеке Геркуланума.
Она прокручивает страницу до самого низа.
– Вы правы, мистер Глюк. Никаких веществ.
– Но я еще выгляжу стильно, – говорит/не говорит Дэниэл.
Дэниэл лежит совершенно неподвижно на кровати, и впадина его рта, эти непроизнесенные слова служат порогом, за которым заканчивается известный ей мир.
Элизавет смотрит на старый жилой дом с меблированными комнатами – из тех, что сносят бульдозерами и что с грохотом рушатся на старой пленке 1960–1970-х годов, когда модернизировали британские города.
Он все еще стоит, но уже на фоне разоренного ландшафта. Все другие дома на улице выдернуты, словно порченые зубы.
Она распахивает дверь. В прихожей темно, обои потемнели и покрылись пятнами. В гостиной пусто, никакой мебели. Половицы кое-где выломаны тем, кто здесь жил или самовольно вселился, и сожжены в камине: сноп сажи и копоти над старой полкой взметается чуть ли не до потолка.
Она представляет стены гостиной белыми. Представляет всё внутри беленым.
Даже дыры в полу, на месте выломанных белых досок, побелены изнутри.
В окна дома видна высокая изгородь из бирючины. Элизавет выходит на улицу, чтобы побелить и эту высокую изгородь.
Сидя на беленой старой кушетке с торчащей из нее набивкой, тоже жесткой от белой эмульсионной краски, Дэниэл смеется над тем, что она делает. Он смеется молча, но обхватив ступни, точно ребенок, пока она красит один крохотный зеленый листочек за другим.
Он ловит ее взгляд. Подмигивает. Ну, вот и все.
Они оба стоят в безупречно чистом белом помещении.
– Да, – говорит она. – Теперь мы сможем выручить за него целое состояние. Лишь очень богатые люди могут позволить себе в наше время такой минимализм.
Дэниэл пожимает плечами. Plus ça change.
– Пойдем погуляем, мистер Глюк? – спрашивает Элизавет.
Но Дэниэл уже выходит сам, с приличной скоростью пересекая белую пустыню. Элизавет пытается его догнать. У нее едва получается. Просто он всегда намного ее опережает. Белизна тянется перед ними до бесконечности. Когда Элизавет оглядывается через плечо, она тянется до бесконечности и за спиной.
– Кто-то убил женщину – члена парламента, – говорит она Дэниэлу в спину, пытаясь поравняться. – Мужчина застрелил ее, а затем напал с ножом. Как будто мало просто застрелить. Впрочем, это уже старая новость. Раньше этой новости хватило бы на целый год. Но в наше время новости – это стадо разогнавшихся овец, сбегающих по крутому склону.
Дэниэл кивает затылком.
– Томас Харди на «скорости», – говорит Элизавет.
Дэниэл останавливается и поворачивается. Он добродушно улыбается.
Его глаза закрыты. Он делает вдох. Выдох. Его одежда сшита из больничных простыней. В уголках стоят больничные штампы, изредка она их замечает – розово-голубые печати на манжетах или в углу подкладки внизу пиджака. Дэниэл чистит белый апельсин белым перочинным ножом. Спираль кожуры опадает в белизну, словно в глубокий снег, и исчезает. Дэниэл наблюдает за этим и раздраженно цыкает. Он смотрит на очищенный апельсин в руке. Тот белый. Дэниэл качает головой.
Он хлопает по карманам, груди, штанам, словно что-то ищет. Потом вытаскивает прямо из грудной клетки, из ключицы, будто фокусник, свободно плывущую массу цветного апельсина.
Он набрасывает его, точно огромный плащ, на белизну перед собой. Но, прежде чем тот оседает вдали, Дэниэл накручивает чуточку на палец и обматывает им белоснежный апельсин, который по-прежнему держит в руке.
Белый апельсин приобретает естественный цвет.
Дэниэл кивает.
Он вытягивает из середины себя зеленый и синий цвета, точно череду носовых платков. Оранжевый в его руке оборачивается сезанновскими цветами.
Дэниэла окружает оживленная толпа.
Люди выстраиваются в очередь, приносят свои белые предметы, протягивают их.
Анонимы начинают оставлять комменты о Дэниэле под Дэниэлом – размером с запись в Твиттере. Они комментируют его способность изменять предметы.
Комменты становятся все враждебнее.
Люди начинают гудеть, как рой шершней, и Элизавет замечает, что к ее босым ногам очень близко подбирается что-то похожее на жидкие экскременты. Она старается не ступить в них.
Призывает и Дэниэла смотреть, куда ступает.
– Небольшой перерывчик? – спрашивает медсестра. – Ничего страшного, да?
Элизавет приходит в себя, открывает глаза. Книга падает с колен. Элизавет подбирает ее.
Сестричка открывает кран на мешочке c жидкостью для регидратации.
– Кое-кому приходится пахать, чтоб прокормиться, – говорит она.
Она подмигивает Элизавет.
– Я просто задумалась, – говорит Элизавет.
– Он тоже, – говорит сестричка. – Очень милый, вежливый джентльмен. Мы по нему скучаем. Фаза усиленного сна. Обычно такое бывает, когда дело идет (небольшая пауза перед последним словом) к концу.
«Паузы – точный язык, еще выразительнее, чем сама речь», – думает Элизавет.
– Пожалуйста, не говорите о мистере Глюке так, словно он вас не слышит, – говорит она. – Он слышит вас так же хорошо, как и я. Хотя и кажется, будто он спит.
Сестричка цепляет график, на который смотрела, обратно на поручень на дальнем конце кровати.
– Один раз я его мыла, – говорит она, как будто Элизавет здесь тоже нет, а сама она вполне привыкла к тому, что здесь нет людей или приходится вести себя так, как будто их нет, – а в холле громко работал телевизор, и дверь была открыта. Он вдруг такой открывает глаза и садится прямо в кровати, посредине. Реклама супермаркета. У людей над головой включается песня, и все покупают товары, но роняют их на пол и пляшут такие по всему магазину, а он такой садится в кровати и говорит, это моя, это я написал.
– Старая «королева», – еле слышно говорит мама Элизавет.
– Но почему именно он? – спрашивает она на своей обычной громкости.
– Потому что он наш сосед, – отвечает Элизавет.
Это было во вторник вечером, в апреле 1993-го. Элизавет было восемь лет.
– Но мы с ним даже незнакомы, – сказала мама.
– Нам нужно побеседовать с соседом о том, что значит быть соседями, а потом составить его словесный портрет, – сказала Элизавет. – Ты должна пойти со мной, я должна подготовить пару-тройку вопросов и задать их соседу для портрета, и ты должна меня сопровождать. Я же говорила тебе. Я говорила тебе в пятницу. Ты сказала, что мы пойдем. Это для школы.
Мама поправляет макияж на глазах.
– Но о чем? – спрашивает мать. – Обо всем этом заумном искусстве, что у него там?
– У нас тоже есть картины, – сказала Элизавет. – Разве это заумное искусство?
Она посмотрела на стену у матери за спиной, на картину с рекой и домишком. Картину с белками, сделанными из настоящих сосновых шишек. Плакат с танцовщицами Анри Матисса. Плакат с женщиной в юбке и Эйфелевой башней. Увеличенные фотографии ее бабушки и дедушки, когда мама была еще маленькой. Снимки мамы, когда она была еще грудничком. Снимки самой Элизавет-грудничка.
– Камень с дыркой посредине. Посредине его гостиной, – говорила мама. – Это самое что ни на есть заумное искусство. Я не особо любопытничала. Просто проходила мимо. Свет был включен. Я думала, тебе нужно собирать и определять опавшие листья.
– Это было типа недели три назад, – сказала Элизавет. – Так ты идешь?
– А нельзя позвонить Эбби и задать ей вопросы по телефону? – спросила мама.
– Но мы же больше не живем рядом с Эбби, – сказала Элизавет. – Нужен тот, кто наш сосед именно сейчас. И надо разговаривать лично, это интервью с глазу на глаз. И я должна спросить, как было там, где сосед вырос, и какой была жизнь, когда сосед был в моем возрасте.
– У людей есть частная жизнь, – сказала мама. – Нельзя просто так совать нос в их дела и все вынюхивать. Да и вообще. Зачем школе знать о наших соседях?
– Просто нужно, и все, – сказала Элизавет.
Она пошла и села на верхней ступеньке лестницы. Кончится тем, что она, новенькая, не выполнит домашку. С минуты на минуту мама скажет, что идет за покупками в ночной «Теско» и вернется через полчасика. А на самом деле вернется через два часа. От нее будет пахнуть сигаретами, и она не принесет ничего из «Теско».
– Это по истории, о том, как быть соседями, – сказала Элизавет.
– Наверное, он плохо говорит по-английски, – сказала мама. – Нельзя просто так беспокоить дряхлых пожилых людей.
– Он не дряхлый, – сказала Элизавет. – Он не иностранец. Не старый. И вообще не похож на затворника.
– Не похож на кого? – переспросила мама.
– Это к завтрему надо, – сказала Элизабет.
– У меня есть идея, – сказала мама. – Почему бы тебе все это не придумать? Представь, будто задаешь ему вопросы. И запиши ответы, которые он мог бы дать.
– Это должно быть правдой, – сказала Элизавет. – Это для новостей.
– Они никогда не узнают, – сказала мама. – Придумай. Настоящие новости тоже всегда придумывают.
– Настоящие новости никогда не придумывают, – сказала Элизавет. – Это же новости.
– Мы вернемся к этой дискуссии, когда ты немного повзрослеешь, – сказала мама. – Как ни крути, придумывать гораздо труднее. В смысле, придумывать хорошо, так, чтобы выглядело убедительно. Это требует гораздо больше умения. Знаешь что. Если ты все придумаешь и сумеешь убедить мисс Симмондс в том, что это правда, я куплю тебе «Красавицу и Чудовище».
– На видео? – переспросила Элизавет. – Правда?
– Угу, – сказала мама, повернувшись на одной ноге, чтобы взглянуть на себя сбоку.
– Но ведь наш видеопроигрыватель все равно сломан, – сказала Элизавет.
– Если убедишь ее, – сказала мама, – раскошелюсь на новый.
– Ты серьезно? – спросила Элизавет.
– А если мисс Симмондс отчитает тебя за то, что это выдумка, я позвоню в школу и заверю, что это не выдумка, а правда, – сказала мама. – Идет?
Элизавет села за компьютерный стол.
Если сосед и был стариком, он совершенно не был похож на стариков по телевизору, которые всегда выглядят так, словно их заперли внутри резиновой маски, только размером не с лицо, а по длине всего тела – от головы до пят, и если бы ее можно было сорвать или раскроить, то внутри мы бы обнаружили нетронутого, неизменившегося молодого человека, который просто шагнул бы из старой бутафорской кожи наружу – как, например, когда очищаешь от кожуры банан. Но пока эти люди заперты внутри этой кожи, их глаза, по крайней мере глаза людей во всех фильмах и комедийных программах, полны отчаяния, как будто они пытаются подать знак сторонним наблюдателям, не выдавая при этом секрет, что их захватили пустые старческие оболочки, которые теперь по какой-то зловещей причине поддерживают в них жизнь, подобно тем осам, что откладывают яйца в других существах, чтобы их вылупившемуся потомству было чем питаться. Только тут, наоборот, старая личность кормится молодой. Остаются только глаза – умоляющие, запертые за глазными впадинами.
Мама уже стояла у входной двери.
– Пока, – крикнула она, – скоро буду!
Элизавет выбежала в прихожую.
– А как пишется слово «элегантный»?
Входная дверь закрылась.
На следующий вечер после ужина мама закрыла блокнот «ньюзбук», заложив нужную страницу, вышла через черный ход и направилась через двор к еще залитой солнцем задней изгороди, наклонилась над ней и помахала блокнотом в воздухе.
– Привет, – сказала она.
Элизавет наблюдала с черного хода. Сосед читал книгу и пил вино из бокала в последних лучах солнца. Он положил книгу на садовый столик.
– А, здравствуйте, – сказал он.
– Я Венди Требуй, – сказала она. – Ваша соседка. Все собиралась прийти и познакомиться с вами, с тех пор как мы с дочерью вселились.
– Дэниэл Глюк, – сказал он, не вставая со стула.
– Очень приятно, мистер Глюк, – сказала мама.
– Дэниэл, пожалуйста, – сказал он.
У него был голос, как в старых черно-белых фильмах о военных летчиках в нарядных мундирах.
– В общем, очень не хочется вас беспокоить, – сказала мама, – но мне вдруг стукнуло в голову, и надеюсь, вы не будете против и вам это не покажется нахальством… Я подумала, что, возможно, вы прочитаете эту писульку, которую моя дочка сочинила для школы.
– Обо мне? – спросил сосед.
– Она прелестная, – сказала мама. – «Словесный портрет нашего ближайшего соседа». Не сказать, чтобы я сама очень хорошо с этим справлялась. Но я прочитала, а потом увидела вас во дворе и подумала, в общем… В смысле, это обворожительно. В смысле, я краснею от стыда, но там так мило о вас написано.
Элизавет была в шоке. С головы до пят. Как будто само понятие «шок» распахнуло пасть и проглотило ее целиком, точь-в-точь как старческая прорезиненная кожа.
Она шагнула за дверь, откуда ее не было видно, и услышала, как сосед скрипит стулом по плитке. Услышала, как он подходит к маме за изгородью.
Когда на следующий день она вернулась из школы, сосед сидел по-турецки на садовой ограде прямо у ворот, через которые нужно было пройти, чтобы попасть в дом.
Она остановилась как вкопанная на углу улицы.
Она пройдет мимо, сделав вид, что не живет в доме, где они живут.
Он не узнает ее. Она ребенок с совершенно другой улицы.
Она перешла улицу, как будто собиралась пройти мимо. Он распрямил ноги и встал.
Когда он заговорил, на улице никого больше не было, так что он однозначно обращался к ней. Не отвертеться.
– Здравствуй, – сказал он со своей стороны улицы. – Я надеялся, что, возможно, наткнусь на тебя. Я ваш сосед. Дэниэл Глюк.
– На самом деле я не Элизавет Требуй, – сказала она.
Она прошагала дальше.
– Ах вот оно что, – сказал он. – Ясно.
– Я другая, – сказала она.
Она остановилась на другой стороне улицы и обернулась.
– Это моя сестра написала, – сказала она.
– Ясно, – сказал он. – Что ж, как бы там ни было, мне все равно хотелось бы кое-что тебе сказать.
– Что? – спросила Элизавет.
– Просто я думаю, что ваша фамилия французского происхождения, – сказал мистер Глюк. – Кажется, она происходит от слов «трэ» и «буй», которые означают в переводе «очень» и «кипит».
– Правда? – сказала Элизавет. – Мы всегда считали, что она означает типа «чего-то требовать».
Мистер Глюк сел на бордюр и обхватил колени руками. Он кивнул.
– «Очень кипит» или «сильно кипит», кажется, так, да, – сказал он. – В этом есть что-то от народных масс. Как говорил Авраам Линкольн. От народа, о народе, для народа.
(Он не старый. Она была права. Ни один настоящий старик не сидит по-турецки и не обнимает вот так колени. Старики могут разве что сидеть в гостиных, как будто их оглушили электрошокером.)
– Я знаю, что мое… имя моей сестры, в смысле, имя Элизавет должно означать что-то типа «давать обет Господу», – сказала Элизавет. – Но это тяжеловато, потому что я совсем не уверена, что верю в него, в смысле, что она верит. В смысле, не верит.
– У нас с ней, – сказал он, – есть еще кое-что общее. На самом деле, учитывая события, которые мне случилось пережить, я бы сказал, что ее имя, Элизавет, означает, что когда-нибудь, вопреки всем ожиданиям, ее, вероятно, коронуют.
– Коронуют? – переспросила Элизавет. – Как вас?
– Гм… – сказал сосед.
– Лично мне кажется, что это было бы очень хорошо, – сказала Элизавет, – раз уж вы окружаете себя всем этим заумным искусством.
– А, – сказал сосед. – Согласен.
– А имя Элизавет означает это, даже если пишется через «в», а не «б»? – спросила Элизавет.
– Ну да, без сомнения, – сказал он.
Элизавет перешла на ту же сторону улицы, что и сосед, и встала немного поодаль.
– А что значит ваше имя? – спросила она.
– Фамилия означает, что я счастливый и везучий, – сказал он. – А имя – что если меня бросить в яму со львами, я выживу. Ну и если тебе когда-нибудь приснится сон и захочется узнать, что он означает, можешь спросить у меня. Мое имя также означает способность толковать сновидения.
– Правда? – спросила Элизавет.
Она села на бордюр слегка в сторонке от соседа.
– На самом деле у меня очень плохо получается, – сказал он. – Но я могу придумать что-нибудь полезное, забавное, проницательное и доброе. Нас это объединяет – тебя и меня. Как и способность становиться кем-то другим, если мы пожелаем.
– Вы хотите сказать, это объединяет вас с моей сестрой, – сказала Элизавет.
– Ну да, – сказал сосед. – Очень приятно было познакомиться с вами обеими. Наконец-то.
– Что значит «наконец-то»? – сказала Элизавет. – Мы переехали сюда всего полтора месяца назад.
– Друзья на всю жизнь, – сказал он. – Порой мы ждем их целую жизнь.
Он протянул руку. Она встала, подошла и тоже протянула руку. Он пожал ее.
– До скорого, нежданная королева мира. Не будем забывать и о людях, – сказал он.
После голосования прошло всего чуть больше недели. Флаги в деревне, где теперь живет мама Элизавет, развешаны над Хай-стрит в честь летнего фестиваля: красный, белый и синий пластик на фоне грозного неба, и хотя дождь еще не идет, а тротуары сухие, пластиковые треугольники так гремят на ветру друг о друга, что кажется, будто по всей Хай-стрит грохочет ливень.
Деревня нахмурилась. Элизавет проходит мимо коттеджа недалеко от автобусной остановки, на фасаде которого, над дверью и окном, черной краской намалеваны слова: «ВАЛИТЕ» и «ОТСЮДА».
Люди опускают глаза, отворачиваются или, наоборот, пристально вглядываются в нее. Люди в магазинах, где она покупает фрукты, ибупрофен и газету для матери, разговаривают с какой-то новой отчужденностью. Люди, мимо которых она проходит на пути от автобусной остановки до маминого дома, рассматривают ее и друг друга с каким-то новым высокомерием.
Мама говорит, что половина деревни не разговаривает с другой половиной, но ей самой практически все равно, поскольку никто в деревне с ней и так не разговаривает и никогда не разговаривал, хотя она живет здесь уже почти десять лет (тут мама слегка впадает в мелодраматизм), и она сама немного гремит, прибивая к кухонной стене старую карту Военно-геодезического управления, купленную вчера в магазине, где раньше сидел электрик и располагался магазин электроприборов, а теперь продаются пластиковые морские звезды, что-то наподобие керамики, кустарный садовый инвентарь и холщовые садовнические перчатки, которые выглядят так, словно их сделали по образцу утилитаристской утопии 1950-х годов.
– Такой магазин с такими вещами, которые выглядят мило, стоят больше, чем нужно, и словно убеждают тебя, что если ты их купишь, то заживешь правильной жизнью, – говорит мама сквозь зубы, придерживая два гвоздика.
Старая карта 1962 года. Мама провела гелевой ручкой красную линию вдоль всего побережья, отметив, где проходит новая береговая линия.
Она показывает пальцем местечко невдалеке от моря, на новой красной линии.
– Десять дней назад здесь рухнул в море домишко времен Второй мировой, – говорит она.
Она тычет в другую половину карты, подальше от берега.
– Здесь построили новый забор, – говорит она. – Взгляни.
Она тычет в слово «общинная» во фразе «общинная земля».
Видимо, на участке земли недалеко от деревни возвели трехметровый забор с колючим ленточным заграждением наверху. На столбах вдоль всей протяженности – камеры слежения. Он огораживает кусок земли, где нет ничего, кроме дрока, песчаных низин, пучков высокой травы, одиноких деревьев, куп диких цветов.
– Сходи посмотри на него, – говорит мама. – Ты должна что-то с этим сделать.
– Что я могу с этим сделать? – спрашивает Элизавет. – Я преподаю историю искусств.
Мама качает головой.
– Поймешь, что надо делать, – говорит она. – Ты молодая. Давай. Пойдем вместе.
Они идут по дороге с односторонним движением. По обе ее стороны растет высокая трава.
– Не верится, что он еще жив, твой мистер Глюк, – говорит мама.
– Так говорят почти все в «Молтингсе», – говорит Элизавет.
– Он уже тогда был таким старым, – говорит мама. – Ему, наверно, больше ста лет. Наверняка. В 90-х ему уже стукнуло восемьдесят. Помнишь, он ходил по улице, весь сгорбленный от старости.
– Этого я совсем не помню, – говорит Элизавет.
– Как будто нес на спине бремя всего мира, – говорит мама.
– Ты всегда говорила, что он похож на танцора, – говорит Элизавет.
– Старого танцора, – говорит мама. – Он был весь согнутый.
– Ты говорила, он гибкий, – говорит Элизавет.
Потом она говорит:
– Господи.
Груда сетки-рабицы пересекает путь, которым Элизавет проходила несколько раз, с тех пор как мама переселилась сюда, и преграждает дорогу, насколько хватает глаз, куда бы она ни повернула голову.
Мама садится на взрыхленный грунт возле забора.
– Устала, – говорит она.
– Тут же всего две мили, – говорит Элизавет.
– Я не об этом, – говорит она. – Я устала от новостей. Устала о того, как они муссируют одно и отвлекают внимание от другого – того, что поистине ужасно. Я устала от сарказма. Устала от злобы. Устала от подлости. Устала от корыстолюбия. Устала от того, что мы даже не пытаемся положить этому конец. Устала от того, что мы это поощряем. Устала от насилия, которое совершается, и от насилия, которое только на подходе, приближается, пока еще не совершилось. Устала от лжецов. Устала от оправданных лжецов. Устала от того, как лжецы этому потворствовали. Устала гадать о том, сделали они это по глупости или же намеренно. Устала от лживых правительств. Устала от людей, которым уже все равно, лгут им или нет. Устала от того, что меня заставляют испытывать этот страх. Устала от агрессии. Устала от трусистости.
– По-моему, нет такого слова, – говорит Элизавет.
– Я устала от того, что не знаю правильных слов, – говорит мама.
Элизавет думает о кирпичах старого разрушенного домишка под водой, о том, как из их пор вырываются пузырьки воздуха, когда их накрывает прилив.
«Я кирпич под водой», – думает она.
Почувствовав, что дочь отвлеклась, мама откидывается на забор.
Элизавет, уже уставшая от мамы (хотя провела с ней всего полтора часа), тычет пальцем в маленькие зажимы, расположенные в разных местах на проволоке.
– Осторожно, – говорит она. – Кажется, она под напряжением.
По всей стране царили горе и радость.
По всей стране случившееся хлестало вокруг, словно электрический провод под напряжением, сорванный с опоры в грозу и хлещущий в воздухе по деревьям, крышам, машинам.
По всей стране люди чувствовали, что это неправильно. По всей стране люди чувствовали, что это правильно. По всей стране люди чувствовали, что они на самом деле проиграли. По всей стране люди чувствовали, что они на самом деле выиграли. По всей стране люди чувствовали, что они поступили правильно, а другие – неправильно. По всей стране люди искали в гугле: «Что такое ЕС?» По всей стране люди искали в гугле: «Переезд в Шотландию». По всей стране люди искали в гугле: «Заявление об оформлении ирландского паспорта». По всей стране люди называли друг друга мудаками. По всей стране люди чувствовали себя в опасности. По всей стране люди катались со смеху. По всей стране люди чувствовали, что получили легальный статус. По всей стране люди чувствовали себя ограбленными и испытывали шок. По всей стране люди чувствовали себя праведными. По всей стране людей тошнило. По всей стране люди чувствовали бремя истории на плечах. По всей стране люди чувствовали, что история ничего не значила. По всей стране люди чувствовали, что их не принимали в расчет. По всей стране люди возлагали на это свои надежды. По всей стране люди размахивали флагами под дождем. По всей стране люди рисовали граффити со свастикой. По всей стране люди угрожали другим людям. По всем стране люди приказывали людям убираться. По всей стране медиа сходили с ума. По всей стране политики лгали. По всей стране политики размежевывались. По всей стране политики испарялись. По всей стране испарялись обещания. По всей стране испарялись деньги. По всей стране делами заправляли социальные сети. По всей стране дела складывались скверно. По всей стране никто об этом не говорил. По всей стране никто не говорил ни о чем другом. По всей стране разливалась расистская желчь. По всей стране люди говорили, дело не в том, что им не нравились иммигранты. По всей стране люди говорили, что все дело в контролировании. По всей стране все изменилось в одночасье. По всей стране имущие и неимущие остались такими же. По всей стране привычный крошечный процент людей выкачивал деньги из привычного огромного процента людей. По всей стране – деньги деньги деньги деньги. По всей стране – нет денег нет денег нет денег нет денег.
По всей стране страна раскололась на части. По всей стране страны плыли по течению.
По всей стране страна разделилась: тут забор, там стена, тут прочерчена линия, там перечеркнута линия,
линия, которую нельзя пересекать здесь,
линия, которую лучше не пересекать там,
красивая линия здесь,
танец в линию там,
линия, о которой ты даже не знаешь, проходит здесь,
линия, которую ты не можешь себе позволить, там,
целая новая линия огня,
линия фронта,
конец линии/строки,
здесь/там.
Это было в понедельник, обычным теплым днем в конце сентября 2015 года, в Ницце, на юге Франции. Люди вышли на улицу и уставились на фасад Дворца префектуры, вдоль которого быстро спустился длинный красный флаг со свастикой, закрывший собой балконы. Кто-то взвизгнул. В толпе закричали и стали тыкать пальцами.
Но это просто экранизировали мемуары, используя дворец для воссоздания отеля «Эксельсиор», где размещались контора и квартира офицера СС Алоиса Бруннера, после того как итальянцы сдались союзникам, а к власти пришла гестапо.
На следующий день «Дейли телеграф» опубликовала извинения местных властей за то, что они не предупредили в должной мере о планах съемочной группы людей, живущих в городе, и сообщила, что замешательство и оскорбление публики вскоре переросли в повальную съемку селфи.
В конце новостного сюжета был помещен интернет-опрос: «Вправе ли местные жители возмущаться вывешенным флагом? Да или нет?»
Проголосовали почти четыре тысячи человек. Семьдесят процентов ответили: «Нет».
Это было в пятницу, обычным теплым днем в конце сентября 1943 года, в Ницце, на юге Франции. Двадцатидвухлетняя Ханна Глюк (чье настоящее имя не значилось в ее документах, где она была названа Адриенной Альбер) сидела на полу в кузове грузовика. Подобрали пока девять человек, сплошь женщины, и ни с одной из них Ханна не была знакома. Она переглянулась с женщиной напротив. Та опустила глаза, потом снова подняла и еще раз переглянулась с Ханной. Потом обе опустили взгляд и уставились в металлическое днище грузовика.
Не было никаких сопровождающих машин. Всего пять человек: водитель плюс охранник и один-единственный довольно молодой офицер спереди, да еще двое сзади, оба еще моложе. Кузов был наполовину открыт, а наполовину покрыт брезентом. Люди на улице могли видеть их головы и охранников, когда они проезжали мимо. Ханна услышала, как офицер говорил одному из мужчин сзади, когда она влезала в кузов: «Не волнуйся».
Но люди на улице их не замечали или старались не замечать. Они смотрели и отворачивались. Смотрели, но не видели.
Улицы были светлые и роскошные. Прекрасный солнечный свет, резко отражаясь от зданий, проникал в кузов грузовика.
Когда они остановились в переулке, чтобы подобрать еще двоих, Ханна снова встретилась глазами с женщиной напротив. Та шевельнула головой с едва заметным согласием.
Грузовик рывком остановился. Затор. Они выбрали самый идиотский маршрут. Ну и хорошо, обоняние подсказало ей: пятничный рыбный рынок, оживленно.
Ханна встала.
Один из охранников велел ей сесть.
Женщина напротив встала. Все женщины в кузове одна за другой встали по их примеру. Охранник заорал, чтобы они сели. Оба охранника заорали. Один пригрозил ружьем.
«Этот город к такому еще не привык», – подумала Ханна.
– Прочь с дороги, – сказала женщина, кивнувшая Ханне. – Всех не перебьете.
– Куда вы их везете?
К борту грузовика подошла женщина и заглянула внутрь. У нее за спиной столпилось несколько женщин с рынка: модницы, девушки – торговки рыбой в косынках и женщины постарше.
Тогда офицер вылез из кузова и ударил женщину, спросившую, куда их везут, в лицо. Она упала и ударилась головой о каменную тумбу. Ее элегантная шляпка слетела на землю.
Женщины на обочине теснее прижались друг к дружке. Их молчание стало осязаемым. Оно покрыло рынок тенью, завесой облаков.
«Это молчание, – подумала Ханна, – напоминает тишину, что охватывает дикую природу и прерывает пение птиц во время солнечного затмения, когда посреди бела дня наступает что-то наподобие ночи».
– Простите, дамы, – сказала Ханна. – Я схожу здесь.
Остальные женщины в кузове сбились в кучу и пропустили ее, дали ей пройти первой.
Это было в другую пятницу на октябрьских каникулах 1995 года. Элизавет было одиннадцать лет.
– Сегодня за тобой присмотрит мистер Глюк из соседнего дома, – сказала мама. – Мне снова надо в Лондон.
– Зачем Дэниэлу за мной присматривать? – спросила Элизавет.
– Тебе одиннадцать лет, – сказала мама. – У тебя нет выбора. И не называй его Дэниэлом. Зови его мистер Глюк. Будь вежливой.
– Да что ты знаешь о вежливости? – сказала Элизавет.
Мама сурово взглянула на нее и сказала, что она, мол, вся в отца.
– Ну и хорошо, – сказала Элизавет. – Мне бы совсем не хотелось пойти в тебя.
Элизавет заперла за мамой входную дверь. Заперла и дверь со двора. Задернула шторы в гостиной, села и принялась бросать зажженные спички на диван, проверяя, насколько огнеупорная их новая трехкомнатная квартира.
В щель между шторами она увидела, как по тропинке перед домом приближается Дэниэл. Элизавет открыла дверь, хоть прежде и решила, что не будет.
– Привет, – сказал он. – Что читаешь?
Элизавет показала пустые руки.
– Разве не видно, что я ничего читаю? – сказала она.
– Всегда читай что-нибудь, – сказал он. – Даже если не читаешь физически. Как иначе познать мир? Считай это постоянной.
– Постоянной чем? – переспросила Элизавет.
– Постоянным постоянством, – ответил Дэниэл.
Они вышли прогуляться по берегу канала. Всякий раз, когда они кого-то встречали, Дэниэл здоровался. Иногда люди здоровались в ответ, временами – нет.
– На самом деле неправильно разговаривать с незнакомцами, – сказала Элизавет.
– В моем возрасте это нормально, – сказал Дэниэл. – Это неправильно для человека твоего возраста.
– Мне надоело быть человеком своего возраста и не иметь выбора, – сказала Элизавет.
– Не переживай, – сказал Дэниэл. – Это пройдет – и глазом не успеешь моргнуть. А теперь скажи мне: что ты читаешь?
– Последняя книга, которую я прочитала, называлась «Джигитовка Джилл»[6], – сказала Элизавет.
– И на какие мысли она тебя натолкнула? – спросил Дэниэл.
– Вы хотите спросить, о чем она? – сказала Элизавет.
– Ну, можно и так выразиться, – сказал Дэниэл.
– О девочке, у которой умер отец, – сказала Элизавет.
– Странно, – сказал Дэниэл. – Судя по названию, это что-то о лошадях.
– Конечно, внутри много всего о лошадках, – сказала Элизавет. – На самом деле умершего отца внутри нет. Его там вообще нет. Просто из-за этого они переезжают на другую квартиру, маме приходится работать, а дочка начинает интересоваться лошадками, увлекается джигитовкой, ну и так далее.
– Но твой-то отец жив? – спросил Дэниэл.
– Да, – ответила Элизавет. – Он живет в Лидсе.
– Какое чудесное слово – «джигитовка», – сказал Дэниэл. – Оно произросло из другого языка.
– Слова не произрастают, – сказала Элизавет.
– Произрастают, – сказал Дэниэл.
– Они же не растения, – сказала Элизавет.
– Слова – тоже организмы, – сказал Дэниэл.
– Ореганизмы, – сказала Элизавет.
– Растительные и вербальные, – сказал Дэниэл. – Язык как семена мака. Нужно просто взрыхлить землю, и тогда взойдут спящие в ней слова – ярко-красные, свежие, благоуханные. Потом загрохочут маковки, и высыплются семена. А после этого взойдет еще больше языков.
– Можно задать вам вопрос, который никак не касается меня, моей жизни или жизни моей мамы? – спросила Элизавет.
– Можешь спрашивать меня о чем угодно, – сказал Дэниэл. – Но не обещаю, что отвечу на твой вопрос, если не буду знать достаточно хороший ответ.
– Идет, – сказала Элизавет. – Вы когда-нибудь ходили в гостиницу с человеком, но при этом притворялись перед ребенком, что у вас другие дела?
– А, – сказал Дэниэл. – Прежде чем отвечать, мне нужно знать, подразумевает ли твой вопрос моральное суждение?
– Если не хотите отвечать на вопрос, который я задала, мистер Глюк, так и скажите, – сказала Элизавет.
Дэниэл засмеялся. Потом он перестал смеяться.
– Ну, это зависит от того, о чем ты на самом деле спрашиваешь, – сказал он. – О самом посещении гостиницы? О человеке, который ходит или не ходит в гостиницу? О притворстве? Или о притворстве перед ребенком?
– Да, – сказала Элизавет.
– В таком случае это вопрос ко мне лично, – сказал Дэниэл, – о том, ходил ли я сам с кем-нибудь в гостиницу? Но при этом притворялся, будто не делал того, что делал? Или важно то, был ли человек, перед которым я, возможно, притворялся, а возможно, и нет, ребенком, а не взрослым? Или это более общий вопрос и ты хочешь знать, хорошо ли притворяться перед детьми?
– Все вышеперечисленное, – сказала Элизавет.
– Ты очень умная молодая девушка, – сказал Дэниэл.
– Я планирую поступить в колледж, когда окончу школу, – сказала Элизавет. – Если смогу себе позволить.
– Да ты же не хочешь поступать в колледж, – сказал Дэниэл.
– Хочу, – сказала Элизавет. – Моя мама поступила первой в нашей семье, и я буду следующей.
– Ты хочешь поступить в коллаж, – сказал Дэниэл.
– Я хочу поступить в колледж, – сказала Элизавет, – получить образование и профессию, чтобы найти хорошую работу и хорошо зарабатывать.
– Да, но что ты будешь изучать? – спросил Дэниэл.
– Пока не знаю, – сказала Элизавет.
– Гуманитарные науки? Право? Туризм? Зоологию? Политику? Историю? Искусство? Математику? Философию? Музыку? Языки? Классику? Инженерное дело? Архитектуру? Экономику? Медицину? Психологию? – спросил Дэниэл.
– Все вышеперечисленное, – сказала Элизавет.
– Вот почему тебе нужно поступить в коллаж, – сказал Дэниэл.
– Вы путаете слова, мистер Глюк, – сказала Элизавет. – Коллаж – это когда вырезают картинки вещей или цветные фигурки и наклеивают их на бумагу.
– Не согласен, – сказал Дэниэл. – Коллаж – это учебное заведение, в котором все правила можно подбросить в воздух, а размер, пространство, время, передний и задний планы становятся относительными, и благодаря этим навыкам все твои мнимые знания превращаются во что-то новое и необычное.
– Вы опять уклоняетесь от ответа на вопрос о гостинице? – спросила Элизавет.
– Честно? Да, – сказал Дэниэл. – В какую игру тебе бы хотелось сыграть? Я предлагаю две на выбор. Первая: каждая картинка рассказывает историю. Вторая: каждая история рассказывает картинку.
– Что значит, каждая история рассказывает картинку? – спросила Элизавет.
– Сегодня это означает, что я опишу тебе коллаж, – сказал Дэниэл, – а ты можешь мне рассказать, что ты о нем думаешь.
– Даже не видя его? – спросила Элизавет.
– Видя в воображении, что касается тебя, – сказал он, – и в памяти, что касается меня.
Они сели на скамейку. Парочка ребятишек удила рыбу с камней перед ними. На камнях стояла собака и отряхивала с шерсти воду канала. Мальчишки визжали и смеялись, когда брызги разлетались в воздухе и попадали на них.
– Картинка или история? – сказал Дэниэл. – Выбирай.
– Картинка, – сказала она.
– Хорошо, – сказал Дэниэл. – Закрой глаза. Закрыла?
– Да, – сказала Элизавет.
– Фон насыщенного темно-синего цвета, – сказал Дэниэл. – Темнее неба. Поверх темно-синего фона, посредине картинки, фигура из светлой бумаги, напоминающая круглую полную луну. Поверх луны, больше ее по размерам, черно-белая женщина в купальнике, вырезанная из газеты или модного журнала. А рядом – гигантская человеческая рука, к которой она как бы прислоняется. Гигантская рука держит крошечную младенческую ручонку. Точнее, младенческая ручонка тоже держит большую руку за большой палец. Под всем этим стилизованное изображение женского лица – одного и того же, повторяющегося несколько раз, но всякий раз над переносицей нависает локон настоящих волос другого цвета…
– Как в парикмахерской? Образцы краски? – уточняет Элизавет.
– Ты поняла, – сказал Дэниэл.
Она открыла глаза. Глаза Дэниэла были закрыты. Она снова закрыла глаза.
– А где-то вдалеке, на синеве внизу картинки, рисунок корабля с поднятыми парусами, только маленького – самый маленький предмет во всем коллаже.
– Ладно, – сказала Элизавет.
– Наконец, розовые кружева – то есть натуральный материал, настоящие кружева, приклеенные к картинке в нескольких местах: в верхней части, а затем ближе к середине. Вот и все. Это все, что я могу вспомнить.
Элизавет открыла глаза. Она увидела, как Дэниэл открыл их минуту спустя.
Вечером, сидя дома и засыпая на диване перед телевизором, Элизавет вспомнила, как он открыл глаза, и в памяти всплыл тот момент, когда вдруг зажигаются уличные фонари и кажется, будто тебе подарили подарок или дали шанс, будто тебя выделили и избрали.
– Что думаешь? – спросил Дэниэл.
– Мне нравится сочетание синего и розового, – сказала Элизавет.
– Розовые кружева. Темно-синяя краска, – сказал Дэниэл.
– Мне нравится, что можно потрогать розовый, в смысле, если он из настоящего кружева, и он на ощупь не такой, как синий.
– Это хорошо, – сказал Дэниэл. – Очень хорошо.
– Мне нравится, что ручонка держит большую руку точно так же, как большая рука держит ручонку, – сказала Элизавет.
– Лично мне сегодня особенно нравится корабль, – сказал Дэниэл. – Галеон с поднятыми парусами. Если я правильно припоминаю. Если он вообще там есть.
– Значит, это настоящая картина? – спросила Элизавет. – Вы ее не придумали?
– Настоящая, – сказал Дэниэл. – Точнее, была. Ее создала одна моя знакомая художница. Но я восстановил ее по памяти. Какое впечатление она на тебя произвела?
– Как будто я приняла наркотики, – сказала Элизавет.
Дэниэл остановился на тропинке вдоль канала.
– Разве ты когда-нибудь принимала наркотики? – спросил он.
– Нет, но если бы принимала и в голове все смешалось в кучу, то было бы немного похоже, – сказала Элизавет.
– Господи. Теперь ты расскажешь маме, что мы весь день принимали наркотики, – сказал Дэниэл.
– А можно пойти и посмотреть? – спросила Элизавет.
– Что? – спросил Дэниэл.
– Коллаж, – сказала Элизавет.
Дэниэл покачал головой.
– Я не знаю, где он, – сказал он. – Возможно, его уже давно нет. Бог его знает, где сейчас все эти картины.
– А где вы вообще его увидели? – спросила Элизавет.
– В начале 1960-х, – сказал Дэниэл.
Он сказал так, словно время – это место.
– Я был там в тот день, когда она его создала, – сказал он.
– Кто? – спросила Элизавет.
– Уимблдон Бардо[7], – ответил Дэниэл.
– Кто это? – спросила Элизавет.
Дэниэл взглянул на часы.
– Идем, юная художница, – сказал он. – Зеница моего ока. Нам пора.
– Как время летит, – сказала Элизавет.
– Да, летать оно умеет, – сказал Дэниэл. – В буквальном смысле. Смотри.
Элизавет почти не помнит всего предыдущего.
Зато она помнит, как они шли по берегу канала, когда она была маленькой, и как Дэниэл снял с запястья часы и бросил в воду.
Она помнит нервную дрожь, абсолютную немыслимость этого жеста.
Помнит, как на камнях сидели двое мальчишек и как они повернули головы, когда часы описали дугу в воздухе над ними и ударились о воду канала, и она знала, что это часы, часы Дэниэла, а не просто старый камень или какой-то мусор, летящий в воздухе, и еще она знала, что эти мальчишки никак не могли об этом знать, что только она и Дэниэл знали о чудовищности его поступка.
Она помнит, что Дэниэл предоставил ей выбор: бросать или не бросать.
Она помнит, что выбрала: бросить.
Помнит, как пришла домой и рассказала маме что-то поразительное.
Еще одно воспоминание из другого времени, когда Элизавет было тринадцать: в памяти тоже сохранились лишь обрывки и фрагменты.
– Так почему же тогда ты постоянно крутишься вокруг старика-гея?
(Это слова матери.)
– Нет у меня никакой фиксации на отце, – сказала Элизавет. – И Дэниэл не гей. Он из Европы.
– Называй его мистером Глюком, – сказала мама. – А откуда ты знаешь, что он не гей? Даже если это правда и он не гей, тогда чего ему от тебя нужно?
– А если он и гей, – сказала Элизавет, – то не просто гей. Он не просто то-то и то-то. Нет таких людей. Даже ты не такая.
Как раз в то время мама была ультраобидчивой и ультрараздражительной. Это было как-то связано с тем, что Элизавет уже стукнуло тринадцать, а не двенадцать. Как ни крути, это ультрадоставало.
– Не груби мне, – сказала мама. – Ведь ты же тринадцатилетняя девочка. И тебе нужно быть поосторожнее со стариками, которые ошиваются вокруг тринадцатилетних девочек.
– Он мой друг, – сказала Элизавет.
– Ему восемьдесят пять, – сказала мама. – Как восьмидесятипятилетний старик может быть твоим другом? Почему у тебя нет нормальных друзей, как у нормальных тринадцатилетних?
– Все зависит от того, что ты считаешь нормальным, – сказала Элизавет. – Твое понимание нормальности отличается от моего. Ведь все мы живем в субъективном мире, и мой мир не является в данный момент и, подозреваю, никогда не станет таким же, как твой.
– Где ты всего этого нахваталась? – спросила мама. – Так вот чем вы занимаетесь на этих прогулках?
– Мы просто гуляем, – сказала Элизавет. – Просто разговариваем.
– О чем? – спросила мама.
– Ни о чем, – сказала Элизавет.
– Обо мне? – спросила мама.
– Нет! – сказала Элизавет.
– О чем же тогда? – спросила мама.
– О том о сем, – сказала Элизавет.
– Каком о том о сем? – спросила мама.
– О том о сем, – сказала Элизавет. – Он рассказывает мне о книгах и всем таком.
– Книги, – сказала мама.
– Книги. Песни. Поэты, – сказала Элизавет. – Он знает о Китсе. «Пора плодоношенья и дождей». Операции с опиатами.
– С чем он там оперировал? – спросила мама.
– Он знает о Дилане, – сказала Элизавет.
– Бобе Дилане? – спросила мама.
– Нет, другом Дилане, – сказала Элизавет. – Он знает его наизусть, много. Хотя он встречался раз и с певцом Бобом Диланом, когда тот гостил у его друга.
– Он сказал тебе, что дружит с Бобом Диланом? – спросила мама.
– Нет. Он встречался с ним. Это было зимой. Он спал у друга на полу.
– Боб Дилан? На полу? – переспросила мама. – Сомневаюсь. Боб Дилан всегда был звездой мировой величины.
– И он знает о той поэтессе, которая тебе нравится. Той, что покончила с собой, – сказала Элизавет.
– Плат? – переспросила мама. – О самоубийстве?
– Ничего ты не понимаешь, – сказала Элизавет.
– Что такого я не понимаю в старике, забивающем голову моей тринадцатилетней дочери мыслями о самоубийстве и враками о Бобе Дилане? – сказала мама.
– Все равно Дэниэл говорит: какая разница, как она умерла, если можно и сейчас читать ее стихи. Например, строчку про «больше не скорблю» и про «дочерей тьмы, горящих, словно Гай Фокс», – сказала Элизавет.
– Что-то не похоже на Плат, – сказала мама. – Нет, я абсолютно уверена, что никогда не натыкалась на такую строчку у Плат, а я перечитала ее от корки до корки.
– Это Дилан. И строчка о том, что «любовь вечно зеленеет», – сказала Элизавет.
– А что еще мистер Глюк рассказывает тебе о любви? – спросила мама.
– Ничего. Он рассказывает о живописи, – сказала Элизавет. – О картинах.
– Показывает тебе картинки? – спросила мама.
– Одного знакомого теннисиста, – сказала Элизавет. – Нельзя сходить и посмотреть на эти картины. Поэтому он мне их пересказывает.
– Почему нельзя смотреть? – спросила мама.
– Просто нельзя, – сказала Элизавет.
– Интимные картинки? – спросила мама.
– Нет, – сказала Элизавет. – Они типа… Он их знает.
– С теннисистами? – спросила мама. – И чем эти теннисисты там занимаются?
– Нет, – сказала Элизавет.
– О боже, – сказала мама. – За что мне это?
– За то, что ты много лет используешь Дэниэла как мою бесплатную няньку, – сказала Элизавет.
– Я же говорила тебе. Называй его мистер Глюк, – сказала мама. – И я его не использую. Это неправда. И я хочу знать. Хочу знать в деталях. Какие картинки?
Элизавет раздраженно вздохнула.
– Не знаю, – сказала она. – Люди. Вещи.
– Чем занимаются люди на этих картинках? – спросила мама.
Элизавет вздохнула. Она закрыла глаза.
– Сейчас же открой глаза, Элизавет, – сказала мама.
– Я должна их закрыть, иначе не увижу, – сказала Элизавет. – Ясно? Хорошо. Мэрилин Монро в окружении роз, и еще вокруг нее нарисованы яркие розовые, зеленые и серые волны. Только это не буквальный портрет буквальной Мэрилин, а картина, написанная с картины. Об этом важно помнить.
– Вот оно что, – сказала мама.
– Как будто я сфотографировала тебя, а потом написала не тебя, а твою фотографию. И розы больше напоминают не розы, обои с цветами. Но розы выступают из обоев и завиваются вокруг ее ключицы, словно обнимая ее.
– Обнимая, – сказала мама. – Понятно.
– И какой-то француз, когда-то известный во Франции, в шляпе и солнцезащитных очках. Тулья шляпы – это груда красных лепестков, похожих на огромный красный цветок, а сам он серо-черно-белый, как снимок в газете, и позади него все ярко-оранжевое, чем-то похожее на пшеничное поле или золотую траву, и над ним вереница сердец.
Мама сама прикрывает руками глаза, сидя за кухонным столом.
– Продолжай, – говорит она.
Элизавет снова закрывает глаза.
– Другая с женщиной, только уже не знаменитой, а просто обычной женщиной, и она смеется и как бы вскидывает руки к голубому небу, а позади нее у нижнего края картины горные вершины, только очень маленькие, и много пестрых зигзагов. И вместо тела и одежды внутренности женщины состоят из картинок – картинок других предметов.
– Он рассказывал тебе о женском теле, о женских внутренностях, – сказала мама.
– Нет, – сказала Элизавет. – Он рассказывал мне о женщине, тело которой состоит из картинок. Это предельно ясно.
– Каких картинок? Что на них? – спросила мама.
– Разные вещи, которые бывают на свете, – сказала Элизавет. – Подсолнух. Мужчина с автоматом, будто из гангстерского фильма. Фабрика. Политик, похожий на русского. Сова, взрывающийся дирижабль…
– Мистер Глюк рисует эти картинки у себя в голове и вставляет их в женское тело? – спросила мама.
– Нет, они настоящие, – сказала Элизавет. – Одна называется «Это мужской мир». На ней роскошный дом, «Битлз», Элвис Пресли и застреленный президент на заднем сиденье машины.
Тут уж мама вскрикнула.
Поэтому Элизавет решила не рассказывать ей о коллажах с детскими головами, отрезанными гигантскими садовыми ножницами, и о громадной ручище, высовывающейся из крыши Альберт-холла.
Она решила не упоминать о картине с женщиной без одежды, сидящей на перевернутом стуле, которая свергла правительство, и с красной краской повсюду и черными пятнами на красном, похожими, по словам Дэниэла, на радиоактивные осадки.
Но мама все равно сказала в конце их разговора (Элизавет помнит это дословно, спустя почти двадцать лет после той беседы):
Противоестественно.
Нездорово.
Ты не должна.
Я запрещаю.
Довольно.
Минуту назад был июнь. А теперь погода уже сентябрьская. Поднялся урожай – яркий, золотистый, скоро жатва.
Ноябрь? Немыслимо. Всего через месяц.
Дни еще теплые, но воздух в тени посвежел. Ночи длиннее, прохладнее, свет с каждым разом все скуднее.
Темнеет в полвосьмого. Темнеет в четверть восьмого, темнеет в семь.
Зелень на деревьях начала тускнеть с августа – на самом деле уже с июля.
Но цветы все еще расцветают. Шпалеры все еще жужжат. В сарае уже полно яблок, и дерево все еще увешано ими.
Птицы на линиях электропередачи.
Стрижи улетели несколько недель назад. Они уже в сотнях миль отсюда, где-то над океаном.
2
Ну а сейчас? Старик (Дэниэл) открывает глаза и обнаруживает, что не может открыть глаза.
Кажется, он заперт внутри дерева, поразительно похожего на ствол обыкновенной сосны.
По крайней мере, пахнет сосной.
Это нельзя определить. Он не может пошевелиться. Внутри дерева мало места для телодвижений. Рот и глаза заклеены смолой.
По правде говоря, вкус во рту бывает и похуже, а стволы сосен обычно тесноваты. Они прямые и высокие, поэтому такие деревья хорошо подходят для телеграфных столбов и для подпорок, которые строители шахт использовали в те времена, когда промышленность опиралась на людей, работающих в шахтах, а шахты опирались на шахтные подпорки, надежно удерживавшие потолки туннелей над их головами.
Если тебе ничего не остается, кроме как лечь в землю, прими форму чего-нибудь полезного. Если уж тебя должны срубить, в загробной жизни лучше стать вестником для людей поверх ландшафтов. Сосны высокие. Это гораздо приятнее, нежели быть заточенным в карликовом хвойном деревце.
С верхушки сосны открывается довольно широкий обзор.
Дэниэл в постели, внутри дерева, но он не паникует. У него даже нет клаустрофобии. Здесь вполне сносно, за исключением паралича, но это, наверное, ненадолго. Будем надеяться. Нет, вообще-то ему приятно неподвижно находиться внутри не просто старого дерева, а внутри такой древней, легко приспосабливающейся и благородной породы, значительно предшествовавшей лиственным породам; изворотливая сосна не нуждается в глубокой почве, отличается удивительным долголетием и способна прожить много веков. Но самое главное преимущество, если находишься внутри этого дерева, в том, что оно гораздо изворотливее обычного среднего дерева с точки зрения цвета. Зелень соснового леса способна отливать синевой. А весной появляется пыльца – желтая, как яркая краска в банке художника, обильная, вездесущая, заслоняющая собой всё, точно дым, обволакивающий фокусника. В древности, в стародавние времена, люди, стремившиеся убедить других, что обладают исключительными способностями, разбрасывали пыльцу вокруг себя в воздухе. Они приходили в лес, собирали ее и приносили домой, чтобы использовать во время своих номеров.
Можно предположить, что быть герметически закупоренным внутри дерева неприятно. Можно также предположить, что сосна нагоняет тоску. Но запах рассеивает отчаяние. Возможно, это слегка похоже на броню, только намного уютнее, ведь эта броня состоит из материала, сквозь который проносятся годы, придающие ему форму.
О.
Девушка.
Кто она?
Смутно напоминает все те снимки в газетах, в ту пору,
как же ее звали,
Килер. Кристин[8].
Да. Это она.
Наверное, ее больше никто не помнит. Наверное, та история стала теперь лишь подстрочным примечанием, и в этом примечании он замечает, что она стоит босиком, летней ночью, одна в освещенной прихожей большого роскошного дома, где, как он узнает по случайному совпадению (история, подстрочное примечание), была впервые спета песня «Правь, Британия!». Она стоит у стены, украшенной гобеленом, и сбрасывает с себя летнее платье.
Оно падает на пол. Все его шишки поднимаются. Он вздыхает. Она ничего не слышит.
Она снимает доспехи с вешалки и раскладывает их по отдельности на паркетном полу. Прикладывает нагрудник к своей груди (великолепной, это чистая правда). Вставляет руки в проймы. В том месте, где находится, ах, нижнее белье, нет никакого металлического покрытия. Она закрывает руками отверстие в металле, словно только что осознав, что эта щель будет обнажена, когда она полностью облачится в доспехи.
Извиваясь, она снимает с себя трусики.
Те падают на пол.
Он вздыхает.
Она вышагивает из трусиков, оставляя их на ковровой дорожке. Они лежат там, похожие на очищенного от костей черного дрозда.
Она прикладывает налядвенники сначала к одному бедру, затем – к другому. Взвизгивает и чертыхается – острый край внутри второго налядвенника? Она пристегивает налядвенники с внутренней стороны бедер и просовывает босую стопу в первый огромный сапог. Просовывает руки в металлические наручи, поднимает шлем и опускает себе на волосы. Сквозь прорези в передней его части озирается в поисках рукавиц. Надевает одну. Затем другую.
Поднимает металлической рукой забрало и выглядывает из-под него.
Она подходит и становится перед огромным старым зеркалом на стене. Из-под шлема доносится тоненький смех. Она снова опускает краем рукавицы забрало. Неприкрытыми остаются лишь гениталии.
Она трогается с места, но осторожно, чтобы ничего не отвалилось, если вдруг не очень туго пристегнуто. С лязгом проходит по коридору, как будто ее латы вовсе не такие тяжелые, как кажется.
Подойдя к двери, она поворачивается и толкает ее. Та открывается. Она исчезает.
Комната, куда она только что вошла, взрывается хриплым смехом.
Бывает ли смех обеспеченным?
Отличается ли властный смех от обычного?
Такой смех всегда властный.
«Из этого можно сделать песню», – думает Дэниэл.
Баллада о Кристин Килер.
Шиллер. Шулер. Дилер. Миллер. Триллер. Киллер. Миссис Пил-ер.
Ах нет. Вымышленный персонаж миссис Пил появилась позже, через пару лет после этого творения[9].
Но все же фамилия Пил отчасти созвучна с Кил-ер – двусмысленный презент для уха слушающего.
Прямо сейчас он так тесно зажат между всеми этими людьми на местах для публики, что… Ну и где же теперь?
Зад суда.
«Олд Бейли»[10].
То лето.
Он лишь представлял, как Килер примеряет доспехи. Мечтал об этом, хотя, по слухам, это случилось на самом деле.
Однако он был свидетелем того, что произойдет внизу.
Во-первых, Килер против Уорда, своего друга, Стивена-остеопата, портретиста. Никаких лат, но тем не менее она здесь покрыта броней, безучастна, как листовой металл. Непроницаема. Замаскирована. Идеально загримирована. Апатия с ноткой экзотики.
Она погружает всех присутствующих в транс, вещая так, как может вещать только погруженная в транс. Умно. Бессодержательно. Сексапильный автомат. Живая кукла. Сенсация: места для публики превращаются в места для пубиса[11]. Никто не может думать ни о чем другом, кроме ее друга Стивена – там впереди, который каждый день берет карандаш и набрасывает все, что видит.
Тем временем проходят дни.
Там за свидетельской трибуной теперь кто-то другой – другая женщина, некая мисс Рикардо, по правде говоря, даже ниже классом, чем бедняжка Килер, молодая, причесанная, обкорнанная по краям, волосы высокой рыжей копной на голове, танцовщица: «Я зарабатываю тем, что хожу к мужчинам, и они мне за то платят».
Она только что заявила суду, что показания, которые дала вначале по этому делу полиции, были ложными.
Публика на местах напирает сильнее. Ложь и скандал. Чем занимаются проститутки. Но Дэниэл видит, как женщина, на самом деле еще девушка, старается держаться прямо. Он видит, как ее лицо, вся ее стройная фигура как бы слегка зеленеют от страха.
Рыжие волосы.
Зеленая девушка.
– Я не хотела, чтобы мою молодую сестру отправили в колонию, – говорит девушка. – У меня отняли моего малыша. Главный инспектор сказал, что у меня отнимут сестру и малыша, если я не дам показания. Он даже пригрозил арестовать моего брата. Я поверила и потому дала показания. Но я решила, что не хочу лжесвидетельствовать в «Олд Бейли». Я сказала об этом газете «Пипл». Я хочу, чтобы все знали, почему я солгала.
Боже правый.
Она вся позеленела.
Прокурор похож на гончую. Он издевается над девушкой. Спрашивает, с какой стати она вообще подписала показания, если те были ложными.
Она говорит, что хотела, чтобы полиция оставила ее в покое.
Прокурор изводит ее. Почему же она до сих пор не пожаловалась?
– Кому мне было жаловаться? – спрашивает она.
Значит, она преднамеренно солгала?
– Да, – говорит она.
Дэниэл с места для публики видит, как одна ее рука, лежащая на перилах свидетельской трибуны, покрывается маленькими побегами и почками. Почки распускаются. Из пальцев вырастают листья.
Судья советует ей хорошенько обдумать за ночь, какую версию событий она предпочитает изложить суду.
Мгновение ока.
Следующий день.
Девушка снова на трибуне. Сегодня она почти полностью превратилась в молодое деревцо. Только ее лицо и волосы еще не покрылись листьями. За одну ночь, словно девушка из мифа, за которой охотился бог, вознамерившийся ею овладеть, она полностью изменилась, преобразила себя так, чтобы никто не мог ее поиметь.
Те же мужчины кричат на нее снова. Они злятся на нее за то, что она не солгала о своей лжи. Прокурор спрашивает, почему она рассказала о лжи газетному репортеру, а не полиции. Он намекает, что это непорядочно, так поступать непорядочно, так поступила бы такая непорядочная женщина, как она.
– Какой был бы прок, – говорит она, – если бы я пошла и рассказала правду тем самым людям, которые велели мне солгать?
Судья вздыхает. Он поворачивается к присяжным.
– Выбросьте эти показания из головы, – говорит он. – Предписываю вам совершенно не принимать их во внимание.
«Из этого тоже можно сделать песню», – думает Дэниэл, видя, как белая кора поднимается и покрывает ее рот, нос, глаза.
Баллада о Серебристой березе.
Греза. Слезы. Поза. Метаморфоза.
Сам он идет из зала суда прямиком к девушке, в которую влюблен.
(Он влюблен в нее так сильно, что не в силах назвать ее про себя по имени.)
Она не любит его. Всего пару недель назад она вышла за другого. Он без труда может назвать имя ее мужа. Его зовут Клайв.
Но он только что увидел чудо, разве нет?
(Он увидел то, что изменяет природу вещей.)
Он стоит под дождем на заднем дворе. Уже стемнело. Он смотрит вверх на окна дома. Его руки и предплечья, лицо, хорошая рубашка и костюм испачкались, пока он взбирался на мусорные баки и перелезал через забор, как будто еще достаточно молод для этого.
В знаменитом рассказе Джеймса Джойса «Мертвые» молодой человек стоит за домом в морозную ночь и поет песню любимой женщине. Потом этот молодой человек, чахнущий по женщине, умирает. Он подхватывает простуду на морозе и умирает молодым. Верх романтизма! И потом всю оставшуюся жизнь женщина бьется над разгадкой песни молодого человека, которая подтачивает ее, словно древесный жук.
Ну сам-то Дэниэл уже не юноша. Проблема отчасти в этом. Женщина, которую он, вне всякого сомнения, любит больше, чем кого-либо на свете, женщина, без любви которой он зачахнет и умрет, на двадцать лет младше, и она действительно недавно вышла за Клайва.
К тому же есть еще одна помеха: он не умеет петь. Короче, не попадает в ноты.
Но он может прокричать песню. Прокричать слова. Свои собственные, а не просто чьи-то старые.
А ведь она познакомилась с ним всего десять дней назад, и сразу же вышла за него – в смысле, за Клайва. Это такая особенная девушка, что всегда остается надежда.
Баллада о девушке, которая постоянно мне отказывает.
Быстрый короткий номер, остроумный – под стать ее уму.
Индивиду-умный. Меди-умный. Соци-умный. Максим-умный. Поди-умный. Опи-умный. Ваку-умный. Вот-умный. Референд-умный. Ультимат-умный.
(Ужасно.)
Я старый перд-умный.
Не будь такой беспреклонной.
Но ни в одном из окон не зажигается свет. Простояв полчаса под дождем, он смиряется с тем, что там никого нет и что он выкрикивает скверные вирши, стоя во дворе дома, где нет никого.
Модные качели, прицепленные к потолку в гостиной, будут медленно раскачиваться сами по себе в темноте.
Какая ирония. Он тупица. Она ведь даже никогда не узнает, что он здесь был.
(Верно. Она так и не узнала.
А то, что случилось потом, случилось потом, и история, синоним слова «ирония», пошла своим паскудным остроумным чередом, спела свою паскудную остроумную частушку, и в этом рассказе молодой умерла девушка.
Изрешеченный. Древесным жуком. Навылет.)
Затем старик, прикованный к постели внутри дерева, Дэниэл, становится мальчиком и едет на поезде по густому еловому лесу. Мальчик худой и маленький, шестнадцати лет, но считает себя мужчиной. Снова лето, и он на континенте, они все на континенте, там немного неспокойно. Что-то назревает. Оно уже происходит. Все знают. Но делают вид, будто ничего не происходит.
Все люди в поезде видят по его одежде, что он нездешний. Но он говорит на местном языке, хотя никто из незнакомцев вокруг не знает об этом, потому что они не знают, кто он такой и кто такая его сестра, сидящая рядом, – они понятия об этом не имеют.
Люди вокруг говорят о том, что необходимо разработать научный и юридический способ точного определения, кто есть кто.
Преподаватель института, сидящий напротив, говорит с женщиной. Этот преподаватель трудится над изобретением современного инструмента для сугубо научной записи физических статистических данных.
– Правда? – говорит женщина.
Она кивает.
– Носы, уши, промежутки между ними, – говорит мужчина напротив Дэниэла.
Он флиртует с женщиной.
– Измерение частей тела, особенно отличительных черт головы, способно исчерпывающе поведать обо всем, что нам нужно знать. Цвет глаз, волос, размер лба. Этим занимались и раньше, но еще никогда с таким мастерством и точностью. Речь в первую очередь об измерении и сопоставлении. Но все немного усложняется и в конечном итоге приводит к просеиванию собранных статистических данных.
Мальчик улыбается сестренке.
Она жила здесь всегда.
Она прилежно читает книгу. Он слегка подталкивает ее локтем. Она поднимает глаза от книги. Он подмигивает.
Они говорят на ее родном языке. Она знает, что флирт – тончайшая игра. Она понимает всё, о чем они говорят. Она переворачивает страницу, взглядывает на него, а затем на людей напротив поверх книги.
– Я слышу их. Но разве это должно мешать мне читать?
Она говорит это по-английски брату. Корчит ему рожу. Потом снова с головой уходит в книгу.
Когда мальчик Дэниэл выходит в туалет, в проходе вагона ему преграждает путь мужчина в фуражке и сапогах. Спереди он сплошь увешан карманами и ремешками. Он свободно протянул руки от одной до другой стороны прохода, ведущего к туалету и другим вагонам. Он раскачивается в такт поезду, мчащемуся по еловым лесам и фермерским угодьям, как будто является рабочей деталью его механизма.
Может ли быть коварной чья-то грудная клетка?
О да, еще как.
Он лениво и самоуверенно улыбается мальчику – улыбка отдыхающего солдата. Приподнимает одну руку, чтобы мальчик мог под ней пройти. Пока Дэниэл проходит, рука солдата опускается и едва задевает материей рубашки волосы у него на макушке.
– Оп-ля, – говорит солдат.
Мальчик в поезде.
Мгновение ока.
Старик в постели.
Старик в постели заключен внутри.
Деревянное пальтецо.
Срубите это дерево, в котором я живу. Выдолбите его ствол.
Сделайте меня заново из того, что выдолбите изнутри.
Засуньте меня обратно внутрь старого ствола.
Сожгите меня. Сожгите дерево. Развейте пепел на счастье там, где хотите, чтобы на следующий год вырос урожай.
Родите меня сызнова
Сожгите деревцо
И солнце летом будущим
Согреет мне лицо
Еще июль. Элизавет идет к маминому врачу в центр города. Она занимает очередь. Пробравшись вперед, говорит в регистратуре, что здесь принимает семейный врач, к которому прикреплена ее мама. Сама она не прикреплена здесь у врача, но чувствует себя неважно, поэтому хотела бы поговорить с доктором: вероятно, ничего срочного, но что-то нездоровится.
Женщина из регистратуры ищет маму Элизавет на компьютере. Она говорит Элизавет, что ее матери нет в списках этого кабинета.
– Она там есть, – говорит Элизавет. – Точно есть.
Женщина из регистратуры щелкает еще один файл, а затем идет в заднюю часть комнаты и открывает ящичек в картотеке. Она достает оттуда лист бумаги, читает, кладет его обратно и закрывает ящичек. Возвращается и садится.
Она говорит Элизавет, что, к сожалению, ее мать больше не числится в списке пациентов.
– Моей матери точно ничего не известно об этом, – говорит Элизавет. – Она считает себя вашим пациентом. Зачем вам вычеркивать ее из списка?
Женщина из регистратуры говорит, что это конфиденциальная информация и ей запрещено рассказывать Элизавет о любом другом пациенте, помимо самой Элизавет.
– Тогда можно мне зарегистрироваться и записаться к кому-нибудь? – говорит Элизавет. – Я чувствую себя неважно и очень хотела бы с кем-то проконсультироваться.
Женщина из регистратуры спрашивает, есть ли у нее какой-нибудь документ, удостоверяющий личность.
Элизавет показывает свой читательский билет из университета.
– Действителен, пока я там работаю, – говорит она, – все университеты скоро потеряют 16 процентов нашего финансирования.
Женщина из регистратуры улыбается специальной «пациентской» улыбкой, предназначенной для пациентов.
– К сожалению, нам нужно что-нибудь с действующим адресом, а также желательно с фотографией, – говорит она.
Элизавет показывает паспорт.
– Этот паспорт просрочен, – говорит женщина.
– Знаю, – говорит Элизавет. – Я как раз его продлеваю.
– К сожалению, мы не можем принять просроченный документ, – говорит женщина из регистратуры. – У вас есть водительские права?
Элизавет отвечает, что не водит машину.
– А счет за коммунальные услуги? – спрашивает женщина из регистратуры.
– Что, с собой? – говорит Элизавет. – Прямо сейчас?
Женщина из регистратуры говорит, что лучше всегда носить с собой счет за коммунальные услуги – на случай, если кому-то понадобится удостоверить вашу личность.
– А как же все те люди, что оплачивают счета по интернету и не получают бумажных счетов? – говорит Элизавет.
Женщина из регистратуры с тоской смотрит на звонящий телефон с левой стороны стола. Не сводя глаз со звонящего телефона, она говорит Элизавет, как просто распечатать счет на обычном струйном принтере.
Элизавет говорит, что она живет у матери, в шестидесяти милях отсюда, и что у матери нет принтера.
Женщина из регистратуры не на шутку сердится, что у матери Элизавет может не быть принтера. Она рассказывает об обслуживаемых районах и регистрации пациентов. До Элизавет доходит: она намекает, что теперь, когда ее мать живет за пределами обслуживаемого района, у Элизавет нет никаких оснований находиться в этом здании.
– Так ведь можно подделать счет и распечатать его. Прикинуться другим человеком, – говорит Элизавет. – А как же все эти аферисты? Неужели фамилия, напечатанная на листе бумаге, делает вас тем, кто вы есть?
Она рассказывает женщине из регистратуры об аферисте/аферистке, называвшем/называвшей себя Анной Павловой, на имя которой регулярно поступали банковские выписки из «Нэт-Уэст», хотя она неоднократно извещала об этом «Нэт-Уэст» и достоверно знает, что никакая Анна Павлова не жила там как минимум лет десять, поскольку сама жила там все это время.
– Так что же в конечном счете доказывает лист бумаги? – спрашивает Элизавет.
Женщина из регистратуры смотрит на нее с каменным лицом. Она просит Элизавет подождать минутку и отвечает на звонок.
Она жестом велит Элизавет отступить на шаг от стола, пока она примет звонок. Затем, чтобы расставить все точки над i, закрывает рукой трубку и говорит:
– Прошу вас обеспечить данному абоненту законную конфиденциальность.
За спиной Элизавет образуется небольшая очередь из людей, желающих записаться к врачу в этом окошке регистратуры.
Вместо этого Элизавет идет на почтамт.
Сегодня на почтамте почти пусто, не считая очереди перед автоматами самообслуживания. Элизавет получает талон: 39. По-видимому, сейчас обслуживаются номера 28 и 29, хотя у окошка никого нет – ни сотрудника почтамта, ни посетителя.
Через десять минут из двери подсобки выходит женщина. Она выкрикивает номера 30 и 31. Никто не откликается. Тогда она выводит на экран номера четвертой десятки, попутно их выкликая.
Элизавет подходит к окошку и отдает женщине паспорт и новые снимки из фотобудки, на которых ее лицо в точности нужного размера (она сама замеряла). Она показывает квитанцию об уплате 9 фунтов 75 пенсов за услугу «Проверить и отправить» на прошлой неделе.
– Когда вы планируете отправиться в поездку? – спрашивает женщина.
Элизавет пожимает плечами.
– Ничего пока не запланировано, – говорит она.
Женщина смотрит на фотографии.
– К сожалению, есть одна проблема, – говорит женщина.
– Какая? – говорит Элизавет.
– Эта прядь волос не должна закрывать лицо, – говорит она.
– Но она не закрывает лицо, – говорит Элизавет. – Это мой лоб. Она даже не касается лица.
– Она должна быть отброшена с лица назад, – говорит женщина.
– Если бы я сфотографировалась, отбросив ее с лица, – говорит Элизавет, – то сама на себя была бы не похожа. Какой смысл в фотографии для паспорта, если я буду вообще не похожа на себя?
– По-моему, она касается глаз, – говорит женщина.
Женщина отодвигает свой стул и относит лист с фотоснимками к окошку, где выдают «Наличные для путешествий». Она показывает лист сидящему там мужчине. Тот подходит вместе с ней к окошку.
– С вашей фотографией могут быть проблемы, – говорит он, – моя коллега считает, что волосы на ней касаются лица.
– В любом случае волосы не играют роли, – говорит женщина. – У вас слишком маленькие глаза.
– О господи, – говорит Элизавет.
Мужчина возвращается к своему окошку «Наличные для путешествий». Женщина засовывает снимки Элизавет в прозрачную целлофановую папку с напечатанными на ней отметками и размерами в различных рамочках.
– Ваши глаза расположены на недопустимом расстоянии внутри заштрихованного участка, – говорит она. – Они не на одной линии. Они должны находиться в середине, а находятся, как вы сами видите, рядом с вашим носом. К сожалению, эти фотографии не отвечают требованиям. Если вы сходите не в фотобудку, а в «Моментальные снимки»…
– То же самое сказал мужчина, которого я видела здесь на прошлой неделе, – говорит Элизавет. – Какая связь между почтамтом и «Моментальными снимками»? Чей-то брат там работает?
– Значит, вам уже советовали сходить в «Моментальные снимки», но вы решили не ходить, – говорит женщина.
Элизавет смеется. Она не в силах сдержаться: так сурово женщина осуждает ее за то, что она не пошла в «Моментальные снимки».
Женщина приподнимает прозрачную папку и снова показывает Элизавет ее собственное лицо с заштрихованной рамочкой сверху.
– К сожалению, это отказ, – говорит женщина.
– Послушайте, – говорит Элизавет. – Просто отправьте эти фотографии в паспортную службу. Я возьму ответственность на себя. Думаю, все будет нормально.
Женщина выглядит уязвленной.
– Если их не примут, – говорит Элизавет, – я вернусь к вам и скажу, что вы были совершенно правы, а я ошибалась: мои волосы неправильные, а глаза расположены в совершенно неправильном месте.
– Нет, потому что, если вы отошлете их через услугу «Проверить и отправить» сегодня, то наше отделение больше не будет иметь никакого отношения к этому заявлению, – говорит женщина. – Как только заявление будет отправлено, с вами свяжется паспортная служба по поводу несоблюдения требований.
– Хорошо, – говорит Элизавет. – Спасибо. Отправляйте. Попытаю удачи. И не могли бы вы сделать мне одолжение?
Женщина кажется очень встревоженной.
– Пожалуйста, передайте привет своему коллеге, который здесь работает и у которого аллергия на морепродукты. Скажите ему, что женщина с неправильным размером головы желает ему всего наилучшего и надеется, что он жив и здоров.
– По такому описанию? – говорит женщина. – Простите, но… это может быть кто угодно. Их тысячи.
Она пишет шариковой ручкой на квитанции Элизавет: «Посетительница пожелала отправить фото под свою ответственность».
Элизавет стоит у почтамта. Ей лучше. Прохладно, дождливо.
Она собирается пойти и купить книгу в том букинистическом.
А потом навестить Дэниэла.
Данные Элизавет вводятся в компьютер за долю доли секунды. Затем женщина из регистратуры возвращает ее отсканированный документ.
Дэниэл спит. Сестричка, сегодня другая, залихватски машет шваброй, пахнущей хвойным очистителем.
Элизавет задумывается, что станет со всеми этими сестричками. До нее доходит, что все, кого она здесь встречала, из других уголков мира. Утром по радио она слышала, как выступающий говорил: «…но дело не только в том, что мы на словах и на деле поощряем полную противоположность интеграции иммигрантов в нашей стране. Дело в том, что мы на словах и на деле поощряем самих себя не интегрировать их. Мы делаем это в рамках саморегулирования, поскольку Тэтчер научила нас быть эгоистичными и не просто считать, а верить в то, что никакого общества не существует».
Затем другой участник диалога сказал: «Ну, что бы вы еще сказали. Смиритесь с этим! Повзрослейте! Ваше время истекло. Демократия. Вы проиграли».
Как будто демократия – это бутылка, которую кто-то грозится разбить, чтобы нанести небольшие увечья. Настало время, когда люди говорят что-то друг другу, но, как ни странно, их разговор никогда не становится диалогом.
Это конец диалога.
Она пытается вспомнить, когда именно это началось, как долго она этого не замечала.
Она садится рядом с Дэниэлом. Спящий Сократ.
– Как вы сегодня, мистер Глюк? – тихо говорит она в его спящее ухо.
Она достает свою новую/старую книгу и раскрывает ее в самом начале:
Ныне хочу рассказать про тела,
превращенные в формы
Новые. Боги, – ведь вы
превращения эти вершили, —
Дайте ж замыслу ход
и мою от начала вселенной
До наступивших времен
непрерывную песнь доведите…[12]
Сегодня Дэниэл похож на ребенка с очень старой головой.
Наблюдая за тем, как он спит, она вспоминает Анну Павлову – не балерину, а аферистку, открывшую счет в банке «Нэт-Уэст» по адресу Элизавет.
Какая аферистка – если предположить, что это женщина, – назовется именем балерины? Неужели она думала, что сотрудников «Нэт-Уэст» нисколько не смутит, что человек пользуется именем «Анна Павлова»? Или счета сейчас открывают машины, а машины не умеют обрабатывать такую информацию?
Хотя, с другой стороны, откуда Элизавет знает? Возможно, это имя не такое уж необычное. Быть может, как раз сейчас в мире существует миллион и одна Анна Павлова. Быть может, Павлова – русский аналог английской фамилии Смит.
Образованная аферистка. Деликатная аферистка. Легендарная, гениальная, блестящая, экспрессивная, легконогая прима-балерина-аферистка. Аферистка в роли спящей красавицы, умирающего лебедя.
Элизавет вспоминает, как мама в самом начале думала, что Дэниэл – стройный и грациозный, словно эльф, даже в свои восемьдесят с лишком взбиравшийся по стремянке к себе на чердак проворнее, чем мама в свои сорок с небольшим, – когда-то был артистом балета, возможно, состарившимся знаменитым танцовщиком.
– Что бы ты предпочла? – сказал как-то Дэниэл. – Чтобы я в угоду ей сказал, что она угадала и я недавно вышедший на пенсию танцовщик «Рамбер»?[13] Или чтобы я поведал ей более приземленную правду?
– Конечно, солгите, – сказала Элизавет.
– Но подумай, что произойдет, если я так поступлю, – сказал Дэниэл.
– Это будет сногсшибательно, – сказала Элизавет. – Это будет умора.
– Я расскажу тебе, что произойдет, – сказал Дэниэл. – Мы с тобой будем знать, что я солгал, а твоя мать – нет. Мы с тобой будем знать то, чего твоя мать не знает. Поэтому мы станем по-другому относиться не только к твоей матери, но и друг к другу. Мы вобьем между нами тремя клин. Ты перестанешь мне доверять, и поделом, потому что я стану лжецом. Эта ложь умалит каждого из нас. Ну что? Ты по-прежнему выбираешь балет? Или мне сказать горькую правду?
– Я выбираю ложь, – сказала Элизавет. – Она знает кучу вещей, которых не знаю я. Я хочу знать то, чего не знает она.
– Власть лжи, – сказал Дэниэл. – Всегда соблазнительная для безвластных. Но если я действительно был танцовщиком на пенсии, как это может избавить тебя от чувства безвластности?
– Так вы были танцовщиком? – спросила Элизавет.
– Это мой секрет, – сказал Дэниэл. – И я никогда его не разглашу. Ни одной живой душе. Ни за какие деньги.
Это было во вторник, в марте 1998 года. Элизавет было тринадцать. Ранним, по-новому светлым вечером она вышла прогуляться с Дэниэлом, хотя мама была против.
Они прошли мимо магазинов, а затем зашагали через поля, где воспитанники интерната занимались летними видами спорта, где проходила ярмарка и стоял цирк. В последний раз Элизавет приходила на поле вскоре после того, как цирк уехал, – специально, чтобы взглянуть на ровное сухое место там, где стоял шатер. Ей нравились такие меланхоличные прогулки. Но теперь нельзя было сказать, что здесь вообще происходили все эти летние мероприятия. Просто пустое поле. Спортивные колеи стерлись и разровнялись. Примятая трава, земля, превратившаяся в грязь, где толпы бродили между аттракционами и трейлерами без боковых стенок с множеством игр на вождение и «стрелялок», призрачное кольцо цирка: ничего, кроме травы.
Почему-то это не было похоже на меланхолию. Это было что-то другое, и меланхолия с ностальгией ничуть к этому не примешивались. События просто произошли, а потом завершились. Время просто прошло. Думать так было, с одной стороны, неприятно, даже невежливо, а с другой – приятно. Как будто облегчение.
За полем было другое поле. А потом – река.
– Не далековато ли идти до самой речки? – спросила Элизавет.
Она не хотела, чтобы он далеко ходил, словно он и впрямь был таким древним, как постоянно твердила мама.
– Для меня – нет, – сказал Дэниэл. – Сущая багатель.
– Что-что сущее? – переспросила Элизавет.
– Безделица, – сказал Дэниэл. – Но не в смысле «безделушка». Просто пустяк. Что-то пустяковое.
– Чем же мы будем заниматься по дороге туда и обратно? – спросила Элизавет.
– Играть в «багатель», – сказал Дэниэл.
– «Багатель» – это настоящая игра? – спросила Элизавет. – Или вы только что ее придумали?
– Признаться, для меня это тоже совершенно новая игра, – сказал Дэниэл. – Хочешь сыграть?
– Посмотрим, – сказала Элизавет.
– Правила такие: я перескажу тебе первую строчку истории, – сказал Дэниэл.
– Ладно, – сказала Элизавет.
– А потом ты расскажешь мне историю, которая придет тебе в голову, когда ты услышишь первую строчку, – сказал Дэниэл.
– Типа историю, которая уже существует? – переспросила Элизавет. – Как «Златовласка и три медведя»?
– Ах эти бедные медведи, – сказал Дэниэл. – И эта вредная, злобная, невоспитанная хулиганка. Прийти к ним домой без приглашения и без предупреждения. Сломать мебель. Съесть запасы. Написать свое имя баллончиком с краской на стенах спален.
– Она не писала своего имени на стенах, – сказала Элизавет. – Такого нет в сказке.
– Кто сказал? – сказал Дэниэл.
– Сказка старая-престарая, – наверно, тогда еще не было баллончиков с краской, – сказала Элизавет.
– Кто сказал? – сказал Дэниэл. – Кто тебе сказал, что эта история не происходит прямо сейчас?
– Я говорю, – сказала Элизавет.
– Ну, тогда ты проиграешь в «багатель», – сказал Дэниэл, – потому что вся соль «багатели» в том, что ты относишься к историям, которые люди считают высеченными в граните, как к безделицам. Но не как к безделушкам…
– Я знаю, – сказала Элизавет. – Черт. Не позорьте меня.
– Позорить тебя? – сказал Дэниэл. – Moi?[14] Так. С какой историей ты хочешь пошалить? Выбирай сама.
Они пришли к скамейке на берегу реки: оба поля остались далеко позади. Впервые в жизни Элизавет пересекла поля, не ощутив, что это заняло много времени.
– Какой у меня выбор? – спросила Элизавет.
– Неограниченный, – сказал Дэниэл.
– Типа правда или ложь? Такой выбор?
– Немного прямолинейно, но, если хочешь, то ладно, – сказал Дэниэл.
– Можно выбрать между войной и миром? – спросила Элизавет.
(В новостях каждый день говорили о войне. Осады, фотографии с трупами в мешках. Элизавет нашла в словаре слово «резня», чтобы проверить его буквальное значение. Оно означало «убийство множества людей с особой грубостью и жестокостью».)
– Везет тебе, у тебя есть выбор в этом вопросе, – сказал Дэниэл.
– Я выбираю войну, – сказала Элизавет.
– Уверена, что хочешь войны? – спросил Дэниэл.
– «Уверена, что хочешь про войны» – это первая строчка истории? – спросила Элизавет.
– Может быть, – сказал Дэниэл. – Если ты это выбираешь.
– Кто персонажи? – спросила Элизавет.
– Одного придумаешь ты, другого – я, – сказал Дэниэл.
– Мужчина с оружием, – сказала Элизавет.
– Ладно, – сказал Дэниэл. – А я выбираю человека, переодетого деревом.
– Чем? – сказала Элизавет. – Так не пойдет. Вы должны сказать что-нибудь вроде: другой мужчина с другим оружием.
– Почему это я должен? – сказал Дэниэл.
– Потому что война, – сказала Элизавет.
– Я тоже делаю вклад в эту историю, и я выбираю человека в костюме дерева, – сказал Дэниэл.
– Почему? – спросила Элизавет.
– Ради оригинальности, – сказал Дэниэл.
– Оригинальность не принесет вашему персонажу победу в этой игре, – сказала Элизавет. – У моего персонажа оружие.
– Это не все, что у тебя есть, и твоя ответственность к этому не сводится, – сказал Дэниэл. – У тебя еще есть человек, способный быть похожим на дерево.
– Пули быстрее и крепче костюмов деревьев – они разорвут и уничтожат их, – сказала Элизавет.
– Так вот какой мир ты собираешься придумать! – сказал Дэниэл.
– Незачем придумывать мир, – сказала Элизавет, – если уже существует реальный. Есть только один мир, и есть только правда о нем.
– Ты хочешь сказать, есть правда и есть выдуманная версия того, что нам рассказывают о мире, – сказал Дэниэл.
– Нет. Существует мир, а выдуманы истории, – сказала Элизабет.
– Но от этого они не менее правдивы, – сказал Дэниэл.
– Это какой-то ультрабредовый разговор, – сказал Элизавет.
– И тот, кто придумывает историю, придумывает мир, – сказал Дэниэл. – Так что всегда старайся радушно принимать людей в свою историю. Таков мой совет.
– Как можно радушно принимать людей, выдумывая небылицы? – спросила Элизавет.
– Просто я советую, – сказал Дэниэл, – когда рассказываешь историю, всегда предоставляй персонажам тот же кредит доверия, которым воспользовалась бы сама.
– Типа покупки в кредит? Кредитование? – спросила Элизавет.
– Необходимый кредит доверия, – сказал Дэниэл. – И всегда оставляй им выбор – даже таким персонажам, как человек, которого защищает от мужчины с оружием только костюм дерева. Я имею в виду персонажей, у которых, по-видимому, вообще нет никакого выбора. Всегда давай им кров.
– С какой стати? – сказала Элизавет. – Вы же не давали кров Златовласке.
– Разве я хоть как-то помешал ей войти в тот дом с баллончиком краски? – сказал Дэниэл.
– Просто вы не могли, – сказала Элизавет, – потому что это уже было частью истории. Она делает так всегда, когда рассказывают эту историю: заходит в дом к медведям. Так нужно. Иначе не будет никакой истории. Разве не так? Кроме той части с баллончиком. Это вы сами придумали.
– Разве мой баллончик более надуманный, чем вся остальная история? – спросил Дэниэл.
– Да, – сказала Элизавет.
Потом она задумалась.
– Ой! – сказала она. – То есть нет.
– А если рассказчик – я, то я могу рассказать ее, как мне больше нравится, – сказал Дэниэл. – Из чего вытекает, что, если рассказчик – ты…
– Тогда откуда нам знать, что правда, а что нет? – спросила Элизавет.
– Теперь рассказываешь ты, – сказал Дэниэл.
– А что, если и правда, – сказала Элизавет, – что, если Златовласка сделала то, что сделала, потому что у нее не было выбора? Что, если она типа не на шутку расстроилась, что каша была чересчур горячая, и это ее так супервзбесило, что она схватилась за баллончик? Что, если холодная каша всегда ее ужасно расстраивала, напоминая о чем-то в прошлом? Что, если в ее жизни случилось что-то ужасное и каша воскресила это в памяти, и поэтому она так расстроилась, что сломала стул и переворошила все постели?
– А что, если она просто была хулиганкой, – сказал Дэниэл, – которая заходила в дома и устраивала там погром только потому, что я – человек, ответственный за историю, – решил, что все Зластовласки такие?
– Лично я предоставила бы ей кредит доверия, – сказала Элизавет.
– Вот теперь ты готова, – сказал Дэниэл.
– Готова к чему? – спросила Элизавет.
– Готова побагателить как следует, – сказал Дэниэл.
Замедленная съемка с миллионом миллиардов цветов, раскрывающих бутоны, миллионом миллиардов цветов, склоняющих и снова закрывающих бутоны, с миллионом миллиардов новых цветов, распускающихся вместо них, с миллионом миллиардов почек, становящихся листьями, которые затем опадают и гниют в земле, с миллионом миллиардов веточек, покрывающихся миллионом миллиардов новеньких почек.
Элизавет, сидящая в палате Дэниэла в ОАО «Медицинские услуги Молтингс» почти двадцать лет спустя, совершенно не помнит тот день, ту прогулку или тот диалог, что описан в последнем разделе. Но здесь приведена история, действительно рассказанная Дэниэлом, сохранившаяся в целости в тех клетках головного мозга, что оставляют в неприкосновенности, но при этом сдают в архив наши переживания во всей их многомерности (включая потеплевший воздух того мартовского вечера, запах наступающей весны, шум транспорта вдалеке и все остальные признаки времени и места, воспринятые ее чувствами и разумом, ее присутствие в том и другом).
– Мне совсем неохота придумывать историю, в которой будет костюм дерева, – сказала Элизавет. – Потому что никто в здравом уме не сделал бы из нее ничего путного.
– Ты сомневаешься в моем здравом уме? – спросил Дэниэл.
– Безусловно, – сказала Элизавет.
– Ну что ж, – сказал Дэниэл. – Тогда мой здравый ум принимает твой вызов.
– Вы уверены, что хотите войны? – сказал человек в костюме дерева.
Человек в костюме дерева стоял, расставив ветки в воздухе, словно он/она поднимал/а руки вверх. Мужчина с оружием целился в человека в костюме дерева.
– Вы мне угрожаете? – спросил мужчина с оружием.
– Нет, – сказал человек в костюме дерева. – Оружие-то у вас.
– Я человек мирный, – сказал мужчина с оружием. – Я не хочу неприятностей. Потому и ношу с собой оружие. И не то чтобы я имел что-то против таких людей, как вы, в целом.
– Кого вы подразумеваете под «такими людьми, как я»? – спросил человек в костюме дерева.
– Того, о ком я сказал. Людей в костюмах деревьев для дурацкой пантомимы, – сказал мужчина с оружием.
– Но почему? – спросил человек в костюме дерева.
– Представьте, что будет, если все начнут носить костюмы деревьев, – сказал мужчина с оружием. – Как будто в лесу живешь. А мы ведь не в лесу. Этот город был городом задолго до того, как я родился. Если он устраивал моих родителей, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек…
– А как же ваш собственный костюм? – спросил человек в костюме дерева.
(Человек с оружием был в джинсах, футболке и бейсбольной кепке.)
– Это не костюм, – сказал он. – Это моя одежда.
– А это моя одежда. Но я же не называю вашу одежду дурацкой, – сказал человек в костюме дерева.
– Ага, рискните здоровьем, – сказал мужчина и взмахнул оружием.
– Но все равно одежда у вас дурацкая, – сказал он. – Обычные люди не ходят в костюмах деревьев. По крайней мере, здесь у нас. Уж не знаю, что делают в других городах и поселках – это их личное дело. Но если вы будете настаивать на своем, то станете наряжать деревьями своих ребятишек, своих женщин. Нужно подавить это в зародыше.
Мужчина поднял оружие и навел на него. Человек в костюме из толстой хлопчатобумажной ткани приготовился. Маленькие травинки, нарисованные вдоль подола, задрожали у нарисованных корней. Мужчина заглянул в прицел своего оружия. Потом снова опустил оружие и рассмеялся.
– Знаете, в чем смех? – сказал он. – Мне только что пришло в голову, что в фильмах про войну когда кого-то казнят, то ставят их у дерева или столба. Так что расстрелять тебя – все равно что никого не расстрелять.
Он приложил глаз к мушке. Прицелился в ствол дерева – примерно туда, где, по его догадкам, находилось сердце человека в костюме.
– Ну что ж. Я управился, – сказал Дэниэл.
– Вы не можете на этом остановиться! – сказала Элизавет. – Мистер Глюк!
– Разве? – сказал Дэниэл.
Элизавет сидит в безобидной палате рядом с Дэниэлом, раскрыв книгу и читая о метаморфозах. Вокруг незримо выступают из космоса все застреленные персонажи пантомимы. Мачеха убита. Некрасивые сестры убиты. Золушка, Крестная-фея, Аладдин, Кот в сапогах и Дик Уиттингтон[15] скошены, мимический урожай зерна, мимическая резня, трагикомедия – убиты, убиты, убиты.
И только человек в костюме дерева по-прежнему стоит.
Но как только мужчина с оружием собирается выстрелить, человек в костюме дерева на глазах у киллера превращается в настоящее, исполинское дерево – величавый золотистый ясень, возвышающийся над головой и гипнотически машущий листвой.
Сколько бы мужчина с оружием ни стрелял в это дерево, ему не убить его своими пулями.
Поэтому он пинает толстый ствол. Решает пойти и купить пестицида, чтобы вылить ему под корни, или бензина и спичек, чтобы поджечь его. Мужчина разворачивается, и как раз в этот момент его лягает в голову половина лошади из пантомимы, которую он забыл пристрелить.
Мужчина замертво падает на груду убитых актеров пантомимы. Это сюрреалистическое видение ада.
– Что такое сюрреалистический, мистер Глюк?
– Это самое. Они лежат там. Идет дождь. Дует ветер. Времена года сменяют друг друга, оружие ржавеет, ярко раскрашенные костюмы тускнеют и истлевают, листья с окрестных деревьев падают на них, нагромождаются, покрывают, а трава прорастает вокруг, затем прорастает из них, сквозь них, сквозь ребра и глазницы, потом в траве появляются цветы, и когда все костюмы и бренные останки полностью истлевают или подчистую съедаются существами, с радостью нашедшими себе пропитание, ничего не остается ни от простодушных актеров пантомимы, ни от мужчины с оружием – лишь кости, кости в цветах да покрытые листвой ветви ясеня над ними. Что в конечном итоге остается и от нас всех, носим ли мы при себе оружие, пока находимся здесь, или нет. Вот так. Пока мы здесь. Я хочу сказать, пока мы еще здесь.
Дэниэл сел на скамейку, на минуту закрыв глаза. Минута затянулась. Это была уже не минута, а целый промежуток времени.
– Мистер Глюк, – сказала Элизавет. – Мистер Глюк?
Она тряхнула его за локоть.
– А? Да. Я был, я был… Что со мной было?
– Вы сказали «пока мы здесь», – сказала Элизавет. – Вы это повторили. Пока мы здесь. А потом замолчали.
– Правда? – сказал Дэниэл. – Пока мы здесь. Что ж. Пока мы здесь, давайте просто всегда оставлять надежду тому, кто это говорит.
– Говорит что, мистер Глюк? – спросила Элизавет.
– Ты уверена, что хочешь войны? – сказал Дэниэл.
На этой неделе мама Элизавет, слава богу, намного веселее. Дело в том, что она получила имейл, в котором говорилось, что ее выбрали для участия в телепрограмме «Золотой молоток», где зрители соревнуются со знаменитостями и экспертами по антиквариату, прочесывая с четко установленным бюджетом антикварные магазины и пытаясь купить вещь, которая должна быть продана дороже всего на аукционе. Как будто у дверей маминой жизни вдруг возник архангел Гавриил, который встал на колени, склонил голову и сказал: «В магазине, набитом всяким хламом, где-то посреди тысяч и тысяч брошенных, сломанных, устаревших, потускневших, распроданных, канувших в Лету и позабытых вещей, скрывается нечто настолько ценное, что этого никто не осознает, и мы избрали именно вас тем человеком, которому доверили извлечь эту вещь из-под завалов времени и истории».
Элизавет сидит за кухонным столом, а мама включает старый эпизод «Золотого молотка», чтобы показать, что от нее требуется. Но Элизавет вспоминает о своей поездке, в первую очередь о парочке испанцев в очереди к такси на вокзале.
Они явно только что приехали в отпуск: возле ног стоял багаж. Люди в очереди кричали на них. Они кричали им: «Валите к себе домой».
– Это вам не Европа, – кричали они. – Валите обратно в свою Европу.
Люди, стоявшие в очереди перед испанцами, были очень милыми: они постарались разрядить обстановку, позволив испанцам сесть в следующее такси. Но все равно Элизавет почувствовала в этом мимолетном происшествии какой-то отзвук чего-то вулканического.
«Так вот что такое стыд», – думает она.
Тем временем на экране по-прежнему поздняя весна и дорогостоящий хлам из прошлого. Много езды на старых машинах из прошлых десятилетий. Частые остановки на обочине и волнения из-за дыма, валящего из-под капотов старых колымаг.
Элизавет пытается придумать, что бы такого сказать маме о «Золотом молотке».
– Интересно, в ретроавтомобиль какой марки тебя посадят, – говорит она.
– Нет, зрителей туда не сажают, – говорит мама. – Сажают только знаменитостей и экспертов. Они приезжают, а мы уже стоим в магазине и ждем их.
– Почему тебя не посадить в машину? – говорит Элизавет. – Черт знает что.
– Какой смысл отдавать эфирное время людям, которых никто не знает в лицо, чтобы они разъезжали в старинных авто? – говорит мама.
Элизавет замечает, какой красивый борщевик растет по бокам проселочных дорог в эпизоде «Золотого молотка», который они смотрят в записи. По словам матери, он был снят в прошлом году в Оксфордшире или Глостере. Борщевик величаво и ядовито высится в воздухе, пока знаменитости (Элизавет без понятия, кто они такие и чем прославились) колесят по округе. Один поет попсовую песенку 1970-х годов и рассказывает, как у него был «датсун» в золотых пятнах. Другая добродушно болтает о тех деньках, когда она была статисткой в «Оливере»! Ретроавтомобили дымят по всей Англии, а за их окнами проносится борщевик – высокий, в капельках дождя, крепкий и зеленый. Эта непреднамеренная деталь вдруг начинает казаться Элизавет глубоким высказыванием. У борщевика собственный язык, которого никто из участников или создателей передачи не знает или никогда не слышал.
Элизавет достает телефон и что-то записывает. Можно вставить в лекцию.
Потом она вспоминает, что, вероятно, скоро останется без работы и без лекций.
Она кладет телефон освещенной передней стороной на стол. Думает о своих студентах, выпускающихся на этой неделе, и о будущем, которое теперь в прошлом.
Машины в телепередаче подъезжают к загородному оптовому магазину. Все выходят из машин. У двери магазина знаменитостей и экспертов встречают двое обычных людей, одетых в подобранные по цвету спортивные костюмы, доказывающие, что они обычные люди. Все жмут друг другу руки. Потом все вместе, знаменитости, эксперты и простые смертные, разбредаются по магазину.
Одна из обычных телезрительниц покупает старый контрольно-кассовый аппарат, или, как называет его владелец магазина, «ретрокассу», за 30 фунтов стерлингов. Она нерабочая, но яркие белые и красные кнопки, которыми ощетинилась выпуклая коробка, напоминают, по словам обычной телезрительницы, полковую шинель, которую ее дед носил, когда работал киношным швейцаром в 1960-х. Смена кадра: знаменитость высмотрела кучку благотворительных копилок в форме фигурок собак и детей в натуральную величину, стоящих у двери магазина, словно горстка образцовых жителей деревни из прошлого или научно-фантастический образ, в котором сшибаются прошлое и будущее. Эти копилки раньше стояли у магазинов, чтобы прохожие могли опускать туда мелочь, выходя или заходя в магазин. Ярко-розовая девочка с плюшевым мишкой; неряшливый паренек, выкрашенный в основном коричневой краской, с каким-то старым носком в руке; ярко-красная девочка с вырезанным на груди словом «спасибо» и подтяжкой на ноге; спаниель с двумя щенками, с умоляющими взглядами и коробочками на шеях: щели для монет в коробочках и запасные – в головах.
Эксперт в полном восторге. Она поясняет на камеру, что копилка в виде паренька в коричневой одежде, мальчик доктора Барнардо, – самая старинная из всего набора. Эксперт указывает, что типографская печать на подставке относится к периоду до 1960-х годов и что даже сам стишок на подставке: «Поделитесь, чтоб он выжил» – пережиток другой эпохи. Потом она кивает в камеру, подмигивает и говорит, что сама бы все же выбрала спаниеля, поскольку предметы в форме собак всегда хорошо идут с молотка, а паренек в коричневой одежде, несмотря на свой ретростатус, скорее всего, пойдет не так хорошо, если только это будет не интернет-аукцион.
– Только они не говорят, – говорит мама, – (и, возможно, они не говорят этого, поскольку не знают), что эти копилки появились потому, что на рубеже прошлого века настоящие собаки бродили по таким местам, как, например, железнодорожные вокзалы, с копилками на шее, чтобы люди могли опускать туда пенсы. На благотворительность.
– А, – говорит Элизавет.
– Эти копилки в виде собак, типа вон той, создавались по образцу настоящих животных, – говорит мама. – Мало того, после того как настоящие животные умирали, таксидермисты иногда делали из них чучела, а потом ставили их обратно на вокзале или в любом другом общественном месте, где прошла их трудовая жизнь. Поэтому ты шла на вокзал, а там сидел Нип, Рекс или Боб, точнее, его мертвое чучело, но с той же копилкой на шее. Уверена, отсюда и пошли эти благотворительные копилки в форме собак.
Элизавет слегка смущена. До нее доходит: ей просто удобно думать, что мама абсолютно ни в чем не разбирается.
Тем временем толпа конкурсантов на экране высыпает из двери, в восторге от набора кружек с надписью «Налоговая политика Авраама Линкольна». За магазином, посреди зеленой пустоши, над головами ведущих порхает бабочка – маленький белый мотылек, перелетающий с цветка на цветок.
И тут, в самый подходящий момент, в разговор вступает знаменитость.
– «Хорнси», 1974 год, – говорит мама. – Мечта коллекционера.
– Середина 70-х, Йоркшир, – говорит купившая их эксперт. – Хорошая четкая марка с орлом на донышке: «Хорнси» из серии «Американские президенты». «Хорнси» открылась в 1949 году, после войны, стала управляющей компанией пятнадцать лет спустя и процветала в 70-е. Главное – непривычно видеть семь штук вместе. Мечта коллекционера.
– Вот видишь! – говорит мама.
– Да, но ты уже видела этот эпизод. Немудрено, что ты знаешь, откуда они, – говорит Элизавет.
– Да, знаю. Я хотела сказать, что я учусь, – говорит мама. – Я хотела сказать, что теперь знаю о том, что это такое.
– А вот об этом лоте я, наверное, больше всего переживала бы на аукционе, – говорит за кадром первая эксперт, пока на экране демонстрируют фотографии облупившихся старых благотворительных копилок, на одной из которых обычные люди трясут красную девочку с подтяжкой на ноге, пытаясь выяснить, не остались ли внутри деньги.
– Я больше не могу это смотреть, – говорит Элизавет.
– Почему? – спрашивает мама.
– Ну, я уже насмотрелась, – говорит Элизавет. – С головой. Спасибо. Очень-очень классно, что ты туда попала.
Тогда мама снова берет ноутбук, чтобы показать Элизавет одну из знаменитостей, с которой будет участвовать в программе.
На экране появляется фотография женщины за шестьдесят. Мама машет ноутбуком в воздухе.
– Смотри! – говорит она. – Поразительно, да?
– Я совершенно без понятия, кто это, – говорит Элизавет.
– Это же Джонни! – говорит мама. – «Ребята из телефонной будки»!
Женщина за шестьдесят, видимо, работала на телевидении, когда мама Элизавет была ребенком.
– Просто не верится, – говорит мама. – Не могу поверить, что познакомлюсь с Джонни. Если бы твоя бабушка была жива… Если бы только я могла ей рассказать… Если бы только я могла рассказать себе десятилетней… Я, десятилетняя, умерла бы от восторга. И не просто познакомиться, а участвовать в одной передаче! Вместе с Джонни.
Мама поворачивает к ней ноутбук с открытой ютьюб-страницей.
– Видишь? – говорит она.
Девушка лет четырнадцати в клетчатой юбке и с собранными в хвостик волосами исполняет танцевальный номер в телестудии, изображающей лондонскую улицу. Ее партнер одет в костюм телефонной будки, поэтому и впрямь кажется, будто телефонная будка танцует с девушкой. Телефонная будка – довольно «деревянный» танцор, и движения девушки тоже деревянные, ведь она ступает в такт телефонной будке. Девушка живая, дружелюбная, симпатичная, а танцор в костюме телефонной будки изо всех сил старается танцевать, как телефонная будка. На улице все останавливаются и наблюдают за ними. Потом из открытой двери будки высовывается трубка на шнуре, похожая на зачарованную змею, а девушка берет ее, приставляет к голове, и танец заканчивается, когда она произносит: «Алло?»
– Я даже помню, как смотрел этот самый эпизод, – говорит мама Элизавет. – В нашей гостиной. Когда была маленькой.
– Надо же, – говорит Элизавет.
Мама пересматривает его. Элизавет пролистывает сегодняшнюю газету у себя на телефоне, наверстывая пропущенные великие события за последние полчаса. Она щелкает на статье «Смотри мне в глаза: уходи. Комиссия Евросоюза проконсультировалась с телевизионным гипнотизером». Элизавет проматывает страницу вниз и читает по диагонали: «Способность влиять… Я могу сделать вас счастливыми… Гипнотический желудочный бандаж… Помогал создавать рекламу для социальных сетей… Вы расстроены? Обеспокоены? Не пора ли?.. Поглощенность телевизионными трансляциями тоже гипнотизирует… Факты не работают… Нужна эмоциональная связь с людьми… Трамп…» Мама еще раз включает музыкальный номер сорокалетней давности; снова звучит бравурная музыка.
Элизавет выключает телефон и идет в прихожую за пальто.
– Я выйду ненадолго, – говорит она.
Мама, все так же сидя перед экраном, кивает и не глядя машет на прощание. Ее глаза блестят – вероятно, от слез.
Какой, однако, чудесный день.
Элизавет шагает по деревне и думает: раз уж собаки создавались по образцу реальных собак, возможно, те благотворительные копилки в форме детей тоже создавались по образцу реальных нищих, маленьких детей-попрошаек со штангенциркулями и копилками на шее? Потом она думает: может, когда-нибудь планировалось делать чучела из реальных детей и ставить их на вокзалах?
Проходя мимо дома со старой надписью «ВАЛИТЕ ДОМОЙ», она замечает, что кто-то дописал под ней разными яркими цветами: «МЫ УЖЕ ДОМА СПАСИБО» – и нарисовал рядом дерево, а внизу гирлянду из ярко-красных цветов. На тротуаре возле дома охапки настоящих цветов, в целлофане и бумаге, так что все немного смахивает на место недавней аварии.
Элизавет фотографирует нарисованные дерево и цветы. Потом выходит из деревни, пересекает футбольное поле и углубляется в поля, думая о борщевике, нарисованных цветах. Вспоминается картина Полин Боти «С любовью к Жану Полю Бельмондо». Возможно, в ней что-то есть, независимо от наличия работы, это связано с использованием цвета как языка, естественным использованием цвета наряду с эстетическим, дикое радостное буйство красок на фасаде того дома в невеселые времена, наряду с действием живописи, похожим на ее действие у Боти, где двумерное «я» увенчано чувственным цветом, окружено такими чистыми оранжевым, зеленым и красным, что кажется, будто они попали на холст прямо из тюбиков, и это не просто цвет, а причудливые лепестки, углубленное строение розы, похожей на гениталии, над шляпой на голове Бельмондо, словно с силой прижимающей и в то же время с силой поднимающей его.
Борщевик. Нарисованные цветы. Чистый незамутненный красный цвет Боти в преобразовании образа. Соедините это вместе, и что получится? Что-нибудь полезное?
Элизавет останавливается и записывает на телефоне: «Раскрепощенность и присутствие».
Впервые за долгое время она ощущает себя собой.
покой встречает энергию
искусство встречает естество
электрическая энергия
естественный провод
Она поднимает голову и видит, что находится в нескольких метрах от забора через общинную землю – провода иного рода.
Забор удвоился с тех пор, как она видела его в последний раз. Если ей не изменяет зрение, теперь это не один забор, а два параллельных.
Так и есть. За первым забором, примерно в трех метрах от него, за аккуратно утрамбованным промежутком, расположен точно такой же из сетки рабица, с такой же предательски игривой колючей проволокой поверху. Этот второй забор тоже под напряжением, и когда Элизавет идет вдоль обоих, мелькающая перед глазами ромбовидная сетка вызывает ощущения, чем-то напоминающие эпилептический припадок.
Элизавет снимает заборы на телефон. Потом фотографирует пару сорняков, уже пробивающихся сквозь взрыхленную почву вокруг металлической опоры.
Элизавет озирается. Бурьян и цветы прорастают повсюду.
Она проходит вдоль периметра забора примерно полмили, как вдруг ее настигает черный внедорожник, проезжающий по ровному промежутку между двумя уровнями. Обогнав ее, грузовик останавливается впереди. Двигатель глохнет. Когда она равняется с грузовиком, окно в кабине опускается. Оттуда высовывается мужчина. Он кивает, здороваясь.
– Чудесный день, – говорит она.
– Здесь нельзя ходить, – говорит он.
– Нет, можно, – говорит она.
Элизавет снова кивает ему и улыбается. Она продолжает идти. Слышит, как мотор заводится у нее за спиной. Когда грузовик равняется с ней, водитель, не заглушая двигатель, едет с той же скоростью, с какой она идет. Он высовывается из окна.
– Это частные владения, – говорит он.
– Нет, не частные, – говорит она. – Это общинная земля. Общинная земля не частная по определению.
Она останавливается. Грузовик обгоняет ее. Мужчина включает задний ход.
– Вернитесь на дорогу! – кричит он из окна, сдавая. – Где ваша машина? Вы должны вернуться туда, где оставили свою машину.
– Я не могу, – говорит Элизавет.
– Почему? – спрашивает водитель.
– У меня нет машины, – говорит Элизавет.
Она снова начинает идти. Водитель жмет на газ и проезжает мимо. Останавливается в нескольких метрах впереди, вырубает двигатель и открывает дверь кабины. Он стоит рядом с грузовиком, пока она приближается к нему.
– Вы открыто нарушаете закон, – говорит он.
– Какой еще закон? – говорит Элизавет. – И почему вы говорите, что это я его нарушаю? Отсюда кажется, что вы сами находитесь в тюрьме.
Он открывает верхний карман и достает телефон. Поднимает его перед собой, словно собираясь ее сфотографировать или снять на видео.
Она показывает на камеры на опорах заграждения.
– Неужели вы еще мало меня наснимали? – говорит она.
– Если вы немедленно не покинете территорию, – говорит он, – вас принудительно удалит охрана.
– Значит, вы не охрана? – спрашивает она.
Она показывает на логотип на кармане, из которого он достал телефон. Там написано «СО-3-ТЕ».
– Это сокращение от «со-три-те» или, может, «создайте»? – спрашивает она.
Мужчина с логотипом «СО-3-ТЕ» начинает набирать что-то на телефоне.
– Это третье предупреждение, – говорит он. – Предупреждаю вас в последний раз, что, если вы немедленно не освободите территорию, против вас будут приняты меры. Вы пытаетесь незаконно проникнуть в чужие владения.
– …в отличие от законного проникновения? – перебивает она.
– …в любой точке периметра в следующий раз, когда я буду здесь проезжать…
– Периметра чего? – спрашивает она.
Она смотрит на огороженное пространство и не видит ничего, кроме ландшафта. Никаких людей. Никаких зданий. Просто забор, а за ним – ландшафт.
– …приведут к наложению на вас судебных штрафов, – говорит мужчина, – и могут повлечь за собой принудительное задержание, получение сведений о вашей личности и образца вашей ДНК с последующим арестом.
Тюрьма для деревьев. Тюрьма для дрока, для мух, для капустниц, для малых голубых зимородков. СИЗО для куликов.
– А зачем вообще нужны эти заборы? – спрашивает она. – Или вам запрещено это говорить?
Мужчина окидывает ее холодным взглядом. Он нажимает какие-то кнопки на телефоне, затем поднимает его и фотографирует ее. Она дружелюбно улыбается, как обычно делают перед камерой. Затем он разворачивается и снова идет вдоль заграждения. Она слышит, как он звонит кому-то и что-то говорит, потом садится в свой внедорожник и дает задний ход между заборами. Она слышит, как он уезжает в противоположную сторону.
Молчит крапива. Молчат семена на верхушках травинок. Белые цветочки, названия которых она не знает, бодро отмалчиваются на своих стеблях.
Весело говорят лютики. Неожиданно заговаривает дрок – ярко-желтое ничто, плавное, тихое и хрупкое на фоне беззвучного зеленого молчания своих колючек.
Еще в школе один мальчик пытался любой ценой рассмешить Элизавет, которой тогда было шестнадцать. (Он пытался любой ценой вызвать у нее хохот.) Он был очень клевым. Он ей нравился. Его звали Марк Джозеф, и он играл на басу в группе, исполнявшей анархистские кавер-версии всякого старья начала 90-х. Еще он был компьютерным гением, опередившим всех остальных в те времена, когда большинство людей не знали, что такое поисковик, и верили, что с наступлением нового, 2000 года компьютеры всего мира сломаются. По этому случаю Марк Джозеф даже придумал смешную картинку и повесил ее в интернете: фотография ветеринарной клиники по дороге в школу и подпись: «Нажмите сюда, чтобы защититься от Вируса Тысячелетия».
Теперь он преследовал Элизавет по всей школе и искал способы ее рассмешить.
Он поцеловал ее у задних ворот школы. Это было мило.
– Почему ты меня не любишь? – спросил он три недели спустя.
– Я уже влюблена, – сказала Элизавет. – Нельзя любить нескольких человек одновременно.
В колледже девушка по имени Мариэль Сими каталась вместе с Элизавет, которой было восемнадцать, по полу в комнате ее общежития. Обкурившись, они смеялись над той чепухой, что поют бэк-вокалисты. Мариэль Сими поставила старую песню, где бэк-вокалисты восемь раз пели слово «ономатопея». Элизавет поставила Мариэль Сими песню Клиффа Ричарда, в которой бэк-вокалисты пели слово «овца». Они просто рыдали от смеха, а потом Мариэль Сими, которая была француженкой, обняла и поцеловала Элизавет. Это было мило.
– Почему? – спросила она несколько месяцев спустя. – Не догоняю. Я не понимаю. Это же так хорошо.
– Просто я не могу врать, – сказала Элизавет. – Я обожаю секс. Обожаю быть с тобой. Это здорово. Но я должна сказать правду. Я не могу лгать об этом.
– Кто он? – спросила Мариэль Сими. – Бывший? Вы еще встречаетесь? Или это она? Это женщина? Ты встречалась с ней или с ним все время, пока встречалась со мной?
– Это не такие отношения, – сказала Элизавет. – В них нет ничего физического. И никогда не было. Но это любовь. Я не могу притворяться, что это не так.
– Ты просто отмазываешься, – сказала Мариэль Сими. – Ставишь барьер между собой и своими настоящими чувствами, чтобы ничего не чувствовать.
– Я чувствую с лихвой, – сказала она.
В двадцать один год Элизавет встретила на выпускном экзамене Тома Макфарлейна. Она сдавала историю искусств (утром), а он – экономику и управление (после обеда). Том и Элизавет провели вместе шесть лет. Он переехал на ее съемную квартиру и прожил там пять из этих шести. Они задумывались о постоянных отношениях. Говорили о браке, ипотеке.
Как-то утром, ставя завтрак на кухонный стол, Том ни с того ни с сего спросил:
– Кто такой Дэниэл?
– Дэниэл? – переспросила Элизавет.
– Дэниэл, – повторил Том.
– Ты имеешь в виду мистера Глюка? – спросила она.
– Понятия не имею, – сказал Том. – Кто такой мистер Глюк?
– Старый мамин сосед, – сказала Элизавет. – Он жил в соседнем доме, когда я была ребенком. Сто лет его не видела. В буквальном смысле – вечность. А что? Что-то случилось? Мама звонила? Что-то случилось с Дэниэлом?
– Ты назвала его во сне, – сказал Том.
– Правда? Когда? – сказала Элизавет.
– Сегодня. Это уже не первый раз. Ты частенько произносишь его имя во сне, – сказал Том.
Элизавет было четырнадцать. Они с Дэниэлом гуляли там, где канал выходил за пределы города, а тропинка ответвлялась и бежала сквозь лес по изгибу холма. Внезапно приморозило, хотя еще стояла довольно ранняя осень. Приближался дождь, который она увидела, когда они поднялись на вершину холма: дождь двигался над ландшафтом, словно кто-то штриховал небо карандашом.
Дэниэл запыхался. Обычно такого не случалось.
– Не люблю, когда проходит лето и наступает осень, – сказала она.
Дэниэл взял ее за плечи и развернул. Он ничего не сказал. Пейзаж у них за спиной был по-прежнему синевато-зеленым и залитым солнцем.
Она смотрела на него, пока он показывал, что лето еще не прошло.
Никто не говорил так, как Дэниэл.
Никто так не говорил, как Дэниэл.
Это было в конце зимы 2002/03 годов. Элизавет было восемнадцать. Стоял февраль. Она поехала в Лондон на марш протеста. Не от ее имени[16]. Люди по всей стране и миллионы других людей по всему миру сделали то же самое.
В понедельник она бродила по городу. Странно было гулять по улицам, где жизнь шла обычным чередом, а транспорт и люди привычно сновали по тем самым улицам, где не было никакого транспорта, и казалось, будто они принадлежали двум миллионам людей от тротуаров до самых небес, что было отчасти правдой, когда она шагала тем же маршрутом позавчера.
В тот понедельник она откопала в художественном магазине на Черинг-кросс-роуд старый каталог в твердой красной обложке. Он был дешевый – всего 3 фунта – и лежал в ящике для уцененных книг.
Это был каталог выставки, прошедшей за пару лет до этого. Полин Боти, поп-арт-художница 1960-х годов.
Полин как?
Британская поп-арт-художница?
Что, правда?
Это заинтересовало Элизавет, которая изучала историю искусств в колледже и даже поспорила с преподавателем, категорически утверждавшим, что никаких британских поп-арт-художниц никогда не существовало – ни одной сколько-нибудь заслуживающей внимания, потому они и упоминались разве что в подстрочных примечаниях к истории британского поп-арта.
Художница занималась коллажами, живописью, витражами и театральными декорациями. У нее была довольно насыщенная жизнь. Она не только была живописцем, но и работала актрисой в театре и на телевидении, показывала Лондон Бобу Дилану, когда о нем еще никто не слышал, рассказывала радиослушателям, каково быть молодой женщиной в современном мире, и чуть было не прошла кастинг на роль, которая досталась вместо нее Джули Кристи[17].
В свингующем Лондоне ей светило большое будущее, но она внезапно умерла в двадцать восемь лет от рака. Забеременев, пошла к врачу, и у нее обнаружили опухоль. Она отказалась делать аборт и поэтому не смогла пройти радиотерапию: это нанесло бы вред ребенку. Она родила и умерла четыре месяца спустя.
В разделе «Хронология» в конце каталога указано: злокачественная тимома.
Грустная история, совсем непохожая на картины, которые были такими остроумными и оптимистичными, с такими неожиданными колоритом и композицией, что Элизавет, пролистывая каталог, невольно улыбалась. На последней картине художницы был изображен громадный и прекрасный женский зад, заключенный в жизнерадостную фронтальную арку и как будто заполнявший собою всю театральную сцену. Внизу, ярко-красной краской, громадными и как бы сердитыми буквами было написано:
ПОПА.
Элизавет расхохоталась.
Такое еще не скоро поймут.
На картинах художницы было много изображений современников: Элвис, Мэрилин, люди из мира политики. Была и фотография ныне утерянной картины со знаменитым изображением женщины, вызвавшим Скандал скандалов: она была голой и сидела спиной на дизайнерском стуле, что как-то связывалось с тогдашней политикой.
Затем Элизавет раскрыла каталог на странице с особенной картиной.
Она была подписана: «Без названия (Женщина-подсолнух). Ок. 1963».
На ней была изображена женщина на ярко-голубом фоне. Ее тело представляло собой коллаж из картин. Вместо грудной клетки – мужчина с автоматом, целящийся в зрителя. Рукой и плечом служила фабрика.
Туловище заполнял подсолнух.
В паху взрывался дирижабль.
Сова.
Горы.
Пестрые зигзаги.
На обратной стороне обложки была помещена черно-белая репродукция другого коллажа. Большая рука держала маленькую, отвечавшую на ее пожатие.
У нижнего края картины были нарисованы два корабля в море и лодочка, заполненная людьми.
Элизавет отправилась в отдел периодических изданий Британской библиотеки и уселась за стол с «Вогом» за сентябрь 1964 года. «В НОМЕРЕ: 9 В центре внимания 92 Паола, образец для принцесс 110 Живая кукла: Нелл Данн берет интервью у Полин Боти 120 Эдна О’Брайен, Девушки: счастье в браке». Рядом с рекламой ярко-красного молодежного пальто «Йейгер» в стиле «оглянись на меня», спонжа «Гойя» «Золотая девушка», узкого бюстгальтера без бретелек и пояса-панталон в форме дамских трусиков, создающих ощущение полной свободы, можно было прочитать: «Полин Боти, блестящая 26-летняя блондинка. Замужем уже год, муж непомерно гордится ее достижениями, хвастаясь, что она зарабатывает уйму денег живописью и актерской игрой. Она узнала на собственном опыте, что живет в мире, где женская эмансипация служит паролем, но не является состоявшимся фактом – она красива и поэтому не обязана быть умной».
Фотография Дэвида Бейли[18] на всю страницу: лицо Боти снято крупным планом вместе с перевернутым крохотным кукольным личиком у нее за спиной.
П.Б.: Я считаю, что у меня сказочный образ. Дело в том, что мне очень нравится делать людей счастливыми – наверное, это самовлюбленность, ведь они думают: «Какая красивая девушка!» Понимаете? Но еще дело в том, что я не хочу, чтобы люди меня трогали. Я не имею в виду физически, хотя и это тоже. Поэтому мне всегда нравится ощущение, как будто я проплываю мимо, изредка останавливаюсь и вижусь с ними. Я склонна играть ту роль, которую кто-то для меня определил, особенно при первом знакомстве. Одна из причин, по которой я вышла за Клайва, в том, что он увидел во мне человека, наделенного интеллектом.
Н.Д.: Вы хотите сказать, что мужчины считают вас всего лишь смазливой девушкой?
П.Б.: Нет. Их просто смущает, когда ты начинаешь говорить. Многие женщины интеллектуально выше многих мужчин. Но мужчинам трудно свыкнуться с этой мыслью.
Н.Д.: Если ты начинаешь высказывать свои мысли, они просто думают, что ты набиваешь себе цену?
П.Б. Не то чтобы ты набиваешь себе цену. Их просто слегка смущает, что ты делаешь не то, что должна.
Элизавет сделала ксерокопии этих страниц из журнала. Она принесла каталог выставки Полин Боти в колледж и положила преподавателю на стол.
– А, хорошо. Боти, – сказал преподаватель.
Он покачал головой.
– Трагическая история, – сказал он.
Потом он сказал:
– Все это несерьезно. Убогая живопись. Не очень хорошая. Она была вылитая Джули Кристи. Очень эффектная девушка. О ней есть фильм Кена Расселла[19], и там она немного экстравагантна, если мне не изменяет память: в цилиндре, подражает Ширли Темпл[20], в смысле, привлекательная и так далее, но довольно отталкивающая.
– Где можно найти этот фильм? – спросила Элизавет.
– Совершенно без понятия, – сказал преподаватель. – Она была писаная красавица, но как художница представляла второстепенный интерес. Все сколько-нибудь заметное в ее работах украдено у Уорхола и Блейка.
– А то, как она использует изображения в качестве изображений?
– Господи, да тогда этим занимались все кому не лень, – сказал преподаватель.
– А как насчет ее лени? – сказала Элизавет.
– Простите? – сказал преподаватель.
– Как насчет этого? – сказала Элизавет.
Она раскрыла каталог на странице с репродукциями двух картин.
На одной были изображены древние и современные мужчины. Вверху – голубое небо с самолетом американских ВВС. Внизу – смазанное цветное изображение убийства Кеннеди в машине в Далласе, между черно-белыми портретами Ленина и Эйнштейна. Над головой умирающего президента – темно-красно-розовый матадор, улыбающиеся мужчины в костюмах, парочка битлов.
На другой картине череда чувственных образов накладывалась на голубой/зеленый английский пейзаж, дополненный небольшой постройкой в стиле Палладио[21]. Среди вереницы образов было несколько полуголых женщин в возбуждающих и кокетливых позах из порножурналов. Но в центре этих жеманных поз находилось нечто естественное, чистое и откровенное – обнаженное женское тело спереди, обрезанное у головы и коленей.
Преподаватель покачал головой.
– Не вижу здесь ничего нового, – сказал он.
Он кашлянул.
– В поп-арте тьма-тьмущая чрезвычайно сексуализированных образов, – добавил он.
– А названия? – сказала Элизавет.
(Картины назывались «Это мужской мир I» и «Это мужской мир II».)
Преподаватель покраснел как рак.
– Разве женщины тогда изображали что-нибудь подобное? – спросила Элизавет.
Преподаватель захлопнул каталог и снова прокашлялся.
– Почему мы должны предполагать, что здесь важен гендер? – спросил преподаватель.
– Обычно я тоже задаю себе этот вопрос, – сказала Элизавет. – На самом деле я пришла сегодня к вам для того, чтобы изменить название своей диссертации. Мне хочется поработать над репрезентацией репрезентации в творчестве Полин Боти.
– Это невозможно, – сказал преподаватель.
– Почему? – сказала Элизавет.
– По Полин Боти слишком мало материала, – сказал преподаватель.
– Я так не думаю, – сказала Элизавет.
– Почти никакого критического материала, – сказал он.
– Это одна из причин, по которой, на мой взгляд, и следовало бы этим заняться, – сказала Элизавет.
– Я ваш научный руководитель, – сказал преподаватель, – если я говорю, что материала нет, его действительно нет. Вы зайдете в тупик, и придется лить воду. Я ясно выражаюсь?
– Тогда я напишу заявление, чтобы мне дали другого руководителя, – сказала Элизавет. – Можно решить этот вопрос с вами или я должна обратиться к начальству?
Спустя год Элизавет уехала на пасхальные каникулы домой. Мама как раз подумывала о переезде, возможно, на побережье. Элизавет выслушала все варианты и подробно изучила информацию о домах в Норфолке и Саффолке, присланную агентами по недвижимости.
Уделив достаточно времени обсуждению жилья, Элизавет спросила о Дэниэле.
– Отказывается, чтобы ему помогали по дому, – сказала мама. – Отказывается от «обедов на колесах». Не позволяет никому заварить чашку чего-нибудь, постираться или поменять постель. В доме стоит смрад, но если зайти и предложить какую-то помощь, он тебя усадит, а потом сам заварит чашку чая – и слышать не желает о том, чтобы кто-нибудь делал это за него. Девяносто, если не больше. Он уже не справляется. Последний раз я выловила из чая, которым он мне угостил, дохлого жука.
– Просто зайду повидаться, – сказала Элизавет.
– А, здравствуй, – сказал Дэниэл. – Входи. Что читаешь?
Элизавет подождала, пока он заварит ей чай. Потом достала из сумочки каталог выставки, найденный в Лондоне, и положила на стол.
– Когда я была маленькой, мистер Глюк, – сказала она, – не знаю, помните ли вы, но когда мы гуляли, вы порой описывали картины, и вот мне, кажется, наконец удалось увидеть некоторые из них.
Дэниэл надел очки. Раскрыл каталог. Покраснел, а потом побледнел.
– О да, – сказал он.
Он полистал книгу. Его лицо загорелось. Он кивнул. Покачал головой.
– Правда, хорошие? – сказал он.
– По-моему, просто блестящие, – сказала Элизавет. – Выдающиеся. И очень интересные тематически и технически.
Дэниэл повернул к ней картину: синие и красные абстрактные фигуры, черные, золотые и розовые круги и кривые.
– Помню эту очень отчетливо, – сказал он.
– Я заинтересовалась, мистер Глюк, – сказала Элизавет, – из-за наших с вами разговоров: вы так хорошо знали эти картины. То есть десятки лет они считались утерянными. На самом деле их недавно открыли заново. И никому в мире искусства, насколько я могу судить, о них не известно, кроме людей, знавших ее лично. Я пошла в галерею, где эти картины выставлялись лет семь-восемь назад, и познакомилась с женщиной, которая знала другую, которая немножко знала Боти, и она сказала, что эта ее знакомая до сих пор льет слезы в три ручья, почти сорок лет спустя, вспоминая свою подругу. Поэтому я заинтересовалась. Мне пришло в голову: а может, вы тоже знали Боти?
– Ну и ну, – сказал он. – Погляди-ка.
Он все еще рассматривал голубую абстракцию под названием «Гершвин».
– Только теперь узнал, как она называлась, – сказал он.
– Когда смотришь на ее фотографии, – сказала Элизавет. – Она была невероятно красивой… У нее такая печальная судьба… Ну и потом печальная судьба, которая после ее смерти постигла ее мужа, а затем и дочь – трагедия на трагедии… Так невыносимо грустно, что…
Дэниэл поднял руку, чтобы она замолчала, потом другую – обе руки, поднятые и прямые.
Молчание.
Он вернулся к книге на столе между ними. Открыл картину с женщиной, состоящей из пламени, и ярко-желтую абстракцию напротив – красные, розовые, голубые и белые цвета.
– Погляди-ка, – сказал он.
Он кивнул.
– Они и впрямь незаурядные, – сказал он.
Он перевернул все страницы одну за другой. Потом захлопнул книгу и положил обратно на стол. Взглянул на Элизавет.
– В моей жизни было много мужчин и женщин, на любовь которых я рассчитывал, любви которых желал, – сказал он. – Но сам я так любил только раз. И влюбился не в человека. Нет, вовсе не в человека.
Он постучал по обложке книги.
– Можно влюбиться не в человека, – сказал он, – а в его взгляд – в то, как этот чужой взгляд позволяет тебе увидеть, где ты находишься, кто ты такой.
Элизавет понимающе кивнула.
Не в человека.
– Да, дух 60-х… – сказала она.
Дэниэл снова остановил ее, подняв руку.
– Нам остается надеяться, – продолжил Дэниэл, – что люди, которые любят и хоть немножко знают нас, увидят нас в конце правдиво. В самом конце – остальное не так уж важно.
По всему ее телу побежал холодок, словно протирая его до полной прозрачности: так чистильщик протирает мыльное окно сверху донизу резиновым валиком.
Он кивнул – скорее комнате, чем Элизавет.
– Только за это и несет ответственность память, – сказал он. – Но, конечно, память и ответственность незнакомы друг с другом. Они чужаки. Память всегда следует собственной дорогой, несмотря ни на что.
Возможно, со стороны казалось, что Элизавет слушает, но в голове у нее раздавался пронзительный свист, а циркулирующая по сосудам кровь заглушала все прочие звуки.
Не человека.
Дэниэл не…
Дэниэл никогда…
Дэниэл никогда не был знаком…
Она выпила чай. Извинилась. Оставила книгу на столе.
Он приковылял вслед за Элизавет в прихожую и протянул каталог, пока она отпирала входную дверь.
– Я оставила нарочно для вас, – сказала она. – Подумала, вам, возможно, понравится. Мне она больше не пригодится. Я защитила диссертацию.
Он покачал старой головой.
– Оставь себе, – сказал он.
Она услышала, как за спиной захлопнулась дверь.
Это было в один из дней одной из недель одного из времен года одного из лет, возможно, 1949 года, возможно, 1950-го или 1951-го – во всяком случае, примерно в эти годы.
Кристин Килер, которая десятилетие спустя прославится как одна из вольных или невольных зачинательниц огромных изменений в классовых и сексуальных нравах 1960-х годов, была маленькой девочкой, игравшей у реки с мальчишками.
Они откопали металлическую штуковину. Та была круглой с одной конца и заостренной с другого.
Маленькая бомба была величиной примерно с верхнюю половину их тел. Они поняли, что это бомба, и потому решили отнести ее домой, чтобы показать отцу одного из мальчишек. Тот как-никак служил в армии. Уж он-то разберется, что с ней делать.
Бомба была облеплена грязью, поэтому они ее почистили, возможно, сначала мокрой травой и рукавами джемперов. Потом по очереди понесли ее на свою улицу. Пару раз роняли, разбегаясь как угорелые, – а вдруг рванет?
Они дотащили ее до дома того мальчишки. Его отец вышел посмотреть, что нужно возле дома всем этим ребятишкам.
Боже.
Пришли из ВВС. Выгнали всех из домов по всей улице, а потом из домов на всех соседних улицах.
На следующий день имена ребятишек появились в местной газете.
Это история из книги, в которой она описала свою жизнь. А вот еще одна. Когда ей не было и десяти, Кристин Килер отправили на время в женский монастырь. Монашки рассказывали маленьким девочкам на ночь сказку о мальчике по имени Растус.
Растус влюбился в маленькую белую девочку. Но маленькая белая девочка заболела и скоро должна была умереть. Кто-то сказал Растусу, что она умрет тогда, когда опадет листва с дерева перед ее домом. Поэтому Растус собрал все шнурки для ботинок, какие мог найти. Возможно, он даже распустил свой джемпер и разрезал распущенные шерстяные нитки на кусочки. Ему понадобилось много кусочков. Он влез на дерево возле дома девочки и привязал листья к веткам.
Но как-то ночью бешеный ветер сорвал с дерева все листья.
(За сорок лет до рождения Кристин Килер, но, надо полагать, в те времена, когда монашки, рассказывавшие потом подобные сказки маленьким девочкам, сами были еще детьми или подростками, имя Растус пользовалось популярностью среди исполнителей, загримированных неграми. Оно стало именем нарицательным, расистским сокращением для обозначения чернокожего в ранних фильмах, в художественной литературе рубежа веков и всех прочих формах медиаразвлечений.
В Штатах, с начала столетия вплоть до 20-х годов, чернокожий персонаж по имени Растус рекламировал сухой завтрак «Крим оф Уит». На всех фотографиях он в шляпе и куртке шеф-повара, и на одной иллюстрации седобородый чернокожий старик с палочкой останавливается перед изображением Растуса на плакате, рекламирующем «Крим оф Уит» для вашего завтрака», а внизу стоит подпись: «Кумекаю, он самый знатный человек на фсем белом свете».
В середине 20-х «Крим оф Уит» заменили имя своего персонажа на Фрэнк Эл Уайт, хотя иллюстрации на плакатах и в рекламе остались почти такими же. Фрэнк Эл Уайт был реальным человеком, чье лицо с фотографии, сделанной около 1900 года, когда он был шеф-поваром в Чикаго, стало классическим рекламным образом «Крим оф Уит». Нигде не сказано о том, платили ли когда-либо Уайту за использование его изображения.
Он умер в 1938 году.
Прошло целых семьдесят лет, прежде чем на его могиле официально поставили надгробный камень.
Но вернемся к Кристин Килер.)
В одной из книг, написанных ею самой или ее литературными «неграми», она рассказывает о себе еще одну историю.
История относится к другому периоду ее детства. Однажды она нашла полевую мышь и принесла домой, чтобы за ней ухаживать.
Мужчина, которого она называла папой, убил животное. Надо полагать, растоптал на глазах у девочки.
Дэниэл, как обычно, спит.
Для работников он, возможно, просто очередное тело в постели, которое нужно содержать в чистоте. Они по-прежнему проводят внутривенную регидратацию, хотя уже и намекнули Элизавет, что хотят поговорить с ее матерью о том, не пора ли отказаться от регидратации.
– Я и моя мать – мы обе решительно хотим, и особенно моя мать, чтобы вы продолжали регидратацию, – сказала Элизавет, когда они об этом спросили.
ОАО «Медицинские услуги Молтингс» настоятельно желает посоветоваться с ее матерью, говорит женщина из регистратуры.
– Я передам ей, – говорит Элизавет. – Она с вами свяжется.
Женщина из регистратуры говорит: им хотелось бы как можно мягче сообщить ее матери о своей озабоченности тем, что выплата за пакет услуг по проживанию и уходу за мистером Глюком со стороны ОАО «Медицинские услуги Молтингс» в ближайшее время будет просрочена.
– Мы обязательно свяжемся с вами по этому поводу в самом скором времени, – говорит Элизавет.
Женщина из регистратуры возвращается к своему айпаду, на котором она поставила на паузу криминальный сериал в записи. Элизавет пару минут смотрит на экран. Женщину в одежде полицейского переезжает молодой человек на машине. Он переезжает ее на дороге, а потом он делает это еще раз. И еще раз.
Элизавет идет в палату Дэниэла и садится рядом с кроватью.
Они, конечно, еще проводят регидратацию.
Его рука высовывается из-под одеял и поднимается к губам. Игла приклеена к нёбу, а трубка приклеена к внутренней стороне щеки. (При виде клеящей ленты и иглы в груди Элизавет лопается тонкая натянутая струна.) Пребывая в глубоком сне, Дэниэл трогает верхнюю губу – лишь слегка задевает ее, словно убирая крошки хлеба или круассана. Как будто незаметно ощупывает ее, чтобы убедиться, что у него по-прежнему есть губы, а пальцы способны осязать. Затем его рука снова исчезает под одеялами.
Элизавет украдкой смотрит на историю болезни, прикрепленную к спинке кровати, где записаны сведения о температуре и артериальном давлении.
На первой странице указано, что Дэниэлу сто один год.
Элизавет молча усмехается.
(Мама: «Сколько же вам лет, мистер Глюк?»
Дэниэл: «Гораздо меньше, чем я намереваюсь прожить, миссис Требуй».)
Сегодня он похож на древнеримского сенатора: благородная спящая голова, глаза закрыты и пусты, как у статуи, брови покрыты инеем.
«Наблюдать за тем, как кто-то спит, – это привилегия, – думает Элизавет. – Привилегия – видеть того, кто находится здесь и в то же время не здесь. Участвовать в чужом отсутствии – это честь, и она требует тишины. Требует уважения».
Нет. Это ужасно.
Пипец.
Ужасно находиться в буквальном смысле по ту сторону его глаз.
– Мистер Глюк, – говорит она.
Элизавет говорит это тихо, доверительно, над его левым ухом.
– Два вопроса. Я не знаю, как быть с деньгами, которые здесь нужно платить. Может быть, вы что-то подскажете? И второе. Они спрашивают насчет регидратации. Вы хотите, чтобы они продолжали регидратацию?
– Вам нужно уйти?
– Вы хотите остаться?
Элизавет умолкает и снова садится поодаль от спящей головы Дэниэла.
Дэниэл вдыхает. Потом выдыхает. Затем долгое время не дышит. Наконец снова начинает дышать.
Входит сестричка и начинает протирать чистящим средством перильце кровати, затем подоконник.
– Он мужчина порядочный, – говорит она, повернувшись спиной к Элизавет.
Она оборачивается.
– А чем он занимался в своей славной долгой жизни? В смысле, после войны.
Элизавет понимает, что не имеет никакого представления.
– Песни писал, – говорит она. – И здорово выручал меня в детстве. Когда я была маленькой.
– Мы все так удивились, – говорит сестричка, – когда он рассказал нам про войну, как его интернировали. Сам-то он англичанин, но пошел со своим старым отцом-немцем, хотя мог бы остаться, если бы захотел. И как он пытался перетянуть сестру, но они отказали.
Вдох.
Выдох.
Долгая пауза.
– Он вам об этом рассказывал? – спрашивает Элизавет.
Сестричка мурлычет песенку. Она вытирает дверную ручку, потом края двери. Берет длинную палку из белой пластмассы с белым ватным прямоугольником на конце и вытирает верх двери и колпак лампы.
– Нам он об этом никогда не рассказывал, – говорит Элизавет.
– Он же вам родня, – говорит сестричка. – С незнакомыми легче говорить. Мы с ним много болтали, пока он не отключился. Один раз он сказал очень правильную вещь. Когда государство недоброе, сказал… мы говорили о голосовании, как раз на носу было, я много об этом потом думала… тогда народ – это просто корм, сказал. Мудрый человек ваш дедушка. Умный.
Сестричка улыбается.
– Это славно, что вы приходите ему читать. Вы заботливая.
Сестричка выкатывает свою тележку. Элизавет смотрит на ее широкую спину: халат туго натянут на спине и под мышками.
Я ничего, абсолютно ничего ни о ком не знаю.
Возможно, никто не знает.
Вдох.
Выдох.
Длинная пауза.
Она закрывает глаза. Темнота.
Она снова открывает глаза.
Она открывает книгу наобум. Начинает читать там, где открыла, только на этот раз вслух – Дэниэлу:
…Сестрицы-наяды
С плачем пряди волос поднесли
в дар памятный брату.
Плакали нимфы дерев —
и плачущим вторила Эхо.
И уж носилки, костер
и факелы приготовляли, —
Не было тела нигде.
Но вместо тела шафранный
Ими найден был цветок
с белоснежными вкруг лепестками[22].
– На этой мне тринадцать, – говорила мама. – Отпуск на море. Мы ездили каждый год. Это моя мама. Отец.
В гостиной сидел их сосед.
Это было сразу после того, как Элизавет сказала ему, что у нее есть сестра. Теперь она боялась, что сосед ее выдаст и спросит маму, где вторая дочь.
Пока что он не проговорился.
Он рассматривал семейные фотографии мамы на стене в гостиной.
– А вот они, – сказал он, – совершенно потрясающие.
Мама не просто заварила кофе, а еще и разлила его по хорошим кружкам.
– Простите меня, миссис Требуй, – сказал сосед. – Я хочу сказать, фотографии замечательные, но жестяные вывески – это вещь.
– Что-что, мистер Глюк? – перепросила мама.
Она поставила кружки на стол и подошла взглянуть.
– Зовите меня, пожалуйста, Дэниэл, – сказал сосед.
Он ткнул пальцем в фотографию.
– А, эти, – сказала мама. – Да.
Это были щиты с рекламой фруктового мороженого на одной старой фотографии, висевшие за спиной у мамы, которая была еще ребенком. Вот о чем они говорили.
– Шесть пенсов, – сказала мама. – Я была еще очень маленькой, когда перешли на метрическую систему. Но я помню тяжелые пенсы. Полкроны.
Она говорила слишком громко. Сосед Дэниэл, кажется, не замечал или не возражал.
– Взгляните на этот темно-розовый клин на ярко-розовом, – сказал Дэниэл. – Взгляните на синеву – на то, как тени сгущаются там, где меняется цвет.
– Да, – сказала мама. – Наезд. Обалдеть.
Дэниэл сел рядом с кошкой.
– Как ее зовут? – спросил он Элизавет.
– Барбра, – ответила Элизавет. – В честь певицы.
– Певицы, которую обожает мама, – сказала мама.
Дэниэл подмигнул Элизавет и сказал тихо, наклонившись к ней, словно это был секрет, чтобы мама, которая теперь пошла к полке с компакт-дисками и перебирала их, не услышала, как будто он не хотел, чтобы она узнала:
– …В честь певицы, которая однажды на концерте, представь себе, спела песню на мои слова. Мне очень прилично заплатили. Но она так и не записала ее. А не то я стал бы триллионером. Таким богатым, что мог бы путешествовать во времени.
– Вы умеете петь? – спросила Элизавет.
– Совсем не умею, – ответил Дэниэл.
– Вам и правда хотелось бы путешествовать во времени? – спросила она. – Ну, если бы вы могли и путешествия во времени были реальностью?
– Еще как, – сказал Дэниэл.
– А зачем? – спросила Элизавет.
– Путешествия во времени – это реальность, – сказал Дэниэл. – Мы совершаем их постоянно. Миг за мигом, минута за минутой.
Он посмотрел на Элизавет широко открытыми глазами. Потом засунул руку в карман, достал двадцатипенсовик и протянул кошке Барбре. Он сделал какой-то финт другой рукой, и монета исчезла! Он сделал так, что она исчезла!
Комнату наполнила песня о том, что любовь – это мягкое кресло. Кошка Барбра все так же в недоумении смотрела на пустую ладонь Дэниэла. Она подняла обе лапы, схватила его руку и засунула нос внутрь, пытаясь найти исчезнувшую монету. Кошачья мордашка вытаращилась в изумлении.
– Видишь, как это глубоко сидит в нашей животной натуре, – сказал Дэниэл. – Не замечать того, что происходит прямо у нас перед носом.
Октябрь – мгновение ока. Яблоки только что оттягивали ветки, а в следующую минуту опали, листья пожелтели и истончились.
Миллионы деревьев по всей стране засверкали инеем. Все они, за исключением вечнозеленых, сочетают в себе красивую и безвкусную – красно-оранжево-золотистую листву, которая затем коричневеет и тоже опадает.
Дни неожиданно теплые. Кажется, будто лето закончилось совсем недавно, если бы не деформация дня, не вползание кружевной темноты и сырости по краям, спокойно сворачивающиеся растения, бисерины конденсата на паутинах, висящих между предметами.
В теплые дни кажется неправильным, что опадает столько листьев.
При этом ночи сначала прохладные, потом холодные.
Пауки с сараях и домах стерегут яйца, отложенные в углах крыш.
Яйца, из которых в будущем году вылупятся бабочки, прячутся на исподе травинок, испещряют мертвые на вид стебли на пустоши, камуфлируются на худосочных кустиках и веточках.
3
Вот старая история, настолько новая, что мы все еще в ее середине: она пишется прямо сейчас, и неизвестно, где и как она закончится. На кровати в медучреждении спит старик – он лежит на спине, под голову подложена подушка. Его сердце бьется, и кровь циркулирует по организму, старик вдыхает и выдыхает воздух, спит и бодрствует: он всего-навсего кусочек порванного листа на поверхности ручья, зеленые жилки и лиственная ткань, вода и течение, Дэниэл Глюк наконец-то следует за листом своих чувств, его язык – широкий зеленый лист, листья прорастают сквозь глазницы, вышуршивают (идеальное слово) из его ушей, пускают побеги в ноздрях, выходят наружу и окутывают его листвой, лиственной кожей, блестками.
И вот он сидит рядом со своей младшей сестрой!
Но имя сестренки на миг вылетает из головы. Это поразительно. Это одно из слов, которыми он дорожил всю жизнь. Ничего страшного. Вот она рядом с ним. Он поворачивает голову, а она здесь. Как нестерпимо приятно ее видеть! Она сидит рядом с художницей – той, что так многословно его отвергла, что ж, такова жизнь, он даже помнит, какие на художнице были духи – «О, де Лондон», бодрящие, сладкие, древесные, когда он с ней познакомился, потом она постарела и посерьезнела, это были уже «Рив Гош», он помнит и этот запах.
Они обе, сестра и художница, его игнорируют. В этом нет ничего нового. Они беседуют с мужчиной, которого он не узнает: молодой, длинноволосый, серьезный, в старой одежде из прошлого или, возможно, из груды старых костюмов под театральной сценой. Мужчина расправляет широкие манжеты на запястьях и говорит, что жнивье нравится ему «больше, чем знобкая зелень весны». Сестра и художница соглашаются с ним, и Дэниэл вдруг начинает немного ревновать, «жнивье кажется теплым», молодой человек поворачивается к художнице, «так же, как некоторые картины кажутся теплыми»[23], художница кивает. «Без моих глаз, – говорит она, и осколки ее голоса блестят и сверкают, – меня не существует».
Он пытается привлечь внимание сестренки.
Слегка подталкивает ее локтем.
Она игнорирует его.
Но ему не терпится сказать что-то сестренке, он ждал шестьдесят с лишним лет, с тех пор как подумал об этом, и с тех пор всякий раз, снова об этом думая, он мечтал о том, чтобы она хотя бы на полминутки ожила. Как бы ей было интересно! (Он хочет поразить ее и тем, что вообще об этом подумал.) Кандинский, говорит он. Я убежден, что и Пауль Клее… Они создают первые картины, когда-либо созданные из этого… Совершенно новая пейзажная живопись. Они изображают вид изнутри глаза в тот самый момент, когда начинается мигрень!
Сестренка предрасположена к мигреням.
Я имею в виду все эти ярко-желтые, розовые и черные треугольники, пульсирующие вдоль кривых и прямых линий.
Сестренка вздыхает.
Теперь он сидит на подоконнике в ее комнате. Ей двенадцать. Ему семнадцать – он намного старше. Так почему же он чувствует себя гораздо младше? Его сестренка – умница. Она сидит за столом, увлеченная книгой, приоткрытые книги лежат по всему столу, валяются на полу и кровати. Она любит читать, читает постоянно, и обычно читает несколько книг одновременно: она говорит, что это создает бесконечную перспективу и многомерность. Целое лето они были на ножах. Завтра они с отцом возвращаются: школа, Англия, где он тоже чувствует себя чужаком. Он пытается быть милым. Она игнорирует его. Чем он милее, тем больше она его презирает. Это ее презрение – что-то новое. В прошлом году, да и во все прежние годы он был ее героем. В прошлом году ей еще нравилось, когда он травил байки, показывал фокусы с монетами. В этом году она закатывает глаза. Город, сам по себе старый, тоже почему-то стал новым и необычным. Ничего не изменилось, но все другое. Он благоухает теми же старыми деревьями. Он по-летнему жизнерадостный. Но в этом году его жизнерадостность представляет какую-то открытую угрозу.
Вчера она застала его в слезах. Она открыла дверь его комнаты. Он велел ей уйти. Она не ушла, а встала в дверном проеме. «Что случилось? – спросила она. – Тебе страшно?» Он сказал: «Нет». Явная ложь. Он сказал, что думал о Моцарте, о том, каким юным и надломленным он был перед смертью, но и какая при этом легкая музыка, и это растрогало его до слез. «Ясно», – сказала она, стоя в дверях. Она прекрасно поняла, что он солгал. Моцарт действительно мог довести его до слез и часто доводил сладостными высокими нотами, которые казались крошечными оргазмами, хотя он никогда бы не признался в столь невыразимом никому, тем более сестренке. Но не от этого он тогда расплакался. «Я умоляю тебя, летний братец (так она его окрестила, ведь он был ей братом не всегда, а только летом), – сказала она, барабаня пальцами по деревянной дверной панели. – Над чем тут плакать?»
Сегодня она поднимает голову от стола и притворно удивляется, что он все еще здесь.
– Я сейчас уйду, – говорит он.
Но остается сидеть на подоконнике.
– Ну если ты собираешься и дальше тут сидеть, излучая всемирную скорбь, – говорит она, – то мог бы принести и какую-то пользу. Транзитом.
– Транзитом? – переспрашивает он.
– Сик транзит глория мунди[24], – говорит она. – Ха-ха.
Она несносная. Он ненавидит ее.
– Не сиди там, как марионетка с раскрученной пружиной, – говорит она. – Вернись к реальности. Сделай что-нибудь. Расскажи мне что-нибудь.
– Что тебе рассказать? – говорит он.
– Не знаю, – говорит она. – Мне все равно. Что угодно. Расскажи, что ты читаешь.
– Ой, я читаю так много книг, – говорит он.
Она знает, что он ничего не читает. Это она читает, а не он.
– Расскажи мне что-нибудь из множества книг, которые ты читаешь, – говорит она.
Она пытается его унизить, во-первых, из-за эмоций, а во-вторых, из-за того, что он не читает так же много, как она.
Но есть рассказ, который им задавали в школе, на уроках французского. Он подойдет.
– Вообще-то я читал, – говорит он, – всемирно известный рассказ о древнем старике, который случайно завладел волшебной козлиной шкурой. Но он был такой старый, почти такой же старый, как сама легенда, одной ногой в могиле…
– Люди не могут быть легендами, потому что они смертны, – говорит она.
– Угу, – говорит он.
Она смеется.
– …И он хотел передать волшебную козлиную шкуру кому-то другому, – говорит он.
– Зачем? – спрашивает она.
Он не может вспомнить. Он без понятия.
– Чтобы не рассеялось волшебство, – говорит он. – Чтобы, э…
Он без понятия. На самом деле он не слушал в классе.
– Может, когда-то жил волшебный козел? – говорит она. – На уступах скалы? И он умел прыгать с любой высоты, под любым углом и благополучно приземляться на хрупкие копытца? Или с него пришлось содрать шкуру, и эта шкура стала волшебной уже после жертвоприношения – из-за жертвоприношения?
Она даже не читала этот рассказ, но выдумала историю почище той, что он пытается вспомнить.
– Ну что? – говорит она.
– Волшебная козлиная шкура была… – говорит он. – В общем, из нее был сделан переплет древнейшей и самой могущественной книги по магии у того древнего старика, и за долгие сотни лет она пропиталась магией. Потому-то, кстати, он и снял именно эту шкуру, чтобы передать ее дальше.
– Почему же он не передал потому-то, кстати, всю книгу целиком? – спрашивает сестренка.
Сидя за столом, она повернула к нему насмешливое и в то же время ласковое лицо.
– Не знаю, – говорит он. – Знаю только, что он решил ее передать. Поэтому он, э, нашел юношу, чтобы передать ее ему.
– А почему юношу? – спрашивает сестренка. – Почему он не выбрал девушку?
– Слушай, – говорит он. – Я просто рассказываю тебе, что прочитал. И старик сказал юноше: вот, возьми эту волшебную козлиную шкуру. Обращайся с ней почтительно. Она очень-очень могущественная. Чтобы она подействовала, нужно положить на нее ладонь и загадать желание. И тогда желание сбудется. Но он не сказал юноше, что всякий раз, когда загадываешь желание на волшебной козлиной шкуре, она уменьшается и скукоживается – немножко или сильно, смотря какое желание загадать – маленькое или большое. И вот юноша загадал желание, и оно сбылось, и он снова загадал, и его желание снова сбылось. И он прожил счастливую жизнь, загадывая желания на волшебной козлиной шкуре. Но в один прекрасный день волшебная козлиная шкура скукожилась настолько, что стала меньше его ладони. Поэтому он загадал желание, чтобы она стала больше, и тогда она стала расти все больше, больше и больше, пока не стала величиной с целый мир, и когда она достигла размеров целого мира, она растворилась в воздухе.
Сестренка закатила глаза.
– И тогда юноша, который уже слегка постарел, но, думаю, еще не был таким старым, как тот первый древний старик, этот юноша умер, – говорит он.
Сестренка вздыхает.
– И это все? – спрашивает она.
– Ну да, там есть и другие моменты, которых я не запомнил, – говорит он. – Но суть такова, да.
– Чудесно, – говорит она.
Она подходит к окну и целует брата в щеку.
– Большое спасибо за рассказ о волшебной крайней плоти, – говорит она.
До него доходит, чтó она сказала, лишь минуту спустя. Он краснеет до корней волос. Краснеет всем телом. Она видит это и улыбается.
– Мне нельзя произносить это слово? – спрашивает она. – Но ведь рассказ именно об этом. Хотя целыми столетиями от меня скрывали, о чем на самом деле говорится в рассказах всего мира. В общем, крайняя плоть. Крайняя плоть крайняя плоть крайняя плоть.
Она танцует по комнате, выкрикивая слова, которые он вряд ли произнес бы при ней вслух.
Она с ума сошла.
Но она поразительно права насчет этого рассказа.
Она умница.
Она вывела слово «правдивый» на совершенно новый уровень.
Она опасна и блистательна.
Она подходит к окну и распахивает его пошире. Она кричит над улицей, в небо (хотя, слава богу, по-английски): «Крайняя плоть приходит и уходит! А Моцарт остается всегда!» Потом она возвращается на свое место за столом, берет книгу и продолжает читать ее с середины как ни в чем не бывало.
Он пережидает минутку, а затем выглядывает из окна на улицу. Леди с собачкой стоит, подняв голову и прикрывая глаза рукой. Помимо этого, на улице все как обычно, и никому невдомек, что его сестренка настолько сумасшедшая, настолько смелая, настолько умная, настолько сумасбродная и настолько спокойная и что теперь он знает наверняка: когда она вырастет, то станет великим человеком, видным мыслителем, революционером, тем, с кем приходится считаться.
Летний братец.
Старик в медучреждении.
Сестренка.
Никогда не старше двадцати – двадцати одного.
От нее не осталось никаких снимков. Фотографии в доме ее матери? Давно сожжены, потеряны, пропали, стали уличным мусором.
Но у него все же есть пара страниц из писем, когда она ухаживала за матерью. Ей восемнадцать. Ее умный «передний скат»:
«Вся соль в том, как мы относимся к ситуации, дорогой Дэни, как мы смотрим и видим, где находимся, и как решаем, если, конечно, в силах, когда видим все без прикрас, не отчаиваться, и в то же время выбираем, как лучше поступить. Именно это и есть надежда, вот и все, вопрос в том, как мы справляемся с негативными поступками по отношению к людям со стороны других людей, не забывая, что все мы люди, что ничто человеческое нам не чуждо, как подлость, так и благородство, а самое важное, что все мы здесь всего лишь на миг, вот и все. Но в этот аугенблик[25] мы либо кротко моргаем, либо добровольно слепнем, и мы должны знать, что одинаково способны на то и другое, и должны быть готовыми подняться над подлостью, даже если увязли в ней по уши. Поэтому так важно – и здесь я напрямую благодарю добрую, обаятельную и скорбную душу своего дорогого брата, которого так хорошо знаю, – не тратить наше время зря, пока оно у нас еще есть».
Дорогой Дэни.
Что он сделал со своим временем?
Горстка банальных рифм.
На самом деле ничего другого не оставалось.
К тому же он хорошо питался, когда рифмы приносили доход.
«Золотая. Пожилая». Он помнит ту дурацкую песенку слово в слово. Но не может вспомнить…
…Господи, не может…
– Извини за беспокойство, Господи, не напомнишь мне имя моей сестренки?
Не то чтобы он верил в существование Бога. Вообще-то он в курсе, что Его нет. Но на всякий случай, если вдруг что-то подобное есть:
– Пожалуйста, напомни мне еще разок ее имя.
– Прости, – говорит тишина. – Не могу тебе помочь.
– Кто это?
(Тишина.)
– Кто там?
(Тишина.)
– Бог?
– Не совсем.
– Кто же тогда?
– С чего начать? Я усик бабочки. Я химикаты, из которых сделана краска. Я мертвец на берегу водоема. Я вода. Я берег. Я клетки кожи. Я запах дезинфицирующего средства. Я то, что трется о твои губы, увлажняя их, – чувствуешь? Я мягкий. Я твердый. Я стекло. Я песок. Я желтая пластиковая бутылка. Я весь пластик в морях и в кишках всех рыб. Я все рыбы. Я моря. Я моллюски в морях. Я старая расплющенная пивная банка. Я магазинная тележка в канале. Я объявление на столбе, птица на проводе. Я столб. Я провод. Я пауки. Я семена. Я вода. Я жара. Я хлопчатобумажная ткань простыни. Я трубка в твоем боку. Я моча в трубке. Я твой бок. Я другой твой бок. Я другой «ты». Я кашель за стеной. Я кашель. Я стена. Я слизь. Я бронхиальные трубки. Я внутри. Я снаружи. Я транспорт. Я загрязнение. Я конский навоз, упавший на проселочную дорогу сотню лет назад. Я поверхность этой дороги. Я то, что внизу. Я то, что вверху. Я муха. Я потомок мухи. Я потомок потомка потомка потомка потомка потомка мухи. Я круг. Я квадрат. Я все фигуры. Я геометрия. Я еще даже не начал рассказывать тебе, кто я. Я всё, что создает всё. Я всё, что уничтожает всё. Я огонь. Я потоп. Я мор. Я чернила, бумага, трава, дерево, листва, лист, зелень листа. Я прожилка на листе. Я голос, не рассказывающий никакой истории.
(Фыркает.)
– Такого не бывает.
– Прошу прощения. Бывает. Это я.
– «Лист», ты сказал?
– Да, я сказал «лист».
– Ты? Лист?
– Ты что, глухой? Я лист.
– Просто один-единственный одинокий листочек, да?
– Нет, если быть точным. Как я уже сказал. Как я уже пояснил. Я – это все листья сразу.
– Ты – все листья?
– Да.
– Так, и ты опал? Или еще не опал? Осенью? Летом в грозу?
– Ну, по определению…
– А под «всеми листьями» ты подразумеваешь прошлогодние листья?
– Я…
– И листья будущего года?
– Да, я…
– Ты – это все старые, давно исчезнувшие листья за все годы? И все листья в будущем?
– Да-да. Ясное дело. Боже всемогущий. Я листья. Я все листья. Понятно?
– И листопад? Да или нет?
– Конечно. Ведь листья опадают.
– Тогда, кем бы ты ни был, ты меня не проведешь. Ни на секунду не одурачишь.
(Тишина.)
– Всегда есть и всегда будет продолжение истории. Вот что такое история.
(Тишина.)
– Это бесконечный листопад.
(Тишина.)
– Так ведь? Это ведь ты?
(Тишина.)
Теперь, когда уже не за горами настоящая осень, погода улучшилась. До сих пор стояло воняющее мухами, пасмурное, прохладное, осеннее вселенское лето – практически с того первого раза, когда Элизавет пошла на почтамт, чтобы «проверить и отправить» свой паспортный бланк.
И вот ее новый паспорт прибыл на почту.
Наверное, ее волосы все-таки удовлетворили критерию. Расположение глаз, наверное, тоже.
Она показывает новый паспорт маме. Мама тычет пальцем в слова «Европейский союз» вверху обложки и корчит скорбную гримасу. Потом пролистывает паспорт.
– Что это за рисунки? – говорит она. – Не паспорт, а книжка с картинками от «Ледибёрд»[26].
– «Ледибёрд» под «кислотой», – говорит Элизавет.
– Мне не нужен новый паспорт, если он будет таким же, – говорит мама. – И все эти мужики повсюду. А где женщины? А, вот одна. Это что, Грейси Филдс?[27] Архитектура? Да кто это? Это она? Эта женщина в смешной шляпке – единственная на весь паспорт? О нет. Вот еще одна, как бы дорисованная по центру страницы, задним числом. А вот еще парочка, на той же странице, что и шотландские волынщики – обе шаблонные этнические танцовщицы. Сценическое искусство. Что ж, Шотландия, женщины и скрепа континентов – все уж точно на своем месте.
Она возвращает паспорт Элизавет.
– Если бы я увидела эту пародию на паспорт до референдума, – говорит мама, – уж я бы заранее подготовилась к тому, что так неминуемо грядет.
Элизавет засовывает новый паспорт за зеркало в спальне, которую мама отвела для нее в задней части дома. Потом натягивает пальто и идет к автобусной остановке.
– Не забудь, – кричит вдогонку мама, – ужин! Я жду тебя в шесть. Зои придет.
Зои – та самая женщина, что снималась девочкой на Би-би-си, когда мама была маленькой. Мама познакомилась с ней на съемках «Золотого молотка» две недели назад, и теперь они стали неразлейвода. Мама пригласила Зои посмотреть открытие заседания шотландского парламента, которое записала с телеэфира в начале месяца и уже насильно показала Элизавет. Мама уже несколько раз пересмотрела его сама, но расплакалась с самого начала, когда мужской голос за кадром произнес слова, высеченные на молотке:
«Мудрость. Справедливость. Сострадание. Честность».
– Это из-за слова «честность», – сказала мама. – Это из-за него всегда. Слышу его и вижу перед собой эти лживые хари.
Элизавет скривилась. Каждое утро она просыпается с таким чувством, будто ее лишили чего-то обманом. После этого она всегда задумывается над тем, сколько людей просыпается с таким же чувством по всей стране, за что бы они ни проголосовали.
– Угу, – сказала она.
– Я все смотрю и смотрю на их участки вон там, – сказала она. – Я не выйду из ЕС.
Для мамы это нормально. Она прожила свою жизнь.
– Правь, Британия, – скандировала кучка отморозков напротив квартиры Элизавет на выходных! – Сперва мы доберемся до ляхов, а потом до муслимов. Потом доберемся до ромал, а потом до голубых.
В ту же субботу, во время дискуссии на «Радио 4», представитель правого крыла крикнул женщине – члену парламента: «Вы драпаете, но мы за вами еще придем». Ведущий дискуссии не выступил с критикой, никак не прокомментировал и даже не признал того, что прозвучала угроза. Вместо этого он дал последнее слово члену парламента от партии тори, который использовал оставшиеся тридцать минут передачи для разговора о «реальной и тревожной причине для беспокойства» – не об открытой угрозе, только что высказанной в прямом эфире одним человеком другому, а о проблеме «иммиграции». Элизавет слушала передачу в ванной. После этого она выключила приемник и задумалась, сможет ли теперь слушать «Радио 4» так же наивно, как раньше. В ушах у нее произошел переворот. Точнее, не в ушах, а в мире.
Произошел переворот
Под толщей…[28]
«Вод? Каких вод?» – подумала она.
Под толщей социальных вод.
Она вытерла пар с зеркала, постояла собственным эхом в ванной. Взглянула на свое размытое отражение.
– Привет, – сказала Элизавет в трубку маме на следующее утро. – Это я. Пожалуй, пора.
– Прекрасно тебя понимаю, – сказала мама.
– Можно приехать и немного пожить у тебя? Я хочу сделать кое-какую работу и быть поближе к, гм, дому.
Мама усмехнулась и сказала, что Элизавет может занимать комнату в задней части сколько понадобится.
Тем временем Зои, девочка-звезда 60-х, тоже приедет, чтобы теперь для нее сыграла сама Шотландия.
– Мы с Зои сошлись на почве серебряного футляра для соверена, – сказала мама. – Не знаю, известно ли тебе, что это такое? В закрытом виде он похож на карманные часы, я видела парочку в телемагазине антиквариата. Один такой лежал сверху на шкафчике, и Зои подобрала его, раскрыла и такая: «Ой, какая жалость, кто-то вынул из них весь часовой механизм». А я такая: «Нет, это, наверно, футляр для соверена». А она такая: «Чтоб мне провалиться, так вот какого размера суверенитет? Как-никак старые деньги? Можно было бы догадаться. Первоначально монета стоимостью один фунт стерлингов. Скоро будет равняться 60 пенсам». Мы обе так громко рассмеялись, что даже запороли дубль, снимавшийся в соседней комнате.
– Я хочу вас познакомить, – снова говорит мама. – Она без конца меня подбадривала.
– Не забуду, – говорит Элизавет.
И тут же забывает, как только выходит за дверь.
Снова и снова, раз за разом. Даже во время фазы усиленного сна, положив голову на подушку и закрыв глаза, еле-еле душа в теле, он делает то, что умел делать всегда.
Бесконечно обаятельный Дэниэл. Зачарованная жизнь. Как ему это удается?
Она приносила стул из коридора. Запирала дверь палаты. Открывала книгу, купленную в тот же день. Начинала читать сначала, довольно тихо, но вслух: «Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы света, это были годы мрака; это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди»[29]. Слова действовали как заклинание. Они высвобождали все это в считаные секунды. Все происходящее отдалялось на безопасное расстояние.
Это было не что иное, как магия.
Кому нужен паспорт?
Кто я? Где я? Что я собой представляю?
Я читаю.
Дэниэл лежит и спит, как красавица в сказке. Элизавет держит в руках книгу, открытую в самом начале. Она совершенно ничего не произносит вслух.
«Один раз, – говорит она про себя, – когда я была еще очень маленькой и мать запретила видеться с вами, я выполняла ее просьбу, но только три дня. Утром третьего дня я впервые поняла, что однажды умру. Поэтому я демонстративно проигнорировала запрет. Я нарушила ее распоряжения. Она ничего не могла с этим поделать. Это длилось всего три дня, и я гордилась тем, что тогда вы ничего не заметили и не узнали.
Однако я хочу извиниться за то, что меня здесь не было все эти годы. Целых десять лет. Мне очень жаль. Я ничего не могла с этим поделать. Я безнадежно обиделась на какую-то глупость.
Конечно, возможно, вы не заметили и этого отсутствия.
Я-то думала о вас все время. Даже когда не вспоминала вас, я думала о вас».
Молчание Элизавет, если не считать ее дыхания.
Молчание Дэниэла, если не считать его дыхания.
Вскоре после этого она засыпает на стуле с прямой спинкой, прислонившись головой к стене. Во сне она сидит в выбеленном помещении.
Это выбеленное помещение – ее квартира.
По правде говоря, это не ее квартира, и она знает об этом во сне: она уже свыклась с мыслью, что, вероятно, никогда не сможет купить себе дом. Ничего страшного, в наши дни никто не может, за исключением богатеньких людей, или тех, у кого умерли родители, или тех, у кого богатенькие родители. Но это не беда: она арендует. Арендует во сне квартиру с белыми стенами. Сквозь стенку слышно соседский телевизор. Это один из способов узнать, что у вас есть соседи.
Кто-то стучит в дверь. Должно быть, Дэниэл.
Но это не он. Это девочка. Лицо у нее пустое, как лист бумаги, пустое, как пустой экран. Элизавет начинает паниковать. Пустой экран означает, что компьютер дал сбой и вся информация исчезла. Теперь ей никак не добраться до рабочих файлов. Никак не узнать, что происходит в мире прямо сейчас. Ни с кем не связаться. Больше никогда ничего не сделать.
Девочка не обращает внимания на Элизавет. Она садится в дверях, чтобы Элизавет не могла запереть дверь. Достает книгу. Наверное, это Миранда из «Бури». Миранда из «Бури» читает «Дивный новый мир».
Она поднимает глаза от книги, словно только что заметила здесь Элизавет.
– Я принесла тебе новости о нашем отце, – говорит она.
По словам девочки с пустым лицом, сегодня их отец пошел покупать новый ноутбук.
– Подарок для тебя, – говорит девочка (сестра Элизавет). – Но потом случилось это.
Затем Элизавет видит, что случилось дальше, как будто смотрит фильм.
По пути в «Джон Льюис»[30] мужчина (ее отец?) останавливается у витрины «Кэш Конвертерс»[31] и заглядывает туда: нет ли чего-нибудь подешевле? Рядом останавливается женщина и тоже заглядывает в витрину. «Смотрите на ноутбуки?» – спрашивает она. «Да», – отвечает отец. «Дело в том, – говорит женщина, – что я собираюсь зайти в этот магазин и продать им свой новый ноутбук – как я уже сказала, он новехонький. Я получила новую работу в Америке, и теперь мне не нужен этой новый ноутбук. Но если вы хотите купить ноутбук, я могу продать его вам, а не «Кэш Конвертерс», причем по очень хорошей для новенького ноутбука цене».
Отец Элизавет идет с женщиной на парковку, где она открывает багажник машины и расстегивает лежащую там сумку для инструмента. Она вынимает новенький ноутбук. Во сне Элизавет даже чувствует его запах.
«600 фунтов наличными, – говорит женщина, – цена вас устраивает?» – «Да, – отвечает отец Элизабет. – Вполне устраивает. Схожу сниму деньги в банкомате».
«Я с вами», – говорит женщина, кладя ноутбук обратно в сумку и закрывая багажник.
Они идут к банкомату. Он снимает деньги. Они возвращаются к машине. Он отдает женщине деньги. Женщина открывает багажник, достает сумку для инструмента и протягивает ему. Закрывает багажник и уезжает.
– Потом наш отец открывает сумку, – говорит девочка с пустым лицом. – А там ничего, кроме лука. Лука и картошки. Вот.
Она протягивает Элизавет сумку. Элизавет открывает ее. Там куча картошки и лука.
– Спасибо, – говорит Элизавет. – Поблагодари его за меня.
Она смотрит туда, где должна стоять плита. Но в беленой комнате нет абсолютно ничего.
«Пустяки, – думает она. – Когда придет Дэниэл, он придумает, что с ним сделать».
Тут она просыпается.
На долю секунды вспоминает сон, а затем вспоминает, где находится, и забывает его.
Она потягивается на стуле – руки и плечи, ноги.
Так вот каково спать вместе с Дэниэлом.
Она мысленно улыбается.
(Она часто задумывалась над этим.)
Это было в типичную среду в апреле 1996 года. Элизавет было одиннадцать. Она надела новые роликовые коньки. Когда становишься на них, на пятках загораются и мигают цветные огоньки. Самой это можно увидеть, только если на улице темно и выключить весь свет в спальне или задернуть жалюзи и надавить на ролики руками.
У ворот стоял Дэниэл.
– Я в театр, – сказал он. – Зеленый театр. Хочешь со мной?
Он сказал, что пьеса о цивилизации, колонизации и империализме.
– Звучит скучновато, – сказала она.
– Доверься мне, – сказал Дэниэл.
И она пошла, и это было не скучно, а очень даже интересно – об отце и дочери. А еще о справедливости и несправедливости и людях, загипнотизированных на острове и плетущих интриги друг против друга, чтобы захватить власть над островом, и некоторым персонажам суждено было быть рабами, а другим – освободиться. Но в основном речь шла о девочке, отец которой, волшебник, заботился о ее будущем. В конце дочка могла бы принять и более активное участие, но все равно было очень интересно; под конец Элизавет чуть не расплакалась, когда постаревший отец выступил вперед без своего волшебного плаща и палочки и попросил зрителей похлопать в ладоши, иначе он навсегда останется в пьесе на ненастоящем острове с картонными декорациями. Если бы они этого не сделали, вполне вероятно, он действительно простоял бы в зеленом театре всю ночь в полной темноте.
Радовало еще и то, что можно освободить кого-то от чего-то, просто похлопав в ладоши.
Домой она ехала на роликах впереди Дэниэла, чтобы Дэниэл мог видеть, как мигают огоньки.
Лежа ночью в постели, она вспоминала свои ноги и быстро проносившийся под ними асфальт и думала о том, как странно, что она помнила совершенно бесполезные подробности, например трещины в асфальте, гораздо яснее, чем могла вспомнить хоть что-нибудь о собственном отце.
На следующий день за завтраком она сказала маме:
– Я всю ночь не спала.
– Бедняжка, – сказала мама. – Ну, поспишь зато этой ночью.
– Я не спала не просто так, – сказала Элизавет.
– Ага? – сказала мама.
Она читала газету.
– Я не спала, – сказала Элизавет, – потому что поняла: я совершенно не помню, какое лицо у папы.
– Что ж, тебе везет, – сказала мама из-за газеты.
Она перевернула страницу, развернула следующую, встряхнула газетой, чтобы та снова приняла изначальную форму, и загородилась ею от Элизавет.
Элизавет пристегнула ролики, зашнуровала их и поехала к Дэниэлу. Дэниэл был на заднем дворе. Элизавет покатилась по тропинке.
– А, привет, – сказал Дэниэл. – Это ты. Что читаешь?
– Я всю ночь не могла уснуть, – сказала она.
– Погоди, – сказал Дэниэл. – Для начала скажи: что ты читаешь?
– «Часовой механизм»[32], – сказала она. – Очень интересно. Я рассказывала вам об этом вчера. Это книга о людях, которые придумывают историю, но потом история сбывается и начинает происходит в реальности, и это очень страшно.
– Помню, – сказал Дэниэл. – Чтобы прекратить что-нибудь плохое, они поют песню.
– Да, – сказала Элизавет.
– Если бы в жизни все было так просто, – сказал Дэниэл.
– Вот и я говорю, – сказала Элизавет. – Я глаз не могла сомкнуть.
– Из-за книг? – спросил Дэниэл.
Элизавет рассказала ему об асфальте, своих ногах, папином лице. Дэниэл посерьезнел. Она сел на лужайку. Погладил траву рядом с собой.
– Понимаешь, забывать – это нормально, – сказал он. – Это хорошо. На самом деле мы должны иногда забывать. Забывать – очень важно. Мы делаем это намеренно. Тогда мы немного отдыхаем. Ты слушаешь? Мы должны забывать. Или больше никогда не заснем.
Элизавет расплакалась как малый ребенок. Слезы хлынули ручьем.
Дэниэл положил ладонь ей на спину.
– Когда меня огорчает то, что я не могу чего-то вспомнить… Ты слушаешь?
– Да, – сказала Элизавет сквозь слезы.
– Я представляю, как то, что я забыл, прижимается ко мне, словно спящая птица.
– Какая птица? – спросила Элизавет.
– Дикая, – сказал Дэниэл. – Любая. Ты поймешь, какая, когда это произойдет. А потом я просто обнимаю ее, только не слишком крепко, и убаюкиваю. Вот и все.
Потом он спросил, правда ли, что огоньки на пятках коньковых роликов загораются только на дороге и что они не загораются, если кататься по траве.
Элизавет перестала плакать.
– Они называются «роликовые коньки», – сказала она.
– Роликовые коньки, – сказал Дэниэл. – Хорошо. Ну и?
– И по траве кататься нельзя, – сказала она.
– Нельзя? – сказал Дэниэл. – Какой досадной бывает правда. Может, попробуем?
– Какой смысл? – сказала она.
– Ну, может, все-таки попробуем? – сказал он. – Возможно, мы опровергнем всеобщее мнение.
– Ладно, – сказала Элизавет.
Она встала и вытерла лицо рукавом.
– Возвращение к жизни[33], – говорит Элизавет. – Голод, нужда и пустота. По всему городу шторм, и это только начало. Грядет варварство. Скоро покатятся головы.
Элизавет вешает пальто в прихожей. Мама знакомит ее со своей новой подругой Зои и спрашивает Элизавет, сколько страниц «Истории двух городов» они сегодня прочитали.
– Кто такой мистер Глюк? – спрашивает новая мамина подруга Зои.
– Мистер Глюк – приветливый старик-гей, который был нашим соседом много лет назад, – говорит мама. – Она его очень любила, а он дружил с ней, как с ребенком. Она была трудным ребенком. Пожалейте меня. Таким трудным, что никакого сладу.
– Во-первых, он не гей. Во-вторых, любила и люблю. И в-третьих, никаким трудным ребенком я не была, – говорит Элизавет.
– Вот видишь? – говорит мама.
– А я люблю трудных людей, – говорит Зои.
Она улыбается Элизавет с подлинным дружелюбием. Ей где-то за шестьдесят. Она симпатичная и ненавязчиво стильная. Сейчас она вроде довольно известный психоаналитик. (Элизавет усмехнулась, когда мама ей об этом сказала: «Наконец ты встречаешься с тем, в ком нуждалась все эти годы».) У Зои осталось мимолетное сходство с той девочкой, что танцевала с телефонной будкой в старом фильме; ее по-прежнему овевает призрачный ореол цветного кино. Ее пожилая ипостась добросердечна и сияет, словно яблочко, висящее высоко на дереве, после того как все остальные уже сорваны. Ну а мама Элизавет из кожи вон лезет: накрасилась и надела новенький льняной ансамбль, похожий на тот, что продается в дорогом деревенском магазине.
– …И все эти годы мы поддерживали связь, – говорит Зои.
– На самом деле связь мы потеряли, – говорит мама, – пока один сосед не нашел меня по интернету и не сообщил, что мистер Глюк упаковал свои вещи, продал кусочек священного камня Барбары Хепуорт…[34]
– Макет, – перебивает Элизавет.
– Ничего себе, – говорит Зои. – У него хороший вкус.
– …и сам сдался в дом престарелых, – говорит мама. – А я случайно сказала Элизавет, которая навестила меня, в общей сложности, кроме шуток, в общей сложности один раз, кроме шуток, за шесть лет, я сказала ей по телефону такая, а, кстати, старый мистер Глюк. Он в этом учреждении под названием «Молтингс», кажется, недалеко отсюда. Кроме шуток. Она бывала здесь каждую неделю, все лето. Иногда по два раза. А теперь временно здесь поселилась. Хорошо снова заиметь дочь. Во всяком случае, пока меня устраивает.
– Спасибо, – говорит Элизавет.
– Теперь я и сама мечтаю о более тонком тюнинге на закате жизни, – говорит мама. – Все эти книги, которые я так и не прочла: «Миддлмарч», «Моби Дик», «Война и мир». Не то чтобы я собиралась дотянуть до таких преклонных лет, как мистер Глюк. Ему же сто десять.
– Сколько? – говорит Зои.
– Она вечно путает его возраст. Всего-навсего сто один, – говорит Элизавет.
Зои качает головой.
– Всего-навсего, – говорит она. – Батюшки, хватит и семидесяти пяти. Все, что сверх, – это премия. Ну, это я сейчас так говорю. А что я скажу, если доживу до семидесяти пяти?
– Летними ночами он ставил у себя на заднем дворе проектор и экран, – говорит мама, – и показывал ей старые фильмы. Я выглядывала из окна, стояла звездная ночь, а они сидели в маленьком кубике света. Это было в те годы, когда у нас еще было лето. Когда у нас еще были времена года, а не одно и то же время года, как сейчас. А помнишь тот раз, когда он бросил свои часы в речку…
– В канал, – исправляет Элизавет.
– …и сказал тебе, что изучает время и движение? – говорит мама.
– Какая чудесная дружба, – говорит Зои. – И вы навещаете его каждую неделю? И читаете ему?
– Я люблю его, – говорит Элизавет.
Зои кивает.
Мама закатывает глаза.
– Он практически в коме, – говорит она почти шепотом. – Боюсь, он не…
– Он не в коме, – говорит Элизавет.
Она вдруг чувствует в своем голосе злость, но затем успокаивается и продолжает.
– Он просто спит, – говорит она, – но очень подолгу. Он не в коме, а отдыхает. Наверное, его просто все это вымотало: переезд, упаковка вещей.
Она видит, как мама качает головой, повернувшись к своей новой подруге.
– А я все выброшу, – говорит Зои. – В канал, в речку – что поближе. Или раздам. Незачем это хранить.
Элизавет проходит в комнату на солнечной стороне дома и плюхается на диван. Она и забыла об этих ночных сеансах: Чаплин устраивается помощником в цирк, а потом по ошибке нажимает на кнопку на столе фокусника, на которую ему велели не нажимать, и из потайных отделений начинают вылетать утки, голуби и поросята.
– В общем, я стояла в прихожей и набирала номер каждую неделю, я уже отчаялась, – говорит мама из кухни, – 01 811 8055, до сих пор помню его наизусть, то есть я почти никогда не видела саму программу – вечно торчала в прихожей. Но однажды мне пришло в голову и показалось очень смешным, я решила, это просто верх остроумия. Так вот, каждую неделю. Потом как-то раз я все-таки дозвонилась. И телефонистка – они сидели в задней части студии, принимали звонки и записывали сделки, – она подошла к телефону и сказала магические слова: «Разноцветный магазин обмена и продажи», и я такая: «Меня зовут Венди Парфитт, и я хотела бы обменять свое королевство на коня», и они вывели это на экран в числе десяти верхних сделок: «Венди Парфитт ПРЕДЛАГАЕТ королевство В ОБМЕН на коня».
– Я однажды видела его, Ноэла, – говорит подруга. – Ну, секунд тридцать. Так интересно. В столовой для сотрудников.
– Вся наша жизнь, – говорит мама. – Вся моя жизнь, детство. Вечером после похорон отца наша мать – думаю, она просто не знала, что еще делать, – включила телевизор, и мы все сели, она тоже, смотреть «Уолтонов»[35], как будто это могло все исправить, вернуть жизнь в привычное русло.
– Для меня это такая же загадка, меня это так же волнует и утешает, как и тебя, – говорит мамина подруга. – Хотя я сама, по идее, в этом участвовала. А теперь все хотят знать только о злоупотреблениях. Никто не делал с нами того, чего не следует. Люди, которые спрашивают, просто жаждут спросить, точнее, жаждут услышать что-нибудь плохое, им нужно, чтобы все пошло как-то не так, они всегда кажутся огорченными, когда я говорю «нет», когда говорю, что это было прекрасное время, что я обожала свою работу, и в первую очередь обожала работать актрисой, еще я обожала, что мне выдают самые потрясающие наряды, что я сама научилась курить на заднем сиденье машины, отвозившей меня на работу и обратно домой – и когда я говорю об этом, о сигаретах, они поднимают брови, как будто это и есть совращение малолетних – мое стремление быть взрослой. Стремление повзрослеть, больше не быть ребенком, которое есть в каждом из нас.
Элизавет просыпается. Выпрямляется.
На улице смеркается.
Она смотрит на телефон. Скоро девять.
Через прихожую доносятся их приглушенные голоса. Они перебрались в гостиную. Наверное, поужинали без нее.
Они разговаривают о комнате, в которую зашли в одном магазине на съемках «Золотого молотка». Мама рассказывала ей об этой комнате. «Она была огромная, – сказала мама, – и там не было ничего, кроме нескольких тысяч старинных лафитников, вставленных один в другой».
– Как будто входишь туда, где дышит история, а находишь хрупкую унылую безысходность, – говорит Зои. – Одно неловкое движение ногой – и катастрофа. Смотри, куда ступаешь. И все эти старые телефоны с циферблатом.
– Керамические собачки, – говорит мама.
– Чернильницы. (Зои.)
– Гравированные серебряные спичечные коробки, фирменный знак «Якорь и Лев», Бирмингем, начало века. (Мама.)
– Ты неплохо в этом разбираешься. (Зои.)
– Телевизора насмотрелась. (Мама.)
– Надо побольше у тебя выспросить. (Зои.)
– Маслобойка. (Мама.) Настенная кофемолка. (Зои.) Бытовая керамика «Пул». Подделки под «Клэрис Клифф». Японские роботы с оловянным покрытием. (Элизавет уже не различает их голоса.) Марионетки «Пелхэм», помнишь их, еще в коробках. Часы. Военные медали. Гравированный хрусталь. Столы-матрешки. Черепица. Графины. Шкафчики. Ученические изделия. Подставки для растений. Старые фотоальбомы. Ноты. Живопись. И снова живопись. И снова живопись.
По всей стране все вещи из прошлого, сложенные на полках в магазинах, сараях и на товарных складах, громоздящиеся в витринах и на витринах, выплескивающиеся снизу из магазинных подвалов, сверху из магазинных чердаков, словно огромный национальный оркестр, выжидающий подходящего момента: смычки уже занесены над струнами, все ткани приглушены, все предметы неподвижны и безмолвны, до тех пор пока магазины не опустеют, пока в дверях не запищит электронная сигнализация, пока не повернутся ключи в замках тысяч магазинов, сараев и товарных складов по всей стране.
Тогда с наступлением темноты грянет симфония. О, какая прекрасная мысль! Симфония проданных и выброшенных вещей. Симфония всех жизней, в которых эти вещи когда-то занимали свое место. Подделки под «Клэрис Клифф» заиграют на флейтах. Коричневая мебель загудит басом. Фотографии в старых отсыревших альбомах зашепчут сквозь кальку. Серебро возьмет чистую ноту. Тростниковые корзины тоненько запоют. Фарфоровые изделия? Зазвучат голосами, готовыми в любую минуту сломаться. Деревянные – затянут тенором. Да, но будут ли звуки оригиналов как-то отличаться от звуков копий?
Женщины смеются.
Элизавет чувствует запах табака.
Нет, это запах травки.
Она откидывается на диване и слушает, как они смеются над теми случаями, когда они запарывали сцены во время съемок «Золотого молотка», рассмеявшись не в том месте или сказав не то, что надо. Судя по всему, немало шума вызвало упрямство мамы, которая отказывалась здороваться с владельцем антикварного магазина, где они снимались, как будто они только что познакомились, тогда как в действительности они познакомились за час до этого и уже сняли пять дублей. «И снова здравствуйте!» – говорила она всякий раз. «Стоп!» – вопила съемочная группа.
– Я просто не могла этого сделать, – говорит мама. – Это звучало так глупо и фальшиво. Я была такой безнадежной.
– Это да. Но это вселило в меня надежду, – говорит новая подруга.
Элизавет улыбается. Как мило.
Она выпрямляется. Проходит на кухню. Все продукты для ужина по-прежнему лежат на столе, дожидаясь, пока их приготовят.
Тогда она проходит в гостиную. Комната насквозь пропахла травкой. Мамина новая подруга Зои сидит в шезлонге, а мама – у своей новой подруги на коленях. Они обнимаются, как в знаменитой скульптуре Родена, и целуются.
– Ах, – говорит Элизавет.
Зои открывает глаза.
– Опа! Нас застукали, – говорит она.
Элизавет смотрит, как мама пытается сохранить не только самообладание, но и равновесие на коленях у новой подруги.
Она подмигивает маминой новой подруге сквозь наркотический дым.
– Она ждала вас с десяти лет, – говорит Элизавет. – Мне приготовить ужин?
Это было солнечным пятничным вечером больше десяти лет назад, весной 2004 года. Элизавет было почти двадцать. Она сидела дома и смотрела «Элфи» – фильм, в котором появляется Полин Боти[36]. В главной роли донжуана снялся Майкл Кейн. Для того времени это был большой прорыв: Кейн в роли Элфи откровенно, прямо в камеру, рассказывал о своих сексуальных похождениях.
Где-то в самом начале фильма Майкл Кейн идет по светлой солнечной лондонской улице 60-х годов и стучит в стеклянное окно с надписью «Быстрое обслуживание», чтобы привлечь внимание девушки в окне.
Это она.
Она оборачивается с радостным видом и зазывает его внутрь. Войдя в дверь, он переворачивает табличку с «открыто» на «закрыто» и идет вслед за девушкой в подсобку. Потом он обнимает и целует ее, а затем они вдвоем скрываются за вешалкой для комедийного трехсекундного перепихона.
Это определенно была Полин Боти.
Фильм был снят за год до ее смерти.
Ее имени даже не было в титрах.
«Я вел прекрасную беззаботную жизнь и сам не замечал этого, – говорил голос Майкла Кейна за кадром. – У меня была эта заведующая химчисткой». Он зашел туда, спрятался с девушкой за одеждой, а через пару минут вышел с другой стороны и сказал: «…вдобавок еще почистил костюм».
Судя по тому, что читала Элизавет о жизни Боти, на этих кадрах она была уже беременна.
Боти была в ярко-голубой кофте. Волосы – цвета пшеницы.
Но этого не напишешь в диссертации. Нельзя написать: «Это было похоже на взрыв». Нельзя написать: «Она выглядела так, как будто с ней можно очень здорово повеселиться, она искрилась энергией» или «От нее исходили волны энергии». Так нельзя написать, но требуется именно такой стиль речи: «Хотя в этом фильме она появляется менее чем на двадцать секунд, она добавляет нечто принципиальное – принципиально женское представление об удовольствии – к критике новой раскрепощенной современной морали, что она фактически проделывала и со своей эстетикой».
Чушь.
Элизавет снова открыла каталог Боти и полистала его. Ей бросилось в глаза буйство красок.
Она остановилась на одной давно утерянной картине – портрете Кристин Килер на стуле. Килер спала с двумя мужчинами: один был госсекретарем по военным делам в правительстве в Лондоне, а другой – русским дипломатом[37], и речь шла о вопиющей лжи в парламенте, о том, у кого больше власти и кто владел информацией о ядерном оружии, но вскоре, по меньшей мере внешне, речь заходила о чем-то совершенно другом: о том, кто владел Килер, кто «сдавал ее в аренду» и кто делал или не делал на этом деньги.
Картина Боти, «Скандал 63», исчезла в тот же год, когда была написана. Остались только фотографии. В окончательном варианте Боти написала Килер на ее датском стуле в окружении абстрактных фигур, хотя некоторые из них и выглядели предметными: слева, возможно, маска трагедии, а вон там внизу женщина, похоже, испытывает оргазм. Над сидящей на стуле Килер, на некоем подобии темного балкона, Боти изобразила что-то вроде отрубленных голов на городской стене: головы и плечи четырех мужчин – двух чернокожих и двух белых. Более ранний вариант, половину которого можно увидеть на фотографии с самой Боти, дает представление о размерах картины, опускающейся намного ниже талии художницы. В этом варианте Боти не использовала знаменитый образ Килер на стуле. Позже она передумала.
Элизавет написала в своем блокноте карандашом: «Подобное искусство изучает и делает возможной переоценку внешнего вида предметов путем их превращения в нечто иное. Образ образа означает, что образ может быть увиден с новой объективностью, освобожденным от оригинала».
Диссертационная чушь.
Она взглянула на фотографию Боти, стоящей рядом со «Скандалом 63», и поднесла книгу к окну, чтобы рассмотреть фотографии в остатках дневного света.
Никто не знал, кто заказал эту картину.
Никто не знал, где она находилась сейчас, если она вообще где-нибудь находилась, если она вообще еще существовала.
Элизавет снова посмотрела на гротескное трагедийное лицо, что проступало и вновь расплывалось у края картины.
Элизавет постаралась разузнать всё о скандале, связанном со «Скандалом», чтобы подумать и написать об этой картине. Она прочитала всё, что смогла найти в интернете и в библиотеке: какие-то книги по культуре 1960-х, пара книжек Килер, экземпляр доклада Деннинга[38] о скандале, связанном со «Скандалом». Она не знала раньше, что от явной лжи, даже если просто читать о ней, может стать так дурно. Все это немного походило на то, как если тебя заставляют смотреть что-нибудь столь же невинное, как «Элфи», сквозь кожаную маску и в причиняющем боль БДСМ-снаряжении, которое ты даже не соглашалась надевать.
Когда Элизавет задумывалась над историей из реальной жизни, стоявшей за этим скандалом вокруг «Скандала», одна крошечная деталь не давала ей покоя, рыболовным крючком вонзаясь в мозг.
Некий историк искусства по фамилии Блант, которому вскоре придется улаживать собственный сексуально-шпионский скандал, появился в разгар процесса над «Скандалом» в 1963 году в лондонской художественной галерее, где проходила портретная выставка. Это были произведения Стивена Уорда, который стал к тому времени главным злодеем или козлом отпущения и вскоре после этого умер, очевидно совершив самоубийство[39]. Уорд писал портреты богатых и знаменитых людей того времени, аристократию, членов королевской семьи, политическую элиту, и многие из его работ были там выставлены. Блант выложил кругленькую сумму и немедля скупил всю галерею.
По всей видимости, он забрал их с собой и, как говорится в книгах и статьях, уничтожил.
Но каким образом он их уничтожил? Сжег в каком-нибудь роскошном камине? Облил бензином во дворе уединенного загородного дома?
Сама же Элизавет представляла себе глубокую яму, которую экскаватор размером с трактор вырыл на покрытом стерней сжатом поле где-то у черта на куличках, – такую глубокую яму, что в ней могла бы поместиться парочка трупов. Небольшая бригада стояла по ее краям и сбрасывала портрет за портретом, устроив своеобразную братскую могилу портретов, этакое нагромождение важных персон.
Потом Элизавет представила, как небольшая бригада вытаскивала недавно забитую лошадь или корову из кузова грузовика и запихивала ее в ковш экскаватора. Представила, как экскаватор механически расположил тушу лошади или коровы над ямой с портретами, а затем водитель нажал на рычаг, и туша рухнула в яму. Представила, как экскаватор наваливал землю с поля на картины и тушу, засыпая яму. Представила, как гусеницы экскаватора разровняли холмик, а люди стряхнули пыль с одежды, смыли с рук землю и вычистили ее из-под ногтей, как только добрались обратно туда, где была вода.
Лошадь или корова была дополнительной прикрасой. Будь сама Элизавет художницей, именно так она бы изобразила тление.
Порой она представляла, что там же была и картина Боти «Скандал 63», туша падала сверху, и деревянный подрамник разламывался под ее весом. Представляла, как Блант поднимается по лестнице дома, в котором находилась мастерская Боти, с полными карманами денег, брезгуя дотрагиваться до перил, в деревянные края которых глубоко въелась довоенная, военная и послевоенная грязь.
Но обо всем этом нельзя написать в диссертации.
Ну и ну – все это время Элизавет рисовала каракули на полях. Там были завитки, волны, спирали…
Она снова перечитала то, что написала на самом деле: «Искусство, подобное этому, изучает и делает возможной переоценку внешнего вида предметов».
Элизавет усмехнулась.
Она взяла карандаш, стерла ластиком на его конце заглавную «И» и написала вместо нее строчную «и» в слове «искусство», а потом добавила в самом начале предложения еще одно слово, и теперь предложение начиналось так:
«Искусственное искусство…»
«Словесный портрет нашего соседа
Наш сосед, который живет рядом с нашим новым домом, куда мы переехали, самый элегантный сосед, который у меня до сих пор был. Он не старый. Мама не разрешает мне задавать ему вопросы о том, что значит быть соседом, которые я должна задать ему для проекта «Словесный портрет», который мы должны сделать. Она говорит, мне нельзя его беспокоить. Она сказала, что купит нам новый видеопроигрыватель и кассету с «Красавицей и Чудовищем», если я придумаю, как будто задаю ему вопросы, но не буду задавать их на самом деле. Если честно, мне уж лучше остаться без кассеты или без проигрывателя, а лучше задать ему вопрос: каково это иметь новых соседей или для него это одно и то же? Вот вопросы, которые я бы ему задала: 1 каково это иметь соседей 2 каково это быть соседом 3 каково это когда должен быть старым, а ты не старый 4 почему у него дома так много картин почему они не похожи на картины у нас дома и наконец 5 почему когда проходишь близко мимо двери нашего соседа у него всегда играет музыка».
Следующее утро 2016 года, маленький телевизор на кухонной полке работает с приглушенным звуком: наверное, он работал всю ночь, то освещая кухню, то погружая ее во мрак.
Встала пока одна Элизавет. Она набирает воду в турку и ставит ее на конфорку. Включив плиту, она замечает на экране рекламу с двумя молодыми людьми лет по двадцать с небольшим, которые порознь отовариваются в супермаркете, а потом вдруг синхронно роняют продукты – буханку хлеба, пару пакетов с макаронами – и внезапно обнимаются, словно по волшебству, а затем вальсируют, сами удивляясь тому, что умеют вальсировать. В следующем проходе маленький ребенок хватает картонную упаковку яиц, которую только что обронили его родители. Он смотрит, как родители кружатся в обнимку вокруг пирамиды сыров. Рядом с рыбным прилавком – пожилая пара: мужчина подносит к очкам какие-то консервы, а женщина вцепилась в тележку для покупок, словно в ходунки для инвалидов, и оба смотрят вверх, как будто услышали над собой какие-то звуки. Они обмениваются понимающими взглядами. Затем женщина с тележкой отталкивает ее от себя, с невероятной легкостью делает шаг назад и балансирует на обеих ногах, а мужчина бросает свою палку на пол, низко наклоняется к женщине, и они начинают вальсировать со старомодным изяществом.
Элизавет бежит к полке за пультом, но успевает сделать погромче только на последних секундах рекламы, когда ребенок, поймавший яйца, пожимает плечами на камеру. Заключительный кадр: залитый солнцем летний супермаркет показан снаружи, на парковке танцуют люди, а вкрадчивый голос мужчины средних лет говорит за кадром: «Поем и пляшем для вас круглый год».
Мама встает и обнаруживает, что Элизавет снова и снова смотрит рекламу супермаркета на ноутбуке.
– Что это горит? – спрашивает она.
Она открывает окна, убирает все вокруг плиты и выбрасывает подпалившееся кухонное полотенце.
Все начинается со стоянки возле супермаркета, заполненной машинами и заваленной снегом. Идет снег. Потом песня и танец. Когда песня заканчивается, летний супермаркет показан снаружи.
– Мрачноватая песенка для рекламы супермаркета, – говорит мама. – Хотя в последнее время, что ни слышу, на слезу пробивает.
– Ну, не знаю, – говорит Элизавет. – Ты всегда была слезливой.
– Тут не поспоришь, за эти годы я сделала себе внушительную карьеру по слезливости, – говорит мама и берет компьютер.
Неужели все эти годы мама была такой остроумной, а Элизавет этого просто не замечала?
– Майк Рэй и «Милки Уэйз», – говорит мама.
– Никогда о них не слышала, – говорит Элизавет.
Мама ищет в интернете.
– Группы одного хита, 1962, «Лето-брат, сестрица-осень» (Глюк, Клайн). № 19, сентябрь 1962-го, – говорит мама. – Ну и ну. Возможно, ты и права. Возможно, наш мистер Глюк действительно ее написал.
Первый куплет:
Падают снежинки летом,
Листья падают весной.
Все умчалось, все смешалось,
Летний холод, зимний зной.
Припев:
Лето-брат, сестрица-осень
Четко отбивает такт
Золотая пожилая,
Как мне песни вновь слагать.
Второй куплет:
Осенью тебя найду я
Посреди осенней мглы.
Лето-брат, сестрица-осень
От меня навек ушли.
Припев x 1:
Лето-брат, сестрица-осень
Унесли любовь мою.
Я найду ее весною,
Летом, осенью, зимою,
Если песню допою.
Припев x 2 (по желанию, c постепенным затиханием):
(© слова & музыка Глюк/Клайн)
В интернете почти ничего нет о «Глюке – песеннике», «Глюке – поэте-песеннике» или «музыке и словах Глюка/Клайна», помимо ссылок на эту песню и рекламу супермаркета. Этих ссылок очень много. Двадцать пять тысяч. Семьсот пять человек посмотрели рекламу на ютьюбе.
– Что, включили «Милки Уэйз»? – спрашивает Зои, проходя в гостиную в мамином купальном халате. – А что это горит?
Она проходит в кухню, насвистывая припев.
Элизавет проверяет, какое место занимает песня в интернет-чартах. Довольно высокое. Она ищет контакты головного офиса супермаркета.
– Как ваша фамилия? – спрашивает она Зои.
– Спенсер-Барнс, – отвечает Зои. – А что?
Элизавет набирает номер на своем телефоне.
– Добрый день, – говорит она. – Меня зовут Элизавет Требуй, я звоню из агентства «Спенсер-Барнс», не могли бы вы соединить меня с маркетинговым отделом? Нет, ничего страшного, устроит автоответчик. Спасибо. (Пауза.) Здравствуйте, я звоню из агентства «Спенсер-Барнс», меня зовут Элизавет Требуй, Т-р-е-б-у-й, и я звоню по просьбе своего клиента мистера Дэниэла Глюка. Вы нарушаете его авторские права путем использования в своей нынешней рекламной кампании его шлягера 1962 года «Лето-брат, сестрица-осень» всякий раз, когда ваш новый рекламный ролик выходит в телеэфир. Разумеется, если вы или ваши партнеры по агентству любезно свяжетесь со мной, что можно сделать по этому номеру (конечно, мы были бы благодарны вам за оперативность), чтобы обсудить условия, а затем немедленно перевести средства в сумме, которая, по нашему обоюдному согласию, причитается согласно закону нашему клиенту мистеру Глюку, то это дело больше не будет представлять для нас проблему в том, что касается нашего клиента и вопроса нарушения авторских прав. Жду от вас сообщения о том, что ситуация разрешена. Если я не получу ответа в течение двадцати четырех часов, мы подадим судебный иск, и я бы посоветовала полностью приостановить показ вашего рекламного ролика до тех пор, пока мы не взяли это дело под свой контроль. Большое спасибо.
Она оставила свой номер в конце сообщения.
– Нарушение авторских прав, – говорит мама. – Оперативность. Путем использования.
Элизавет пожимает плечами.
– Думаешь, сработает? – спрашивает мама.
– Стоит попробовать, – говорит Элизавет. – Уверена, они думают, что он уже давно умер.
– А как же остальные? – говорит Зои. – Как же Майк Рэй? «Милки Уэйз»?
– Меня волнует только Дэниэл, – говорит Элизавет. – В смысле мистер Глюк.
– Твоя девочка прет как танк, – говорит Зои.
– Это да. Но нельзя недооценивать и генератор, – говорит мама.
– Генератор? – переспрашивает Элизавет.
– Меня, – говорит мама.
– Ну это уж вряд ли, – говорит Элизавет.
– Как ни крути, хорошая старая песня, – говорит Зои.
Она начинает напевать.
– В моей жизни словно случилось чудо, – шепчет мама Элизавет, когда Зои выходит из комнаты.
– Это извращение, – говорит Элизавет.
– Кто знал, кто бы мог догадаться, что на закате лет меня ждет любовь? – говорит мама.
– Это патология, – говорит Элизавет. – Я запрещаю тебе этим заниматься.
Она крепко обнимает и целует маму.
– Ну, хватит, – говорит мама.
– Что это за книга? – спрашивает Зои.
Она возвращается через прихожую.
– Что это за художница? – спрашивает она. – Это чудесно.
Она садится за кухонный стол со старым каталогом Полин Боти, раскрытым на картине под названием «54321».
– Одна из тех, о ком рассказывает людям моя эрудированная дочь, – говорит мама.
– Художница из 60-х, – говорит Элизавет. – Единственная представительница британского поп-арта.
– А, – говорит Зои. – Я и не знала, что такие были.
– Были, – говорит Элизавет.
– Полагаю, жертва нападок, – говорит Зои.
Она подмигивает Элизавет. Элизавет усмехается.
– Банальной современной мизогинии, – говорит она.
– Покончила с собой, – говорит Зои.
– Не-а, – говорит Элизавет.
– Ну, тогда сошла с ума, – говорит Зои.
– Не-а. Банальная совершенно здоровая периодическая депрессия, – говорит Элизавет.
– А. Значит, трагическая смерть, – говорит Зои.
– Ну, это только одна из возможных интерпретаций, – говорит Элизавет. – Лично я предпочитаю другое: на землю спускается вольный дух, наделенный даром и воображением, способными унести трагедии, которые случаются со всеми нами, в космос, где они рассыплются в прах, если только мы почувствуем жизненную силу в ее картинах.
– Как хорошо, – говорит Зои. – Это очень хорошо. Но все равно. Уверена, что ее игнорировали.
– После смерти, – говорит Элизавет.
– Уверена, что все происходит так, – говорит Зои. – Игнорируют. Теряют. Открывают заново годы спустя. Затем снова игнорируют. Теряют. Опять открывают заново годы спустя. Потом снова игнорируют. Теряют. Открывают заново, и так до бесконечности. Я права?
Элизавет хохочет.
– Ты что, прослушала один из дочкиных курсов? – говорит мама.
– Так какова же история этой девушки? – спрашивает Зои.
Она смотрит на фотографию молодой и смеющейся Боти, которой еще нет и двадцати, на внутренней стороне суперобложки каталога.
– История? – говорит Элизавет. – Есть десять минут?
Осень 1963 года. «Скандал 63». Вплоть до вчерашнего вечера самый известный портрет Килер был еще здесь, на центральном полотне: она пробивала плечами себе дорогу на верхний балкон, балансируя посредине верхней ступеньки между «Уордом» и «Профьюмо» – по крайней мере одно изображение Кристин. До вчерашнего вечера их было несколько в разных точках полотна. Одна Кристин широко шагала, другая была обнаженной и мило улыбалась у нижнего края рамки, третья билась в экстазе под ногами центральной Кристин, которая шла, размахивая сумочкой. Но вчера вечером в заведении побывал Льюис, он был в баре.
Льюис сделал снимок для прессы, который распространился, как эпидемия испанки. Стал культовым. Льюис увидел, над чем работала Полин, и даже сфотографировал. Он пришел в студию и сфотографировал ее со «Скандалом 63» в одной руке и «На старт, внимание, марш!» – в другой, типа равноценные картины, и он увидел, как она вошла, и сказал: «Хочешь подняться и посмотреть на моих Килер?» И Полин сказала: «Ну и ну, в каком это смысле, вы же знаете, я замужем, да, пожалуйста». В общем, они поднялись к нему наверх, он жил над клубом и показал ей и Клайву снимки под фотоувеличением, а она вплотную рассмотрела оригинал – этот кадр. Килер с поднятыми руками, подпирающая обоими кулаками подбородок, это было бесподобно.
Потом она заметила рядом на обзорном листе слегка отличающийся вариант того же кадра.
Поэтому она сказала Льюису: «А вы не могли бы увеличить для меня вот этот?»
Это был удачный кадр, не такой жеманный, скорее обороняющийся. Одна рука опущена. Было видно, как выглядела задумчивая Килер.
«Я напишу задумчивую Килер, – подумала она. – Килер-Мыслительницу».
Потом она показала на какие-то пятна на ноге Килер: синяки, довольно хорошо различимые при увеличении.
– Боже, – сказала она.
– На оттиске этого не видно, – сказал Льюис. – Бумага чересчур зернистая.
Так что теперь она переписывала заказ. Теперь картина будет состоять из вопросов, а не утверждений. Она будет выглядеть, как всем известное изображение, но в то же время быть чем-то другим. Оптическая иллюзия. И даже если зритель сначала ничего не заметит, воспримет позу как само собой разумеющуюся, он все равно подсознательно поймет: что-то здесь не совсем так, как вы ожидаете, как вы помните, как должно быть, и сразу не смекнешь, в чем же тут дело.
Образ и жизнь: ну, к этому она привыкла. Есть Полин, а есть образ: на плечах боа из перьев, подмигивания в камеру, это было весело. Самоуверенная. Неуверенная в себе. Одетая под Мэрилин колледжских эстрадных ревю, я хочу быть любимой тобой. В роли Дорис Дэй[40], все любят мое тело. Песня маленькой девочки голосом взрослой женщины, папочка не купит мне «Баухауз», у меня есть кошечка (вздыхает над тем, как удалось убедить их, что «кошечка» значит «киска»). Бриллианты – девушкам, мои подмышки как мои штанишки (вздыхает при слове «подмышки», ни одно слово так и не было произнесено вслух). В Королевском колледже, где девушек так мало, что пиши пропало, где архитекторы даже не позаботились внести в проект женские туалеты, она шагала по коридорам, слыша у себя за спиной шепот: «По слухам, вон та читала даже Пруста», она обняла парня и сказала, всё так, дорогой, а еще Жене, а еще Бовуар, а еще Рембо, а еще Колетт, я прочитала всех французских писателей и писательниц, ох, ну и Гертруду Стайн, разве ты не знаешь о женщинах и их нежных кнопках?
Скоро упадет бомба. Возможно, им осталось жить пару лет.
Парень спросил: «Почему ты красишь губы такой яркой красной помадой?» – «Так лучше с тобой целоваться», – сказала она, спрыгнула со стула и бросилась за ним, он выбежал из колледжа, он даже немного испугался, она гналась за ним по траве и по тротуару, пока он не запрыгнул сзади на проезжающий автобус, а она встала, обхватив себя руками, и рассмеялась от всей души. Мужчина, довольно пожилой, очень милый, точно так же рассмешил ее, когда прополз к ней на четвереньках через всю комнату, целуя на ходу пол; он был композитором-песенником, пришел к ней на квартиру, она в шутку называла его Гершвином. Он спросил ее, глядя на ее Бельмондо в шляпе: «Кто это?» – «Французская кинозвезда, – сказала она, – от этой картины екает сердце, а не киска, тебе так не кажется?» И бедный старый Гершвин покраснел до кончиков ушей, пальцев ног – все его кончики покраснели, славный старозаветный малый ничего не смог с этим поделать, он был из другого времени. Почти все они были оттуда. Даже те, кто должен был жить настоящим, жили прошлым. В другой раз он зашел в мастерскую, посмотрел на «54321». «Что это означает? – спросил он и прочитал вслух: – Ох ё… А, ясно. Это так… по-шекспировски!» – «Что ж, если ты Гершвин, – сказала она, – то я Уимблдон Бард-о. Догнал?» – «О да, – сказал он, – Бард, Бардо. Как метко».
Она ему очень нравилась.
Ну что ж.
Ничего не поделаешь.
Представьте, если бы картины в галерее были не просто картинами, а отчасти живыми.
Представьте, если бы время можно было словно приостановить, а не оставаться приостановленным внутри его.
Если честно, порой она понятия не имела, что пытается сделать. Быть живой, как она полагала.
Неуверенная в себе, еще шестнадцатилетняя, когда преподаватель советовал: «Витражи – не только для церквей, они могут быть где угодно. Их необязательно использовать для священных мест, их можно использовать для чего угодно». Самоуверенная, оставляя маленький уголок на «Единственной блондинке в мире», просто голый холст, как будто угол картины отвалился сам по себе, оптическая иллюзия, словно можно их соскоблить и узнать, что такое изображение. Ослепительная Мэрилин, пробегающая в фильме «В джазе только девушки», прорезающая абстракцию собственным блеском. Можно ли изобразить женский оргазм? Это и есть Мэрилин. Цветные круги, прелестно, прелестно, и все было волнующим, телевидение было волнующим, радио было волнующим, Лондон был волнующим, переполненным интересными людьми со всего света, и театр был волнующим, пустая ярмарочная площадь была волнующей, сигаретные пачки были волнующими, крышки молочных бутылок были волнующими, Греция была волнующей, Рим был волнующим, умная женщина в душевой хостела, надевающая мужскую рубашку перед сном, была волнующей, Париж – волнующий («Я одна в Париже!! Куда бы ни пошла, меня преследуют или приглашают выпить кофе и т. д. и т. д. В остальном Париж чудесен, живопись – нет слов».) Самоуверенная, искусством могло быть что угодно, пивные банки были новым видом фольклорного искусства, кинозвезды – новой мифологией, ностальгия по НАСТОЯЩЕМУ. Это было волнующе, когда она выяснила, что фотографы, снимавшие ее, не могли вырезать искусство из своих снимков, если она позировала как кусок искусства.
(Ошибка.
Провал.
Они все равно ухитрялись вырезать ее и отсекать искусство, оставляя, разумеется, груди и бедра.)
Так, чтобы мои кисти попали в кадр, хорошо, Майк?
Она была в шляпе, рубашке и трусиках, как можно точнее подражая Целии на портрете, разве что сняла джинсы, чтобы они уж точно оставили на снимке ее и картину. Но Льюис и Майкл были отличными парнями, они ей страшно нравились. Они разрешали ей говорить, как строить кадр, и в основном делали, как она просила. С радостью позировала обнаженной. Мне нравится нагота. В смысле, кому не нравится, если честно? Я человек. У меня интеллигентная нагота. Интеллектуальное тело. У меня телесный интеллект. В искусстве полно обнаженки, а я мыслящая, избирательная обнаженная натура. Я обнаженный художник. Художественная обнаженка.
Очень многие мужчины не понимают радостных женщин, а тем более радостных картин, написанных женщиной. На самом деле все это основано на сексе, взгляните на бананы и фонтаны, а этот огромный рот и рука, ну, это же все фаллические символы. «Ну, все равно, – говорят они, – я мужчина, а быть мужчиной гораздо лучше, чем быть женщиной».
Она увидела объявление, приколотое к стене здания, ярко-желтое, с надписью разноцветными буквами: «БЕЗУМНАЯ ДАЧА», потом ниже синими буквами покрупнее: «БИКИНИ БРИЖИТ», потом маленькими бледно-черными: «ЗАХОДИ, И УВИДИШЬ», потом огромными красными: «СЕКСАПИЛЬНАЯ КОШЕЧКА». «Сними меня на фоне этого, Майк, пожалуйста», – попросила она. Она подошла прямо к стене дома, как будто выходила из-за угла и просто читала вывеску, потому что она и была девушкой, изучающей мир.
Но любовь была страшно важна. Она не имела в виду романтическую любовь. Обобщенная любовь. Получать удовольствие было страшно важно. Секс мог быть таким же разнообразным, как сама жизнь. Слово «страсть» всегда казалось ей лишенным юмора. Момент страсти для нее…
Помню, как однажды сидела напротив брата и испытывала к нему такую любовь, как будто срослась с ним.
Это любовное чувство (скажет она писателю, взявшему у нее интервью для книги) длилось примерно полчаса. Но она выйдет замуж, потому что ее мужу нравились женщины, он понимал, что они не вещи или что-то не совсем понятное. Он признавал мой интеллект, что для мужчины очень нелегко.
Самоуверенная. Неуверенная в себе. Ее мать подстригала английские розы в розарии ее отца, шила платья и готовила еду. Там, в Каршэлтонском саду, с секатором в руках, ее мать сказала, это было еще до Джеймса Брауна[41], «это мужской мир», передвигая метку на бутылке хереса, чтобы отец не заметил, ее мать, Вероника, которой ее собственный отец запретил поступать в Школу искусств Слейда[42], и она убивалась из-за этого всю свою садовоножничную жизнь, убеждая отца Полин, чтобы тот отпустил ее в Уимблдонскую школу искусств[43]. Это ее мать свозила ее в Америку на «Королеве Елизавете II», это ее мать слушала Марию Каллас на полной громкости (когда отца не было дома), перекрикивала радионовости (на кухне, когда отца не было на кухне), это ее мать заболела, когда Полин было одиннадцать, бесконечные рентгеновские снимки, ее мать скоро умрет. В семье воцарился хаос, но хаос – это хорошо, если не считать депрессии. Он играл воспитательную роль. У матери вырезали одно легкое, но она была вроде в полном порядке, собирала в альбом вырезки из газет. «ПОЛИН ПИШЕТ ПОП-АРТ». «ВСЕ МОЕ ТВОРЧЕСТВО». (Это был заголовок статьи о Полин, вывесившей абстракцию в лондонской штаб-квартире лейбористской партии Британского конгресса тред-юнионов). «У актрис нередко куриные мозги. У художников нередко огромные бороды. Представьте себе мозговитую актрису, которая является при этом художницей, да еще и блондинкой».
Представьте себе.
У нее был строгий отец. Отец этого не одобрял. У отца были очень сильные сомнения. Востребована? Наполовину? Боюсь что-то сказать, а то папа расстроится. Наполовину бельгиец, наполовину перс, непримиримый британский консерватор, он видел Гималаи и Харрогейт[44], но выбрал бухучет. Его отца убили пираты (правда). Родственники его матери строили суда на Евфрате. Поэтому его собственное судно стояло в Норфолк-Бродсе, а жизнь оценивалась в соответствии с правилами крикета и правильным способом заваривания чая.
Он даже не хотел, чтобы я работала по окончании школы.
Споры велись ожесточенные, нередко перед завтраком – самое дурацкое и неподходящее время для спора с отцом. Старшие братья морщились и качали головами. Братьям тоже доставалось, мужчинам тоже доставалось, возможно, даже больнее: брата, который хотел поступить в школу искусств, отец сделал бухгалтером. В общем, она все-таки вырвалась – «неполноценная» профессия, так что, возможно, для девушки это даже нормально.
Но братья, когда она была маленькой: «Помолчи, ты просто девчонка». Хотела быть мальчишкой. Еще раньше оттягивала – ну знаете, кожицу, – чтобы казалась больше. Думала, у меня уродская киска, понимаете, теперь-то я так не думаю. Свободная и спокойная.
Сделали меня такой, какая я есть.
«Идеальная женщина, что-то вроде преданной рабыни, которая исполняет свои обязанности, ни на что не жалуясь и, разумеется, не получая вознаграждения, которая говорит, только если к ней обращаются: этакий славный малый. Но грядет революция, по всей стране девушки привскакивают и вздрагивают, и если они вас пугают, то делают это намеренно» – вот что она вскоре будет говорить во всеуслышание по радио.
Однажды группа студентов протестовала перед зданием. Подошел человек с Би-би-си с микрофоном. Он выбрал симпатичную девушку в дафлкоте, которая рассыпала лепестки роз на тротуар перед зданием.
– Что такая симпатичная девушка делает на подобном мероприятии?
Она сказала ему:
– Это здание – просто страхолюдина. Мы протестуем против него. Мы оплакиваем смерть прекрасной архитектуры.
– Но, говорят, внутри это здание весьма целесообразно, – сказал он.
– Мы находимся снаружи, – сказала она.
Самоуверенная. Неуверенная в себе. Перепады настроения. Ершистая девушка. Сегодня не приходи ко мне. Прощай, жестокий мир, я пойду работать в цирк. Это была попсовая песенка, которую Кен использовал в своем фильме, когда ходил по пятам за ней и тремя парнями, стараясь показать их жизнь, работу, распорядок дня. Вместо этого она сняла сон, настоящий повторяющийся сон (ее дипломная работа была о снах), и после этого фильма Кена у нее появилась работа мечты, посыпались предложения ролей, 1963-й, год мечты, anus mirabilis[45], ха-ха-ха. Все, что происходило, было, по ее мнению, таким, что если составить хронику своей жизни – родилась 6 марта 1938 года, умерла когда угодно, – это чудесно смотрелось бы в этой хронике. «Шоу Грабовски», работа на радио, женитьба с Клайвом, танцовщица в «На старт, внимание, марш!», роли при Королевском дворе (впрочем, актерская игра была занятием временным, типа аферы, – настоящим делом была живопись).
А потом будущее.
С тридцати до тридцати девяти все было прекрасно.
Между сорока и пятьюдесятью наступает ад.
Она надеялась, что никогда не очерствеет. Она не хотела закоснеть.
(Она будет рисовать и писать картины до самой смерти. Попутно она делала наброски своих друзей по группе «19-й нервный срыв». Написала «Черноту». Ее малышка лежала в кроватке у нее в ногах. Ее картины, когда она умерла? Исчезли, утеряны, а те, что не были утеряны – тридцать лет в тишине отцовского чердака и в сарае на ферме у брата, – чуть было не перекочевали в мусорный бак. Писатель и куратор, который стал разыскивать их тридцать лет спустя и нашел в этом самом сарае, буквально разрыдался.)
Буква «О» в центре ее фамилии была окружена венком из роз.
Стол поддерживала резная русалка.
Никогда не было денег.
Была латунная кровать, парафиновая печка.
Прикидывалась буйнопомешанной, когда хозяин квартиры приходил и молотил кулаком в дверь, пытаясь затащить ее в постель.
Ходила весь день в пальто у себя в комнате в холодные дни.
Все это была не жизнь.
Жизнь? То, что ты стремилась поймать, глубокое блаженство предмета, слегка отделенного от тебя. Живопись? То, чем ты занимаешься, сидя в одиночестве, и это была твоя собственная страшная борьба или твоя собственная прелесть, но было и впрямь страшно одиноко.
Поймать момент перед тем, как что-то действительно произойдет, а ты не знаешь – случится что-то страшное или, возможно, очень смешное, что-то исключительное действительно происходит, а никто вокруг вообще этого не замечает.
Она приклеивала. Вырезала. Писала картины. Концентрировалась.
В своих мечтах давала пощечину прошлому.
Сказала школьной подруге Берил, когда обеим было по шестнадцать:
– Я буду художником.
– Женщины не бывают художниками, – сказала Берил.
– А я буду. Серьезным художником. Я хочу стать живописцем.
И еще один день: погода, время, новости, всякие события по всей стране и по всем странам и т. д. Элизавет идет прогуляться по деревне. Почти никого на улице. Кто-то изредка вырезает что-то на заднем дворе, сердито зыркая или не обращая на нее внимания.
Она переходит на одну сторону узкого тротуара, уступая дорогу пожилой женщине и здороваясь с ней.
Пожилая женщина кивает, даже не улыбнувшись, и надменно проходит мимо.
Элизавет подходит к дому с граффити. Жившие здесь люди то ли переехали, то ли перекрасили фасад дома в яркий цвет морской волны. Как будто ничего и не было, если только не сильно всматриваться, пытаясь различить контуры слова ДОМОЙ под слоем голубой краски.
Когда Элизавет возвращается к маме, входная дверь широко открыта. Мамина подруга Зои выбегает галопом и чуть не врезается в Элизавет. Едва не столкнувшись, она подхватывает ее и кружит в каком-то подобии шотландского сельского танца, а затем пятится по дорожке.
– Ни за что не поверите, что ваша мать только что сделала, – говорит Зои.
Она так заразительно смеется, что Элизавет тоже не может удержаться от смеха.
– Ее арестовали. Она швырнула в забор барометр, – говорит Зои.
– Что?! – говорит Элизавет.
– Ну знаете, – говорит Зои. – Такая штука для измерения атмосферного давления.
– Что такое барометр, я знаю, – говорит Элизавет.
– Мы поехали в соседнюю деревню, в антикварный магазин, ну знаете? Ваша мать повезла меня туда, чтобы похвастаться, как много она знает об антиквариате. Ей понравился барометр, и она купила его, тем более что стоил он недорого. На обратном пути в машине мы слушали радио, и в новостях рассказали, что наше правительство урезает финансирование для домов, где расселяют детей-беженцев, и корреспондент сказал, что этих детей теперь будут сдавать в те же места повышенной безопасности, что и всех остальных. Ну и тут ваша мама психанула. Она раскричалась, что эти места хуже тюрьмы: всё под охраной, решетки на окнах, там никому делать нечего, а детям и подавно. А потом следующий новостной сюжет по радио был о том, что должность министра по делам беженцев упразднена. Она заставила меня остановить машину. Выскочила, распахнув дверь, и побежала по тропинке. Тогда я тоже вышла, заперла машину и бросилась за ней. В общем, когда я догнала ее, то сначала услышала, как она кричит на мужиков в фургоне за забором, в смысле – заборами, она пригрозила им барометром, а потом, клянусь, швырнула его прямо в забор! Забор громко щелкнул, я увидела вспышку, а мужики обалдели, потому что она закоротила им забор. Я не удержалась и тоже заорала: «Молодцом, Венди! Так держать!»
Зои говорит Элизавет, что маму задержали на час, отпустили с предупреждением, и как раз сейчас она на антикварном дворе дальше у перекрестка, запасается старьем, чтобы бросать в забор, что у мамы новый план: каждый день она будет ходить туда, чтобы ее арестовали (тут Зои подражает маминому голосу), – «бомбить этот чертов забор людскими историями и артефактами не таких жестоких и более человеколюбивых времен».
– Она отправила меня домой за машиной, – говорит Зои. – Собирается нагрузить ее снарядами из металлолома. Ой, совсем забыла. Вам звонили на домашний телефон. Десять минут назад.
– Кто звонил? – спрашивает Элизавет.
– Из больницы. Не из больницы, а из учреждения. Медучреждения.
Мамина подруга видит, как Элизавет меняется в лице, и тут же серьезнеет.
– Велели вам передать, – говорит она. – Ваш дедушка спрашивал о вас.
На сей раз женщина из регистратуры даже не взглянула на нее. Она смотрит на своем айпаде, как кого-то казнят с помощью гаротты в «Игре престолов».
Но потом она говорит, так и не поднимая головы:
– Он сегодня плотно позавтракал – считай, за троих. Ох уже эти старики. Мы сказали ему, как вы обрадуетесь, что он очнулся, и он сказал: «Пожалуйста, сообщите моей внучке, что мне не терпится ее увидеть».
Элизавет идет по коридору, подходит к двери и заглядывает внутрь.
Он снова спит.
Она берет в коридоре стул. Ставит его рядом с кроватью. Садится. Достает «Историю двух городов».
Закрывает глаза. Когда открывает их снова, его глаза открыты. Он смотрит на нее в упор.
– И снова здравствуйте, мистер Глюк, – говорит она.
– А, здравствуй, – говорит он. – Так и думал, что это ты. Хорошо. Рад тебя видеть. Что читаешь?
Снова ноябрь. Скорее уж зима, чем осень. Не мгла, а туман.
Семена платана стучат на ветру по стеклу, как… нет, не как что-нибудь другое, а как семена платана стучат по оконному стеклу.
Прошло несколько ветреных ночей. Листья прилипли от влаги к земле. На асфальте они желтые и преющие: тусклая древесина, листовая мука. Один так сильно прилип, что, когда наконец отшелушивается, на асфальте остается форма листа, его тень, которая сохранится до следующей весны.
Во дворе ржавеет мебель. Забыли спрятать на зиму.
Деревья обнажают свое строение. В воздухе запах дыма. Всякая живая душа выходит мародерствовать. Но по-прежнему цветут розы. В сырости и холоде, на невзрачном кусте все еще цветет широко распустившаяся роза.
Взгляни-ка на ее цвет.
Я глубоко признательна всем, кто писал о Полин Боти, но прежде всего Сью Тейт за ее эпохальный труд в двух томах «Полин Боти: поп-художница и женщина» (2013) и Сью Уотлинг совместно с Дэвидом Аланом Меллором за книгу «Полин Боти: единственная блондинка в мире» (1998); а также Нелл Данн за интервью Боти в журнале «Вог» за сентябрь 1964 года, полная версия которого опубликована в книге Нелл Данн «Разговоры с женщинами» (1965). Рассказы о Кристин Килер, кратко очерченные в романе, можно найти в книге Кристин Килер в соавторстве с Сэнди Фокс «Ничего кроме» (1983) и в книге Кристин Килер в соавторстве с Дугласом Томпсоном «Секреты и ложь» (2012). Мне также посчастливилось прочитать пока еще не опубликованный отчет Сибилл Бедфорд о процессе Стивена Уорда 1963 года под названием «Худшее, что мы можем сделать: краткий отчет о процессе доктора Стивена Уорда», некоторые подробности которого просочились в роман (протоколы этого судебного заседания пока еще не стали достоянием общественности).
Благодарю вас, Саймон, Анна, Гермиона, Лесли Б., Лесли Л., Элли, Сара, и всех-всех из «Хэмиш Хэмилтон».
Благодарю вас, Эндрю и Трэйси, и всех-всех из «Уайлиз».
Благодарю вас, Бриджит Смит, Кейт Томсон, Нил Макферсон и Рэйчел Гэтисс.
Благодарю тебя, Зандра.
Благодарю тебя, Мэри.
Благодарю тебя, Джэки.
Благодарю тебя, Сара.
Примечания
1
«Буря», акт 4, пер. М. Донского.
2
Реймонд «Осси» Кларк (1942–1996) – английский модельер, одна из ключевых фигур «свингующих 60-х».
3
Уильям Сидни Грэм (1918–1986) – шотландский поэт, часто ассоциируемый с Диланом Томасом и неоромантической поэтической группой.
4
Эдуар Буба́ (1923–1999) – французский фотограф. Здесь и далее примечания переводчика.
5
Здесь и далее перевод О. Сороки.
6
Роман британской детской писательницы Руби Фергюсон (1899–1966) о дружбе девочки и пони.
7
Школьное прозвище Полин Боти (1938–1966), британской художницы, о которой пойдет речь ниже.
8
Кристин Килер (1942–2017) – британская модель и девушка по вызову, главное действующее лицо общенационального политического скандала, потрясшего Британию в 1963 г. и получившего название «Дело Профьюмо».
9
Эмма Пил – вымышленная шпионка из британского авантюрного телесериала 1960-х гг. «Мстители».
10
Центральный уголовный суд в Лондоне.
11
Лобок (лат.).
12
Овидий, «Метаморфозы», книга первая, здесь и далее перевод С. В. Шервинского.
13
Национальная компания современного танца, старейшая из ныне существующих танцевальных трупп Великобритании. Основана в 1926 г. педагогом и хореографом Мари Рамбер.
14
Мне? (фр.)
15
Известный персонаж английских легенд, прототипом которого стал средневековый купец Ричард Уиттингтон (ок. 1354 или 1358 года – 1423-й).
16
«Не от нашего имени» – американская организация, основанная в 2002 г. и выступавшая против официального курса США после событий 11 сентября 2002 г. В одном из ее документов, «Клятве сопротивления», есть строки: «Не от нашего имени вы будете вести нескончаемую войну».
17
Джули Кристи (р. 1940) – британская актриса, лауреат премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».
18
Дэвид Ройстон Бейли (р. 1938) – британский фешн- и портретный фотограф.
19
Генри Кеннет Альфред Расселл (1927–2011) – британский кинорежиссер, актер и сценарист, «патриарх британского кино». Его фильмы неоднократно номинировались на «Оскар».
20
Ширли Темпл (1928–2014) – американская актриса, наиболее известная по своим детским ролям 1930-х гг.
21
Андреа Палладио (1508–1580) – великий итальянский архитектор Позднего Возрождения и маньеризма.
22
Овидий, «Метаморфозы». Книга третья.
23
Из письма Дж. Китса Дж. Г. Рейнольдсу (1819).
24
Так проходит мирская слава (лат.).
25
Миг (нем.).
26
«Ледибёрд Букс» – лондонское издательство, выпускающее детские книги для массового потребителя.
27
Грейси Филдс (1898–1979) – британская певица и актриса.
28
У. Шекспир, «Буря», акт 1, сцена 2, «Песня Ариэля».
29
Ч. Диккенс, «Повесть о двух городах», перевод Е. Бекетовой.
30
«Джон Льюис» – сеть дорогих британских универмагов, появившаяся в середине XIX в.
31
«Кэш Конвертерс» – австралийская сеть ломбардов, основанная в 1984 г.
32
«Часовой механизм, или Все заведено» (1995) – фантастический детский роман английского писателя Филипа Пулмана (р. 1946).
33
«Возвращение к жизни» (1992) – детективный роман Реджинальда Хилла (1936–2012), сюжетно связанный с «Делом Профьюмо». Название – цитата из «Истории двух городов» Ч. Диккенса, описывающая освобождение доктора Манетта после долгого и несправедливого заключения.
34
Барбара Хепуорт (1903–1975) – британский скульптор-абстракционист.
35
«Уолтоны» (1972–1981) – популярный американский телесериал, созданный Эрлом Хэмнером-младшим, о семействе из Виргинии во времена Великой депрессии и Второй мировой войны.
36
«Элфи» (1966) – фильм британского режиссера Льюиса Гилберта, получивший множество наград, включая 5 премий «Оскар».
37
Джон Профьюмо (1915–2006) – военный министр Великобритании, ушедший в отставку в 1963 г. после скандала, получившего его имя. Евгений Михайлович Иванов (1926–1994) – советский дипломат и разведчик ГРУ, капитан I ранга, один из ключевых фигурантов «Дела Профьюмо».
38
Альфред Деннинг (1899–1999) – английский судья, получивший известность в связи с докладом по «Делу Профьюмо».
39
Стивен Уорд (1912–1963) – английский врач-остеопат и художник, один из главных фигурантов «Дела Профьюмо». Умер от передозировки барбитуратов.
40
Дорис Дэй (р. 1922) – американская певица и актриса.
41
Джеймс Джозеф Браун-младший (1933–2006) – американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке ХХ в.
42
Школа изящных искусств Слейда при Университетском колледже Лондона, основанная в 1871 г. Феликсом Слейдом.
43
Уимблдонская школа искусств при Лондонском университете искусств, основанная в 1890 г.
44
Харрогейт – курортный город в Северном Йоркшире, Англия.
45
Игра слов: annus mirabilis – «год чудес», anus – «задний проход» (лат.).
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg









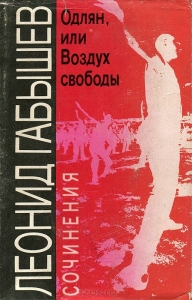


Комментарии к книге «Осень», Али Смит
Всего 0 комментариев