Никола Юн Солнце тоже звезда
Посвящается моим маме и папе,
которые открыли мне, что такое мечты и как их осуществить
Закат не становится менее романтичным оттого, что мы знаем о нем чуть больше.
Карл Саган. «Голубая точка. Космическое будущее человечества»Как я посмею нарушить вековую нерушимость?
Мгновенье на сомненья – и мгновенье решимости на мнимую решимость.
Т. С. Элиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»Пролог
КАРЛ САГАН КАК-ТО СКАЗАЛ: «Если вы хотите приготовить яблочный пирог с нуля, сначала вы должны создать вселенную». Говоря «с нуля», он подразумевал «из ничего». Он имел в виду то время, когда мира еще не существовало. Если вы хотите приготовить яблочный пирог из ничего, вам придется начать с Большого взрыва и расширяющихся вселенных, нейтронов, ионов, атомов, черных дыр, солнц, лун, Млечного Пути, Земли, океанских приливов, динозавров и их исчезновения, эволюции, утконосов, хомо эректус, кроманьонского человека и так далее – вернуться к самым истокам. Изобрести огонь, воду, плодородную почву и семена, а еще коров и людей, которые будут их доить и взбивать из молока масло. Вам нужно вырастить пшеницу, сахарный тростник и посадить яблони. Пирог не получится вкусным без химии и биологии, а без искусства – красивым. Чтобы рецепт вашего яблочного пирога сохранился на века, вам придется вновь изобрести печатный станок, устроить промышленную революцию и, возможно, написать стихотворение.
Чтобы приготовить простой яблочный пирог, вам придется сотворить весь мир.
Даниэль Местный парень мирится с судьбой и соглашается стать врачом. Банальная история…
ЭТО ЧАРЛИ ВИНОВАТ, что мое лето (а теперь и осень) превратилось в череду нелепых заголовков. Чарльз Чжэ Вон Бэ, он же Чарли, мой старший брат, перворожденный сын перворожденного сына, шокировал наших родителей (как, впрочем, и их друзей, и всех сплетников, живущих в корейской части Флашинга, в Нью-Йорке) тем, что его временно исключили из Гарварда – «лучшего учебного заведения», как выразилась моя мать, когда пришло письмо о его зачислении. Но теперь Чарли вышвырнули оттуда, и все лето мама хмурится, не в силах смириться с происходящим.
«Почему такие плохие оценки? Они выгнали тебя? Почему тебя выгнали? Почему они не оставили тебя и не сделали так, чтобы ты учился лучше?»
Папа говорит: «Не выгоняют. Временно отчисляют. А это не одно и то же».
Чарли ворчит: «Это временно, всего-то на два семестра».
Наблюдая за тем, как родителей накрывает лавина замешательства, стыда и разочарования, даже я почти сочувствую Чарли. Почти.
Наташа
МАМА ПРИЗЫВАЕТ МЕНЯ отказаться от борьбы, говорит, что старания напрасны. Она расстроена, и ее характерный акцент становится заметнее, а каждое утверждение звучит как вопрос.
– Не думаешь, что пора сдаться, Таша? Не думаешь, что все бесполезно?
Она растягивает последнее слово. Папа молчит, будто онемев от злости или бессилия. Мне трудно понять, от чего именно. Он ходит постоянно нахмуренный, и сложно представить его с каким-то другим выражением лица. Всего несколько месяцев назад я бы расстроилась, увидев отца таким, но теперь мне все равно. Ведь именно по его вине мы оказались в этой заднице.
Питер, мой девятилетний брат, – единственный из нас, кто радуется такому повороту событий. Прямо сейчас он пакует чемодан под песню Боба Марли No Woman, No Cry. «Олдскульная музыка для сборов» – так он ее называет. Несмотря на то что родился Питер здесь, в Америке, он хочет жить на Ямайке. Братец довольно стеснителен, ему сложно завести друзей. Думаю, он воображает, что Ямайка – это какой-то рай на земле, где жизнь наладится.
Мы четверо сидим в гостиной нашей двухкомнатной квартиры. По совместительству она служит нашей с Питером спальней. В ней стоят два небольших диванчика, которые мы раскладываем на ночь, а между ними висит ярко-голубая занавеска. Прямо сейчас она убрана в сторону, так что комната видна целиком. Довольно легко догадаться, кто из нас хочет уехать, а кто – остаться. Моя половина комнаты по-прежнему выглядит обитаемой. Книги стоят на маленькой полочке из IKEA. На столе – любимая фотография, на которой запечатлены мы с моей лучшей подругой Бев. Мы стоим в лаборатории физики, в защитных очках, и смотрим в камеру, надув губки. Это я придумала надеть защитные очки. А надуть губы – она. Я еще не достала ни одной вещи из своего шкафа. Даже не сняла со стены плакат НАСА с картой звездного неба. Он громадный и на самом деле состоит из восьми склеенных вместе плакатов. На нем отмечены все крупные звезды, созвездия и участки Млечного Пути, которые видны в Северном полушарии. Здесь даже есть заметка, в которой рассказывается, как найти Полярную звезду и как ориентироваться по звездам, если вдруг заблудишься. Тубусы, которые я купила для перевозки плакатов, стоят у стены не распакованные.
У Питера дела обстоят куда лучше моих. Его полки и ящики почти все пустые, а большинство вещичек уже уложены в коробки и чемоданы.
Мама, разумеется, права насчет меня – пожалуй, то, что я задумала, действительно не сработает. И все же я беру наушники, учебник по физике и какие-то комиксы. Если мне нужно будет убить время, я, может быть, доделаю домашнее задание и почитаю. Питер смотрит на меня, качая головой.
– Зачем он тебе? – спрашивает брат, показывая на учебник. – Мы уезжаем, Таша. Тебе не придется сдавать домашнюю работу.
Питер не так давно открыл для себя силу сарказма. И теперь пользуется ей при каждом удобном случае. Я ему не отвечаю, просто надеваю наушники и иду на выход.
– Скоро буду, – говорю маме.
Она цокает языком и отворачивается. Я напоминаю себе, что мама расстроилась не из-за меня. «Таша, это не ты огорчаешь меня, понимаешь?» – эти слова она часто повторяет в последнее время.
Я собираюсь в Службу гражданства и иммиграции США, которая находится в деловой части Манхэттена, – возможно, там мне кто-нибудь поможет.
Я и моя семья – нелегальные иммигранты, и сегодня вечером нас депортируют. У меня остался последний шанс убедить кого-нибудь в этой службе – или судьбу – помочь мне остаться в Америке.
Поясню: я не верю в судьбу. Но я в отчаянии.
Даниэль
ВОТ ПОЧЕМУ Я СЧИТАЮ Чарльза Чжэ Вон Бэ, также известного как Чарли, последней сволочью (пункты расположены в произвольном порядке):
1. Перед тем как эпично (и просто бесподобно) провалиться в Гарварде, он отличился во всем. Но ведь невозможно быть гением и в математике, и в английском языке, и в биологии, и в химии, и в истории, и в физкультуре. Просто непорядочно быть круглым отличником! Ну, максимум по трем или четырем предметам. И даже такое соотношение превосходит все мыслимые границы приличия.
2. Он – настоящий мужик. В том смысле, что зачастую ведет себя как козел. Постоянно.
3. Он высокий, с точеным, рельефным подбородком и скулами, которые романисты в своих книжках описывают самыми изысканными эпитетами. Все девчонки – не только те, которые изучают корейскую Библию – утверждают, что у него красивые губы.
4. Я бы смирился с этим арсеналом его достоинств (хотя вообще многовато сокровищ для одного индивида), если бы он был хорошим парнем. Но нет. Чарльз Чжэ Вон Бэ – не хороший. Он самодовольный и, что хуже всего, агрессивный. Он сволочь. Отъявленная.
5. Я ему не нравлюсь. И уже очень давно.
Наташа
Я КЛАДУ СВОЙ ТЕЛЕФОН, наушники и рюкзак в серую корзинку, а потом прохожу через металлоискатель. Женщина-охранник – на бейдже написано «Ирэн» – останавливает мою корзинку перед лентой транспортера, как делает каждый день.
Я поднимаю на нее взгляд. На моем лице нет улыбки. Она смотрит в корзинку, переворачивает телефон и разглядывает чехол – как каждый день.
На чехле – картинка с обложки альбома Nevermind группы Nirvana. Каждый день ее пальцы застывают на малыше, изображенном на картинке, и сейчас, как и всегда, мне неприятно, что она к нему прикасается. Вокалистом группы Nirvana был Курт Кобейн. Только благодаря его голосу, со всей его надломленностью, со всей неидеальностью, голосу, в котором чувствуешь все, что когда-либо чувствовал его обладатель, который растягивается тонкой нитью так, словно вот-вот оборвется, но этого не происходит, – только благодаря ему мне удавалось сохранять рассудок, когда начался этот кошмар. Его страдания настолько безнадежнее моих.
Женщина не торопится, а мне нельзя опаздывать на встречу. Я уже готова что-нибудь ей сказать, но злить ее не хочу. Вероятно, она ненавидит свою работу. Не хочу давать ей повод задерживать меня еще больше. Она снова смотрит на меня, но не подает вида, что узнает, хотя я хожу сюда уже целую неделю. Для нее я всего лишь очередной проситель, еще один человек, который чего-то хочет от Америки.
Ирэн История
НАТАША ЗАБЛУЖДАЕТСЯ НАСЧЕТ Ирэн. Она любит свою работу. Даже больше чем любит – работа необходима ей как воздух. Это практически безмолвное общение с людьми – единственное, благодаря чему ей удается обуздать свое всеобъемлющее и отчаянное одиночество. Только благодаря этим людям она все еще чувствует себя живой.
Сначала посетители едва ее замечают. Бросают свои вещи в корзину и пристально следят за ними, проходя через металлоискатель. Многие боятся, что Ирэн прикарманит мелочь, ручку, ключи или еще какую-нибудь мелкую вещицу. Обычно они не обращают внимания на женщину, но Ирэн вынуждает их сделать это. Она перехватывает каждую корзинку рукой, облаченной в перчатку. Как правило, этой задержки достаточно для того, чтобы человек поднял глаза. Чтобы встретил ее взгляд и увидел по-настоящему. Одни неохотно бормочут «доброе утро», и эта фраза придает ей сил. Другие спрашивают, как у нее дела, и тогда она расцветает еще больше. Сама Ирэн никогда не отвечает. Не знает как. Вместо этого она снова переводит взгляд на корзинку с вещами и дотошно осматривает лежащие там предметы. Ирэн ищет зацепку, которая позволит ей отложить эту вещь и изучить позднее. Больше всего она ждет момент, когда можно будет снять перчатки и потрогать ключи, кошельки или монеты. Ей хочется прикасаться к предметам, запоминать текстуры и пропускать через себя артефакты чужой жизни. Но ей нельзя так сильно задерживать очередь. В конце концов она отсылает корзинку с вещами и их владельца дальше.
Вчера у Ирэн был особенно плохой вечер. Невообразимо огромный рот одиночества едва не проглотил ее целиком. Сегодня утром ей просто необходимо с кем-то поговорить, чтобы выжить. Она отводит взгляд от удаляющейся корзинки, а затем поднимает глаза, чтобы посмотреть на следующего просителя. Перед ней девушка, которая приходит сюда каждый день вот уже неделю. На вид ей не больше семнадцати. Как и другие просители, девушка пристально наблюдает за корзинкой с вещами. Ее взгляд прикован к ним, словно ей невыносима сама мысль о том, что ее разлучат с наушниками цвета фуксии и мобильным телефоном. Ирэн кладет обтянутую перчаткой руку на бортик корзинки, чтобы та не ускользнула стремительно из ее жизни на ленту транспортера.
Ирэн ощущает прилив сил, когда девушка поднимает глаза. На лице ее отражается почти такое же отчаяние, какое ощущает Ирэн. Женщина едва не расплывается в улыбке. Она улыбается мысленно. «И снова добро пожаловать. Рада тебя видеть», – произносит Ирэн про себя. В действительности же она опускает глаза и начинает изучать чехол мобильного телефона, лежащего в корзинке. На нем изображен пухлый белокожий младенец, плавающий в чистой голубой воде. Ребенок раскинул руки и ноги – он будто летит, а не плывет. Его рот и глаза открыты. Перед ним на рыболовном крючке болтается долларовая купюра. Это неприличная картинка, и всякий раз, когда Ирэн смотрит на нее, она ощущает нехватку воздуха, словно под водой находится она сама. Ей хочется найти причину, чтобы конфисковать телефон, но таковых нет.
Даниэль
Я ЗНАЮ, КОГДА ИМЕННО Чарли меня невзлюбил. Это произошло тем летом, когда мне исполнилось шесть, а ему – восемь. Он катался на своем новом пафосном велосипеде (красном, с десятью скоростями) со своими новыми пафосными друзьями (белокожими, десятилетними). Хотя тем летом намеков было немало, я все еще не просек, что меня понизили в звании до Докучливого Младшего Братца.
В тот день Чарли укатил с друзьями без меня. Я гнался за ним по улицам, звал его по имени, пытаясь докричаться. Я был убежден, что он просто забыл позвать меня с собой. Я крутил педали так быстро, что устал (обычно шестилетним детям на великах не знакомо чувство усталости, так что это о многом говорит). И почему я не сдался? Он, конечно же, слышал, как я его звал.
Наконец Чарли остановился и спрыгнул с велосипеда. Он бросил его прямо в грязь, к черту подножку, и стал ждать, пока я подъеду. Я видел, как он зол. Носком ботинка брат набрасывал грязь на велосипед, чтобы выглядеть еще более устрашающе в глазах своих друзей.
– Хён, – начал я.
Так младшие братья обращаются к старшим. Но едва это слово сорвалось у меня с языка, я понял, какую совершил ошибку. Все лицо Чарли покраснело: щеки, нос, кончики ушей – все, целиком. Оно практически воспламенилось. Он бросил взгляд в сторону, на своих новых друзей, которые наблюдали за нами так, словно мы участвуем в каком-то телешоу.
– Как он только что тебя назвал? – спросил тот, что пониже.
– Это что, какой-то секретный корейский шифр? – добавил тот, что повыше.
Чарли, проигнорировав обоих, приблизился ко мне почти вплотную.
– Что ты здесь делаешь? – Он был так зол, что его голос почти срывался.
У меня не нашлось ответа, но он в нем и не нуждался. Все, чего ему хотелось, – ударить меня. Я понял это, когда увидел, как сжимаются и разжимаются его кулаки. Он явно пытался сообразить, сколько неприятностей навлечет на себя, если и впрямь ударит меня прямо здесь, в парке, на глазах у ребят, с которыми едва знаком.
– Может, найдешь себе друзей и перестанешь цепляться за меня как младенец? – произнес брат вместо этого.
Лучше бы он меня ударил.
Чарли рывком поднял велосипед из грязи и быстро сел на него. Мне казалось, он вот-вот лопнет от злости, и тогда придется сказать маме, что ее старшего и куда более совершенного сына разорвало.
– Мое имя Чарльз, – бросил он тем парням, словно проверяя, посмеют ли они возразить ему. – Едете или как?
Он не стал их дожидаться, даже не оглянулся, чтобы убедиться, следуют ли они за ним. Потому что следовали. И в парк, и в лето, и в старшую школу, как в дальнейшем шагали по его стопам многие другие. Как-то так вышло, что я возвел своего брата в ранг короля.
Я никогда больше не называл его «хён».
Чарльз Чжэ Вон Бэ История одного будущего
ДАНИЭЛЬ ПРАВ НАСЧЕТ ЧАРЛЬЗА. Он сволочь до мозга костей. Некоторым удается подняться над своей низменной сутью, но только не Чарльзу. Он врастет в нее, в свою шкуру, навсегда. Но еще прежде, чем он станет политиком и удачно женится, прежде чем поменяет имя на Чарльз Бэ, прежде чем на каждом шагу станет предавать свою добрую жену и избирателей, прежде чем обретет деньги и успех и чересчур часто будет получать все, что захочет, – прежде он совершит для своего брата хороший и бескорыстный поступок. Это будет последний хороший и бескорыстный поступок в его жизни.
Семья История имен
КОГДА МИН СУ влюбилась в Дэ Хёна, она не ожидала, что из Южной Кореи вскоре они отправятся в Америку. Но Дэ Хён был беден, а его американский кузен неплохо устроился в Нью-Йорке. Он обещал помочь. Для большинства иммигрантов переезд в новую страну – это подвиг веры. Даже если тебе сулят безопасность и процветание, ты все равно совершаешь гигантский прыжок, отрываясь от своего родного языка, народа и страны, своей собственной истории. Что, если рассказы других людей – не правда? Что, если ты не сможешь привыкнуть? Что, если станешь нежеланным гостем в новой стране?
В конечном итоге далеко не все, что им пророчили, оказалось правдой. Как и многие иммигранты, Мин Су и Дэ Хён привыкли ровно настолько, насколько смогли. Они избегали мест, где им были не рады. Кузен Дэ Хёна действительно помог, и дела пошли в гору – их вера была вознаграждена.
Несколько лет спустя, когда Мин Су узнала о своей беременности, она сразу же задумалась о том, как назвать ребенка. Ей казалось, что американские имена не имеют смысла, в отличие от корейских. В Корее сначала пишут фамилию, в которой заключается история твоего рода. В Америке фамилия считается «последним именем»[1]. По мнению Дэ Хёна, это говорит о том, что американцы ставят на первый план личность, а не семью.
Мин Су мучительно размышляла над выбором имени, которое американцы называют «первым»[2]. Стоит ли давать сыну американское имя, которое легко смогут выговорить его учителя и одноклассники? Или лучше придерживаться традиции и выбрать два китайских иероглифа, чтобы получилось имя из двух слогов?
Имя – могущественная вещь. Это не только знак индивидуальности, но и некая карта, позволяющая сориентироваться во времени и пространстве – словно компас.
В конце концов Мин Су пошла на компромисс. Она дала сыну американское имя, за которым следовали корейские фамилия и имя. Она назвала его Чарльз Чжэ Вон Бэ. Своего второго сына она назвала Даниэль Чжэ Хо Бэ.
У мальчиков было два имени: корейское и американское. Американское и корейское. Чтобы они знали, откуда пришли. Чтобы знали, куда идут.
Наташа
Я ОПОЗДАЛА. Я ВХОЖУ В ПРИЕМНУЮ и иду к секретарше. Она качает головой, ведь уже не раз становилась свидетелем подобных возвращений. Здесь все уже всё видели, и никому нет дела до того, что ты проходишь это испытание впервые.
– Вам нужно позвонить по основному номеру Службы гражданства и иммиграции США и записаться заново.
– У меня нет на это времени, – отвечаю я.
Я рассказываю о женщине на проходной, Ирэн, и ее странном поведении. Я говорю спокойно и взвешенно. Секретарша пожимает плечами и отводит взгляд, давая понять, что разговор со мной закончен. И в любой другой день я не стала бы спорить, но только не сегодня.
– Пожалуйста, позвоните ей. Позвоните Карен Уитни. Она назначила мне встречу.
– Вам было назначено на восемь утра. Сейчас пять минут девятого. Она уже беседует с другим просителем.
– Прошу вас. Я не виновата, что опоздала. Она сказала…
Лицо секретарши каменеет. Уже не важно, что я буду говорить, – ее это не волнует.
– Мисс Уитни беседует с другим просителем. – Она произносит эти слова с расстановкой, словно думает, что я не понимаю английский и это не родной мне язык.
– Позвоните ей, – требую я.
Теперь я говорю громко, и в моем голосе слышны истерические нотки. Все остальные посетители, даже те из них, кто не говорит по-английски, таращатся на меня: отчаяние на любом языке звучит одинаково.
Секретарша дает знак охраннику. Но прежде чем он успевает подойти ко мне, дверь, которая ведет в переговорные, открывается. Очень высокий и худощавый темнокожий мужчина кивает мне.
– Все нормально, Мэри, – обращается он к секретарше. – Я с ней поговорю.
Я быстро прохожу в коридор, пока мужчина не передумал. Он разворачивается, не глядя на меня, и идет вперед. Я тихо следую за ним. Наконец он останавливается перед дверью в кабинет Карен Уитни.
– Подождите здесь. – С этими словами незнакомец исчезает на несколько секунд и возвращается с красной папкой в руках – это мое личное дело.
Мы преодолеваем еще один коридор и наконец заходим к нему в кабинет.
– Меня зовут Лестер Барнс, – начинает он. – Присаживайтесь.
– Я…
Он поднимает руку, призывая меня к тишине.
– Все, что мне нужно знать, – в этой папке. – Он берет ее за уголок и трясет. – Окажите себе услугу – помолчите, пока я читаю.
У него на столе царит порядок, которым он явно гордится. Я вижу комплект серебряных канцелярских принадлежностей: держатель для ручки, подносы для входящей и исходящей почты и даже визитницу с выгравированными на ней инициалами. Кто-то еще пользуется визитками? Я протягиваю руку, беру одну и кладу себе в карман.
Высокий застекленный шкаф, который стоит за его спиной, хранит стопки цветных папок. В каждой папке – чья-то жизнь. Наверное, цвет может рассказать о судьбе каждого иммигранта… Моя папка отмечена красным – цветом отказа.
Проходит еще несколько минут, и Лестер Барнс наконец смотрит на меня:
– Зачем вы пришли?
– Карен, то есть мисс Уитни, назначила мне встречу. Она была так добра ко мне. Сказала, что, возможно, что-нибудь придумает.
– Карен новенькая. – Он произносит эти слова тоном, который, казалось бы, должен что-то мне объяснить, но я не понимаю – что.
– Последнее ходатайство вашей семьи было отклонено. Приказ о депортации в силе, мисс Кингсли. Вы и ваша семья должны покинуть Америку сегодня вечером, в десять часов.
Он закрывает папку и пододвигает ко мне коробку с бумажными платками, ожидая, что я заплачу. Но я не из слезливых. Я не плакала тогда, когда отец впервые рассказал нам о депортации, и тогда, когда все наши ходатайства были отклонены. Я не плакала прошлой зимой, когда узнала, что мой бойфренд Роб, теперь уже бывший, мне изменяет. Я не плакала даже вчера, когда прощалась с Бев. Мы обе еще несколько месяцев назад знали, что нас ждет разлука. Я не плакала, но сдержать слезы было трудно. Бев обязательно сходила бы сюда со мной, но она уехала вместе с семьей в Калифорнию – изучать университеты штата, особенно университет в Беркли. «Может, ты все еще будешь здесь, когда я вернусь, – сказала она, после того как мы обнялись в семнадцатый раз. – Дай бог, все получится».
Бев всегда старалась быть оптимисткой, даже когда ситуация казалась безнадежной. Она была из тех девчонок, которые верят в удачу. А я – из тех, кто над ними посмеивается.
Итак. Сейчас плакать я не собиралась. Я встаю, подбираю свои вещи и иду к двери. Все мои силы уходят на то, чтобы не разреветься. В голове звучит голос матери: «Не позволяй гордости взять над тобой верх, Таша». Я оборачиваюсь и говорю настолько тихо, что едва слышу себя:
– Так, значит, вы правда ничем не можете мне помочь? Мне действительно придется уехать?
Но мистер Барнс прекрасно слышит меня. Прислушиваться к тихим голосам отчаявшихся людей – часть его работы. Он барабанит пальцами по закрытой папке.
– То, что ваш отец управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения…
– Это его проблема. Почему я должна расплачиваться за его ошибку?
Мой отец. Одним прекрасным вечером он сел за руль в стельку пьяный, и его, конечно, поймали, выяснив ряд подробностей о нашей семье, а это, в свою очередь, привело к тому, что я вот-вот лишусь единственного места на Земле, которое могу называть домом.
– Ваше пребывание здесь по-прежнему незаконно, – произносит мистер Барнс, но в его голосе уже нет прежней твердости.
Я киваю, но ничего не говорю, потому что вот теперь я точно могу расплакаться. Надеваю наушники и снова поворачиваюсь к двери.
– Я был у вас на родине. Я был на Ямайке, – говорит он и улыбается, вспоминая свою поездку. – Чудесно провел время. Там полный порядок, irie[3]. У вас все будет хорошо.
Психотерапевты советуют не подавлять свои чувства, потому что в конце концов они так или иначе выйдут наружу, и это правда. Я злилась много месяцев. Мне кажется, будто я злюсь всю свою жизнь. На отца. На Роба, который на прошлой неделе заявил, что мы должны остаться друзьями несмотря ни на что. Под «несмотря ни на что» он имел в виду измену. Даже Бев мой гнев не пощадил. Всю осень она размышляла, в какой университет лучше поступить, с учетом того, куда подаст заявление ее бойфренд – Деррик. Она даже проверяла разницу во времени между городами, где находятся те или иные колледжи. «Сможем ли мы любить друг друга на расстоянии?» – постоянно спрашивает она. Однажды, когда она в очередной раз задала мне этот вопрос, я посоветовала ей прекратить так сильно зависеть от своего парня и планировать свое будущее, не ориентируясь на него. Бав страшно на меня обиделась, ведь она свято верила в то, что их любовь – навеки. Но мне кажется, после выпускного они расстанутся. В крайнем случает, в конце лета. Чтобы загладить свою вину, мне пришлось несколько недель делать за подругу домашку по физике.
Итак. В эту минуту какой-то мужчина, который, вероятно, провел на Ямайке не больше недели, говорит мне, что у меня все будет хорошо. Я снимаю наушники.
– Где именно вы были? – спрашиваю.
– В Негриле, – отвечает он. – Там очень мило.
– Вы выезжали из отеля?
– Я хотел, но моя…
– Но ваша жена не поддержала вас, потому что ей было страшно, верно? В путеводителе сказано, что лучше оставаться в пределах курортной зоны.
Я снова сажусь. Он кладет подбородок на руки, сложенные в замок, и молчит.
– Она беспокоилась о своей «безопасности»? – Я рисую в воздухе кавычки. – Или, может, ей просто не хотелось портить себе отпуск печальной картиной нищеты? – Подавленный гнев поднимается откуда-то из живота и клокочет у меня в горле. – Вы слушали Боба Марли, затем бармен принес вам какой-нибудь травы, а потом кто-то рассказал, что значит irie, и теперь вы думаете, будто все знаете о Ямайке. Вы видели тики-бар, пляж и гостиничный номер. Это не государство. Это курорт.
Он выставляет вперед ладони так, словно хочет защититься, словно пытается отодвинуть от себя мои слова. Да, я отвратительно себя веду. И мне плевать.
– Не говорите мне, что у меня все будет хорошо. Это место для меня чужое. Я жила в Америке с восьми лет. Я ни с кем не знакома на Ямайке. У меня нет акцента. Я не знаю никого из родственников, по крайней мере так, как полагается знать. Я сейчас в старшем классе. Как же выпускной, окончание школы, мои друзья?
Мне тоже хочется суетиться, как они, и волноваться обо всяких глупостях. Я даже недавно начала готовить заявление на поступление в Бруклинский колледж. Мама два года копила деньги, чтобы поехать во Флориду и купить мне «нормальную» карточку социального страхования. «Нормальной» карточке присвоен реально существующий украденный, а не поддельный номер. Человек, который продал ее маме, сказал, что менее дорогостоящие карты с фальшивыми номерами не пройдут проверку и мое заявление в университет не пропустят. А с этой картой я могу рассчитывать на финансовую поддержку. Если мне удастся получить не только ее, но и стипендию, я, возможно, даже смогу учиться в Бингемтонском университете и других учебных заведениях штата Нью-Йорк.
– А как же колледж? – заливаясь слезами, спрашиваю я. Теперь я не могу сдержаться. Я слишком долго терпела.
Мистер Барнс пододвигает коробочку с платками еще ближе ко мне. Я беру шесть или семь, а потом еще столько же.
– Вы вообще представляете, каково это – везде быть чужой? – Я вновь говорю слишком тихо, чтобы быть услышанной, и он снова меня слышит.
Я успеваю дойти до самой двери и положить ладонь на ручку, когда он произносит:
– Мисс Кингсли. Постойте.
Irie Происхождение слова
ВОЗМОЖНО, ВЫ УЖЕ БЫВАЛИ на Ямайке и слышали слово irie. Тогда вы, наверное, знаете, что это слово из ямайского диалекта патуа. Оно также распространено среди растаманов. Знаменитый исполнитель регги Боб Марли сам был растаманом, и благодаря его песнями слово irie стало известно далеко за пределами ямайских берегов. Может быть, слыша это слово, вы проникаетесь историей религии растаманов.
Может быть, вы знаете, что растафарианство – небольшое ответвление трех основных авраамических религий – христианства, ислама и иудаизма. Для авраамических религий характерен монотеизм, а в основе их лежат различные воплощения Авраама. В слове irie – отголоски тридцатых годов, когда на Ямайке возникло растафарианство. В нем же заключена память о духовном лидере этой религии, Хайле Селассие I, который был императором Эфиопии с 1930 по 1974 год.
Изначальный и сакральный смысл этого слова – полный порядок. Все в порядке между тобой и твоим богом, а значит, между тобой и этим миром. Ты в священном месте, где царит гармония.
Но, может быть, вы не знаете историю этого слова. Не знаете о Боге, духе или языке. Тогда вам, конечно же, будет известно только современное обиходное и до крайности упрощенное определение irie – все окей.
Иногда, отыскав какое-нибудь слово в словаре, вы замечаете, что некоторые из его значений помечены как устаревшие. Наташа часто размышляет о том, какой изменчивый все-таки язык. Изначально слово несет в себе одно значение, а по прошествии времени приобретает совершенно другие. Возможно, так происходит из-за того, что его часто употребляют или упрощают смысл, который оно несет, как поступают туристы на ямайских курортах со словом irie. Или используют не по назначению, как в последнее время с ним же обращается отец Наташи.
До приказа о депортации он никогда не говорил на ямайском диалекте и старался убрать ямайский акцент. Теперь, когда нас вынуждают вернуться, папа постоянно использует ямайские словечки, словно турист, который учит иностранные фразы перед путешествием за границу. «Irie», – отвечает он кассирам в продуктовых магазинах на их обычный вопрос «Как ваши дела?». Он говорит irie почтальону, который разносит газеты. Он широко улыбается. Он засовывает руки в карманы, отводит плечи назад и ведет себя так, словно мир щедро осыпает его всевозможными благами. Его поведение чересчур неестественно, и Наташа уверена: люди видят отца насквозь, однако это не так. Наоборот, у них поднимается настроение, словно они верят, что он непременно поделится с ними частичкой своего везения.
Использовать слова, по мнению Наташи, нужно так, как мы используем единицы меры: метр всегда остается метром. Нельзя искажать значение слова. Кто решает, что оно поменялось, и когда? Бывает ли какой-то промежуток времени, на протяжении которого слово имеет сразу оба значения? Или когда не значит совсем ничего?
Если Наташе придется покинуть Америку, то все ее друзья, даже Бев, перестанут с ней общаться. Разумеется, вначале они будут звонить и писать, но это не то же самое, что видеть друг друга каждый день. У них не будет двойного свидания на выпускном. Они не будут вместе праздновать зачисление в университет или плакать над отказами. Рассматривать глупые фотки с выпускного. Расстояние между ними с каждым днем будет только расти. Бев останется в Америке и продолжит жить американской жизнью. Наташа окажется на Ямайке, в той стране, где родилась и при этом ощущает себя чужой.
Сколько времени пройдет до тех пор, как друзья о ней окончательно забудут? Сколько ей понадобится месяцев, чтобы научиться говорить на патуа? Сколько минует лет, прежде чем ее прошлая, американская жизнь окончательно забудется?
Однажды значение irie снова поменяется, и оно станет очередным словом с длинным списком архаичных или устаревших значений. Irie? – спросит тебя кто-нибудь с идеальным американским акцентом. Irie, – ответишь ты, давая понять, что все окей, но на самом деле ты не хочешь ничего рассказывать о своих делах. Никто из людей и не вспомнит об авраамических религиях, растафари или о ямайском диалекте. Это слово будет совершенно лишено какой-либо истории.
Даниэль Местный парень погряз в пучине родительских ожиданий и разочарований, на спасение надежды нет
В ТОМ, ЧТО ТВОЙ СТАРШИЙ БРАТ – сверхуспешный козел, все-таки есть один плюс: это снимает груз ответственности с твоих плеч. Чарли всегда в полной мере оправдывал ожидания родителей за нас обоих. Теперь, когда он уже не кажется идеальным, ответственность переложили на меня.
Диалог, который происходил уже 1 миллиард 300 тысяч раз (плюс-минус) с тех пор, как Чарли вернулся домой из Гарварда, выглядит примерно вот так:
Мама. У тебя нормальные оценки?
Я. Ага.
Мама. Биология?
Я. Ага.
Мама. А математика? Ты не любишь математику.
Я. Я в курсе, что я не люблю математику.
Мама. Но оценки нормальные?
Я. По-прежнему «хорошо».
Мама. А почему не «отлично»? Тебе пора взяться за ум. Ты уже не маленький мальчик.
Сегодня у меня собеседование с выпускником Йельского университета. Мы будем говорить по поводу моего поступления туда же. Йель – только Второй в списке лучших учебных заведений, но я в кои-то веки топнул ногой и отказался подавать заявление в Лучшее учебное заведение (Гарвард). Мне претит сама мысль о том, что я поступлю туда же, куда и Чарли, и снова буду «всего лишь» его младшим братом. Плюс ко всему, никто не знает, примут ли меня в Гарвард теперь, когда Чарли временно отчислили.
Мы с мамой сидим на кухне. По случаю сегодняшнего собеседования она варит для меня манду (пельмени). Для того чтобы еще больше проголодаться перед пельменями, я жую хлопья Cap'n Crunch (лучшие хлопья, известные человечеству) и пишу в своем блокноте фирмы Moleskine.
Я корплю над поэмой о разбитом сердце, и корплю уже целую вечность (плюс-минус). Проблема в том, что мне никто еще не разбивал сердце, так что эта тема дается мне с трудом. Писать за кухонным столом – роскошь. Я не смог бы делать это в присутствии отца. Вслух он не выражает свое неодобрение моим увлечением поэзией, но определенно точно его не одобряет.
Мама прерывает мое жевание и творческий процесс одной из вариаций нашей стандартной беседы. Я отвечаю ей на автомате, вставляя свои «ага» между порциями хлопьев, как вдруг она меняет сценарий. Вместо привычного «Ты уже не маленький мальчик» она говорит:
– Не будь как твой брат.
Она произносит это на корейском. Для усиления эффекта. И благодаря Богу, или Судьбе, или Чистейшему Невезению Чарли заходит на кухню как раз в этот момент. Я перестаю жевать. Любой, кто посмотрел бы сейчас на нашу семью со стороны, подумал бы, что все в порядке: мать готовит завтрак для двух своих сыновей. Один сын за столом ест хлопья (без молока), потом на кухне появляется второй, и он тоже собирается позавтракать. Но в действительности происходит совсем другое. Маме становится так стыдно, что она заливается краской. Румянец едва заметен, но он есть. Она предлагает Чарли пельмени, несмотря на то что он терпеть не может корейскую кухню и отказывался от нее с тех пор, как начал учиться в средней школе.
Что делает Чарли? Просто притворяется. Притворяется, что не понимает ни слова по-корейски, что не слышал, как мама предложила ему пельменей, что младшего брата не существует. Ему почти удается обмануть меня, но потом я смотрю на его руки – пальцы сжимаются в кулаки – и понимаю, что с ним происходит в действительности. Он все слышал и все понял. Мама могла бы назвать его эпическим отморозком, аниматронным членом с яйцами – любые другие оскорбления задели бы его меньше, чем фраза «не будь как твой брат». Ведь мама всегда упрекала меня по-другому: «Почему ты не можешь стать таким, как твой брат?» То, что теперь она изменила свое мнение, не принесет ничего хорошего ни мне, ни Чарли.
Он достает из шкафа стакан, наливает в него воду из-под крана и пьет, потому что хочет побесить мать. Она открывает рот, чтобы произнести: «Нет.
Пей из фильтра», но тут же его закрывает. Чарли делает три быстрых глотка и, опустошив стакан, ставит его в шкаф. Немытым. Дверцу шкафа оставляет распахнутой.
– Умма[4], оставь его в покое, – говорю я ей после того, как брат уходит.
Я зол на него и зол из-за него. Чарли трудно вынести критику родителей. Я лишь могу догадываться, какая это засада – целый день работать в магазине с отцом. Готов поспорить, папа отчитывает его в любую свободную минуту: когда не приходится улыбаться покупателям и отвечать на вопросы о накладных прядях, маслах из чайного дерева и уходе за поврежденными волосами. (Мои родители держат специализированный магазин косметики для афроамериканцев. Он называется «Красота черных волос».)
Мама открывает пароварку, чтобы проверить, готовы ли пельмени. Ее очки запотевают. В детстве меня всегда это веселило. Мама специально делала так, чтобы очки запотели как можно сильнее, а потом притворялась, будто не видит меня. Сейчас она просто снимает их и протирает полотенцем.
– И что случилось с твоим братом? Почему он не справился? Он всегда справлялся.
Без очков она выглядит моложе, симпатичнее. Странно ли считать собственную маму симпатичной? Вероятно. Уверен, что эта мысль никогда не приходит в голову Чарли. Все его девушки (все шесть) были очень миленькими и пухленькими белокожими блондинками с голубыми глазами. О, нет, вру. Была одна девчонка, Агата. Она стала последней, с кем он встречался в школе, перед тем как поступить в университет. Глаза у нее были зеленые.
Мама снова надевает очки и ждет ответа. Я должен найти для нее ответ. Она не выносит неопределенности. Неопределенность – ее враг. Думаю, это потому, что она росла в нищете в Южной Корее.
– Он всегда справлялся. Что-то случилось.
И теперь я чувствую еще большее раздражение. Может, ничего с Чарльзом и не случилось. Может, он вылетел из университета просто потому, что ему не нравились занятия. Может, ему не хочется быть врачом. Может, он вообще не знает, чего хочет. Может, он просто изменился. Но в нашей семье меняться не позволено. Мы обязаны выучиться на врачей! Мы встали на этот путь, и сойти с него так просто не выйдет.
– Вам, мальчики, легко тут. Америка сделала вас нежными.
Если бы всякий раз, когда я слышал это, у меня появлялась еще одна извилина в мозгу, я был бы чертовым гением.
– Мы родились тут, мама. Мы всегда были нежными.
Она усмехается.
– Что насчет собеседования? Ты готов? – Она обводит меня взглядом, и то, что она видит, ее не удовлетворяет. – Тебе бы постричься перед ним.
Уже несколько месяцев она настаивает, чтобы я избавился от своего короткого хвостика. Я издаю звук, который одновременно значит и согласие, и несогласие. Она ставит передо мной тарелку с манду, и я ем их молча. Из-за важного собеседования родители позволили мне сегодня не ходить в школу. Сейчас только восемь утра, но я ни за что не соглашусь остаться дома еще на пару часов и вести все эти разговоры. Прежде чем я успеваю сбежать, мама вручает мне кошелек.
– Anna[5] забыл его взять. Отнеси ему.
Я уверен, что она собиралась отдать его Чарли, когда тот собирался в магазин, но забыла из-за той истории на кухне.
Я беру кошелек, хватаю свой блокнот и тащусь наверх одеваться. Моя спальня – в конце длинного коридора. Я прохожу мимо комнаты Чарли (дверь, как обычно, закрыта) и родительской спальни. У стены стоит парочка нераспакованных маминых холстов. Сегодня у нее выходной, и, готов поспорить, она предвкушает, что проведет день в одиночестве за рисованием. Последнее время она рисует тараканов, мух и жуков. Я посмеиваюсь над ней. Говорю, что сейчас у нее Эпоха Мерзких Насекомых, но она нравится мне даже больше, чем Эпоха Абстрактных Орхидей, которая закончилась несколько месяцев назад.
По пути в свою комнату я делаю небольшой крюк, заглядывая в пустую спальню, которую мама использует в качестве своей арт-студии. Мне интересно, нет ли там новых рисунков. И точно: она нарисовала гигантского жука. Сам холст не очень большой, но жук занимает почти все свободное пространство. Мамины рисунки всегда были яркими и красивыми. И ее затейливые, почти анатомические изображения насекомых получаются просто великолепными. Гигантский жук выполнен в темных перламутровых оттенках зеленого, синего и черного. Панцирь жука сверкает, словно масло, разлитое на воде.
Три года назад папа сделал маме сюрприз на день рождения – он нанял в магазин помощника на полставки, чтобы она могла сидеть дома несколько дней в неделю. А еще он купил для нее набор масляных красок и несколько холстов. Я никогда прежде не видел, чтобы мама плакала от радости. С тех самых пор она очень часто рисует.
Оказавшись у себя в комнате, я в десятитысячный раз (плюс-минус) задумываюсь о том, как сложилась бы мамина жизнь, если бы она осталась в Корее. Какая бы ее ждала судьба, если бы она никогда не познакомилась с моим папой? Если бы у нее не появились мы с Чарли? Стала бы она художницей?
Я надеваю новый, сшитый на заказ серый костюм и красный галстук. «Слишком ярко», – сказала мама, когда я примерял его в ателье. Очевидно, она думает, что только картинам позволено быть яркими.
Я заявил, что красный цвет поможет мне выглядеть увереннее. Сейчас, когда я смотрю на себя в зеркало, я должен признать, что действительно выгляжу уверенно и изысканно (да, изысканно). Жаль, что я одеваюсь так ради этого собеседования, а не ради действительно важного лично для меня события. Я смотрю прогноз погоды в интернете и решаю, что пальто мне не понадобится. Сегодня обещают до двадцати градусов выше нуля – идеальный осенний день.
Хоть я и раздражен тем, как мама повела себя с Чарли, я целую ее и обещаю постричься, а потом выхожу из дома. Сегодня днем моя жизнь запрыгнет в Поезд, направляющийся к станции Доктор Даниэль Чжэ Хо Бэ, но до того самого часа этот день принадлежит мне. Я займусь тем, чем мне подскажет заняться мир. Я представлю, что я в гребаной песне Боба Дилана – я последую за ветром[6]. Я буду представлять, что будущее – это широко распахнутая дверь и случиться может все что угодно.
Наташа
ВСЕМУ ЕСТЬ ПРИЧИНА. Так говорят. Моя мама, например, часто повторяет: «Всему есть причина». Обычно люди произносят эти слова, когда произошло что-то неприятное, но еще не фатальное: автомобильная авария, в результате которой никто не умер; растяжение ноги, а не перелом.
Как и следовало ожидать, моя мама не сказала излюбленную фразу, узнав о депортации. Какие вообще могут быть причины у этого кошмара? Мой папа, который, собственно, во всем виноват, говорит: «Порой мы не способны постичь Божий замысел». Я бы посоветовала ему не полагаться во всем на Бога, ведь надежда на чудо не может быть жизненной стратегией. Но для того чтобы это сказать, мне придется с ним заговорить, а я не хочу.
В глубине души почти все верят, что у жизни есть некий смысл. Справедливость. Элементарная порядочность. Хорошее случается с хорошими людьми. Плохое – лишь с плохими. Никто не хочет признавать тот факт, что жизнь стихийна. Папа недоумевает, откуда взялся мой цинизм, но я вовсе не циник. Я реалист. Лучше видеть жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой тебе хочется ее видеть.
Нет никаких причин. Все просто происходит.
Но вот некоторые очевидные факты: если бы я не опоздала на встречу, я бы не познакомилась с Лестером Барнсом. И если бы он не произнес слово irie, я бы так и молчала у него в кабинете. А если бы я молчала, то сейчас не держала бы в руке бумажку с именем адвоката, который славится тем, что решает самые сложные дела.
Я выхожу из здания, минуя охрану. Чувствую иррациональный и совершенно несвойственный мне порыв поблагодарить ту женщину – Ирэн, но она в нескольких метрах от меня, нежно поглаживает чьи-то вещи. Я проверяю, нет ли на телефоне сообщений. Несмотря на то что в Калифорнии всего 5:30 утра, Бев уже прислала мне кучу вопросительных знаков. Я раздумываю, не сказать ли ей о последних событиях, но потом прихожу к выводу, что пока никаких масштабных изменений не случилось.
«Пока ничего», – пишу в ответ. Может, я эгоистка, но мне хочется, чтобы она была здесь, со мной. Но, если быть совсем честной, я бы с радостью ездила по университетам вместе с ней и вообще вела жизнь обычной старшеклассницы. Я снова смотрю на записку. Джереми Фицджеральд. Мистер Барнс не разрешил мне позвонить и договориться о встрече с адвокатом по его телефону.
– Дело практически безнадежное, – воскликнул он, а потом буквально вытолкнул меня за дверь.
Очевидный факт: никогда не стоит браться за заведомо безнадежное дело. Лучше изучить все варианты и выбрать тот, который хотя бы в теории может привести к успеху. Но если безнадежный вариант – ваш единственный шанс спастись, тогда у вас нет выбора.
Ирэн Предполагаемая история
В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ ИРЭН скачивает альбом группы Nirvana. Она прослушивает его три раза подряд. В голосе Курта Кобейна ей слышится то же, что и Наташе, – идеальное и прекрасное страдание; этот голос полон одиночества и тоски и звучит с таким надрывом, что должен в конце концов оборваться. Лучше бы он правда оборвался. Потому что все лучше, чем жить, желая чего-то и не получая этого. Все лучше, чем жить.
Она следует за голосом Курта Кобейна – он ведет туда, где царит полный мрак. Она ищет статьи про Кобейна в интернете и выясняет, что у его истории не было счастливого конца.
Ирэн составляет план. Сегодняшний день станет для нее последним. По правде говоря, ей долгие годы приходила в голову мысль убить себя. В текстах Кобейна она наконец находит правильные слова. Ирэн пишет предсмертную записку без адресата: «Oh well. Whatever. Nevermind»[7].
Наташа
ВЫЙДЯ ИЗ ЗДАНИЯ и сделав пару шагов, я набираю номер.
– Я бы хотела договориться о встрече сегодня, как можно раньше.
Кажется, что женщина, которая мне отвечает, сидит на какой-то стройке. Откуда-то издалека доносятся звуки дрелей и громкие удары. Мне приходится дважды называть свое имя.
– А по какому вы вопросу? – спрашивает женщина.
Я отвечаю не сразу. Будучи нелегальным иммигрантом, ты волей-неволей учишься держать язык за зубами. Прежде чем началась вся эта история с депортацией, единственным человеком, который обо всем знал, стала Бев, хотя она не из тех, кто умеет хранить секреты.
«Да оно как-то само собой рассказалось», – обычно оправдывается она, проболтавшись, словно не имеет абсолютно никакой власти над собственным языком. Но в этой ситуации даже Бев поняла, насколько важно держать в тайне информацию обо мне.
– Алло, мэм? По какому вы вопросу? – не унимается женщина на другом конце провода.
Я плотнее прижимаю телефон к уху и замираю прямо посередине лестницы. Вокруг меня мир набирает скорость, словно фильм в режиме быстрой перемотки. Люди поднимаются и спускаются по ступеням в три раза быстрее, их движения становятся резче. Облака проносятся над головой. Солнце быстро перемещается по небу.
– Я нелегальный иммигрант, – произношу я. Сердце колотится так, словно я пробежала немалое расстояние.
– Расскажите о себе больше, – просит женщина в трубке.
И я рассказываю о том, что родилась на Ямайке. Мои родители нелегально иммигрировали в Америку, когда мне было восемь. С тех пор мы постоянно живем здесь. Мой папа был арестован за вождение в нетрезвом состоянии. Нас депортируют. По мнению Лестера Барнса, адвокат Фицджеральд может помочь.
Женщина записывает меня на одиннадцать часов утра и после спрашивает:
– Что я еще могу для вас сделать?
– Ничего, – отвечаю я. – Этого достаточно.
Офис адвоката находится в другой части города, а сейчас я нахожусь недалеко от Таймс-сквер. Смотрю на экран телефона: 8:35. Легкий ветерок играет моими волосами, задирает краешек юбки. Погода на удивление теплая для середины ноября. Может, мне не стоило брать с собой кожаную куртку? Я мысленно прошу, чтобы зима была не слишком холодной, а потом вспоминаю, что зимой меня здесь, вероятно, уже не будет.
Если в городе выпадает снег, но сам город пуст и некому ощутить холод, холодно ли все равно?
Да. Ответ на этот вопрос – да. Я прижимаю куртку к себе. Мне по-прежнему с трудом верится, что мое будущее будет не таким, каким я его планировала. До встречи с адвокатом еще два с половиной часа. Моя школа с углубленным изучением естественных наук всего в пятнадцати минутах ходьбы отсюда. Может, пойти и в последний раз взглянуть на нее? Помню, как когда-то давно я очень сильно стремилась туда попасть… Поверить не могу, что, возможно, больше никогда ее не увижу…
Нет, все же к школе я не пойду – вдруг встречу кого-нибудь, и тогда неминуемо посыплются вопросы в духе «Почему ты сегодня не пришла на занятия?».
Чтобы убить время, я решаюсь пройти пешком те пять километров, которые отделяют меня от офиса адвоката. По пути как раз попадется мой любимый магазин с виниловыми пластинками. Я надеваю наушники и включаю альбом группы Temple of the Dog. Это гранж-рок девяностых, сплошная тревожность и кричащая гитара. Крис Корнелл начинает петь, и я позволяю своим волнениям раствориться в его голосе.
Сэмюэль Кингспи История сожаления, часть 1
ОТЕЦ НАТАШИ, СЭМЮЭЛЬ, переехал в Америку за два года до того, как сюда иммигрировала его семья. План был такой: Сэмюэль уезжает с Ямайки первым и начинает карьеру бродвейского актера. Так будет проще, потому что не придется беспокоиться о жене и маленьком ребенке. Без них, ничем не обремененный, он сможет спокойно ходить на прослушивания, завязать знакомства в актерской среде Нью-Йорка.
Изначально планировалось, что на это уйдет год, но прошло два, а потом пошел и третий, однако мама Наташи не смогла и не стала ждать дольше. Наташе было тогда всего шесть, но она помнит, как мама звонила в Америку, всегда набирая больше цифр, чем обычно. Сначала разговоры родителей были спокойными. Голос ее отца ни капли не изменился. Он казался радостным. Спустя год или около все стало иначе. У папы появился забавный акцент, более ритмичный и гортанный, нежели патуа. Радости в нем стало меньше. Наташа не слышала, что говорил отец, но и без этого понимала, что происходит.
«Сколько еще, по-твоему, мы должны ждать?» – «Но, Сэмюэль! Мы больше не семья, когда ты там, а мы здесь!» – «Поговори со своей дочерью, слышишь?»
А потом в один прекрасный день вместе с мамой они покинули Ямайку навсегда. Наташа попрощалась с друзьями и родственниками в полной уверенности, что вскоре увидится с ними. Может быть, даже на Рождество. Но иммигранты без документов просто так домой не возвращаются. Наташа не знала, что со временем родной дом станет ей чужим. Будто она вовсе и не жила там, а просто когда-то давно прочитала о нем книгу.
В тот день, когда они улетали, Наташа сидела в самолете и задавалась вопросом, как же они пролетят сквозь облака, а потом поняла, что облака – это вовсе не шарики из ваты. Она гадала, узнает ли ее папа и любит ли он ее по-прежнему, ведь прошло столько времени. Но все оказалось хорошо: он узнал ее и по-прежнему любил. В аэропорту Нью-Йорка он обнял их с мамой очень крепко.
– Боже, ну как же я скучал по вам! – воскликнул он тогда и прижал их к себе еще крепче. В тот момент он выглядел, как раньше, и даже его патуа звучал, как в старые добрые времена. Но пахло от него по-другому: американским мылом, американской одеждой и американской едой. Наташе было все равно, она просто радовалась встрече с папой и могла привыкнуть к чему угодно!
Те два года, которые Сэмюэль провел в Америке без семьи, он жил у старого друга своей матери. Ему не нужна была работа – он тратил не много денег, и ему хватало своих сбережений. Вместе с женой и дочерью так продолжать жить было невозможно.
Сэмюэль устроился на работу охранником на Уоллстрит и снял двухкомнатную квартиру в одном из бруклинских кварталов – Флэтбуше.
– У нас все получится, – говорил он Патриции.
Сэмюэль дежурил по ночам, чтобы ходить на прослушивания днем, но был очень сильно измотан ночными сменами. Для него не находилось ролей, а ямайский акцент не исчезал, как он ни старался его исправить. К тому же Патриция и Наташа говорили с ним на родном диалекте, хотя он изо всех сил пытался обучить их «правильному» американскому произношению.
Быть отвергнутым нелегко. Чтобы стать актером, нужно быть толстокожим, но Сэмюэль таковым не являлся. Каждый новый отказ скреб по его душе, как наждачная бумага, причиняя боль и стирая веру в себя. Шло время, и Сэмюэль уже не знал, кто из них продержится дольше: он сам или его мечта.
Даниэль Местный парень безропотно садится на Поезд номер 7, идущий на запад, где он прощается со своим детством
ВОЗМОЖНО, Я НЕМНОГО ДРАМАТИЗИРУЮ, но ощущение складывается именно такое: это Волшебный, мать его, Поезд, уносящий меня из моего детства (радость, спонтанность, веселье) во взрослую жизнь (печаль, предсказуемость и вообще никакого веселья). Когда я сойду с него, у меня будет план и ухоженные (то есть подстриженные) волосы.
Я перестану читать (впрочем, как и писать) стихи – только биографии Очень Важных Персон. У меня будет своя Точка Зрения на серьезные вещи, такие как Иммиграция, роль Католической церкви в светском обществе и Задница, в которой оказались команды профессиональной футбольной лиги.
Поезд останавливается, и половина пассажиров выходит. Я иду к своему любимому месту – двум сиденьям в углу рядом с будкой машиниста – и сажусь так, что занимаю оба. Да, это возмутительно, но у меня есть на то свои причины. Представьте себе: совершенно пустой поезд, и какой-то мужик с толстенной змеей на шее почему-то решает сесть именно рядом со мной, хотя в поезде еще тысяча (плюс-минус) свободных мест.
Я достаю из внутреннего кармана пиджака блокнот. До Тридцать четвертой улицы на Манхэттене, где находится моя любимая парикмахерская, добираться около часа, а эта поэма сама не напишется. Через пятьдесят минут (и всего три весьма скверно написанные строчки) мы отъехали на пару остановок от моей. Двери Волшебного, мать его, Поезда закрываются. Мы проезжаем метров шесть по тоннелю и медленно останавливаемся. Свет гаснет.
Мы сидим так пять минут, а потом машинист приходит к выводу, что неплохо было бы поговорить о том, что случилось, с пассажирами. Я жду от него слов вроде «поезд скоро возобновит движение», но говорит он следующее:
– ДАмы и ГОспода. До вчерашнего дня я был таким же, как вы. Я ехал на ПОезде, который следовал в НИкуда.
Святое дерьмо. Обычно фрики едут в поезде, а не управляют им. Пассажиры напрягаются. Над нашими головами, как в комиксах, словно появляются облачка с вопросом: «Какого черта?»
– Но КОЕ-что произошло. Я уверовал!
Не могу понять, откуда он родом (Город Безумцев, поселение 1). Он слишком старательно выговаривает начало слов, и его голос звучит так, словно он читает эту проповедь с улыбкой.
– САМ Бог снизошел с небес и СПАС меня.
Люди хлопают себя по лбу и закатывают глаза в полнейшем недоумении.
– ОН спасет и вас ТОже, но вы должны впустить его в свое СЕРдце. Впустите его сейчас, пока не достигли ПУнкта назначения.
Парень в костюме выкрикивает, что машинисту лучше, мать его дери, заткнуться и ехать дальше. Какая-то мамаша прикрывает уши своей маленькой дочери и просит парня не ругаться. Сюжет «Повелителя мух» разворачивается в Поезде номер 7. Наш машинист/евангелист замолкает, и проходит еще одна минута в темноте, прежде чем поезд трогается. Мы останавливаемся на станции «Таймс-сквер», но двери открываются не сразу. В динамиках снова раздается треск.
– ДАмы и господа. Этот ПОезд снят с эксплуатации. СДЕлайте одолжение. Освободите вагоны. Ищите Господа, и вы его найдете.
Мы все выходим из поезда, чувствуя нечто среднее между облегчением и гневом. Всех ждут дела. Поиски Господа в планах не значатся.
Наташа
ЛЮДИ – СУЩЕСТВА НЕРАЗУМНЫЕ. Вместо того чтобы руководствоваться логикой, мы позволяем эмоциям управлять нами. Мир стал бы счастливее, если бы было наоборот. К примеру, сделав всего-навсего один телефонный звонок, я начала надеяться на чудо. Я даже не верю в Бога.
Машинист Евангелическая история
МАШИНИСТ ТЯЖЕЛО ПЕРЕНЕС РАЗВОД. В один прекрасный день его жена объявила, что просто-напросто разлюбила его. Она даже не смогла объяснить почему. У нее не было другого мужчины, и не к кому было уходить. Но мужа своего она больше не любила. За четыре года, минувшие с тех пор, как развод был документально подтвержден, машинист стал неверующим. Он помнил, как они с женой произносили супружеские клятвы перед лицом Господа и всеми остальными. Если человек, который клялся любить тебя вечно, может внезапно разлюбить, стоит ли верить во всю эту чушь?
И вот, бесприютный и ни в чем не уверенный, он скитается по городам, меняет квартиры, работу и ни к чему в этом мире не привязывается. Его мучает бессонница. Телевизор, работающий без звука, помогает ему уснуть по ночам – бесконечные ряды картинок прогоняют беспокойные мысли.
Однажды вечером, во время подобного ритуала, его внимание привлекает передача, которую он никогда раньше не видел. Какой-то человек стоит на кафедре перед огромной аудиторией. За спиной человека – гигантский экран, на котором показывают его лицо крупным планом. Он плачет. Камера поворачивается к восторженным зрителям. Некоторые тоже плачут, но машинисту кажется, что плачут они не от горя…
Той ночью он так и не засыпает. Он включает звук и продолжает смотреть это шоу[8].
Весь следующий день он проводит в поисках, открывает для себя христианство и отправляется в путешествие, о необходимости которого даже не подозревал. Он узнает, что для того, чтобы стать христианином, нужно следовать четырем пунктам. Во-первых, ты должен переродиться душой. Машинисту нравится сама идея, что ты можешь переродиться, очищенный от грехов и достойный любви и спасения. Во-вторых и в-третьих, ты должен всецело верить в Библию и в искупительную жертву Иисуса Христа. И наконец, в-четвертых, ты должен стать миссионером, делиться знаниями и распространять Евангелие.
Именно поэтому машинист в тот день, когда Даниэль ехал в Волшебном Поезде номер 7, проповедовал Слово Божие по громкой связи. Как ему не поделиться новообретенными знаниями с братьями своими? Как не поделиться своим воодушевлением? Уверенностью в том, что жизнь имеет цель и смысл. Даже если твой путь труден, в будущем все точно будет хорошо, и у Господа есть план, как привести тебя туда, где будет лучше. Даже у всего плохого, что произошло с тобой, есть своя причина.
Даниэль
РАЗ Я РЕШИЛ ПОЗВОЛИТЬ Вселенной вести меня в этот Последний День Детства, я не жду следующего поезда до Тридцать четвертой улицы. Машинист посоветовал отправиться на поиски Господа. Может, он (или он – все-таки она? Но кого мы пытаемся обмануть? Бог определенно мужского пола. Иначе как объяснить войны, чуму и утренний стояк?) прямо здесь, на Таймс-сквер, ждет, пока его найдут. Однако, оказавшись в городе, я вспоминаю, что Таймс-сквер – это филиал ада (бурлящая клоака с кучей мерцающих неоновых вывесок, на которых рекламируются все семь смертных грехов). Бог не стал бы здесь тусить.
Я иду по Седьмой авеню к парикмахерской, пытаясь не упустить какой-нибудь Знак. На Тридцать седьмой улице я замечаю церквушку. Поднимаюсь по ее ступеням и хочу войти внутрь, но дверь заперта. Бог, должно быть, спит сегодня до обеда. Я оглядываюсь по сторонам. По-прежнему никакого Знака. Я ищу кого-то мистического, вроде длинноволосого мужчины, который превращает воду в вино и держит в руках транспарант с надписью «Иисус Христос, наш Господь и Спаситель».
К черту костюм, я сажусь на ступеньку. На другой стороне улицы люди сторонятся девушки, которая стоит, покачиваясь из стороны в сторону. Она чернокожая, у нее высокая прическа афро и большие розовые наушники. Такие, с огромными амбушюрами, которые глушат посторонние звуки (а заодно и весь внешний мир). Ее глаза закрыты, а одна ладонь прижата к сердцу. Девушка в эйфории. Так она стоит всего лишь секунд пять, а потом открывает глаза, оглядывается по сторонам, втягивает голову в плечи, словно ей стало неловко за свое поведение, и продолжает путь. Что бы она ни слушала, должно быть, это нечто потрясающе, раз она умудрилась забыть обо всем прямо посреди шумной улицы в центре Нью-Йорка. Я чувствую себя так же, лишь когда сочиняю стихи… но ведь это бесполезное занятие…
Жизнь была бы куда проще, если бы я действительно мечтал о том будущем, которое мне прочат родители. Наверное, многие мечтают стать врачами: спасать жизни и все такое. Но ведь я понимаю, что это не мое…
Я смотрю вслед той девочке с наушниками. Она перевешивает рюкзак на другое плечо, и моему взору открывается белая надпись на ее кожаной куртке – «DEUS EX MACHINA» [9]. Бог из машины. Может, это и есть тот самый Знак, который я ищу?
Вообще-то никакой я не сталкер, и за этой девчонкой я следую без грязных целей. Я сохраняю между нами приличную дистанцию в полквартала. Она заходит в магазин с вывеской «Пластинки Второго пришествия». Я не шучу. Теперь я уверен: это определенно Знак, и я уже всерьез намерен довериться ветру. Хочу узнать, куда он меня приведет.
Наташа
Я НЫРЯЮ В МАГАЗИН ПЛАСТИНОК, надеясь скрыться от взглядов случайных прохожих, которые стали свидетелями моего странного поведения на улице. Я всего лишь наслаждалась моментом, растворившись в музыке. Песня Hunger Strike каждый раз берет меня за душу. Крис Корнелл поет припев так, словно его голод ничем не утолить.
Во «Втором пришествии» мало света, а в воздухе пахнет пылью и освежителем воздуха с запахом лимона – как обычно. С тех пор как я была здесь в последний раз, продавцы поменяли выкладку. Раньше пластинки были рассортированы по десятилетиям, а теперь – по жанрам. В каждом разделе – альбом с постером, ставший символом целой эпохи: гранж представлен альбомом Nevermind группы Nirvana, трип-хоп – Blue Lines группы Massive Attack, а рэп – Straight Outta Compton коллектива N. W. A.
Я могла бы провести здесь целый день. Если бы сегодняшний день не был Сегодняшним, я бы непременно провела его здесь. Но у меня нет ни времени, ни денег. Я как раз направляюсь к полке трип-хопа, когда внезапно вижу парочку, обжимающуюся в секции поп-див в самом дальнем углу магазина, рядом с постером альбома Мадонны Like a Virgin. Они целуются взасос, поэтому разглядеть их лица я не могу, но профиль этого парня мне хорошо знаком. Это мой бывший, Роб. Его партнерша по лобызаниям – Келли, та самая девчонка, с которой он мне изменил.
Почему из всех людей, с которыми я могла столкнуться сегодня, я, как назло, столкнулась именно с ними? Почему Роб не в школе? Он знает, что это мое место. Он даже не любит музыку. Мамин голос звенит у меня в ушах: «Всему есть свои причины, Таша». Я так не думаю, но все равно, должно же быть какое-то логическое объяснение всей чудовищности этого дня. Как жаль, что Бев сейчас не со мной. Если бы она была рядом, я бы даже не зашла в этот магазин. «Скучное старье», – сказала бы она. Вместо этого мы бы, вероятно, тусовались на Таймс-сквер, наблюдая за туристами и по их одежде пытаясь определить, откуда они приехали. Немцы, например, обычно надевают шорты в любую погоду.
Роб и его девчонка поедают друг друга глазами, и этот факт сам по себе достаточно омерзителен, но вдруг я вижу, как Келли протягивает руку к пластинкам, берет одну, прячет ее между их телами, а затем незаметно убирает под свою объемную и идеально подходящую для воровства куртку.
Не. Может. Быть.
Я бы лучше выжгла себе глаза, чем продолжала на это смотреть, но я смотрю. На самом деле я поверить не могу в то, что вижу. Они сосутся еще несколько секунд, а потом ее рука снова тянется за диском.
– О боже, что за мерзость. Почему они такие мерзкие? – Эти слова непроизвольно срываются с языка. Как и у моей мамы, у меня есть привычка думать вслух.
– Она что, просто украдет это? – звучит за моей спиной не менее удивленный голос. Я быстро бросаю взгляд через плечо, чтобы посмотреть, кто там стоит.
Оказывается, это парень азиатской внешности в сером костюме и нелепом ярко-красном галстуке. Я снова поворачиваюсь к Робу и Келли, которые еще не закончили свои делишки.
– Здесь что, никто не работает? Они разве не видят, что происходит? – обращаюсь я скорее к себе, нежели к незнакомцу.
– Разве мы не должны что-то сказать?
– Им? – Я показываю на парочку.
– Может, продавцам?
Я качаю головой, не глядя на него.
– Я их знаю.
– Липкие Пальчики – это твоя подруга? – В его голосе слышится упрек.
– Она девушка моего парня.
Красный Галстук переводит взгляд с парочки на меня.
– То есть? – удивляется он.
– То есть бывшего парня. Вообще-то, он мне с ней изменил.
Наверное, увидев Роба, я растерялась. Иначе зачем я рассказала всю эту историю какому-то незнакомцу. Красный Галстук снова смотрит на них:
– Отличная парочка: изменщик и воришка.
Я усмехаюсь.
– Мы должны кому-нибудь об этом сказать, – настаивает Красный Галстук.
Я качаю головой:
– Нет уж. Без меня.
– Когда нас много, мы сила, – парирует он.
– Если я их сдам, это будет выглядеть так, будто я ревную Роба и хочу ему напакостить.
– А ты ревнуешь?
Я снова смотрю на него. Этот парень мне явно сочувствует.
– Вроде это мое личное дело, не так ли, Красный Галстук?
– Ну, раз уж мы заговорили… – Он пожимает плечами.
– Нет, – отвечаю я и снова смотрю на воришек. Роб, почувствовав мой взгляд, поворачивается, а я не успеваю отвернуться.
– Ну, зашибись, – шепчу я себе под нос.
Роб улыбается своей фирменной глуповатой полуулыбкой и машет мне. Я так сильно хочу показать ему средний палец, но сдерживаюсь. Как я вообще встречалась с ним целых восемь месяцев и четыре дня? Как я могла позволить этой свинье держать меня за руки и целовать? Я поворачиваюсь к Красному Галстуку:
– Он что, идет сюда?
– Похоже на то.
– Может, нам начать целоваться, или что там шпионы обычно делают в кино в такие моменты? – предлагаю я.
Красный Галстук заливается румянцем.
– Шучу, – говорю я с улыбкой.
Он ничего не отвечает, только краснеет еще сильнее – краска просто заливает его лицо. Пока Красный Галстук собирается с духом, чтобы ответить, Роб подходит к нам.
– Привет, – улыбается он.
У Роба глубокий успокаивающий баритон, и я просто обожала этот его голос. Еще он похож на Боба Марли в юные годы, только белокожий и без дредов.
– Почему вы с этой девушкой крадете пластинки? – начинает говорить Красный Галстук, прежде чем я успеваю что-то ответить.
Роб поднимает ладони и отступает на шаг назад.
– Притормози, приятель. Говори потише. – Глуповатая полуулыбка снова появляется на его глуповатом лице.
Красный Галстук повышает голос:
– Этот магазин принадлежит семье. Вы крадете у простых людей. Вам известно, как сложно маленьким компаниям удержаться на плаву, когда такие, как вы, просто берут и выносят товар из магазина?
Красный Галстук кипит от негодования, и, кажется, Робу даже немного стало стыдно.
– Не смотри туда. Похоже, твоя девушка спалилась, – говорю я.
Двое продавцов что-то с негодованием шепчут Келли, похлопывая ее по куртке. Глуповатая улыбочка наконец-то сходит с глуповатого лица Роба. Вместо того чтобы поспешить на помощь Келли, он засовывает руки в карманы и, ускоряя шаг, направляется к выходу. Келли зовет его, но Роб не останавливается. Один из продавцов грозится вызвать полицию. Келли умоляет его не делать этого и вынимает из-под куртки две пластинки. У нее хороший вкус, ведь она стащила альбомы групп Massive Attack и Portishead. Сотрудник выхватывает пластинки у нее из рук:
– Если еще раз увижу тебя тут, вызову полицию.
Она бросается к выходу из магазина, пытаясь докричаться до Роба.
– Что ж, забавно получилось, – говорит Красный Галстук, когда Келли исчезает из виду. Он широко улыбается и, довольный, смотрит на меня. Внезапно у меня возникает дежавю. Мне кажется, я была здесь прежде. Я уже видела где-то эти сияющие глаза и эту улыбку. Я даже говорила с этим парнем.
Но потом чары рассеиваются. Он протягивает мне руку:
– Даниэль.
У него большая, теплая, мягкая рука, и он задерживает мою ладонь в своей чуть дольше положенного.
– Приятно познакомиться, – отвечаю я и вытягиваю руку У него приятная, действительно приятная улыбка, но у меня нет времени на парней в костюмах с приятными улыбками. Я надеваю наушники. Он все еще ждет, когда я назову ему свое имя.
– Всего хорошего, Даниэль, – прощаюсь я и выхожу из магазина.
Даниэль Потенциальный Казанова жмет руку симпатичной девушке, предлагая ей жилищный кредит под умеренную процентную ставку
Я ЖМУ ЕЙ РУКУ. Я в костюме и галстуке – жму ей руку. Я что – банкир? Кто, знакомясь с симпатичной девушкой, жмет ей руку? Чарли бы сказал ей что-нибудь подкупающее. Они бы пошли пить кофе в какое-нибудь уютное романтичное место в полумраке. Она бы уже мечтала о младенцах – наполовину корейских, наполовину афроамериканских.
Наташа
НА УЛИЦАХ БОЛЬШЕ народу, чем было раньше. Толпа состоит из туристов, которые слишком далеко ушли от Таймс-сквер, и работающих людей Нью-Йорка, которые мечтают, чтобы туристы поскорее вернулись на эту свою Таймс-сквер. Чуть дальше по улице я вижу Роба и Келли. Я замираю на мгновение, чтобы посмотреть на них. Она плачет, а Роб, вне всяких сомнений, пытается заверить ее, что он не подлый урод. Есть подозрение, что ему это удастся. Роб очень убедителен, а она хочет, чтобы ее убедили.
В прошлом году мы с ним сидели вместе на физике. Я обратила на него внимание только потому, что он попросил меня помочь ему разобраться в теме изотопов и периода полураспада. По физике я отличница. На следующей неделе он успешно написал контрольную, после чего и пригласил меня в кино. Он стал моим первым парнем, до этого я ни с кем не встречалась, и мне очень нравилось быть с ним: ждать его у шкафчика в перерывах между занятиями, обсуждать планы на выходные… Мне нравилось, что нас называли парой, нравилось устраивать двойные свидания с Бев и Дерриком. И, как бы ни было теперь противно это признавать, мне нравился он. Когда Роб мне изменил, я сильно обиделась. Мне было больно от того, что меня предали, и почему-то стыдно. Как будто это я была виновата в его измене. Но я до сих пор не могла понять, зачем же он притворялся и продолжал со мной встречаться? Почему просто не порвал со мной и не начал встречаться с Келли?
Одно радует – я все же довольно быстро сумела его забыть, хотя это меня настораживает. Куда делась любовь?
Люди всю жизнь проводят в поисках любви. О любви пишут стихи, песни и целые романы. Но как можно доверять каким-то там чувствам, которые способны пропасть так же внезапно, как и появились?
Период полураспада Теория
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА ВЕЩЕСТВА – это промежуток времени, за которое оно теряет половину от своей исходной величины. В ядерной физике это период, за который нестабильные ядра теряют половину энергии за счет излучения. В биологии это время, которое требуется для полувыведения вещества (воды, алкоголя, лекарства) из тела. В химии это время, необходимое для того, чтобы превратить половину участвующего в реакции вещества (к примеру, водорода или кислорода) в субстанцию (воду). В любви это тот период, по прошествии которого влюбленные испытывают только половину того, что чувствовали раньше. Когда Наташа размышляет о любви, она имеет в виду, что ничто не вечно. Как и у водорода-7, лития-5 или бора-7, у любви бесконечно малый период полураспада, который просто-напросто сходит на нет. И когда любовь исчезает, возникает ощущение, словно ее никогда и не было.
Даниэль
ДЕВУШКА, У КОТОРОЙ НЕТ ИМЕНИ, останавливается у пешеходного перехода впереди меня. Клянусь, я за ней не слежу. Нам просто по пути. Ее мегарозовые наушники на прежнем месте, и она снова покачивается в такт своей музыке. Я не вижу ее лица, но могу предположить, что глаза у нее закрыты. Она ждет, когда загорится зеленый свет, и теперь я прямо позади нее. Если бы она повернулась, она точно бы подумала, что я ее преследую. Машинам загорается красный, и девушка сходит с бордюра. Она невнимательна и не замечает, что парень на белом BMW собирается проехать на красный свет. Но я оказываюсь близко, хватаю ее за руку и резко отдергиваю назад. Наши ноги путаются, мы спотыкаемся друг о друга и падаем прямо на тротуар. Она приземляется на меня. Ее телефон оказался не таким удачливым – он падает прямо на асфальт. Несколько человек интересуются, все ли с нами в порядке, но многие просто стремительно обходят нас, словно мы всего лишь очередной предмет на полосе препятствий, имя которой – Нью-Йорк.
Девушка Без Имени поднимается на ноги и смотрит на свой телефон. Паутинка трещин расползлась по экрану.
– Какого. Черта! – говорит она, но ее вопрос больше похож на возмущение.
– Ты в порядке?
– Тот парень чуть не убил меня.
Я поднимаю глаза и вижу, что машина остановилась у обочины через квартал. Я готов пойти и наорать на водителя, но мне не хочется оставлять девушку одну.
– Ты в порядке? – спрашиваю снова.
– Знаешь, как долго у меня эта штука?
Сначала я думаю, что она имеет в виду свой телефон, но потом вижу, что она сжимает в ладони наушники. При падении они каким-то образом сломались. Одна из амбушюр болтается на кабеле, корпус треснул. У девушки такой вид, словно она вот-вот заплачет.
– Я куплю тебе другие.
Я не хочу, чтобы она плакала, но не потому, что я такой благородный. Чужая печаль заражает меня. Знаете, так бывает, когда один человек принимается зевать и все остальные повторяют за ним. Или когда кого-нибудь рвет, а вас выворачивает от запаха. Со мной происходит то же самое, когда дело касается слез, но я не намерен плакать на глазах у симпатичной девушки, чьи наушники только что сломал.
Наверное, в глубине души ей хочется принять мое предложение, но я уже знаю, что она откажется. Девушка поджимает губы и качает головой.
– Это самое малое, что я могу сделать, – добавляю я.
Наконец она смотрит на меня:
– Ты уже спас мне жизнь.
– Ты бы не умерла. Может, тебя бы немножко покалечило.
Я пытаюсь рассмешить ее, но ничего не выходит. Ее глаза полны слез.
– В моей жизни еще не было дня хуже, чем этот, – произносит она.
Я отворачиваюсь, чтобы она не увидела, как я тоже начинаю плакать.
Дональд Кристиансен История денег
ДОНАЛЬД КРИСТИАНСЕН ЗНАЕТ ЦЕНУ бесценным вещам. Он помнит актуарные таблицы наизусть. Он знает, сколько будет стоить человеческая жизнь, случись авиакатастрофа, автомобильная авария или происшествие на горнодобывающем предприятии. Ему все это известно, потому что когда-то он работал страховым актуарием. Высчитывал цену нежеланного и неожиданного. Например, если случайно наехать на невнимательную семнадцатилетнюю девушку, цена ее жизни будет значительно ниже, чем цена жизни его собственной дочери, сбитой насмерть водителем, который писал сообщение за рулем. Когда ему сообщили о дочери, в первую очередь он подумал о размере суммы, которую выплатит страховая компания виновника.
Он притормаживает у обочины, включает аварийку и опускает голову на руль. Касается фляжки, которая лежит во внутреннем кармане его пальто.
Можно ли вообще оправиться от подобного горя? Наверное, нет. Прошло два года, но оно не оставило его и, похоже, не собиралось уходить до тех пор, пока все не отнимет. Горе лишило его брака, улыбок, хорошего аппетита, крепкого сна и эмоций. Горе лишило его способности оставаться трезвым. Поэтому только что он чуть не сбил Наташу.
Дональду неизвестно, что именно пыталась сообщить ему Вселенная, отняв у него единственную дочь, но понял он одну простую истину: невозможно назначить цену всем потерям. И еще одну: все твои будущие истории могут быть уничтожены в один момент.
Наташа
КРАСНЫЙ ГАЛСТУК ОТВОДИТ ВЗГЛЯД. Похоже, парень вот-вот заплачет, и это нелепо. Он предлагает купить мне новые наушники. Даже если я позволю, никакие наушники мира не заменят мне мои старые. Они появились у меня сразу после того, как мы переехали в Америку. Когда отец подарил их мне, он все еще надеялся исполнить свою мечту. Он все еще пытался убедить маму, что наш переезд и решение навсегда покинуть родную страну, друзей и родственников в итоге оправдают себя.
Папа планировал добиться успеха. Он собирался воплотить американскую мечту, о которой грезят даже сами американцы. Он пытался убедить маму, используя и нас с братом. Он покупал нам подарки в рассрочку – вещи, которые были нам не по карману. Если мы с ним были здесь счастливы, тогда, возможно, переехали все же не зря. Но мне было все равно, чем он руководствовался, покупая подарки. Эти чересчур дорогие наушники стали моей самой любимой вещью: любимый цвет, высокое качество звука – для настоящих меломанов. Они были моей первой любовью. Им известны все мои секреты. Они знают, как сильно я когда-то боготворила отца. А теперь ненавижу себя за то, что перестала.
Когда-то – мне кажется, так давно – я обожала папу. Он будто был экзотической планетой, а я – его любимым спутником. Но он не планета, разве что последний угасающий луч мертвой звезды. А я не спутник. Я космический мусор, уносящийся от него как можно дальше.
Даниэль
Я НЕ ПРИПОМНЮ, чтобы когда-нибудь обращал на кого-нибудь внимание так же, как на нее. Ее волосы пропускают солнечный свет и из-за этого похожи на нимб, сияющий вокруг ее головы. Тысяча эмоций отражается на ее лице. У нее большие черные глаза с длинными ресницами. Могу представить, как приятно смотреть в них долго-долго. Прямо сейчас они потускнели, но я точно знаю, как они сверкают, когда она смеется. Интересно, смогу ли я рассмешить ее. Ее кожа – теплого сияющего коричневого оттенка. Губы – розовые и полные, и я, вероятно, уже чересчур долго на них пялюсь. К счастью, она слишком расстроена, чтобы заметить, какой я убогий (и озабоченный) урод.
Она отрывает взор от сломанных наушников. Когда наши взгляды встречаются, у меня возникает дежавю, только мне не кажется, что со мной все это происходило в прошлом. Мне кажется, будто я переживаю события, которые произойдут в будущем. Я вижу нас в старости. Не могу разобрать наших лиц; не знаю, где и когда все происходит. Но я испытываю странное и радостное чувство, которое не могу описать. Я словно давно знаю наизусть слова песни, но до сих пор считаю их прекрасными и удивительными.
Наташа
Я ПОДНИМАЮСЬ НА НОГИ и отряхиваюсь. Этот день просто не может стать еще хуже. Должен же он когда-нибудь закончиться.
– Ты что, следил за мной? – спрашиваю я Даниэля. Я веду себя слишком капризно и придираюсь к человеку, который только что спас мне жизнь.
– Боже, я знал, что ты так подумаешь.
– Ты совершенно случайно оказался прямо у меня за спиной? – Я вожусь с наушниками, пытаясь как-то прикрепить амбушюр, но все тщетно.
– Возможно, мне суждено было спасти твою жизнь сегодня, – заявляет он.
Эти слова я игнорирую.
– Ладно, спасибо за помощь, – говорю, собираясь уходить.
– Хотя бы скажи мне, как тебя зовут, – выпаливает он.
– Красный Галстук…
– Даниэль.
– Ладно, Даниэль. Спасибо, что спас меня.
– Довольно длинное имя. – Он все еще смотрит на меня. Не сдастся, пока я не отвечу.
– Наташа.
Похоже, он снова собирается пожать мне руку, но вместо этого засовывает обе руки в карманы.
– Милое имя.
– Рада, что ты одобряешь, – произношу я с нескрываемым сарказмом.
Он больше ничего не говорит, а только смотрит, слегка нахмурившись, словно пытается что-то понять. Наконец я не выдерживаю и спрашиваю:
– Чего ты на меня так пялишься?
Он снова заливается румянцем, и теперь уже я пристально наблюдаю за ним. Забавно дразнить его только затем, чтобы он покраснел. Мой взгляд блуждает по заостренным чертам его лица. Он классически красив. Его красоту даже можно назвать изысканной. В этом костюме я могу представить его персонажем черно-белой голливудской романтической комедии, который обменивается остроумными репликами с героиней. У него светло-карие, глубоко посаженные глаза. Мне кажется, что он часто улыбается. Не знаю, как я это поняла. Его густые черные волосы собраны в хвостик. Очевидный факт: этот хвостик делает его сексуальным.
– Теперь ты пялишься, – говорит он мне.
Настает мой черед краснеть. Я откашливаюсь:
– Почему ты в костюме?
– У меня сегодня собеседование. Не хочешь чего-нибудь перекусить?
– С какой целью?
– В Йельском университете. С выпускником. Заблаговременно подал документы.
Я качаю головой:
– Нет, я имела в виду, с какой целью ты хочешь чего-нибудь перекусить?
– Я голоден, – говорит он так, словно не вполне уверен.
– Гм. А я нет.
– Тогда кофе? Или чай, или содовая, или фильтрованная вода?
– Зачем? – спрашиваю я, осознав, что отступаться он не собирается.
Он пожимает плечами, но глаз не отводит.
– Почему нет? И вообще… я уверен, что твоя жизнь сейчас принадлежит мне, ведь я только что ее спас.
– Поверь, – отвечаю я, – тебе не нужна такая жизнь.
Даниэль
МЫ ОСТАВЛЯЕМ ПОЗАДИ два длинных квартала и движемся на запад, по направлению к Девятой авеню. На своем пути мы встречаем около трех кофеен. Две из них относятся к одной и той же сети (вы видели когда-нибудь человека, который макает пончик в кофе?[10]). Я останавливаю свой выбор на несетевом, независимом кафе – нужно поддерживать маленькие заведения.
Мебель тут вся из красного и темного дерева и стоит привычный запах кофе. Это заведение очень необычное. Представьте себе: на стене висит несколько написанных маслом картин, на которых изображены кофейные зерна. Кто бы знал, что существуют портреты кофейных зерен? Кто бы мог подумать, что зерна могут выглядеть такими одинокими?
Здесь нет почти никого, кроме нас, поэтому у троих бариста за барной стойкой довольно скучающий вид. Я пытаюсь взбодрить их и заказываю сложносочиненный коктейль в несколько слоев, с добавлением молока разной жирности, карамели и ванильного сиропа. Но их настроение не меняется.
Наташа заказывает черный кофе без сахара. Наверное, по этому заказу что-то можно сказать о ее характере. Я уже собираюсь высказать ей свое мнение по этому поводу, но понимаю, что она может воспринять мои слова как расистскую шутку, а это будет очень плохим началом наших отношений (по шкале от Наименее Плохого до Чрезвычайно Плохого; где полная шкала – это Наименее Плохое, Относительно Плохое, Плохое, Очень Плохое и Чрезвычайно Плохое). Она намерена заплатить за нас обоих – по ее словам, это самая ничтожная благодарность за спасенную жизнь. Мой напиток стоит 6,38 доллара, и я намекаю ей, что цена спасения жизни равна по меньшей мере двум замысловатым кофейным коктейлям. Она даже не улыбается.
Я выбираю столик в задней части кофейни, как можно дальше от мира. Как только мы усаживаемся, Наташа достает телефон, чтобы посмотреть на время. Он работает, несмотря на трещины экране. Она проводит по ним большим пальцем и вздыхает.
– Тебе куда-то нужно идти? – спрашиваю я.
– Да, – отвечает она, выключая телефон.
Я жду продолжения, но она не собирается вдаваться в подробности. Ей интересно, хватит ли у меня смелости приставать к ней с расспросами, но сегодня я уже исчерпал свой лимит дерзостей (1 = преследовал симпатичную девушку, 2 = орал на бывшего парня симпатичной девушки, 3 = спасал жизнь симпатичной девушки, 4 = приглашал симпатичную девушку попить кофе).
Мы сидим в крайне неуютной тишине ровно тридцать три секунды. Я настроен чересчур самокритично, как бывает, когда познакомишься с кем-нибудь и очень хочешь понравиться. Я словно вижу все свои действия со стороны, ее глазами. Не получился ли этот жест слегка придурковатым? Мои брови совсем уползли с лица? Эта полуусмешка сексуальна или я выгляжу так, словно меня хватил сердечный удар?
Я нервничаю, поэтому перегибаю палку. Я дую на свой кофе, делаю глоток, помешиваю его, я играю роль настоящего подростка, который пьет настоящий напиток под названием «кофе». Я слишком сильно дую на него, и кофейная пенка разлетается по сторонам. Офигенно крутой парень. Я бы точно стал с собой встречаться (на самом деле – нет). Сложно сказать, но, судя по всему, она все-таки слегка улыбнулась, увидев эту клоунаду.
– Все еще радуешься тому, что спас мне жизнь? – спрашивает она.
Я делаю большой глоток и обжигаю не только язык, но и все горло до самого пищевода. Господи боже. Может, это знак, что мне пора сдаться? Я определенно не тот, кому суждено произвести впечатление на эту девушку.
– Мне нужно сожалеть об этом? – спрашиваю в свой черед.
– Я не сильно мила по отношению к тебе.
Она прямолинейна, поэтому я тоже решаю говорить прямо.
– Это правда. Но у меня нет машины времени, чтобы вернуться в прошлое и поступить иначе, – заявляю я серьезно.
– А ты бы так сделал? – интересуется она, слегка нахмурившись.
– Разумеется, нет, – поспешно отвечаю я. Она меня что, совсем уродом считает?
Извинившись, она удаляется в туалет. Чтобы не сидеть с бесцветным видом, когда она вернется, я вынимаю свой блокнот и приступаю к работе над стихотворением. Я все еще пишу, когда она возвращается.
– О нет, – со стоном произносит она, садясь.
– Что? – спрашиваю.
Она жестом показывает на блокнот:
– Только не говори, что ты поэт.
Ее глаза улыбаются, но я все равно быстро закрываю блокнот и убираю в карман пиджака. Может, не такая и хорошая была идея. Что я вообще себе придумал со всей этой чушью про «перевернутое» дежавю? Я просто пытаюсь отсрочить свое будущее. Как и желают того мои родители, я женюсь на прелестной американке корейского происхождения. В отличие от Чарльза, я ничего не имею против корейских девушек. Он говорит, это не его типаж, но я не совсем понимаю, что значит типаж. Мой типаж – девушки. Все. С чего мне ограничивать круг знакомств? Я стану чудесным врачом, буду хорош в постели и совершенно счастлив.
Но почему-то, глядя сейчас на Наташу, я начинаю думать, что моя жизнь может пойти не по плану. Пусть она нахамит мне, и тогда мы разойдемся по своим дорогам. Не представляю, как мои родители (особенно папа) примирятся с тем фактом, что я встречаюсь с чернокожей девушкой.
И все-таки я предпринимаю еще одну, последнюю попытку:
– А что бы сделала ты, если бы у тебя была машина времени?
Впервые за все то время, что мы сидим здесь, она не кажется раздраженной или скучающей. Наморщив лоб, Наташа подается вперед:
– А она сможет отправить меня в прошлое?
– Разумеется. Это же машина времени, – говорю я.
Она смотрит на меня так, чтобы я понял, как много о ней не знаю.
– Путешествие в прошлое – дело затруднительное.
– Допустим, мы нашли способ преодолеть все затруднения. Что бы ты сделала?
Она ставит свой кофе на столик, скрещивает руки на груди. У нее загораются глаза.
– И мы не принимаем во внимание парадокс дедушки?
– Нисколько, – говорю я, делая вид, что догадываюсь, о чем она говорит, но ей удается меня раскусить.
– Ты не знаешь, что такое парадокс дедушки?
Она кажется ошеломленной, словно я упустил какие-то основополагающие знания о мире (например, о том, как делают детей). Она что, любительница научной фантастики?
– Нет, – признаю я.
– Ну хорошо. Предположим, у тебя есть живой злобный дедушка.
– Он умер. Я видел его всего один раз, в Корее. Он показался мне милым.
– Ты кореец? – спрашивает она.
– Американский кореец. Родился здесь.
– А я с Ямайки. Родилась там.
– Но у тебя нет акцента.
– Я здесь уже довольно давно. – Она сжимает чашку крепче, и я чувствую, что Наташе становится грустно.
– Расскажи мне об этом парадоксе, – напоминаю я, пытаясь отвлечь ее.
Это срабатывает – она вновь оживает.
– Ладно. Да. Допустим, твой дедушка жив и он злобный.
– Живой и злобный, – говорю я, кивая.
– Он действительно очень плохой человек, поэтому ты изобретаешь машину времени и возвращаешься в прошлое, чтобы его убить. Предположим, ты убиваешь его до того, как он познакомился с твоей бабушкой. Это будет значить, что один из твоих родителей никогда не родится и ты никогда не родишься, поэтому ты не сможешь вернуться назад в прошлое и убить его. Но! Если ты убьешь его после того, как он познакомился с твоей бабушкой, тогда ты родишься и изобретешь машину времени, чтобы вернуться в прошлое и убить его. Так будет продолжаться вечно.
– Хм. Да, мы определенно не станем принимать это во внимание.
– И принцип самосогласованности Новикова тоже, да?
Она сразу показалась мне симпатичной, но теперь выглядит еще прелестнее. Ее лицо воодушевлено, волосы пружинят, а глаза искрятся. Жестикулируя, она рассказывает об исследователях в Массачусетском технологическом институте и случайностях, призванных разрешить парадоксы.
– Так что теоретически ты не сможешь убить своего дедушку, потому что ружье даст осечку именно в этот момент или у тебя случится сердечный приступ…
– Или симпатичная ямайская девушка войдет в комнату и сразит меня наповал.
– Да. Произойдет нечто странное и неправдоподобное, чтобы невозможное не смогло случиться.
– Bay, – говорю я снова.
– Это не просто «вау», – говорит она с улыбкой.
Это и впрямь не просто «вау», но я не могу придумать никакого мало-мальски толкового или остроумного ответа. Мне трудно думать и смотреть на нее в одно и то же время.
Есть такое японское выражение, которое мне по душе: koi no yokan[11]. Оно про любовь, но не с первого взгляда, а скорее со второго. Когда, встретив кого-то, чувствуешь, что влюбишься в него. Может, сразу ты и не влюбляешься, но это неизбежно.
Вот что сейчас происходит со мной, я уверен. Но есть одна небольшая (и, вероятно, непреодолимая) проблема: это не взаимно.
Наташа
Я НЕ РАССКАЗЫВАЮ Красному Галстуку всю правду о том, как бы я поступила с машиной времени, если бы у меня была таковая.
Я бы вернулась в прошлое и сделала так, чтобы самый великий день в жизни моего отца вообще не наступил. Это невероятно эгоистично, но именно так я бы поступила, чтобы мое будущее не было стерто.
Вместо этого я вдаюсь в научные объяснения. Когда я заканчиваю, он смотрит на меня так, будто влюбился. Оказывается, он никогда не слышал ни о парадоксе убитого дедушки, ни о принципе самосогласованности Новикова, и это меня удивляет. Наверное, я ожидала, что он окажется ботаником, ведь он азиат, и думать так, конечно, паршиво с моей стороны, ведь сама я просто не выношу, когда другие строят на мой счет подобные предположения – например, что я люблю рэп или на «ты» со спортом. Надо сказать, только одно из этих утверждений верно.
Помимо того что меня сегодня высылают из страны, я, если честно, не подхожу на роль девушки, в которую можно влюбиться. Во-первых, я не терплю ничего временного и бездоказательного, а романтическая любовь как раз и то и другое. Во-вторых, есть одна мысль, которую я держу в тайне: я не уверена, что способна любить. Даже временно. Когда я была с Робом, я ни разу не ощущала того, что описывают в песнях. Не чувствовала дрожь в коленках, не растворялась в любимом всецело. Не нуждалась в нем так, как нуждаются в воздухе. Он мне нравился, правда. Мне нравилось на него смотреть. Нравилось целовать его. Но я всегда знала, что смогу без него прожить.
– Красный Галстук, – говорю я.
– Даниэль, – настаивает он.
– Не надо в меня влюбляться, Даниэль.
Он чуть не давится своим кофе.
– А кто сказал, что я собираюсь?
– Тот маленький черный блокнотик, в котором ты что-то писал. И твое лицо. Твое открытое лицо сказало мне об этом.
Он снова краснеет – похоже, это его естественное состояние.
– А почему не надо-то? – спрашивает он.
– Потому что я в тебя не влюблюсь.
– Откуда ты знаешь?
– Я не верю в любовь.
– Это не религия, – говорит он. – Она существует вне зависимости от того, веришь ты в нее или нет.
– О, неужели? Ты можешь доказать, что она существует?
– Песни о любви. Поэзия. Институт брака.
– Да брось. Слова на бумаге. Ты можешь применить к любви научный метод? Можешь изучить ее путем наблюдения, измерить, поставить над ней опыт и повторить его? Нет. Можешь расчленить ее, и окрасить, и рассмотреть под микроскопом? Нет. Можешь вырастить ее в чашке Петри или установить нуклеотидную последовательность ее гена?
– Нет, – произносит он, подражая моему тону, и смеется.
Я тоже не могу удержаться от смеха. Порой я воспринимаю себя чуточку серьезнее, чем нужно. Он подхватывает ложкой кофейную пену и съедает ее.
– Ты говоришь, это просто слова на бумаге, но ты должна признать, что все эти люди что-то чувствуют.
Я киваю:
– Нечто временное и совершенно не поддающееся измерению. Людям просто хочется верить. Иначе им пришлось бы признать, что жизнь – это просто случайная последовательность хороших и плохих событий, которые происходят с тобой до самой смерти.
– И тебе нравится думать, что у жизни нет смысла?
– А какие у меня варианты? Такова жизнь.
Он съедает еще одну ложку пены и снова смеется.
– Так, значит, никакого рока, никакой судьбы, предназначения?
– Я же не настолько наивна, – отвечаю я, довольная собой больше, чем следовало бы.
Он ослабляет галстук и отклоняется назад на стуле, балансируя на двух ножках. Прядь волос выбивается из его хвостика, и он заправляет ее за ухо. Мой цинизм вовсе не отталкивает его – напротив, ему вполне комфортно. Он как будто даже повеселел.
– Едва ли я встречал кого-нибудь, кто столь же мило заблуждается, – произносит он так, словно считает меня диковинным предметом.
– И ты находишь это привлекательным? – спрашиваю я.
– Это любопытно, – отвечает он.
Я окидываю взглядом зал. Посетителей стало больше, а я и не заметила. Люди выстроились в очередь у барной стойки в ожидании своих заказов. Из колонок доносится песня Yellow Ledbetter группы Pearl Jam – еще одного моего любимого коллектива девяностых, играющего гранж-рок. Я ничего не могу с собой поделать. Я должна закрыть глаза, чтобы послушать, как Эдди Веддер неразборчиво поет припев.
Когда я снова их открываю, Даниэль непрерывно смотрит на меня. Он подается вперед, и его стул снова встает на четыре ножки.
– А что, если я скажу, что сумею влюбить тебя в себя научным методом?
– Это будет смешно, – только и отвечаю я.
Множественные миры Квантовая история
ОДНИМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ парадокса убитого дедушки является теория множественных миров, первоначально предложенная Хью Эвереттом. Согласно этой теории, есть альтернативные вселенные, в которых существуют различные версии нашего прошлого и будущего. В момент любого события на квантовом уровне нынешняя Вселенная распадается на множественные вселенные. Например, в этой Вселенной ты делаешь один выбор, но в бесконечном числе других поступаешь иначе. Эта теория выдвигает гипотезу о различных вселенных, в которых существуют все возможные исходы, и тем самым сводит на нет гипотезу о злобном дедушке.
Таким образом мы можем проживать множество жизней.
Где-то есть вселенная, в которой Сэмюэль Кингсли не перечеркнет жизнь своей дочери. В другой вселенной он тоже сделает это, но Наташе удастся все исправить. А в третьей вселенной у нее ничего не выйдет.
Наташа не знает, в какой из вселенных она сейчас живет.
Даниэль Местный парень использует науку, чтобы влюбить в себя девушку
Я НЕ ШУТИЛ, говоря о научном подходе к любви. В «Нью-Йорк тайме» даже печатали статью на эту тему. Один исследователь посадил двух человек в лабораторию и попросил их задать друг другу определенный набор вопросов личного характера. Вдобавок к этому они должны были молча смотреть друг другу в глаза в течение четырех минут. Я совершенно уверен, что прямо сейчас не смогу уговорить Наташу повторить эксперимент с гляделками.
По правде говоря, прочитав ту статью, я отнесся к ней с недоверием. Нельзя же просто заставить людей влюбиться друг в друга, верно? Любовь намного сложнее. Недостаточно просто выбрать двух человек, попросить их задать друг другу вопросы, благодаря которым между ними внезапно расцветет любовь. Луна и звезды в этом тоже замешаны. Я уверен. И тем не менее.
Согласно статье, в результате эксперимента двое подопытных и впрямь влюбились друг в друга и поженились. Не знаю, удалось ли им сохранить этот брак. (В общем-то, и не хочу знать, и вот почему. Если они действительно жили долго и счастливо, тогда любовь менее загадочна, чем я полагаю, и ее правда можно вырастить в чашке Петри. А если они разошлись, тогда любовь действительно скоротечна, как утверждает Наташа.)
Я достаю телефон и ищу в интернете те самые личные вопросы. Всего их тридцать шесть. По большей части они довольно примитивны, но некоторые из них очень даже неплохие. Мне нравится вот эта фишка с гляделками.
Иногда науке можно довериться.
Наташа
ОН РАССКАЗЫВАЕТ МНЕ о каком-то исследовании, что-то про лабораторию, вопросы и любовь. Я отношусь к этому скептически, о чем и заявляю вслух. Хотя я немного заинтригована, все же в этом не признаюсь.
– Каковы пять основных слагаемых любви? – спрашивает он.
– Я не верю в любовь, помнишь? – Я беру ложку и мешаю кофе, несмотря на то что размешивать в моей чашке совершенно нечего.
– Так о чем же тогда поется в песнях о любви?
– Все просто, – говорю я. – Похоть.
– А как же брак?
– Ну, влечение угасает, но есть дети, которых надо растить, и счета, которые надо оплачивать. В какой-то момент остаются просто дружба и взаимовыгодное существование на благо общества и нового поколения.
Песня кончается как раз в тот момент, когда я ставлю точку. Несколько мгновений слышно только, как звякают стаканы и как бариста вспенивают молоко.
– Bay, – произносит он, размышляя над моими словами.
– Ты часто это говоришь, – замечаю я.
– Я совсем с тобой не согласен. – Он поправляет свой хвостик, не позволяя волосам упасть на лицо.
Очевидный факт: мне хочется увидеть, как волосы падают ему на лицо. Чем больше я общаюсь с ним, тем больше он мне нравится. Его искренность очаровательна, хотя обычно меня бесит это качество. Возможно, сексуальный хвостик сбивает меня с толку. Это же всего-навсего волосы, убеждаю я себя. Их функция – защищать голову от холода и ультрафиолетового излучения. В них нет ничего сексуального.
– И что же мы обсуждаем? – спрашивает он.
Я произношу «Науку» в тот же самый момент, когда он говорит «Любовь!», и мы оба смеемся.
– Так каковы слагаемые? – напоминает он мне свой вопрос.
– Взаимная выгода и совместимость в социально-экономическом плане.
– У тебя вообще есть душа?
– Нет никакой души, – утверждаю я.
Он смеется так, словно я шучу, а потом, осознав, что я говорю серьезно, произносит:
– Ну что ж, мои слагаемые – дружба, близость, духовная совместимость, физическое притяжение и икс-фактор[12].
– Что еще за икс-фактор?
– Не волнуйся. Это у нас уже есть.
– Рада слышать, – смеюсь я. – И все равно я не собираюсь в тебя влюбляться.
– Дай мне сегодняшний день. – Теперь он сама серьезность.
– Это не челлендж, Даниэль.
Он просто смотрит на меня своими прозрачными карими глазами и ждет ответа.
– Могу дать тебе час, – соглашаюсь я.
Он хмурится:
– Всего час? А что произойдет потом? Ты превратишься в тыкву?
– Потом у меня встреча, а после нее мне нужно вернуться домой.
– Что за встреча? – спрашивает он.
Вместо ответа я осматриваю кафе. Бариста объявляет номера готовых заказов. Одни люди смеются. Другие спотыкаются. Я снова помешиваю кофе, хоть это и не нужно.
– Я тебе не скажу.
– Ладно, – говорит он невозмутимо.
Он уже решил, что хочет меня завоевать. Наверное, он очень упертый и терпеливый. Я уже почти восхищаюсь этими его качествами. Но он не знает, что завтра я стану гражданином другой страны. Завтра меня здесь уже не будет.
Даниэль
Я ПОКАЗЫВАЮ ЕЙ ВОПРОСЫ на своем телефоне, и мы начинаем спорить, какие выбрать. На все тридцать шесть у нас определенно не хватит времени. Она хочет забраковать четырехминутные гляделки, но так дело не пойдет. Это же мой главный козырь. Все мои бывшие девушки (ну хорошо, одна из моих бывших девушек – ну хорошо, у меня была всего одна девушка, которая теперь уже бывшая) с ума сходили от моих глаз. Грейс (вышеупомянутая чрезвычайно единственная в своем роде особа) говорила, что они похожи на драгоценные камни, а именно на дымчатый кварц (у нее было такое хобби – она делала всякие ювелирные украшения). Она рассказала мне о своем увлечении, когда мы впервые целовались у нее в комнате. И она прервала поцелуй только ради того, чтобы принести мне образец.
Итак, мои глаза похожи на кварц (дымчатый), и девчонки (по крайней мере одна) от них тащатся.
Вопросы поделены на три категории, причем в каждой последующей затрагиваются темы более личного характера. Наташа хочет придерживаться относительно поверхностных вопросов из первой категории, но я отвергаю эту идею.
Из первой категории (простой) мы берем следующие вопросы:
№ 1. Если бы ты мог выбрать любого человека в мире, кого бы ты пригласил на ужин в качестве своего гостя?
№ 2. Тебе бы хотелось стать знаменитым? Если да, то в какой области?
№ 7. Есть ли у тебя предположение насчет того, какая смерть тебя ждет?
Из второй категории (средней степени сложности):
№ 17. Какое самое дорогое для тебя воспоминание?
№ 24. Что ты можешь сказать о взаимоотношениях со своей матерью?
Из третьей категории (с каверзными личными вопросами):
№ 25. Пусть каждый из вас сделает по три правдивых утверждения, начинающихся со слова «мы». К примеру, «мы оба, сидящие в этой комнате, чувствуем…».
№ 29. Поделитесь с партнером каким-нибудь неловким эпизодом из своей жизни.
№ 34. Ваш дом, в котором находится все ваше имущество, горит. Вы спасаете близких людей и животных, а после у вас остается время на то, чтобы спасти одну вещь. Что это будет? Почему?
№ 35. Смерть кого из членов вашей семьи вы восприняли бы тяжелее всего? Почему?
В результате у нас набирается десять вопросов, потому что, по мнению Наташи, отвечая на двадцать четвертый вопрос, мы должны говорить об отношениях как с матерью, так и с отцом.
– Почему в проблемах детей чаще всего винят именно матерей? Отцы совершают ничуть не меньше ошибок. – Чувствуется, что она знакома с ситуацией не понаслышке.
– Мне пора, – произносит Наташа, бросив взгляд на телефон, затем поспешно отодвигает стул и слишком резко встает. Стол пошатывается, и чашка опрокидывается – Черт. Черт.
Чересчур острая реакция. Мне правда хочется расспросить ее про эту встречу и про ее отца. Во взгляде, который она бросает на меня, читается нечто среднее между признательностью и раздражением.
– Пойдем отсюда, – говорю я.
– Да, точно. Спасибо.
Я наблюдаю за тем, как она прокладывает себе путь к выходу через вереницу жаждущих кофе людей. Вероятно, мне не стоит таращиться на ее ноги, но они классные (на третьем месте в рейтинге из всех ног, что я видел). Мне хочется прикоснуться к ним почти так же сильно, как и продолжить наш разговор (может, чуточку сильнее), но она ни при каких условиях не позволит мне это сделать.
То ли она пытается сбросить меня с хвоста, то ли мы участвуем в каком-то соревновании по спортивной ходьбе, о котором я не подозреваю. Она проскакивает между двумя медлительными участниками «забега» и устремляется не по крытому строительному настилу, а снаружи, по проезжей части, чтобы не пришлось замедляться из-за людей. Может, мне стоит сдаться? Не знаю, почему я еще этого не сделал.
Вселенная явно пытается спасти меня от самого себя. Готов поспорить, что если бы я искал знаки, которые указывают на расставание, то я бы их нашел.
– Куда мы несемся? – спрашиваю я, когда мы останавливаемся перед пешеходным переходом. Стрижку, которую я планировал сделать, явно придется пока отложить. Уверен, людей с длинными волосами пускают в университеты.
– Я несусь на свою встречу, а ты увязался за мной.
– Да, так и есть, – говорю я, игнорируя ее не прозрачный намек.
Мы переходим дорогу и несколько минут молча шагаем бок о бок. Утро вступило в свои права. В нескольких магазинах открыли двери, удерживая их подпорками. На улице слишком холодно для того, чтобы включать кондиционеры, и слишком жарко, чтобы держать двери закрытыми. Уверен, мой отец тоже открыл дверь в своем магазине.
Мы проходим мимо ярко освещенной и на редкость переполненной витрины магазина электроники. Каждый предмет в ней помечен красным стикером со словом «РАСПРОДАЖА!». В городе сотни похожих друг на друга магазинов. Не могу взять в толк, как им удается избежать банкротства.
– Кто вообще сюда заходит? – удивляюсь я вслух.
– Те, кому нравится торговаться, – отвечает Наташа.
Через полквартала нам встречается еще один точно такой же магазин, и мы оба смеемся. Я достаю телефон:
– Итак. Ты готова отвечать на вопросы?
– А ты упертый, – говорит она, не глядя на меня.
– Настойчивый, – поправляю я ее.
Она притормаживает и поворачивается ко мне.
– Ты действительно считаешь, что если будешь задавать мне серьезные философские вопросы, то мы влюбимся друг в друга? – Она пальцами рисует в воздухе кавычки (о, как же мне не нравятся эти воздушные кавычки) вокруг слов серьезные философские и влюбимся.
– Воспринимай это как эксперимент, – парирую я. – Что ты там говорила о научном методе?
Она слегка улыбается.
– Ученые не должны ставить эксперименты на самих себе, – парирует она.
– Даже во имя всеобщего блага? Во имя знаний, которые станут достоянием человечества?
И в ответ на это Наташа уже громко хохочет.
Наташа
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАУКУ ПРОТИВ меня – довольно хитро. Четыре Очевидных факта: он фантастически глуп. И слишком оптимистичен. И слишком бесхитростен. И ему довольно неплохо удается меня рассмешить.
– Вопрос номер один довольно сложный, – говорит он. – Давай начнем со второго: тебе хотелось бы стать знаменитой, и если да, то в какой области?
– Ты первый.
– Я бы стал самым главным поэтом.
Ну разумеется. Очевидный факт: он безнадежный романтик.
– Ты был бы нищим, – сообщаю я ему.
– Нищ деньгами, богат словами, – тут же парирует он.
– Меня сейчас вырвет прямо на тротуар, – отвечаю я слишком громко, и женщина в костюме резко отклоняется в сторону, чтобы обойти нас.
– Я помогу тебе прийти в себя.
Правда, он слишком наивный.
– И чем же занимается главный поэт? – спрашиваю я.
– Дает мудрые поэтические советы. Именно ко мне приходили бы мировые лидеры со своими чудовищными философскими проблемами.
– И как бы ты их решил? Написал бы им стихотворение? – Скепсис в моем голосе сложно не заметить.
– Или прочел, – говорит он с еще более невозмутимым прямодушием.
Я делаю вид, что меня сейчас вырвет. Он слегка подталкивает меня плечом, а потом дотрагивается ладонью до моей спины, как бы удерживая меня от падения. Мне настолько приятно это прикосновение, что я немного ускоряю шаг, чтобы скорее отделаться от его руки.
– Циничной можешь быть ты сколь угодно, но жизнь спасти поэзия способна, – вдруг цитирует он какую-то строчку.
Я хочу убедиться в том, что он шутит, но его глаза говорят об обратном: он и впрямь верит в эту чушь. Как мило. И глупо. Но по большей части все же мило.
– А что насчет тебя? Какой славы хочешь ты? – спрашивает он.
Это простой вопрос.
– Я была бы великодушным диктатором.
Он смеется:
– Какой-то конкретной страны?
– Всего мира, – говорю я, и он снова смеется.
– Все диктаторы считают себя великодушными. Даже те, у кого в руках мачете.
– Уверена, этим как раз известно, что они жадные, кровожадные ублюдки.
– А ты не была бы такой?
– Нет. Чистое великодушие. Я бы решала, что хорошо и для кого и делала бы это.
– А вдруг то, что хорошо для одного человека, для другого добром не является?
Я пожимаю плечами:
– Невозможно сделать хорошо всем. Как мой главный поэт, ты мог бы утешить невезучих воодушевляющим стихотворением.
– В точку, – произносит он с улыбкой, затем снова вынимает телефон и начинает пролистывать вопросы.
Я бросаю быстрый взгляд на свой собственный телефон. На долю секунды трещина на экране приводит меня в недоумение, но потом я вспоминаю о своем недавнем падении. Ну что за день сегодня! Снова я задумываюсь о множественных вселенных и гадаю, есть ли такие, где мой телефон и наушники остались целы.
Есть вселенная, в которой я сейчас дома, собираю вещи, как хотела моя мама. Телефон с наушниками в порядке, но я не познакомилась с Даниэлем.
Есть вселенная, в которой я пошла в школу и спокойно сижу на уроке английского, не рискуя угодить под машину. И снова никакого Даниэля. В еще одной обезданиэленной вселенной я все же сходила в Службу гражданства и иммиграции США, но не встретила Даниэля в магазине пластинок, а следовательно, не задержалась, беседуя с ним. Я подошла к пешеходному переходу задолго до того, как там появился водитель BMW, и не возникло никакой почти аварии. Телефон с наушниками остались целы.
Конечно, существует бесконечное число этих вселенных, в том числе и та, где я все-таки встретила Даниэля, но он не сумел спасти меня на пешеходном переходе, и пострадали не только мои вещи. Вздохнув, я проверяю, сколько еще идти до конторы адвоката Фицджеральда. Двенадцать кварталов. Интересно, скольку будет стоить ремонт экрана. А может, мне вообще не понадобится чинить телефон. Вероятно, на Ямайке все равно придется купить новый.
Даниэль прерывает мои мысли, и я признательна ему за это. Мне не хочется думать о скором отъезде.
– Так, ладно, – говорит он. – Перейдем к вопросу номер семь. У тебя есть предположения относительно того, какая смерть тебя ждет?
– Если рассуждать с точки зрения статистики, чернокожая женщина, проживающая в Соединенных Штатах, вероятнее всего, скончается в возрасте семидесяти восьми лет от сердечной недостаточности.
Мы подходим к очередному пешеходному переходу, и Даэниэль тянет меня назад, чтобы я не стояла слишком близко к дороге. Его жест и моя реакция кажутся настолько привычными, словно это происходило с нами уже не раз. Он берет меня за куртку в районе локтя и едва заметно тянет на себя. Я отступаю назад, к нему, разрешая себе принять его защиту.
– Так значит, сердце перестанет тебя слушаться? – спрашивает он. На мгновение я забываю, что мы рассуждаем о смерти.
– Вероятнее всего, – говорю я. – Как насчет тебя?
– Убийство. На заправке, или в винном магазине, или типа того. Какой-то парень с пистолетом попытается совершить ограбление. Я начну геройствовать, но сделаю что-нибудь глупое, например опрокину пирамиду из банок с газировкой, из-за чего грабитель психанет и среднестатистическое ограбление по сценарию «руки вверх!» превратится в кровавую бойню. Одиннадцатичасовые новости.
– Значит, ты умрешь несостоявшимся героем? – смеюсь я.
– Пойду до конца, – отвечает он и тоже смеется.
Мы переходим дорогу.
– Сюда, – говорю я, увидев, что он продолжает идти прямо, вместо того чтобы свернуть направо. – Нам нужно добраться до Восьмой.
Он резко разворачивается, улыбаясь мне так, словно нас ждет грандиозное приключение.
– Погоди минутку. – Он сбрасывает с плеч пиджак. Почему-то мне неловко наблюдать за этим процессом, будто это нечто интимное. Я отвожу взгляд и смотрю на двух очень пожилых, очень раздраженных мужчин, которые стоят в нескольких метрах от нас и спорят, кто же из них сядет в такси. В непосредственной близости от них – еще по меньшей мере три свободных автомобиля.
Очевидный факт: люди редко используют логику.
– Это влезет в твой рюкзак? – спрашивает Даниэль, протягивая мне пиджак. Он не предлагает мне накинуть его на плечи, как своей девушке, но мне все равно кажется, что нести пиджак в рюкзаке – это еще более интимное действие, чем наблюдать за тем, как он его снимает.
– Уверен? Он помнется.
– Ну и пусть. – Он отводит меня в сторону, чтобы мы не мешали другим пешеходам, и внезапно мы оказываемся очень близко друг к другу. До этого мгновения я не обращала внимание на его плечи. Разве секунду назад они были такими же широкими? Потом я перевожу взгляд на торс, а с торса – на лицо, но это не помогает мне вернуть самообладание. На солнце его глаза кажутся еще более прозрачными и карими. Пожалуй, они красивые.
Я снимаю рюкзак с плеча и впихиваю его прямо между нами, так что Даниэль вынужден немного отступить. Он аккуратно складывает пиджак и убирает внутрь. На фоне его белоснежной, идеально отглаженной рубашки красный галстук выделяется еще больше. Интересно, как Даниэль выглядит в обычные дни, какую повседневную одежду носит? Наверняка джинсы и футболку – это классика для всех американских парней. Ямайские парни носят то же самое?
От этой мысли на душе у меня кошки скребут. Я не хочу начинать все заново. Мне и так было нелегко, когда мы переехали в Америку. Мне совсем не хочется изучать правила и традиции новой школы. Опять новые друзья. Новые компании. Новая школьная форма. Новые места для тусовок. Я обхожу Даниэля и продолжаю путь.
– Американские мужчины азиатского происхождения, по статистике, часто умирают от рака, – говорю я.
Он хмурится и переходит на быстрый шаг, чтобы догнать меня.
– Серьезно? Мне это не нравится. А рак каких органов?
– Точно не знаю.
– Может, нам стоит это выяснить.
Он говорит нам так, словно у нас есть какое-то совместное будущее, в котором каждому из нас будет не все равно, от чего скончается другой.
– Ты и впрямь думаешь, что умрешь от сердечной недостаточности? – спрашивает он. – Не от чего-то более эпичного?
– Кому нужна эта эпичность? Смерть есть смерть.
Он просто смотрит на меня в ожидании ответа.
– Ну ладно, – говорю я. – В голове не укладывается, что я рассказываю тебе об этом. На самом деле я думаю, что утону.
– Например, в открытом океане, спасая кого-нибудь, или как?
– В глубокой части гостиничного бассейна.
Он притормаживает и снова отводит меня в сторону. Более тактичного пешехода не найти. Большинство людей просто останавливаются прямо посередине тротуара.
– Постой. Ты что, не умеешь плавать?
Я втягиваю голову в куртку:
– Нет.
Он смотрит на мое лицо. Я знаю: ему смешно, хотя внешне он серьезен.
– Но ты же с Ямайки. Ты росла в окружении воды.
– И все же, плавать я не умею.
Я вижу, что он не прочь пошутить надо мной, но ему удается устоять перед соблазном.
– Я тебя научу, – говорит он.
– Когда?
– Как-нибудь. Скоро. Но ты же могла учиться плавать, когда жила на Ямайке?
– Да, но не научилась, а потом мы переехали сюда. Тут вместо океана бассейны. Я не переношу хлорку.
– А знаешь, сейчас же есть бассейны с соленой водой.
– Корабль уплыл, – говорю я.
Тут он не выдерживает.
– И как же называется этот корабль? Девушка, Выросшая на Острове, Такой Штуке, Которая Со Всех Сторон Окружена Водой, Не Умеет Плавать? Потому что это было бы прикольное название для корабля.
Я смеюсь и бью его по плечу. Он берет меня за руку и сжимает мои пальцы. Я стараюсь не мечтать о том, что когда-нибудь он все же сможет сдержать обещание и научит меня плавать.
Даниэль
Я ТЕОЛОГ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ КНИГУ Наташи. Вот что мне на этот момент известно: она фанат естественных наук. Возможно, она умнее меня. Ее пальцы слегка длиннее моих и так приятны на ощупь. Ей нравится слушать тревожную музыку. Она обеспокоена чем-то, что имеет отношение к ее загадочной встрече.
– Скажи мне еще раз, почему ты в костюме? – спрашивает она.
Я издаю протяжный выразительный стон.
– Давай лучше поговорим о Боге.
– Я тоже могу задавать вопросы, – говорит она.
Мы идем гуськом по крытому настилу для пешеходов. (В любой отдельно взятый момент времени приблизительно 99 (плюс-минус) процентов Манхэттена находится на реконструкции.)
– Я подал заявление на поступление в Йельский университет. Меня сегодня будет собеседовать один из его выпускников.
– Нервничаешь? – спрашивает она, когда мы снова оказываемся рядом друг с другом.
– Я бы нервничал, если бы меня это сильно парило.
– А тебя вообще не парит?
– Если только чуточку, – смеюсь я.
– Так, значит, родители тебя заставляют?
Вдруг со стороны проезжей части доносятся вопли. Повернувшись, мы видим, как один таксист кричит на другого.
– Мои родители – корейские иммигранты в первом поколении, – говорю я в качестве объяснения.
Она замедляет шаг и смотрит на меня:
– И что это значит?
Я пожимаю плечами:
– Это значит, что совершенно не важно, чего я хочу. Я поступлю в Йельский университет. Стану врачом.
– А ты этого не хочешь?
– Я не знаю, чего хочу.
Судя по выражению ее лица, это было худшее, что я мог сказать. Она отворачивается и снова ускоряет шаг.
– Ну, тогда тебе, наверное, стоит стать врачом.
– И как же мне, по-твоему, поступить? – спрашиваю я, нагоняя ее.
– Это твоя жизнь, – отмахивается она.
У меня такое чувство, словно я близок к полному провалу.
– Ну а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
– Специалистом по обработке данных, – отвечает она без колебаний.
Я открываю рот, чтобы спросить, что это за неведомая хрень, но она опережает меня и без малейшей запинки объясняет все сама. Скорее всего, я не первый, у кого возникли вопросы по поводу ее выбора профессии.
– Специалисты по обработке данных анализируют данные, отделяют шумы от сигнала, распознают шаблоны, формулируют выводы и на основе полученных результатов дают рекомендации относительно дальнейших действий.
– В этом замешаны компьютеры?
– Да, разумеется. В мире большое количество всевозможных данных.
– Это так практично. Ты всегда знала, кем хочешь стать? – Мне сложно говорить без зависти в голосе.
Она снова останавливается. Такими темпами мы никогда не доберемся до места назначения.
– Это не имеет ничего общего с предназначением. Я сама выбрала этот путь. Не он выбрал меня. Мне не предначертано быть специалистом по обработке данных. В школьной библиотеке есть секция, посвященная профессиям. Я провела анализ развивающихся областей в науках, и та-дам! Судьба и предназначение тут ни при чем, я просто собрала информацию.
– Так, значит, это не то, чем ты увлечена?
Она пожимает плечами и возобновляет путь.
– Это подходит мне по характеру.
– Разве тебе не хочется заниматься чем-то, что ты любишь?
– Зачем? – спрашивает она так, словно и впрямь не понимает, зачем что-то любить.
– Жизнь слишком длинная, чтобы заниматься тем, что не вызывает у тебя никаких эмоций, – настаиваю я. Мы обходим тележку с кренделями и хот-догами, у которой выстроилась очередь. Пахнет квашеной капустой и горчицей (райские запахи).
Наташа морщит нос:
– Она покажется тебе еще длиннее, если ты проведешь ее, гоняясь за мечтами, которые никогда не осуществятся.
– Погоди, – говорю я и касаюсь ее руки, чтобы немного ее остановить. – Кто сказал, что они не осуществятся?
Она искоса бросает на меня взгляд:
– Я тебя умоляю. Знаешь, сколько людей хотят стать актерами, писателями или рок-звездами? Много. Девяносто девять процентов из них не добьются ничего. Ноль целых девять десятых процента от оставшейся массы едва ли смогут заработать, занимаясь этим. И только последние ноль целых одна десятая процента добьются успеха. Все остальные просто тратят жизнь впустую, пытаясь кем-то стать.
– Ты что, мой отец? – спрашиваю я.
– Я что, говорю, как пятидесятилетний кореец?
– Только без акцента.
– Он просто заботится о тебе. Когда ты выучишься на врача и начнешь зарабатывать кучу денег, ты поблагодаришь его за то, что он не позволил тебе стать каким-нибудь голодающим художником, который ненавидит свою ежедневную работу и мечтает прославиться.
Интересно, осознает ли она, сколь увлеченно пытается оправдать отсутствие увлечений. Она глядит на меня, прищурившись.
– Пожалуйста, только не говори, что ты серьезно насчет поэзии.
– Боже упаси, – говорю я с напускным ужасом.
Мы проходим мимо мужчины, который держит в руках табличку со словами: «ПОМОГИТЕ. ПОПАЛ В БЕДУ». Какое-то такси, следующее по маршруту, протяжно и громко сигналит другому, также занятому.
– Ты действительно считаешь, что мы должны знать, чем хотим заниматься до конца жизни, в свои почтенные семнадцать?
– А разве тебе не хочется знать? – спрашивает она. Неопределенность ей точно не по душе.
– Наверное? Жаль, что я не могу прожить десять жизней одновременно.
Она снова отмахивается:
– Пф-ф. Тебе просто не хочется делать выбор.
– Я не это имел в виду. Я не хочу навечно погрязнуть в какой-то деятельности, которая для меня ничего не значит. На этой дорожке, по которой я иду, все расписано до самого конца. Йельский университет. Медицинская школа. Резидентура. Брак. Дети. Пенсия. Дом престарелых. Похоронное бюро. Кладбище.
Возможно, все дело в важности этого дня, возможно, в том, что я встретил ее, но прямо сейчас мне жизненно необходимо высказаться.
– У нас прекрасный, развитый мозг. Мы изобретаем конструкции, которые умеют летать. Летать. Мы пишем стихи. Вероятно, ты ненавидишь поэзию, но сложно не согласиться с тем, что эта строчка прекрасна: «Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умеренней и краше»[13]. Мы способны прожить великую жизнь. Способны творить великую историю. К чему делать окончательный выбор? К чему выбирать нечто практичное, прозаичное? Мы рождены для того, чтобы мечтать и воплощать свои мечты в жизнь.
Речь выходит более пылкая, чем я планировал, но каждое мое слово идет от сердца. Наши взгляды встречаются. Между нами возникло чувство, которого не было еще минуту назад. Я жду какого-нибудь резкого ответа, но она молчит.
Вселенная замирает в ожидании нас. Наташа раскроет ладонь, возьмет меня за руку Она должна взять меня за руку Нам суждено идти по жизни вместе. Я вижу это в ее глазах. Нам суждено быть вместе. Я уверен в этом так, как не уверен больше ни в чем. Но она не берет меня за руку Она шагает дальше.
Наташа
ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ МОМЕНТ мне не нужен.
Когда говорят, что сердцу не прикажешь, имеют в виду поэтическое сердце – сердце из песен и монологов о любви; сердце, которое может разбиться, как стекло. Никто не имеет в виду настоящее сердце, которому необходима лишь здоровая пища и физическая нагрузка. Поэтическому сердцу нельзя верить. Оно непостоянно и может ввести в заблуждение. Оно скажет: «Все, что тебе нужно, – это любовь и мечты». Оно умолчит о пище и воде, крыше над головой и деньгах. Оно скажет тебе, что человек, который сейчас стоит перед тобой по какой-то неведомой причине, – твой Единственный. И он правда единственный. И она для него единственная. Единственные друг для друга – прямо сейчас, до тех пор, пока его или ее сердце не изменят своему выбору.
Поэтическому сердцу нельзя доверять. Мне это известно. Известно так же хорошо, как то, что Полярная звезда на самом деле не является ярчайшей звездой на небе – она пятидесятая в списке самых ярких звезд.
Но все равно я стою посреди тротуара с Даниэлем, в день, который почти наверняка станет последним моим днем в Америке. Мое непостоянное, непрактичное, не думающее ни о чем глупое сердце нуждается в Даниэле. Его не волнует, что Даниэль слишком простодушный, что он не знает, чего хочет, или что он лелеет мечту стать поэтом, а эта профессия может привести лишь к жестокому разочарованию и жизни без крыши над головой…
Я знаю, что не бывает никаких «суждено», и все же гадаю, не заблуждаюсь ли. Я сжимаю в кулак ладонь, которой хочу прикоснуться к Даниэлю, и продолжаю путь.
Любовь История химических соединений
ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ, существует три стадии любви: влечение, романтическая любовь и привязанность. Каждая стадия регулируется особыми химическими соединениями – нейромедиаторами – в головном мозге. На первой стадии – влечении – нами управляют тестостерон и эстроген. На второй стадии – дофамин и серотонин. Когда, к примеру, пары говорят о том, что испытывают неописуемое счастье в присутствии друг друга, – это работа дофамина, гормона удовольствия. Употребление кокаина вызывает такую же эйфорию. На самом деле ученые, которые изучают процессы, происходящие в мозге новоиспеченных влюбленных и употребляющих кокаин наркоманов, разницу между ощущениями найти не могут.
У влюбленных столь же низкий уровень серотонина, как и у людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. Они не могут перестать думать друг о друге, потому что в буквальном смысле одержимы.
Окситоцин и вазопрессин доминируют на третьей стадии – привязанности, или долгосрочной связи. Окситоцин вырабатывается во время оргазма и позволяет испытать чувство близости с тем человеком, с которым вы занимались сексом. Он также выделяется в процессе деторождения и способствует формированию связи между матерью и ребенком. Вазопрессин вырабатывается в посткоитальном периоде.
Наташа знает эти факты от и до. Это знание помогло ей пережить предательство Роба. Ей известно: любовь – просто химия и стечение обстоятельств.
Тогда почему же ей кажется, что ее чувства к Даниэлю нечто большее, чем просто химия?
Даниэль
МЕНЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ мне хочется идти на это собеседование. И все же уже почти одиннадцать часов, и, если я хочу туда попасть, мне надо спешить. Мы с Наташей так и идем молча с того самого Момента. Я бы и рад назвать воцарившуюся тишину уютной, но это не так. Мне хочется заговорить с ней об этом Моменте – но кто знает, почувствовала ли она то же, что и я. Она однозначно в такое не верит.
Средний Манхэттен отличается от той части города, где мы встретились. Здесь больше небоскребов и меньше сувенирных магазинчиков. И люди здесь ведут себя иначе. Это не туристы, которые прогуливаются по улицам ради удовольствия или закупаются сувенирами. Никаких восторгов, созерцания достопримечательностей или улыбок. Эти люди работают в небоскребах. Я совершенно уверен, что мое собеседование состоится где-то здесь.
Мы продолжаем идти и молчать, пока не оказываемся перед гигантским, чудовищным сооружением из бетона и стекла. Меня искренне удивляет, как люди дни напролет проводят в таких местах, занимаясь тем, что не любят, работая на людей, которые им не нравятся. Профессия врача, конечно, кажется лучшей долей в сравнении с этим.
– Вот мы и пришли, – произносит Наташа.
– Могу подождать тебя снаружи, – предлагаю я, словно всего лишь через час с небольшим у меня не назначена встреча, которая решит мою судьбу.
– Даниэль, – говорит она строгим голосом, который в будущем будет использовать как метод воздействия на наших детей (конечно же, она сторонница строгой дисциплины). – У тебя собеседование, а у меня… вот это. Сейчас нам пора попрощаться.
Она права. Может быть, я и не желаю себе то будущее, которое нарисовали для меня родители, но других идей у меня пока нет. Если я задержусь здесь, мой поезд сойдет с рельсов. Вдруг я осознаю, что этого, возможно, я и хочу. Может быть, чувства, которые я испытываю к Наташе, – лишь предлог для того, чтобы пустить этот поезд под откос. В конце концов, мои родители никогда не одобрят наш союз. Она не только не кореянка, она еще и чернокожая. Они ни за что ее не примут. Вдобавок ко всему я ей не нравлюсь. А любовь – не любовь, если она не взаимна, верно?
Я должен уходить. Я собираюсь уходить. Уже иду.
– Ты права, – говорю я.
Она удивлена и, кажется, даже слегка разочарована, но что это меняет? Она же сама этого хотела. Или нет?
Наташа
Я НЕ ОЖИДАЛА ТАКОГО ответа и не ожидала, что почувствую разочарование, но я, черт возьми, его чувствую. О каких романтических отношениях может идти речь, если я больше никогда не увижу этого парня? Мое будущее решится через пять минут.
Мы стоим недалеко от раздвижных стеклянных дверей здания, и всякий раз, когда кто-то проходит через них, меня обдает прохладным воздухом из кондиционированного лобби. Даниэль протягивает мне руку, но тут же быстро ее убирает.
– Извини, – говорит он, краснея, а потом скрещивает руки на груди.
– Ну, я пошла.
– Ты пошла, – повторяет он, и никто из нас не двигается с места.
Мы так и стоим молча еще несколько секунд, а потом я вспоминаю, что его пиджак у меня в рюкзаке. Я достаю пиджак и смотрю, как Даниэль накидывает его на спину.
– В этом костюме ты выглядишь так, словно работаешь в этом здании. – Я говорю эти слова, стараясь сделать ему комплимент, но он явно не рад их слышать.
Потянув галстук, он кривится:
– Возможно, однажды так и случится.
– Что ж, – произношу я после очередной паузы. – Нелепая ситуация.
– Может, нам просто обняться?
– Я думала, что вы, люди в костюмах, довольствуетесь рукопожатием. – Я стараюсь говорить спокойно, но мой голос немного хрипит.
Даниэль улыбается. Лицо его очень грустное, но он даже не пытается спрятать эту грусть. Как он может так открыто показывать свои чувства? Я отвожу взгляд. Не хочу, чтобы это все происходило сейчас между нами, но это невозможно изменить, так же как невозможно изменить погоду.
Двери открываются, и меня снова обдает прохладным воздухом. Мне и жарко, и холодно. Я развожу руки в стороны одновременно с ним. Мы пытаемся обнять друг друга с одной и той же стороны и в итоге сталкиваемся. Неуклюже смеемся и застываем.
– Я справа, – улыбается он. – А ты слева.
– Ладно, – соглашаюсь я. Он прижимает меня к себе, и, так как мы почти одного роста, мое лицо касается его щеки, мягкой, гладкой и теплой. Я опускаю голову ему на плечо и расслабляюсь в его руках. На мгновение я позволяю себе почувствовать, насколько устала. Так сложно пытаться удержаться там, где ты не нужен. Но Даниэлю я нужна. Я чувствую это по тому, как крепко он меня обнимает.
Я высвобождаюсь из его объятий, избегая взгляда. Он решает не говорить то, что собирался. Я достаю телефон и смотрю на время.
– Пора, – произносит он, не дав мне шанса сказать это первой.
Я поворачиваюсь и вхожу в прохладное здание. Я думаю о Даниэле, когда отмечаюсь у охранника. Думаю о Даниэле, пересекая лобби. Думаю о нем в лифте и когда иду по длинному коридору. Каждое мгновение, пока я не оказываюсь в офисе – тогда мне просто приходится перестать о нем думать.
Офис отремонтирован лишь наполовину, поэтому я слышала строительный шум, когда звонила. Стены окрашены не полностью, а с потолка свисают голые лампочки. На покрытом брезентом полу – древесные опилки и пятна краски. За столом сидит женщина, положив обе руки на стационарный телефон, словно мечтает, чтобы он зазвонил. Несмотря на ее ярко-алую помаду и розовые румяна на щеках, она очень бледна. У нее иссиня-черные, превосходно уложенные волосы, и она кажется героиней какого-то диснеевского мультфильма или кино, действие которого происходит в пятидесятых. На столе аккуратные стопки папок с цветовой маркировкой. На кружке надпись: «Ассистентки берут дешевле».
Она улыбается мне грустной, дрожащей улыбкой.
– Я ничего не перепутала? – спрашиваю я громко.
Она молча смотрит на меня.
– Это офис адвоката Фицджеральда?
– Вы Наташа, – наконец произносит она.
Это, должно быть, та самая женщина, с которой я говорила по телефону. Я подхожу к ее столу.
– Плохие новости, – говорит она.
У меня внутри все сжимается. Я не готова к тому, что она собирается сообщить. Все закончилось, не успев начаться? Неужели моя участь уже решена? Меня действительно депортируют сегодня вечером? Какой-то мужчина в заляпанном краской комбинезоне входит в офис и начинает сверлить. Кто-то невидимый стучит молотком. Женщина не повышает голос, чтобы перекрыть шум. Я подхожу ближе к ее столу.
– Джереми – адвокат Фицджеральд – час назад попал под машину. Он еще в больнице. Его жена говорит, что с ним все в порядке, отделался несколькими царапинами. Но он вернется только ближе к вечеру.
Она говорит спокойным, ровным тоном, но в глазах спокойствия нет и в помине. Она пододвигает телефон чуть ближе и смотрит не на меня, а на него.
– Но у нас назначена встреча, – с упреком замечаю я. Это жестоко с моей стороны, но я ничего не могу с собой поделать. – Мне правда нужна его помощь.
Теперь ее глаза, полные удивления, обращены на меня.
– Вы разве не слышали, что я сказала? Его сбила машина. Он сейчас не может быть здесь.
Она протягивает мне стопку бумаг и больше не смотрит на меня. Я заполняю их около пятнадцати минут. В первом бланке я отмечаю, что я не коммунист, не преступник и не террорист, и отвечаю на вопрос, стала бы я защищать Соединенные Штаты с оружием в руках или нет. Я бы не стала, но все равно рисую галочку в квадрате с пометкой «да». В другом бланке необходимо в подробностях описать детали процесса депортации до сегодняшнего дня.
Последний бланк – клиентская анкета, в которой меня просят дать подробный отчет о времени, проведенном в Соединенных Штатах. Я не знаю, что писать. Я не знаю, что именно необходимо знать адвокату Фицджеральду. О том, как мы приехали в эту страну? О том, как скрывались? Что я испытывала всякий раз, когда указывала в школьных бумагах ворованный номер социальной страховки? Что, делая это, я каждый раз представляла, как моя мама садится на тот автобус во Флориду? Он что, действительно хочет знать, каково это – быть нелегалом? Или каково это – все время ждать, что правда о тебе вскроется? Вероятно, нет. Ему нужны не философские рассуждения, а факты, именно поэтому я их и излагаю. Мы приехали в Америку по туристической визе. Когда пришло время уезжать, мы остались. С тех пор мы не покидали эту страну. Мы не совершали никаких преступлений, за исключением того, что мой отец сел за руль пьяным.
Я возвращаю заполненные бланки ассистентке. Она тут же берет мою анкету и говорит:
– Здесь нужно указать больше сведений.
– Каких, например?
– Что для вас значит Америка? Почему вы хотите остаться? Каким будет ваш вклад в процветание Америки?
– Но…
– То, что Джереми сможет использовать, чтобы вам помочь, – поясняет она.
Если бы людям, родившимся в Америке, пришлось доказывать, что они достойны жить здесь, население этой страны намного бы уменьшилось.
Женщина пролистывает другие мои бумаги, пока я пишу о том, каким трудолюбивым, оптимистичным, патриотичным гражданином обещаю быть. Я пишу, что в душе считаю Америку своим домом и, когда получу гражданство, мои чувства станут законными. Мое место здесь. Мне очень непросто все это писать, я вообще не люблю откровенничать, но Даниэль точно гордился бы мной.
Даниэль. Наверное, он сейчас в поезде – едет на свое собеседование. Сделает ли он все правильно и станет ли в итоге врачом? Будет ли в будущем вспоминать обо мне – о той девушке, с которой однажды провел в Нью-Йорке два часа? Будет ли ему интересно, что со мной произошло? Возможно, он наберет мое имя в Google, но ничего не найдет. Хотя, скорее всего, он забудет обо мне уже к вечеру, как и я наверняка забуду о нем.
Я все еще пишу, когда вдруг звонит телефон, и ассистентка тут же снимает трубку, не позволив ему затрезвонить еще раз.
– О господи, Джереми. Ты в порядке? – Она закрывает глаза и, обхватив телефонную трубку обеими руками, прижимает ее еще сильнее к уху. – Я хотела приехать, но твоя жена сказала, чтобы я держалась от тебя подальше. – Ее глаза открываются, когда она произносит слово «жена». – Ты точно в порядке? – Чем дальше она слушает, тем живее становится ее лицо. На щеках появляется легкий румянец, а на глазах – слезы счастья.
Ее влюбленность настолько очевидна, что мне кажется, я вот-вот увижу сердечки, парящие в воздухе. Неужели у них роман?
– Я хотела приехать, – шепотом повторяет она. Несколько раз промурлыкав «хорошо», она кладет трубку. – С ним все в порядке. – Она сияет.
– Здорово, – говорю я.
Она забирает бланки у меня из рук. Я жду, пока она их посмотрит.
– Хотите услышать хорошую новость? – наконец спрашивает она.
Ну разумеется, хочу. Я медленно киваю.
– Я много подобных дел видела и думаю, что с вами все будет в порядке.
Не знаю, что я ожидала услышать, но уж точно не это.
– Вы серьезно считаете, что он сумеет мне помочь? – Я слышу в собственном голосе одновременно и надежду, и скепсис.
– Джереми никогда не проигрывает, – произносит она с такой гордостью, с какой могла бы говорить о самой себе.
Конечно, это неправда. Все иногда проигрывают. Мне стоит попросить ее выражаться конкретнее, дать точную статистику его побед и поражений. Это помогло бы мне понять, что же мне чувствовать.
– Надежда есть, – добавляет она.
Хоть я и ненавижу поэзию, на ум приходит стихотворение, которое однажды задавали прочесть в школе: «Надежда – штучка с перьями»[14]. Теперь я в точности понимаю, что значит эта строчка. Надежда хочет выпорхнуть из моей груди, хочет петь, и смеяться, и танцевать от радости. Поблагодарив ассистентку, я быстро выхожу из офиса, чтобы ненароком не задать какой-нибудь неприятный вопрос и не растерять это чувство. Обычно я предпочитаю знать всю правду, даже если она горькая. Но это не всегда легко. Порой правда может причинить больше боли, чем рассчитываешь.
Несколько недель назад мои родители ссорились у себя в спальне за закрытой дверью. Один из тех редких случаев, когда мама решила высказать отцу все накопившиеся мысли. Питер застал меня у их двери – я подслушивала. Когда они закончили выяснять отношения, я спросила брата, рассказать ли ему то, что я услышала. Но он ничего не хотел знать. И так было понятно, что услышала я что-то плохое, а портить себе настроение Питер не хотел. Я рассердилась на него, но спустя некоторое время пришла к выводу, что он, возможно, прав. Только жаль, что те слова, которые они говорили друг другу, из памяти не выкинешь.
Оказавшись в коридоре, я прижимаюсь лбом к стене. Меня мучают сомнения. Может, все-таки стоит вернуться в офис и выжать из ассистентки больше информации? От этой идеи я все-таки отказываюсь. Какая от этого будет польза? Лучше подождать новостей от самого адвоката. И я устала от беспокойства. Я знаю, что слова этой женщины – не гарантия того, что все будет хорошо. Но сейчас мне просто необходимо почувствовать что-то помимо страха. Надежда кажется неплохой заменой.
Я размышляю над тем, стоит ли позвонить родителям и рассказать обо всем. Пока не буду. Что я скажу? Незнакомый человек отправил меня к другому незнакомому человеку? Ассистентка незнакомого человека, у которой даже нет юридического образования и которую я также не знаю, говорит, что, возможно, все будет в порядке? Нет никакого смысла всех обнадеживать.
Единственный человек, с которым мне действительно хочется поговорить, – это Даниэль, но он давно уже уехал на свое собеседование. Жаль, что я не была с ним добрее. Жаль, что я не взяла его номер телефона. Что, если вся эта чехарда с иммиграцией закончится хорошо? Если у меня получится остаться, как я найду его?
Сколько бы я ни притворялась, что между нами ничего нет, все же что-то есть.
Что-то значительное.
Ханна Уинтер Сказка, часть 1
ХАННА ВСЕГДА СРАВНИВАЛА свою жизнь со сказкой, в которой главная роль отведена отнюдь не ей. Она не принцесса и не фея-крестная. Не злая колдунья и не одна из ее приспешниц. Ханна – второстепенный персонаж, впервые возникающий на двенадцатой или тринадцатой странице. Возможно, повариха, которая печет пышки и делает леденцы. Или добродушная и незаметная служанка. Но когда Ханна встретила адвоката Джереми Фицджеральда и начала работать у него в офисе, она вдруг вообразила себя главной героиней. В Джереми она распознала свою Единственную Настоящую Любовь. Свое «долго и счастливо». Даже несмотря на то, что он женат. Несмотря на то, что у него двое маленьких детей.
Ханна никогда и не надеялась, что он ответит ей взаимностью, но все же наступил день, когда он признался ей в своих чувствах. Этот день – сегодня.
Адвокат Джереми Фицджеральд Сказка, часть 1
ДЖЕРЕМИ ФИЦДЖЕРАЛЬД КАК РАЗ переходил дорогу, когда пьяный и совершенно убитый горем мужчина – страховой актуарий – на белом BMW наехал на него на скорости тридцать километров в час. Удар был не очень сильный, но вся жизнь все равно пробежала у Джереми перед глазами. Он даже успел осмыслить, что скоро умрет. И тогда адвокат осознал, что любит свою ассистентку, Ханну Уинтер, и уже очень давно. Вернувшись в свой офис несколькими часами позже, он молча заключит Ханну в объятия и на короткое мгновение задумается о том будущем, которого лишится из-за любви к ней.
Даниэль Местный парень делает неправильный выбор
МОЯ МАМА, ОЧЕНЬ миролюбивый человек, убила бы меня на месте, узнав, что я только что сделал. Я отложил свое собеседование. Из-за девушки. Даже не из-за кореянки, а из-за чернокожей девушки. Из-за чернокожей девушки, с которой толком не знаком. Из-за чернокожей девушки, с которой толком не знаком и которой, по всей вероятности, не нравлюсь. Женщина на другом конце линии сказала, что я звоню как раз вовремя. Она сама собиралась набрать мне и перенести собеседование. Меня перезаписали на шесть вечера – это было единственное окно.
Поэтому сейчас я стою в лобби того здания, куда вошла Наташа, читаю телефонный справочник и жду ее появления. Большинство арендаторов помещений в этом здании – юристы (доктора юриспруденции, эсквайры) и специалисты в области финансов (аудиторы, дипломированные финансовые аналитики и так далее). Никогда в жизни я еще не видел столько званий и степеней в одном месте. Даниэль Чжэ Хо Бэ, ГМ (Глупый Мальчишка), ОНП (Обреченный на Поражение).
Какая у Наташи может быть встреча в этом здании? Она либо наследница крупного состояния, которое хочет инвестировать в какое-нибудь дело, либо попала в беду и нуждается в помощи адвоката.
По другую сторону лобби открываются двери лифта, и выходит она. Откладывая свое собеседование, я спрашивал себя, не глупо ли поступаю. Девушка, с которой я только что познакомился, не стоит того, чтобы рисковать из-за нее будущим. Я мог думать так, когда не видел ее, но теперь я вообще не могу представить, как я мог в ней сомневаться. Разумеется, она того стоит. И я не могу объяснить почему.
Да, она симпатичная. Ее пышная прическа, выразительные черные глаза и полные розовые губы, бесспорно, привлекательны. Еще у нее самые красивые ноги на всем белом свете (я перенес их с третьего на первое место в рейтинге после досконального изучения – тут я объективен). Так что да, она определенно нравится мне внешне, но есть что-то еще… И я говорю это не только потому, что у нее самые красивые ноги во всей вселенной. Честно.
Я смотрю, как она идет через лобби, оглядываясь по сторонам в поисках кого-то или чего-то. Ее плечи опускаются, когда она не находит то, что ищет. Должно быть, Наташа ищет меня, верно? Если только за последние полчаса не встретила еще одного потенциального кандидата на любовь всей своей жизни. Оказавшись на улице, она медленно поворачивается в одну сторону, а потом еще медленнее – в другую. Тот, кто ей нужен, так и не появился.
Наташа
ЕГО НЕТ В ЛОББИ и нет на улице. Мне приходится смириться с тем, что его здесь нет, а еще с тем, что я все же надеялась его увидеть. Я ощущаю в животе пустоту, словно я голодна, вот только есть мне совсем не хочется.
На улице стало теплее. Я снимаю куртку, складываю ее, вешаю на руку и продолжаю стоять на прежнем месте, пытаясь решить, что мне делать. Я не хочу уходить и не хочу признаваться себе в этом. Конечно, я не верю в то, что нам суждено быть вместе, или еще в какую-нибудь подобную нелепицу. Но было бы здорово провести с ним еще несколько часов. Было бы здорово сходить с ним на свидание. Возможно, мне бы даже захотелось узнать, краснеет ли он, когда целуется. На этом самом месте я видела его в последний раз. Если я уйду, у меня не будет шанса увидеть его снова. Интересно, как проходит его собеседование? Он говорит то, что должен, или не скрывает обуревающих его сомнений и тревоги? Этому парню нужно менять взгляд на жизнь.
Я уже собираюсь уходить, но оглядываюсь в последний раз. Я знаю, что невозможно просто так почувствовать присутствие человека. Может, я все-таки заметила его краем глаза, когда шла через лобби?
Люди используют поэтический язык для описания явлений, которых не понимают. Стоит поискать, и всегда находится научное объяснение.
Так или иначе, это он. Он здесь.
Даниэль
ОНА ИДЕТ мне навстречу. Пару часов назад я бы подумал, что сейчас ее лицо выражает безразличие. Но я становлюсь экспертом по Наташе и вижу, что это безразличие напускное. Скорее всего, она рада меня видеть.
– А что случилось с твоим собеседованием? – спрашивает она, едва оказавшись возле меня.
Никаких объятий. Никакого «рада тебя видеть». Возможно, я не такой уж и эксперт по Наташе. Я должен излагать факты или говорить правду? (Любопытно, но это не всегда одно и то же.)
Факт: я перенес собеседование.
Правда: я перенес его, чтобы еще немного побыть с Наташей.
Я выбираю правду:
– Я перенес его, чтобы еще немного побыть с тобой.
– Ты в своем уме? На кону твое будущее.
– Я не сжег мосты, Таша. Я просто перенес собеседование.
– Кто это – Таша? – спрашивает она, улыбаясь уголком рта.
– А как у тебя все прошло? – Я киваю в сторону лифта. Ее улыбка тотчас исчезает. Себе на заметку: не поднимать снова эту тему.
– Отлично. Я должна вернуться сюда в три тридцать.
Я смотрю на телефон: 11:35.
– Похоже, мы можем провести еще немного времени вместе, – говорю я.
Я жду, что она закатит глаза, но она не закатывает их. Победа. Она едва заметно поеживается и потирает ладонями предплечья. Я вижу, что ее кожа покрылась мурашками, и теперь могу сказать, что узнал о ней еще один факт: она не любит холод. Я подхватываю ее куртку и помогаю ей одеться. Она просовывает одну руку в рукав, затем вторую, а потом быстро накидывает куртку себе на плечи. Я поправляю ей воротник, прикасаюсь к ее шее сзади, и она едва заметно подается назад. Ее волосы щекочут мне нос. Это мелочь, но отчего-то мне кажется, словно это происходило с нами уже не раз.
Наташа поворачивается, и я быстро убираю руки, чтобы случайно не дотронуться до нее еще раз.
– Ты уверен, что не ставишь под угрозу…
– Если честно, я не думаю об этом.
– А стоило бы. – Она замолкает и смотрит на меня взглядом, полным тревоги. – Ты сделал это из-за меня?
– Да.
– А почему ты так уверен, что я того стою?
– Интуиция, – отвечаю я.
Не знаю почему, но ей я могу говорить правду, не задумываясь.
Она едва заметно вздрагивает.
– Ты невозможный…
– Наверное, – говорю я.
Она смеется, глядя на меня своими искрящимися черными глазами, а потом спрашивает:
– Что будем делать?
Мне нужно постричься, а еще отнести отцу кошелек. Я не хочу делать ни то ни другое. Что мне хочется – это найти какое-нибудь уютное местечко и остаться с ней наедине.
Но папе нужно отнести кошелек. Я спрашиваю, готова ли она совершить путешествие в Гарлем, и она соглашается. Правда, это не самая лучшая идея. Если есть идеи хуже этой, мне они неизвестны. Мой папаша шокирует ее, это уж точно. Она познакомится с ним и решит, что я стану таким же, как он, через пятьдесят лет, и сбежит от меня. Я бы на ее месте сделал то же самое.
Мой папа – своеобразный мужчина. Я говорю «своеобразный», но имею в виду «нереально странный». Во-первых, он вообще ни с кем не разговаривает, кроме покупателей. В том числе ни со мной, ни с Чарли. Головомойки разговорами не считаются. Если все же считаются, тогда за это лето и осень он сказал Чарли больше, чем за все девятнадцать лет его жизни. Возможно, я преувеличиваю, но совсем незначительно.
Не знаю, как я объясню отцу или Чарли присутствие Наташи. Насчет Чарли я, по правде говоря, не сильно беспокоюсь, а вот отец ее заметит. Он поймет, что между нами что-то есть, так же как всегда безошибочно определяет, кто из посетителей магазина – потенциальный вор и кому можно продать товар в рассрочку, а кому нет. Позже, за ужином, он что-нибудь скажет матери на корейском тем самым тоном, которым обычно жалуется на американцев. Я пока не хочу, чтобы они говорили об этом. Мы с Наташей еще не готовы к подобному давлению со стороны.
Наташа говорит, что все семьи странные, и это правда. После того как мы покончим со всеми этими делами, я обязательно попрошу рассказать о ее семье.
Мы спускаемся в метро.
– На старт, – улыбаюсь я.
Наташа
ДО ГАРЛЕМА ЕХАТЬ всего двадцать пять минут на метро, но, приезжая сюда, оказываешься словно в другой стране. Вместо небоскребов – небольшие, жмущиеся друг к другу магазинчики с яркими навесами. Воздух кажется прозрачнее, почти как в пригороде. Большинство людей, которых мы встречаем на улицах, – чернокожие.
Даниэль молчит, пока мы идем по бульвару Мартина Лютера Кинга к магазину его родителей. Он замедляет шаг, когда мы проходим мимо пустой витрины с огромной вывеской «СДАЕТСЯ В АРЕНДУ» и ломбарда с зеленым навесом. Наконец мы останавливаемся перед специализированным магазином для чернокожих, где продаются средства для ухода за волосами и прочая косметическая продукция. Он называется «Красота черных волос». Я часто захожу в такие.
– Сходи в магазин и выбери мне какое-нибудь средство для выпрямления волос, – просит мама через каждые два месяца. Это известный факт, что всеми косметическими магазинами для чернокожих владеют корейцы, – такая вот несправедливость. Не знаю, почему мне сразу не пришло это в голову, когда Даниэль сказал, что его родители держат свой магазин.
Я не могу рассмотреть, что находится внутри магазина, потому как стекла витрины заклеены старыми, выцветшими на солнце плакатами с изображениями улыбающихся чернокожих женщин в костюмах и с одинаково уложенными волосами. По всей видимости – и это доказывают плакаты в витрине, – посещать важные мероприятия можно людям только с «деловыми» прическами. Даже моя мама была недовольна, когда я решила носить афро. Она заявила, что это выглядит не «по-деловому». Но мне нравится моя прическа. Хотя ничего против длинных выпрямленных волос я не имею и раньше так и ходила. Я рада, что есть выбор. Рада, что я могу его сделать. Даниэль так нервничает, что я ощущаю его нерешительность. Интересно, ему так неловко из-за того, что я скоро встречусь с его отцом, или из-за политики их магазина? Он поворачивается ко мне и, взявшись за свой галстук, водит им из стороны в сторону, словно все это время тот был слишком туго завязан.
– Мой папа, он, если честно… – Даниэль замолкает, а потом начинает снова: – А мой брат, честно говоря…
Он смотрит куда угодно, только не мне в глаза. Его голос напряжен, вероятно, потому, что он пытается говорить не дыша.
– Может, тебе просто подождать снаружи? – Он наконец выдавливает из себя всю фразу целиком.
Вначале у меня не возникает никаких задних мыслей. Наверное, все стыдятся своих родственников. Я тоже стыжусь. По крайней мере, отца. На месте Даниэля я поступила бы точно так же. Роб никогда не виделся с моим отцом. Так было проще. Ему не приходилось слушать фальшивый американский акцент. Не приходилось смотреть, как отец ищет удобный повод заговорить о себе, о своих планах на будущее и ожидающей его славе.
Мы стоим перед входом в магазин, когда оттуда, смеясь, выходят две чернокожие девушки, а чернокожая женщина, наоборот, входит внутрь. Меня осеняет, что, возможно, Даниэль стыдится вовсе не своей семьи. Возможно, он стыдится меня. Или боится, что я заставлю его семью почувствовать себя неловко. Не знаю, почему это не пришло мне в голову раньше. Америка на самом деле совсем не большой общий котел. Она скорее похожа на блюдо с отдельными секциями для круп, мяса и овощей.
Я смотрю на Даниэля, а он по-прежнему избегает моего взгляда. Внезапно между нами возникает то, чего я совсем не ожидала.
Волосы Афроамериканская история
В АФРИКАНСКИХ КУЛЬТУРАХ ПЯТНАДЦАТОГО столетия волосы были знаком индивидуальности. Прическа могла сообщить о чем угодно – от племенной принадлежности и происхождения семьи до религии и социального статуса. Сложные прически со множеством деталей говорили о власти и богатстве. Более сдержанные означали, что человек в трауре. Волосы имели духовную значимость. Так как они растут на голове – той части тела, которая находится выше всего от земли и ближе всего к небесам, – многие африканцы считали их проводником для духов, способом взаимодействия с богом.
Все традиции, связанные с волосами, исчезли с началом рабства. На судах плененных африканцев в принудительном порядке брили наголо, что стало глобальным актом дегуманизации.
После отмены рабства волосы чернокожих людей не давали покоя общественности. «Правильными» прическами считались те, которые приближались к европейским стандартам красоты, – гладкие и прямые. Вьющиеся, волнистые – натуральные волосы многих афроамериканок – считались некрасивыми. В начале девяностых годов мадам Си Джей Уокер, афроамериканка, создала и внедрила на рынок средства по уходу за волосами для чернокожих женщин и стала миллионершей. Она прославилась также тем, что усовершенствовала «горячую расческу» – прибор для выпрямления волос. В шестидесятые годы Джордж И. Джонсон выпустил в продажу химическое средство для выпрямления кудрявых волос. Согласно некоторым оценкам, оборот индустрии товаров для волос чернокожих составляет более миллиарда долларов ежегодно.
Со времен отмены рабства и до наших дней афроамериканцы пытаются понять, зачем нужно выпрямлять волосы. Является ли выпрямление волос формой самоненавистничества? Значит ли это, что ты считаешь свои натуральные волосы некрасивыми? Если ты не выпрямляешь их, можно ли расценивать это как политическое заявление, требование власти? За прическами афроамериканок зачастую кроется нечто большее, нежели обычное самолюбование. Нечто большее, нежели просто представление человека о его собственной красоте.
Принимая решение носить прическу афро, Наташа не сознает стоящей за ней истории. Она поступает так, невзирая на то что, по словам Патриции Кингсли, женщины с прической афро якобы выглядят первобытно. В основе убеждений ее матери лежит страх, что общество, которое до сих пор с опаской относится к черным, навредит ее дочери. У Патриции есть еще один аргумент, который она не высказывает: новая прическа Наташи кажется ей актом отречения. Сама она выпрямляла волосы всю жизнь.
Волосы дочери она выпрямляла с тех пор, как той исполнилось десять. Теперь, когда Патриция смотрит на Наташу, она не видит в ней того сходства с собой, которое было прежде, и это причиняет ей боль.
Но, разумеется, все подростки так делают. Все подростки отделяются от родителей. Взрослеть – значит отдаляться.
Проходит три года, прежде чем натуральные волосы Наташи отрастают в полную длину. Ее решение отрастить волосы не имеет политического подтекста. На самом деле ей нравилось выпрямлять волосы. В будущем она, возможно, снова их выпрямит. Она отращивает натуральные волосы потому, что хочет попробовать что-нибудь новое. И просто потому, что это красиво.
Даниэль Местный парень такая же сволочь, как и его брат
– МОЖЕТ, ТЕБЕ лучше подождать снаружи, – сказал я так, словно стыжусь ее, словно пытаюсь спрятать ее от посторонних глаз. Раскаяние приходит в тот же момент. Оно не берет тайм-аут, чтобы я успел осознать смысл сказанного во всей полноте. Нет. Нет. Нет. Немедленное и всепоглощающее. Едва эти слова срываются у меня с языка, я не могу поверить, что я их произнес. Я – полное ничтожество? Еще хуже, чем Чарли.
Я не могу посмотреть на Наташу. Ее взгляд прикован к моему лицу, а я не могу на нее взглянуть. Мне нужна машина времени, о которой мы с ней говорили. Я хочу стереть эту последнюю минуту. Я облажался.
Если мы будем вместе – мы, Даниэль и Наташа, – нас ждет масса проблем, и отец-расист – одна из них. Но мы с ней только в начале пути, и мне не хочется, чтобы папа уже становился между нами. Я хочу поступить так, как проще, а не так, как правильнее. Я хочу потерять голову от любви и ни о чем не думать. Никаких препятствий на моем пути, умоляю. Никому не хочется страдать, влюбляясь. Я просто хочу влюбиться без памяти, как это происходит с другими.
Наташа
ДА ВСЕ НОРМАЛЬНО. Все нормально, я подожду здесь. Я понимаю. Правда понимаю. Но та частичка меня, которая не верит ни в Бога, ни в настоящую любовь, хочет, чтобы Даниэль доказал: я напрасно во все это не верю. Я хочу, чтобы он выбрал меня. Даже несмотря на то, что наша история едва успела начаться. Я хочу, чтобы он был столь же благороден, каким казался вначале, но, разумеется, он не такой. Таких не существует. Поэтому мысленно отпускаю его.
– Не надо так беспокоиться, – говорю я. – Я подожду.
Даниэль
КОГДА ТЫ ПОЯВЛЯЕШЬСЯ на свет, они (боги, или маленькие инопланетяне, или еще кто-то там) должны давать тебе пачку привилегий – к примеру: Право на второй шанс, Возможность перенести встречу на другой раз, Право отмотать все назад, Право выйти из тюрьмы на свободу. Я бы сейчас воспользовался своим Правом на второй шанс.
Я смотрю на нее и вижу: она знает обо всем, что со мной творится. Она поймет, если я сейчас войду в магазин, отдам кошелек и вернусь. Мы уйдем, но зато потом мне не придется отчитываться перед отцом, отвечая на вопросы в духе «Что это была за девчонка?». Не придется выслушивать от Чарли шуточки вроде «Попробовав черное раз…». Этот эпизод станет лишь небольшой заминкой в начале нашего великого и эпичного пути.
Но я не могу так поступить. Не могу оставить ее на улице. Отчасти потому, что это неправильно. Но в большей степени потому, что мы с ней уже прошли часть пути.
– Дашь мне второй шанс? – прошу я.
Она широко улыбается, и я понимаю: что бы ни произошло дальше, я поступил правильно.
Наташа
КОГДА МЫ ВХОДИМ, раздается звонок колокольчика – как и во многих магазинах с косметическими средствами, где я бывала. Небольшое пространство заставлено металлическими стеллажами с пластмассовыми флаконами, производители которых обещают, что именно их секретная формула идеально подойдет вашим волосам.
Касса находится прямо напротив двери, так что отца Даниэля я вижу сразу. Между ним и его сыном есть сходство: у обоих правильные черты лица, и оба очень привлекательны, хотя папа, конечно, уже в возрасте и начал лысеть. Он пробивает чек покупателю и никак не реагирует на появление Даниэля, хотя я уверена, что он заметил нас обоих. Возле кассы стоит парень примерно моего возраста, чернокожий с короткими фиолетовыми волосами, тремя кольцами в губах, одним в носу, одним в брови и бессчетным количеством сережек. Мне любопытно, что же он взял, но его покупка уже лежит в пакете.
Даниэль достает кошелек из кармана и идет к отцу. Тот быстро смотрит на него. Не знаю, что именно Даниэль прочел в этом взгляде, но он останавливается, вздыхая, а потом спрашивает меня:
– Тебе, может, нужно в туалет? Он в задней части магазина.
Я качаю головой. Он стоит, стиснув кошелек в руках.
– Что ж, добро пожаловать в наш магазин.
– Хочешь устроить мне экскурсию? – предлагаю я, чтобы помочь ему отвлечься.
– Тут особенно не на что смотреть. Первые три ряда – все для волос. Шампуни, кондиционеры, накладные пряди, краски, куча химических средств, в которых я не разбираюсь. В третьем ряду косметика. В четвертом – приборы.
Даниэль посматривает на отца, но тот все еще занят.
– Тебе что-нибудь нужно? – спрашивает он.
Я касаюсь своих волос:
– Нет, я…
– Я не о товарах. У нас есть холодильник с газировкой и всякой вкуснятиной.
– Давай, – отвечаю я. Мне интересно посмотреть, как у них все устроено.
Мы идем по ряду с полками, на котором лежат средства с красками для волос. На всех упаковках – широко улыбающиеся женщины с идеально окрашенными и уложенными волосами. В этих бутылках продается не краска – в них продается счастье. Я останавливаюсь перед коробочками с яркими красками и беру розовую. В глубине души, где живет очень маленькая непрактичная часть меня, я всегда хотела покрасить волосы в розовый цвет. Проходит пара секунд, прежде чем Даниэль осознает, перед чем я остановилась.
– Розовый? – спрашивает он, заметив коробочку у меня в руках.
Я кручу ее в руке:
– Почему бы и нет?
– Это вроде как не в твоем стиле.
Разумеется, Даниэль абсолютно прав, но меня бесит, что он так думает. Я что, чересчур предсказуемая и скучная? Я вспоминаю того парня, которого увидела у кассы. Готова поспорить, он не перестает удивлять окружающих.
– Ты мало обо мне знаешь, – произношу я, похлопывая себя по волосам. Он следит взглядом за моей рукой, и теперь мне действительно становится не по себе. Надеюсь, он не попросит разрешения потрогать мои волосы и не станет засыпать меня глупыми вопросами насчет них. Нет, ради бога, пусть трогает, я не против, но только не из любопытства…
– Мне кажется, ты была бы очень красивой с пышной розовой афро, – говорит он.
Искренность сексуальна, и мое циничное сердце смягчается от нее.
– Я не стану красить в розовый все волосы. Может, только концы.
Даниэль протягивает руку к коробочке с краской, и теперь мы оба держим ее, стоя друг напротив друга в проходе, где двоим не разминуться.
– Будет похоже на розовую глазурь, – говорит он, а потом проводит своими пальцами между прядями моих волос, и я понимаю, что я не против. Нисколько.
– О, глядите-ка. Мой. Младший. Братец здесь, – раздается голос в конце прохода. Даниэль отдергивает руку. Мы одновременно выпускаем краску из рук, и коробочка с грохотом падает на пол. Даниэль наклоняется за ней, а я поворачиваюсь лицом к непрошеному гостю.
Он выше, чем Даниэль, шире в плечах, а черты его лица острее. Он прислоняет к полке швабру, которую держит в руках, и неторопливо шагает по проходу прямо к нам. Его большие темные глаза злорадно блестят и полны любопытства. Не уверена, что этот человек мне нравится. Даниэль выпрямляется и протягивает мне коробку.
– Как дела, Чарли?
– Дела. Как сажа. Бела. Младший братец, – отзывается Чарли. Почему-то мне кажется, что он всю жизнь так отвечает на этот вопрос.
Он смотрит на меня и скорее насмехается, а не улыбается.
– Кто. Это. Такая? – спрашивает он, по-прежнему прожигая меня взглядом.
Даниэль делает глубокий вдох, собираясь ответить, но я встреваю.
– Наташа. – Он ждет продолжения. – Знакомая твоего брата.
– О, а я подумал, что он поймал воришку. – Наигранная невинность на лице. – В нашем-то магазине таких хватает. – У него насмешливый и недоброжелательный взгляд. – Сами понимаете.
Он определенно мне не нравится.
– Господи боже, Чарли, – говорит Даниэль. Он делает шаг к Чарли, но я хватаю его за руку. Даниэль останавливается и сжимает мою ладонь.
Чарли смотрит на наши руки.
– Это то, что я думаю? Любофффь, Маленький. Братец? – Он громко хлопает в ладоши, пританцовывая на месте. – Это же. Просто. Здорово. Да. Ты знаешь, что это значит, не так ли? Это значит, что с меня теперь взятки гладки. Когда предки узнают про вас, я снова стану бойскаутом. И хрен с ним, с этим испытательным сроком.
Он теперь смеется в голос, потирая ладони друг о друга, как какой-нибудь злодей, вынашивающий планы мирового господства.
– Ничего себе. Какой же ты козел, – говорю я, не в силах сдержаться.
Он улыбается так, словно я сделала ему комплимент. Но улыбка быстро сходит с его лица. Он снова смотрит на наши руки, а потом на Даниэля.
– Ну ты и идиот, – говорит он. – И куда это тебя приведет?
Я крепче сжимаю руку Даниэля и притягиваю ее к себе. Мне хочется доказать, что Чарли не прав.
– Делай, что должен. Пошли отсюда, – говорю я.
Он кивает, мы разворачиваемся – и тут же сталкиваемся с его отцом. Мы одновременно разнимаем руки, но поздно. Его отец уже все видел.
Даниэль Гигантский дятел маскируется под подростка, но ему не удается никого одурачить
ЧАРЛИ – ПРОСТО КОНЧЕНЫЙ ДЯТЕЛ. Мне хочется врезать по его довольной морде. Я мечтал сделать это с тех самых пор, как мне исполнилось десять лет, но сейчас он действительно зашел слишком далеко. Я уже думаю о том, как приятно будет сломать свою кисть о его лицо, но тепло Наташиной руки все еще успокаивает меня. Мне нужно увести ее отсюда, пока семья не уничтожила мою личную жизнь в самом зародыше.
– Что ты делаешь? – спрашивает отец на корейском.
Я решаю игнорировать тот вопрос, который он в действительности задает. Вместо этого протягиваю ему кошелек.
– Мама попросила отнести его тебе. – Я произношу это на английском, чтобы Наташа не думала, будто мы говорим о ней.
Чарли подкрадывается ко мне.
– Хочешь, я помогу твоей подружке с переводом? – язвит он.
Чарли делает слишком сильное ударение на слове «подружка». Быть говнюком – смысл его существования. Папа сердито смотрит на него:
– Я думал, ты не понимаешь по-корейски.
Чарли пожимает плечами:
– Справляюсь с грехом пополам. – Даже неодобрение отца не может помешать ему наслаждаться собой.
– Ты поэтому вылетел из Гарварда? Потому что справлялся с грехом пополам? – Эти слова папа произносит на корейском, потому что меньше всего ему хочется трясти нашим грязным бельем перед miguk saram. To есть американкой.
Чарли плевать на это – он все равно переводит, но его улыбка уже не такая довольная.
– Не беспокойся, – обращается он к Наташе. – Он говорит не о тебе. Пока еще. Он всего лишь называет меня тупым.
Лицо отца становится совершенно безучастным, и я понимаю, что вот теперь он по-настоящему зол. Чарли поймал его в ловушку. Он будет переводить абсолютно все, поэтому наш благопристойный отец не будет продолжать говорить. Вместо этого он надевает маску Почтенного Хозяина Магазина, какую всегда надевает перед покупателями.
– Вам что-нибудь нужно? – спрашивает он Наташу.
Он хлопает в ладоши, делает полупоклон и улыбается своей фирменной улыбкой.
– Нет, спасибо, мистер…
Она замолкает, потому как не знает моей фамилии. Отец не подсказывает.
– Да. Да. Вы подруга Даниэля. Берите все, что захотите.
Кажется, ситуация становится критичной, но я не знаю, как сгладить ее. Отец прохлопывает свои карманы, находит очки и принимается разглядывать флаконы на полке.
– Не в этом ряду, – бормочет он. – Пойдемте со мной.
Может, если мы просто согласимся, все закончится быстрее. Мы с Наташей безвольно следуем за ним, а Чарли ржет нам вслед. В следующем ряду отец находит то, что искал.
– Вот. Средство для выпрямления волос. – Он берет с полки большой черно-белый флакон и протягивает его Наташе.
– Средство для выпрямления, – повторяет он. – Чтобы убрать объем.
Как так получилось, что я родился в этой семье, и как мне сбежать? Чарли ржет – громко и долго. Я собираюсь сказать, что ей ничего не нужно, но Наташа перебивает меня:
– Спасибо, мистер…
– Бэ, – говорю я, потому что она должна знать мою фамилию.
– Мистер Бэ. Мне не нужно…
– Слишком большой объем, – снова повторяет он.
– Мне нравится большой объем, – отвечает Наташа.
– Тогда тебе нужен другой парень, – говорит Чарли. Он поигрывает бровями, чтобы мы все поняли намек.
Я удивлен, что он не сопровождает свою реплику жестом, чтобы точнее донести суть своей шутки. Но уже через мгновение он все-таки поднимает руку и показывает большим и указательным пальцами расстояние в пару сантиметров.
– Хорошая шутка, Чарли, – говорю я. – Да, мой пенис всего три сантиметра в длину.
Мне все равно, как на это реагирует отец. Наташа поворачивается ко мне, и у нее в буквальном смысле отвисает челюсть. Она определенно переосмысливает свой выбор. Я практически швыряю кошелек отцу. Хуже уже быть не может, поэтому я беру Наташу за руку, несмотря на то что отец стоит рядом с нами. К счастью, она позволяет мне это.
– Спасибо, приходите еще, – бросает Чарли нам вслед, когда мы уже подходим к двери.
Грязная свинья! Нет, сама грязь! Я показываю ему средний палец и игнорирую неодобрительный взгляд отца – мы еще обсудим между собой все произошедшее.
Наташа
Я СМЕЮСЬ, ХОТЯ ПОНИМАЮ, что это неправильно. Все прошло откровенно ужасно. Бедный Даниэль. Очевидный факт: семья – это тяжело.
Только у метро Даниэль наконец перестает тянуть меня за собой. Он кладет ладонь себе на шею и опускает голову.
– Прости меня, – произносит он так тихо, что я скорее читаю по губам, нежели слышу эти слова.
Я пытаюсь не расхохотаться, потому что у него такой вид, словно кто-то умер, но мне сложно с собой справиться. Вспоминаю его отца, пытающегося впихнуть мне средство для выпрямления волос, и взрываюсь от смеха. Я не могу остановиться. Я обхватываю живот руками в приступе истерического хохота. Даниэль молча смотрит на меня. Его лоб так нахмурен, что кажется, эти морщины уже не разгладятся.
– Это был кошмар, – говорю я, наконец успокоившись. – Хуже быть просто не может. Отец-расист Старший брат – расист и женоненавистник.
Даниэль потирает шею и хмурится еще сильнее.
– А сам магазин! Древние плакаты с этими женщинами, и твой отец, критикующий мою прическу, и твой брат, который шутит про маленький пенис.
Закончив наконец перечислять все то, что показалось мне ужасным, я снова начинаю хохотать.
Проходит еще несколько секунд, и он наконец тоже улыбается. Это хорошо.
– Рад, что тебе это кажется смешным, – произносит он.
– Да брось, – говорю я. – Трагедия – это забавно.
– А что, трагедия – это про нас? – спрашивает он, теперь уже с широкой улыбкой на лице.
– Конечно. Разве жизнь – не трагедия? Все мы в конечном итоге умираем.
– Наверное, – говорит он. Подойдя на шаг ближе, он берет мою руку и кладет ее себе на грудь.
Я изучаю свои ногти. Изучаю кутикулу. Все что угодно, только бы не смотреть в его карие глаза. Его сердце часто стучит под моими пальцами. Наконец я поднимаю взгляд, и он накрывает мою руку своей ладонью.
– Прости, – произносит Даниэль. – Прошу прощения за свою семью.
Я киваю молча, потому что с моими голосовыми связками творится что-то странное.
– Прости за все. За всю историю этого мира. За расизм. За несправедливость.
– Что ты вообще такое говоришь? Это не твоя вина. Ты не можешь извиняться за расизм.
– Могу и извиняюсь.
Господи. Спаси меня от хороших искренних мальчиков, которые воспринимают все так близко к сердцу. Я по-прежнему считаю, что сцена в магазине была забавной, несмотря на всю ее безупречную чудовищность, но понимаю, почему ему стыдно. Тяжело, когда не можешь гордиться тем местом, откуда ты родом, или своей семьей.
– Ты – не твой отец, – говорю я, но он мне не верит. Его страх понятен мне. Кто мы, если не плод наших родителей и их историй?
Волосы Корейско-американская история
СЕМЬЯ ДАНИЭЛЯ НЕ СЛУЧАЙНО занимается товарами для волос. Когда Дэ Хён и Мин Су переехали в Нью-Йорк, там их ожидало целое сообщество иммигрантов из Южной Кореи, которые были готовы им помочь. Кузен Дэ Хёна дал им взаймы денег и посоветовал открыть магазин средств по уходу за волосами, которые предназначены для афроамериканцев. У самого кузена был похожий магазин, как, впрочем, и у многих других иммигрантов из Кореи. Бизнес процветал.
Выходцы из Южной Кореи не случайно занимают первое место в индустрии косметической продукции для волос. Все началось в шестидесятые годы с ростом популярности париков для афроамериканцев, сделанных из волос южных корейцев. Эти парики так сильно пользовались спросом, что правительство Южной Кореи запретило экспорт натурального волоса со своих берегов. Таким образом, парики из южнокорейских волос могли производиться исключительно в Южной Корее. В то же время правительство США запретило импорт париков, в составе которых были волосы из Китая. Благодаря этим действиям доминирование Южной Кореи на рынке париков успешно закрепилось. Позже кроме париков начали продавать и другие товары для волос.
По оценкам экспертов, южнокорейские предприниматели контролируют от шестидесяти до восьмидесяти процентов этого рынка, включая распространение, розницу и производство. То ли по культурным, то ли по расовым причинам, никакая другая группа не может легко войти в эту индустрии. Южнокорейские дистрибьюторы распределяют товар главным образом по южнокорейским розничным точкам, тем самым блокируя всем остальным доступ на рынок.
Дэ Хёну неизвестна эта история. Он знает одно: Америка – страна возможностей. Его дети будут иметь больше, чем в свое время имел он.
Даниэль
МНЕ ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ Наташу за то, что она меня не возненавидела. Кто бы обвинил ее в этом после сцены в магазине? Она не обязана была вести себя так спокойно. Если бы она накричала на отца и брата, я бы все понял. Это чудо (сродни превращению воды в вино), что она по-прежнему хочет со мной общаться, и я благодарен ей за это. Я не высказываю все эти мысли вслух, только спрашиваю, не хочет ли она перекусить. Мы вернулись к метро, и сейчас я мечтаю оказаться как можно дальше от нашего магазина. Если бы эта ветка метро вела до Луны, я бы уехал прямо на нее.
– Просто умираю от голода, – говорю я.
Она закатывает глаза:
– Умираешь, правда? У тебя талант все преувеличивать.
– Я компенсирую твою рассудительность.
– Ты знаешь, где можно поесть? – спрашивает она.
Я предлагаю пойти в мой любимый ресторан в Корейском квартале, и она соглашается.
Мы находим в поезде два свободных места и садимся рядом друг с другом. У нас есть сорок минут, чтобы вернуться обратно в деловой центр. Я достаю телефон, чтобы посмотреть, какие у нас остались вопросы.
– Готова продолжить?
Наташа двигается ближе ко мне. Мы соприкасаемся плечами, и она заглядывает в мой телефон. Она сидит так близко, что ее волосы щекочут мне нос. Я ничего не могу с собой поделать и медленно вдыхаю их запах так, чтобы она не заметила. Но Наташа замечает, и, отпрянув, округляет глаза. Вид у нее оскорбленный.
– Ты что, нюхал мои волосы? – спрашивает она, касаясь той части волос, к которой я только что прикасался носом.
Я не знаю, что ответить. Если отвечу «да», она подумает, что я мерзкий. А если отвечу «нет» – что я мерзкий лжец. Она прислоняет к носу прядь своих волос и вдыхает. Неужели она подумала, что ее волосы плохо пахнут?
– Нет. То есть да. Да, я их нюхал.
Я замолкаю, потому что она, кажется, просто в шоке.
– И?..
Через мгновение я понимаю, о чем она спрашивает.
– Они пахнут потрясающе. Так пахнет воздух весной после маленького дождя, когда из-за туч уже выглядывает солнце, а лужи начинают испаряться. Правда, приятно.
Я заставляю себя заткнуться, хотя могу еще долго говорить всю эту чушь. Уставившись в телефон, надеюсь и жду, что она снова придвинется ко мне.
Наташа
ОН СЧИТАЕТ, ЧТО МОИ ВОЛОСЫ пахнут как воздух после весеннего дождя. Я пытаюсь остаться равнодушной и непоколебимой. Напоминаю себе, что не люблю язык поэзии. Мне не нравятся стихи. Мне даже не нравятся люди, которым нравится поэзия. Но ведь я не мертвая.
Даниэль
НАТАША СНОВА ПОДОДВИГАЕТСЯ ко мне, и я сразу же рвусь в бой. Я становлюсь решительным, когда она рядом. Возможно, когда влюбляешься в кого-то, влюбляешься и в себя. Мне нравится, какой я с ней. Мне нравится, когда я говорю то, что думаю. Мне нравится, что я не сдаюсь, несмотря на все преграды, которые она строит между нами. В любой другой день я бы уже давно отказался от борьбы, но только не сегодня. Я говорю громче, чтобы перекричать стук колес.
– Итак. Переходим ко второму разделу. – Я отрываюсь от телефона и смотрю на Наташу. – Готова? Тут уже посложнее.
Она хмурится, но все же кивает. Я читаю вопросы вслух, и она выбирает номер двадцать четыре: «Что ты можешь сказать об отношениях со своей матерью (и отцом)?»
– Ты первый, – говорит она.
– Что ж. Ты видела моего папу. – Я даже не знаю, с чего начать. Конечно, я люблю его. Но, наверное, можно любить кого-то и при этом быть с ним не в ладу. Интересно, так происходит из-за типичных терок между отцом и сыном-подростком (отбой в десять вечера, серьезно?) или из-за культурных разногласий (корейский кореец против корейского американца)? Или из-за и того и другого?
Порой мне кажется, что мы с ним находимся по разные стороны звуконепроницаемой стеклянной стены. Видим друг друга, но не слышим.
– Так, значит, ничего хорошего? – дразнит меня Наташа.
Я смеюсь, поражаясь тому, как она умудряется подобрать настолько простые и точные определения для таких сложных ситуаций. Поезд резко тормозит, и мы по инерции прижимаемся друг к другу сильнее. Наташа не отстраняется.
– А мама? – спрашивает она.
– Неплохо. – Я не вру. – Наверное, мы с ней похожи. Она рисует. Творческий человек. – Забавно, но я никогда раньше не задумывался о том, что у нас с ней есть нечто общее. – Теперь твоя очередь.
Наташа смотрит на меня.
– Напомни мне, почему я на это согласилась?
– Хочешь, прекратим? – предлагаю я, хоть и знаю, что она ответит отрицательно. Она из тех людей, которые всегда доводят начатое до конца. – Я облегчу тебе задачу. Ты можешь показать жестами: палец вверх – «все хорошо», палец вниз – «все плохо»?
Она кивает, соглашаясь.
– Мама? – спрашиваю я.
Большой палец вверх.
– Очень хорошо?
– Не будем преувеличивать. Мне семнадцать, и она моя мама.
– Папа?
Палец вниз.
– Очень плохо? – спрашиваю я.
– Очень, очень, очень плохо.
Наташа
– ТРУДНО ЛЮБИТЬ кого-то, кто не любит тебя, – говорю я Даниэлю.
Он открывает рот, чтобы ответить, но не говорит. Хочет сказать, что мой отец, разумеется, любит меня. Что все родители любят своих детей. Но это неправда. Ничто не является универсальной истиной. Большинство родителей любят своих детей. Моя мать любит меня, это правда. Есть еще одна правда: мой отец сожалеет о моем появлении на свет.
С чего я это взяла? Он сам так сказал.
Сэмюэль Кингсли История сожаления, часть 2
СЭМЮЭЛЬ КИНГСЛИ БЫЛ УВЕРЕН, что ему суждено стать знаменитым. Бог, конечно же, не одарил бы его таким большим талантом, не дав возможности его проявить. Потом он встретил Патрицию. Бог, конечно же, не дал бы ему прекрасную жену и детей, если бы Сэмюэль не мог обеспечить их всем необходимым.
Он помнит тот момент, когда познакомился с Патрицией. Это было в Монтего-Бей. Шел дождь, настоящий тропический ливень. Такие обычно начинаются так же внезапно, как и кончаются. Сэмюэль забежал в магазин одежды, чтобы не промокнуть насквозь перед прослушиванием.
Патриция была менеджером в этом магазине. Когда Самюэль впервые увидел ее, она выглядела очень деловой. У нее были короткие вьющиеся волосы, самые очаровательные глаза, которые он когда-либо видел, и робкий взгляд. Его всегда привлекали стеснительные девушки – присущая им сдержанность и тайна. Он цитировал ей Боба Марли и Роберта Фроста. Он пел ей песни. Патриция не устояла перед его чарами. В тот день он опоздал на свое прослушивание, но ему было все равно. Он не мог наглядеться в эти глубокие глаза.
Но интуиция подсказывала ему, что от этой женщины нужно держаться подальше. Перед ним в ту минуту словно оказались две дороги. Если бы он выбрал ту, ради которой пришлось бы выйти из магазина и оставить Патрицию, все бы в его жизни сложилось совсем иначе.
Даниэль
– КОРЕЙСКАЯ ЕДА? Лучшая еда. Здоровая. Тебе полезно, – говорю я Наташе, пародируя свою мать. Она твердит это всякий раз, когда мы идем ужинать в какой-нибудь ресторан. Чарли всегда предлагает пойти в американский, но мама с папой вечно отводят нас в корейский, хотя мы и так каждый день едим дома корейскую еду. Впрочем, я согласен с мамой. Корейская еда? Лучшая еда.
У Наташи осталось не так много времени до назначенной ей встречи, и я начинаю сомневаться в том, что успею влюбить ее в себя за ближайшие пару часов. По крайней мере, я должен сделать так, чтобы завтра ей захотелось увидеться со мной снова.
Мы заходим в мой любимый ресторан, и официанты приветствуют нас: «Annyeonghaseyo![15]»
Я люблю это место. Рагу из морепродуктов готовят здесь такое же вкусно, как мама. В этом ресторане довольно простенькая обстановка: небольшие деревянные столики в центре зала, а по периметру – кабинки. Сейчас здесь не много народу, так что нам удается занять кабинку.
Наташа просит меня выбрать блюда.
– Я буду есть то, что ты порекомендуешь, – говорит она.
Я нажимаю на кнопку, прикрепленную к столу, – официантка появляется через секунду. Я заказываю два супа с морепродуктами – сундубу, кальби – говяжьи ребрышки и па чжон – блинчики с зеленым луком.
– Там что, звонок? – спрашивает Наташа, когда официантка удаляется.
– Классно, правда? Корейцы – прагматичный народ, – говорю я, шутя лишь отчасти. – Никакой тебе загадки: «Когда появится мой официант?», «Когда мне принесут счет?»
– А в американских ресторанах об этом знают? Мы должны им рассказать. Такие звонки должны быть везде.
Я смеюсь и соглашаюсь с ней.
– Нет, я передумала. Представь только, что какой-нибудь придурок будет нажимать на эту кнопку, только чтобы попросить у официанта кетчуп?
Панчхан, бесплатные закуски, приносят сразу же. Я готовлюсь объяснить ей, что она будет сейчас есть. Однажды один мой знакомый, когда мы сидели здесь, пошутил: «Из чего это приготовлено? Из собаки?» Я почувствовал себя дерьмово, но все равно смеялся. В таких ситуациях мне хочется иметь Право отмотать все назад. Вопреки моим ожиданиям Наташа не задает вопросов. Официантка приносит нам палочки.
– О, принесите мне вилку, пожалуйста, – просит Наташа.
Официантка смотрит на нее с неодобрением и, повернувшись ко мне, говорит:
– Научи девушку пользоваться палочками.
С этими словами она удаляется, а Наташа спрашивает удивленно:
– Она что, не принесет мне вилку?
Я смеюсь и, качая головой, восклицаю:
– Какого черта?
– Похоже, тебе придется научить меня пользоваться палочками.
– Забей на нее, – говорю я. – Некоторые не любят, когда нарушают традиции.
Наташа пожимает плечами:
– Во всех культурах так. Американцы, французы, ямайцы, корейцы – все считают, что их традиции лучшие.
– Может, мы, корейцы, на самом деле правы, – говорю я с улыбкой.
Официантка ставит перед нами суп и два сырых яйца. Затем швыряет в центр стола завернутые в салфетку ложки.
– Как это называется? – спрашивает Наташа, когда официантка уходит.
– Сундубу, – отвечаю я.
Она смотрит, как я разбиваю яйцо в суп и топлю его под кубиками дымящегося тофу, креветками и моллюсками, чтобы оно сварилось. Она делает то же самое и даже не интересуется, не опасно ли есть сырое яйцо.
– Вкусно, – говорит она, съев ложку супа и качая головой от удовольствия. – Почему ты считаешь себя корейцем? – спрашивает она, съев еще несколько ложек. – Разве ты не здесь родился?
– Это не важно. Меня всегда спрашивают, где я родился. Я обычно говорю, что здесь, но потом меня спрашивают, откуда я на самом деле, и тогда я отвечаю, что из Кореи. Иногда говорю, что из Северной Кореи, и добавляю, что мы с родителями бежали из подводной тюрьмы, полной пираний, где Ким Чен Ын держал нас в заточении.
Она не улыбается, как я ожидал. Только спрашивает, зачем я так говорю.
– Потому что не имеет значения, что я скажу. Люди смотрят на меня и верят в то, во что им хочется верить.
– Печально, – отвечает она, подхватывая и отправляя в рот немного острых квашеных овощей – кимчхи.
Я мог бы целый день наблюдать за тем, как она ест.
– Я привык. Мои родители считают, что я не совсем кореец. Все остальные считают, что я не вполне американец.
– Это правда печально. – Она переходит от кимчхи к пророщенным бобам. – Но мне кажется, тебе не стоит говорить, что ты из Кореи.
– Почему?
– Потому что это не правда. Ты же родился здесь. Мне нравится, что у нее все так просто. Мне нравится, что в любой ситуации она говорит правду.
Вопрос о национальной принадлежности ставит меня в тупик, а она советует мне рассказывать людям все так, как есть.
– Это их проблемы, что они подумают, а не твои, – добавляет она.
– А с тобой так же?
– Да, но только я-то не здесь родилась, помнишь? Мы переехали сюда, когда мне было восемь. Я говорила с акцентом. Когда пошел снег, я была в классе и так удивилась, что даже встала, чтобы на него посмотреть.
– О нет.
– Ода.
– Другие дети…
– Приятного в этой ситуации было мало. – Она ежится, вспоминая это. – Хочешь услышать историю, похуже этой? В первом же диктанте учительница отметила, что я написала неправильно слово favorite – с буквой ни».
– Так это же правда неправильно.
– Не-а. – Она машет на меня ложкой. – Английское слово пишется с «и». Так говорит сама королева Англии. Загляни в словарь, американский мальчик. Так или иначе, я была ботаником, поэтому пошла домой, принесла ей словарь и вернула себе баллы.
– Да ладно.
– Ага, – говорит она с улыбкой.
– Тебе и впрямь нужны были эти баллы.
– Они принадлежали мне по праву. – Она хихикает.
Вот уж не думал, что она умеет хихикать. Конечно, я знаком с ней всего несколько часов и не знаю о ней многого. Мне нравится узнавать человека. Нравится первое впечатление – каждое новое слово, каждая новая эмоция на лице кажутся волшебными. Не представляю, что она может мне наскучить. Не могу вообразить, что когда-нибудь мне не захочется услышать то, что она скажет.
– Хватит, – говорит Наташа.
– Что хватит?
– Пялиться на меня.
– Ладно. – Я достаю яйцо из супа и вижу, что оно уже сварилось всмятку. – Давай съедим их вместе. Это самое вкусное.
Она достает свое, и теперь мы оба держим ложки с яйцом в руках.
– На счет три. Раз. Два. Три.
Мы съедаем яйца. Я вижу, как ее глаза округляются. Я знаю, в какой именно момент желток лопается у нее во рту. Она прикрывает глаза от удовольствия, словно никогда не пробовала ничего вкуснее. Она просила не пялиться, но я все равно смотрю на нее. Она ловит ощущения всем своим телом. Интересно, почему столь чувственная девушка так упорно не подпускает к себе ни одно чувство?
Официантка История любви
НАУЧИТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПАЛОЧКАМИ
НАУЧИ ДЕВУШКУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ палочками. Мой сын, он сделал то же самое. Он встречался с белой девушкой. Мой муж? Он это не принял. Сначала я согласилась с ним. Мы не говорили с сыном целый год после того, как он сказал об этом нам. Я подумала: мы не будем говорить с ним. Пусть поймет причину и одумается.
Мы не говорили, и я скучала по нему. Я скучала по своему мальчику, и его американским шуткам, и по тому, как он щиплет меня за щеки и называет меня самой симпатичной умма из всех. Мой сын, который никогда не стыдился меня, когда все остальные мальчики стали слишком американцами.
Мы не говорили с ним больше года. Наконец, когда он позвонил, я подумала, что он наконец одумался. Белая девушка никогда не сможет понять нас, никогда не станет кореянкой. Но он позвонил только затем, чтобы сообщить нам о своей свадьбе. Он хотел, чтобы мы пришли. Я знала, как сильно он ее любит. Любит больше, чем меня. Я поняла, что, если не приду на эту свадьбу, потеряю своего единственного сына. Своего единственного сына, который любит меня.
Но муж отказался. Мой сын умолял нас прийти, и я все отказывала и отказывала ему, пока он не перестал умолять. Он женился. Я видела фотографии на Facebook. У них родился сын. И это я тоже увидела на Facebook. Потом появился ещё один ребенок. На этот раз девочка. Мои внуки, которых я видела только на экране компьютера.
Теперь, когда все эти мальчики приходят в наш ресторан с девчонками, не похожими на их умму, я злюсь. Эта страна пытается отнять у нас все. Наш язык, нашу еду, наших детей. Научитесь пользоваться палочками. Нельзя позволить этой стране отобрать у нас все.
Наташа
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ ДВУХ часов до назначенной встречи, и Даниэль очень хочет пойти в норэбан, что в переводе с корейского означает «караоке». Само слово «караоке» – японского происхождения; петь в караоке означает позориться в помещении, полном чужих людей, которые приходят сюда только для того, чтобы над тобой посмеяться.
– Оно отличается от американского караоке, – утверждает Даниэль, когда я начинаю отпираться. – Здесь намного цивилизованнее.
Говоря цивилизованнее, он подразумевает, что здесь вы позоритесь в маленькой приватной комнатке исключительно в кругу своих друзей. По случайному совпадению его любимый норэбан находится по соседству с рестораном, где мы только что пообедали. Оба заведения держат одни и те же люди, так что нам даже не приходится выходить на улицу, чтобы туда попасть.
Даниэль выбирает одну из самых маленьких комнаток, но она все равно оказывается большой. Эти помещения явно предназначены для компаний из шести или восьми человек, никак не двух. Освещение в комнате тусклое, а по периметру стоят мягкие диваны из красной кожи. Перед диванами – квадратный кофейный столик. На нем лежат микрофон, какой-то замысловатый пульт и толстая книжка, на обложке которой на трех языках написано «Каталог песен». Рядом с дверью – большой телевизор, на котором будут появляться тексты песен. На потолке висит диско-шар.
Бев это место пришлось бы по вкусу. Во-первых, она слегка помешана на диско-шарах. Четыре таких же висят на потолке в ее комнате. Еще у нее есть лампа-часы в форме диско-шара. Во-вторых, у нее шикарный голос, и она не упускает возможности продемонстрировать его другим. Я проверяю, не приходили ли от нее сообщения. Нет, ничего. Она просто занята, успокаиваю я себя. Она еще не забыла обо мне. Я все еще здесь.
Даниэль закрывает дверь.
– Поверить не могу, что ты никогда не была в норэбане, – говорит он.
– Возмутительно, знаю, – киваю я.
С закрытой дверью комната кажется совсем небольшой, а обстановка – интимной. Он смотрит на меня, и мне кажется, он думает о том же.
– Давай закажем десерт, – предлагает он и нажимает кнопку вызова официанта на стене. Принять заказ приходит та же самая официантка, которая обслуживала нас в ресторане. Она даже не удосуживается взглянуть на меня. Даниэль заказывает нам патбинсу – ледяная стружка с фруктами, небольшими кусочками рисового пирога и сладкими красными бобами.
– Нравится? – спрашивает он. Ему важно, чтобы мне понравилось.
Я быстро съедаю десерт – хватило и шести ложек. Как он может не понравиться? Сладкий, прохладный и очень вкусный. Даниэль улыбается мне, и я улыбаюсь ему в ответ.
Очевидный факт: мне нравится его радовать.
Очевидный факт: я не знаю, как давно это со мной происходит.
Он берет со стола каталог песен и открывает раздел на английском языке. Пока он мучительно раздумывает над тем, какую песню выбрать, я смотрю видеоклипы в жанре кей-поп[16], которые крутят по телевизору. Они яркие и зажигательные.
– Просто выбери какую-нибудь песню, – говорю я, когда начинается третий клип.
– Это же норэбан, – отвечает он. – Тут не ты выбираешь песню. Песня выбирает тебя.
– Скажи, что ты шутишь.
Он подмигивает мне и ослабляет галстук.
– Да, шучу, но не торопи меня. Я пытаюсь найти что-нибудь подходящее, чтобы по-настоящему впечатлить тебя своими певческими талантами.
Он расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Я смотрю на его руки, когда он снимает галстук через голову. Это только галстук! Он же не раздевается у меня на глазах. Почему тогда мне кажется, что это не так? Я не вижу ничего откровенного, может, только мельком замечаю оголенную шею. Он снимает с головы резинку и бросает ее на стол. Волосы падают ему на лицо, и он машинально заправляет их за уши. Я просто не могу не пялиться на него. Как будто я весь день только и ждала, что он это сделает.
Очевидный факт: он довольно сексуален с распущенными волосами.
Очевидный факт: он сексуален и с завязанными волосами.
Я отвожу взгляд, уставившись на кондиционер, что висит на стене. Хочу сделать температуру пониже. Даниэль закатывает рукава, что меня смешит. Он готовится так, словно нас ждет тяжелый физический труд. Я пытаюсь не заострять внимание на его мускулистых руках, но мой взгляд скользит по ним снова и снова.
– Ты хорошо поешь? – спрашиваю я.
Он смотрит на меня с напускной серьезностью, но в глазах у него загораются искорки.
– Не буду врать, – говорит он. – Я хорош. Уровень итальянского оперного певца. – Он берет пульт, чтобы ввести номер выбранной песни. – А ты?
Я не отвечаю. Он скоро это узнает. На самом деле мое пение определенно излечит его от влюбленности.
Очевидный факт: я пою хуже всех на свете.
Даниэль идет к открытой площадке перед телевизором. По всей видимости, ему понадобится пространство для маневра. Он встает, широко расставив ноги, наклоняет голову так, что волосы падают ему на лицо, и, взяв микрофон в одну руку, поднимает его вверх – классическая поза рок-звезды. Он выбрал песню Take a Chance on Me[17] группы АВВА. Прижав руку к сердцу, с чувством исполняет первый куплет. Как и следует из названия, это песня про шансы, а конкретно в нашем случае про то, что я должна дать шанс ему.
Ко второму куплету он входит в раж и использует все слащавые попсовые ужимки, включая поигрывание бровями, проникновенные взгляды и надувание губ. Согласно тексту песни, пока мы вместе, мы можем делать много классных вещей. Например, танцевать, гулять, разговаривать и слушать музыку. Странно, но нет упоминаний о поцелуях. Он жестами изображает каждое из перечисленных действий, как какой-нибудь душевнобольной мим, и я не могу перестать смеяться. Во время третьего куплета он опускается передо мной на колени.
В песне еще есть слова про одиночество и упорхнувших птичек, но я не совсем их понимаю. Это я – птичка? Или он? Почему там вообще речь о птицах? Оставшуюся часть песни Даниэль самозабвенно поет, стоя на ногах и сжимая микрофон обеими руками. Мой истерический хохот его не смущает. Он не шутил, утверждая, что хороший певец. Он поет просто блестяще. Даже исполняет роль бэк-вокалиста, подпевая самому себе. Это не сексуально. Это просто забавно. Настолько забавно, что становится сексуальным. Не знала, что так бывает.
Я замечаю, как ткань рубашки натягивается на его груди, когда он делает все эти танцевальные движения.
Замечаю, какие длинные у него пальцы, когда он театрально проводит рукой по волосам. Замечаю, какой красивой и крепкой кажется его задница в этих брюках.
Очевидный факт: я питаю слабость к задницам.
Учитывая, какой у меня сегодня дерьмовый день, все вышеперечисленное вообще не должно на меня действовать. Но действует. Даниэль ни капли не смущается. Ему плевать, выставит он себя дураком или нет. Его единственная цель – рассмешить меня. Песня длинная, и к ее окончанию он весь покрыт испариной. Он смотрит на экран до тех пор, пока там не появляется карамельно-розовый танцующий мультяшный микрофон. Он держит табличку с надписью «99 %». Экран наполняется конфетти.
Я издаю стон:
– Ты не говорил, что нам будут ставить оценки.
Даниэль, торжествующе улыбаясь, падает на сиденье рядом со мной. Наши руки едва ощутимо соприкасаются, один раз, а потом еще. Я чувствую себя глупо оттого, что замечаю это.
Он протягивает мне микрофон:
– Жги.
Даниэль
ЧЕРТ, ПОЧЕМУ Я РАНЬШЕ не догадался пойти в норэбан. Оказаться наедине с ней в тускло освещенной комнате – это как оказаться в раю (диско-раю). Она просматривает каталог песен и говорит, что поет ужасно. Я наконец-то могу смотреть на нее, сколько захочу, потому как сейчас она слишком растеряна, чтобы запретить мне это делать. Не скажу точно, что в ее лице нравится мне больше всего. Прямо сейчас, возможно, губы. Она закусила нижнюю – похоже, это выражение ее лица сопряжено с муками выбора.
Наконец она решается. Вместо того чтобы взять пульт, она тянется к нему через стол и вводит код выбранной песни. Ее платье немного задирается, и я вижу заднюю часть ее бедер. На коже остались небольшие вмятинки после дивана. Мне хочется прикоснуться к ним рукой. Она поворачивается ко мне, и я даже не притворяюсь, что не пялился. Зачем мне это делать? Я хочу ее и хочу, чтобы она об этом знала. Она не сводит с меня взгляда. Ее губы приоткрываются (у нее правда самые красивые губы в целой вселенной), и она проводит языком по нижней губе.
Я хочу встать прямо сейчас и прямо сейчас поцеловать ее. Никакая сила на земле не сможет остановить меня. Но тут начинается песня, уничтожая все своей меланхолией. Я узнаю ее по вступительным аккордам. Это композиция Fell on Black Days группы Soundgarden. Вокалист группы Крис Корнелл сразу же сообщает о том, что все, чего он боялся, сбылось. Далее все развивается по унылому сценарию, пока мы не добираемся до припева, в котором он ровно миллиард раз (плюс-минус) повторяет, что в его жизни наступила черная полоса. Эта песня (объективно) – одна из самых депрессивных песен в истории человечества.
И тем не менее Наташе она нравится. Сжав микрофон обеими руками, она крепко зажмуривается. Ее пение убедительно, проникновенно и совершенно ужасно. Она действительно плохо поет. Очень плохо. Я совершенно уверен, что она лишена музыкального слуха. Если она порой и попадает в ноты – то это чистая случайность. Наташа неуклюже раскачивается из стороны в сторону с закрытыми глазами. Ей нет нужды читать слова песни, потому что она знает их наизусть.
К началу последнего припева она полностью забывает обо мне. Ее неуклюжесть куда-то испаряется. Пение по-прежнему хорошим не назовешь, но теперь, прижав одну руку к сердцу, она с настоящим чувством поет строки о том, что не знает свою судьбу. К счастью, песня заканчивается. Эта композиция – просто лекарство от счастья. Наташа украдкой бросает на меня взгляд. Прежде я не видел смущения на ее лице. Она снова закусывает нижнюю губу и морщится. Она очаровательна.
– Люблю эту песню.
– Мрачновата, не правда ли? – дразню я ее.
– Немного тоски никому не повредит.
– Ты наименее тоскливый человек из всех, кого я встречал.
– Не правда, – говорит она. – Я просто хорошо притворяюсь.
Не думаю, что она собиралась мне в этом признаваться. Не думаю, что ей нравится показывать свои слабые места. Отвернувшись, она кладет микрофон на стол. Но я не упущу момент. Я ловлю ее за руку и притягиваю к себе. Она не сопротивляется, а я не перестаю тянуть, пока ее тело не прижимается к моему. Я не перестаю, пока она не оказывается на совсем маленьком расстоянии.
– Я не слышал пения хуже, чем твое, – сообщаю я.
Ее глаза сверкают.
– А я говорила тебе, что все плохо.
– Не говорила.
– В мыслях сказала.
– Я есть в твоих мыслях? – спрашиваю я ее.
Она так близко, что я ощущаю тепло, исходящее от ее кожи. Одну руку я кладу ей на талию, а другую запускаю в ее волосы. Это расстояние опасно – между нами может произойти что угодно. Я жду, пока ее глаза скажут мне да, а потом целую ее. У нее невероятно мягкие губы, и я тону в них. Сначала наш поцелуй мягкий, мы только соприкасаемся губами, но вскоре она приоткрывает губы, и наши языки сплетаются. Я возбужден, но не смущаюсь – все это слишком приятно, чтобы оставаться правильным. Она издает тихий стон, отчего мне хочется целовать ее еще сильнее.
Мне плевать, что она там говорит о любви и химических веществах. Это больше, чем химия. Она отстраняется и смотрит на меня. Ее глаза словно две искрящихся черных звезды.
– Вернись, – говорю я и целую ее снова. Будто в последний раз. Целую так, словно завтра никогда не наступит.
Наташа
Я НЕ МОГУ ОСТАНОВИТЬСЯ. Я не хочу останавливаться. Моему телу плевать, что думает мозг. Я ощущаю его поцелуй всем своим существом. На кончиках волос. В середине живота. Тыльной стороной коленей. Мне хочется вобрать его в себя, хочется раствориться в нем. Мы отходим назад, и мои ноги натыкаются на диван. Я опускаюсь, а он нависает надо мной, стоя одной ногой на полу.
Мне необходимо продлить этот поцелуй. Мое тело будто охвачено лихорадкой. Я не могу насытиться. Мне нужно быть еще ближе. Внутри меня нарастает хаос. Я выгибаюсь на диване, чтобы прижаться к нему сильнее. Его рука сжимает мою талию и поднимается выше. Едва касается моей груди. Я обхватываю его руками за шею, а потом запускаю пальцы в его волосы. Наконец-то. Я хотела сделать это весь день.
Очевидный факт: я не верю в волшебство.
Очевидный факт: мы есть волшебство.
Даниэль
БОЖЕ…
Наташа
…МОЙ.
Даниэль
МЫ НЕ МОЖЕМ заняться сексом в норэбане.
Мы.
Не.
Можем.
Но я вот-вот признаюсь в том, что хочу этого. Если я сейчас не перестану целовать ее, клянусь, я скажу. Я не хочу, чтобы она подумала, будто я из тех, кто, познакомившись с девушкой, предлагает ей заняться сексом в норэбане после первого же (псевдо) свидания. Хотя я уже веду себя так, потому что, боже правый, я правда хочу заняться с ней любовью прямо сейчас, прямо здесь, в норэбане.
Наташа
МОИ РУКИ НЕ МОГУТ от него оторваться. Они оставляют в покое его волосы и спускаются к твердым, перекатывающимся мускулам его спины. Самовольно ощупывают его задницу. Как я и подозревала, она великолепна. Твердая, округлая – идеальные пропорции. Такую задницу хочется трогать постоянно. Он вообще никогда не должен носить штанов.
Я обхватываю ее ладонью и сжимаю, и это даже приятнее, чем я ожидала. Он поднимается надо мной, упершись руками по обе стороны от моей головы, и улыбается:
– Вообще-то, это не дыня.
– Мне нравится, – говорю я и сжимаю ее снова.
– Она твоя.
– Никогда не думал носить гамаши? – спрашиваю я.
– Ни в коем случае, – говорит он, смеясь и заливаясь румянцем.
Мне правда нравится вгонять его в краску. Он наклоняется и целует меня снова. Кажется, что сейчас нет ни единой клеточки в моем теле, которая сопротивлялась бы ему. Я отрываю руки от его задницы и беру за плечи, чтобы остановиться. Если я буду целовать его и дальше, будет только хуже.
Итак. Никаких больше поцелуев.
Даниэль
Я ОЩУЩАЮ, КАК ОНА колеблется, и, по правде говоря, я тоже немного напуган силой того, что происходит между нами. Я поднимаюсь и помогаю ей сесть. Обхватываю ее ладонью за шею и прижимаюсь лбом к ее лбу. Мы оба дышим слишком часто, слишком порывисто. Я знал, что между нами есть какая-то химия, но такого не ожидал. Мы слово хворост под ударами молний. Зажженная спичка и сухое дерево. Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности и лес, ожидающий пожара.
Из всех возможных сценариев сегодняшнего дня этот я не предвидел. Но теперь я уверен в том, что все случившееся сегодня вело меня к ней и нас – к этому моменту, а этот момент свяжет нас навсегда. Даже отчисление Чарли из Гарварда кажется мне частью плана, существовавшего для того, чтобы привести нас сюда. Если бы Чарли не облажался, моя мама не сказала бы то, что сказала сегодня утром. Если бы она не сделала это, я бы не уехал так рано на стрижку, которую так и не сделал.
Я бы не сел на Поезд номер 7 с машинистом-теологом, который ищет Бога. Если бы не он, я бы не вышел из метро, чтобы пройтись пешком, и не увидел бы Наташу, которая была в почти религиозной эйфории от музыки. Если бы не та речь машиниста о Боге, я бы не заметил ее куртку с надписью «Бог из машины». Если бы не эта куртка, я бы не вошел следом за ней в магазин пластинок. Если бы не ее воришка-бывший, я бы не заговорил с ней. Даже тому придурку на BMW надо отдать должное. Если бы он не поехал на красный, у меня не было бы второго шанса. Все это – абсолютно все – вело нас сюда.
Отдышавшись, я целую кончик ее носа.
– Говорил тебе. – И еще раз целую.
– Ты фетишируешь на носы? – говорит она, а потом спрашивает: – Что именно ты мне говорил?
Я перемежаю свои слова поцелуями в нос.
– Нам.
Поцелуй.
– Суждено.
Поцелуй.
– Быть.
Поцелуй.
– Вместе.
Поцелуй.
Она отстраняется. Ее глаза – словно грозовые облака. Мне сложно оторваться от нее, разлучить нас – это как разделить два магнита. Я что, отпугнул ее своими разговорами о судьбе? Она отодвигается от меня, образуя между нами слишком большой разрыв. Я не хочу, чтобы этот момент заканчивался. Несколько секунд назад мне казалось, что он будет длиться вечно.
– Не хочешь спеть еще одну песню? – спрашиваю я.
Мой голос срывается, и я откашливаюсь. Я перевожу взгляд на экран. Мы не успели увидеть ее баллы, перед тем как начать целоваться. У нее 89 % попаданий – кошмарный результат. Крайне сложно набрать меньше 90 % в норэбане. Она тоже молча смотрит на экран. Я не могу понять, что творится у нее в голове. Почему она противится тому, что существует между нами? Она прикасается к своим волосам, натягивает прядь и отпускает ее, натягивает еще одну и снова отпускает.
– Прости, – говорит она.
Я подсаживаюсь к ней, сводя на нет расстояние, которое она создала между нами. Ее руки сложены на коленях.
– За что ты просишь прощения?
– За то, что я то холодная, то горячая.
– Еще недавно ты холодной не была, – говорю я, выдавая самую неудачную шутку (наряду с каламбурами, намеки с сексуальным подтекстом – низшая форма юмора), на которую был в этот момент способен. Я даже поигрываю бровями, а потом жду ее реакции. Она может быть любой.
Улыбка расползается по ее лицу.
– Ух ты, – говорит она, и ее голос теплеет. – Ты определенно умеешь обращаться со словами.
– И с дамами, – говорю я, явно переигрывая. Я с радостью выставлю себя на посмешище – только бы рассмешить ее.
Она снова смеется и откидывается на спинку дивана.
– Уверен, что тебе стоит быть поэтом? Это была худшая строчка из всех, что я слышала.
– Ты ждала чего-то…
– Более поэтичного, – подсказывает она.
– Шутишь? Большинство стихотворений – о сексе.
Она настроена скептически.
– У тебя есть реальные данные, которыми ты можешь подкрепить свои слова? Хочу видеть цифры.
– Ученый! – упрекаю ее я.
– Поэт! – парирует она.
Мы оба улыбаемся, ужасно довольные и не пытающиеся скрыть свое удовольствие друг от друга.
– Почти все стихотворения, которые я читала, – о любви, сексе или звездах. Вы, поэты, просто помешаны на звездах. Падающие звезды. Летящие звезды. Умирающие звезды.
– Звезды важны, – со смехом признаю я.
– Конечно, но почему не писать больше стихов о солнце? Солнце тоже звезда, и для нас самая важная. Оно заслуживает пары стихотворений.
– Заказ принят. С этого момента я буду писать стихи исключительно про солнце, – объявляю я.
– Вот и отлично.
– А если серьезно, то, на мой взгляд, в большей части стихотворений речь идет о сексе. Роберт Геррик написал стихотворение под названием «К девственницам – не упустите время».
Она садится в позу лотоса на диване и сгибается пополам от смеха:
– Быть такого не может.
– Очень даже может, – говорю я. – По сути, он рекомендовал девственницам скорее потерять невинность на случай скорой смерти. Боже упаси умереть девственницей.
Ее смех угасает.
– Может, он просто хотел сказать, что мы должны жить настоящим моментом. Так, словно сегодня – это все, что у нас есть.
Она снова кажется серьезной и грустной, и я не знаю почему. Она опускает затылок на спинку дивана и смотрит вверх, на диско-шар.
– Расскажи мне о своем отце, – прошу я.
– Мне не сильно хочется о нем говорить.
– Я знаю, но все равно расскажи. Почему ты считаешь, что он тебя не любит?
Она поднимает голову с дивана, чтобы посмотреть на меня.
– Ты упертый, – говорит она и снова откидывает голову.
– Настойчивый, – поправляю я.
– Не знаю, как это объяснить. Основная его эмоция – сожаление. Словно он совершил какую-то гигантскую ошибку в прошлом, повернул не туда и вместо того, чтобы оказаться там, где должен был, вынужден жить этой жизнью, со мной, мамой и моим братом.
Когда она произносит это, ее голос дрожит, но она не плачет. Я беру ее за руку, и мы оба смотрим на экран телевизора. Пляшущие баллы сменились беззвучной рекламой казино Атлантик-Сити.
– Моя мама рисует очень красивые картины, – говорю я. – Они правда невероятные.
Я до сих пор помню, как в маминых глазах стояли слезы, когда папа преподнес ей этот подарок. Она тогда сказала: «Ёбо[18], тебе не обязательно было это делать». – «Это тебе лично, – ответил он. – Раньше ты все время рисовала».
Я был так удивлен. Я думал, что мне известно о маме все – о них обоих, – но оказалось, что существует некая тайная история, которой я не знал. Я спросил ее, почему она перестала рисовать, а она махнула рукой так, словно пыталась стереть память о прошлом. «Давно это было», – сказала она.
Я целую Наташину руку, а потом сознаюсь:
– Иногда я задумываюсь: а может, выбрав нас, она пошла неправильной дорогой?
– Да, но считает ли так она сама?
– Не знаю. Хотя могу предположить, что она довольна тем, как повернулась ее жизнь.
– Это хорошо. Можешь себе представить, каково это – всю жизнь прожить с мыслью о том, что совершил ошибку? – Ее в буквальном смысле передергивает, когда она говорит это.
Я подношу ее руку к губам и целую. Ее дыхание меняется. Я пытаюсь притянуть ее к себе, поцеловать ее, но она меня останавливает.
– Расскажи мне, почему ты хочешь быть поэтом? – просит она.
Откинувшись на спинку дивана, я провожу большим пальцем по костяшкам ее руки.
– Не знаю. Если честно, я не уверен, что хочу делать это своей основной профессией. Не понимаю, как можно сейчас сделать выбор. Все, что я знаю, – мне это нравится. Мне правда нравится поэзия. У меня появляются мысли, и мне нужно записать их, а когда я их записываю, получаются стихи. Когда я пишу, ощущаю себя живым. Совсем как, когда…
Я замолкаю, не желая снова ее отпугнуть. Она поднимает голову со спинки дивана:
– Когда что?
Ее глаза блестят. Ей хочется знать.
– Когда я с тобой. Рядом с тобой я ощущаю себя живым.
Она убирает руку из моей. Я жду, что она снова замкнется в себе. Но вместо этого она подается вперед и целует меня.
Наташа
Я ЦЕЛУЮ ЕГО, чтобы заставить замолчать. Если он продолжит говорить, я влюблюсь в него, а я этого не хочу. Правда, не хочу. Конечно, это не самая лучшая стратегия. Ведь поцелуи – тоже способ общения, только без слов.
Даниэль
ОДНАЖДЫ Я НАПИШУ ОДУ о поцелуях. Я назову ее «Ода поцелую». Это будет эпично.
Наташа
ВЕРОЯТНО, МЫ БЫ ТАК и целовались, если бы не вернулась наша сердитая официантка с вопросом, собираемся ли мы заказывать что-нибудь еще. Мы не собираемся, к тому же нам все равно уже пора. Мне еще хочется сводить Даниэля в Музей естествознания, мое самое любимое место в Нью-Йорке. Я сообщаю ему об этом, и мы выходим на улицу. После полумрака норэбана солнце кажется слишком ярким. И не только солнце – вся улица сверкает. Город слишком громкий и слишком многолюдный.
На несколько секунд меня сбили с толку всевозможные офисы и магазины, расположенные друг на друге, и вывески на корейском языке. Но я вспоминаю, что мы находимся в Корейском квартале. Эта часть города, по всей видимости, должна быть похожа на Сеул. Интересно, так ли это в действительности. Я щурюсь на солнце и подумываю о том, чтобы вернуться обратно, в караоке. Я не готова к шумной, суетливой реальности Нью-Йорка.
Именно эта мысль приводит меня в чувство: реальность. Это реальность. Запах покрышек и выхлопа, звук огромного количества машин, спешащих в никуда, вкус озона в воздухе. Это и есть реальность. В норэбане мы могли притворяться, но только не здесь. Вот что мне нравится в Нью-Йорке больше всего – этот город сводит на нет любые твои попытки самообмана.
Мы с Даниэлем одновременно поворачиваемся друг к другу. Мы держимся за руки, но даже это теперь кажется притворством. Я освобождаю свою руку, чтобы поправить рюкзак. Он ждет, что я обхвачу пальцами его ладонь. Но я не готова.
Даниэль Местный парень не способен оставить все как есть
МЫ СИДИМ БОК О БОК в поезде, и, хотя мы то и дело соприкасаемся плечами, я чувствую, что она от меня ускользает. Напротив нас никто не сидит; мы смотрим в отражение в оконном стекле. Я цепляю взглядом ее лицо, когда она отводит глаза. Ее взгляд блуждает по моему лицу, когда отворачиваюсь я. Рюкзак лежит у нее на коленях, и она прижимает его к груди так, будто в любую секунду может вскочить и убежать.
Я мог бы взять ее за руку, но мне хочется, чтобы на сей раз это сделала она. Чтобы она признала, что между нами есть чувства. Я не могу оставить все как есть. Я хочу, чтобы вслух она произнесла эти слова: «Нам суждено быть вместе».
Что-нибудь. Что угодно. Мне нужно это услышать. Знать, что я не одинок. Мне лучше оставить ее в покое. Я собираюсь это сделать.
– Чего ты так боишься? – спрашиваю я, не в силах отпустить ситуацию.
Наташа
НЕНАВИЖУ ПРИТВОРСТВО, НО сама притворяюсь.
– О чем ты говоришь? – спрашиваю я у его отражения, а не у него самого.
Даниэль
Я ПОЧТИ ГОТОВ ПОВЕРИТЬ, что она не понимает, о чем я. Наши взгляды встречаются в окне поезда, словно только там мы способны смотреть друг на друга.
– Нам суждено быть вместе, – настаиваю я. Выходит совсем не так, как я хотел, – властно и в то же время умоляюще. – Я знаю, что ты чувствуешь то же самое.
Она не произносит ни слова, просто поднимается и встает у дверей. Если бы гнев был похож на пожар, то я бы наверняка увидел исходящее от нее пламя. С одной стороны, мне хочется подойти к ней и извиниться. С другой – потребовать ответа, выяснить, в чем дело. Но я заставляю себя остаться на месте и сижу еще две станции. Наконец поезд с визгом останавливается на Восемьдесят первой улице.
Двери открываются. Проталкиваясь через толпу, Наташа идет по лестнице. Как только мы оказываемся наверху, она отводит меня в сторону и разворачивается ко мне лицом.
– Не вздумай указывать мне, что чувствовать, – полушепчет-полукричит она.
Потом собирается добавить что-то еще, но решает промолчать. Вместо этого просто оставляет меня и идет прочь. Она расстроена, но теперь расстроен и я. Я догоняю ее и, вскинув руки вверх, кричу:
– В чем дело?
Я не хочу с ней ссориться. Через дорогу от нас – Центральный парк. Деревья окрашены в сочные осенние тона. Я хочу бродить с ней по парку и писать стихи в своем блокноте. Я хочу, чтобы она смеялась над тем, что я пишу стихи в блокноте. Чтобы просвещала меня насчет того, как и почему листья меняют цвет. Уверен, ей известно точное научное определение этого явления.
Она надевает рюкзак на оба плеча и, скрестив руки на груди, произносит:
– Не существует никакого «суждено», нет никаких судьбоносных встреч.
Я не хочу вступать в философскую дискуссию, поэтому уступаю:
– Хорошо, но если бы они существовали, то…
Она обрывает меня:
– Нет. Хватит. Их не существует. А даже если бы существовали, это все не про нас.
– Почему ты так говоришь?
Знаю, я веду себя неразумно, нерационально и, вероятно, делаю кучу ошибок. О таком не спорят с другим человеком. Нельзя убедить кого-то полюбить тебя.
Легкий ветерок шуршит листьями вокруг нас. Стало прохладно.
– Потому что это правда. Нам не суждено быть вместе, Даниэль. Я нелегальный иммигрант. Меня депортируют. Сегодня – мой последний день в Америке. Завтра меня здесь не будет.
Возможно, ее слова можно истолковать как-то иначе. Я расставляю их в другом порядке, надеясь уловить в них другой смысл. Я даже пытаюсь сочинить короткое стихотворение, но слова не складываются в строчки. Они упали мертвым грузом, слишком тяжелые, чтобы я мог их сложить.
Последний. Нелегальный. В Америке. Не будет.Наташа
ОБЫЧНО МНЕ НЕЛОВКО ссориться на людях, но сейчас я вообще не замечаю никого, кроме Даниэля. Если честно, так было весь день.
Он прижимает ладони ко лбу, и волосы шторкой обрамляют его лицо. Я не знаю, что сказать или сделать. Хочу забрать слова назад. Хочу продолжать притворяться.
Это я виновата, что все так закрутилось. Надо было признаться сразу, но я не думала, что мы дойдем до этой точки. Не думала, что столько буду чувствовать.
Даниэль
– Я ПЕРЕНЕС СОБЕСЕДОВАНИЕ ради тебя.
Я говорю тихо. Я сам не знаю, хочу ли, чтобы она меня услышала, но она слышит. Ее глаза округляются. Трижды она пытается что-то сказать, трижды осекается на полуслове. Наконец произносит:
– Стоп. Так это моя вина?
Я определенно обвиняю ее в чем-то. Точно не знаю в чем. Курьер на велосипеде запрыгивает на тротуар прямо рядом с нами. Кто-то кричит ему, чтобы ехал по проезжей части. Мне тоже хочется наорать на него. Соблюдай правила!
– Ты могла предупредить меня. Могла сказать, что уедешь.
– Я предупреждала, – говорит она, защищаясь.
– Ты определенно не сказала, что меньше чем через сутки окажешься в другой стране.
– Я не думала, что мы…
Резко перебиваю:
– Когда мы познакомились, ты знала, что тебя ждет.
– Тогда это было не твое дело.
– А сейчас мое?
Хотя ситуация безнадежна, одни только эти слова вселяют в меня надежду.
– Я пыталась предупредить тебя, – повторяет она.
– Недостаточно внятно. Вот как это делается. Ты открываешь рот и говоришь правду. А не несешь чушь о том, что не веришь в любовь и поэзию. «Даниэль, я уезжаю», – говоришь ты. «Даниэль, не надо в меня влюбляться», – говоришь ты.
– Но я так и говорила. – Она еще не срывается на крик, но голос повышает.
Маленькая девочка смотрит на нас круглыми глазами, а потом тянет своего отца за руку Полчища туристов, вооруженных путеводителями, таращатся на нас так, словно мы какие-нибудь экспонаты.
– Да, но я не думал, что ты это всерьез, – произношу я уже тише.
– И кто виноват?
На это мне нечего ответить, и мы просто молча стоим, уставившись друг на друга.
– Поверить не могу, что ты на меня правда запал, – говорит она наконец.
В ее голосе смесь страдания и неверия. И вновь я не знаю, что сказать. Я и сам удивлен, сколько чувств испытал к ней всего лишь за день. Но это ведь и называется «терять голову»: если потерял, ты обречен. Падение будет быстрым, бесконечным и бесконтрольным.
Пытаюсь хоть как-то разрядить атмосферу:
– И почему же я не мог на тебя запасть?
– Потому что это глупо. – Она натягивает лямки рюкзака. – Я же сказала тебе, что не стоит…
Ну все, пожалуй, с меня хватит. И так на сердце уже нет живого места.
– Просто отлично. Ты ничего не чувствуешь? Я что, сам себя целовал?
– Ты считаешь, что пара поцелуев и вечная любовь это одно и то же?
– Таких поцелуев – да.
Она закрывает глаза, а когда вновь открывает, я, кажется, вижу в них жалость.
– Даниэль… – начинает она.
Я обрываю ее. Жалость мне не нужна.
– Нет. Плевать. Ничего не хочу слышать. Я все понял. Никаких чувств. Ты уезжаешь. Всего тебе хорошего.
Я успеваю отойти на целых два шага, когда она произносит:
– Ты совсем как мой отец.
– Я даже не знаком с твоим отцом, – говорю я, надевая пиджак. Он как будто стал теснее.
Она скрещивает руки на груди.
– Неважно. Ты такой же, как он. Эгоист.
– Ошибаешься. – Теперь защищаться приходится мне.
– Нет. Думаешь, что мир вращается вокруг тебя. Твоих чувств. Твоих мечтаний.
Я всплескиваю руками:
– А что плохого в том, чтобы быть мечтателем? Может, мои мечты глупы, но они по крайней мере есть.
– А что хорошего? Как будто Вселенная существует ради таких, как ты!
– Это лучше, чем не мечтать вообще.
Она сощуривается, приготовившись к спору.
– Правда? Почему?
Поверить не могу, что мне приходится объяснять такое.
– Для того мы и приходим на землю.
– Нет, – говорит она, качая головой. – Мы приходим сюда, чтобы эволюционировать и выживать. И только.
Я знал, что она приплетет свою науку. Не может быть, чтобы она в это верила.
– Ты так не думаешь, – заявляю я.
– Ты меня не знаешь. Вообще-то мечты – для многих непозволительная роскошь.
– Да, но не для тебя. Ты просто боишься стать такой же, как твой отец. Боишься ошибиться в своем выборе, поэтому не выбираешь вообще ничего.
Я знаю, можно сказать ей это как-нибудь иначе, мягче. Но прямо сейчас я не в состоянии подобрать правильные слова.
– Я уже знаю, кем хочу стать, – говорит она.
Не могу удержаться от усмешки.
– Специалист по обработке данных или что там? Это не может быть увлечением, мечтой. Это просто работа. Мечты еще никому не повредили.
– Не правда. Как можно быть таким наивным?
– Ну, я уж лучше буду наивным, чем таким, как ты. Ты видишь только то, что у тебя перед носом.
– Все лучше, чем видеть то, чего там нет.
И вот мы зашли в тупик. Солнце прячется за облаком, и нас обдувает прохладным ветерком со стороны Центрального парка. Какое-то время мы просто смотрим друг на друга. Она выглядит иначе, нежели при свете солнца. Я, наверное, тоже. Она считает меня наивным. Больше того, нелепым. Может, пусть все так и закончится. Лучше трагичная и внезапная концовка, чем затянутый финал, в котором мы поймем, что мы слишком разные и одной любви недостаточно для того, чтобы нас объединить.
Я думаю обо всем этом. Но ни во что из этого не верю. Снова поднимается ветер и едва заметно колышет ее волосы. Я отчетливо представляю, как они будут выглядеть с окрашенными в розовый кончиками. Хотелось бы мне это увидеть.
Наташа
– ТЕБЕ ПОРА, – говорю я ему.
– Значит, это все? – спрашивает он.
Я рада, что он ведет себя как полный урод. Так все намного проще.
– Ты вообще думаешь обо мне? Интересно, каково сейчас Наташе. Как так вышло, что она нелегальный иммигрант? Хочется ли ей жить в стране, которую она совсем не знает? Раздавлена ли она тем, что с ней происходит?
Теперь он смотрит виновато. Делает шаг навстречу, но я отступаю. Он останавливается.
– Ты просто ждешь, пока кто-нибудь тебя спасет. Не хочешь быть врачом? Так не будь.
– Все не так просто, – тихо произносит он.
Я смотрю на него прищурившись.
– Как ты там сказал пять минут назад? Вот как это делается: ты открываешь рот и говоришь правду. «Мама и папа, я не хочу быть врачом! Я хочу быть поэтом, потому что я дурак и не придумал ничего лучше», – говоришь ты.
– Ты же понимаешь, что все не так просто, – повторяет он еще тише, чем прежде.
Я берусь за лямки рюкзака. Пора идти. Мы только оттягиваем неизбежное.
– Знаешь, что я не выношу? – говорю я. – Поэзию.
– Да, знаю.
– Умолкни. Я ее на дух не выношу, но однажды прочитала одно стихотворение поэтессы Варсан Шайр. В нем говорится, что нельзя найти дом в другом человеке и что кто-то должен был тебе об этом сказать.
Я жду, что он возразит мне. Я даже хочу, чтобы он возразил, но он молчит.
– Твой брат прав. Это никуда не приведет. Кроме того, ты в меня не влюблен, Даниэль. Ты просто ищешь кого-нибудь, кто спасет тебя. Спаси себя сам.
Даниэль Местный парень убеждается в том, что его жизнь – полнейшее дерьмо
КАК ЖЕ Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА оказалась права. Как я не хочу влюбляться в нее. Я смотрю ей вслед, но не останавливаю и не пытаюсь догнать. Каким же я был идиотом. Вел себя как помешанный недоумок. Нес ахинею про судьбу и предназначение, про то, что нам суждено бить вместе. Так чего же еще я ожидал? Наташа права. Жизнь – просто тупая череда принятых или непринятых решений и совпадений, которым мы выдумываем смысл.
В школьной столовой кончились твои любимые пирожные? Должно быть, это потому, что Вселенная пытается посадить тебя на диету. Спасибо, Вселенная!
Ты опоздал на поезд? Быть может, поезд взорвется в тоннеле, или в нем едет нулевой пациент, заразившийся страшнейшей разновидностью птичьего гриппа (от пресноводных птиц, гусей, птеродактилей). И слава небесам, что ты не сел в вагон. Спасибо, Вселенная!
На самом деле никакие это не предначертания, никто не прислушивается к судьбе. В кафетерии просто забыли, что на складе есть еще пирожные, да и друг уже угостил вас кусочком торта. Вы кипятились, что пришлось ждать следующий поезд, но в конечном итоге он подошел. Никто не умер на том, который вы упустили. Никто даже не чихнул. Мы убеждаем себя, что у всего происходящего есть причины, но в действительности просто выдумываем их. Сочиняем сказки. Непонятно зачем.
Судьба История
СУДЬБУ ВСЕГДА ВЕРШИЛИ БОГИ, и сами тоже были ей подвластны.
У древних греков есть миф о трех сестрах – богинях Судьбы, которые на протяжении трех ночей после рождения человека плетут нить его жизни. Представьте, что ваш младенец лежит в своей колыбели, в детской. Здесь темно, уютно и тепло, на часах между двумя ночи и четырьмя утра – время, которое принадлежит исключительно новорожденным и умирающим.
И вот рядом появляется первая из сестер – Клото́. Это юная дева, которая держит в руках веретено и прядет нить жизни вашего ребенка. Рядом с ней Лахе́сис, она старше и степеннее сестры. Она держит мерку, чтобы вымерять нить жизни. Продолжительность жизни человека и его судьба – в ее руках. И наконец, А́тропос – старая, осунувшаяся. Неотвратимая. У нее в руках – ужасные ножницы, которыми она перережет нить жизни. Она определяет время смерти и то, как именно умрет человек.
Представьте это потрясающее и жуткое зрелище – три сестры над колыбелью младенца определяют его будущее.
В наши дни история о богинях почти забыта, но вера в судьбу – нет. Почему мы по-прежнему верим? Разве так легче пережить трагедию? Легче считать, что мы ни при чем и все предрешено? А ведь так было всегда.
«Всему есть причины», – говорит мать Наташи. Она имеет в виду, что у Судьбы есть Мотив, и, хотя тебе он, возможно, неизвестен, утешайся тем, что существует некий План.
Наташа другая. Она верит в детерминизм – цепь причин и следствий. Одно действие ведет к другому, а оно, в свою очередь, к следующему. Каждый шаг определяет судьбу. В этом она не похожа на отца Даниэля.
Даниэль же существует в туманном промежутке между верой и неверием. Возможно, сегодняшняя встреча с Наташей не была предначертана судьбой. Возможно, это всего-навсего случайность.
Но когда они встретились, любви, вспыхнувшей между ними, было уже не миновать.
Наташа
Я НЕ ПОЗВОЛЮ тому, что случилось между нами, помешать мне пойти в музей. Он в одном из моих любимых районов города, здания здесь не такие высокие, как в деловом центре Манхэттена. Так здорово, когда можешь видеть лоскуты чистого неба.
Через десять минут я уже в музее, в моем любимом зале метеоритов. Большинство посетителей не задерживаются здесь, а проходят сразу в следующий зал, где выставлены сверкающие драгоценные и полудрагоценные камни. Но мне нравится этот. Мне нравится, как здесь темно, прохладно и тихо. Нравится, что, кроме меня, здесь почти никого не бывает.
В вертикальных витринах с подсветкой выставлены небольшие фрагменты метеоритов. На витринах надписи вроде «Сокровища космоса», «Формирование планет» и «Происхождение Солнечной системы». Я сразу же направляюсь к Анигито. На самом деле это лишь фрагмент гигантского железного метеорита под названием Кейп-Йорк. Анигито – самый крупный метеорит из выставленных в музеях, он весит тридцать четыре тонны. Я поднимаюсь на платформу, где он установлен, и провожу руками по его поверхности. Холодный металл покрыт тысячами сколов, щербинок, маленьких кратеров. Я зажмуриваюсь и погружаю в них пальцы.
Невероятно, что эта глыба железа попала к нам из открытого космоса. Еще невероятнее, что в ней скрыта тайна происхождения Солнечной системы. Этот зал – мой храм, а на этой платформе – моя святыня. Когда я прикасаюсь к Анигито, я как никогда близка к тому, чтобы поверить в Бога.
Вот куда я отвела бы Даниэля. Я попросила бы его писать стихи о космических камнях и метеоритных кратерах. Меня изумляет то бессчетное множество действий и противодействий, благодаря которым родилась наша Солнечная система, наша Галактика, наша Вселенная. Число элементов, которые должны были совпасть, чтобы сложился такой пазл, просто умопомрачительно. По сравнению с этим что такое влюбленность? Череда небольших совпадений, которые мы наделяем глобальным смыслом. Нам просто хочется верить, что наши микроскопические жизни имеют какое-то значение в масштабах Галактики.
Но влюбленность не сравнится с сотворением Вселенной. Даже близко.
Даниэль «Симметрия» Стихотворение Даниэля Чжэ Хо Бэ
Я останусь при своем. А ты по другую сторонуНаташа
КОГДА-ТО МЫ С ОТЦОМ были близкими людьми. На Ямайке и даже после того, как мы переехали сюда, мы были неразлучны. Мне часто казалось, что мы с ним своего рода союз Мечтателей, а мои мама и брат Не-Мечтатели.
Мы с отцом смотрели крикет. Я была зрителем, когда он разучивал пьесы перед прослушиваниями. Он обещал, что, когда наконец покорит Бродвей, будет доставать мне самые лучшие роли для маленьких девочек. Я слушала его истории о том, какой будет наша жизнь после того, как к нему придет успех. Слушала, даже когда мама с братом перестали.
Все изменилось около четырех лет назад, мне тогда исполнилось тринадцать. Маме надоело жить в двухкомнатной квартире. Все ее подруги на Ямайке жили в собственных домах. Ей надоело, что мой папа работает на одной и той же работе, по сути за ту же зарплату. Она устала слушать, что будет, когда настанет его звездный час. Однако ему она ничего не говорила, только мне.
«Вы уже взрослые, чтобы спать в гостиной. Вам нужно личное пространство. Так и не будет у меня никогда настоящей кухни и настоящего холодильника. Пора ему оставить эти его глупости».
А потом он потерял работу. Не знаю, что случилось, – уволили его или временно освободили. Мама думает, он ушел сам, но не может это доказать. В день, когда это случилось, он сказал: «Что ни делается, все к лучшему. Дай мне еще немного времени, чтобы я попытался стать актером». Я не знаю, к кому он обращался, – никто ему не ответил. Теперь, когда работы у него не было, он мог ходить на прослушивания. Но почти не ходил. Всегда появлялись отговорки:
Не для меня она, эта роль.
Не понравится им этот мой акцент.
Я становлюсь староват. Актерство – все же для молодых.
Когда вечером мама возвращалась с работы, отец говорил ей, что пытался. Но мы с братом знали, что это не так.
Я до сих пор вспоминаю первый раз, когда он с головой ушел в пьесу. Мы с Питером вернулись домой из школы и сразу поняли, что происходит нечто странное, потому как входная дверь была открыта. Мы нашли отца в гостиной. Не знаю, слышал ли он, как мы вошли, но виду не подал. Он держал в руке книгу. Позже я поняла, что это действительно была пьеса – «Изюминка на солнце».
В белой рубашке и широких брюках, отец декламировал строки пьесы. Я не знаю, зачем ему вообще понадобилась книга – он знал слова наизусть. Я до сих пор помню отрывки из монолога. Герой говорил о том, что видит свое будущее и что оно – лишь скрытая в тумане пустота. Наконец заметив нас с Питером, отец стал ругаться, что мы за ним шпионим. Сначала я подумала, что он просто смутился. Никто не любит, когда его застают врасплох. Потом я поняла, что дело не только в этом. Ему стало стыдно, словно мы застукали его за изменой или воровством.
После этого мы с ним мало что делали вместе. Он перестал смотреть крикет, отвечал отказом на все мои предложения помочь ему выучить роль. На его половине спальни росли стопки потрепанных и пожелтевших пьес в мягких обложках. Он знал наизусть все роли, не только главные, но и эпизодические. В конце концов он перестал притворяться, что ходит на прослушивания или ищет работу. Мама перестала надеяться, что у нас когда-нибудь будет дом или что мы хотя бы найдем жилье, где будет больше двух комнат. Она взяла дополнительные смены на работе, чтобы мы могли сводить концы с концами. Прошлым летом я устроилась в «Макдоналдс» вместо того, чтобы поработать добровольцем в нью-йоркском Методистском госпитале, как делала прежде.
И так уже больше трех лет. Мы приходим домой из школы и обнаруживаем, что отец заперся в спальне и в одиночестве читает пьесы. Длинные, драматичные монологи нравятся ему больше всего. Он Макбет и Уолтер Ли Янгер. Он с горечью отзывается о бездарных, по его мнению, актерах. Хвалит тех, кто, на его взгляд, играет неплохо. Два месяца назад он совершенно случайно получил роль. Кто-то, с кем он познакомился несколько лет назад на одном из прослушиваний, собрался ставить пьесу «Изюминка на солнце».
Первые слова матери в ответ на эту новость были: «Сколько тебе заплатят?».
Не «Поздравляю». Не «Я так горжусь тобой». Не «Какую тебе дали роль?», или «Когда будет постановка?», или «Ты волнуешься?». Одно лишь «Сколько тебе заплатят?». Когда она задавала этот вопрос, у нее был равнодушный взгляд. Усталый взгляд человека, отработавшего две смены подряд.
Думаю, мы все были немного шокированы. Она удивила даже саму себя. Да, она много лет разочаровывалась в нем, но этот момент показал нам, насколько они действительно отдалились друг от друга. Даже Питер, который во всем и всегда принимает сторону матери, едва заметно вздрогнул. И все же. Ее нельзя винить всерьез. Мой отец годами жил в мире грез. Жил в своих пьесах, а не в реальном мире. И сейчас так живет. А у матери больше не осталось времени мечтать. Как и у меня.
Сэмюэль Кингспи История сожаления, часть 3
ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ, он немного боится Наташи. Чем она сейчас увлекается? Химией, физикой и математикой. Откуда в ней это? Иногда он смотрит, как она делает уроки за кухонным столом, и ему кажется, что она какая-то чужая. Ее мир больше, чем он и те вещи, которыми он раньше пытался ее заинтересовать. Сэмюэль не знает, когда она успела его перерасти.
Как-то вечером, после того как Наташа с Питером легли спать, он пошел в кухню попить воды. Дочь оставила учебник по математике и домашнюю работу. Сэмюэль так и не понял, что на него нашло, но он включил свет, сел за стол и стал пролистывать страницы. То, что он увидел, напоминало иероглифику, какой-то древний язык – наследие эпохи и народа, которых он никогда не сможет понять. Его охватило чувство близкое к ужасу. Он просидел так очень долго, водя пальцами по символам и сожалея о том, что не может вобрать своими порами все знание и историю этого мира. С тех пор всякий раз, когда он смотрит на дочь, у него появляется смутное чувство, что его милую малышку втайне подменили.
И все же порой он замечает в ней прежнюю Наташу.
Порой она глядит на него так же, как когда была совсем маленькой. Это взгляд человека, которому от него что-то нужно. Взгляд человека, который хочет, чтобы он был больше, делал больше и любил больше. Его обижает этот взгляд. Иногда он обижается на нее. Разве он не достаточно сделал? Она – его первый ребенок. Ради нее он и так оставил все свои мечты.
Даниэль
Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ. Я собирался следовать за ветром, но ветра больше нет. Мне хочется вырядиться бродягой, взять бутербродный щит и нацарапать на нем: «Что теперь, Вселенная?» Хотя сейчас, вероятно, самое время признать: Вселенной на меня плевать. Справедливо сказать: ненавижу всех и вся. Вселенная – сволочь, прямо как Чарли. Чарли. Этот говнюк. Чарли, который сообщил моей потенциальной девушке, что у нас нет шансов. Чарли, который обвинил ее в воровстве. Чарли, который сказал ей, что у меня маленький член. Чарли, которому я хочу врезать по морде уже одиннадцать лет.
Может, это и есть ветер. Моя ненависть к Чарли. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Сегодня мне уже нечего терять.
Наташа
АССИСТЕНТКА АДВОКАТА КАЖЕТСЯ немного помятой. Прядь волос выбилась из прически и падает ей на лоб. Глаза блестят в свете флуоресцентных ламп, а от ярко-красной помады и следа не осталось. Она выглядит так, словно только что с кем-то целовалась. Я смотрю на телефон, чтобы убедиться, что я пришла не слишком рано и не опоздала, но нет – я как раз вовремя.
– Добро пожаловать снова, мисс Кингсли. Прошу вас, идите за мной. – Она поднимается с места. – Джереми – я хочу сказать, мистер Фиц, то есть адвокат Фицджеральд, здесь.
Она тихо стучит в единственную дверь и ждет. Блеск в ее глазах теперь еще ярче прежнего. Дверь распахивается. Но адвокат Фицджеральд меня вообще не замечает. Он смотрит только на свою помощницу – так, что у меня возникает желание извиниться за вторжение. Она глядит на него точно так же. Я довольно громко откашливаюсь. Наконец он отрывает от нее взгляд.
– Спасибо, мисс Уинтер, – произносит он. Это звучит почти как «Я люблю вас, мисс Уинтер».
Я иду за ним. Он присаживается на стол и прижимает пальцы к вискам. У него небольшая медицинская повязка прямо над бровью и еще одна – на запястье. Он выглядит старше и изможденнее, чем на фотографии с его сайта. Единственное, что неизменно, – это бледная кожа и ярко-зеленые глаза.
– Садитесь, садитесь, садитесь, садитесь, – произносит он на одном дыхании. – Простите за задержку. Утром у меня произошли небольшие неприятности. Теперь у нас осталось не так много времени, так что прошу вас, расскажите мне, как все случилось.
Я не знаю, с чего начать. Я что, должна выложить ему всю свою историю? О чем стоит упомянуть? Чтобы все объяснить, придется начать издалека. Должна ли я рассказывать о не сбывшихся мечтах отца? Должна ли сказать, что мечты не умирают, даже когда они мертвы? Стоит ли говорить, что в мыслях отец словно ведет другую, лучшую жизнь? Там он добился признания и уважения. Дети обожают его. Его жена носит бриллианты, и ей все завидуют. Мне тоже хотелось бы жить в том мире.
Я не знаю, с чего начать свой рассказ, и начинаю с вечера, когда отец разрушил нашу жизнь.
Наташа Кингсли История одной дочери
ТЕАТР ОКАЗАЛСЯ ЕЩЕ МЕНЬШЕ, чем думали мы с Питером. Табличка гласила: «МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ: 40 ЧЕЛОВЕК». Билеты стоили по пятнадцать долларов каждый, а вырученная сумма должна была покрыть расходы на двухчасовую аренду этого места в среду вечером. Актерам не выдали контрамарки для друзей и членов семьи, поэтому отцу пришлось купить нам три билета. Он обожает всякие церемонии, но обычно у него не много поводов для таковых. Теперь же у него была эта пьеса и билеты. Он не мог удержаться.
Сначала он сходил и принес нам всем еды из китайского ресторана – курицу генерала Цзо и жареный рис с креветками. Он рассадил нас за крошечным кухонным столом. Мы никогда не ели здесь, потому что стол рассчитан на двоих – иначе за ним тесно. Однако тем вечером отец настоял, чтобы мы поужинали все вместе, как семья. Он даже сам разложил еду по тарелкам, чего никогда не делал. Маме он сказал: «Видишь? Я купил бумажные тарелки, чтобы тебе не пришлось мыть гору посуды». Он произнес это с превосходным американским акцентом. Мама не ответила. Нам стоило увидеть в этом знак.
Когда мы закончили ужинать, отец встал и, торжественно подняв вверх простой белый конверт, провозгласил: «Давайте же посмотрим, что у нас на десерт». Он по очереди посмотрел каждому из нас в глаза. Я видела, как мама отвела взгляд, прежде чем он перевел его на Питера, а потом на меня. «Моя семья. Прошу вас, сделайте мне честь, приходите посмотреть на меня в роли Уолтера Ли Янгера в постановке пьесы „Изюминка на солнце”».
Потом он медленно открыл конверт, словно готовился объявить победителя в номинации «Лучший актер» на церемонии вручения премии «Оскар», достал билеты и вручил их нам. Он был так горд собой. Больше того, он присутствовал в настоящем. Целых несколько минут он не был погружен в свои мысли, в пьесу или какую-нибудь фантазию. Он был на кухне, с нами, и не мечтал оказаться где-то еще. Я и забыла, каково это. Он умеет смотреть так, что ты чувствуешь: тебя видят.
Когда-то папа обожал меня, и тем вечером я поняла, как мне этого не хватает. Я скучала по тем дням, когда обожала его сама, когда думала, что он не может ошибаться. Тогда я верила, что для счастья ему нужны лишь мы, его семья. У меня есть фотографии, где мне три года и я в футболке с надписью «МОЙ ПАПА САМЫЙ КРУТОЙ». На ней – окруженные ледяными сердечками папа-пингвин и дочка-пингвин, они держатся за руки.
Жаль, что я больше не чувствую этого. Повзрослеть и увидеть недостатки родителей – все равно что потерять веру. Я больше не верю в Бога. Так же, как в отца.
Моя мать цокнула языком, когда он вручил ей билет. С тем же успехом она могла дать ему пощечину. «Ты и эта твоя глупость. – Она поднялась. – Оставь свой билет себе. Не пойду я никуда». Она вышла из кухни. Мы слышали, как она идет по коридору. А потом громко хлопнула дверь ванной. Никто не знал, что сказать. Питер ссутулился на стуле и опустил голову так, что его лицо полностью спряталось за дредами. Я уставилась на то место, где только что сидела мать. Глаза отца заволокла привычная мечтательная пелена. В свойственной ему манере отрицать действительность он произнес: «Не тревожьтесь насчет матери. Она это не всерьез». Но она была серьезна как никогда. Она с нами не пошла. Даже Питеру не удалось ее уговорить. Она сказала, что этот билет – выброшенные на ветер деньги, которые она заработала с таким трудом.
Вечером в день постановки мы с Питером поехали в театр на метро, одни. Отец уехал раньше – готовиться. Мы сидели в первом ряду и не замечали пустовавшего места рядом с нами. Хотела бы я сказать, что отец был не слишком хорош. Что его игра оказалась заурядной. Отсутствие таланта объяснило бы годы невостребованности, все отказы, которые он получал. Это объяснило бы, почему он сдался и ушел из реальной жизни в выдуманный мир. И я не знаю, способна ли быть объективной. Возможно, я все еще смотрю на отца сквозь прежнюю призму обожания…
Но его игра была великолепной. Сверхъестественной. И вот что я тогда поняла: он создан для сцены и его место там.
В большей степени, чем с нами.
Даниэль Местный парень совершенно уверен, что этот день не может стать еще хуже. Как же он заблуждается!
КОГДА Я ВХОЖУ, ОТЕЦ общается с покупателем. По его взгляду я вижу, что он многое хочет мне сказать. Так почему бы не дать ему еще один повод для разговора?
Время послеобеденное, в магазине почти пусто. Еще одна покупательница разглядывает фены. Чарли в поле зрения нет – он не убирается и не выкладывает товар на полки, так что, судя по всему, отдыхает в подсобке в задней части магазина. Я даже не нервничаю. Расквасит мне физиономию – плевать, главное, чтобы я успел сказать то, что должен. Я оставляю пиджак у подсобки и берусь за ручку двери, но она не поддается. У него нет никаких причин запираться внутри. Он что, мастурбирует?
Чарли открывает дверь прежде, чем я успеваю постучать. Вместо обычной насмешки на его лице скорее устало-настороженное выражение. Должно быть, подумал, что это папа пытается войти. Когда он видит меня, его губы растягиваются в снисходительной сволочной ухмылке. Он демонстративно заглядывает за мое плечо и смотрит по сторонам.
– Где твоя девушка? – Он произносит девушка таким тоном, словно это шутка, так же, как говорят слово козявка.
Я стою и гляжу на него, задаваясь вопросом, как вообще так получилось, что этот человек – мой брат. Он проталкивается мимо, намеренно задевая меня плечом.
– Она тебя уже бросила? – спрашивает он, выйдя в зал и заглянув за стеллажи с товарами, чтобы удостовериться, что ее и впрямь здесь нет. Самодовольная ухмылка не сходит с его лица.
Он ловит меня на наживку, я знаю. Знаю и все равно попадаюсь на крючок. Как какая-нибудь тупая рыбешка, которую уже ловили миллиард раз, но она так и не поняла, что крючки – это зло.
– Пошел ты, Чарли.
Это застает его врасплох. Ухмылка исчезает, он внимательно смотрит на меня. На мне нет галстука и пиджака. Рубашка не заправлена. Я не похож на человека, которого через каких-то пару часов ждет Самое Важное Собеседование в Его Жизни. Я выгляжу как человек, которому хочется подраться. Он раздувается, как рыба-шар. Чарли всегда так гордился своим преимуществом передо мной – в два года и пять сантиметров роста. Здесь, в задней части магазина, нет никого, кроме нас, и это придает ему храбрости.
– Зачем. Ты. Пришел. Младший. Братец?
Он подходит ко мне вплотную и приближает свое лицо к моему. Он ждет, что я отступлю. Но я не отступаю.
– Я пришел, чтобы задать тебе вопрос.
Он совсем немного отстраняется:
– Конечно, я бы ее трахнул. В этом все дело? Она хочет меня, а не тебя?
Когда ты рыбешка на крючке, то чем больше пытаешься соскочить, тем хуже для тебя же. Крючок просто вонзается глубже, и ты истекаешь кровью. От крючка не освободиться. Можно только пропустить его через себя. Выражаясь иначе: крючок должен прошить тебя насквозь и выйти наружу, и боль будет адская.
– Почему ты такой? – спрашиваю я.
Если я и удивил Чарли, то он не подает виду. Просто продолжает вести себя как говнюк.
– Какой? Больше, сильнее, умнее, лучше?
– Нет. Почему ты ведешь себя со мной как свинья? Что я тебе сделал?
Теперь он не может скрыть удивления. Он подается назад, даже отступает на шаг.
– Какого черта? Ты ради этого сюда приперся? Похныкать о том, что я плохо с тобой обращаюсь? – Он снова мерит меня взглядом с ног до головы. – Выглядишь дерьмово. Разве не сегодня ты попытаешься попасть в твой Не Самый Лучший Университет?
– Мне плевать. Я вообще не хочу идти. – Я говорю тихо, но мне все равно приятно, что я произнес это вслух.
– Говори. Громче. Младший. Братец. Я тебя не расслышал.
– Я не хочу идти, – повторяю я громче и только потом понимаю, что отец вышел из-за прилавка и теперь стоит достаточно близко, чтобы услышать мои слова. Он собирается что-то сказать, но в этот момент звенит колокольчик над дверью. Он резко разворачивается.
Я снова обращаюсь к Чарли:
– Я давно пытался понять. Может, я что-то тебе сделал в детстве и не помню этого?
Он фыркает:
– Что ты мог мне сделать? Ты слишком жалкий.
– Значит, ты просто сам по себе такой говнюк? Это врожденное?
– Я сильнее. И умнее. И лучше тебя.
– Если ты так умен, тогда что ты здесь делаешь, Чарли? У тебя что, синдром важной персоны местного масштаба? Неужели в Гарварде ты был просто нолем без палочки?
Он сжимает кулаки:
– Следи за языком.
Моя догадка хороша. Даже более чем. Я попал в точку.
– Я прав, не так ли? Ты там не самый лучший. Выходит, что и здесь ты не самый лучший. Каково это – быть Не Самым Лучшим Сыном?
Теперь крючок у меня в руках. Лицо Чарли побагровело, и он снова раздувается. Если он еще сильнее сожмет челюсти, они точно сломаются.
– Хочешь знать, почему ты мне не нравишься? Потому что ты точно такой же, как и они. – Он кивает в направлении нашего отца. – Ты, и твоя корейская еда, и твои корейские друзья, и корейский язык, который ты учишь в школе. Это жалко. Сечешь, Младший Братец? Ты точно такой же, как все остальные.
Стоп. Что?
– Ты ненавидишь меня потому, что у меня есть корейские друзья?
– Да ты весь из себя корейский, – буквально выплевывает он. – Мы ведь вообще не там родились.
И тут я все понимаю. Правда понимаю. Порой тяжело жить в Америке. Порой я сам ощущаю себя так, словно нахожусь на полпути к Луне, застрял между ней и Землей. Меня покидает всякое желание выяснять отношения. Теперь мне просто его жаль, но для него это хуже всего. Чарли видит жалость на моем лице и приходит в ярость. Он хватает меня за ворот рубашки:
– Пошел ты. Думаешь, отрастил волосы и любишь стихи – и все сразу должны относиться к тебе по-другому? Думаешь, привел сюда какую-то чернокожую девчонку… Или мне лучше называть ее афро-американкой или, может, просто…
Но я не даю ему произнести это слово вслух. Я думал, придется как-то настроиться, собраться с духом, но нет. Я просто бью его в морду.
Мой кулак попадает ему в глаз, костяшки пальцев натыкаются на кость. Мне ужасно больно, и это несправедливо, учитывая, что, по идее, это я сейчас задаю ему трепку, а не наоборот. Он отшатывается, но не падает, не то что в кино. Это, откровенно говоря, разочаровывает. И все же гримаса на его лице стоит всех этих сломанных – а они, я уверен, сломаны – костей в руке. Ему определенно больно. Я хотел, чтобы до него дошло: я, его Младший Братец, не стану больше терпеть, я могу вздуть его сам. Теперь он знает, что мне надоело мириться с этим дерьмом. Однако удара явно недостаточно. Я слежу, как меняется выражение его лица – от боли и удивления к ярости. Он налетает на меня со своими лишними пятью сантиметрами роста и девятью килограммами мышц.
Сначала он бьет меня кулаком в живот. Такое чувство, словно кулак просто протыкает меня и выходит наружу через позвоночник. Я сгибаюсь пополам и подумываю пока остаться в этой позе, но его не проведешь. Он поднимает меня за воротник. Я пытаюсь закрыть лицо руками, потому что знаю – он метит именно туда, но после удара в живот я несколько заторможен. Кулак врезается в угол моего рта. Губа лопается изнутри, напоровшись на зубы. Она лопается и снаружи, потому что этот ублюдок ударил меня рукой, на которой носит гигантское масонское кольцо. От него останется след (вероятно, навсегда). Он все еще держит меня за шиворот, собираясь ударить снова, но теперь я готов. Закрываю лицо руками и резко бью его коленом, прямо по яйцам – жестко, но не настолько жестко, чтобы лишить это исчадие ада возможности завести маленьких дьяволят. Я весьма великодушен.
Он лежит на полу, сжимая свое достоинство – к несчастью для него, корейское, – а я держусь за челюсть, пытаясь понять, все ли зубы на месте, когда к нам подходит отец.
– Museun iriya? – спрашивает он. Что переводе означает: что здесь происходит?
Наташа
АДВОКАТ ФИЦДЖЕРАЛЬД, слегка подавшись вперед в кресле и сложив пальцы домиком, неотрывно смотрит мне в глаза. Я не могу понять, действительно ли он слушает или просто делает вид. Сколько похожих историй он выслушал за годы практики? Странно, что он не просит меня поскорее перейти к сути. Я заканчиваю свой рассказ о том вечере. Актеры трижды выходили на поклон. Они вышли бы и в четвертый раз, если бы зрители не начали расходиться. Мы с Питером остались сидеть на своих местах, ожидая, пока отец вернется за нами. Мы прождали полчаса, и наконец он появился. Едва ли потому, что помнил о нас. Он вышел из-за плотного красного занавеса и встал в центре сцены. Он простоял там целую минуту, глядя в пустой зал.
Я не верю в существование души, но в тот момент душа отражалась у него на лице. Я никогда не видела его таким счастливым. И вряд ли еще когда-нибудь увижу. Питер разрушил чары, потому что я никак не могла заставить себя это сделать.
– Ты готов, па? – крикнул он.
Отец отрешенно посмотрел на нас. Когда он вот так смотрит, я не знаю точно, кто отсутствует на самом деле – он или мы. Питеру, как обычно, стало не по себе.
– Старик? Ты готов ехать?
Когда отец наконец заговорил, в его речи не было ни следа ямайского акцента или привычной ему манеры выражаться. Он говорил как незнакомец:
– Дети, поезжайте. Увидимся позже.
Я быстро рассказываю адвокату концовку истории. Остаток вечера отец пьет со своими новыми друзьями-актерами. Выпивает слишком много и по дороге домой таранит припаркованный полицейский автомобиль. По пьяни рассказывает офицеру полиции всю историю нашего переезда в Америку. Могу представить себе, как он читает тот монолог перед аудиторией из одного человека. Он рассказывает полицейскому, что мы нелегальные иммигранты и что Америка так и не снизошла до него. Офицер арестовывает отца и вызывает наряд иммиграционной и таможенной полиции. Адвокат Фицджеральд морщит лоб.
– Но зачем ваш отец это сделал? – спрашивает он.
И я знаю ответ.
Сэмюэль Кингспи История отца
ГЕРОИ
Патриция Кители, 43
Сэмюэль Кители, 45
Действие Второе
Сцена Третья
Интерьер спальни. Двуспальная кровать с изголовьем занимает большую часть комнаты. Пара фотографий в рамках. Пол с той стороны кровати, где спит Сэмюэль, завален книгами. Слева мы видим проход в коридор. Дочь Сэмюэля и Патриции слушает их разговор, но они об этом не подозревают. Не факт, что все было бы иначе, если бы они знали.
ПАТРИЦИЯ. Господи, помилуй нас, Кингсли.
Она сидит на краешке кровати со своей стороны. Закрыла лицо руками. Ее речь неразборчива.
СЭМЮЭЛЬ. Это еще ничего не значит. Найдем хорошего юриста.
Сэмюэль Кингсли стоит в своей части комнаты, ссутулившись. Па его лицо падает тень. Луч прожектора высвечивает листок бумаги, который он держит в левой руке.
ПАТРИЦИЯ. Но как мы заплатим юристу, Кингсли?
СЭМЮЭЛЬ. Господи, Патси. Придумаем что-нибудь, ну.
Патриция поднимает голову и смотрит на мужа так, словно впервые его видит.
ПАТРИЦИЯ. Помнишь тот день, когда мы познакомились?
Сэмюэль медленно комкает листок бумаги в руке. Он продолжает делать это на протяжении всей сцены.
ПАТРИЦИЯ. Ты не помнишь, Кингсли? Как ты пришел в магазин, как приходил потом снова и снова, каждый день? Это было забавно. В один день что-то купишь, а на другой вернешь, пока не взял меня измором.
СЭМЮЭЛЬ. Я не брал тебя измором, Патси. Я за тобой ухаживал.
ПАТРИЦИЯ. Ты помнишь все обещания, которые дал мне, Кингсли?
СЭМЮЭЛЬ. Патси…
ПАТРИЦИЯ. Ты говорил, что исполнишь все мои мечты. Обещал, что у нас будут дети, и деньги, и большой дом. Ты говорил, что мое счастье для тебя важнее своего собственного. Или ты забыл об этом, Кингсли?
Она встает с кровати, и луч прожектора следует за ней.
СЭМЮЭЛЬ. Патси…
ПАТРИЦИЯ. Дай мне сказать. Я не верила тебе, когда между нами все началось. Но потом я изменила мнение. Ты и впрямь хороший актер, Кингсли, ведь ты заставил меня поверить во все те сказки, что мне рассказывал.
Листок в руке Сэмюэля теперь полностью скомкан. Луч освещает его лицо, и видно, что он больше не сутулится. Он разозлен.
СЭМЮЭЛЬ. Знаешь, о чем мне надоело слушать? О твоих мечтах. Как насчет моих? Если бы не ты и дети, у меня было бы все, чего я хочу. Ты ноешь о доме, о кухне, о еще одной комнате. А как же я? У меня нет ничего, о чем я мечтаю. Мне так и не довелось применить талант, дарованный мне Богом. Я проклинаю день, когда вошел в тот магазин. Если бы не ты и дети, моя жизнь была бы лучше. Я бы делал то, для чего Господь послал меня на эту землю. Я не хочу больше ничего слышать о твоих мечтах. Они ничто по сравнению с моими.
Наташа
БОЛЬШЕ ВСЕГО МОЙ ОТЕЦ жалеет о том, что завел семью, ведь мы помешали ему жить той жизнью, о которой он мечтал. Но об этом я не рассказываю адвокату Фицджеральду. Вместо этого я говорю:
– Через несколько недель после его ареста мы получили повестку в суд от Министерства внутренней безопасности.
Он просматривает один из бланков, которые я заполняла по просьбе его ассистентки, а потом достает из ящика стола желтый блокнот с линованными страницами.
– Значит, потом вы пошли на календарное слушание. Вы наняли адвоката?
– Родители ходили одни. Нет, адвоката они с собой не привели.
Мы с мамой много говорили об этом перед слушанием. Стоит ли нанимать адвоката, который нам не по карману, или лучше подождать и посмотреть, что будет? В интернете мы прочитали, что на первом заседании адвокат не нужен. Тогда мой отец еще был убежден, что все чудесным образом решится само собой. Не знаю. Может быть, нам тоже хотелось в это верить.
Адвокат Фицджеральд качает головой и что-то записывает в своем блокноте.
– Итак, на слушании судья говорит им, что они либо соглашаются добровольно покинуть страну, либо подают ходатайство об отмене приказа о депортации. – Он смотрит в заполненные мной бумаги. – Ваш младший брат – гражданин США?
– Да, – говорю я, и он записывает это тоже.
Питер появился на свет ровно через девять месяцев после нашего переезда сюда. Мои родители тогда были еще счастливы друг с другом.
На том слушании мой отец не согласился добровольно уехать из страны. Вечером мы с мамой поискали информацию о том, что необходимо для отмены приказа. Требования были следующие: папа должен был прожить в Соединенных Штатах по меньшей мере десять лет, иметь положительный моральный облик и, кроме того, доказать, что депортация повлечет чрезвычайные трудности для ребенка, являющегося гражданином США. Мы подумали, что гражданство Питера станет нашим ключом к спасению. Мы наняли самого дешевого адвоката, которого смогли найти, и отправились на индивидуальное слушание, вооруженные этой новой стратегией. Но, как выяснилось, крайне сложно доказать вероятность «чрезвычайных трудностей». Возвращение на Ямайку не поставит под угрозу жизнь Питера, а психологические проблемы, сопряженные с переселением, не волнуют никого, даже самого Питера.
– На индивидуальном слушании судья отклоняет ваше ходатайство, и ваш отец соглашается добровольно покинуть страну, – безучастно произносит адвокат Фицджеральд, словно такой исход был неизбежен.
Я киваю, вместо того чтобы ответить вслух. Не уверена, что смогу сдержать слезы. Вся надежда, которая у меня была, ускользает. Я утверждала, что мы должны обжаловать решение суда, но наш адвокат посоветовал этого не делать, объяснив, что нет выбора. Нам лучше добровольно уехать, чтобы в нашем деле не было отметки о принудительной депортации. Так у нас хотя бы останется надежда однажды сюда вернуться. Фицджеральд кладет ручку и откидывается на спинку кресла.
– Зачем вы сегодня ходили в Службу гражданства и иммиграции США? Это даже не в их юрисдикции.
Комок в горле мешает говорить, и мне приходится откашляться.
– Я не знала, что еще делать. – Я не верю в чудеса, но все же надеялась, что чудо произойдет.
Он молчит долго. Наконец я не выдерживаю.
– Все нормально, – произношу я. – Я знаю, что у меня нет вариантов. Я даже не знаю, зачем пришла сюда.
Я собираюсь встать, но он жестом просит остаться. Снова сложив пальцы домиком, он осматривает свой кабинет. Проследив за его взглядом, я вижу нераспакованные коробки, выстроившиеся у стены справа. За его спиной у пустого книжного шкафа стоит складная лестница.
– Мы только-только сюда въехали, – говорит он. – Рабочие должны были закончить ремонт несколько недель назад, но вы же знаете, что они всегда только обещают. – Он улыбается и прикасается к повязке на лбу.
– Вы в порядке, мистер Фиц…
– Все хорошо, – прерывает меня он, потирая повязку. Берет со стола фотографию в рамке и смотрит на нее. – Это единственная вещь, которую я успел распаковать.
Он разворачивает фотографию ко мне. На ней запечатлены он, его жена и двое детей. Они кажутся счастливыми. Я вежливо улыбаюсь. Он ставит фотографию обратно и смотрит на меня:
– Выход всегда есть, мисс Кингсли.
Проходит секунда, прежде чем я осознаю, что он снова говорит о моем деле. Я подаюсь вперед:
– Вы хотите сказать, что сможете решить эту проблему?
– Я один из лучших иммиграционных адвокатов в этом городе, – говорит он.
– Но как? – спрашиваю я. Кладу ладони на его стол, прижимаю пальцы к деревянной поверхности.
– Обращусь к знакомому судье. Он сможет отсрочить добровольную высылку из страны, чтобы вам по крайней мере не пришлось уезжать сегодня. После этого мы обратимся в комиссию по рассмотрению иммиграционных апелляций. – Он бросает взгляд на циферблат: – Дайте мне пару часов.
Я открываю рот, чтобы выспросить детали. Обычно они меня обнадеживают. На ум снова приходит то стихотворение. «Надежда – штука с перьями».
Я закрываю рот. Второй раз за день я отпускаю ситуацию. Возможно, сейчас мне и не нужны подробности. Будет здорово хоть на время переложить этот груз на другие плечи.
«Надежда – штука с перьями». Я чувствую, как она порхает в моем сердце.
Даниэль
ОТЕЦ МЕРИТ МЕНЯ взглядом с головы до ног, и я ощущаю себя второсортным раздолбаем, каким он привык меня считать. Для него я всегда буду Вторым Сыном, вне зависимости от поступков Чарли. Должно быть, сейчас я выгляжу еще хуже, чем когда только вошел в магазин. Верхняя пуговица оторвана. На рубашке пятно крови из разбитой губы. Весь потный, волосы прилипли к лицу. Идеальный кандидат на поступление в Йельский университет. Отец приказывает:
– Иди приложи к губе лед и возвращайся.
Чарли следующий.
– Ты ударил младшего брата? Вот чему тебя научила Америка? Бить родных?
Мне хочется остаться и послушать, чем это закончится, но ссадина распухает все сильнее. Я иду в подсобку, беру банку колы и прижимаю к губе. Мне никогда не нравилась эта комната. Она тесная и вечно завалена полуоткрытыми коробками с товаром. Здесь нет стульев, так что я сажусь прямо на пол, подперев спиной дверь, чтобы никто не смог войти. Мне нужно пять минут отдыха, прежде чем продолжить разбираться со своей жизнью. Губа пульсирует в такт сердцу. Интересно, понадобятся ли швы? Я плотнее прижимаю банку и жду, когда почувствую (или не почувствую) онемение. Вот что я получаю за то, что позволил Судьбе вести меня, – побит, без девушки, без будущего.
Зачем я перенес собеседование? Почему я позволил Наташе уйти? Может, она права. Я просто ищу кого-нибудь, кто меня спасет. Кого-нибудь, кто столкнет с рельсов, по которым катится моя жизнь, потому что сам не знаю, как это сделать. Мне хочется, чтобы мной всецело завладели любовь и судьба, чтобы мне не пришлось принимать решения о будущем. Это не я ослушаюсь своих родителей. Судьба все сделает за меня.
Банка с колой выполнила свою задачу. Губа онемела. Хорошо, что Наташи здесь нет, потому что теперь мне уж точно не до поцелуев, по крайней мере сегодня. А завтра мне не светит с ней увидеться. Хотя она все равно бы больше не позволила мне ее поцеловать.
Из-за двери доносится голос отца – он приказывает мне выйти. Я возвращаю банку в холодильник и заправляю рубашку. За дверью он один.
– У меня к тебе вопрос, – говорит отец, подойдя вплотную. – Почему ты считаешь, что то, чего ты хочешь, имеет значение?
Он спрашивает так, словно искренне недоумевает. Что это вообще за желания и потребности, о которых я говорю? Почему все это вообще важно?
– Какая разница, чего ты хочешь? Важно лишь то, что хорошо для тебя. Нас с твоей матерью волнует только то, что хорошо для тебя. Ты идешь учиться, ты становишься врачом, ты успешен. Тебе никогда не придется работать в таком магазине. У тебя будут деньги и уважение, и все, чего ты хочешь, появится. Найдешь достойную девушку. Заведешь детей и воплотишь Американскую Мечту. Зачем тебе выбрасывать свое будущее ради вещей, которые сейчас нужны, а потом нет?
Отец никогда еще не обращался ко мне с такой длинной речью. Он даже не злится. Говорит так, словно пытается втолковать мне нечто фундаментальное. Один плюс один равняется двум, сынок.
С тех пор, как он купил масляные краски для уммы, мне хотелось с ним поговорить. Хотелось понять, почему он желает для нас с Чарли вот этого всего. Почему это для него столь важно. Мне хочется спросить его, не думает ли он, что мамина жизнь была бы лучше, если бы она не бросила рисовать. Я хочу знать, печалит ли его то, что она перестала это делать, посвятив себя ему и нам.
Возможно, этот момент, этот разговор с отцом и есть суть сегодняшнего дня. Возможно, я начну его понимать. Или он начнет понимать меня.
– Anna… – начинаю я, но он жестом велит молчать. Воздух вокруг нас неподвижен, отдает металлом. Отец смотрит на меня, сквозь меня и мимо меня, уносясь мыслями в прошлое.
– Нет, – говорит он. – Дай мне закончить. Может, я сделал вашу жизнь слишком легкой, парни. Может, это моя вина. Вы не знаете свою историю. Не знаете, что такое нищета. Я не говорю вам, потому что думаю, так лучше. Лучше не знать. Может, я не прав.
Я вот-вот его пойму. Мы вот-вот поймем друг друга. Я собираюсь сказать ему, что не хочу для себя того, чего он для меня хочет. Я собираюсь заверить его, что так или иначе со мной все будет в порядке.
– Anna… – начинаю я снова, но его рука опять замирает передо мной. Снова заставляет меня умолкнуть. Он знает, что именно я собираюсь сказать, и не хочет этого слышать.
Его жизнь определяют воспоминания о тех вещах, о которых мне никогда не узнать.
– Довольно. Не идешь в Йельский университет и не становишься врачом – тогда ищи работу и плати за учебу сам.
Он возвращается в зал. Признаюсь, когда расклад настолько ясен, это даже бодрит. Есть будущее или нет будущего. Мой пиджак все еще валяется скомканный у двери. Я беру его и надеваю. Лацкан почти полностью закрывает пятно крови. Я осматриваюсь в поисках Чарли, но его не видно. Я иду к выходу. Отец стоит за кассой, глядя перед собой невидящим взглядом. Я уже собираюсь уйти, когда он произносит последние слова. Он ждал подходящего момента, чтобы их сказать.
– Я видел, как ты смотришь на эту девчонку. Но этому не бывать.
– Думаю, ты ошибаешься, – говорю я ему.
– Мне все равно, что ты думаешь. Ты поступишь правильно.
Какое-то время мы смотрим друг на друга. Он не отводит взгляда, и я понимаю, что он не знает наверняка, как же я все-таки поступлю. Впрочем, как и я сам.
Дэ Хён Бэ История одного отца
ДЭ ХЁН БЭ открывает и закрывает кассу. Открывает и закрывает ее снова. Возможно, это и впрямь его вина, что сыновья выросли такими. Он ничего не рассказывал им о своем прошлом. Это потому, что он отец, который горячо любит своих детей и таким способом защищает их. Дэ Хён относится к нищете как к какой-нибудь заразе: он не хочет, чтобы сыновья слышали о ней, из боязни, что они могут ее подхватить.
Он открывает кассу и кладет долговые расписки в кошелек. Чарли и Даниэль считают, что деньги и счастье не имеют ничего общего. Они не знают, что такое быть нищим. Они не знают, что бедность – словно врезающийся в тебя острый нож. Не знают, что она делает с телом. С умом.
Когда Дэ Хёну было тринадцать и он жил в Южной Корее, отец начал готовить его к управлению скромным семейным бизнесом – ловлей крабов. Этот бизнес почти не приносил денег. Каждый сезон становился борьбой за выживание. И каждый сезон они выживали, но с большим трудом. В детстве Дэ Хён даже не сомневался в том, что семейное дело в конечном итоге перейдет к нему. Он был старшим из троих сыновей. Это было его место. Семья – это судьба.
Он до сих пор помнит день, когда в нем вспыхнула искра протеста. День, когда отец впервые взял его с собой на рыболовецкое судно. Дэ Хён был в ужасе от увиденного. Крабы в отчаянии барахтались в холодных сетчатых корзинах из металла. Они царапали сетку, лезли друг на друга, пытаясь добраться до верха и вырваться на свободу.
До сих пор воспоминание о первом дне на лодке иногда неожиданно всплывает в его памяти. Дэ Хён хотел бы забыть. Он думал, что после переезда в Америку это удастся. Но воспоминание возвращается снова и снова.
Те крабы не сдавались. Они боролись до самой смерти. Они были готовы на все, чтобы выбраться.
Наташа
Я НЕ ЗНАЮ, что чувствовать. Я не до конца верю в происходящее или, может, просто пока не успела все осмыслить. Я смотрю на телефон. Бев наконец написала. Ей безумно, безумно, безумно понравилось в Беркли. Она думает, что ей суждено учиться именно там. А еще парни в Калифорнии симпатичные, но совсем не похожи на ребят из Нью-Йорка. В последнем сообщении она спрашивает, как я, сопровождая текст смайликами с изображением разбитого сердца.
Я решаю позвонить ей и сообщить о том, что сказал адвокат Фицджеральд, но она не берет трубку. «Позвони», – пишу я. Пройдя через вращающиеся двери, я оказываюсь во дворе и застываю на месте. Несколько человек обедают на лавочках рядом с фонтаном. Группки одетых в костюмы людей торопливо входят в здание и выходят из него. Вереница черных таун-каров выстроилась у обочины, а их водители курят и болтают.
Разве может быть, что это тот же самый день? Как получается, что все эти люди живут своей жизнью, совершенно не подозревая, что происходит в моей? Иногда твой мир так трясет, что в голове не укладывается, как все остальные не ощущают этого. Именно такое у меня было чувство, когда мы впервые получили приказ о депортации. И когда я узнала, что Роб мне изменяет.
Я снова достаю телефон, ищу номер Роба и только потом вспоминаю, что удалила его из списка контактов. Но последовательность цифр все еще хранится в памяти, и я набираю номер. Не могу понять, зачем звоню, пока не начинаю разговор.
– Приве-е-е-е-ет, Нат, – растягивая слова, произносит он. У него не хватает такта даже изобразить удивление.
– Мое имя не Нат, – отвечаю я. Я уже не уверена, что хочу с ним разговаривать.
– То, что вы с твоим новым чуваком сегодня сделали, совсем не круто.
У него все тот же низкий, неторопливый и немного ленивый голос. Забавно, что по прошествии времени тебя может начать раздражать то, что раньше привлекало. Нам кажется, что мы хотим бесконечно быть с любимыми, но, возможно, нам нужно как раз обратное. Ограниченный промежуток, по окончании которого мы не разочаровываемся в человеке. Возможно, нам не нужны второе и третье действия – только первое.
Пропускаю слова мимо ушей. Сдерживаю желание напомнить, что вообще-то это он воровал, а значит, «не круто» поступал он.
– У меня вопрос, – говорю я.
– Валяй.
– Почему ты мне изменил?
На другом конце линии что-то падает на пол. Он, запинаясь, трижды начинает что-то говорить, каждый раз безуспешно.
– Спокойно. Я не собираюсь выяснять отношения и уж точно не хочу их вернуть. Мне просто нужно знать. Почему ты не порвал со мной? Зачем изменять?
– Я не знаю. – Даже эти три простых слова он умудряется произнести с запинкой.
– Да брось. Должна быть какая-то причина.
Он молчит – думает.
– Правда, не знаю.
Я молчу.
– Ты классная, – говорит он. – И Келли классная. Я не хотел ранить твои чувства и ее чувства ранить не хотел. – Похоже, он вполне искренен, но я не знаю, что делать с этими словами.
– Но она тебе, видимо, нравилась больше, раз ты изменил, верно?
– Нет. Я просто хотел вас обеих.
– Только и всего? – спрашиваю я. – Тебе просто не хотелось выбирать?
– Только и всего, – отвечает он, как будто этого достаточно.
Этот ответ настолько неубедителен, настолько неправдоподобен и неудовлетворителен, что я едва не вешаю трубку. С Даниэлем такого никогда бы не случилось. Он выбирает сердцем.
– Еще вопрос. Ты веришь в настоящую любовь и все такое?
– Нет. Ты же меня знаешь. Да ты в нее и сама не веришь, – напоминает он.
Разве?
– Ладно. Спасибо. – Я уже собираюсь повесить трубку, но он меня останавливает.
– Могу я хотя бы попросить у тебя прощения? – спрашивает он.
– Валяй.
– Прости меня.
– Ладно. Не изменяй Келли.
– Не буду, – говорит он. Думаю, в тот момент, когда он произносит эти слова, он в них верит.
Я должна позвонить родителям и рассказать им про адвоката Фицджеральда, но сейчас мне хочется поговорить совсем не с ними.
Даниэль. Мне нужно отыскать его и рассказать обо всем ему. Роб считает, что я не верю в настоящую любовь. И он прав. Не верю. Но, возможно, хочу поверить.
Даниэль
Я ВЫХОЖУ ИЗ МАГАЗИНА. Рядом с ломбардом по соседству, на ящике из-под молока, стоит скрипачка. Она бледная, тщедушная и потрепанная – но в каком-то поэтичном смысле, что ли. Словно сошла со страниц «Дэвида Копперфильда». В отличие от нее, скрипка выглядит безупречно. Несколько секунд я слушаю игру этой девушки, но не могу определить, хорошо ли она играет. Знаю, существует объективный способ оценивать музыку. Ноты звучат чисто, правильно, в нужном порядке? Но есть еще один способ вынести суждение: важна ли для кого-то музыка, звучащая здесь и сейчас? Для меня – важна. Трусцой возвращаюсь к скрипачке и бросаю доллар в ее шляпу. Рядом со шляпой стоит табличка, которую я не читаю. Если честно, не хочу знать ее историю. Мне нужны только музыка и момент.
Отец считает, что у нас с Наташей нет будущего. И он, возможно, прав, вот только нет его по иным причинам. Что же я за идиот. Прямо сейчас я должен быть с ней, даже если у нас есть лишь сегодня. Особенно если это так.
Мы живем в эпоху мобильников, но у меня нет ее номера. Я даже не знаю ее фамилию. Как последний идиот, я набираю в поиске Google «Natasha Facebook New York City» и получаю 5780000 результатов.
Я перехожу как минимум по сотне ссылок, но, хотя все Наташи вполне милы, среди них нет моей. Кто бы мог подумать, что ее имя так популярно, черт возьми? Сейчас 16:15, и улицы начинают заполняться людьми, идущими с работы к метро. Как и я, они выглядят так, словно жизнь их потрепала. Я бегу трусцой по краю тротуара, чтобы то и дело не сбавлять скорость из-за пешеходов. У меня нет иного плана, кроме как найти ее снова. Все, что я могу, – поехать туда, где должна состояться ее встреча, – на Пятьдесят вторую улицу и надеяться, что Судьба на моей стороне и она все еще там.
Наташа
КАКАЯ-ТО ПАРОЧКА С ЯРКО-СИНИМИ ирокезами выясняет отношения перед входом в метро на Пятьдесят второй улице.
Они полушепчут-полушипят, как обычно делают пары, ссорящиеся на людях. Я не слышу их слов, но жесты все объясняют. Она разгневана. Он раздражен.
Они определенно встречаются довольно давно. Оба выглядят измученными. Даже по тому, как они склоняются друг к другу, видно, что у них за плечами долгая история. Интересно, это их последняя ссора? Она положит конец всему?
Пройдя мимо, я оглядываюсь. Когда-то, я уверена, они были влюблены друг в друга. Возможно, и сейчас влюблены, но со стороны сложно сказать.
Даниэль
Я СПУСКАЮСЬ В МЕТРО И МОЛЮСЬ богам подземки (да, многочисленным богам), чтобы в поезде не было никаких проблем с электричеством и повернутых на религии машинистов. Что, если я опоздал? Что, если она уже ушла? Что, если, остановившись дать доллар скрипачке, я запустил цепочку событий, которая приведет к тому, что я упущу Наташу?
Мы подъезжаем к станции. По другую сторону платформы останавливается поезд, следующий в противоположном направлении. Двери нашего поезда закрываются, но мы не трогаемся. На платформе внезапно материализуется группа человек из двадцати в ярких облегающих костюмах. В темно-сером метро они напоминают тропических птиц.
Они выстраиваются в линию, а потом застывают на месте, ожидая какого-то знака. Это флешмоб. Поезд по другую сторону платформы также не двигается. Парень в ярко-синем костюме с огромным пакетом включает переносной магнитофон. Сначала происходящее кажется каким-то хаосом: каждый из группы будто танцует под свою собственную мелодию. Но потом я понимаю, что они просто начинают с разницей в несколько секунд. Это как петь каноном, когда голоса последовательно вступают друг за другом. Сначала балет, потом диско и, наконец, брейк-данс. Когда появляются копы, танцоры разбегаются, а пассажиры в моем поезде разражаются бурными аплодисментами.
Мы отъезжаем от станции, но теперь атмосфера в вагоне изменилась. Люди улыбаются друг другу и говорят о том, как это было здорово. Это длится по меньшей мере полминуты, а потом все снова надевают защитные маски – «я в поезде, полном чужих людей». Интересно, не этого ли хотели танцоры – объединить всех хотя бы на мгновение?
Наташа
Я СИЖУ В ПОЕЗДЕ СПИНОЙ к платформе, поэтому не вижу, как все начинается. Я догадываюсь, что происходит нечто необычное, только потому, что весь вагон смотрит на что-то позади меня. Обернувшись, вижу на платформе танцевальный флешмоб. Все ребята одеты в яркую одежду и танцуют диско. «Такое увидишь только в Нью-Йорке», – думаю я и достаю телефон, чтобы сделать пару снимков. Другие пассажиры одобрительные кричат и хлопают в ладоши. Один парень даже начинает двигаться в такт музыке. Танец длится недолго – до появления троих полицейских. Несколько пассажиров явно разочарованы, а потом все снова начинают возмущаться по поводу того, что поезд стоит. В других обстоятельствах я бы задумалась о том, какую цель преследовали те люди. У них что, нет работы, нет занятия получше? Если бы Даниэль был здесь, он бы сказал, что, возможно, так и задумано. Весь смысл их танца в том, чтобы привнести немного волшебства в нашу жизнь. А разве это не достаточно веская причина?
Даниэль
Я ПУЛЕЙ ВЫЛЕТАЮ ИЗ МЕТРО на Пятьдесят второй улице и едва не врезаюсь в целующуюся парочку. Даже если бы волосы у этих двоих не были синими, их было бы сложно не заметить, потому как они практически приросли друг к другу – от головы до пят. Им нужно в помещение, и немедленно. Серьезно. Такое ощущение, что у них экстренная сессия по засосам, прямо здесь, на тротуаре. Они крепко держат друг друга за задницу. Взаимный задозахват.
Мужчина с осунувшимся лицом неодобрительно цокает языком, проходя мимо парочки. Какой-то маленький мальчик таращится с широко открытым ртом. Отец прикрывает ему глаза. Глядя на них, я ощущаю иррациональное счастье. Наверное, это правда: тем, кто влюблен, хочется, чтобы остальные тоже были влюблены. Надеюсь, их отношения продлятся вечно.
Наташа
Я СВОРАЧИВАЮ НАПРАВО, на бульвар Мартина Лютера Кинга, и шагаю к магазину семьи Даниэля. У соседней двери на ящике из-под молока стоит девушка и играет на скрипке. Она белокожая, с длинными черными волосами, явно давно не мытыми. У нее слишком худенькое лицо – это не модная, а скорее голодная худоба. Она являет собой настолько печальное, странное зрелище, что я не могу не остановиться.
На табличке рядом с перевернутой шляпой написано: «ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ. МНЕ НУЖНЫ $$$, ЧТОБЫ ВЫКУПИТЬ СКРИПКУ У РОСТОВЩИКА». Жирная черная стрелка на табличке указывает на дверь ломбарда. Не представляю, что могло привести ее сюда, но достаю доллар и бросаю в ее шляпу. Теперь там в общей сложности два доллара.
Дверь ломбарда открывается, и оттуда появляется необъятных размеров белокожий парень в белом спортивном костюме. Он подходит к нам – обвислые щеки, сердитый взгляд.
– Время вышло, – говорит он, выставляя вперед свою гигантскую руку.
Девушка перестает играть и спрыгивает с ящика. Достав деньги из шляпы, подает ему. И шляпу она тоже возвращает. Спортивный Костюм убирает деньги в карман и надевает шляпу на голову.
– Сколько осталось? – спрашивает она.
Он выуживает из кармана небольшой блокнот и карандаш и что-то пишет.
– Пятьдесят один доллар и двадцать три цента.
Щелкнув пальцами, он тянется за скрипкой. Девушка прижимает ее к груди, прежде чем выпустить из рук.
– Я вернусь завтра. Обещаете, что не продадите ее?
– Придешь – не продам, – хрипло бурчит он.
– Приду, обещаю.
– Обещания ни черта не значат, – говорит он и уходит.
Она еще долго смотрит на дверь ломбарда. По выражению ее лица я не могу понять, согласна ли она с ним.
Даниэль
ДАЖЕ ЕСЛИ НАТАША еще здесь, в этой громаде из стекла и бетона, я все равно понятия не имею, куда идти. Смотрю в телефонный справочник, пытаясь интуитивно угадать, где она может быть. Я знаю, что она собиралась сюда на встречу с юристом, но справочник не дает столь точную информацию. К примеру, там нет записи вроде «Адвокат Такой-то, юрист по иммиграционным вопросам, работающий с семнадцатилетними ямайскими девушками по имени Наташа». Я ломаю голову, но ничего не могу придумать.
Достаю телефон, чтобы посмотреть на время. До моего Свидания с Судьбой чуть больше часа. Тут до меня доходит, что нужно найти на карте новый адрес, который продиктовала мне по телефону секретарша. Если это слишком далеко, у меня будет идеальный предлог, чтобы забить на собеседование. Однако, согласно Google Maps, я уже на месте. Либо экзистенциальный кризис у Google, либо у меня. Я снова смотрю на адрес, а потом возвращаюсь к справочнику. Без шуток. Мое собеседование действительно состоится в этом здании. Я уже там, где должен быть.
Наташа
Я ТОЛКАЮ ДВЕРЬ, И ЗВОНОЧЕК радостно оповещает о моем появлении. Я не настолько оптимистична насчет того, что мне здесь светит. Но попытаться должна. Я ожидаю увидеть за прилавком отца Даниэля, но там стоит Чарли. Он что-то набирает в телефоне, почти не поднимая глаз. Интересно, с кем мне повезет больше – с Чарли или с его отцом. У меня все равно нет выбора, потому что отца нигде не видно. Я подхожу к прилавку и говорю:
– Привет.
Он продолжает печатать еще пару секунд, а потом с грохотом кладет телефон на прилавок. Не самый лучший способ поприветствовать потенциального покупателя.
– Чем могу помочь? – спрашивает он, наконец поднимая взгляд. Я ошарашенно смотрю на его багровый распухший глаз. К утру он станет черно-синим. Чарли смущенно подносит руку к лицу.
Костяшки пальцев у него тоже разбиты. Через секунду до него доходит, кто перед ним.
– Погоди-ка. Ты же подружка Даниэля?
Должно быть, он практикует ехидные усмешки перед зеркалом. Ему в этом просто нет равных.
– Да, – отвечаю я.
Он заглядывает за мое плечо, разыскивая Даниэля.
– И где этот маленький засранец?
– Точно не знаю. Я надеялась, что… – начинаю я.
Чарли медленно расплывается в широкой улыбке. Похоже, пытается казаться сексуальным. Могу себе представить, как это работает, если не знать его. Но я немного знакома с Чарли, и эта улыбка вызывает у меня желание подбить ему второй глаз.
– Ясно, – перебивает меня он. – Вернулась за другим братом. Тем, что получше.
Он подмигивает мне подбитым глазом и морщится от боли. Очевидный факт: я не верю в карму. Но, возможно, начну.
– У тебя есть его номер? – Я перехожу к сути.
Он откидывается на спинку стула и берет телефон с прилавка:
– Вы поссорились или что?
Мне совершенно не хочется ни о чем ему рассказывать, но я стараюсь создать доброжелательную атмосферу.
– Что-то вроде того, – говорю. – Так есть?
Он вертит телефон в пальцах.
– Корейцы – твой фетиш или что?
Чарли ухмыляется и смотрит в упор. Сначала кажется, что он просто подкалывает меня, но потом я понимаю, что он спрашивает на полном серьезе. Ему важно услышать мой ответ. Не знаю, понимает ли он сам, насколько важно.
– Почему обязательно фетиш? А если мне просто нравится твой брат?
– Ради бога, – хмыкает Чарли. – Чему там нравиться? Таких, как он, пруд пруди.
И тогда я осознаю, в чем его проблема. Его бесит, что Даниэль не ненавидит себя. Даниэль, при всех его колебаниях, чувствует себя комфортно таким, какой он есть, чего нельзя сказать о Чарли. Мне жаль его, но я этого не показываю.
– Пожалуйста, помоги мне.
– И с чего бы? – Он уже не улыбается, не усмехается и не ухмыляется. От него все зависит, и мы оба это понимаем. Я недостаточно близко его знаю, чтобы взывать к его светлой стороне. Я даже не уверена, есть ли она.
– Только подумай, сколько неприятностей наживет твой брат из-за меня, – говорю я. – Он влюблен в меня. Он не отступится, что бы ни сказали и ни сделали ваши родители. А ты можешь просто устроиться поудобнее и наслаждаться происходящим.
Чарли смеется, запрокинув голову. Он и впрямь нехороший человек. То есть, возможно, что-то хорошее в нем все же есть. Наверное, почти во всех можно найти хорошее. Но плохого в Чарли гораздо больше. Вряд ли он стал таким без причин, но причины не важны.
Некоторые люди приходят в твою жизнь, чтобы сделать ее лучше. Некоторые – чтобы ее испортить. И тем не менее Чарли делает для своего брата доброе дело: он дает мне его номер.
Даниэль
У МЕНЯ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН, и я едва не отшвыриваю его, как будто он одержим дьяволом. Номер мне незнаком, но я все равно беру трубку.
– Алло?
– Даниэль?
– Наташа? – спрашиваю я, хотя и так знаю, что это она.
– Да. – В ее голосе слышится улыбка. – Твой брат дал мне номер.
И вот тут я начинаю подозревать, что все это какой-то розыгрыш, подстроенный моим сволочным братцем. Он точно не способен на столь добрый поступок.
– Кто это? – требую ответа.
– Даниэль, это я. Правда я.
– Он дал тебе мой номер?
– Может, он не такой уж и плохой на самом деле, – говорит она.
– Исключено, – отвечаю я, и мы оба смеемся.
Я нашел ее. То есть это она нашла меня. Поверить не могу.
– Где ты?
– Только что вышла из вашего магазина. А ты где?
– Я в здании, где работает твой адвокат.
– Что? Почему?
– Это единственное место, где я мог попытаться тебя найти.
– Ты искал меня? – спрашивает она смущенно.
– Ты простишь меня за то, что я был таким козлом?
– Все нормально. Я должна была рассказать тебе обо всем сразу.
– Это было не мое дело.
– Еще как твое, – отвечает она.
Это не те три слова, которые мне хочется от нее услышать, но, черт возьми, она близка к тому, чтобы их произнести.
Наташа
ОН СИДИТ НА СКАМЕЙКЕ у фонтана и что-то пишет в блокноте. Я знала, что обрадуюсь, увидев его, но не ожидала, что буду буквально прыгать от счастья. Я едва сдерживаюсь, чтобы не захлопать в ладоши и не закружиться на месте. Прыгать от радости. Это же не про меня. Поэтому я так не делаю. Но улыбка на моем лице просто километровая.
Я опускаюсь рядом с ним на скамейку и толкаю плечом. Он поднимает блокнот к лицу, прикрыв им рот, и только потом поворачивается ко мне. В его глазах пляшут искорки. Вряд ли кто-либо был так счастлив увидеть кого-то, как Даниэль меня.
– Привет, – говорит он, все так же прячась.
Я протягиваю руку, чтобы опустить блокнот, но он отстраняется.
– В чем дело?
– Не исключено, что я слегка подрался.
– Ты слегка подрался и теперь мне нельзя увидеть твое лицо?
– Я просто хотел сначала тебя предупредить.
Я снова протягиваю руку. На сей раз он позволяет мне убрать блокнот. Правая сторона его рта распухла, на губе запекшаяся кровь. Он словно побывал на ринге.
– Ты подрался с братом, – говорю я, связав факты воедино.
– Поделом ему. – Ради меня он явно старается сохранить нейтральное выражение лица, скрыть свои чувства.
– Я думала, поэты не дерутся.
– Шутишь? Мы – самые возбудимые. – Он улыбается, но тут же морщится от боли. – Я в порядке, – говорит он, увидев выражение моего лица. – Выглядит хуже, чем на самом деле.
– Почему вы подрались? – спрашиваю я.
– Не важно.
– Важно…
– Нет, не важно. – Его губы сжаты, рот – как жесткая прямая линия. Что бы там ни произошло, он мне не расскажет.
– Это из-за меня? – спрашиваю я, хотя и так знаю ответ.
Он кивает. Я решаю не допытываться. Мне достаточно знать, что, по его мнению, я стою того, чтобы из-за меня подраться.
– Я очень злилась на тебя. – Мне необходимо сказать ему это, пока наши отношения не зашли дальше.
– Знаю. Прости. Я просто поверить не мог.
– В то, что я тебе не рассказала? – спрашиваю я.
– Нет. В то, что после всего случившегося, после всего, что привело нас к этой встрече, что-то способно разлучить нас.
– Ты и правда безнадежен.
– Возможно.
Положив голову ему на плечо, я рассказываю о своем походе в музей, и об Анигито, и о том, сколько всего должно было сложиться для того, чтобы образовались наша Солнечная система, Галактика и Вселенная. Я говорю ему, что по сравнению с этим влюбленность кажется просто чередой незначительных совпадений. Он не согласен, и я этому рада. Я снова протягиваю руку и прикасаюсь к его лицу. Он находит губами мою ладонь и целует ее. До сих пор я никогда по-настоящему не понимала смысл фразы «между ними есть какая-то химия». В конце концов, все – это химия. Все – сплошная реакция присоединения.
Атомы в моем теле настроены на его атомы. Именно поэтому сегодня утром, выходя из этого здания, я так остро ощутила его присутствие. Он снова целует мою ладонь, и я вздыхаю. Его прикосновения – и порядок, и хаос, словно я собираюсь воедино и распадаюсь на части в одно и то же время.
– Ты сказала, что у тебя хорошие новости, – говорит он.
Я вижу надежду на его открытом лице. Что, если ничего не выйдет? Как мы переживем разлуку? Теперь мне кажется невозможной мысль, что мы не созданы друг для друга. Но потом я решаю, что, разумеется, мы бы пережили. Разлука не смертельна. И все равно я рада, что нам не придется это узнать.
– Адвокат говорит, что, скорее всего, сможет решить вопрос. Он думает, что у меня получится остаться.
– Насколько он в этом уверен? – спрашивает Даниэль. Удивительно, но он настроен еще более скептически, нежели я сама.
– Не беспокойся. Мне показалось, он вполне уверен, – говорю я и наконец-то позволяю себе пролить слезы радости. В кои-то веки я не стесняюсь плакать.
– Вот видишь? – говорит он. – Нам суждено быть вместе. Надо это отметить.
Он притягивает меня к себе. Я снимаю с его волос резинку и провожу по ним рукой. Он запускает пальцы в мои волосы и наклоняется, чтобы поцеловать меня, но я подношу палец к его губам.
– Погоди секунду.
Внезапно мне хочется сделать один звонок. Это глупый порыв, но Даниэль почти заставил меня поверить в свое «суждено». Вся эта цепочка событий началась с женщины-охранника, которая задержала меня сегодня утром. Если бы она не трогала мои вещи, я бы не опоздала. Тогда не было бы ни Лестера Барнса, ни адвоката Фицджеральда. Ни Даниэля. Я запускаю руку в рюкзак за спиной и вытаскиваю визитку Лестера Барнса. Набираю его номер, но включается голосовая почта. Я оставляю сумбурное сообщение, в котором благодарю его за помощь и еще прошу передать:
– У нее длинные каштановые волосы и грустные глаза, и она трогает чужие вещи, – говорю я. Уже собираясь повесить трубку, вспоминаю имя. – Думаю, ее зовут Ирэн. Прошу вас, поблагодарите ее от меня.
Даниэль бросает на меня вопросительный взгляд.
– Позже объясню, – говорю я и снова прижимаюсь к нему. Спрашиваю, почти касаясь его губ: – Вернемся в норэбан?
Сердце вот-вот вырвется из груди.
– Нет, – отвечает он. – У меня есть идея получше.
Даниэль
– ХОЧЕШЬ, УДИВЛЮ? – говорю я, заводя ее обратно в здание. – Мое собеседование тоже состоится здесь.
– Да ладно. – Она на секунду останавливается.
Я улыбаюсь, сгорая от желания узнать, как ее научный ум переварит совпадение столь эпичного уровня.
– Каковы шансы?
– Доволен собой, да? – смеется она.
– Видишь? Я весь день был прав. Нам суждено было встретиться. Если бы мы не встретились раньше, то, возможно, встретились бы сейчас.
Мою логику легко опровергнуть, но она не пытается. Вместо этого вкладывает свою руку в мою и улыбается. Кто знает, может, мне еще удастся обратить ее в свою веру.
Сейчас же мой план заключается в том, чтобы забраться на крышу и побыть там с ней наедине. Мы регистрируемся на охране, оставив пометку, что идем на собеседование. Охранник показывает нам, как пройти к холлу, и мы заходим в лифт. Он останавливается почти на каждом этаже. Люди в костюмах заходят и выходят, громко обсуждая Очень Важные Вопросы. Несмотря на то что сегодня сказала Наташа, я никогда не смогу работать в подобном здании. Наконец мы добираемся до верхнего этажа, находим лестницу, поднимаемся на один пролет и упираемся в серую дверь с табличкой: «ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
Я отказываюсь в это верить. Крыша явно прямо за этой дверью. Я поворачиваю ручку, надеясь на чудо. Заперто. Я прижимаюсь лбом к табличке.
– Сезам, откройся, – говорю двери.
И, словно по волшебству, она открывается.
– Что за черт? – Я чуть не падаю, по инерции заваливаюсь вперед, натыкаясь на того самого охранника, из лобби. В отличие от нас, он, должно быть, сел в экспресс-лифт.
– Вам, ребятишки, сюда нельзя, – бурчит он. От него пахнет сигаретным дымом.
Я тяну Наташу за собой, в дверной проем.
– Мы просто хотели посмотреть на город, – говорю я самым своим уважительным тоном с едва уловимым оттенком мольбы, но без намека на нытье.
Охранник скептично поднимает брови, собираясь что-то сказать, но заходится в приступе кашля, сгибается пополам и колотит себя в грудь кулаком.
– Вы в порядке? – спрашивает Наташа, положив руку ему на плечо. Теперь он стоит, лишь слегка согнувшись, упершись руками в бедра.
– Этот кашель, – произносит он, продолжая откашливаться.
– Ну, вам нельзя курить, – говорит она ему.
Он выпрямляется и протирает глаза:
– Вы говорите как моя жена.
– Она права, – тут же отвечает Наташа и глазом не моргнув.
Я пытаюсь внушить ей взглядом, что не стоит спорить со старым охранником, у которого проблемы с легкими, иначе он не разрешит нам уединиться на крыше. Но даже если она правильно интерпретировала выражение моего лица, то откровенно его проигнорировала.
– Я раньше работала медсестрой-добровольцем в легочном отделении. Это нехороший кашель.
Мы оба таращимся на нее. Я – потому что представляю ее сначала в полосатом наряде медсестры-добровольца, а потом без этого наряда. Уверен, теперь это станет моей ночной фантазией. Я не знаю, почему на нее пялится охранник. Надеюсь, не по той же причине.
– Отдайте их мне. – Она протягивает руку ладонью вверх. – Вы должны бросить курить.
Не знаю, как ей удается говорить со столь неподдельной заботой и в то же время менторским тоном. Охранник достает пачку из кармана пиджака.
– Думаете, я не пытался? – спрашивает он.
Я снова смотрю на него. Он слишком стар для этой работы. Выглядит так, словно ему давно уже пора быть на пенсии и баловать внуков где-нибудь во Флориде. Наташа так и стоит с протянутой рукой, пока он не отдает ей пачку.
– Береги ее, – говорит он мне с улыбкой.
– Да, сэр.
Охранник надевает пиджак и спрашивает у нее:
– Почему вы думаете, что я не пойду и не куплю себе еще?
– Я ничего не думаю, – говорит она, пожимая плечами.
Он смотрит на нее долгим взглядом, а потом произносит:
– В жизни не всегда все идет по плану.
Я вижу, что она ему не верит. Он тоже это видит и не продолжает.
– Держитесь подальше от края, – говорит он, подмигивая нам обоим. – Желаю вам хорошо провести время.
Джо Спланированная история
ЭТА ДЕВОЧКА НЕМНОГО напомнила ему его Бет. Прямолинейная, но милая. Именно поэтому он и пустил их на крышу. Ему прекрасно известно, что смотреть они будут не на город, а исключительно друг на друга. Что ж, вреда от этого не будет.
Он и его Бет были два сапога пара. И не только в самом начале брака, но и все те годы, что провели вместе. Им нравилось говорить, что друг друга они выиграли в лотерею.
Бет умерла в прошлом году. Спустя полгода после того, как они оба вышли на пенсию. На самом деле о раке они узнали на следующий день после того, как завязали с работой. У них было столько планов. Они хотели отправиться в круиз по Аляске, чтобы увидеть полярное сияние (ее желание). Хотели поехать в Венецию, пить граппу и любоваться каналами (его желание). Вот что до сих пор не дает Джо покоя. Планы, которые они лелеяли. Накопления. Жизнь в ожидании идеального момента. И что в итоге? Ничего.
Девчонка, разумеется, права. Ему нельзя курить. Потеряв Бет, он снова вышел на работу и снова закурил. Ну и что, если он загонит себя в гроб работой? Ну и что, если сигареты сведут его в могилу? Ему больше незачем жить, нечего планировать.
Он в последний раз бросает взгляд на ребят, а потом закрывает за ними дверь. Они смотрят друг на друга, забыв обо всем на свете. Он и его Бет были когда-то такими же. Может, он все же бросит курить. Может, в его жизни появится новый смысл.
Наташа
ДАНИЭЛЬ ПОДХОДИТ К САМОМУ КРАЮ крыши и смотрит на город. Ветер раздувает его распущенные волосы, и выражение лица у него снова становится поэтичным. Он улыбается мне неподбитым уголком рта. Я подхожу и беру его за руку.
– Ничего себе не запишешь, поэт? – поддразниваю я.
Его улыбка становится шире, но он не поворачивается ко мне.
– Сверху все другое, не так ли?
Что он видит, глядя на город? Я вижу километры крыш, в большинстве своем пустующих. Некоторые завалены хламом – вышедшими из строя системами климат-контроля, сломанной офисной мебелью. На других разбиты садики, и я задумываюсь над тем, кто же за ними ухаживает.
Даниэль достает блокнот, а я подхожу немного ближе к краю. Прежде чем стать вот такими, эти здания были лишь скелетами. Прежде чем стать скелетами – были распорками и балками. Металл, стекло и бетон. А до этого они были строительными чертежами. А до того – проектными планами. А еще раньше – чьей-то идеей городской застройки. Даниэль убирает блокнот и отводит меня от края, обняв за талию.
– Что ты вообще там пишешь? – спрашиваю я.
– Планы, – отвечает он.
В его глазах светится радость, он смотрит на мои губы, и я не могу собраться с мыслями. Я делаю небольшой шажок назад, но он следует за мной, словно мы танцуем.
– Я… Господи. Ты что, весь день был таким сексуальным? – говорю я.
Даниэль смеется и тут же краснеет.
– Рад, что ты так считаешь. – Он по-прежнему не сводит взгляда с моих губ.
– Тебе не будет больно, если я тебя поцелую? – спрашиваю я.
– Это будет приятная боль. – Он кладет мне на талию и другую руку, так, словно скрепляет нас вместе.
Сердце никак не утихомирится. Я вспоминаю, какие невероятные эмоции испытала, целуя его. Тогда, в караоке, я думала, что это больше не повторится. Уверена, что именно эта мысль придавала нашим поцелуям такой напор, такую силу. Этот же поцелуй будет проще. Никакого фейерверка, никакого хаоса, просто двое, которые нравятся друг другу.
Я приподнимаюсь на цыпочки и приближаю лицо к его лицу. Наконец он отводит взгляд от моих губ и смотрит мне в глаза. Он убирает руку с моей талии и кладет ее чуть выше груди. Мое сердце бьется под его ладонью, словно специально для него. Наши губы встречаются, и я пытаюсь как можно дольше держать глаза открытыми. Я стараюсь не поддаться этому безумному чувству, что существует между нами. Я не понимаю. Почему этот человек? Почему Даниэль, а не кто-то, кого я встречала раньше? Что, если бы мы не встретились? Этот день был бы для меня совершенно обыкновенным, и я бы даже не подозревала о том, что мне чего-то не хватает?
Я обвиваю руками его шею и прижимаюсь к нему, но мне мало. То неспокойное, хаотичное чувство вернулось. Мне нужно то, чему я могу дать название, и что-то, чему не могу. Я хочу, чтобы этот момент длился вечно, но не хочу упустить остальные, которые ждут впереди. Мне необходимо все наше совместное будущее, но прямо здесь и сейчас. Я не справляюсь с мыслями и потому отрываюсь от его губ.
– Отойди. Вон. Туда, – говорю я, продолжая перемежать слова поцелуями. Жестом показываю, куда ему отойти, чтобы я не могла его больше целовать.
– Сюда? – уточняет он, отступив на шаг назад.
– По меньшей мере еще на пять.
Он улыбается, но выполняет мою просьбу.
– Но ведь не все наши поцелуи будут такими? – спрашиваю я у него.
– Какими?
– Сам знаешь. Сумасшедшими.
– Мне нравится твоя прямота, – замечает он.
– Серьезно? Моя мама считает, что я перебарщиваю.
– Возможно. И все же мне это нравится.
Я опускаю глаза.
– Сколько там до твоего собеседования?
– Сорок минут.
– У тебя остались эти твои любовные вопросы?
– А ты еще в меня не влюблена? – спрашивает он с напускным неверием.
– Нет, – говорю я с улыбкой.
– Не волнуйся. У нас есть время.
Даниэль
ЭТО КАКОЕ-ТО ЧУДО, что мы здесь, на крыше, словно в секретном небесном городе. Солнце медленно садится, бросая последние лучи на стены зданий, но еще не стемнело. Уже совсем скоро воцарится темнота, но пока на город опустились лишь сумерки.
Мы с Наташей сидим по-турецки у стены рядом с дверью на лестницу. Мы держимся за руки, и ее голова покоится на моем плече. Щекой я ощущаю мягкость ее волос.
– Ты готова ответить на вопрос про ужин из нашего списка? – спрашиваю я.
– Имеешь в виду, кого бы я пригласила?
– Ага.
– Уф-ф, нет. Ты первый отвечай.
– Легко. Бога.
Она отрывает голову от моего плеча, чтобы посмотреть мне в лицо:
– Ты правда веришь в Бога?
– Верю.
– В какого-то парня? На небе? С суперсилами? – Она не пытается съязвить, а спрашивает скорее с любопытством.
– Не совсем так, – говорю я.
– Тогда что?
Я сжимаю ее руку.
– Ну вот, например, то, что мы сейчас чувствуем? Эта связь между нами, которую мы не понимаем и которую не хотим утратить? Это Бог.
– Вот тебе раз! – восклицает она. – Вы, поэты, опасны.
Она кладет мою руку себе на колени и удерживает ее в своих.
Я запрокидываю голову и смотрю в небо, пытаясь определить, на что похожи плывущие по нему облака.
– Вот что я думаю. Я думаю, что все мы связаны между собой – все, кто живет на земле.
Она проводит кончиками пальцев по костяшкам моей руки.
– Даже плохие люди?
– Да. Но ведь во всех есть хоть немного хорошего.
– Не правда, – заявляет она.
– Ладно. – Я уступаю. – Но ведь каждый совершает хотя бы один хороший поступок за свою жизнь. С этим ты согласишься?
Она обдумывает мои слова, а затем медленно кивает. Я продолжаю:
– Думаю, все хорошее, что есть в нас, как-то связано. Когда мы делимся последним печеньем с кусочками шоколада, или жертвуем на благотворительность, или даем доллар уличному музыканту, или идем в медсестры-добровольцы, или говорим «Я люблю тебя» или «Я тебя прощаю». Думаю, что это и есть Бог. Бог связывает лучшее, что есть в нас.
– И ты считаешь, что у этой связи есть сознание? – спрашивает она.
– Точно, и мы называем его Богом.
Она тихо усмехается:
– Ты всегда такой…
– Заумный? – подсказываю я.
Она смеется уже громче.
– Я собиралась сказать «нудный».
– Да. О моем занудстве наслышан весь свет.
– Я шучу, – говорит она, толкая меня в плечо. – Мне нравится, что ты размышляешь обо всех этих вещах.
Мне самому нравится. Я и раньше задумывался об этом, но облечь свои мысли в слова сумел впервые. Есть в этой девушке нечто такое, отчего я становлюсь лучше. Я подношу ее руку к губам и целую пальцы.
– Как насчет тебя? – спрашиваю. – Ты не веришь в Бога?
– Твое представление о нем мне нравится. Я определенно не верю в того, канонического бога, адские муки и все такое.
– Но во что-то же ты веришь?
Она неуверенно морщит лоб:
– Не знаю. Наверное, меня больше интересует то, почему люди думают, что должны верить в Бога. Почему нельзя ограничиться наукой? Наука удивительна. Ночное небо? Потрясающе. Строение человеческой клетки? Непостижимо. Я не верю в религию, которая говорит нам, будто мы родились грешниками. Я не верю в бога, которого люди используют для оправдания всех своих предрассудков и низостей. Не знаю. Наверное, я верю в науку. Науки достаточно.
– Ха.
Солнечный свет отражается от зданий, и воздух приобретает легкий оранжевый оттенок. Даже несмотря на то, что вокруг нас – открытое пространство, я словно завернут в кокон.
Она говорит:
– Ты знал, что Вселенная приблизительно на двадцать семь процентов состоит из темной материи?
Я не знал, но ей, конечно же, об этом известно.
– Что такое темная материя?
Восторг – единственное слово, которым можно описать выражение ее лица. Она отнимает у меня руку и, потирая ладошки, принимается объяснять:
– Ученые не вполне уверены, но это разница между массой тела и его гравитационной массой. – Она выжидающе поднимает брови, словно произнесла какую-то потрясающую истину.
Я не потрясен.
Наташа вздыхает. Театрально.
– Поэты, – ворчит она, но на ее губах играет улыбка. – Эти две массы должны быть равны. – Она поднимает вверх указательный палец. – Они должны быть равны, но они не равны – у таких больших тел, как планеты.
– О, это интересно, – говорю я, ни капли не лукавя.
– Скажи? – Она вся сияет. Я без ума от этой девушки. – А кроме того, оказывается, что измеряемая масса Галактики не обладает достаточной гравитацией, чтобы можно было объяснить, почему она не разлетается на части.
Я недоуменно качаю головой. Она продолжает:
– Если вычислить гравитационное взаимодействие всех известных нам космических тел, его окажется недостаточно для того, чтобы удерживать на месте галактики и звезды на орбитах. Должно быть больше материи, материи, которая нам не видна. Темной материи.
– Ладно, я понял, – говорю я.
Она смотрит на меня с нескрываемым скептицизмом.
– Нет, правда, – повторяю я. – Я все понял. Двадцать семь процентов Вселенной являются темной материей, так ты сказала?
– Приблизительно.
– И это из-за нее нас еще не унесло в открытый космос? Это то, благодаря чему мы остаемся связанными друг с другом?
Ее скептицизм превращается в подозрительность.
– Что там еще удумал твой затейливый поэтический ум?
– Ты взбесишься.
– Возможно, – признает она.
– Темная материя и есть любовь. Это сила притяжения.
– О господи Иисусе, нет. Фу. Бе-е. Ты ужасен.
– О, нет, я прекрасен, – говорю я, заходясь от смеха.
– Ты просто ужасен, – повторяет она, но хохочет вместе со мной.
– Я абсолютно прав, – заявляю я торжествующе и снова беру ее за руку.
Она издает стон, но я вижу, что она размышляет над моими словами. Возможно, она все же немного согласна со мной, хотя и думает, что не согласна совсем.
Я прокручиваю на телефоне список вопросов.
– Хорошо, у меня еще один вопрос. Дополни следующее предложение: «Мы оба чувствуем…»
– Как хочется писать, – улыбается она.
– Ты действительно терпеть не можешь разговоры о серьезных вещах, да?
– А тебе когда-нибудь хотелось писать очень сильно? Это серьезно. Можно нанести серьезный вред мочевому пузырю…
– Тебе правда надо в туалет? – спрашиваю я.
– Нет.
– Ответь на вопрос, – говорю я. Не позволю ей отделаться шуточками.
– Ты первый. – Она вздыхает.
– Восторг, возбуждение, веру.
– Аллитерация. Мило.
– Твоя очередь, и ты должна говорить искренне.
Она показывает мне язык.
– Растерянность. Страх.
Я кладу ее руку себе на колени.
– Почему страх?
– День был долгий. Утром я думала, что меня депортируют. Я морально готовилась к этому два месяца. Теперь я, похоже, остаюсь. – Она поворачивается ко мне. – И потом, ты. Еще утром я была с тобой не знакома, а теперь у меня такое чувство, будто я знала тебя всегда. Все это немного чересчур. Я словно утратила контроль над происходящим.
– Почему это плохо? – спрашиваю я.
– Мне нравится знать, что меня ждет. Нравится планировать все наперед.
Я это понимаю. Правда понимаю. В нас это заложено – планировать наперед. Это часть нашего ритма. Солнце встает каждый день и каждую ночь уступает место Луне.
– И тем не менее, как сказал охранник, – не все можно спланировать.
– Считаешь, это правда? Я думаю, что почти все можно. Как правило, ничто не берется из ниоткуда и не сбивает тебя с ног.
– Динозавры, вероятно, думали так же, и только посмотри, что с ними стало, – поддразниваю ее я.
Она улыбается так широко, что я не могу не прикоснуться к ее лицу. Она ищет губами мою ладонь и целует ее.
– Если не считать событий такого масштаба, думаю, планировать наперед вполне возможно, – говорит она.
– Я сбил тебя с ног, – напоминаю я ей, и она этого не отрицает. – Ладно, о чем это мы? Значит, пока только растерянность и страх.
– Ну хорошо, хорошо. Я выполню твое желание, скажу «счастье».
Я театрально вздыхаю:
– Могла бы сказать это сразу.
– Обожаю интригу, – говорит она.
– Это не про тебя.
– Ты прав. Ненавижу интригу.
– Счастье – из-за меня? – уточняю я.
– И из-за того, что меня пока не депортируют. Но в основном из-за тебя.
Она подносит наши переплетенные руки к губам и целует. Я мог бы остаться здесь навсегда, прерывая наши беседы поцелуями и поцелуи беседами.
– Когда будем смотреть друг другу в глаза? – спрашиваю я.
Она закатывает те самые глаза, в которые мне так хочется смотреть, и отвечает:
– Позже. После твоего собеседования.
– Не надо так пугаться, – дразню ее я.
– А чего тут пугаться? Все, что ты увидишь, – это радужная оболочка и зрачок.
– Глаза – зеркало души, – парирую я.
– Чушь собачья, – заявляет она.
Я проверяю время на телефоне – совершенно без надобности. Я и так знаю, что скоро на собеседование, но мне хочется задержаться в этом небесном городе еще ненадолго.
– Давай ответим еще на пару вопросов, – предлагаю я. – Блицопрос. Самое дорогое для тебя воспоминание?
– Когда я впервые ела мороженое в рожке, а не из стаканчика, – отвечает она без колебаний.
– Сколько тебе было?
– Четыре. Шоколадное мороженое, и я, одетая в белоснежное платье по случаю Пасхального воскресенья.
– Чья это была идея? – спрашиваю я.
– Моего отца, – отвечает она с улыбкой. – Когда-то он считал меня самой классной на свете.
– А сейчас не считает?
– Нет.
Я жду продолжения, но она переводит разговор:
– А ты что вспоминаешь?
– Когда мне было семь, мы всей семьей поехали в Диснейленд. Чарли очень хотелось прокатиться на аттракционе «Космическая гора», но мама решила, что мне будет слишком страшно, а одного его отпускать не хотела. Сами родители кататься не пошли.
Она сжимает мои руки крепче, что ужасно трогательно, ведь очевидно, что тот эпизод я пережил.
– И что произошло?
– Я убедил маму, что совсем не боюсь. Я сказал ей, что всегда хотел там прокатиться.
– Но не хотел? – спрашивает она.
– Нет. Я был напуган до смерти. Я сделал это только ради Чарли.
Подтолкнув меня в плечо, она иронизирует:
– Ты мне и так нравишься. Тебе не нужно убеждать меня в том, что ты святой.
– В том-то и дело. Мой поступок вовсе не был праведным. Наверное, я понимал, что наши отношения недолговечны. Я просто пытался убедить его, что я того стою. Это сработало. Он сказал, что я храбрый, и позволил мне доесть свой попкорн.
Я запрокидываю голову и смотрю на облака. Они почти не движутся.
– Тебе не кажется забавным, что наши самые дорогие воспоминания связаны с людьми, которые сейчас нас бесят? – спрашиваю я.
– Возможно, именно поэтому и бесят, – говорит она. – Расстояние между тем, кем они были когда-то, и тем, какие они сейчас, слишком велико, и мы уже не надеемся вернуть их обратно.
– Возможно, – соглашаюсь я. – А знаешь, что в моей истории хуже всего?
– Что?
– Из-за той поездки я по сей день ненавижу аттракционы.
Она смеется, и я вместе с ней.
Глаза История эволюции
УЧЕНЫЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО первым «глазом» было пигментированное, чувствительное к свету пятно на коже какого-то древнего существа. Это пятно давало ему возможность отличать свет от темноты – неоспоримое преимущество, так как темнота могла означать, что хищник совсем близко – так близко, что заслонил свет. Благодаря этому такие существа чаще выживали, больше размножались и передавали эту способность потомству. Вследствие случайных мутаций в этом светочувствительном пятне образовывалось углубление. Оно обеспечило лучшую видимость, а следовательно, больше шансов на выживание. Со временем светочувствительное пятно эволюционировало в человеческий глаз.
Как мы пришли от определения глаз как механизма выживания к идее любви с первого взгляда? Или к утверждению, что глаза – зеркало души? Или к расхожему мнению, что влюбленные готовы бесконечно смотреть друг другу в глаза?
Исследования показывают, что зрачки людей, которые друг к другу неравнодушны, расширяются из-за выработки гормона дофамина.
Другие исследования утверждают, что по радужке глаза можно определить черты личности и что, возможно, глаза все же в каком-то смысле зеркало души.
А как насчет влюбленных, которые часами напролет смотрят друг другу в глаза? Это проявление доверия? Я подпущу тебя очень близко и верю, что ты не причинишь мне вреда, пока я так уязвим. Если доверие – одна из основ любви, вероятно, долгий взгляд – способ создать его или укрепить. Или, возможно, все еще проще.
Простой поиск контакта.
Видеть.
Быть увиденным.
Даниэль
ДВЕРЬ АДВОКАТА ФИЦДЖЕРАЛЬДА – в конце серого безликого коридора. Я пытаюсь (безуспешно) не воспринимать это как знак, что меня ждет такое же будущее. На двери нет имени, только номер. Когда я стучу, никто не отзывается. Может, он уже ушел домой? Ведь это было бы просто идеально. Тогда я не был бы виноват в том, что не поступил в Йель и не стал врачом. И ничего, что я на десять минут опоздал, потому что целовался. Я ни о чем не жалею.
Я поворачиваю ручку двери и едва не натыкаюсь на рыдающую женщину.
Она не прячет лицо в ладонях. Она стоит прямо посреди комнаты и судорожно хватает ртом воздух, а слезы текут по ее лицу. На щеках – подтеки туши, глаза опухшие и красные, как будто она рыдает уже давно.
Осознав, что перед ней кто-то стоит, она перестает рыдать и вытирает лицо тыльной стороной рук. Этим она только все усугубляет, испачкав тушью и нос тоже.
– Вы в порядке? – задаю я самый тупой вопрос, который только мог прийти мне в голову. Очевидно же, что нет.
– Все хорошо, – отвечает она. Пожевывая нижнюю губу, пытается пригладить прическу, но снова делает только хуже.
– Вы Даниэль Бэ, – говорит она. – Вы пришли на собеседование.
Я подхожу на шаг ближе.
– Может, вам стакан воды, платок или что-то еще? – Я замечаю пустую коробку салфеток на ее столе рядом с кружкой. На кружке написано «Ассистентки берут дешевле».
– Я в полном порядке. Он там, – говорит она, указывая на дверь кабинета.
– Вы уверены, что… – начинаю я, но она перебивает:
– Я должна идти. Передайте ему, что он – самый чудесный человек из всех, кого я встречала, но я должна идти.
Я говорю: «Ладно», хотя передавать ему это, конечно, не стану.
А еще офис довольно мал. Он, вероятно, и так все слышал.
Она возвращается к своему столу и забирает кружку с надписью про ассистенток.
– И передайте ему, что я хотела бы остаться, но не могу. Так будет лучше для нас обоих.
Она опять разражается рыданиями. И вот я чувствую, как на глаза тоже наворачиваются слезы. Не круто.
Она резко перестает плакать, вытаращившись на меня:
– Вы что, плачете?
Я вытираю глаза.
– Да, вот такая ерунда со мной происходит. Могу расплакаться, когда вижу, как плачут другие.
– Это так мило. – Теперь, когда ее голос не дрожит от слез, он кажется довольно музыкальным.
– На самом деле это настоящая заноза в заднице…
– Следите за языком, – хмурится она.
– Простите.
Кто вообще станет возражать против такого невинного слова, как «задница»?
Ассистентка реагирует на мои извинения едва заметным кивком головы.
– Я никогда больше его не увижу. – Она шмыгает носом, потом вытирает его. – Если бы я знала, как все закончится, я бы вообще не приходила сюда работать.
– Всем хочется предвидеть будущее, – говорю я.
Ее глаза вновь наполняются слезами, хотя она кивает.
– В детстве я больше всего любила сказки, потому что, еще не начав читать, знаешь, чем все закончится. В конце всегда «и жили они долго и счастливо». – Она бросает взгляд на дверь, закрывает и снова открывает глаза. – В сказках принцессы не совершают неправильных поступков.
Дверь позади меня открывается. Я поворачиваюсь, горя желанием узнать, как выглядит самый чудесный человек на свете. Если не считать повязки над правым глазом – вполне обычно.
– Даниэль Бэ? – спрашивает он, глядя только на меня. Он не смотрит на нее даже вскользь.
Я протягиваю ему руку:
– Мистер Фицджеральд. Рад знакомству.
Он не удостаивает меня рукопожатия.
– Вы опоздали. – С этими словами он заходит в кабинет.
Я поворачиваюсь к секретарше, чтобы попрощаться, но ее уже и след простыл.
Наташа
Я ДОСТАЮ ТЕЛЕФОН из рюкзака. По-прежнему ни пропущенных звонков, ни сообщений от Бев. Может, снова в дороге. Я помню, она говорила, что хочет еще съездить в Калифорнийский университет в Сан-Франциско.
Наверное, нужно позвонить маме. По идее, сегодня я не раз уже должна была ей позвонить. Я пропустила три вызова от нее, когда мы с Даниэлем были на крыше.
Пишу ей сообщение: «Скоро буду дома».
Телефон почти тут же жужжит снова: «Пыталась связаться с тобой 2 часа».
«Прости!» – отвечаю я.
Последнее слово всегда остается за ней, поэтому я жду неизбежного ответа, и он приходит: «Значит, новостей нет? надеюсь ты не питала иллюзий».
Я зашвыриваю телефон в рюкзак.
Порой мне кажется, что больше всего на свете моя мама боится разочароваться. Чтобы этого не произошло, она изо всех сил старается никогда не тешить себя иллюзиями и призывает остальных поступать так же.
Но получается у нее не всегда. Однажды она принесла отцу листовку с объявлением о кастинге на какую-то третьесортную пьесу. Не знаю, где она ее нашла и что вообще это была за роль. Отец взял листовку и даже поблагодарил ее, но звонить он туда не стал, я совершенно в этом уверена.
Я решаю дождаться звонка от адвоката Фицджеральда и только потом уже о чем-то ей рассказывать. Маме и без того пришлось пережить немало разочарований.
Когда строишь воздушные замки, есть одна проблема: оттуда очень высоко падать.
Сэмюэль Кингспи История сожаления, часть 4
НЕКОТОРЫЕ РОЖДЕНЫ БЫТЬ великими. Господь наделяет избранных счастливчиков талантами и отправляет на землю, чтобы они ими воспользовались.
Свой талант мне довелось использовать лишь дважды в жизни. Два месяца назад, когда я играл в пьесе «Изюминка на солнце» на Манхэттене, и десять лет назад, когда я исполнял ту же роль в Монтего-Бей.
Мы с этой пьесой будто созданы друг для друга. На Ямайке, в газете «Дейли», мою игру назвали сверхъестественной.
Мне аплодировали стоя.
Мне. Не другим актерам. Мне одному.
Забавно. Благодаря этой пьесе я отправился в Америку и теперь из-за нее же возвращаюсь на Ямайку.
Патриция недоумевает, зачем я рассказал копу про все наши дела.
Он тебе не священник, говорит она. Это тебе не исповедь, говорит она. Я отвечаю ей, что просто был пьян и на эмоциях после сцены. Самые острые переживания испытываешь, занимаясь тем, для чего Господь послал тебя на землю.
Я отвечаю ей, что не хотел. И я не лгу, но и обратное – тоже правда. Возможно, я поступил так умышленно. Это никакая не исповедь. Нам даже не удалось собрать полный зал.
Америка со мной покончила, а я покончил с ней. Тот вечер стал напоминанием. На Ямайке мне аплодировали стоя. В Америке я не смог собрать зал.
Я не знаю. Возможно, я рассказал все специально. В собственной голове заблудиться так же легко, как в чужой стране. Все твои мысли – на другом языке, и ты не понимаешь знаков, хотя они окружают тебя повсюду.
Даниэль
ПЕРВОЕ, ЧТО Я ВИЖУ у него на столе, – папка с именем «Наташа Кители». Должно быть, это она, верно? Сколько еще Наташ побывало у этого адвоката сегодня? Значит, назначенные нам встречи не только в одном здании, но и в одном кабинете, и ее адвокат и собеседующий меня выпускник Неля – одно и то же лицо? Вероятность такого совпадения ничтожно мала, не так ли? Как же я хочу увидеть выражение ее лица, когда расскажу ей об этом.
Я смотрю на него, а потом оглядываю кабинет в поисках других подтверждений.
– Вы иммиграционный адвокат? – спрашиваю я.
Он отрывает взгляд от какого-то документа, как я полагаю, моего заявления.
– Да. А что?
– Похоже, я знаком с одной из ваших клиенток, – говорю я и беру в руки Наташи но дело.
– Не трогайте. Это конфиденциально. – Он выхватывает папку у меня из рук и убирает подальше.
Я улыбаюсь Фицджеральду, но он глядит хмуро.
– Точно, простите, – говорю я. – Просто вы спасли мне жизнь.
– О чем вы? – Он крутит правым запястьем, и я замечаю, что его рука забинтована.
Я показываю на папку:
– Я познакомился с ней – с Наташей – сегодня. Он все еще хмурится, не понимая, к чему я клоню.
– Когда я познакомился с ней, она готовилась к депортации, но потом встретилась с вами и теперь, благодаря вашей юридической магии, остается.
Он кладет забинтованную руку на стол.
– И каким же образом это спасло жизнь вам?
– Она Та Самая, – говорю я.
Адвокат снова хмурится:
– Разве вы не сказали, что познакомились с ней только сегодня?
– Именно. – Я ничего не могу поделать с этой широкой улыбкой, расползающейся на лице.
– И она Та Самая? – Он не показывает пальцами кавычки вокруг слов «Та Самая», но я слышу их в его интонации. Интонационные кавычки (ничем не лучше обычных).
Адвокат складывает пальцы домиком и долго меня изучает.
– Зачем вы здесь? – спрашивает он наконец.
Это что, вопрос с подвохом?
– Пришел на собеседование?
Он окидывает меня выразительным взглядом.
– Нет, серьезно. Зачем вы сейчас у меня в кабинете? Вам явно дела нет до этого собеседования. Вы заявляетесь сюда с таким видом, словно участвовали в уличной потасовке. Это серьезный вопрос. Зачем вы сюда пришли?
На это можно ответить только честно.
– Родители заставили.
– Сколько вам лет?
– Семнадцать.
Он заглядывает в мое дело:
– Здесь написано, что в дальнейшем вы заинтересованы в поступлении в медицинский колледж. Заинтересованы?
– Не то чтобы очень, – говорю я.
– Не то чтобы очень или нет? – Адвокатам по душе определенность.
– Нет.
– Дело движется, – говорит он. – Вы хотите учиться в Йельском университете?
– Я вообще не знаю, хочу ли я учиться в университете.
Он подается вперед. У меня такое чувство, словно это допрос.
– И о чем же вы на самом деле мечтаете?
– Быть поэтом.
– О, здорово, – произносит он. – Практично.
– Хотите верьте, хотите нет, но вы не первый, кто мне это говорит.
Он подается вперед еще немного:
– Я снова задам вам этот вопрос. Зачем вы здесь?
– Я должен.
– Нет, не должны, – выпаливает он. – Вы вольны просто встать и выйти вон.
– Я обязан родителям.
– Почему?
– Вы все равно не поймете.
– А вы попробуйте.
Я страдальчески вздыхаю.
– Мои родители – иммигранты. Они приехали сюда в поисках лучшей жизни. Работают сутки напролет, чтобы мы с братом могли воплотить американскую мечту. Но понятие американской мечты не подразумевает, что ты можешь забить на университет и стать голодающим художником.
– Оно подразумевает то, что вы сами захотите.
Я фыркаю:
– В моей семье это не пройдет. Если я не сделаю, что должен, меня оставят без поддержки. Никаких денег на учебу. Вообще ничего.
Такое признание по крайней мере заставляет его прекратить допрос. Адвокат откидывается на спинку кресла:
– Они действительно так поступят?
Я знаю ответ, но не могу произнести его сразу же. Вспоминаю лицо отца сегодня днем. Он намерен обеспечить нам с Чарли лучшую жизнь и сделает все ради этого.
– Да, – говорю я. – Он так поступит.
Не потому, что отец плохой человек. И не потому, что он Стереотипный Корейский Родитель. Он просто застрял в своей собственной истории и не может позволить нам строить нашу. Таких людей очень много.
Фицджеральд тихо присвистывает.
– Так, значит, вы должны быть абсолютно уверены, что ваша затея с поэзией того стоит.
Теперь вперед подаюсь я:
– Вы никогда не делали что-то только потому, что дали обязательство? Только потому, что пообещали?
Он отводит взгляд. Почему-то этот вопрос меняет все в нашем разговоре. Мы словно оказываемся в одной лодке.
– Обязательства – это прерогатива взрослой жизни, парень. Если ты собираешься совершать ошибки и нарушать обещания, сейчас самое время. – Он замолкает, крутит запястьем и морщится. – Делай глупости сейчас, пока последствия не так ужасны. Поверь мне. Потом будет сложнее.
Порой люди сообщают тебе о чем-то, но не напрямую. Я бросаю взгляд на его левую руку и вижу там обручальное кольцо.
– Так и случилось с вами? – спрашиваю я.
Адвокат разводит руками, потом вращает кольцо на пальце.
– Я женат, у меня двое детей.
– И роман с ассистенткой.
Он потирает повязку над глазом.
– Все началось сегодня. – Бросив взгляд на закрытую дверь, словно надеясь, что она окажется за ней, он тихо добавляет: – И сегодня же закончилось.
Я и не ждал, что он это подтвердит, и теперь не знаю, что сказать.
– Ты считаешь меня плохим парнем, – говорит он.
– Я считаю вас человеком, который меня собеседует, – отвечаю я.
Возможно, будет лучше, если мы просто вернемся к цели нашей встречи.
Он закрывает глаза руками:
– Я слишком поздно ее встретил. У меня всегда все не вовремя.
Ума не приложу, что сказать. Хоть он, конечно, и не ждет от меня совета. В другой ситуации я бы порекомендовал ему слушать сердце. Но он женатый человек. На кону не только его сердце.
– Что собираетесь делать? Отпустить ее? – спрашиваю я.
Он долго смотрит на меня молча, размышляя, и наконец произносит:
– Вам придется сделать то же самое. – Он достает папку с делом Наташи из-под локтя. – У меня не вышло. Я думал, у меня получится, но ничего не вышло.
– Не вышло что? – спрашиваю я.
– Отсрочить депортацию.
Ему придется произнести это по буквам, потому что я никак не могу понять, о чем речь.
– Ваша Наташа сегодня уезжает из страны. Я не смог помочь. Судья отказался отменить решение о добровольной высылке.
Я не знаю, что такое добровольная высылка. Я думаю только о том, что произошла какая-то ошибка. Просто ошибка. Теперь я надеюсь, что это и впрямь какая-то другая Наташа Кингсли.
– Мне жаль, парень.
Адвокат придвигает папку с делом ко мне, словно, если я загляну в нее, мне станет легче. Я открываю папку. Внутри какой-то официальный документ. Все, что я вижу, – слова: Наташа Кэтрин Кингсли. Я не знал ее второго имени. Кэтрин. Оно ей подходит.
Я закрываю папку и возвращаю ему.
– Но что-то же вы можете сделать.
Пальцы снова домиком. Пожимает плечами:
– Я уже все испробовал.
Вот это пожимание плечами приводит меня в бешенство. Это не мелочь какая-нибудь. Это не «О, вы опоздали на встречу. Приходите завтра». Речь о жизни Наташи. И о моей.
Я встаю с места.
– Вы сделали недостаточно, – бросаю обвинение ему в лицо. Готов поспорить, дело и в интрижке с ассистенткой тоже. Наверняка он целый день нарушал обещания, данные жене и детям. И Наташе.
– Послушайте, я знаю, что вы расстроены. – Он говорит ровным голосом, будто пытается меня успокоить.
Но я не хочу успокаиваться. Я упираюсь ладонями в его стол и наклоняюсь ближе:
– Что-то же можно сделать. Должен быть какой-нибудь выход. Она не виновата, что ее отец чертов неудачник.
Он откатывается от стола в своем кресле.
– Мне жаль. Министерству внутренней безопасности не нравится, когда нарушают сроки пребывания в стране.
– Но она была ребенком. У нее не было выбора. Она не могла сказать: «Мам, пап, наша виза просрочена. Ми должны вернуться на Ямайку».
– Это не важно. Закон есть закон. Их последнее ходатайство было отклонено. Единственная надежда была на судью. Если они уедут сегодня, у нее останется незначительный шанс вновь подать на визу через несколько лет.
– Но Америка – ее дом, – кричу я. – Какая разница, где она родилась?!
Я не говорю то, что хочу. А именно то, что ее место – рядом со мной.
– Мне жаль, но я ничем не могу помочь, – произносит он, прикасаясь к повязке над глазом. У него такой вид, словно ему действительно жаль.
Возможно, я заблуждаюсь на его счет. Возможно, он действительно пытался.
– Я планирую позвонить ей после того, как мы с вами закончим, – говорит он.
После того, как ми закончим. Я и забыл, что пришел сюда поговорить о своем поступлении в Йель.
– Вы что, просто скажете ей обо всем по телефону?
– А что, важно, как именно она это услышит? – хмурится он.
– Разумеется, важно.
Я не хочу, чтобы она услышала худшую новость в своей жизни по телефону – от человека, которого едва знает.
– Я сам это сделаю. Я скажу ей.
Он качает головой:
– Я не могу позволить вам это сделать. Это моя работа.
Молчу, не зная, что делать. Разбитая губа пульсирует. Ребра – там, куда меня ударил Чарли, – болят. Сердце – там, где Наташа, – рвется на части.
– Мне жаль, парень.
– Что, если она не сядет на самолет? Что, если она просто останется?
Я в отчаянии. Нарушение закона кажется небольшой ценой за возможность быть вместе. И снова он качает головой:
– Не советую. Ни как адвокат, ни просто, по-человечески.
Я должен найти ее и рассказать первым. Я не хочу, чтобы она была одна, когда услышит эту новость.
Я выхожу из его кабинета в пустую приемную. Ассистентка не вернулась.
Он идет за мной.
– На этом все? Не будем продолжать собеседование?
Я не останавливаюсь.
– Вы сами все сказали. Мне плевать на Йель. Он касается моей руки. Приходится повернуться и посмотреть ему в лицо.
– Послушай, я говорил, что глупости нужно совершать сейчас, пока ты еще подросток, но Йель – крупный козырь. Учеба в этом университете откроет перед тобой множество дверей. Так было и в моем случае.
Возможно, он прав. Возможно, я поступаю недальновидно.
Я обвожу взглядом его офис. Интересно, сколько еще продлится ремонт? Сколько времени пройдет, прежде чем он наймет новую помощницу? Дергаю подбородком в сторону ее стола:
– Вы сделали то, что должны были, и явно не рады.
Он снова потирает пластырь над глазом и не смотрит на ее стол. Он устал, но эту усталость не вылечить сном. Я говорю ему:
– Если я не уйду сейчас, то буду всю жизнь об этом сожалеть.
– Нам нужно всего полчаса. Что они изменят?
Я и впрямь должен объяснять ему, что каждая секунда важна? Что Вселенная возникла в один миг?
– Время имеет значение, мистер Фицджеральд, – говорю я.
Наконец он отворачивается и смотрит на пустой стол.
– Но вы это и так знаете, – говорю я.
Джереми Фицджеральд Сказка, часть 2
ДЖЕРЕМИ ФИЦДЖЕРАЛЬД НЕ ГОВОРИТ Даниэлю правду. Он не помешал депортации Наташи, потому что не явился на назначенную встречу с судьей, который мог отменить добровольную высылку. Он не явился потому, что влюблен в Ханну Уинтер и вместо того, чтобы увидеться с судьей, был в отеле, с ней.
Оставшись в одиночестве в недостроенном офисе, Джереми будет всю следующую неделю думать о Даниэле Бэ. Будет возвращаться мыслями к тому, что Даниэль сказал насчет времени. Будет с необычайной ясностью вспоминать разбитую губу Даниэля и его запачканную кровью рубашку. Он поймет, что ничто не сравнится с пустотой, отразившейся на лице Даниэля, когда он узнал про Наташу. Словно кто-то вложил ему в руку гранату и взорвал всю его жизнь.
В следующем месяце Джереми скажет жене, что больше ее не любит. Что для нее и детей будет лучше, если он уйдет. Он позвонит Ханне Уинтер, и даст ей обещания, и сдержит их все.
Его сын так и не остепенится, не женится, не заведет детей и не простит отцу это предательство. Его дочь женится на своей первой подруге, Мари. Большую часть этого брака она будет предвосхищать его конец, а потом сама же его и спровоцирует.
Никто после Мари не будет так ее любить. И хотя она еще дважды вступит в брак, она никогда не полюбит кого-то столь же сильно, как любила свою Мари.
Дети Джереми и Ханны, повзрослев, будут любить других просто и бесхитростно – как любят люди, которые знают, откуда берется любовь, и не боятся ее потерять.
Все это не означает, что Джереми Фицджеральд поступил правильно или, наоборот, неправильно. Все это значит лишь одно: любовь меняет все.
Ханна Уинтер Сказка, часть 2
И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО и счастливо.
Наташа
ТЕПЕРЬ, КОГДА СОЛНЦЕ село, на улице похолодало. Чувствуется, что зима уже не за горами. Скоро мне придется достать свое объемное черное пальто и сапоги.
Я запахиваю куртку и подумываю о том, чтобы зайти в лобби – там тепло. Я уже на полпути туда, когда Даниэль проходит через раздвижные двери.
Он замечает меня, и я жду, что он улыбнется, но его лицо мрачнее тучи. Неужели это собеседование прошло настолько плохо?
– Что случилось? – спрашиваю я, приблизившись к нему. Я воображаю самое худшее, например, что он подрался с тем, кто его собеседовал, и теперь ему вообще запрещено подавать заявления в какой-либо университет. Его будущее уничтожено.
Он обхватывает мое лицо ладонью и говорит:
– Я правда люблю тебя.
Он не шутит. Это не имеет никакого отношения к нашему глупому спору. Он говорит это так, как говорят умирающему или тому, кого не надеются увидеть снова.
– Даниэль, что случилось? – Я отвожу его руку от лица, но не выпускаю ее.
– Я люблю тебя, – повторяет он, поднося к моему лицу другую ладонь. – Мне все равно, скажешь ты мне эти слова или нет. Я просто хочу, чтобы ты знала.
У меня звонит телефон. Это из офиса адвоката.
– Не отвечай, – говорит он.
Ну разумеется, я отвечу.
Он касается моей руки, чтобы остановить меня.
– Прошу, не надо.
Теперь я встревожена. Отключаю звук.
– Что там с тобой произошло?
Он крепко зажмуривается. Когда он снова открывает глаза, я вижу, что в них стоят слезы.
– Ты не сможешь остаться, – произносит он.
Сначала я не понимаю, к чему он это говорит.
– Почему? Офисы уже закрываются? – Я оглядываюсь в поисках охранников, которые попросят нас покинуть здание.
Слезы катятся по его щекам. Внезапно у меня появляется отчетливая, непрошеная догадка. Я отнимаю у него свою руку.
– Как звали того, кто тебя собеседовал? – спрашиваю шепотом.
Теперь он кивает:
– Это был твой адвокат.
– Фицджеральд?
– Да.
Я достаю телефон и снова смотрю на высветившийся номер, по-прежнему отказываясь понимать то, о чем мне хочет сообщить Даниэль.
– Я ждала его звонка. Он что-нибудь говорил обо мне?
Я уже знаю ответ. Знаю.
Он предпринимает пару попыток, прежде чем ему удается произнести эти слова:
– Он сказал, что не сумел добиться отмены приказа.
– Но он говорил, что сможет…
Даниэль сжимает мою руку и пытается притянуть меня ближе, но я сопротивляюсь.
Я не хочу, чтобы меня утешали. Я хочу понять. Я отступаю назад.
– Ты уверен? Почему вы вообще обо мне говорили?
Он утирает лицо рукой.
– У них с его помощницей творилось черт знает что, а твое дело лежало у него на столе.
– Это не объясняет…
Он опять хватает меня за руку На этот раз я выдергиваю ее силой и повышаю голос:
– Перестань! Перестань, наконец!
– Прости, – говорит он и отпускает меня.
Я делаю еще шаг назад.
– Объясни, что именно он сказал.
– Он сказал, что приказ о депортации остается в силе и будет лучше, если ты и твоя семья уедете сегодня вечером.
Я отворачиваюсь и прослушиваю сообщение на голосовой почте. Это он – адвокат Фицджеральд. Просит меня перезвонить. У него плохие новости.
Я нажимаю отбой и молча смотрю на Даниэля. Он что-то начинает говорить, но я просто хочу, чтобы он остановился. Я хочу, чтобы весь этот мир остановился. Слишком много подвижных частей вышло из-под контроля. Я словно оказалась в замысловатой машине Голдберга[19], которую изобрел кто-то другой. Я не знаю механизма, приводящего ее в движение. Не знаю, что будет дальше. Мне известно лишь, что все устремляется вниз, по нисходящей, и, однажды сдвинувшись с места, больше не остановится.
Даниэль
Сердца не разбиваются Так лишь поэты говорят Сердца ведь сделаны Не из стекла Не из костей Не из того что может Хрустнуть Распасться на куски Разбиться вдребезги Они По швам не треснут Они В прах не рассыплются Сердца не разбиваются Они перестают служить Как древние часы – их некому чинитьНаташа
МЫ СИДИМ У ФОНТАНА, Даниэль держит меня за руку. Он накинул мне на плечи свой пиджак. Он правда сокровище. Жаль, что не мое.
– Мне нужно домой. – Это первое, что я сказала за полчаса с лишним.
Он снова притягивает меня к себе. И я наконец позволяю ему сделать это. У него такие широкие и крепкие плечи. Я опускаю голову на одно из них. Мы как единое целое. Я поняла это еще утром и понимаю теперь.
– Что нам делать? – шепчет он.
Есть электронная почта, Skype, сообщения, чаты. На Ямайку можно и приезжать. Но я уже знаю, что не допущу этого. Наши пути разойдутся. Я не смогу оставить свое сердце здесь, а жить там. И не смогу забрать его сердце с собой, когда все его будущее – здесь.
Я поднимаю голову с его плеча.
– Как в остальном прошло твое собеседование?
Он касается моей щеки, потом возвращает мою голову себе на плечо.
– Он сказал, что даст мне рекомендацию.
– Отлично, – говорю я безо всякого энтузиазма.
– Да, – вторит он, тоже без воодушевления.
Я замерзла, но идти никуда не хочу. Если сойду с этого места – запущу цепную реакцию, которая приведет меня на самолет. Проходит еще пять минут.
– Мне правда нужно домой. Вылет в десять.
Он достает телефон и смотрит на время.
– Еще три часа. Ты уже собрала вещи?
– Да.
– Я поеду с тобой, – говорит он.
Сердце подпрыгивает у меня в груди. На какую-то долю секунды меня посещает мысль, что он поедет со мной на Ямайку. Он успевает прочесть ее в моих глазах.
– Я имел в виду – к тебе домой.
– Я знаю, что ты имел в виду, – резко отвечаю я, чувствуя досаду. Я веду себя глупо. – Не думаю, что это хорошая идея. Там мои родители, и мне еще столько нужно сделать. Ты будешь только мешать.
Он встает и подает мне руку:
– Вот как мы поступим. Мы не будем спорить. Не будем делать вид, что все нормально, потому что это не так. Мы не разлучимся, пока нам действительно не придется это сделать. Я поеду с тобой к вам домой. Я познакомлюсь с твоими родителями, и понравлюсь им, и не стану бить твоего отца. Вместо этого я посмотрю, на кого из них ты больше похожа – на него или на маму. Твой младший брат будет вести себя в точности так, как положено младшему брату. Возможно, я наконец услышу тот ямайский акцент, который ты скрывала от меня целый день. Я побываю там, где ты спала, ела и жила, и буду сожалеть, что не узнал чуть раньше, где ты была все это время.
Я собираюсь перебить его, но он продолжает:
– Я поеду с тобой, а потом мы возьмем такси до аэропорта, только вдвоем – ты и я. Я буду смотреть, как ты садишься в самолет, и чувствовать себя так, словно чертово сердце вырывают у меня из груди. А потом до конца своих дней буду гадать, как бы все повернулось, если бы этот день прошел иначе.
Он замолкает, чтобы сделать вдох, и спрашивает:
– Как тебе такой план?
Даниэль
ОНА СОГЛАСНА. Я НЕ ГОТОВ прощаться. Я никогда не буду готов с ней попрощаться. Я беру ее за руку и мы молча идем к метро.
Она несет рюкзак на одном плече, и я снова вижу у нее на куртке слова «DEUS EX MACHINA». Неужели мы и впрямь познакомились только этим утром? Сегодня утром, когда мне так хотелось следовать за ветром. Я бы все отдал, лишь бы Бог действительно вмешался.
Заголовок: Местный парень берет верх над подразделением иммиграционной полиции при Министерстве внутренней безопасности. Живет долго и счастливо со своей единственной любовью. И все благодаря странной юридической лазейке, которой никто не замечал до последнего момента. И теперь у нас будет сцена погони, чтобы помешать ей сесть в самолет.
Но этому не бывать.
Весь день я думал, что нам суждено быть вместе. Что люди, обстоятельства, совпадения вели нас к тому, чтобы соединить навечно. Но возможно, это не так. А если тому, что существует между нами, суждено продлиться всего один день? А если мы – лишь случайные знакомые друг для друга, промежуточная станция на пути куда-то еще?
Что, если мы – лишь некое отступление чужой истории?
Наташа
– ТЫ ЗНАЛ, что Ямайка на шестом месте в мире по количеству совершаемых здесь убийств? – спрашиваю я.
Мы в поезде, который едет в Бруклин. Он забит пассажирами, возвращающимися с работы, и мы стоим в проходе, держась за поручень.
Даниэль приобнимает меня. Он то и дело касается меня с того самого момента, как мы отошли от офисного здания. Не отпускает. Возможно, так я не улечу.
– А первые пять? – спрашивает он.
– Гондурас, Венесуэла, Белиз, Сальвадор и Гватемала.
– Ха, – произносит он.
– А ты знал, что Ямайка до сих пор формально является членом Британского содружества наций? – Я не жду, пока он ответит. – Я – подданная королевы. – Если бы здесь было больше места, я бы сделала реверанс.
Поезд с визгом останавливается на станции. Заходит больше народу, чем выходит.
– Что еще тебе рассказать? Население составляет две целых девять десятых миллиона. От одного до десяти процентов людей относят себя к растафарианцам. Двадцать процентов ямайцев живут за чертой бедности.
Он придвигается чуть ближе, и вот я уже в кольце его рук.
– Расскажи мне что-нибудь хорошее, что помнишь, – просит он. – А не факты.
Я не хочу быть оптимистичной. Не хочу принимать свое новое будущее.
– Я уехала, когда мне было восемь. Мало что помню.
– А твои родственники? Кузены? Друзья? – не унимается он.
– Я помню, что они у меня есть, но я их не знаю. Мама заставляет нас созваниваться с ними раз в год, на Рождество. Они смеются над моим американским акцентом.
– Что-нибудь хорошее, – снова просит он. Его глаза теперь кажутся темно-карими, почти черными. – Чего тебе больше всего не хватало, когда ты сюда только переехала?
Мне не приходится думать долго.
– Пляж. Океан здесь какой-то странный. У него неправильный оттенок. Он холодный. Слишком бурный. Ямайка – в Карибском море. Вода там сине-зеленая и очень спокойная. Ты можешь долго-долго заходить в море, и все равно оно будет тебе по пояс.
– Здорово, – говорит он. Голос у него подрагивает. Я боюсь поднять на него глаза, потому что тогда мы оба расплачемся прямо здесь, в поезде.
– Хочешь ответить на оставшиеся вопросы из третьего раздела? – спрашиваю я.
Он достает телефон.
– Номер двадцать девять. Поделитесь с партнером каким-нибудь неловким эпизодом из своей жизни.
Поезд снова останавливается, и на сей раз больше народу выходит, чем заходит. В вагоне становится посвободнее, но Даниэль не отодвигается от меня.
– Сегодня в магазине пластинок с Робом вышло довольно неловко, – говорю я.
– Правда? Я не заметил смущения, разве что раздражение.
– Я умею делать каменное лицо, в отличие от кое-кого, – говорю я и подталкиваю его плечом.
– Но почему тебе было неловко?
– Он изменил мне с ней. Каждый раз, видя их вместе, почему-то думаю, что, может, я недостаточно хороша.
– Этот парень просто скотина. Ты тут вообще ни при чем. – Он берет меня за руку и не выпускает ее. Мне даже нравится его искренность.
– Знаю. Я позвонила ему сегодня и спросила, почему он так поступил.
Он удивлен:
– Правда? И что он сказал?
– Сказал, что просто хотел нас обеих.
– Козел. Увижу его снова – задницу надеру.
– Разок подрался и теперь жаждешь крови, да?
– Я боец, а не любовник, – говорит он, намеренно искажая слова песни Майкла Джексона[20]. – Твоим родителям было не важно, что он белый?
– Они его никогда не видели.
Не представляю, как привела бы его знакомиться с папой. Смотреть, как они друг с другом беседуют, было бы для меня пыткой. Не хотела, чтобы он увидел наше убогое жилище. Не хотела, чтобы он по-настоящему узнал меня.
С Даниэлем все иначе. Я не против открыть ему свою жизнь.
Свет на мгновение гаснет и тут же снова включается. Даниэль сжимает мои пальцы.
– Наши с Чарли родители хотят, чтобы мы встречались исключительно с кореянками.
– Ты их плоховато слушаешь, – дразню я.
– Ну, я не то чтобы с кучей девушек встречался. Только с одной кореянкой. А вот Чарли… У него как будто аллергия на всех девушек, кроме белокожих.
Поезд дергается, и я хватаюсь за поручень обеими руками.
– Хочешь узнать, в чем проблема твоего брата? Он накрывает мою руку своей:
– И в чем же?
– Он не слишком-то себя любит.
– Считаешь?..
Он обдумывает мои слова. Ему хочется найти какое-то объяснение поведению Чарли.
– Точно тебе говорю.
Поезд притормаживает на повороте. Даниэль поддерживает меня и не отпускает.
– Почему твои родители предпочитают кореянок? – спрашиваю я.
– Они думают, что поймут только кореянок. Даже тех, которые выросли здесь.
– Но эти девушки наполовину американки.
– Я и не говорю, что это логично, – улыбается он. – А как насчет тебя? Твоим родителям не все равно, с кем ты встречаешься?
Я пожимаю плечами:
– Никогда их не спрашивала. Наверное, они бы предпочли, чтобы я в конечном итоге вышла замуж за чернокожего парня.
– Почему?
– По той же причине, которую называют твои родители. Им кажется, что они будут лучше его понимать. А он – их.
– Но ведь не все чернокожие одинаковые, – говорит он.
– Как и кореянки.
– Родители ведут себя довольно глупо. – Он шутит лишь отчасти.
– Похоже, они думают, что таким образом защищают нас.
– От чего? Ну вот честно, кого сейчас это вообще волнует? Мы должны быть умнее.
– Возможно, наши дети будут, – говорю я и жалею об этих словах, едва они вылетают у меня изо рта.
Свет снова гаснет, и мы останавливаемся в тоннеле между станциями. Смотрю на желто-оранжевые огоньки световых индикаторов.
– Я не имела в виду наших детей, – говорю в темноту. – Я имела в виду следующее поколение.
– Я знаю, – тихо произносит он.
Теперь, подумав об этом и озвучив это, я не могу просто выбросить эти мысли. Какими были бы наши дети? Я словно потеряла что-то, чего еще даже не успела захотеть.
Мы останавливаемся на станции «Канал-стрит» – дальше поезд поедет через Манхэттенский мост. Двери закрываются, мы оба поворачиваемся к окну. Когда мы выезжаем из тоннеля, первое, что я вижу, – Бруклинский мост. На подвесных канатах зажглись огоньки. Мой взгляд блуждает по длинным аркам моста. Он красив ночью, но больше всего меня всегда потрясает силуэт города. Он похож на ярко освещенную скульптуру из стекла и металла, на произведение механического искусства. С такого расстояния город выглядит единым целым, словно его выстроили сразу весь, систематически и планомерно. А когда попадаешь в него, он, наоборот, кажется хаотичным.
Я вспоминаю вид с крыши. Тогда я представляла город в процессе застройки. Теперь же я мысленно переношусь в апокалиптическое будущее. Свет меркнет, стекла выпадают, и остаются лишь металлические остовы зданий. В конечном итоге и те покрываются ржавчиной и крошатся. Дороги зарастают травой, по которой бегают звери. Город прекрасен и мертв.
Мы снова спускаемся в тоннель. Я точно знаю, что всегда буду сравнивать очертания других городов с очертаниями Нью-Йорка. Так же как всегда буду сравнивать других парней с Даниэлем.
Даниэль
– А ТЕБЕ КОГДА было неловко? – спрашивает она после того, как мост исчезает из виду.
– Шутишь? Ты и сама знаешь. Когда мой папа советовал тебе сменить прическу, а брат отпускал шуточки про маленький пенис.
– Это было жестко, – смеется она.
– Даже если я проживу тысячу жизней, это все равно останется самым неловким эпизодом за всю историю.
– Ну, не знаю. Твой папа и Чарли наверняка на этом не остановятся.
Я со стоном потираю шею.
– Нам всем при рождении должны вручать какую-нибудь «карточку второго шанса». Чтобы в шестнадцать ты мог выбрать – остаться со своей нынешней семьей или начать жизнь заново с другой.
Она сжимает мою руку.
– А можно будет выбрать какую-то конкретную новую семью?
– Нет. Здесь ты рискуешь.
– Значит, однажды ты просто появляешься на пороге чужого дома?
– Я еще не проработал детали, – говорю я. – Возможно, приняв решение, родишься заново, в новой семье?
– А твоя прежняя семья будет считать тебя умершим?
– Да.
– Но это так жестоко…
– Ладно, ладно. Может, они просто забудут, что ты существовал. Так или иначе, я не думаю, что многие решатся на такой обмен.
Она качает головой:
– Думаю, желающих будет достаточно. На свете немало плохих семей.
– А ты бы захотела? – спрашиваю я.
Она некоторое время задумчиво молчит, и я слушаю ритмичный стук колес по рельсам. Никогда еще не мечтал, чтобы поезд ехал помедленнее.
– Я могла бы отдать этот «второй шанс» кому-то, кому он правда нужен? – спрашивает она. Я знаю, она думает о своем отце.
Я целую ее волосы.
– Как насчет тебя? Ты бы остался в своей семье? – спрашивает она.
– А я бы вышвырнул вместо себя Чарли.
Она смеется:
– Может, не такая уж и хорошая идея. Представляешь, что было бы, если бы все имели право влезать в чужую жизнь? Хаос.
В том-то и проблема. Все уже это делают.
Наташа
ТАК СТРАННО ОКАЗАТЬСЯ в своем районе вместе с Даниэлем. Я смотрю на все вокруг его глазами. После довольно престижного Среднего Манхэттена моя часть Бруклина кажется бедной. По дороге, которой я обычно хожу домой и которая тянется через шесть кварталов, нам встречается множество одинаковых магазинов. Здесь есть ямайские ресторанчики, где подают вяленое мясо, китайские рестораны с пуленепробиваемыми стеклами, алкогольные магазины с пуленепробиваемыми стеклами, дисконты одежды и салоны красоты. В каждом квартале найдется по меньшей мере один продуктовый, окна которого залеплены рекламой пива и сигарет. В каждом квартале есть как минимум один пункт обналичивания чеков. Магазины теснят друг друга.
Я рада, что в темноте Даниэль не видит, как все здесь запущено. И мне тут же становится стыдно за эту мысль.
Он берет меня за руку, и несколько минут мы идем молча. Я ощущаю устремленные на нас любопытные взгляды. Мне приходит в голову, что это могло бы стать для нас привычным делом.
– На нас пялятся, – говорю я.
– Это потому, что ты такая красивая, – отвечает он и глазом не моргнув.
– Так, значит, ты заметил? – не унимаюсь я.
– Конечно, заметил.
Я останавливаюсь перед открытой дверью прачечной самообслуживания, из которой падает свет. Нас окружает запах моющих средств.
– Ты знаешь, почему они пялятся, да?
– Либо потому, что я не черный, либо потому, что ты не кореянка.
Лицо Даниэля скрыто в тени, но по его голосу я слышу, что он улыбается.
– Я серьезно, – говорю я досадливо. – Тебя это разве не напрягает?
Я не знаю, зачем допытываюсь. Может, мне нужны доказательства того, что, если бы у нас был шанс остаться вместе, мы бы выдержали груз этих взглядов.
Он берет меня за руки, и теперь мы стоим лицом к лицу.
– Может, и напрягает, но не особо. Как жужжащая муха, понимаешь? Раздражает, но опасности для жизни не несет.
– Но почему они пялятся? – Мне необходимо услышать ответ.
Он притягивает меня к себе и обнимает.
– Я понимаю, что для тебя это важно, и мне правда хочется дать тебе какое-то объяснение. Но, честно говоря, мне все равно, почему они это делают. Может, я наивен, но мне плевать на мнение окружающих. Мне плевать, если мы кажемся им чем-то экзотическим. Меня не волнует всякая политика. Что скажут твои родители, что скажут мои. Что меня действительно волнует – это ты. И я уверен: любви достаточно, чтобы преодолеть всю эту чушь. Это все правда чушь. Заламывание рук. Все эти разговоры о столкновении культур, о сохранении культур и о том, что станет с детьми. Все это стопроцентный бред, бред чистой воды, и я просто отказываюсь насчет этого париться.
Я улыбаюсь, уткнувшись ему в грудь. Мой хвостатый поэт. Не думала, что желание «не париться» можно превратить в настоящий бунт.
Мы сворачиваем с главной дороги на улицу, где больше жилых домов. Я по-прежнему пытаюсь смотреть на все глазами Даниэля. Мы проходим мимо рядов жмущихся друг к другу дощатых домиков. Они маленькие и довольно старые, но красочные и ухоженные.
Их крылечки, как мне кажется, все больше обрастают безделушками и подвесными горшками с растениями.
Было время, когда моя мама отчаянно хотела жить в таком доме. В этом году, еще до того, как заварилась вся каша, она даже устроила нам с Питером экскурсию по одному из таких домов, где никто не жил. Там было три спальни и просторная кухня. Даже имелся подвал, который, по ее прикидкам, можно было бы сдавать в субаренду в качестве дополнительного источника дохода. Питер сделал вид, что ему не понравился этот дом, – ради мамы, ведь он обожает ее и понимает, что мы никогда не сможем себе такое позволить. Он начал ко всему придираться.
– Задний двор слишком мал, и растения там завяли, – сказал он тогда. Он не отпускал ее от себя ни на секунду, и, когда мы вышли из того дома, она даже не погрустнела.
Мы проходим еще квартал с похожими домами, а потом вид снова меняется. Теперь мы в окружении преимущественно кирпичных многоквартирных зданий. Здесь в основном жилье внаем.
– Там сейчас бардак, – предупреждаю я.
– Ясно, – кивает Даниэль.
– И места мало. – Я не упоминаю о том, что у нас всего две комнаты.
Скоро он сам все увидит. Кроме того, через несколько часов это место перестанет быть моим домом.
Маленькие девочки из квартиры 2С сидят на крыльце, когда мы подходим. При виде Даниэля они, смутившись, опускают головы и не заговаривают со мной, как обычно. Я останавливаюсь возле металлических почтовых ящиков на стене. В нашем почты нет, из него лишь торчит меню китайского ресторана. Это любимое папино место, то самое, откуда он принес еду, когда вручал нам билеты на пьесу.
Кто-то, как всегда, что-то готовит, и в подъезде вкусно пахнет: маслом, луком, карри и другими приправами. Наша квартира на третьем этаже, поэтому я веду Даниэля к лестнице. Как обычно, свет в пролете между первым и вторым этажами не горит.
Мы молча идем в темноте, пока не поднимаемся на третий этаж.
– Пришли, – говорю я, когда мы наконец оказываемся перед дверью квартиры ЗА.
В некотором смысле рановато знакомить Даниэля с моим домом и моей семьей. Если бы у нас было больше времени, он бы уже знал все забавные подробности нашего быта. Знал бы о шторке в гостиной, которая отделяет «комнату» Питера от моей. Знал бы о том, что самая ценная для меня вещь в доме – карта звездного неба. Знал бы, что, когда моя мама захочет его чем-нибудь угостить, он должен просто взять это и съесть все целиком, и не важно, сыт он или нет.
Я понятия не имею, как рассказать ему все это. Потому снова повторяю:
– Там бардак.
Это странно – видеть его здесь, перед своей дверью. Он одновременно вписывается и не вписывается. Я всегда его знала, и одновременно мы только познакомились. Наша история слишком сжата. Мы пытаемся уместить целую жизнь в один день.
– Мне снять пиджак? – спрашивает он. – В этом костюме я чувствую себя идиотом.
– Не волнуйся, – говорю я.
– Мне предстоит знакомство с твоими родителями. Сейчас самое подходящее время поволноваться. – Он расстегивает пиджак, но не снимает его.
Я прикасаюсь к его разбитой губе:
– Знаешь, что хорошо? Ты запросто можешь облажаться. Ведь ты, вероятно, никогда больше их не увидишь.
Он печально улыбается. Я пытаюсь не падать духом, и ему это известно.
Я достаю из рюкзака ключи и отпираю дверь. Везде горит свет, и слишком громко играет регги Питера. Я ощущаю ритм в груди. Три чемодана стоят прямо у двери. Еще два раскрыты, лежат поодаль. Я сразу замечаю маму.
– Выключи эту свою музыку, – говорит она Питеру, увидев меня. Он выключает, и внезапно наступившая тишина кажется пронзительной.
Она поворачивается ко мне:
– Господи Иисусе, Таша. Я пыталась до тебя дозвониться все это…
Проходит секунда, прежде чем она замечает Даниэля. Заметив, замолкает и долгое время смотрит то на него, то на меня.
– Кто это? – спрашивает она наконец.
Даниэль
НАТАША ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕНЯ своей маме.
– Это мой друг, – говорит она. Я совершенно точно уловил заминку перед словом друг. Ее мама тоже это услышала и теперь изучает меня, как какого-нибудь инопланетного жука.
– Мне жаль, что наше знакомство произошло при таких обстоятельствах, миссис Кингсли. – Я протягиваю ей руку.
Сначала она смотрит на Наташу (это взгляд, говорящий как ты могла так со мной поступить?), но потом вытирает ладонь о платье и отвечает мне лаконичным рукопожатием и еще более лаконичной улыбкой.
Наташа уводит меня из маленького коридора, где мы все теснимся, в гостиную. По крайней мере, мне кажется, что это гостиная. Смятая синяя ткань лежит на полу, а под потолком протянута веревка, которая делит комнату надвое. Потом я замечаю, что в этой комнате вся мебель дублируется – два дивана, два комода, два стола. Это их спальня. Наташа делит ее с Питером. Когда она говорила, что у них маленькая квартира, я и не понял, что они бедные. Я еще так мало о ней знаю.
Ее брат с улыбкой подходит ко мне и протягивает руку. У него дреды и одно из самых дружелюбных лиц на свете.
– Таша еще никогда не приводила сюда парня, – говорит он. Его заразительная улыбка становится еще шире.
Я улыбаюсь в ответ и жму ему руку Наташа и ее мама смотрят на нас.
– Таша, мне нужно с тобой поговорить, – произносит мама.
Наташа не сводит взгляда с меня и Питера. Интересно, задумывается ли она о том, что мы с ним могли бы подружиться. Я – точно. Наконец, повернувшись к маме, она спрашивает:
– Про Даниэля?
Поджатые губы ее мамы просто не могут стать еще поджатее (да, поджатее).
– Таша…
Даже я слышу в ее голосе предостережение: мама вот-вот разозлится, но Наташа продолжает:
– Потому что если ты действительно хочешь поговорить о Даниэле, говори здесь. Он мой парень. – Она украдкой бросает на меня вопросительный взгляд, и я киваю.
Как раз в этот момент в дверном проеме напротив нас появляется ее папа.
Из-за аномалии в пространственно-временном континууме местные отцы весь день появляются в самый неподходящий момент.
– Парень? – произносит он. – С каких это пор у тебя есть парень?
Я поворачиваюсь и смотрю на него. Вот и ответ на мой вопрос – на кого похожа Наташа. В общем и целом она вылитый отец, только в женском обличье. И без его насупленных бровей. Я никогда еще не видел столь угрюмого выражения лица, как у него сейчас.
Он говорит с сильным ямайским акцентом, и я понимаю его не сразу.
– Вот чем ты занималась весь день, вместо того чтобы помогать собирать вещи? – заявляет он, подходя ближе.
Наташа мало успела рассказать мне об их взаимоотношениях, но сейчас всю историю можно прочитать у нее на лице. Гнев, обида, неверие. Миротворец во мне не хочет видеть, как они ссорятся. Я касаюсь ее спины.
– Все нормально, – тихо говорит она.
Я чувствую, что она готовится к чему-то, собирается с духом.
– Нет. Весь день я пыталась исправить твои ошибки. Я пыталась сделать так, чтобы нашу семью не вышвырнули из страны.
– Мне так не кажется, – парирует он, а затем поворачивается ко мне, насупившись еще сильнее. – Тебе известна ситуация?
Я слишком удивлен, что он обращается ко мне, поэтому просто киваю в ответ.
– Тогда ты понимаешь, что сейчас чужие нам здесь ни к чему, – говорит он.
Ее спина напрягается под моей ладонью.
– Он не чужой. Он мой гость.
– А это мой дом. – Ее отец выпрямляется, произнося эти слова.
– Твой дом? – восклицает Наташа с негодованием.
Все ее самообладание быстро улетучивается. Она встает посреди гостиной, разводит руки в стороны и описывает круг.
– Вот эта квартирка, где мы ютимся уже девять лет, потому что ты все ждешь свой звездный час, – это твой дом?
– Детка. Сейчас бессмысленно все это ворошить, – обращается к ней мама, которая по-прежнему стоит в дверном проеме.
Наташа открывает рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрывает его снова. Я вижу, как она пытается остыть.
– Хорошо, мам, – только и произносит она. Интересно, сколько раз она вот так уступала?
Я думаю, что этим все и закончится, но не тут-то было.
– Ну уж нет, – говорит ее отец. – Ну уж нет. Я хочу услышать, что она скажет.
Он расставляет ноги шире и скрещивает руки на груди.
Наташа делает в точности то же, и так они стоят друг против друга.
Наташа
Я МОГЛА БЫ ВСЕ замять ради мамы, как всегда. Не далее чем накануне вечером она сказала, что нам четверым надо держаться вместе. «Сначала будет непросто» – вот что она сказала. Мы поживем с бабушкой – ее матерью, пока не накопим достаточно денег на аренду собственного жилья. «Никогда бы не подумала, что докачусь до этого», – заявила мама, перед тем как отправиться спать.
Я могла бы отпустить ситуацию, если бы не познакомилась с Даниэлем. Из-за него список того, что я сегодня потеряю, увеличился на один очень значимый пункт. Я отпустила бы ситуацию, если бы мой отец снова не заговорил с этим наигранным ямайским акцентом. Очередное притворство. Послушать его – так можно подумать, что он и не уезжал с Ямайки, не было никаких девяти лет в Штатах. Он действительно считает нашу жизнь иллюзией. Я устала от его притворства.
– Я слышала, что ты сказал маме после той пьесы. Ты сказал, что больше всего сожалеешь о нашем появлении на свет.
Он словно оседает, сердитая маска исчезает с его лица. Не понимаю, что за эмоция появляется взамен, но она кажется искренней. Наконец-то. Хоть что-то настоящее.
Он собирается ответить, но я еще не закончила.
– Мне жаль, что жизнь не дала тебе все, о чем ты мечтал.
Произнося это, я осознаю, что мне правда жаль. Теперь я знаю, что такое разочарование. И понимаю, что оно может быть длиною в жизнь.
– Я не всерьез, Таша. Просто разговор. Просто…
Жестом обрываю оправдания. Не это мне от него нужно.
– Я хочу, чтобы ты знал, что твоя игра была потрясающей. Просто невероятной. Выдающейся.
Вижу в его глазах слезы. Не уверена, что именно их вызвало – мои слова, раскаяние или что-то еще.
– Может, ты прав, – продолжаю я. – Может, ты не создан быть отцом. Может, ты и впрямь чувствуешь себя обманутым.
Он качает головой:
– То был просто разговор, Таша. Я совсем не это хотел сказать.
Но разумеется, он хотел сказать именно это. И не хотел. И то и другое. Одновременно.
– Неважно, всерьез ты это сказал или нет. Ты живешь именно этой жизнью. Она не временная, не выдуманная, и второго шанса у тебя не будет.
Я говорю, как Даниэль.
Самое ужасное, что услышанные мною слова отравили все мои хорошие воспоминания об отце. Сожалел ли он о моем существовании, когда мы вместе смотрели крикет? А когда крепко обнимал меня в аэропорту после нашего воссоединения? А как насчет дня, когда я появилась на свет?
Слезы градом катятся по его лицу. Мне больно это видеть – больнее, чем я ожидала. И все же есть еще кое-что, что я должна ему сказать.
– Не надо жалеть о том, что мы есть.
Какой-то звук вырывается из его горла. Теперь я знаю, как звучит жизнь, полная боли.
Люди постоянно совершают ошибки. Бывают незначительные – например, когда встаешь в очередь на кассу и именно впереди тебя оказывается дама с сотней купонов и чековой книжкой. Бывают средние – поступаешь в медицинскую школу вместо того, чтобы заниматься тем, чем хочешь. Порой ты совершаешь действительно крупные ошибки.
Сдаешься.
Я присаживаюсь на свой диван. Во мне больше усталости и меньше злости, чем я думала.
– Когда мы приедем на Ямайку, ты должен хотя бы попытаться. Ходить на прослушивания. И быть добрее с мамой. Она делает все, что может, и она устала, а ты перед нами в долгу. Ты не должен больше бежать от реальности.
Мама плачет. Питер обнимает ее.
Отец подходит к ним. Мама обнимает и его тоже. Все вместе, как единое целое, они смотрят на меня и жестом зовут присоединиться. Но сначала я поворачиваюсь к Даниэлю.
Он обнимает меня так крепко, словно мы уже прощаемся.
Даниэль + Наташа
ВОДИТЕЛЬ УБИРАЕТ ЕЕ ЧЕМОДАН в багажник. Питер и родители уже уехали в аэропорт на другом такси.
Сев в машину, Наташа кладет голову Даниэлю на плечо. Ее волосы щекочут ему нос. Хотел бы он иметь больше времени, чтобы успеть привыкнуть к этому ощущению.
– Ты думаешь, у нас бы все сложилось? – спрашивает она.
– Да, – отвечает он без колебаний. – А ты?
– Да.
– Ты наконец-то со мной согласна. – В его голосе слышится улыбка.
– Твоим родителям было бы трудно это принять?
– Им бы потребовалось немало времени. Особенно отцу. Думаю, на нашу свадьбу они бы не пришли.
Наташа представляет себе этот день. Видит океан. Видит Даниэля, красивого, в смокинге. Он огорчен отсутствием родителей, и она гладит его лицо, пытаясь стереть печаль.
Как он счастлив, когда она наконец произносит: «Согласна…»
– Сколько детей ты хочешь? – спрашивает она, после того как утихает боль от этих грез.
– Двоих. А ты?
Она колеблется, но все же признается:
– Я не уверена, что вообще их хочу. Ты бы смог с этим смириться?
Он не ждал такого и отвечает не сразу:
– Наверное, да. Не знаю. Возможно, ты бы еще передумала. Или я.
– Я должна тебе кое-что сказать.
– Что?
– Тебе не надо становиться врачом.
Он улыбается, уткнувшись в ее волосы:
– А как же благоразумие?
– Его переоценивают, – заявляет она.
– А ты по-прежнему собираешься стать специалистом по обработке данных?
– Не знаю. Может, и нет. Было бы здорово чем-нибудь по-настоящему увлечься.
– Сколько может изменить один день, – произносит он.
Больше ни слова. А что тут скажешь? День был долгий.
Наташа нарушает их угрюмое молчание:
– Итак, сколько вопросов у нас еще осталось?
Он достает телефон.
– Два. И нам еще нужно в течение четырех минут смотреть друг другу в глаза.
– Можем смотреть в глаза, а можем просто целоваться.
Водитель, Мигель, прерывает их диалог, глянув в зеркало заднего вида:
– Ребят, вы ведь в курсе, что я вас слышу? И вижу тоже. – Он издает скабрезный смешок. – А то некоторые садятся в машину и делают вид, будто я глух и слеп, но это не так. Просто чтобы вы знали.
Он снова смеется, и Наташа с Даниэлем невольно тоже начинают хохотать.
Но смех угасает, они возвращаются в реальность. Даниэль обхватывает руками лицо Наташи, и они нежно целуют друг друга. Между ними по-прежнему химия. Оба слишком разгорячены, не знают, куда деть руки, которые, похоже, созданы лишь для того, чтобы они могли прикасаться друг к другу.
Мигель не произносит ни слова. Ему когда-то разбивали сердце. Он видит эту боль.
Даниэль заговаривает первым:
– Вопрос тридцать четыре. Что бы ты спасла из огня?
Наташа задумывается. У нее такое чувство, словно весь ее мир сейчас горит. И то единственное, что ей хочется спасти, она спасти не может.
Даниэлю она говорит:
– У меня пока ничего и нет, но я что-нибудь придумаю.
– Хороший ответ, – отвечает он. – У меня все просто. Мой блокнот.
Он прикасается к карману пиджака, чтобы удостовериться, что блокнот на месте.
– Последний вопрос, – объявляет он. – Смерть кого из членов твоей семьи ты восприняла бы тяжелее всего и почему?
– Папину.
– Почему? – спрашивает он.
– Потому что для него еще не все кончено. А ты чью?
– Твою, – отвечает он.
– Я же не твоя семья.
– Нет, моя, – упрямится он, вспоминая рассказ Наташи о множественности миров. В какой-то другой вселенной они женаты, там у них, может быть, двое детей, а может, ни одного. – Тебе не нужно ничего мне говорить. Я просто хочу, чтобы ты знала.
Есть слова, которые Наташа должна ему сказать, но она не знает, где их взять, не знает, с чего начать. Вероятно, поэтому Даниэль и хочет быть поэтом – чтобы находить правильные слова.
– Я люблю тебя, Даниэль, – наконец произносит она.
– Похоже, вопросы все же сделали свое дело, – ухмыляется он.
Она улыбается в ответ:
– Ура, наука.
Проходит мгновение.
– Я знаю, – говорит Даниэль. – Я уже это знаю.
Четыре минуты История любви
ДАНИЭЛЬ СТАВИТ ТАЙМЕР в телефоне на четыре минуты и берет ее ладони в свои. Нужно ли им держаться за руки во время этого эксперимента? Он точно не знает. Согласно исследованию, это последний шаг, который нужен, чтобы влюбиться друг в друга.
А что будет, если вы уже влюблены?
Сначала они чувствуют себя довольно глупо. Наташу так и подмывает сказать, какая это дурацкая затея. На их лицах появляются беспомощные, почти смущенные улыбки. Наташа отводит взгляд, но Даниэль сжимает ее руки: «Останься со мной».
Ко второй минуте они уже не так напряжены. Улыбки исчезают, и они пытаются запечатлеть в памяти лица друг друга. Наташа вспоминает биологию: все, что ей известно о глазах, о том, как они устроены. Оптическое изображение его лица отправляется на ее сетчатку. Там – преобразуется в электронный сигнал. По зрительному нерву сигнал передается в зрительную зону коры головного мозга. Теперь она знает, что навсегда запомнит его лицо вот таким. Она будет помнить, когда именно ей стали нравиться светло-карие глаза.
Даниэль пытается подобрать слова, чтобы описать ее глаза. Они светлые и темные одновременно. Словно кто-то накрыл плотной темной тканью яркую звезду.
На третьей минуте Наташа заново проживает день и все моменты, которые привели их сюда. Видит здание Службы гражданства и иммиграции, странную женщину-охранника. Вспоминает доброту Лестера Барнса, ворующих Роба и Келли, встречу с Даниэлем.
То, как он спас ей жизнь.
Знакомство с его отцом и братом.
Норэбан, поцелуи, музей, крышу, снова поцелуи.
Лицо Даниэля, когда он сообщил ей, что она не сможет остаться, слезы раскаяния на папином лице.
И этот момент сейчас, в такси.
Даниэль думает не о прошлом, а о будущем. Есть ли что-то, что могло бы снова привести их друг к другу?
На последней минуте боль пронизывает их до самых костей. Поглощает, овладевает тканями, мышцами, кровью и каждой клеткой тела.
В телефоне жужжит таймер. Они шепотом дают друг другу обещания, зная, что вряд ли смогут их исполнить, – звонить, писать и даже летать международными рейсами, и к черту расходы.
– Быть не может, что у нас есть только этот день.
Даниэль произносит это раз, потом второй.
Наташа не высказывает того, о чем думает. Что суждено быть вместе не обязательно означает навсегда.
Они целуются, потом еще раз. И наконец-то кое-что осознают. День – величина переменная. Из начальной точки никогда не увидишь его исхода.
И еще они чувствуют: любовь всегда все меняет.
Для того она и существует.
Наташа
МАМА ДЕРЖИТ МЕНЯ за руку, а я смотрю в окно.
«Все будет в порядке, Таша», – говорит она. Мы обе понимаем, что это скорее надежда, чем обещание, но спасибо и на том.
Самолет взлетает. Мир, который я знала, исчезает внизу. Огни города уменьшаются до размера булавочных головок, потом становятся похожи на земные звезды. Одна из этих звезд – Даниэль.
Я напоминаю себе, что звезды – не только то, что можно красиво воспеть в стихах.
Если понадобится, они укажут тебе путь.
Даниэль
У МЕНЯ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН. Это родители – они звонили уже миллион раз. Когда вернусь, не миновать бури. Ну и ладно.
Через год меня здесь не будет. Я еще не знаю, где окажусь, но точно не останусь. Не уверен, что хочу учиться в университете. По крайней мере, не в Йельском. По крайней мере, пока.
Совершаю ли я ошибку? Возможно. Но это мое право.
Я смотрю в небо и представляю самолет, на котором улетела Наташа.
В нью-йоркском небе слишком много света. Из-за этого нам не видно звезд, спутников, астероидов. Порой, поднимая глаза, мы не можем разглядеть вообще ничего.
Но на самом деле почти все в ночном небе излучает свет. Даже если мы его не видим, он есть.
Время и расстояние Измеренная история
НАТАША И ДАНИЭЛЬ ОСТАЮТСЯ на связи какое-то время. Есть электронная почта, телефонные звонки и короткие сообщения.
Но время и расстояние – извечные враги любви.
Да и Наташа с Даниэлем некогда скучать.
Наташа поступает в школу в Кингстоне. Ее класс называется шестым, а не выпускным. Чтобы попасть в университет, она вынуждена готовиться и к специальным экзаменам на профпригодность, принятым в странах Карибского бассейна, и к аттестационным. Денег мало, так что она подрабатывает официанткой, помогая семье. Она изображает ямайский акцент, пока не приобретает его по-настоящему. Находит друзей. И постепенно учится любить страну, в которой родилась.
Дело не в том, что Наташа хочет отпустить Даниэля; ей просто приходится. Невозможно жить в двух мирах одновременно – сердце в одном, тело в другом. Она отпускает Даниэля, чтобы не разорваться на части.
Даниэль заканчивает старшую школу, но отказывается поступать в Йель. Он съезжает от родителей, работает на двух работах и посещает занятия в Хантер-колледже.
Его специальность – языкознание; он пишет небольшие грустные стихотворения. И даже те из них, что не о ней, все же о ней.
Дело не в том, что Даниэль хочет отпустить Наташу. Он держит ее столько, сколько возможно. Но сквозь расстояния он все чаще ловит напряжение в ее голосе. Сквозь новый акцент – слышит, как она уходит.
Годы летят. Наташа и Даниэль вступают во взрослый мир с его практичностью и обязательствами.
Мать Наташи заболевает ровно через пять лет после переезда и умирает на шестом. Через несколько месяцев после похорон Наташа задумывается, не позвонить ли Даниэлю, но прошло слишком много времени. Она уже не верит своим воспоминаниям о нем.
Питер, ее брат, на Ямайке буквально расцветает. У него появляются друзья, и он наконец становится «своим». Через много лет после смерти матери он влюбится в ямайскую женщину и женится на ней. У них будет дочь, которую он назовет Патрицией Марли Кингсли.
Сэмюэль Кингсли переезжает из Кингстона в Монтего-Бей, где играет в местном театре. После смерти Патриции он наконец понимает, что тогда, в магазине, сделал правильный выбор.
Мама и папа Даниэля продают свой магазин афроамериканской паре. Они покупают апартаменты в Южной Корее и полгода живут там, а другую половину проводят в Нью-Йорке. В конечном итоге они оставляют надежду, что их сыновья станут настоящими корейцами. Все же родились они в Америке.
Чарли подтягивает оценки и оканчивает Гарвард с отличием. После выпуска он вообще не поддерживает связь с семьей. Даниэль, как умеет, заполняет пустоту в сердцах родителей. Он совсем не скучает по Чарли.
Проходит еще несколько лет. Наташа уже не знает, в чем был смысл того последнего дня в Нью-Йорке. Она начинает верить, что их с Даниэлем «волшебство» – лишь плод воображения. Вспоминая тот день, она уверена, что просто идеализировала его. Так ведь всегда бывает, когда влюбляешься в первый раз.
Но встреча с Даниэлем все же принесла свои плоды. Наташа стала искать себе занятие по душе и решила изучать физику. Иногда, ночами, в тихие беспомощные моменты, которые случаются перед сном, она вспоминает разговор на крыше – о любви и темной материи. Даниэль тогда сказал, что любовь и темная материя – одно и то же, единственное, что не дает Вселенной разлететься на части. Ее сердце начинает биться чаще при мысли об этом. А потом она улыбается в темноте и возвращает воспоминание на полку. Туда, где хранит самые старинные, сентиментальные, невозможные вещи.
И даже Даниэль уже не знает, зачем был тот день – день, который некогда значил для него все. Он вспоминает крошечные совпадения, из-за которых они встретились и влюбились друг в друга. Религиозный машинист. Наташа и ее наслаждение музыкой. Куртка с надписью «DEUS EX MACHINA». Воришка-бывший. Шальной водитель BMW. Охранник, куривший на крыше.
Разумеется, если бы Наташа услышала его мысли, она наверняка подчеркнула бы тот факт, что в итоге они расстались, а значит, все, что случилось, на самом деле пошло не так.
Даниэль вспоминает еще миг, когда они снова нашли друг друга после ссоры. Она тогда говорила, сколько всего должно было сложиться, чтобы образовалась Вселенная. И сказала, что влюбленность не может с этим сравниться.
Он был уверен, что она ошибается.
Потому что вблизи все кажется хаосом. Но Даниэль считает, что это вопрос масштаба. Если отстраниться, отойти на достаточное расстояние и подождать – увидишь порядок.
Возможно, их вселенной просто нужно больше времени, чтобы родиться.
Эпилог Ирэн: Альтернативная история
ПРОШЛО УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, но Ирэн не забыла тот момент – и девушку, которая спасла ей жизнь. Она работала охранником в здании Службы гражданства и иммиграции США в Нью-Йорке. Один из сотрудников службы – Лестер Барнс – остановился у ее поста и сказал, что одна девушка оставила для нее сообщение на голосовой почте. Просила передать ей спасибо. Ирэн так и не поняла, за что ее благодарят, но это «спасибо» услышала как раз вовремя. Потому что в конце того дня Ирэн собиралась покончить с собой. В обед она написала предсмертную записку. Мысленно наметила маршрут на крышу многоэтажного дома, в котором жила.
Если бы не это «спасибо»…
Осознание того, что кто-то увидел ее, стало первым шагом к спасению.
Тем вечером она снова включила альбом группы Nirvana. В голосе Курта Кобейна она уловила идеальное и прекрасное страдание; этот голос был полон одиночества и тоски и звучал с таким надрывом, что должен был оборваться. Но он не оборвался, и еще в нем словно бы слышалась какая-то странная радость.
Она думала о девушке, которая позвонила и оставила сообщение лично для нее, Ирэн. Внутри у Ирэн что-то изменилось.
Этого было недостаточно, чтобы исцелить душу, но достаточно, чтобы Ирэн позвонила на горячую линию для самоубийц. За звонком последовала терапия. Затем – медикаментозное лечение, которое день за днем возвращало ее к жизни.
Через два года Ирэн уволилась из Службы гражданства и иммиграции. Она вспомнила, что в детстве мечтала стать бортпроводницей.
Теперь ее жизнь проста и полна радости. Она проводит ее на самолетах. В самолете может быть очень одиноко, а ей известно, какое отчаяние иногда несет за собой одиночество. Поэтому она всегда внимательна к своим пассажирам.
Она заботится о них, как не заботится ни одна бортпроводница. Она утешает тех, кто летит на похороны, утопая в печали. Она держит за руку акрофобов и агорафобов. Ирэн воображает себя ангелом-хранителем с металлическими крыльями.
И вот сейчас она совершает последнюю проверку перед взлетом, высматривая пассажиров, которым наверняка потребуется ее помощь. Молодой мужчина на месте 7А что-то пишет в маленьком черном блокноте. У него азиатская внешность, короткие черные волосы и добрый, но серьезный взгляд. Он пожевывает кончик ручки. Ирэн восхищает его непосредственность. Он ведет себя так, словно вокруг никого нет.
Ее взгляд устремляется дальше, останавливаясь на молодой чернокожей женщине, сидящей на месте 8С. У нее наушники-капельки и огромная курчавая прическа афро с окрашенными в розовый кончиками. Ирэн замирает. Это лицо ей знакомо.
Теплый оттенок кожи этой женщины. Эти длинные ресницы. Эти полные розовые губы. Этот пристальный взгляд. Но это же не может быть та самая девушка. Та, которая спасла ей жизнь? Та, которую она мечтает поблагодарить уже десять лет?
Капитан объявляет о взлете, и Ирэн вынуждена сесть. Из своего откидного кресла она наблюдает за этой женщиной, пока сомнения не рассеиваются окончательно. Как только самолет набирает крейсерскую высоту, она подходит к этой женщине и опускается на колени в проходе рядом с ней.
– Мисс, – говорит она, тщетно пытаясь унять дрожь в голосе.
Женщина вынимает из ушей наушники и неуверенно ей улыбается.
– Все это прозвучит очень странно, – начинает Ирэн.
Она рассказывает о том дне в Нью-Йорке – о серой корзинке, о картинке с альбома группы Nirvana на чехле, о том, как она видела ее каждый день. Женщина настороженно смотрит на нее, не говоря ни слова. На ее лице, кажется, мелькает боль. За этим стоит какая-то история. Но Ирэн продолжает:
– Вы спасли мне жизнь.
– Но я не понимаю. – Женщина говорит с акцентом – карибским с примесью чего-то еще.
Ирэн берет ее за руку. Та напрягается, но не вырывается. Отовсюду на них устремляются любопытные взгляды.
– Вы оставили сообщение, в котором просили передать мне «спасибо». Я даже не знаю, за что вы меня благодарили.
Между кресел появляется лицо молодого мужчины с места 7А. Ирэн ловит его взгляд и хмурится. Мужчина исчезает. Она снова смотрит на женщину.
– Вы меня помните? – спрашивает Ирэн.
Внезапно она понимает, насколько ей важно, чтобы эта девушка, теперь уже женщина, ее помнила. Когда вопрос срывается у нее с языка, она становится прежней Ирэн – одинокой и напуганной. Взволнованной, но никого не волнующей. Время на мгновение искажается, и Ирэн чувствует себя так, словно разрывается на части между двумя вселенными.
Она представляет, как самолет распадается на части: сначала пол, потом сиденья, потом металлический корпус. Она и пассажиры зависают в воздухе, где их не держит ничто – только чудо. Потом и сами пассажиры начинают мерцать и таять. Один за одним силуэты дрожат и исчезают – призраки из чужих историй. Все, что остается, – Ирэн и эта женщина.
– Я вас помню, – говорит женщина. – Меня зовут Наташа, и я вас помню.
Молодой мужчина с места 7А снова заглядывает через спинку кресла.
– Наташа, – произносит он. У него открытое лицо, и его мир полон любви.
Наташа поднимает глаза.
Время возвращается в привычную колею. Самолет и сиденья собираются заново. Пассажиры обретают плоть и кровь.
Обретают тела. И сердца.
– Даниэль, – говорит она. И опять: – Даниэль.
КОНЕЦ
Благодарности
ИММИГРАЦИЯ – ПОСТУПОК, ИСПОЛНЕННЫЙ надежды, смелости и порой отчаяния. Я хотела бы сказать большое спасибо всем тем, кто по какой-либо причине совершает длинные путешествия к далеким берегам. Желаю вам найти то, что вы ищете. Всегда помните, что ваше присутствие сделает избранную вами страну только лучше.
Я должна поблагодарить моих родителей – иммигрантов. Они оба – мечтатели. Все, чего я достигла, – благодаря им.
Командам в Alloy Entertainment и Random House Children's Books: спасибо, что верили в эту невозможную книгу. Спасибо, что попытали со мной счастья. Венди Логгиа, Джоэлль Хобейка, Сара Шэндлер и Джиллиан Вэндалл, вы – команда мечты. Я самый везучий писатель в мире, ведь у меня есть вы. Джон Адамо, Элейн Дамаско, Фелиция Фрейзер, Роми Голан, Беверли Хоровиц, Элисон Импи, Ким Лаубер, Барбара Маркус, Лес Моргенштейн, Тамар Шварц, Тим Терхьюн, Эдриен Вайнтрауб и Криста Витола – огромное вам спасибо. Без вас ничего бы не было.
Одна из самых классных вещей, сопутствующих писательству, – это встречи с читателями. Каждому человеку, который прочел мои книги, пришел взять у меня автограф, отправил мне письмо по электронной почте или связался со мной посредством соцсетей; каждому библиотекарю, учителю, владельцу/сотруднику книжного магазина и блогеру: СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО.
Вы – та причина, по которой я занимаюсь любимым делом. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку.
За последние пару лет я познакомилась с чудесными писателями, которые также стали для меня чудесными друзьями: Дэвид Арнольд, Анна Кэри, Шарлотта Хуан, Кэролайн Кепнес, Керри Клеттер, Адам Силвера и Сабаа Тахир, спасибо вам за щедрую поддержку и дружбу. Я бы не пережила это безумное путешествие без вас, ребята. Также спасибо писательскому сообществу Лос-Анджелеса и дебютной группе Fearless Fifteeners. Каким сумасшедшим был 2015 год!
Было здорово познакомиться со всеми вами. Пусть же впереди нас ждут еще долгие годы работы над книгами!
Особая сердечная благодарность Юн Хо Бай, Чжун Ким, Эллен О и Дэвиду Юну – за то, что вы отвечали на мои бесчисленные вопросы насчет корейской и корейско-американской культур. Ваши мысли и подсказки были бесценны.
А еще есть мои сладкие малыши, Дэвид и Пенни. Вы, ребята, – моя маленькая вселенная. Вы – причина всего. Я люблю вас больше всего на свете.
Примечания
1
Last name (англ.).
(обратно)2
First name (англ.).
(обратно)3
На растаманском английском сленге irie означает «быть в порядке».
(обратно)4
Мама (кор.).
(обратно)5
Папа (кор.).
(обратно)6
Blowin' in the wind – песня Боба Дилана.
(обратно)7
Строчка из песни группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit», которую можно перевести как: «Да ладно, в любом случае – проехали!»
(обратно)8
Имеется в виду религиозное шоу.
(обратно)9
«Deus ex machina» (лат. «бог из машины») – выражение, которое обозначает неожиданную развязку той или иной ситуации с привлечением ранее не действовавшего в ней фактора. Б финале античного спектакля при помощи специальных механизмов появлялся бог, который решал все проблемы героев.
(обратно)10
Отсылка к сети кофеен Dunkin Donuts, название которой можно перевести как «макать пончики».
(обратно)11
Предчувствие любви (яп.).
(обратно)12
Здесь, скорее всего, Даниэль имеет в виду тот факт, что их свела сама судьба.
(обратно)13
Уильям Шекспир, сонет 18. Перевод С. Я. Маршака.
(обратно)14
Стихотворение американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830–1886).
(обратно)15
Здравствуйте (кор.).
(обратно)16
Корейская поп-музыка.
(обратно)17
Дай мне шанс (англ.).
(обратно)18
Милый, дорогой (кор.).
(обратно)19
Машина Голдберга – устройство, которое выполняет простое действие сложным образом.
(обратно)20
Песня The girl is mine.
(обратно)






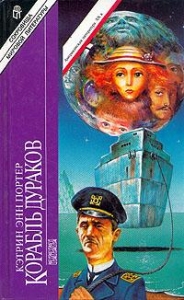
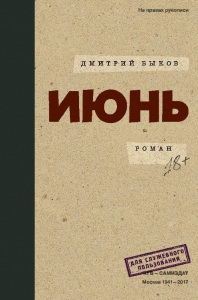

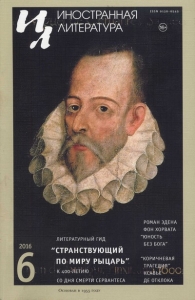
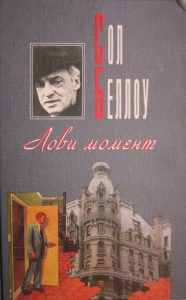


Комментарии к книге «Солнце тоже звезда», Никола Юн
Всего 0 комментариев