ВЛАДИМИР САЛАМАХА
...И НЕТ ПУТИ ЧУЖОГО
Повесть
1
В тот год рано с Демковских болот улетели журавли в дальние края на зимовку. Их стаи впервые за три военных года шли низко над землей, словно птицы понимали, что лихая пора кончилась и что сейчас по ним уже некому стрелять. Наверное, журавли также чувствовали, что горстка людей, наблюдающая за ними, не только не причинит им вреда, а наоборот, радуется их большим косякам. А были эти косяки большие потому, что лето для птицы выдалось хорошее, молодняк сохранился, набрался силы, вовремя стал на крыло. А раз так, то не страшна первая большая неизведанная дорога, которую первогодки должны запомнить навсегда, чтобы потом много раз за годы, отпущенные природой, вести отсюда в дальние края новые потомства и возвращать их сюда, где впервые увидели свет.
Журавлиные стаи людей радовали: курлычут, летят, ведут вожаки за собой молодняк, значит, жизнь продолжается и в природе, и вообще, есть надежда на добро, что бы ни было на этой земле.
Ранние журавлиные стаи — к ранней зиме. Впрочем, не только птицы предсказывают это: примет тому вокруг множество, стоит только присмотреться, чтобы увидеть их.
Так вот, нынче рано начала желтеть листва. На осинах она зарделась еще в августе и как-то сразу, в одночасье: сегодня вроде еще зеленая, с легким летним желтым оттенком и вдруг, через ночь — огненно-рыжая... Ей бы такой еще постоять, позвенеть, а она, только ветер дохнул, посыпалась на землю. А земля-то после ночи уже холодная, роса тяжелая, тусклая, и даже при солнце не источает она легкого разноцветного свечения, как еще было совсем недавно.
Рано ушли журавли, рано зима легла на землю. Как посыпались однажды утром в последние дни октября мягкие белые хлопья с низкого темного неба, так и сыпались почти непрестанно до середины ноября.
За снегопадами люди не увидели, как почернела, свернулась в трубочки листва на огромных старых дубах у дамбы, как льдом покрылась река, как, очерченный инеем, ближе к деревне приплыл серый горизонт — они как будто не заметили окончания осени и начала зимы.
За две недели снег вырос до крыши перекошенного сарайчика, стоящего на погорке возле Гуды (его собрали из обгоревших бревен мужчины еще летом), сравнялся со свежим срубом колодца среди деревни, укутал-закрыл мягким белым покрывалом чахлый лозняк у реки, навис синеватыми шапками на ветвях огромного старого куста сирени, чернеющего возле единственной уцелевшей здесь в войну хаты.
Снег укрыл почти до половины стога в луге за Дубосной, сровнял реку и мост.
И вдруг прояснилось. Очистилось от низких тяжелых туч небо. Сначала на нем в синих проталинах появилось огромное розовое солнце, покрасовалось с полдня, затем разлило окрест слепящую желтизну, исчезнувшую к вечеру, и вот уже вокруг — сплошная хрустальная синева.
Ветер совсем ослаб, будто выдохся. Снег заблестел, заискрился. В морозном воздухе днем далеко слышались голоса детишек у реки, звонкий лай собаки, скрип полозьев, ржанье лошадей и меканье козы в сарае, скрип старого колодезного журавля над новым срубом.
В воздухе остро запахло дымками.
Такой порой трое гуднянцев Ефим Боровец, Михей Михасев и Николай Безродный собрались ехать на санях за реку за сеном.
Там, за рекой среди леса, в болотах, на твердом (а это хорошие луговины) в конце лета они сметали три стога — на большее не хватило сил и времени — тогда не было возможности завезти сено в деревню: до морозов в луг с конем хода нет, вязнет чуть не до живота, да и человек, когда косил, смотрел, как бы не провалиться, метил стать на кочки, где тверже.
Тогда, в сенокосную пору, лошадей в деревне не было. Это позже, когда война отошла дальше на чужие земли, Михей, бывший партизан — его не взяли на фронт, так как еще не оправился после ранения, полученного, когда наши сюда наступали, — как-то привел из района пару побитых коростой немецких лошадей, которых там дали хозяйству.
Известно, как появились здесь лошади, можно было, когда подмерзла земля, съездить в луга, но мужики этого не сделали. «Хватит им еще времени наработаться, — говорил Ефим, — пусть окрепнут, привыкнут к нам, уж больно деликатные кони.»
Впрочем, те лошади, может, когда-то и были деликатными (тонконогие, высоко несущие головы, они на тяжеловозов не похожи), а как появились здесь, то чуть волочили ноги, перекатывая под шкурой ребра. Да и короста. Для них возле сарая еще с осени мужчины сметали стожок из скошенной возле дамбы травы. Этого сена как раз и хватило до сегодняшнего дня.
Сейчас лошади, не единожды окуренные дымом, очищенные от коросты, были невиданным богатством деревни, где до войны был большой крепкий колхоз.
Учуяв мужчин, шедших к сараю, лошади заржали в тесном, отведенном им стойле.
Ефим, семидесятилетний мужик, длинный, словно жердь, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, с сухими жилистыми руками — он шел впереди, — услышав лошадей, весь засиял, выдыхая клубы белого пара, сказал:
— Ого!.. Заждались. Скажи ты, не было б то живое.
Ему никто не ответил, да и говорил Ефим больше сам себе. В руках он держал старую деревянную, с черной трещиной почти по всей длине, лопату, на которой обычно садят в печь хлеб.
Возле сарая Ефим ускорил шаг, снег под его сапогами заскрипел как- то по-особенному жестко, будто толченое стекло, — и вдруг остановился, закашлялся, воткнул лопату в сугроб. Минуту постоял в каком-то одному ему известном раздумье, затем быстро потер красные руки, встряхнул плечами, словно молодой, схватил лопату и начал отбрасывать снег, засыпавший за ночь до половины ворота.
— Скажи ты, дядя, — запрыгал рядом с ним на деревяшке Николай, наблюдая, как Ефим ловко орудует лопатой, отбрасывая большие снеговые шапки, — снег-то какой. Я что-то не могу припомнить, когда такая зима была.
Николай стучал протезом по снегу, оставляя в нем выбоины, казалось, что эта деревянная нога больно втыкается ему выше колена в живое, поэтому он и прыгает.
— Может, когда и была, — сказал старик, на минуту остановившись, чтобы передохнуть. — Только и я не помню такой зимы, врать не буду.
Сказав это, Ефим вновь взялся за лопату.
Он, Ефим Боровец, сейчас был самым пожилым из гуднянцев, которым летом сорок третьего года удалось спастись от гибели, когда немцы сожгли деревню. Тогда мало кто избежал смерти: несколько женщин и детишек на рассвете пошли в лес, чтобы насобирать малины, а потом обменять ее на соль в Барвицком гарнизоне. Потом эту соль Ефим должен был отнести партизанам, лагерь которых стоял в Демковских болотах. Немцы же на деревню налетели позже, часов в семь утра, ягодников перехватить им не удалось.
И еще живым из стариков остался Иосиф Кучинский. Так как тому было не спастись? Его сын Стас снюхался с немцами с начала оккупации и служил им.
Правда, за неделю до того страшного дня Иосиф, вернувшись от сына из гарнизона, говорил, что, наверное, надо людям уйти в лес, что-то немцы уж очень заворошились, кто знает, что задумали.
— Слышит собака погибель, ластится, — бросил кто-то из деревенских, стоявших тогда на улице.
— Почему это собака? — повернулся на голос Иосиф. — Я никому ничего плохого не сделал.
Ефим тогда и выдал ему:
— А потому, что скулишь. Знаешь, что наши немца хорошо бьют, что скоро вызволят нас и земельку нашу, вот и трясешься, словно собачий хвост.
— А ты-то откуда знаешь, что бьют?
— Слухом земля полнится. Добрые люди говорят.
— Это какие такие добрые люди? — спросил Иосиф, посматривая из-под редких, будто выщипанных, рыжих бровей.
— Так я тебе и сказал! — вызывающе усмехнулся Ефим. — Может, шепнуть кому хочешь? Смотри, не успеешь.
Все, кто был здесь, на улице, посматривали то на Ефима, то на Иосифа. А Ефим разошелся, с каждым словом все ближе и ближе подступал к Иосифу. Иосиф тем временем сжался, словно ожидая удара, сказал:
— Зря ты так, Ефимка. Может, Стас и волколак. А я при чем?
— Как при чем? Корень-то твой!
— Что правда, то правда, — словно сдался Иосиф. — Этого не отрубишь. Но было же время, люди знают, я по углам не прятался.
Толстые синеватые Иосифовы губы дрожали, он старался смотреть мимо людей. На мгновение Ефиму даже стало его жаль. Но сейчас, при людях, он не мог себе позволить пожалеть человека, с которым когда-то дружил. Впрочем, не мог позволить себе этого и по иной причине: Иосиф не первый раз прилюдно козырял своим былым: словно набрасывал на весы хорошее и плохое. И если хорошее — свое, то плохое — сыново. Все знали, что Иосиф зла людям не делал.
— Былое — не стена, не спрячешься за ним, — сказал Ефим. — Было — сплыло, словно вода в реке. Ты о сегодняшнем думай.
— Я перед Богом чист!
— Вот ему ты и скажешь, когда час пробьет, — холодно, одними глазами усмехнулся Ефим. — Не с ним живешь. Я такой же, как и ты, старый человек, может быть, также одной ногой стою уже там, на краю жизни. Но нет его, Бога. У немцев на пряжках написано «С нами Бог». А что творят?.. Среди людей живем, на человеческом языке говорим, перед людьми и будем ответ держать. Смотри, попробуй только выдать.
— Это хорошо, что снега столько насыпало, — сказал Ефим. Он закончил работу, поставил лопату к стене. Высокий, ровный, с седой, лоточком, заинелой вокруг беззубого рта бородой, с маленькими острыми глазами и впалыми щеками, он посмотрел вокруг и добавил: — Мое вам слово, если к весне разживемся семенами да засеем клинок на взгорье у дамбы, осенью с хлебом будем. А летом как-нибудь перебьемся: щавелек, ягода, гриб. Смотришь, что-нибудь власть подбросит. А уж на зиму хлебушек свой нужен, без него никак нельзя.
— Далеко идешь, а под ноги смотри, — сказал Николай. — Здесь хотя бы о сегодняшнем дне думать. Еще и к стожкам не подобрались, а ты, дядя, нас уже невзращенным хлебушком кормишь.
— Тоже мне забота — стожки, — бросил Ефим. — Снег держится крепко, хоть ты его пешней долбай. Да, уже надо сено свозить, лошади мох со стены повыскубали, солому с крыши таскают. А там, в лугах, не сено — чай!
— Снег, снег, — вклинился в разговор Михей, — вот как накатится паводок, так будет тебе снег!
— Это почему же? — спросил Николай. — А дамба зачем? Как накатится вода, так и откатится.
Ефим не стал слушать дальше, ткнул руку в карман брюк, отбросил полу длинной шинели, достал ключ, сбил рукавицей снег со ржавого тяжелого замка, отомкнул его.
В сарае пахло прелью, было полутемно. В дальнем от двери левом углу слабо вырисовывалась загородка, по стене скользнули две длинные тени, подались к людям.
Здесь, в сарае, Николаева деревяшка громко стучала об окаменевшую землю. Ефим от угнетающего звука, отражающегося от намерзших стен, болезненно сжался — он не мог спокойно смотреть на этого молодого, еще, как говорят, при полной силе, но изуродованного человека. И чтобы не думать об этом, старик поспешил к стойлу, ласково погладил шею сначала одной лошади, затем другой и, словно кони понимали его, сказал:
— Терпите, терпите, был бы хлебушек у меня, последний бы вам дал.
Лошади стригли ушами, мусолили влажными губами рукава его немецкой шинели, фыркали и, казалось, в самом деле понимали старика, прощали ему то, что пришел без гостинца.
Ефим снял оброть, висевшую на гвозде, торчащем в стене, бережно надел ее на вороного, вывел из стойла. Белого он оставил на месте, тот заржал, начал тревожно ходить из угла в угол.
— Ишь ты его, — сказал Михей, — манежится, скотина деликатная, офицер, не иначе, на ней красовался. Я, когда вел его из района, изрядно намаялся с ним. Так и норовил цапнуть меня за плечо. Но не тут-то было: пару раз перетянул розгой по спине, так приутих.
— Ну и дурак, — незло бросил Ефим, — это же животное, спрос с него какой? Ему ласка нужна. Ты ему доброе слово в ухо вложи, прислушается да уразумеет, с чем ты пришел. А ты знай розгой. Конечно, коня накорми, досмотри, а потом уж — в работу. Не зря сказывают, дескать, без работы кони. — он на мгновение запнулся, подыскивая слово, выпалил: — падают, от что!
Мужики поняли его, заулыбались. А Ефим продолжал:
— Лошади все равно, что немца возить, что тебя. Она же не разбирает. Она знает одно: хозяина. А хозяева меняются, но конь привыкает быстро, если ты его рукой ласковой да словом мягким. Ну и конечно, если у тебя в кармане ломоть хлебушка. Впрочем, что я вам говорю? Без работы лошадь портится. Сегодня — вороного в работу, завтра — белого. И этому, и тому делов хватит. А ты розгой! Тебя бы самого.
Михей, услышав такое, растерянно пожал плечами, дескать, я — что?.. Я — так, в шутку. Но никто его шутки не понял.
На дворе Ефим молча, думая о чем-то своем, набросил коню хомут, подвел к саням, стоящим у стены сарая, запряг.
Все это время, когда запрягал, лошадь слушалась его, стригла ушами. Ефим говорил ей известные в таких случаях слова: «Стоять. Задом. Голову. Тпр-ру-у.» и мужиков, наблюдавших за этим, словно осенило: «Да он же русский, не немец, конь-то!.. »
Это произнес растерянно Михей.
— Ну да, русский, — радостно сказал Ефим, настолько радостно, как только может говорить огрубевший от нелегкой жизни семидесятилетний мужик, для которого радость — редкая роскошь, которой он стесняется, как чего-то непривычного, излишнего для него.
— Русский, — словно подтвердил Николай, — а ты его — розгой!
— Да ладно вам, — сказал Ефим, — дело житейское. Хворостинка коню нужна. Как же лошадь без хворостинки?
Он замолк, давая понять мужикам, что пустой разговор окончен. Запряг коня, легко вбросил в сани желтый порубень, смахнул с шинели на рукавах легкую наледь, оставшуюся от влажного лошадиного дыхания, потуже затянул на поясе сыромятный ремешок, подышал на красные руки и неожиданно вернулся к прежнему:
— Н-да, мужики. Разлялякались мы что-то. Русский — не русский. Хворостина. Деликатные — не деликатные. Не мужские это разговоры. О весне, о хлебе думать надо. Как же без него? Война не сегодня завтра окончится. Хотел супостат весь человеческий корень изничтожить, да не тут- то было! Нашлась на него управа: всем миром люд встал супротив дьявола.
— А ты что, дядя, в Бога веруешь? — спросил Николай. — Что-то за тобой не заметно такого было. О дьяволе говоришь.
— Верую, не верую, мне знать. Поживи с мое, повидай столько, может, и уверуешь. Хотя, как говорят, на Бога надейся, а сам не плошай. Кругом разруха. Сейчас нам помощи ждать неоткуда. И хлебушка нам никто не даст просто так.
— Это уж точно, — сказал Николай. — Будет чем посеять, вырастим. Хотя земли наши какие, песочек. Я же, сами знаете, сказывал уже не раз, пока ногу мне не отхватило, так почти по всей Украине прошел. Там земля такая — хоть ты ее на хлебушек намазывай, жирная. Только брось в нее зерно. А у нас что? Сколько ни удобряй ее — все равно серая.
— Чтобы земля родила хорошо, многие годы с ней надо ладить, — сказал Ефим, — а то и века. Деды наши сказывали, что когда-то она совсем родить не хотела, а они все равно ее не бросили. Камень убирали, потом своим поливали, вишь, чуток пробудилась, родимая. Это наша земля-матушка, мы без нее шагу ступить не можем. Да и хлебушек она уже нам перед войной хороший давала. Силушку она свою почувствовала, задышала как следует. Вот, посеяли по осени клинышек озимины у реки. Снежок ее теплом укрыл, поспит до весеннего солнышка. А яровые — будет видно. Что-то придумаем, добро и нас не обойдет стороной. Окончится война, колхозы возродятся. Вот и лошадей нам дали, не может быть, чтобы зерна весной не подбросили. В беде-горе сейчас не одни мы, но все равно помогают, чем могут. Вот если бы сейчас детишек поддержать да Катерину, совсем хорошо было бы. Катерине так сейчас за двоих есть надо. Как подумаешь о ее судьбе, так сжимается сердце, хоть волком вой.
— Здесь ничего не изменишь, — сказал Михей. — Не у одного тебя болит.
— Знаю, знаю. Наверное, ей так на роду написано. Планида у нее такая, как говорили в далекие времена. Тогда свекор и свекровь погибли, а вот сейчас и Петро.
— Планида, говоришь? — подошел к нему Михей. — Сейчас у всех нас одна судьба-планида. Это как ломоть с одного каравая — одинаковый вкус.
— И то правда. Вот и должны мы сейчас о ней заботиться больше, чем о себе, — сказал Ефим.
— Вишь, как случается, — вздохнул Николай. — Я с ее Петром так и не увиделся. Да и Михей — тоже. Я вон где был — в самом Крыму, а Михей переправу через Березину наводил, когда Петро пришел. Одного тебя, дядя, он из наших мужиков и увидел.
— Так и есть, одного меня. Петро знал, что вы живые. Я ему сказал. Очень уж хотел он с вами свидеться. Думаю, поговорить вам было о чем: столько всего пережили! Говорил, что его, как и тебя, Николай, уж очень покрутило. Из-под Бобруйска до Можайска из окружения шел. Не раз жизнь на волоске висела, а вышел без царапины. И наград у него хватало. Как на мой ум, их просто так не раздают.
— Это уж точно, — подтвердил Николай.
— Я вот немало пожил на свете, — продолжал Ефим. — Всякое повидал: и хорошее, и плохое. Но никак не могу понять, как иной человек может носить в себе столько зла.
— Ты про Стаса? — спросил Михей. — Не называй его человеком. Змея, как ее ни грей за пазухой, все равно жиганет. Она.
— Я не о том, — перебил его старик. — Не от змеи родился. Я так разумею: все люди рождаются одинаковыми, хотя сказывают, что яблоко от яблони недалеко катится. И плачут малыши одинаково, и смеются, и птичек жалеют, и цветочками любуются. А вот вырастают. Как понять это? Ты здесь хоть три жизни проживи, а до конца не поймешь. Возьми того же Стаса. Малым его помню: такой, как вся ребятня, был. Кто мне скажет, где он переступил черту человеческого?
— Ты, дядя, все хочешь понять, почему это Иосифов сын к немцам пошел, нелюдем стал, — сказал Михей. — Так и я часто думаю: почему? Ненависть к людям вызрела? Говоришь, помнишь его малым: был такой, как все. А как вырос, как беда, так что, страх за свою жизнь уничтожил в нем всё человеческое?.. Так все мы, случается, других не любим, когда что не по нам, но позлимся-позлимся, а не враждуем. И страх наш при нас. Бывает, иной раз ох как страшно, но ничего, хватает ума не поддаваться ему, страху этому. Вообще-то, наверное, правду сказывают: яблоко от яблони недалеко катится. Здесь надо на Иосифа смотреть.
— Да что это мы об одном и том? — перебил его Ефим. — Давайте лучше закурим, еще и наговоримся, и наработаемся.
Ефим сунул руку в карман, достал оттуда щепотку табаку, обрывки пожелтевшей немецкой газеты, повернулся к мужчинам:
— Курите.
Михей брезгливо посмотрел на бумагу:
— Вновь ты, дядя, вражескую суешь. И как ты только табак из нее смокчешь? Немцами воняет!
Но, сказав так, он все же руку не отнял, взял табак, свернул цигарку, зажал ее между пальцами, выставил, словно показал кому-то кукиш, сплюнул на снег.
Ефим на все это смотрел молча. Но когда Николай поднес Михею спичку и тот сладко затянулся, старик бросил:
— Вишь ты, немцем ему мой табак воняет! А мне — медом пахнет?! Я что, виноват в том, что у меня, кроме этой гадости, ничего нет? — он резко, будто хотел располовинить, рванул полы немецкой шинели.
Михей пожал плечами, отступил на шаг, посмотрел растерянно на Николая, ожидая поддержки.
— Хватит! — сказал Николай. И Михею: — Если у тебя есть хорошее пальто, так отдай дядьке. Что, не узнаешь его в этом одеянии? А я узнаю!..
— Да, да, Миколка! Я что, немцу служил? — разозлился старик. — Я что, когда война началась, в район не ходил, не просился, чтобы на фронт взяли? Только беда моя в том, что не взяли: и стар, и слаб. Сразу как две печати на лоб поставили!.. А сейчас скажи, почему ты, когда в лесу был, без меня не мог обходиться?.. А здесь, вишь, я уже немцем ему воняю!
Ефим разошелся. Казалось, еще мгновение и он набросится с кулаками на Михея.
— Да брось ты, дядя! — сказал Михей. — Пошутил я. Как-то неудачно вышло. Будто не знаю, сколько ты добра всем нам сделал.
— А ты не ластись!.. — старик никак не мог успокоиться. — Скажи ты, фрицем ему от меня несет. Ты лучше понюхай Иосифа. Ишь, чем прикрываются: отец за сына не отвечает. А все от тебя, Николай, пошло! Твои слова?
— Мои. Хотя, впрочем, я только так говорил. А слова эти слышал от людей.
— Слышал — и забудь. Мало ли что кто сказывает. Отец — сын. Стас, между прочим, не мой сын, а Иосифа. И смотри ты, Иосифа никто не трогает. А он, все знаем, как наши пришли, где-то месяц скрывался. А ты спроси у него, где? И все вы как воды в рот набрали. А ты поинтересуйся у самого Иосифа, почему у него дымок из трубы несет запах сала, а у Кати — пустой? Думаешь, у Иосифа кладовая пустая и там мыши нечем поживиться?
Старик переходил от одного разговора к другому. Он уже забыл, что же его обидело. Его сейчас обижало то, что мужчины не обращают внимания на Иосифа Кучинского, а вот над ним, Ефимом, иногда легонько подтрунивают.
— Ладно, трогай, — вдруг сказал он и дернул вожжи.
Лошадь тронулась с места. Сани ехали по улице мимо землянок и черных, засыпанных снегом почти до половины печных труб, оставшихся от сгоревших хат, приближались к хате Иосифа Кучинского, стоявшей в конце деревни. Впрочем, сейчас деревни как таковой не было: исчезла она с лица земли, сожгли ее летом фашисты вместе с жителями, не ушедшими тогда в лес по малину, а вот Иосифова хата уцелела.
Сейчас мужчины угрюмо молчали. Ефим шел за санями, тяжело ступая по глубокому снегу рядом со свежей колеей, оставляемой полозьями, Михей тянулся следом за ним, время от времени искоса посматривая на старика. Николай ковылял рядом с лошадью: мужики говорили ему, чтобы садился в сани, но он отказывался, дескать, надо привыкать ходить на протезе. Впрочем, вскоре, как тронулись в путь, Ефим отдал ему вожжи, и сейчас Николай, намотав их на запястье правой руки, с наслаждением правил.
— Да, замело, — вдруг сказал Николай, посматривая по сторонам, и неожиданно вернулся к прежнему разговору: — Надо все же нам о хлебе серьезно подумать.
Тем временем сани поравнялись с хатой Иосифа Кучинского, и Ефим с Михеем зло посмотрели на нее.
Ефиму показалось, что хата похожа на самого Иосифа: окна смотрят подслеповато, невысокая, какая-то осунувшаяся, как сам Иосиф. И еще показалось Ефиму, что за обледеневшим окном, выходящим на улицу, скользнула тень.
— Слышь, Николай, — сказал Михей, — а если у него хлеба спросить? У него хлебушек должен быть. Он запасливый. Думаю, при Стасе запасся. А что? Стас на людском добре живился.
Услышав это, Николай будто споткнулся. Остановился и Михей, посматривая на старика.
— Ты что говоришь? — Николай от неожиданности присел, с недоумением посмотрел на Михея, затем ткнул кнутом в сторону Иосифовой хаты. — У него? Ты о чем говоришь? Да если бы у него даже от своего хлеба закрома ломились, я к нему на поклон не пошел бы.
Михей молчал, наверное, не понимая, что крамольного он сказал. А Николай только сейчас заметил, что его деревянная нога глубоко провалилась в снег, попробовал вытащить ее, но сразу сделать это он не смог. Тогда, переводя дух, он сказал:
— Ты слышишь, дядя, что он говорит?
Николай сжал кулаки, да так, что побелели пальцы, и вдруг закашлялся, его грудь под шинелью затряслась, он рванул из снега деревяшку, выскочил на твердое.
— Отдали бы, как разживемся, — неожиданно поддержал Ефим Михея.
— А тебя, дядя, я не понимаю, — сказал Николай. — То ты на Иосифа, то.
Он закашлялся, согнулся, обхватил руками грудь, начал медленно опускаться на снег. Кашель перехватил дыхание, да так, что лицо стало сначала красным, а потом начало синеть. Оседая на землю, Николай судорожно схватил горсть снега, приложил к лицу. Но это не помогало.
Тем временем Ефим и Михей подбежали к нему, подхватили под руки, подняли.
Николай тяжело оторвал голову от груди, посмотрел на них влажными глазами, как выдохнул:
— Не надо. Слышите? Он сам от нас отвернулся, а вы.
Успокоился он минут через пять. Медленно выпрямился, встряхнул плечами, словно сбрасывая с себя какой-то неимоверно тяжелый груз, заскакал к саням, перевалился в них, схватил вожжи, закрутил ими в воздухе:
— Но!..
Лошадь рванула с места, Николай растянулся в санях. Ефим и Михей посмотрели друг на друга: один в немецкой шинели, другой — в нашей.
— Ты почему на меня так смотришь? — спросил Ефим. — Да я.
Он со всей силой рванул полы шинели, лопнула перетертая на поясе сыромятина. Казалось, старик облегченно вздохнул, потом крикнул:
— Да пусть вся эта гадость сгорит! — и, не ожидая ответа, побежал догонять сани.
О чем он говорил, о шинели, о ссоре или об отношении к Иосифу, было непонятно.
2
Иосиф Кучинский, из-за которого чуть не поссорились мужчины, жил один. Его старая хата стояла на краю деревни, метрах в двухстах от дамбы, отгораживающей реку от человеческого жилья.
Иосиф старался не показываться на люди.
Уже сколько лет он очень плохо спал по ночам. Стоило только ему вечером лечь на холодную деревянную кровать, закрыть глаза, как тяжелые мысли роем одолевали его, наслаивались одна на одну. Были они какие-то неопределенные, кажется, ни о чем конкретном, но угнетали, терзали душу и, наконец, касались его теперешнего положения.
Иосиф чувствовал себя одиноким, словно полевая былинка. Рассуждая о себе, он думал: «Нести мне свой тяжкий крест до конца. И когда умру, никто не вспомнит меня добрым словом, и неизвестно, зароют ли люди, как подобает, в землю, или даже к избе не подойдут, как не подходят сейчас. Ведь я давно уже оторван от людской жизни, как что-то ненужное, ненавистное им, презираемое всеми. Наверное, дай им волю, сжили бы со свету.»
Если же ему и удавалось заснуть, так после того, как изматывался вконец от угнетающих, разрывающих душу мыслей, когда в сотый раз сожалел о том, что родился, что жил, пустил на свет ту жизнь, которая принесла другим столько горя, кого прокляли люди. И тогда впадал в страшные сны, в кошмары, в которых от кого-то убегал, но так и не мог убежать, и, обессиленный, просыпался в холодном поту. Проснувшись, лежа некоторое время в постели, отходя от кошмаров, он рассуждал так: от себя убегал, от своей горемычной судьбы, но разве от нее убежишь? Разве можешь изменить то, что было?..
И сейчас Иосиф проснулся рано, задолго до рассвета, когда вокруг лежала густая тьма, она угнетала, пугала своей кажущейся беспросветностью. Но вот что странно: сегодня во сне он ни от кого не убегал. Он просто шел по деревне. По той, довоенной, ладно выстроенной по обе стороны широкой улице, наполненной детскими голосами, скрипом колодезных журавлей, разнообразными запахами, словом, он шел по той Гуде, которая жила своей извечной жизнью. Но он спиной чувствовал: за ним гонятся!
Он остановился, ему не было страшно, посмотрел на разъяренную толпу, догоняющую его, понял, что, настигнув, она растерзает его, но тем не менее спокойно сел возле дамбы: давайте!.. И ожидая своего последнего часа, он даже обрадовался: наконец-то избавлюсь от тех душевных страданий, с которыми уже не могу справляться, которые извели вконец, растоптали, уничтожили. Но вот что странно: добежав, толпа остановилась возле него, и ни у кого не поднялась рука, чтобы ударить, более того, никто не приблизился к нему, не проронил ни слова.
Он посмотрел на людей, все они были как бы на одно лицо. Он хотел увидеть среди этой толпы Ефима, Михея, Николая, Катю, чтобы спросить у них, как своих когда-то близких односельчан, — что происходит, — но их здесь не было. Он уже собрался позвать их по именам, но односельчане, их неясные образы вдруг словно отгородились от него какой-то неясной дымчато-туманной пеленой, исчезли.
И тогда Иосиф проснулся.
Он лежал в постели, смотрел через окно в темноту, ждал, когда забрезжит рассвет, ждал его, как избавления от кошмарного сна, от тяжелых, все выжигающих в душе мыслей, хотя знал, что и это утро, как предыдущие, уже ничего не изменят в его жизни.
Рассвет вливался в хату не спеша. Утро было морозное: сначала высветилось окно напротив кровати: с улицы на его обледеневшие края как-то несмело, вкрадчиво медленно наплывала светлая полосочка. Затем она постепенно стала зеленоватой, растеклась по всему стеклу, начала приобретать красноватый цвет. И вот уже посреди окна, там, где меньше намерзло, словно в проруби, засиял солнечный зайчик.
И сразу же красный цвет расплылся на кружевных узорах на стекле, какая-то серая тень соскользнула с подоконника на серый пол, пробежала по нему, исчезла у порога.
Иосифу показалось, что темный потолок начал опускаться к полу, но вот что странно: через несколько минут в хате заметно посветлело и потолок, словно спружинив, поднялся вверх. Ясно вырисовались круглые бревна стен, чистые серые половицы.
Скрипнула кровать. Иосиф тяжело поднялся, опустил босые ноги на пол. Холод сразу же обжег ступни. Иосиф обрадовался: сон ушел, а он из кошмара возвратился в реальную жизнь.
Иосиф босиком прошел к печке, в полутьме нащупал на ней теплые, дерматином подшитые на пятках бурки, подержал их в руках, вернулся назад. Поставив обувь под кровать, как обычно начал неторопливо осматривать хату, будто после долгого отсутствия привыкал к ней.
В хате все было как всегда: печь в углу у входной двери, стол напротив у окна, старый огромный сундук у стены от улицы, в левом углу — икона, окаймленная самотканым ручником, под ней на стене — темно-коричневая рамка с фотокарточками.
Иосиф долго всматривался в фотографии, словно хотел поговорить с теми, чьи образы они отображали. Потом, будто спохватившись, подумал: а говорить-то не с кем да и не о чем.
Вот они с Марией. Снимок сделан на каком-то празднике в Дубосне. Пожелтела фотография, как осенний лист, пожухла, будто иней ее прихватил, прошелся по ней, а потом отпустил. Но все равно хорошо видно, как они с Марией смотрят прямо в объектив, словно верят, что оттуда вылетит птичка.
Это старый Ицка, еврей из Селибы, скрипач, шорник и фотограф, говорил, перед тем как снять:
— Смотри, Иосиф, смотри, Мария, сейчас отсюда вылетит птичка, да не моргай.
Смотрели, зная, что никакой птички не будет, а тогда, в молодости, так хотелось верить, что она должна быть, птица, приносящая добро, счастливую долю.
Иосифу вдруг все же захотелось поговорить с покойницей. Он никогда ее не любил, даже не привык к ней, как муж, хотя были они связаны одной жизнью немало лет.
Была Мария — и нет ее. Была бы жива, сказал бы ей или нет, что из-за нее вся его жизнь пошла рикошетом? Вряд ли сказал бы.
Чужая она ему была. Умерла Мария перед войной. Ей бы еще жить да жить, но, наверное, люди не зря говорили, что весь род Вариончиков по женской линии какой-то дуплистый, гнилой — никто в нем из них почему- то до старости не доживал. В молодости все девчата цветут, парни по ним с ума сходят — девушки словно привораживают их к себе, — а выйдут замуж, детей родят, начинают увядать. Почему — никто не знает. Деревенские старухи уговаривали парней не свататься к Вариончиковым барышням, дескать, у них на роду что-то недоброе значится, проклятье, что ли, но нет, будто сломя голову бежали к ним кавалеры.
— Зельем они опаивают парней наших, — вздыхали старухи, глядя, как парни увиваются возле какой из Вариончиковых девчат: вздыхали, охали, а что толку...
«Вот, Марийка, — думал Иосиф, — ты на том свете спишь вечным сном, и все тебе нипочем. И ничего тебе сейчас не нужно. Ни земли, за которую любому готова была горло перегрызть, если вдруг невзначай кто чужой ступал на нее, ни сундука, набитого никогда не надеванным тряпьем, ни той брани, которой ты осыпала меня всякий раз, когда делал что-нибудь по-своему, а тебе казалось, не так как надо.
Да, придиралась ты ко мне безо всякой на то причины. Жили так, словно мстила мне за то, что я есть на этом свете, что я рядом с тобой. Не так встал, не так стал, не так сказал, не так дышу, да и молчу не так.»
Тяжела, страшна, гнетущая бабья непонятная за что и откуда взявшаяся месть. Хотя, если разобраться, догадывался, знал Иосиф, почему, откуда. Не ему предназначалась Мария, не ему. Был у нее до него парень. Матвей из Нетомли, соседней деревни. Любились они. Да только не суждено им было сойтись: Матвей — из староверов, и его родители строго-настрого запретили ему слать к Марии сватов. Хороший был парень Матвей, кручинился долго, а потом взял свою, из староверов, отцовского слова не ослушался.
И у Матвея судьба тяжелая: работяга был, в колхоз не пошел, свое хозяйство наладил крепкое. Раскулачили его, сослали вместе с женой да двумя сыновьями: семья как в воду канула.
Мария волчицей выла, когда услышала, что Матвея высылают. Иосифу тогда хотелось просто по-человечески утешить ее — на Матвея зла у него не было, хотя знал, он, Матвей, а не Иосиф, первый Мариин мужчина, — подошел к жене, осторожно положил руку на плечо, а она:
— Это тебя, тебя надо туда, да в землю, в землю!..
Интересно, за что? Так и не спросил тогда у Марии. Впрочем, можно только догадываться, за что, почему судьбы такой мужу желала...
Так и не поговорив мысленно с Марией, Иосиф перевел взгляд правее, где среди пожелтевших фотографий зияло коричневое пятно.
Была там ранее фотография, была. Вырвал ее Иосиф. Фотографию вырвать можно. Но как вырвать из души то, что гнетет?..
Размышляя так, Иосиф услышал на улице голоса. Они приближались к его хате. Он подошел к окну на улицу, через наледь увидел, что по улице идет лошадь, запряженная в сани, а за ней — мужики. Ну конечно, это Михей, Николай и Ефим. Кто же еще, если мужчин в деревне больше нет? Кто воюет на чужих землях, куда ушла война, кто в земле лежит, а кто и земли не знает: сожжен вместе с остальными жителям — женщинами, стариками, детьми.
Прошлым летом немцы жгли деревни, особенно лесные, такие, как Гуда. Налетали на рассвете или даже днем. Окружали, загоняли людей в хаты, сараи, закрывали двери и жгли. В Гуде уцелели немногие.
Иосиф увидел мужчин уже напротив своего окна. Шли они странно: Ефим держал деревянную лопату. Михей — в одной руке вилы, а на плече — веревку — сани же есть, почему в них не вбросили?.. «Коли так, значит, по крестьянской работе соскучились, — решил Иосиф, — вот и несут.»
Николай на своей деревяшке прыгал следом за ними. Тоже странно.
Иосифу показалось, что те его увидели, он инстинктивно отпрянул от окна.
Проводив глазами мужчин, Иосиф быстро всунул холодные ноги в бурки, набросил на плечи фуфайку и вышел из хаты во двор.
Он не знал, куда пойдет, что будет делать. Ноги будто сами привели его под навес. Взгляд скользнул по лодке, сделанной им самим накануне войны, но так и не спущенной на воду. Три военных года она стояла под навесом, привязанная цепью к одному из столбов, которые держали навес, привязанная непонятно зачем — уж давно паводков нет, вода не затапливает Гуду — дамба надежно защищает ее от реки.
Затем он посмотрел на дрова, сложенные в поленницу у стены, на вилы, стоящие в углу. В то же мгновение Иосиф будто почувствовал прикосновение рук к холодному гладкому деревянному черенку этого нехитрого крестьянского инструмента. Показалось, что запахло луговым сеном, почудилось, что он слышит веселое людское многоголосие, которое бывает во время сенокосной страды, Иосиф будто наяву ощутил легкую утомленность, ту, что ощущаешь после косьбы.
Иосиф, понимая, что это пьянящее чувство вот-вот исчезнет, быстро схватил вилы, черенок обжег руки — дерево было непривычно холодное, настывшее — бросился к улице. Сделав несколько шагов, остановился, растерянно посмотрел на улицу, понял, что никуда не пойдет: не нужна мужчинам его помощь. Он вернулся под навес, поставил вилы на место, побрел к крыльцу, остановился возле него, не зная, что делать дальше. Неожиданно у него закружилась голова, перед глазами посыпались «звездочки», засосало под ложечкой.
В таком состоянии Иосиф стоял минуту, не более: как накатилось волной, так и исчезло — он знал, от голода это.
Иосиф уже несколько дней ничего не ел: не хотелось. То ли оттого, что нервы были напряжены, то ли потому, что знал: односельчанам сейчас вообще голодно, а у него кое-какая еда есть.
У Иосифа было пару горстей пшена (некогда Стас почти ведро притащил из гарнизона), немного картошки, сушеные и соленые, в кадке, грибы, вязка лука. Так что можно было сварить суп, похлебать. Но.
Когда Иосиф смотрел на пшено, развязав холщовый мешочек, который хранил в печурке, ему очень хотелось, чтобы это было жито. Пусть даже горсть, две. Он бы берег его как зеницу ока. А если бы — целый мешок?! Тогда он согласен был бы голодать сколько угодно, зернышка не взял бы. Зерно лежало бы в кладовой, и Иосиф ежедневно перебирал бы его, откладывая поврежденные, выбрасывая сорняки.
Когда Иосиф думал об этом, ему виделось теплое поле, над которым поднимается легкий пар. А на этом поле, своем ли, колхозном ли, он, Иосиф, сеятель, вбрасывающий в мягкую почву зерно.
В такие мгновения он забывал обо всем том, что делается вокруг него, он существовал в своем некогда привычном мире, мире пахаря и сеятеля, составлявшем сущность его жизни. Ведь сколько себя помнил Иосиф, помнил на земле: в поле, в лугах, на реке, в лесу.
Иногда ему казалось, что рожден он был не матерью, которой не знал — умерла при родах на поле во время жатвы, — а самим полем. Знал по рассказам, которые иногда слышал в детстве, что мать — работницу, роженицу, свекровь и свекор гнали в поле до последнего, дескать, сколько баб на ниве рожает, и — ничего.
Родила. Какая-то старуха серпом отрезала его пуповину, связующую с матерью, завязала пупок. Затем завернула младенца в снятое с себя тряпье, спрятала в тень под снопами, чтобы палящее солнце не выжгло глаза, а его матери, роженице, уж ничем не могла помочь, и та ушла из жизни, не увидев своего первого и последнего ребенка. И рос этот ребенок при мачехе, по существу, чужой женщине, у которой своих было трое: вдовицей пришла та женщина к Иосифову отцу. А он, мальчик, всего хлебнул в детские годы, да и потом, взрослый. Жизнь такова, что и страдания, и радость идут по ней в обнимку.
Иосиф тяжело поднялся на крыльцо, не сбивая снег с обуви, зашел в хату, присел у окна на скамейку, вновь через мутный глазок в наледи смотрел на улицу.
Он знал, что на том конце деревни, или того, что от нее осталось, в сарае- конюшне мужчины держат двух лошадей, выделенных им в районе для восстановления хозяйства. Смотрел в окно и видел на противоположной стороне улицы черные печные трубы, оставшиеся от сожженных хат. Когда же поворачивал голову влево — видел свой огород, занесенный снегом. И прежде всего, совсем близко — огромный, широко разросшийся, заиндевевший куст сирени.
3
Куст сирени был очень старый. Покрытый мохнатым инеем, он казался мертвым, высохшим. Сейчас трудно было представить, что весной сирень расцветет, что ее чарующий цвет и неповторимые запахи, слегка кружащие голову, станут, как уже было много лет подряд, неотъемлемой частицей пробуждения здешней природы, без которой этот уголок земли будет беднее.
Куст стоял в огороде, шагах в двадцати от хаты. Был он белый, но из его середины просачивалась угнетающая чернота. Казалось, что ее выталкивают из себя толстые, с оглоблю, первородные стебли. Не верилось, что когда-то эти два стебля были маленькими, слабенькими ростками. Тогда, много лет назад, Иосиф принес их сюда из соседнего села. Недолго размышляя, посадил он сирень в поле, а не под окном хаты, как, впрочем, всегда делают те, кто хочет приукрасить свой двор. Принес в ту теплую весеннюю пору, когда на фоне голубого купола неба лес вокруг Гуды уже хорошо и сочно зеленел, когда поле доверчиво открылось солнцу, а птицы по утрам своим разноголосьем спешили пробудить все окрест, призывая землю к возрождению после долгой зимней спячки.
Тогда Иосиф воткнул в теплую влажную землю два махоньких стебелька, по-мужски грубовато, словно стесняясь, прижал их корешки руками и, радостный, посмотрел вокруг. А вокруг — жизнь, бушует в многообразии красок и звуков, да такая огромная, бесконечная, что даже страшно: приживутся ли эти квелые стебельки среди всей этой пробудившейся силы.
Сейчас, если долго смотреть на эту черноту, исходящую из куста, кажется, что она поглощает свет, льющийся на землю из холодного розового неба, и от этого так холодно вокруг, неуютно, одиноко.
И еще Иосифу казалось, что нынешней весной куст уже не оживет, что его не смогут пробудить птичьи голоса и ласковый ветер. А раз так, то его тонкие запахи больше никогда не разольются в воздухе, не вскружат голову легкой, чуть пьянящей радостью, не всколыхнут душу сладкой надеждой на возрождение всего окрест..
Иосиф заметил, что куст сирени начал увядать еще прошлым летом. Было такое ощущение, словно кто-то в одночасье перерубил его корни: листья пожелтели мгновенно, в один день, и когда налетал ветер, они осыпались на землю, будто в листопад.
Может быть, куст высох потому, что, когда горела деревня, пламя лизнуло и его, не обошло стороной, как, впрочем, и все кусты и деревья в Гуде, хотя не все потом начало сохнуть. И еще Иосиф иногда думал, что его сирени самой судьбой предначертано погибнуть, не оставив после себя побегов: а если по- хорошему, так все живое должно иметь продолжение, иначе какой же смысл жизни?..
Иногда Иосифу казалось, что сирень здесь росла сама по себе, еще до того времени, как Вариончик купил эту землю в приданое дочери.
Впрочем, какой-то куст здесь все же был. Но какой?.. Вариончик, как ставили на этом месте хату Иосифу, говорил, что кусту здесь не место: дескать, лишняя корзина картошки вырастет, если его выкорчевать. И не помнит он уже, память словно отшибло, было это на самом деле или почудилось. Хотя время от времени появляется смутное, как за туманом, видение: он, он, а не кто иной, садит в теплую землю два квелых ростка. И еще видится, как он отбирает у старика топор, который тот занес над каким-то кустом, и слышится голос Марии, указывающей на прутья сирени:
— А это зачем? Подожди, ты еще наешься этим прутьем.
Иосиф сейчас не может сам для себя определить: это было действительно так или чудится. Но одно он все же помнит: когда-то в далекие молодые годы какой-то спор вокруг сирени был. И в споре этом победил он, Иосиф: не позволил ни тестю, ни Марии уничтожить куст. Значит, смог тогда он настоять на своем, проявить характер, а как же? Наверное, это был редкий случай в его жизни, когда он не подчинился им (а подчинялся он и Марии, и ее отцу, почитай, все время, пока жили они на земле), смог тогда настоять на своем.
И хорошо, что отстоял сирень. Уж очень хорошо она цвела. Весной словно кипела в бело-голубом цветении, и когда Иосиф выходил на крыльцо, голова хмельно кружилась от запахов, хорошо было на душе, спокойно.
Много лет Иосифа радовало, что посаженные им ростки прижились, вошли в силу, окрепли, дали побеги.
Со временем куст разросся, и чем больше он занимал земли, тем больше ругалась Мария, как говорили гуднянцы, ела Иосифа поедом.
А Иосиф, глядя на куст, на молодую поросль, думал: вот как в природе слажено — есть корни, есть побеги, и жизнь будет до тех пор, пока они не будут насильственно уничтожены.
И вот куст иссох, порвались его корни, что ли? Или земля не может больше напоить своими соками этих два ствола?.. Кто знает, в чем здесь причина.
4
Гуду сожгли летом сорок третьего года.
Солнечным утром, когда еще не высохла роса на траве, в деревню въехало несколько крытых брезентом машин. Из них высыпали немцы. А через некоторое время у колхозного клуба слышались нечеловеческие крики, плач и стоны. Над землей плыл черный дым.
Иосиф, присыпанный черной, полусгнившей прошлогодней листвой, лежал в беспамятстве в зеленом кусте сирени .
Когда утром по хатам начали ходить немцы да полицаи и выгонять сельчан на улицу, сгонять к клубу, Стас прибежал домой и сказал Иосифу, чтобы он прятался.
Иосиф понял: немцы затевают что-то недоброе, закричал на сына:
— Что надумали, изверги? Я давно подозревал это. Еще тогда, когда приходил к тебе в гарнизон посмотреть, что да как там у тебя. Людей упреждал, но они меня не послушали. Бога у вас нет!.. Никуда я не побегу. Что людям, то и мне. Их судьбу разделю, коли так.
— Смотри! — гаркнул тогда Стас. — Немцы прихлопнут тебя, как мышь, да еще и поджарят в придачу.
— Нет, ты мне ответь! — Иосиф схватил сына за грудки, затряс: — Что удумали, изверги?
Стас не ответил. Он дохнул ему в лицо чесноком и перегаром, перехватил сухие отцовские руки и со всей силой отбросил его от себя.
Иосиф, словно сноп, отлетел в угол, ударился головой о скамейку, стоявшую там. И сразу же застонал от боли, а потом, преодолевая ее, подхватился и коршуном набросился на сына:
— Изверги!..
Стас тем временем выставил перед собой винтовку, заорал:
— Говорю тебе, прячься, старый дурак! Они не посмотрят, что ты мой отец.
Иосифа винтовка не остановила, Стас резко повернул дуло к себе, ударил отца прикладом в грудь, отбросил его к двери:
— Остынь, батька!
— Какой я тебе батька? Зверь ты. Нет, я никуда не побегу. Сказано, что людям будет, то и мне!
Иосиф, тяжело дыша, пошатываясь, встал с пола, но Стас вновь ударил его прикладом в грудь. Больше Иосиф ничего не помнит, очнулся он уже на земле, под кустом сирени. Наверное, когда он потерял сознание, Стас затащил его сюда и присыпал старой листвой.
Иосиф не знает, как долго он пролежал здесь без сознания. Впрочем, время от времени сознание возвращалось к нему, и тогда он, будто во сне, слышал жуткие крики и выстрелы, ощущал запах гари, видел огненные сполохи. и вновь проваливался во тьму. Мир, в котором он тогда пребывал, воспринимался как нереальный. И все, что в это время происходило вокруг него, Иосиф не воспринимал как земное действо. Все было — непонятно, необъяснимо, все плыло мимо него. Было оно кошмарное, такое, что и придумать невозможно.
Когда Иосиф вернулся в реальность, над землей уже лежала ночь. Вокруг было темно, и только высоко в небе острыми искрами были рассыпаны звезды.
Иосифа трясло, хотя, казалось, земля под ним была горячая.
Первое, что он тогда услышал, непонятные, приглушенные чужие голоса, доносившиеся из его хаты.
Иосиф, оттолкнувшись руками от земли, поднялся на колени. Земля под ним шаталась, и, чтобы не упасть, он ухватился за толстый шершавый ствол сирени. Глаза туманились то ли от слез, то ли от едкого дыма, принесенного сюда откуда-то ветерком. Прислушиваясь к голосам, уже собираясь позвать кого-нибудь на помощь, Иосиф увидел в окнах хаты слабый колышущийся свет и расплывчатые лица, бессильно застонал, тяжело опустился на землю.
Они!..
Да, это были они. За столом напротив окна сидел Стас. Его голова покачивалась. Черные волосы нависли на лоб и закрывали глаза. Время от времени он отбрасывал их рукой набок. Рядом с ним, держа в руке стакан, сидел немец. Кто еще был в хате, Иосиф не рассмотрел, но по голосам понял — непрошеных гостей было несколько.
Лежа на земле, Иосиф левой рукой нащупал в кармане спички, правой начал лихорадочно рвать сухую траву.
Он знал, что сейчас сделает.
Иосиф выполз из куста и направился к сараю, стоявшему шагах в десяти от хаты. Придерживаясь за стену, выпрямился. Сразу же в нос ударил запах прелого сена, его как отрезвило.
Пошатываясь, Иосиф долго стоял, держась за стену, размышлял, что прежде всего сейчас должен сделать: поджечь хату или. Ну, подожжет он ее. А немцы, услышав запах дыма, увидя в темноте отблески огня, выскочат во двор: хата сгорит, сгорит сарай, навес — только и всего. Конечно, его они схватят: он далеко не убежит, нигде не спрячется, найдут и в кусте сирени, и у реки, и в лугах — все прочешут. Ладно, убьют, сожгут его. Но с ними-то ничего не случится: вот что страшно.
Была тогда у Иосифа и иная возможность рассчитаться с нелюдями: винтовка, спрятанная под крышей сарая.
И тогда, поняв, что поджигать хату бессмысленно, он, будто спохватившись, быстро нащупал в соломе под крышей завернутую в тряпку винтовку. Почему-то сразу же, как только ощутил ее ствол, руки перестали дрожать.
Эту немецкую винтовку Иосиф спрятал еще в сорок первом, зимой, когда Стас вступил в полицию, а по деревне пошли слухи о партизанах, которые якобы объявились в Демковских болотах.
Что партизаны изредка наведываются в деревню, Иосиф догадывался. Не однажды ночью видел он, как вскрай огородов в направлении к Ефимову сараю двигались человеческие силуэты. Догадывался, что Ефим с партизанами связан.
Тогда Иосиф втайне ото всех целыми днями бродил по лесу, в надежде встретить людей с оружием, и если не прийти к ним в отряд, так хоть чем быть полезным: должны же у них кроме Ефима быть свои люди в деревне. В то время он не думал, что партизаны, если и видели его, то не хотели к нему выйти, не хотели, чтобы у них был связным отец предателя. Наивный старик рассуждал по-своему: «Я же ни в чем не виноват, люди это знают, им нечего меня опасаться». Но люди считали иначе, да и время было такое, что не каждый свой доверял своему!..
Длинной показалась Иосифу тряпка, в которую когда-то завернул винтовку, а когда рука ощутила гладкий теплый приклад, в висках застучало, и он, пошатываясь, брел назад к кусту сирени.
Вот уже затрещали под ногами сухие веточки. Иосиф присел на левое колено, щелкнул затвором, нашел в темноте квадрат слабого света, резко ткнул в ту сторону дуло.
На мгновенье оно блеснуло, задрожала на конце мушки, словно привязанной за нить к его пальцу, лежащему на курке.
Иосиф повернул дуло левее, тень от куста накрыла его, словно придавила к земле. Тогда он, резко раздвинув ветви, будто распорол эту тень — и блестящая тоненькая полоска пробежала от ложа к мушке. Через мгновение мушка медленно поползла по квадратной заплате слабого света, задрожала на Стасовой переносице.
Казалось, Иосиф не понимал, что делает. И вместе с тем понимал: еще мгновение — и все кончится, он сбросит с себя тот неимоверно тяжелый груз людского презрения, который лег на него еще тогда, когда Стас пошел в полицию. Пошел сам, без всякого принуждения, ничего не сказав Иосифу, — просто однажды исчез из дома на сутки (Иосиф думал, что где-то в лесу ходит, партизан ищет), а явился с полицейской повязкой на рукаве, заявив: «Сейчас заживем, батька.» Вот тогда односельчане, как только Иосиф вышел на улицу после бессмысленных скитаний по лесу в поисках партизан, начали плевать ему вслед. Тогда он спиной чувствовал их презрительные взгляды, ненавистью прожигающие все его существо. Это было неимоверно страшной пыткой. С тех пор вся его жизнь превратилась в пытку, своеобразную, ежедневную, ежечасную, ежеминутную, в ту пытку, которую выдержать могло только каменное сердце.
«Да, тяжел груз отца полицая: угнетает, давит, сжигает, уничтожает тебя как человека, — часто думал о себе Иосиф. — Ладно, пусть бы однажды этот груз раздавил тебя, уничтожил, растворил. Так нет же — уничтожать уничтожает, а способность думать и размышлять обо всем, что видишь, оставляет».
Такие размышления были очень страшны, как настоящая пытка, от которой нет избавления. Иногда ему казалось, что избавления не будет даже тогда, когда ляжет в землю.
Многое за этой пыткой виделось Иосифу, много чувствовалось, особенно когда, случалось, бывал на людях, среди которых столько лет жил, с которыми ранее делили и радость, и горести.
Тогда Иосифу нужно было сосредоточиться на ином, на том, что он собирался совершить. Вот Стас вновь сбросил с глаз слипшиеся волосы — по его руке пробежал красный отсвет от лампы, скользнул по переносице, по виску, затем упал на щеку, застыл на мгновенье.
Нет, в те минуты не злоба владела Иосифом, а беспомощность и безысходность: «Сейчас, после того, что случилось с людьми, нет мне жизни, нет».
Как сейчас видится.
Мушка все дрожит, ползает по переносице сына.
Как Стас похож на Марию! У него такая же большая, как и у нее, голова, тонкие губы, длинный, полозком, нос и черные волосы.
Может быть, от нее и зло у него?.. Знать, ее, Мариино, семя перебороло его, Иосифово. А могло быть иначе, если бы верх взяло иное семя. Наверное, не зря издавна люди говорят, когда судят о человеке, дают ему характеристику, дескать, в нее (в мать) или в него (в отца). И этим, для тех, кто знает ветви этих родов, все сказано: припоминается, что в том или ином было хорошего, плохого.
И еще говорят: «В кого он (она) уродился (уродилась)? Ни в отца, ни в мать: какое-то чертово семя...»
Чертово не чертово, а, случается, чужое: жизнь штука сложная, всякое бывает.
Иосиф всматривался в сыново лицо до тех пор, пока оно не стало расплывчатым и не начало раздваиваться в его представлении: Стас — Мария. Мария — Стас. И когда палец уже твердо лежал на курке, Иосиф почему-то видел перед собой только ее, Марию.
Он застонал, опустил дуло. Иосиф понял, что в Марию выстрелить не сможет, какая бы злая она ни была, как бы пренебрежительно ни относилась к нему, как бы его ненавидела. Он также понимал, что во всем этом выражалось ее неприятие его и как мужа, и как человека вообще. И думал, что такое может быть ниспослано человеку свыше как наказание за какие-то деяния, как проклятие и тому, кто ненавидит, и тому, кого ненавидят. Сам он как-то все это терпел, а вот Марию ее же зло и съедало, иначе не скажешь. Наверное, рожденная такой, она не могла быть иной на этой земле, никто и ничто не могло ее изменить. Но и к страдальцам он не мог отнести ни ее, ни себя: страдальцы понимают, что они такие, Мария же — нет, да и он. Их отношения — знак судьбы? Или расплата за грехи предков, совершенные перед людьми?..
Впрочем, кто знает? Мало ли что говорят люди, какие только причины не отыскивают, осуждая человека за творимое им зло, или сочувствуя ему в тех бедах, в которые он попадает. Но, наверное, во всем этом все же есть что- то неподвластное просто разуму: ведь никто еще не смог объяснить, почему и как происходит именно это, а не то...
Иосиф в бессилии отбросил от себя винтовку, упал на землю. Его вновь затрясло, как в лихорадке, и, кажется, он вновь потерял сознание.
Сейчас, вспоминая все это, Иосиф будто еще раз пережил то страшное мгновение и совершенно ясно понял, почему тогда не совершил то, что должен был совершить.
А голоса на улице удалялись. Они ускользали от него, словно что-то способное утешить его исстрадавшуюся душу, но почему-то не желающее это делать. Казалось, люди уходят от него навсегда, обрекая Иосифа на вечное одиночество.
5
После ссоры мужчины чувствовали себя словно не в своей тарелке. Миновав хату Иосифа Кучинского, выезжая за деревню, приближаясь к дамбе, направляясь к мосту через реку, они все время молчали.
И мост прошли молча. Старый, деревянный, он уцелел в войну. Ни для партизан, ни для немцев мост особой стратегической роли не представлял: взорви, сожги этих пятнадцать-двадцать метров бревен и плашек, так у того края деревни брод, на телеге реку переедешь. А вот дамба — другое дело. Без нее — никак нельзя. В иной снежный год, как пойдет по весне талая вода, так все зальет окрест. Тогда не свезенные стога стоят на лугах по шапки в воде, и кусты вдоль реки — тоже, и хаты в деревне — чуть ли не по крыши залиты.
Старики сказывали, когда деды и прадеды нынешних гуднянцев селились здесь на берегу реки, выжигая лес под пашню, выкорчевывая пни, так потопов этих и в помине не было. Время шло, люди обжились, и вдруг здешние земли приглянулись какому-то отставному генералу, и он купил их. Начал рыть канал, соединил Дубосну с Черножилкой, рекой за Демковскими болотами, верстах в двадцати отсюда (хотел гонять плоты к городу). Дубосне это не понравилось. С тех пор терпит-терпит она чужие воды, что идут через ее извечное русло, да в иной год по весне так закапризничает, что в один день выплеснет их на деревню: получайте!.. И Черножилка — еще та река! Темная, в омутах, берега низкие, болотистые. К тому же, она через какие-то только одной ей известные пути имеет связь с иными реками. А те — с водами, сбегающими в нее с каких-то возвышенностей.
Словом, выходит, что и в природе, как и у людей, все тесно связано, переплетено, отлажено. Так что стоит только человеку вмешаться в этот, веками устоявшийся лад, жди беды.
За мостом свернули на целину — большое заснеженное поле. За ним, почти у самого горизонта, чернела зубчатая стена демковского леса. Это с левой стороны от реки. С правой лес подступал почти к самой деревне: хороший, старый сосновый, стоящий на возвышенности. Наверное, поэтому он и уцелел в те далекие времена, когда здесь возводилась деревня: какая же на песке пашня или сенокос?
А вот за полем, спускающимся в низину, среди демковского леса, земля словно опрокидывалась вниз. Там начинались непроходимые болота, тянувшиеся на многие километры окрест. Там — царство птиц, зверья, клюквы.
На этих болотах попадалась твердь, и было ее не мало. Среди нее — луговины, на которых и косили. Говорилось так: «Там не сено — чай! Косу не потянуть: что взмах, то пуд...»
По целине лошадь шла тяжело. Ее копыта с хрустом ломали тонкую, как стекло, снежную корку. Лошадь проваливаясь по колено в снег. Сани же скользили поверху. Лошадь напрягалась, вытягивала вперед шею, старый истертый хомут скрипел так, что, казалось, вот-вот лопнет...
Видя, что лошади тяжело, мужчины старались помочь ей: Ефим тянул за уздечку, а Михей, воткнув вилы сзади в сани, толкал их.
Направляясь к лесу, мужчины посматривали, чтобы снежно-ледяная корка не порезала лошади ноги. Порежет — беда!.. Но пока обходилось, лошадь, вытягивая из снега ноги, шла не торопясь, наверное, она своим животным чутьем понимала, как ей нужно передвигаться по такому опасному насту.
— Не умница ли? — сказал Ефим. — Смотрите, как идет. Иной раз животина умнее человека. Вишь, какова! Сейчас при таком снеге копытному зверю тяжело. Если в такую пору волчья стая обложит лося, косулю, кабана — спасенья нет!
— Что зверь? — сказал Николай. — Сейчас о человеке думать надо.
— А ты бы меньше разговаривал да садился в сани, — ответил ему Ефим. — Ковыляешь, как неизвестно кто. Не боись, твой вес — лошади не тяжесть.
— Садись, садись, — поддержал Ефима Михей. — Дорога не близкая, — и добавил: — Я вот что мыслю, дядя Ефим. А назад-то, с возом, как? Небось, сани корку ломать будут.
— Не думаю, — сказал Ефим. — Полозья широкие. Хотя, смотря сколько нагрузим. Впрочем, и раньше сено возили по такому снегу. Сани хорошо идут поверху, конечно, кое-где корка хрустит. Не без этого. Тут главное не торопить лошадь, она сама нужный шаг выберет. Вот и вся хитрость.
Николай в сани так и не сел. Он по-прежнему ковылял за ними, выбивался из сил. Упрямец, не слушал мужчин, будто назло им шел по целине, дескать, что вы все время напоминаете, какой я никудышный.
Тем временем уже хорошо обозначилось утро. Далековатая полоска леса, еще полчаса тому черная, сейчас розовела на фоне снежной синевы. Небо из темно-голубого стало желто-голубым, почти зеленым, высоким. Из-за леса медленно поднимался огромный красный диск солнца — над землей занимался новый день.
Михей все подталкивал сани, время от времени втягивал голову в ворот изношенной шинели, иногда щурился, особенно когда на погорке ветер вихрем кружил снежок, полными горстями бросал его в лицо.
Холода Михей не боялся. Во всяком случае, он так считал, приучил себя к этой мысли, не зная, что к холоду вообще привыкнуть нельзя. За время партизанской жизни ему не раз доводилось мерзнуть и в снегу, и в ледяной воде. Сейчас в своей шинели бывший окруженец напоминал идущего издалека бойца, одежда которого истрепалась, и сам он выбился из сил, а ему еще — идти и идти. Дойдет ли туда, куда надо?..
Если уж так говорить, то в свое время Михей дошел... В начале войны он попал под Витебском в окружение. В Гуду пришел, когда уже легла зима. Вышло так, что остался он один: бойцы роты, в которой служил, в неразберихе первых дней войны разбрелись кто куда. Тогда их, молодых, необученных, разбросал, рассыпал то ли страх перед неизвестностью, то ли поиск места, где и как определиться, чтобы потом противостоять беде. (Попробуй пойми, что у кого тогда было на душе?.. Кругом стреляют, люди гибнут, а ты не знаешь, что делать.)
Как Михей дошел до своей деревни, сейчас он и сам не сказал бы: то ли язык довел, то ли карта, то ли какое-то чутье на родные места. В конце концов пройдя немало дорог, минуя всяческие преграды, пережив опасности, а их много было на его пути, он очутился дома. Был он отощавшим, обессиленным, но живым, невредимым.
Прятался от немцев на сеновале, а когда пошли слухи, что в лесах появились партизаны, пошел к ним.
Где-то через час-полтора въехали в лес. Петляя по заснеженной дороге, по которой всегда ходили в луговины, находящиеся среди болот, мужчины заметили, что из леса к стожкам ведут цепи глубоких следов от копыт. Эти цепи были слегка припорошены снегом. Присмотревшись к ним, Ефим сказал:
— Боюсь, если лоси не съели наше сено, так располовинили его, уж это точно.
— Так мы же стога хорошо огораживали, — ответил ему Михей. — Неужто...
— Посмотрим, — вздохнул Николай. — А вообще-то, не должно. Так всегда раньше было: и огораживали, и лоси ходили, и — ничего...
Стога, хоть и были огорожены жердями, но большей частью на высоте человеческого роста были хорошо пообскублены. Голодные лоси через жерди все же просовывали к стогам морды: надо было подальше огораживать.
Михей, сбрасывая из саней веревки в снег, раздраженно пробубнил:
— Ну вот, доэкономились.
— А ты думаешь, если бы сено возле сарая было, так оцелело бы? — произнес Николай.
— Оцелело бы не оцелело, но...
Михей взял вилы и, проваливаясь по колено в снег, пошел к стожку.
Воз они сложили быстро. Работали охотно, истосковавшись по делу. Разогрелись, разгорячились — лица красные, пар вокруг — клубами.
Сено на сани подавали Михей и Ефим. Николай был на возу, складывал его, деревяшкой притаптывал сухие, шуршащие пласты. Правильно сложить воз, чтобы он не рассыпался, нужно умение, и он в этом деле, как говорили сельчане, был спец. В прежние, довоенные времена в этом равных в деревне ему не было: сметает стог, не стог — кукла. Да и воз он мог сладить такой, что и увязывать не надо.
Сейчас, сложив сено на санях, Николай радовался, что его навыки не стерлись со временем, что он по-прежнему может уложить воз так, что мужики, осмотрев его, могут сказать одно: «Загляденье!..»
Ефим так и сказал. Эта высшая похвала старика, к мнению которого все всегда прислушивались, радовала Николая, убеждала его в том, что он, несмотря на свое увечье, человек в хозяйстве нужный.
— Ты, Николай, со своей ногой уж оставайся там, — посоветовал ему Ефим.
— Ну не пойму, почему вам моя деревяшка так мешает, — разозлился Николай. — Думаете, если я с деревом (он постучал самодельным протезом по жерди, которую ему подали мужчины, чтобы увязать воз), так уже и ломаного гроша не стою? Знать, вы меня и председателем избрали, потому что пожалели: инвалид!.. Я вот еще месяц-два этой деревяшкой поколю землю, да так наловчусь на ней прыгать, что шиш за мной кто двуногий угонится! Не надо меня жалеть: живой я, живой, да еще в силе!.. Нам есть кого жалеть: детишек, Катерину. Война там, — махнул он рукой на запад, — а мы — здесь. Так что не надо — ля-ля да ля-ля, словно не мужики мы, а бабы какие.
Он лег на бок, ухватился руками за веревку, привязанную к концу жерди, ловко соскользнул с воза в снег.
— Ну ты и колючий! — улыбнулся Михей. — Да никто тебя не жалеет. Уж если — чуток. А ты в самом деле окрепни, пусть как следует заживет, тогда хоть танцуй. Лошадь жалеешь. Жалей. Оно, может, и так. Только кого жалеть: человека или животину? Да волк ее режь! Будем мы — будет все.
Ефим тем временем махнул рукой, дескать, затеяли пустое, дернул лошадь за уздечку, воз тронулся, сейчас сани уже шли тяжело, местами ломая снеговую корку.
Вскоре, почувствовав воз, лошадь напряглась, было видно, что ей тяжеловато: и голова часто-часто заходила сверху вниз, ноги будто подкашивались, на шее забугрились мышцы. Мужчины начали помогать ей, воткнув вилы в воз сзади.
— Я так рассуждаю, — через некоторое время сказал Николай, — вот вывезем сено, да денька через два-три в лес нам надо ехать. Пока держится снег, будем трелевать бревна, строиться надо. Не ждать же, пока мужики с фронта вернутся. Придут, ведь и спросить могут, дескать, чем вы здесь занимались, пока мы воевали?
— А мы не сидим сложа руки, — возразил ему Ефим и, обращаясь к Михею, спросил: — Как думаешь, Михеюшка?
— Спросят — найдем что ответить, — сказал тот. — На улице же никто не живет? Землянки сладили. Что-то и посеять смогли. Я за этот спрос не очень-то боюсь. Меня тревожит другое: что скажу им, когда спросят, почему эта вражина Стас здесь всю войну как хотел, так и расхаживал? Я же тут партизанил. Я за ним почти три года охотился, а все впустую. Не один раз пересекались наши стежки-дорожки, а результата никакого. Однажды в Демках уж точно мог я его придавить. А он выскользнул, как уж из-под вил. Убежал. Он тогда на окраине деревни в хате самогон с дружками хлестал. Мы налетели, пока туда-сюда, так он и ушел за реку. Вот доложи кому об этом, скажут: какой же ты вояка, если даже с пьяными полицаями не смог совладать?.. А вообще-то, могут спросить: «Что вы здесь делали, пока мы на фронте воевали?»
— Ладно, — сказал Николай, отрывая Михея от его размышлений, — сейчас в самом деле надо думать о том, как строиться. Навозим дерева, одну хатенку поставим, другую... Смотришь, постепенно жизнь наладится. А тем, кто немцу служил да уцелел, — сполна воздастся. И их помощникам — тоже.
— И их родным? — спросил Михей, как наивный мальчишка.
— Об этом мы уже говорили, — вмешался в разговор Ефим. — Они-то, родные, при чем?.. Скажем, при чем тот же Иосиф? Вот вы бы его без суда и следствия к стенке поставили, была бы ваша воля. А я еще подумал бы. Я же с ним сызмальства связан был. Молодой он был парень хоть куда, дружественный. Сирота. Земли у его отца имелось, как бабе сесть. И девушка у него была пригожая. Из Демков. Любились они. А вот надо же, с Марией снюхались, или опоила она его чем-то. Ему тогда перевалило далеко за сорок, а ей — тридцатник.
Да и у Марии парень был. Работяга. Матвей. Словом, если подумать, так у всех их жизнь как-то срикошетила. Кто в чем виноват, у меня ответа нет. Да и не судья я им. Помню, был там, в Демках, некто Бонафаций Комаровский.
Однажды, пока мы с Иосифом у Вариончика амбар ладили, так Бонафаций свел Иосифову красотулю: люди их в снопах заспели в срамных видах. Иосиф, как узнал об этом, уж очень кручинился. Помню, когда Комаровский, мы его звали Комар, вез ее под венец, так Иосиф перед конем на дороге бревном лег. Значит, была у человека душа, страдала.
— Была, да вся вышла, — сказал Михей.
— И все же кажется мне, что Иосифова Текля, так ее звали, не за Комара шла, а за его богатство. Паном настоящим он не был, но и не бедствовал. Земля у него, крепкое хозяйство, работников держал. А вот как Иосиф с Марией сошелся, не скажу, не знаю. Как-то в один день сосватал он ее — и все там. Может, отомстить Текле хотел, а может, на Вариончиково богатство позарился: у того земли хватало. Но вот что интересно, это вы сами знаете, как только колхоз мы здесь ладить начали, Иосиф — сразу же к нам. Все свое отдал: и лошадь, и корову, и овец. Да и работал он неплохо, как на себя.
— Еще бы, — злорадно усмехнулся Михей, — как ему было не работать? Тестя раскулачили, а его не тронули: успел все в колхоз сдать, выходит, перехитрил всех.
— Ну, это ты зря, — не согласился Ефим, — Иосиф же до колхоза не очень-то жил, а у тестя старался ничего не брать. А тот не любил его. Тесть даже ребенка, Стаса, себе забрал. При нем, при Вариончике, жил малец.
— И дожился. Гада вырастили дед с отцом, а не человека, — сказал Николай.
— Может, и так, — тяжело вздохнул Ефим. — Стас людей сызмальства сторонился, волчонком на них смотрел. Бывало, сидит на дедовой завалинке, ест хлеб с маслом, а рядом тот же Петька голодными глазами блестит. Нет, Стас разломить пополам не догадается. Дед его таким был: зимой у него снега не допросишься. Я не забуду, как землю делили. Тогда Вариончик с вилами и дневал, и ночевал на своей: любого мог проткнуть. А не понимал, что река не бежит вспять: если прорвет запруду, так уж прорвет!..
— Я думаю, — размышлял дальше Николай, — еще будет нам время во всем разобраться. Война столько всего наделала, столько судеб изломала, искалечила. Здесь дядя Ефим прав — не надо рубить сплеча. Во всем ясность нужна. Со временем все отстоится, муть осядет, светлое — оно само наверх подымется. Но все же я разумею так: если Иосиф по закону и не виноват, то как Стасов отец, как человек — весь в дерьме. Люди живут по своим, человеческим, неписаным законам. Их не обойдешь, не объедешь. Они, законы эти, веками складываются. По ним наши предки жили. По ним и мы жить должны. И дети наши. А как же иначе?..
— Мудрено, Николай, — пожал плечами Ефим. — Я в таких твоих пониманиях жизни не очень-то разбираюсь. Хотя, послушаешь тебя, подумаешь — выходит, так оно и есть: живи, как люди, и весь сказ. Только легко сказать: живи. Я побоялся бы других наставлять: как свое вспомнишь — так, вроде, права такого нет у тебя. Еще бы: случалось, и нередко, людей обижал ни за что ни про что, хотя и они тебя обижали. Конечно, когда не со зла обижал, а по глупости, — одно. А вот когда со зла — иное. Бывало, в молодости подерешься с кем из-за дивчины, так это еще ничего. А вот как кого облаешь, будто собака, — это уже иное. Бывало. Да мало ли что. Ясность, говоришь, придет время, говоришь. А я уже стар. Мне ждать некогда. Мой день — век. Ясность мне сегодня нужна. И не могу, да и не хочу сегодня, сейчас взять да и просто так вытащить из своей жизни Иосифа, словно занозу из пальца: выбросил и забыл. А если он у меня глубоко в душе сидит, тогда как?.. Если Иосиф втайне подсоблял сыну и это откроется — одно. Если нет — так и суда нет. Что он, старик, мог с ним сделать? Пьяного удушить?.. Так сын ведь. Грех. Мы уже люди старые, иногда остаешься наедине с собой, вспомнишь прожитое, да и подумаешь: а что там, за последней чертой, тебя ждет? Кто знает точно, есть тот свет или нет?.. Представь, что есть. С какой душой тогда, скажем, Иосифу туда идти? С душой сыногубца?.. Нет, мужики, нельзя сгоряча рубить, нельзя. Вот, скажем, вскорости аль нет, я уйду туда, куда ушло большинство когда-то живших на земле. И мне не все равно, каким я туда явлюсь. Не все равно и как вы здесь жить будете без меня. Как будет жить Катя, ее дитя, а оно родится. И мне хочется, чтобы то дитя училось ходить не в землянке, а в хате, по светлым теплым половицам, которые я, надеюсь, еще успею положить. Мне хочется, чтобы дитя это на солнышко смотрело через те окна, которые я поставлю. Мне хочется знать, какому Иосифу в молодости я подавал руку: такому, как Стас, или иному. Судить легко — понять, разобраться трудно.
— Да выберемся мы из землянок, выберемся! — раздраженно, возвращая разговор в прежнее русло, сказал Николай.
— А ты не перебивай, слушай, что старшие говорят, — остановил его Ефим и продолжал: — Я думаю так: если у человека есть зло, так ты его не прячь, рано или поздно покажется наружу. Злые мы сейчас какие-то. А почему, если бы кто спросил? А я отвечу: пережили много, души наши оледенели, еще не оттаяли. А почему? Да потому, что нас пока мало что греет в этой жизни. А вообще-то пока я знаю одно, что нельзя жить со злом в сердце: рано или поздно оно не выдержит, лопнет. Да, есть обида и есть зло. Обида постепенно исчезает, стирается из памяти, разве что еще какое-то время остается сожаление, что так было. А вот зло требует иного исхода. Оно слепое. К мести, к расплате за малейшую обиду человека толкает. Только к какой, за что?.. Скажем, я считаю, что кто-то виноват в чем-то, настаиваю на своем и никто меня не может переубедить. А если человек ни в чем не виноват? Вот что страшно, мое нежелание понять это.
— Ты как-то странно рассуждаешь, дядя. Так можно договориться до того, что любого гада надо оправдать. А если он тебя по морде бьет?.. А?.. По-твоему, по одной щеке бьют, другую подставляй? — возмутился Николай. — Как в Библии, что ли?.. Правда, я ее не читал, но от людей слышал, такое там есть.
— Читал, не читал. И я ее не читал, при своей грамоте: крестиком расписываюсь. Только свою щеку я никому не подставлял и не подставляю, — сказал Ефим. — Говорю, сейчас в жизни столько всего переплетено, что не так-то просто расплести, развести по своим местам.
Ефим смолк, вобрал голову в ворот шинели, прикрылся от ветра, потер руки. У мужчин было такое ощущение, что он выговорился сполна, что ему это давно нужно было сделать. Но и выговорившись, он ничего определенного для себя в отношении Иосифа не решил: вроде и защищает его, вроде и нет. И эти его размышления посеяли у мужчин сомнения: действительно ли все так с Иосифом просто, как они думают.
За разговором не заметили, как подъехали к мосту. Остановились. Ефим осмотрел ноги лошади: шла своей же колеей, в след, нет никаких порезов.
Ефим похлопал ее по шее, погладил.
— Дядь, а дядь, мы вот все о стройке говорили, — сказал Николай. — С Кати начнем, что ли?
— А с кого же, — ответил ему старик.
6
Катя Грудницкая, которой мужики первой в деревне собирались поставить хату, стала жить в Гуде со своим Петром незадолго до войны. Родом она была из Забродья, соседнего села (в нем до коллективизации стояла церковь, но когда организовали колхоз, ее превратили в клуб).
Забродье, как и Гуду, летом сорок третьего сожгли фашисты. Сожгли, как и многие белорусские деревни, вместе с жителями, творя нечеловеческие зверства на земле, неслыханные доселе людьми, не виданные небом.
До войны гуднянские парни ходили в Забродье на гулянье, брали тамошних девчат замуж, таким образом, две эти деревни, можно сказать, роднились.
Гуду и Забродье разделяло километров восемь. Это если говорить о расстоянии, которое можно было преодолеть по дороге. Если же идти тем путем, которым ходили парни, то получится раза в два ближе, хотя путь этот не простой. Еще бы — река. Она петляет в полях, в низинах, у болот, и не так-то просто преодолеть этот небольшой путь между двумя деревнями. Хотя через Дубосну переправлялись на лодках: буднянцы в Забродье, а те в Гуду.
Вообще-то, издавна повелось, что в родной деревне мало кто из парней обращает внимание на своих девушек — разве что уж если невзначай до беспамятства влюбится, — а так чужие кажутся привлекательней, красивее, загадочней, чем те, что рядом с тобой.
Вот и брали гуднянцы забродьевских, а забродьевские — гуднянских.
Забродье было большое: три Гуды, не меньше. Туда даже провели электричество, экое диво, не дошедшее до войны до Гуды.
В Забродье ходил на гулянки и Петро Журавец. Кто знает, когда Катя запала ему в душу. Может, в один из тех летних вечеров, когда легким туманом устлан луг у реки, а звезды падают в нее, и все вокруг чарует своей таинственностью. А может быть, весной, во время паводка, когда все живет ожиданием обновления.
Впрочем, когда бы это ни случилось, а все равно привез он девушку в Гуду весной. Самой обыкновенной, как и все земные здешние весны.
В ту весну на здешнюю землю пришел большой паводок — где-то в горах, в Карпатах, таяли снега, льды, и вода по необузданным рекам бежала сюда, заливала все окрест, срывала венцы новых срубов, сметала лежневки, доходила до Забродья, заставляя местных жителей перебираться из хат на крыши и там ожидать, пока все успокоится.
Конечно, такие паводки случались не каждый год. Хотя все паводки помнились, и людям бы лучше не селиться в здешних местах — так нет, без воды, пусть и такой, они не представляли себе иной жизни, и каждый знал: будет вода — будет хлеб.
В паводок здесь с утра до вечера по улицам плавали лодки, мужчины сидели на веслах, слышались женские и детские голоса, кричали петухи, лаяли собаки — все было привычным. Как пять, десять, двадцать лет тому.
Гуда стояла немного выше Забродья, паводками тоже не была обделена. Ее также, пока не насыпали дамбу, часто затопляло. Чью хату, что повыше стояла, до завалинок, а чью — по окна и выше. Когда же здесь за два года до войны солдаты насыпали дамбу (сначала такую же дамбу, только раза в три длиннее, они возвели у Забродья) паводок Гуду дважды обошел. Гуднянцы тогда вспоминали добрым словом военных: учения проводили, вал насыпали, а нам польза.
В последнюю предвоенную весну паводок откатился от Гуды, но все же накрыл правую, нижнюю часть Забродья — сумел-таки перехлестнуть там не достаточно высокую дамбу.
Тогда челны и лодки гуднянцев сновали между деревнями. Гуднянцы возили в Забродье хлеб, корма животным на колхозную ферму, стоящую на погорке возле леса и отрезанную водой от деревни.
В ту весну вытащил из сарая свою новую, только что сработанную, просмоленную лодку Петро. Столкнул ее в воду и, ловко орудуя веслом, направился в Забродье.
Высокий, широкоплечий, с веселыми глазами и добрым открытым лицом, он гнал ее по большой воде, не обращая внимания на то, что она местами кипит, несет бревна, пни, выворотни, кусты, которые, попадись на их пути, подомнут под себя. А может, и обращал, но, выросший на воде, он с малых лет научился как следует орудовать веслом, и нет ничего удивительного, что легко петлял среди этих преград.
Возле Забродья Петро веслом словно подсек корму, повернул лодку к ферме, привязал ее к старому дубу, расщепленному сверху донизу черной широкой извилистой лентой, оставшейся от молнии и, разбрасывая по сторонам брызги, похлюпал к длинному деревянному строению. Потом там слышался девичий смех, голоса.
Зачастил Петро в Забродье. Однажды, когда вода только-только начала возвращаться в русло, а на островах засветились желтизной серые ветви вербы, на золотисто-синей воде под высоким слепящим солнцем закачалась Петрова лодчонка, и слышалась из нее в два голоса песня:
Жаваранак, ранняя птушачка,
Чаго так рана з выраю вылятаеш?
А там пры даліне — там ляжаць крыгі,
А там пры дарозе — снягі і марозы.
— А я тыя крыгі крыламі разаб’ю,
А я тыя марозы нагамі растапчу.
Пел Петро, и подпевала ему Катя, зная, что встретила свое счастье — Петра, и с ним ей жить да жить.
И была свадьба в Гуде. И как здесь заведено издавна, гуляла на ней вся деревня. И был каравай, и звучали присказки, шутки-прибаутки и пожелания, чтобы жито родило, чтобы Катя любила, чтобы пчелы роились и детишки родились. И был на свадьбе Стас Кучинский. Он сидел рядом с молодыми и сыпал шаферкам горстями конфеты.
Но недолгим оказалось Петрово и Катино счастье. Война началась. Мобилизовали на нее вместе со всеми, кто под призыв попадал, Петра и Стаса. И их односельчане-одногодки вместе шли на войну. А там на долгие четыре года разошлись их стежки-дорожки. Встретились Петро и Стас, когда наши освободили район. Тогда командование части (редкий случай — она проходила рядом) отпустило Петра проведать родных. Пришел Петрок в Гуду в конце июля. И верила, и не верила Катя своему счастью. Будто предчувствовала, что будет оно недолгим: ни на шаг не отпускала от себя Петра. И не пускала она тогда его в лес, умоляла не идти. А он пошел выследить вепря: люди, которым посчастливилось остаться в живых после жуткой трагедии лета сорок третьего, голодали. Пошел, да там и остался.
В Вылозах, глухом заболоченном месте, когда Петро, походив по лесу, присел отдохнуть на старую подгнившую колоду, на него неожиданно вышел Стас с дружком-полицаем. (Когда пришли наши, эти полицаи убежали в лес: немцы не взяли их с собой, бросили, как ненужных собак.) Петро даже не успел снять с плеча винтовку, увидев Стаса и его дружбана, не бросился бежать — как сидел, так и остался сидеть. Узнали они один одного: Петро и Стас, воин и дезертир. Долго смотрели в глаз друг другу. А потом.
В этом Стас и его подельник признались, когда возле Рогачева их арестовали, а Петра через несколько дней нашли в лесу гуднянцы.
Сейчас Катя жила одна в землянке, ожидая, когда у нее родится ребенок. По ее подсчетам, это должно случиться весной.
7
После того как немцы сожгли деревню, Иосиф как никогда остро ощутил свою беспомощность и старость.
Старости, обычной, возрастной человеческой, он не боялся. Когда-то, в молодые годы вообще не думал, что она придет. Казалась, будешь жить вечно. Казалось, ты неподвластен времени.
Получив за Марией полоску земли, Иосиф получил и лошадь. Это — настоящее богатство. К тому же у Иосифа имелось золото. Червонец, монета. Тяжело он ее заработал когда-то в молодые годы. У богатых людей жилы свои рвал на пашне, косьбе, жатве. За свои труды брал бумажные деньги, складывал рубль к рублю. Затем в городе обменял их на золотую монету. Мыслил так: женюсь, на хозяйство пущу, бумажки и есть бумажки, а золото со временем только дорожает, не зря так бывалые мужики сказывают.
И вот, женившись на Марии, получив за ней приданое, думал, что заживет как человек. В детстве настрадался, наголодался, и не потому, что якобы мачеха была жадная, нет. Она, эта чужая женщина, давала ему все, что и своим детям. Настрадался потому, что своей земли у его отца был маленький клочок, а на нем не разживешься. Когда же Иосиф начал самостоятельно вести хозяйство, мечтал стать хозяином, но все равно золото не посмел использовать: увидит Мария, отцу отберет, скажет, тебе оно без пользы, а он в дело пустит.
И сколько ни рвал жилы Иосиф на своем несчастном клинышке, а зерна в закромах так и не прибавлялось, хозяйство не расширялось, и, вопреки мечтаниям, хорошие сапоги он так и не обул, ладной избы не поставил. И жил, как говорят, с оглядкой на Марииных родителей: что они скажут, то и делал. Да и жена с утра до вечера сипела на него, укоряла, что хозяин он никудышный, не то, что ее отец, у которого и зимой, и летом были работники.
— Да на него вся деревня горб гнет! — говорил Иосиф, когда Мария уж очень надоедала, ставя отца в пример.
— Гнет, да не за так, за деньги.
— Считай, что за так. Копейки платит.
— Он их силой к себе не гонит. Сами бегут: «Дай работу, дай.» А ты, если и дальше так будешь хозяйничать, с голоду опухнем, дитя со свету сведем.
Иосиф смолкал. Дитя есть дитя. Как-то странно с его рождением получилось: только они с Марией начали жить как муж и жена, а у нее сразу же брюхо обозначилось. Хотя, вроде, не девкой Марию брал. Слыхал он от бывалых мужиков, какова она, девка, что с ней происходит, когда бабой становится. Была у них первая ночь, как у жены и мужа, и ничего, что должно было после этого остаться на простыне, не обнаружилось. Свекровь утром сразу же вытащила из-под них простынь, когда он невзначай зацепился за нее, заорала: «Глаза твои бесстыжие, че зыришь? Бабьей грязи не видывал? Отвернись, срамник».
Да не зырил он, само глянулось.
И тогда у него закралось сомнение: не Матвеева ли Мария женщина? Не он ли, Иосиф, умыкнул ее от Матвея? Хотя как умыкнул? Разлучили Марию и Матвея его родители: дескать, грех ему, приверженцу старой веры, с поганкой жить, свою веру блюсти надобно. А тут Иосифа его девушка осрамила. Обида жгла тогда Иосифа, стыд: как людям в глаза смотреть? Чувство было такое, что это тебя в негожем виде обнаружили, а не ее. Печалился, кручинился, места себе не находил. По деревням метался, по гуляньям ходил, на девчат засматривался: чем Текля лучше их, что в сердце его прикипела — не оторвать?.. Вроде и пригожие, и ладные девчата, а все не такие, как Текля. А она, ее образ жжет, жжет. Куда ни посмотришь вокруг, везде она видится. Без нее стал свет не мил, без нее жизни не было. И так долгих лет двадцать, что ли. Пока не встретился с Марией. Впрочем, он и сейчас не знает, не помнит, как и где Мария подвернулась, руками шею обвила, ласковые слова в уши прошептала. Да, хмелел он тогда от ее слов, и хмельность эта была какая-то злая, кому-то в отместку — это он после понял.
Сошлись они с Марией быстро: однажды Вариончик застал их вечером на завалинке у своей бани. Они сидели, даже не обнявшись, просто сидели. А он заорал: «Сопсел, как пес, состарился, девчонку совратил! Под венец, кобель ты этакий!.. Сейчас же под венец! Осрамил девку, осрамил!..»
Да не осрамил, не трогал он ее! Но раз уж так вышло, значит вышло: под венец! Видел, что Мария этому рада-радешенька. Правда, сперва это было. А потом уже, когда стали жить в супружестве, иной раз в постели Матвеюшкой его называла. А он, Иосиф, молчал, затаясь думал, с чего бы так?.. Он-то сам ее Теклюшкой не кликал.
Сын родился не так, как положено, не через девять месяцев, а через шесть их супружеской жизни. Свекровь орала: «Недоношенное дитя, с материнской голодухи. Слабый мальчонка, хотя бы выжил.»
Да не голодали они! Было что есть. И не слабый мальчик был — богатырь! Старушка Фекла, что бабила (отрезала пуповину), так и сказала: «Богатыря выносила». Свекровь зло зыркнула на нее: «Много видишь, глаза твои слепые. Слабое дитя, невыношенное, до сроку на свет объявилось». Да увела Феклу в кладовую, а потом за дверь выпроводила, пальцем погрозила.
Тогда Иосиф словно отрезвел: мать честная! Здесь что-то не то. Его ли дитя?..
Раздумья были тяжелые, только одному ему известные. Никому о них не говорил. Дитя есть дитя. Принял его, как и подобает отцу. Думал, а если и не его, так в чем оно виновато? Растил, смотрел, чтобы здоровый мальчик был. Однажды, когда Стасу годиков пять исполнилось, взял его в Дубосну на ярмарку. Уж очень хотелось мальчонке мир показать да каких-нибудь игрушек диковинных купить. У церкви встретил Матвея. Тот тоже на ярмарку приехал. «Здоров — здоров». А как иначе? Мужчины знакомы. Знал, Матвей тоже женился, детишки есть, вроде, двое, мальчик и девочка.
— Твой? — спросил Матвей, указывая дрожащим пальцем на Стаса, сидящего в телеге, и внимательно рассматривая его.
— А чей же? — удивленно ответил Иосиф.
— На мать похож, — заключил Матвей. — Знать, счастливое дитя, коли так. У нас так сказывают.
— Дай Бог, — только и ответил Иосиф, посматривая на сынишку, стараясь увидеть, чем же Стас похож на Марию. Не нашел тогда, чем: дитя как дитя, черты лица еще не совсем сформированы, разве что нос такой же, как у нее, длинный. Да губы тонкие.
Повернулся, а Матвея и след простыл. Странным тогда показалось Иосифу Матвеево появление и исчезновение.
Возвратившись домой, сказал об этом Марии. Она вдруг вызверилась: «Что ты мне Матвеем глаза колешь? У него своя жизнь, а у меня своя. Иди лучше навоз от коровы выбрось, по вымя в жиже».
Вышел из хаты. Нет, не навоз выбрасывать, а побыть наедине: тяжело ему с Марией, а ей с ним. Вот не препятствовали бы Матвеевы старики, может быть, жила бы она с ним по-иному, ладом, в понимании, не то что с Иосифом. А он, Иосиф, может быть, тоже нашел бы женщину по себе. А здесь получается, не пара они с Марией, не пара.
Так и жили под одной крышей два чужих человека, пока не отошла Мария раньше времени на тот свет, как рано отходили туда все женщины Вариончикова рода.
С тех пор много воды утекло в реке, многое в жизни изменилось, произошло. И в колхоз вступил не последним из гуднянцев. И, случалось, к вдовам здешним присматривался (а как же одному хозяйство вести?). И с людьми, кажется, ладил, со многими дружил, но никогда нигде никому и слова худого о Марии не сказал, тем более о своих сомнениях и догадках насчет отцовства Стаса. Поднял мальца, вырастил, человеком хотел видеть.
А Мария, сколько вместе жили, столько и сипела, да сохла с каждым годом все более и долее, пока не умерла. Впрочем, если вообще по годам, так рано: в сорок семь. А если исходить из всего женского Вариончикова рода, так по возрасту всех пережила. Конечно, грешно подобным образом рассуждать, но такова жизнь, с этим ничего не поделаешь.
Часто, глядя на фотографии в рамке на стене, где они вместе с Марией, Иосиф думал, что вместе они только и были на фото.
В такие минуты он словно говорил ей: «Вот, Мариечка, не слушала ты меня, а зря. Вроде я и не был отцом твоего ребенка, а так, твой парубок. Мой ли, не мой ли Стас — судить не мне. Когда-то слышал от женщин, дескать, не тот отец, что на свет пустил, а тот, кто вырастил. И еще слышал или причудилось: только женщина сама знает, чье дитя носит. Ну и пусть так, а Стаса я растил, стало быть, и отец я.
Да, грызлись мы с тобой, Марийка, как собаки. Было, и мирились. Постель делили. Только и через пять лет семейной жизни, случалось, называла ты меня Матвеюшкой. Значит, была со мной, а его видела. Но за это я тебя не корю: сердцу не прикажешь. Я себя корю за то, что жизнь свою тебе в руки всучил. И то, что отдавал Стаса твоим родителям, да еще в том возрасте, когда детская душа к худому не устойчивая: лепи из нее, как из глины, что хочешь. Вот они и вылепили: сами людей не любили и его этому учили. И как я ни старался потом уразумить его, что так нельзя, этак нельзя, ничего из этого не вышло. Вот с фронта пришел. Ладно, многие вернулись: кто в окружение попал, кто был ранен, пленен, каким-то образом оттуда вырвался. А кого — женщины у немцев выкупили, выдав за мужа, брата, сына. Так хлопцы потом в партизаны шли, здесь с немцем воевали. А Стас — нет, в полицию. Этим самым он меня на всю оставшуюся жизнь словно к позорному столбу пригвоздил. Как можно с этим позором жить — отец полицая?.. А вот как-то живу. Тебя пережил. А сейчас, может, и Стаса уже пережил: кто же ему простит людскую кровь? А я живу, хлеб жую.
Вот, о хлебе вспомнил. Жили, все сипела, что хлеба тебе мало. А он был, хлебушек, в хате, себе всегда хватало. И к хлебу было. Но правду говорят, что не хлебом единым жив человек. Эх, Мария, Мария! Мы с тобой виноваты, что со Стасом так вышло. Хотя, тебе сейчас легко, ты ничего не знаешь, ничего не чувствуешь. А если бы и знала, чувствовала, то неизвестно, что сказала бы. А вот у меня кровоточит сердце, горит душа. Иной раз думаю, не наложить ли на себя руки?.. Оно-то можно, да выход ли это из всего того, что гложет?.. Никто мне не сочувствует и даже не пытается сочувствовать. Люди от меня отвернулись. Вот до чего дошло. Прости, чужие мы были, чужие. Сотый раз говорю себе, и всегда убеждаюсь, что ни я тебе не был люб, ни ты мне. Выходит, во всем мы сами с тобой виноваты: так жить грешно, как мы жили. Но что сейчас говорить? Тем более, что и моя последняя година не так уж далеко: какое сердце долго может выдерживать то, что на моем лежит?..
И сейчас, уже днем, Иосиф, так же мысленно разговаривая с Марией, сворачивал одну цигарку за другой. В хате было, как в смолокурне. Кружилась голова. Он медленно поднялся с места, одел старый, слежавшийся тулуп, прошел к двери.
В лицо сразу же, как и утром, дохнуло обжигающим холодом, возле крыльца из-под двери мело снежной колючей пылью.
Иосифу показалось, что эта пыль, будто крупинки стекла, впивается в лицо.
В полутьме сеней в углу возле двери он нащупал метлу, затем рукой сильно толкнул дверь на крыльцо. Она резко скрипнула, и сразу же в глаза метнулась белизна, на мгновение ослепила, Иосиф закрыл глаза.
Когда открыл, вновь, как утром, увидел перед собой слепящую белизну. И сразу же глубоко вдохнул холодный воздух с такой жадностью, будто у него в жизни оставалась одна-единая минута, за которую он должен вобрать в себя эту обжигающую холодную чистоту окружающего мира, чтобы навсегда запомнить, какой был этот мир.
В эту же минуту впервые за много дней Иосиф ясно услышал звуки деревни: голоса детей у реки и заливистый лай собаки, меканье козы в сарае на том конце Гуды, и треск сухих веток старой сирени на своем огороде, стрекот сороки на заборе, и глухой стук деревянного ведра о лед, наросший на колодезный сруб, стоящий среди улицы.
Иосиф вновь направился под навес, пристроенный к сараю.
Сухо скрипел снег под ногами, неприятно, словно песок на зубах.
Он остановился у лодки, запорошенной снегом, подумал, что надо было бы ее сразу же, как смастерил, полностью спрятать до весны под навес. Но как ты это сделаешь один? Потом прошел вглубь навеса, взял в углу деревянную лопату и начал расчищать дорожку от крыльца к своему колодцу, некогда им самим выкопанному на улице, чуть в стороне от въезда во двор. Работал с удовольствием, но вскоре вспотел, расстегнул тулуп, сбросил в снег рукавицы.
Прокопав дорожку, сходил в хату за ведром, вернулся к колодцу.
Голоса детей, неожиданно исчезнувшие, когда начал бросать снег, вдруг вновь возникли, но сейчас уже слышались где-то недалеко за спиной. Иосифу хотелось повернуться, посмотреть на детишек, но он почему-то сдержал себя, его пальцы быстро заскользили по шесту, к которому было прикреплено деревянное ведро.
Достав воды, Иосиф не спеша, посматривая, как ветер разбрызгивает капли на снег, налил ее в ведро, принесенное из хаты. Голоса вновь затихли, будто оборвались.
Иосиф посмотрел в ведро. Оно было неполное. Ну ничего, ему хватит: взял ведро и направился к хате, стараясь идти спокойно, хотя за спиной чувствовал легкие, быстрые шаги.
Он уже ступил на крыльцо, взялся рукой за обжигающий засов, как рядом с ним в дверь ударил, разлетелся на осколки кусок льда.
От неожиданности Иосиф вздрогнул, поставил ведро на крыльцо, повернулся, решив, что детишки затевают с ним шутливую игру, нагнулся, взял кусочек оледеневшего снега, намереваясь бросить в ответ, но застыл на месте: из-за забора на него с ненавистью смотрели две пары детских глаз — Валик и Света. Иосифа поразило, что дети, когда он повернулся, не бросились бежать, не стали прятаться, а Валик даже нагнулся, взял еще одну льдинку.
Иосиф стоял молча, ожидая, что будет дальше. Кажется, ни один мускул не дрогнул на его лице. «Значит, и для детишек я.»
Валик, целясь в Иосифа, прищурив глаз, смотрел ему прямо в лицо, и его рука, в которой он сжимал льдинку, медленно поднималась, чтобы бросить ее в лицо старику. И когда, казалось, она вырвется из руки мальчишки, полетит в Иосифа, он услышал женский голос:
— Что же ты делаешь?.. Дедушка тебе игрушка, что ли? Как тебе не стыдно? И кто такому тебя научил?..
Дальше Иосиф не слушал, повернулся, открыл дверь в сени: он не хотел встречаться с Катей. Он вообще боялся, что когда-нибудь их взгляды могут встретиться.
В ту ночь он не сомкнул глаз.
8
Это было необъяснимо. На следующий день, встав с постели после бессонной ночи, Иосиф почувствовал облегчение на душе. Возможно, всему были две причины: первая — то, что длинной бессонной ночью он почему- то ни о чем не думал, просто лежал в темноте с открытыми глазами. Такое состояние у него было впервые за последние годы. А именно: ты есть в этом мире, и как будто нет тебя, а все, что происходило вокруг, к чему был и не был причастен, скользит мимо твоего сознания, не вызывая никаких чувств. Состояние известное — невероятная усталость, когда душа исстрадалась до предела.
Вторая — он еще с вечера решал, что уйдет куда-нибудь из деревни, уйдет навсегда, подальше от этих людей, которые его не принимают, не хотят понять, презирают.
Подальше — это куда?.. Да хоть бы в город. В городе можно найти какую- нибудь работу. Есть работа — есть конура. Там можно пережить зиму, подрабатывая на товарной станции, а потом, когда станет тепло, можно будет уйти в скитания, вообще подальше от людей. Тогда он забьется в какую-нибудь глушь в лесу у реки, соорудит куренек да и останется в нем. Руки у него еще крепкие, топор держать не разучились, сила пока есть, одиночество вдали от людей и будет ему избавлением от страданий.
Какое-то время Иосиф стоял среди хаты, боясь выйти во двор. Сейчас ему казалось, что, увидев с крыльца деревню или то, что от нее осталось — черные печные трубы, — он потеряет (или она сама ускользнет из души) ту легкость, которая там вдруг появилась.
Он стоял, утешая себя неясным и не вполне понятным будущим одиночеством вдали от людей, пока не почувствовал, что затекли ноги.
Рассвело. Хотя в хате было еще серо, но он уже мог различать все, что в ней находилось. Вот его взгляд вновь скользнул по стене, остановился на той же, вызывающей тяжелые размышления рамке с фотографиями. От них вновь повеяло колючим, гнетущим холодом.
«Ладно, что это я? — сказал сам себе Иосиф. — Время, надо собираться, раз уже решил, так нечего отступать.»
Собирался он недолго: положил в холщовый мешочек-рюкзачок пару нижнего белья, черствый ломоть хлеба, горсть мелких луковиц, забросил шлею за плечо, сунул руки в карманы тулупа, вышел с сени.
Там остановился: а золото. С собой взять? Кругом разруха, людям есть нечего, да золота ли сейчас?
Вспомнил, как, вступая в колхоз, вместе с коровой, лошадью, упряжью и монету хотел сдать в хозяйство. Но, поразмыслив, вовремя остановился — мужики заклюют: «Кулак!» Не сдал. Ночью еще глубже под кустом сирени зарыл. Потом уже, в войну, в хате спрятал: оторвал кирпич под печью, отодвинул его, засунул монету в щель, кирпич на место приладил — попробуй найди!
Подумал еще: сколько лет монету сберегал, так пусть и сейчас в тайнике лежит, мало ли что. В полутьме открыл дверь в кладовую, перед глазами качнулась и замерла полоса света, льющегося сюда через узкое, как рукавица, окошечко в стене.
Свет, падая на пол, преломился на нем, отскочил на старые рассохшиеся жернова, стоящие в углу возле стены напротив, рядом скользнул по ним. «Давно зерна не знают», — подумал он, вдохнул холодный воздух, пахнущий пылью и песком. Иосиф прошел к полосе света, чувствуя, как под ногами проседают половицы, привычным, легким движением взялся за гладкую деревянную ручку жернова, крутнул. Раздался холодный, полузабытый железный скрип. Из лоточка на пол сыпанулась горсть трухи. Пыльца долго оседала в полоске света.
Иосиф немного постоял, потом резко повернулся и вышел из кладовой в сени. Остановился, подумал, если задержится еще хоть на минуту, то вряд ли сегодня сделает то, на что решился, — останется в плену тепла хаты, никуда не уйдет. А не уйдет сегодня, не уйдет завтра: настроение меняется — сейчас он не жалеет себя, а через некоторое время, может быть, будет жалеть, да еще как.
Иосиф решительно вышел на крыльцо, закрыл дверной засов.
«Снег, снег метет, — подумал он, — пусть дверь будет закрыта со двора, пусть в хате сохранится тепло, может, она еще кого согреет. Увидят люди, что я исчез, зайдут в избу, пусть живут».
Он шел по заснеженной улице не озираясь, зная, что снег постепенно заметает его следы. Иосиф не хотел, чтобы кто-нибудь его видел, он рассчитывал, что в такую рань вряд ли кто будет разгуливать по улице.
«Ничего, — успокаивал он себя, — я еще в силе. На кусок хлеба заработаю, сойдусь с новыми людьми — тяжело без людей. Побуду там, где меня никто не знает, где никто не будет ковыряться в моей душе, а потом — в лес, в лес.»
Остановился он на минуту только у дамбы, окинул взглядом высокую, в человеческий рост, выгнутую подковой ее спину, отливающую снежной синевой, махнул рукой, вспомнив, что немцы, отступая, здесь почему-то задержались, что-то похожее на окопы копали, да так и не укрепились, и двинулся дальше.
Вскоре совсем рассвело. Снег блестел до боли в глазах. Где-то на реке у самого берега сухо треснул лед, звонкое эхо всколыхнуло воздух, и оно будто подтолкнуло его в спину: спеши, чтобы засветло дойти до города.
Он ускорил шаг.
До шоссе проселком ему нужно было пройти километров пятнадцать. Там, на шоссе, если повезет, можно было встретить попутную машину или подсесть на какие-нибудь сани, направляющиеся в город, — мужики из близлежащих к нему деревень постоянно наведываются туда. Если не повезет, дойдет сам до города хоть к полуночи, но дойдет. В молодые годы за день успевал туда и обратно.
Вскоре вошел в лес. Здесь было еще темно, тьма словно держалась за ветви деревьев, и если уходила с дороги, то неохотно, тяжело, вползая вглубь леса.
Но вместе с тем вверху уже прочно держался свет, дрожал на острых вершинах сосен, небо заметно розовело, поднимаясь все выше и выше.
Хотя идти по узкой, присыпанной снегом колее от полозьев было нелегко, будто по узкой глубокой борозде, Иосиф не замедлял шаг — быстро привык к дороге, шел, не останавливаясь и не падая. К дороге местами выбегали хорошо известные ему поля-поляны, на погорках они блестели оледенелой коркой.
На этих полях-полянах когда-то колхоз сеял то рожь, то лен, то сажал картошку. И урожай то был, то не был: как год выдавался, если влажный, то росло все, если сухой — нет.
В войну эти земли пустовали, заросли худым разнотравьем. Отродятся ли? И — когда?
Иосиф думал, глядя на все это, что расстается с ними навсегда. Расстается с тем, что хорошо знал, что любил, что столько лет жило в его душе. Он не думал о том, сможет ли жить там, куда шел, без всего этого, такого дорогого и родного.
9
Никто из гуднянцев сначала не заметил, что Иосиф Кучинский исчез из деревни. Мужчинам сейчас, когда возили сено, было не до него: хотя страсти улеглись, каждый выговорился, махнул на него рукой, дескать, своих дел хватает. И у женщин забот было немало — грядет весна. И сейчас к своим хлопотам прибавлялись общие — колхозные.
До войны в Гуде был крепкий колхоз. Хотя не каждый год земля хорошо родила — земли здесь бедные, песчаные, люди жили неплохо. Животноводство выручало: заливные луга за рекой, луговины в демковских болотах — трава вырастала — косу не потянуть, сена хватало и колхозному стаду, и на продажу в иные хозяйства. Животных тоже продавали.
Держали гуднянцы в своем хозяйстве и большой табун лошадей. Была в колхозе и техника — несколько тракторов, сеялки, конные косилки, молотилки.
Сезонные работы здесь всегда выполнялись в срок, люди на трудодень зарабатывали хорошо, словом, жили, строились, детишек растили, молодых женили, замуж отдавали — здесь все было как у людей.
Перед войной в Гуду, как знаем, даже собирались провести электричество, да не успели. В первый же день, как стало известно, что началась война, мужики, чей возраст подходил к призывному, ушли в район, в военкомат. Тогда с ними пошел и Ефим. Все думали, что он только проводит сыновей, а он вместе с мобилизованными попытался стать в строй. И стал. Но из строя Ефима попросили выйти, сказали, что стремление его заслуживает похвалы, вот только возраст давно вышел...
Ефим обижался, пытался доказывать, что он еще может воевать, хотя бы и в обозе, а без обоза, как известно, ни одна война не может обойтись. Но и в обоз его не взяли. А через несколько дней, когда немцы были уже совсем близко — в Гуде слышались раскаты взрывов, доносившиеся из-за демковских болот, да видны были сполохи пожаров из-за леса — вернулся Ефим в деревню. Был он подавленный, осунувшийся, тихий.
А еще через день погнал он колхозных лошадей в район. Но по дороге табун и Ефима перехватили диверсанты в форме красноармейцев, приказали гнать лошадей обратно, а он сделал вид, что слушается, завернул их в лес. Тем временем на дороге появились немецкие танки, лошади разбежались, Ефим чудом спасся, успев спрятаться за выворотень у дороги, вернулся домой еле живой и без лошадей.
Позже люди из соседних деревень долго собирали лошадей по лесам. Найдя мерина или кобылу, кто-то вел в свой сарай, кто-то, спутав, прятал в лесу (потом кони стали партизанскими).
За войну немцы разобрали все колхозное добро, все что могли забирали и у людей — в этом им помогал Стас, зная, где что у кого может быть припрятано. А что было позже, летом сорок третьего — известно.
А еще позже, когда война откатилась на запад, Николай стал председателем вместо довоенного председателя некоего Ковальчука, присланного из города. Было известно, что погиб он где-то под Харьковом, его жену и двоих ребятишек, приехавших с ним в Гуду, немцы уничтожили.
Впрочем, сейчас и колхоза как такового в Гуде не было. Сейчас в Гуде, кроме Ефима, Николая, Михея, Кати, Надежды Соперской и ее детишек — Светы и Валика, больше никого не было, конечно, если не считать Иосифа, которого в расчет люди не брали.
Сейчас гуднянцы думали, как сохранить лошадей, как вывести их на весну здоровыми, более-менее сытыми, способными вести борозду, тянуть плуг, борону. А еще — где взять семена под яровой клин, картошку, чем и как поддерживать детей, Катерину, как самим не опухнуть с голоду.
Не однажды из района сюда наведывалось начальство из бывших местных партизан (фронтовики пошли с войной дальше), все осматривало, давало какие-то советы, а из слов известно польза какая.
Да и чем это начальство, ничего не имея, могло помочь? Разве что добрым словом, посеяв надежду на скорую Победу, на лучшую жизнь.
Хотя война и откатилась на чужие земли, но ее эхо не миновало Гуду: демковская почтальонка чуть ли не каждый день несла сюда похоронки — в основном в те семьи, которых уже не было.
Читая чужие казенные бумаги, мужчины тяжело вздыхали, отмечая, что не только целые семьи переставали существовать на земле, но и исчезали целые человеческие роды.
Уже не было в Гуде рода Русиновых, большого, в четыре семьи, не было рода Иванцовых, Крутолевичей, ибо кто был в оккупации — сгорел, а кто на войне, погиб там.
Иосифа обычно вспоминали, когда душевные раны кровоточили очередным гуднянским горем, когда каждому оставшемуся здесь в живых было невыносимо больно: тогда судьба Кучинского, его жизнь словно всплывали на общее обозрение.
Тогда в людских сердцах не было места Иосифу и не было ему сочувствия в его одиночестве, горе. Да и о том, что ему тяжело, что он страдает, что и у него есть душа, сердце, никто не думал, разве что одно: отец дьявола... Тогда людям хотелось, чтобы ему было плохо, чтобы он страдал, испытал все то, что испытали перед гибелью другие, а потом исчез навсегда из их памяти и никогда и ничем не напоминал о себе.
Пока мужчины возили из засыпанных снегом луговин сено, женщины и дети таскали его на сеновал, а потом то, что не помещалось там, — сарай, в котором стояли кони, был небольшой, — сметали рядом с ним в стожок.
Последний воз Ефим, Михей и Николай привезли только в конце третьего дня. Мужчины хорошо наработались, устали, плелись за возом, еле передвигая ноги, и Ефим, обойдя стожок, поставленный женщинами и детьми у сарая, придирчиво осмотрев его, сказал:
— Да, стожок-то — не очень. Метель загуляет, как видишь, разметает его. Где же ваши руки были, бабоньки?
— А там, дядя, и были, — ответила ему Надежда Соперская, — где и у всех людей. Не разметает! А ты что думаешь, это сено до весны сохранится? Как видишь, съедят его кони.
Ефим пожалел, что обидел женщин: что с них возьмешь? Не женское это дело стога метать. И чтобы как-то сгладить неловкость, возникшую между ним и женщинами, сказал:
— Да ладно, маленько подправим. Но экономить сено будем, иного выхода у нас нет. Это сколько же на одну лошадь сена на зиму раньше заготавливали?.. Да не менее двухсот пудов, тонны четыре.
— Как считаешь, дядя? — встрял в разговор Николай. — В тонне шестьдесят пудов, значит. А вообще-то, надо на бумаге сложить.
— Как знаю, так и считаю, — сказал Ефим. — Шестьдесят так шестьдесят. Да я на глаз определяю. Хватит сена — не хватит. Хватит, если будем экономить. Это я еще с осени прикинул. Так что хоть ты и председатель, а меня, Николаюшка, учить не спеши: я ведь всю жизнь при лошадях.
— Да я и не учу, — ответил ему Николай, — это я так, размышляю.
— Размышляй, размышляй. Ты грамотный, твое это дело — размышлять. А я не шибко грамотный. Я, когда был таким мальцем, как Валик, без всяких наук стога топтал не хуже иного мужика. Что такого обидного я сказал?.. Да, разучились мы за войну как следует работать. Разве это дело?
— Кто и разучился, — сказала Катя, — а кто и не учился. Вот что плохо, Ефим Михайлович. А ты не очень нас критикуй: Валик и Света стожок топтали. Где, когда и кто их этому учил?
Катя приставила к стожку грабли, посмотрела на детей, они стояли возле сарая и обиженно шмыгали носами: еще бы, так старались, а их, вместо того чтобы похвалить, облаяли, да кто — сам дед Ефим!..
— Если бы я знал, что это они пластовали стожок, — растерялся старик и вновь попытался «сгладить» ситуацию, — впрочем, как умели, так и сметали. Никуда он не денется, этот стожок, будет стоять столько, сколько надо.
— Знал, не знал, — сказала Катя, — кто же еще, как не они пластовали?.. Да Валик со Светкой, может быть, настоящего лугового запаха не чуяли.
— Да я ни в чем их не обвиняю! — раздраженно пробурчал старик. — Само собой разумеется, что им было некогда и не у кого учиться стоговать. Не разобрался я, старый пень, что к чему. Вот и сказанул то, что не надо. Бывало, в их годы детишек с собой в луга брали. В сенокос, когда погода, там и дневали, и ночевали. Только, думаю, сейчас им нужно не стога складывать, а за школьной скамьей сидеть, переростки же. Не помню, они успели хоть зиму в школу походить?
— Когда было? — как будто удивилась Надежда. — Не успели. Они у меня близнецы. Как раз в сорок первом должны были в школу идти. Спасибо Кате, научила читать. Сама я грамоту не знаю, разве что чуть-чуть. Зиму походила в школу. Страсть у меня к учебе была, но дедушка отхлестал тряпкой, посадил за прялку. Вот и вся моя грамота. Говорил дедушка, мамин папа, что с науки хлеба не наешься, нужно смотреть, чтобы лужок не был зеленым — нужно полотна ткать, да на нем расстилать, приданое готовить. И вот на тебе, зеленый или белый лужок, все сгинуло, все пошло дымом. Светка уже хорошо читает, а Валик — через пень-колоду. Так что с него требовать? Подрастет малец, поумнеет.
Валик, услышав это, совсем обиделся, отвернулся.
— Вот тебе и на! — Ефим развел руками и, обращаясь к Валику, сказал: — Как же ты в таком разе отцу письма пишешь?
— Ой, молчите, Ефим Михайлович, — Надежда смахнула слезу рожком старого вязаного платка, — разве не знаете, что с осени от Игнатия нет вестей? Какие письма? Куда? Может быть.
— Ты это брось, Надежда! — разозлился Ефим. — Война есть война. Мало ли что бывает. Может быть, он сейчас в таком секретном деле, что весть о себе подавать нельзя. И такое бывает на войне. А ты уж сразу глупости в голову берешь. Жди, Надежда, жди.
Старик подошел к Валику, положил ему руку на плечо, пристально посмотрел в лицо:
— Держись, мужик. Ничего, все у тебя будет путем. И чтение, и стога.
— Валик, ошибается твоя мама, когда говорит, что ты не шибко читаешь. Неплохо читаешь. Правда, иногда бывает, по слогам, будто по кочкам едешь. Ну, это сначала у всех так. Скоро пройдет. А вот считаешь ты очень хорошо, — похвалила Катерина.
— Правда? — обрадовался мальчик. — Я сразу подсчитал, сколько пудов сена лошади надо: двести сорок!
— Ну? — удивился Ефим.
— Вот те, дядя, и ну, — вмешался в разговор Николай. — Даже я не сразу прикинул, сколько, а Валентин, вишь ты его, мгновенно смекнул. Молодец! Вырастешь, отправим тебя на большую учебу в город. Обучишься, вернешься домой, меня заменишь. Какой из меня председатель, если я земельному делу не обучен? Согласен?
Валик согласно кивнул головой.
— Вот отдать бы их сейчас в школу, — сказал Ефим. — В райцентре, слыхал, школа уже работает.
— Как же их туда отдать? Где жить будут? А что есть? Что в торбочку детям положить? Здесь они при мне, хотя и не в сытости, но и не в голоде. Ягод насушили. Грибов насолили. Щавелька в кадочку натоптали. Да по одной-две картошечки на день есть. Иной раз и сальца из города принесу, на рушники да постилки, что когда-то ткала, выменяю. Нет, сейчас детишек от себя отрывать не надо. Вместе папку нашего ждать будем. А пока — Бог батька: что людям, то и нам.
— Что вам этот Бог дался? — вновь разозлился Ефим. — Набожкались.
— Это я к слову. Вон у Иосифа в углу он имеется. И Стас, помнится, крест нательный носил. Видели мы, как шлялся по селу в расстегнутой до пупа рубахе. А что творил?
— А старик-то при чем? — спросила Катя. — Мы здесь его душу полощем, а самого что-то давно не видно. И дым из его трубы не идет. И дорожка от крыльца не протоптана.
— Может, уже околел? — сказал Михей, подходя к стожку и отряхивая с одежды сенную труху.
— Прикуси язык! — бросил Ефим. — Не собака же. Может, приболел, и ему сейчас помощь нужна.
— Ну так ты, дядя, иди помоги, — сказал Михей. — Посмотри, как он там, да воды ему подай, чтоб он смолы напился!
— И пойду, Михеюшка, пойду. А как же?
Ефим поправил шапку, сползшую на лоб, повернулся, немного постоял в раздумье, потом решительно направился к Иосифовой хате.
Все молча смотрели ему вслед. Сначала Ефим шел по улице, ступая в наезженную санями колею, пошатывался из стороны в сторону, потом ступил на целину, чтобы сократить путь. Шел он не осматриваясь, спешил.
Катя попыталась пойти следом, ступила несколько шагов вперед, но неожиданно для всех сморщилась от боли, остановилась, приложила руку к животу, прислушалась.
Надежда подбежала к ней, испуганно спросила:
— Что с тобой?
— Да ничего, — слабо улыбнулась Катя, — дает о себе знать, бьет уже.
— Вот и хорошо, Катюша, — успокоилась Надежда, и тоже улыбнулась: — Оно всегда так знать о себе дает. Крепись. Впервой?
— Впервой.
— Ну, слава Богу. Ждать будем.
Катя замолчала, прислушиваясь к себе.
Тем временем Ефим подошел к Иосифовому огороду, не по-стариковски ловко пролез между жердями, проходя возле старого куста сирени, зацепил его плечом: снежная пыль сыпанула ему в лицо. Не обращая на это внимания, старик поднялся на крыльцо, отбросил дверной засов, исчез в сенях.
Все замерли, ожидая, что же будет дальше, не отводили глаз от двери.
Ефим вышел из хаты минуты через две, быстро направился назад тем же путем, которым шел к Иосифовому двору. И когда все уже устали от ожидания, крикнул издалека:
— Нет его! Нет.
10
Иосиф Кучинский стал работать в городе на железнодорожной станции. Работы здесь хватало. Может, поэтому, а может, из-за его пожилого возраста им здесь никто не интересовался, не спрашивал, откуда он, где живет, есть ли родные, чем занимаются.
Да и работа у него была не постоянная, без всяких официальных оформлений. Пришел на станцию, а там таких, как он, насобиралось десяток-полтора — грузчики. Все знали, что на путях стоят эшелоны, которые надо срочно разгрузить (стройматериалы, техника, а иногда и продукты). Ждали, когда появится какой-нибудь начальник да даст работу. И так ежедневно. Начальство в основном было такое — откормленные тыловики. Реже какой-нибудь однорукий или одноногий бывший фронтовик. Начальник, даже не ознакомившись с рабсилой, вел всю группу к эшелону: «Давайте!»
Эшелоны прибывали из самых разных мест, и было понятно, что сейчас в Сибири, Казахстане или где-нибудь в России налаживается жизнь, что там делают не только танки, самолеты, пушки, но и все то, без чего невозможно восстановить разрушенное войной хозяйство. Значит, думал Иосиф, не сегодня завтра лихое время окончится, и, наверное, у нас сейчас сила великая, если страна работает не только на войну.
Думая так, Иосиф не отделял себя от того, что сейчас делается в стране, и его немного успокаивало то, что и он нужен. И пусть никто не знает его, но он делает что-то хорошее, заменяет чьи-то молодые руки, которые сейчас так нужны на фронте.
Компании грузчиков были не постоянные: сегодня работали одни, завтра другие. В основном это были пожилые мужики, вроде Иосифа, хотя приходили и помоложе, в солдатских истертых шинелях, кто прихрамывая, кто, по нему было видно, не совсем еще оправившись после ранения. Изредка приходили и совсем молодые парни, считай, подростки. Они подрабатывали, наверное, чтобы семье было легче.
Иосиф видел, как бы ни менялись люди, какие бы разные они ни были, но все не любили тыловиков, этих здоровых, наглых, сытых, вороватых мужиков, каким-то образом отрезанных от войны и почему-то сплошь и рядом приставленных к вагонам с продовольствием. После работы они уходили с вещмешками, набитыми всем, что только можно было есть. Эти «сытики», как их звали грузчики, пренебрежительно относились к «рабсиле». Между собой они так и говорили: «Есть рабсила?.. Сколько сегодня рабсилы?..» и т. д. Были тыловики циничны по отношению к женщинам, работавшим на путях, и, как утверждали знающие люди, «покупали» их за еду.
Иосиф однажды и сам слышал, как один из таких «сытиков» хвастался другому, как «взял бабу, да не очень простую». «Долго я к ней присматривался — ни в какую. Говорят, какая-то бывшая интеллигентка. Смотрю, и в самом деле деликатная, лом как следует не может держать, не знает, что такое кайло. Ну, думаю, я тебя к рукам приберу, не таких брали! Я к ней и так, и этак, а она: «Уйди, дядя.» Ладно, уйди так уйди, силой брать мы тебя не будем, посмотрим, что ты на обед ешь. Оказывается, ни-че-го. Вот тут мы ее и взяли: хлебушком да тушеночкой.»
«Сытник» смеялся, смеялся и другой, делясь опытом: «К этому они, изголодавшиеся, как сучки, быстро привыкают.»
Конечно, это было страшно, необъяснимо страшно. И это была правда, и только какая-то часть той жуткой военной правды, которую довелось испить людям. Нет, далеко не каждую вот такую или похожую на нее женщину, голодную, доведенную до отчаяния, могли «купить», «взять» «сытики». А в это время, когда они бесчинствовали в тылах, на складах с продовольствием, отцы, братья, женихи этих девушек и женщин брали города, свои и чужие, погибали, лежали израненные в госпиталях, пропадали без вести. И суровой правдой было то, что не каждый фронтовик или тыловик, партизан, командир или рядовой в сложной ситуации своего сущестования мог остаться человеком: ибо не каждый из нас, людей, человек по своей сущности.
И самое страшное, что было сейчас, как понимал Иосиф, это то, что ни он, ни другие, представляющие для «сытиков» «рабсилу», не посмеют заступиться за этих униженных, доведенных до отчаяния женщин: заступись — без дела останешься. А оно кормит.
Наверное, вот здесь для каждого и проходила та тончайшая грань, когда он должен был решить для себя, как быть, как поступить в этой ситуации: остаться человеком, восстав против мерзости и в результате потеряв возможность хоть как-то жить, перебиваться в относительном благополучии (есть угол, тепло, еда) или сделать вид, что ничего не видишь.
Сейчас Иосиф думал о том, как бы самому выжить, продержаться здесь до весны, поднабраться сил, накопить продуктов. Тогда он уйдет из города куда-нибудь в лес, подальше от людей, чтобы навсегда исчезнуть из их мира, такого сложного и несправедливого. Он понимал, чувствовал, что нет ему места среди своих земляков-гуднянцев, а без них, с которыми прожил худобедно всю свою жизнь, ничто для него не имеет смысла. Там, в Гуде, все было свое, родное, кровное (и боль, и радость, и голод, и холод, и будни, и праздники), здесь же все — чужое. И здесь ему не место.
То, что мир людей никогда не был однозначно добрым или однозначно злым, Иосиф хорошо знал. Лично для него в этом мире плохого было больше, чем хорошего. Может быть, вообще все в его жизни было против него: и детство, в котором он непонятно как, в основном сам по себе, выжил. И молодые годы, когда любимой девушкой были растоптаны лучшие чувства. И потом не понятная самому ему женитьба. И в результате не сложившаяся семейная жизнь. И страшная, врагу не пожелаешь, старость.
Получается, что сама жизнь все время отталкивала его от себя, гнала прочь, а он, глупец, не понимая этого, цеплялся за нее как только мог.
Сейчас Иосиф видел, что как бы там ни было, жизнь постепенно возрождается. Не его личная, а жизнь вообще. И он знал, верил, что вершат ее не вот такие, как эти «сытники», а совершенно иные неведомые ему люди: не сами же по себе идут сюда, в этот город, эшелоны со всем тем, что необходимо для восстановления всего разрушенного. Значит, где-то там, далеко или близко, женщины, дети, старики, демобилизовавшиеся после ранений фронтовики, да и многие, если не большинство, тыловики работают на пределе своих возможностей каждый на своем месте. Они отрывают от себя последнее, чтобы поделиться с другими, и им, тем людям, наверное, не легче, чем тем, кто принимает эту помощь. Да и отсюда, из этого города тоже отправляются куда-то в иные края эшелоны, правда, все больше с лесом, а леса на этой земле хватает.
«Наверное, — думал Иосиф, — пройдет еще не один год, а может, и десятки лет, пока земля воспрянет от причиненного ей изуверства, пока люди преодолеют горе, забудут его, но тогда уж точно меня не будет».
Найдя работу здесь, на станции, Иосиф ютился на угольном складе, где обитало с десяток таких же, как он, бездомных мужчин разного возраста, чьи судьбы были исковерканы войной.
Постоянных же обитателей здесь было мало, человека три-четыре. Люди часто менялись. Одни приходили сами, других приводил бригадир, еще молодой мужчина, хромающий на одну ногу, видимо, демобилизованный после ранения. Говорили, что он, вернувшийся в город, так и не нашел свой дом, семью. Говорили, что сейчас жил он в будке путевого обходчика. Почему-то все его боялись и слушались, хотя этот человек никогда ни на кого не орал. Но был угрюм, замкнут, немногословен, и к старикам, таким, как Иосиф, обращался на «вы».
Иногда, когда не было работы, Иосиф выходил в город. Город был почти полностью разрушен. Казалось, в нем не осталось ни одного целого здания. Люди ютились в подвалах, в наскоро сбитых бараках, во времянках, поставленных на пустырях. Тем не менее везде чувствовалась жизнь: по утрам дымились трубы, взрослые спешили на работу, играли детишки, а на станции всегда было многолюдно.
Время от времени Иосифа тянуло на рынок. До войны этот рынок был известен во всех близлежащих, да и далеких от города, деревнях. Там можно было купить все, что тебе нужно. Даже бытовала такая фраза: «На рынке только не купишь отца с матерью, а остальное — были бы деньги.»
Рынок, как своеобразное зеркало всякого города, хорошо отображает настроение людей, их заботы, настоящую, ни от кого не спрятанную жизнь.
Сейчас здесь на хлеб, вообще на еду, обменивали все что только можно представить.
Иосиф ходил на рынок без всякой нужды что-нибудь приобрести: ходил с одной целью — посмотреть на людей, послушать их, увидеть, как живут.
Обычно он останавливался возле крестьян, присматривался к ним, и когда они начинали подозрительно коситься на него, не уходил, наоборот, подходил поближе, говорил, что сам из деревни, сейчас живет в городе, так ему интересно, как там нынче, в селах.
Если кто из мужиков вступал с ним в разговор, сочувствовал Иосифу, что оторван от дома, родных мест — сейчас в деревне, как ни трудно, а все же легче, чем в городе, — он отвечал: «Может быть, весной вернусь, когда сев начнется, колхозу помогу, а сейчас мне там нечего делать, да и один я».
В такие минуты Иосиф забывал, что собирается навсегда уйти от людей, и думал, что весной вернется домой — в посевную в Гуде каждый работник будет на особом счету, и сейчас для него будто не существовало своей личной жизни, своего прошлого.
Тогда вся его прежняя жизнь представлялась, как тяжелый кошмарный сон, да и все, что сейчас с ним происходило, казалось каким-то нереальным.
Но жизнь, в которой он пребывал, была самой что ни на есть реальной, и он возвращался в нее сразу же, когда кто-нибудь из мужиков спрашивал у него о чем-то практичном типа: а что у тебя можно выменять на сало, буханку хлеба, яйца.
Иосиф отвечал, что пришел сюда просто так, тогда ему давали понять, что просто так здесь нечего делать, теряли к нему интерес, и он уходил прочь.
Были на рынке и такие, кто умел наживаться на чужом горе. И, кажется, среди них все больше городские женщины, хотя попадались и здоровые мужчины, которые почему-то сейчас не были на фронте.
Эти обычно хватали все, что только попадалось под руку, обманывали простаков. Иосиф сам видел, как, случалось, такой женщине или мужчине человек за кусок хлеба отдавал золотое кольцо, теплую одежду, добротные сапоги.
Однажды, когда Иосиф ходил по рынку и присматривался, что бы купить поесть, его остановил мужчина лет сорока, одернул за рукав тулупа.
— Беру тулуп, — ощупывал он его.
Иосиф остановился, посмотрел на наглеца. Глаза прищуренные, бегают по сторонам, лицо, как маска, ничего не выражающее, одет в хороший кожух, в валенках, на голове заячья шапка.
— Зачем тебе тулуп? — удивился Иосиф. — У тебя кожух неплохой, да и не на твои плечи мой тулуп. Я худой, а ты кругленький и выше меня.
— А твое какое дело? — тихо сказал мужчина. — Ты же жрать хочешь, сейчас от ветра скопытишься. А нет — иди своей дорогой и не высматривай, что у кого спереть. Я давно за тобой наблюдаю, слюну глотаешь. Нет, так топай отсюда и глаза не мозоль своим тулупом.
— А что дашь? — вдруг зло спросил Иосиф, желая узнать, что за душонка у этого человека.
— Хороший кусок конины, хлеба.
— Очень дешево за такой тулуп. Он почти новый, перед самой войной шил, ему сносу нет, и тепло в нем, как на печке.
— Не хочешь тулуп — кольцо, коли есть. Неделю жить будешь.
— Нет, с тобой дела у нас не будет, — Иосиф уже с ненавистью смотрел на этого сытого мужика. Люди в самом деле с голода от ветра шатаются, а он. И вдруг как уколол: — Ты что, отвоевался, хаживаешь здесь? А конина у тебя не дохлая?
— Что? — мужчина такого не ожидал. Он подступил к Иосифу, что-то сжимая правой рукой в кармане кожуха. — Да я сейчас милиционера свистну! Он тебе покажет, кто отвоевался, а кто нет. Да кто ты такой?..
Иосиф знал по рассказам работавших с ним мужчин, что милиция таких, как этот, не гоняет, наоборот, относится к ним с почтением, решил, что можно «влипнуть». Растерялся.
Мужчина, увидя это, прохрипел:
— Топай, дядя, отсюда, пока цел. Понял? Да ты сам, может, с кого этот тулуп содрал. И вообще, надо бы тебя потрясти, посмотреть, что ты за фрукт, чем в оккупацию занимался. Может, в полиции был, а?..
Иосиф понял, что могут быть неприятности, если этот меняла позовет милицию, повернулся и молча ушел.
Он торопливо шел по улице в направлении станции, ему хотелось скорее уйти от людей, казалось, все, кто его видит, знают, кто он, откуда и какое злодеяние, совершенное его сыном, тянется за ним, Иосифом.
11
Возле станции Иосиф остановился: а идти-то некуда. На угольный склад, где ночует на тряпье в горькой пыли? К таким же людям, как сам, тоже отрезанным от всего остального мира? Впрочем, у каждого из них своя судьба, свое горе, свой способ существования, и Иосиф никому из них не нужен, да и они ему — тоже.
Он постоял на месте, словно прислушиваясь к себе. Что сейчас было у него внутри, в душе, а он верил, что у человека есть душа, — так это боль. Та боль, к которой он постепенно привык, с которой сжился, без которой не ложился спать и не просыпался. Она была, как руки, как ноги, что ли: отними эту боль — и нет тебя.
Это первое, что ему сейчас показалось. Потом, поразмыслив, он будто осознал, что боль эта — чужая, не его, она как пришита к нему кем-то насильственно, пришита в тот момент, когда он был в беспамятстве. Да, эта боль вогнана в его душу словно кол. И его не вытащить, как ни старайся.
Изо рта клубился пар. Мороз к вечеру крепчал. Щеки покалывало. Небо было прозрачно-голубое, местами в редких сизых шрамах. На закате оно дрожало широкими багровыми полосами. Дым из трубы станционной котельной ровной, серо-пепельной лентой уходил высоко в небо и там постепенно расплывался. Было хорошо слышно, как на дальних путях пыхтел паровоз, стучали буфера. В воздухе стоял какой-то гнетущий монотонный гул, сотканный из самых разных звуков, каждый из которых в отдельности отсюда, с пристанционной площади, различить было трудно. Снег вокруг лежал грязный, истоптанный множеством человеческих ног, сыпучий, как сухой песок, перемешанный с угольной пылью.
Чужое небо, чужие звуки, чужой, неприятный снег. Какая-то странная ситуация: везде, и в Гуде, и здесь, в городе, все, что Иосифа окружает, словно отталкивает его от себя. Он все более отчетливо понимает, что нет ему места среди людей и здесь, и там. А выходит, он, будто вопреки всему — с ними, людьми, среди них.
Иосиф повернулся и пошел назад в город: что сейчас делать в холодном складском катушке среди горькой угольной пыли?
В последнее время у него на пустом угольном складе, как у постоянного обитателя, появился свой уголок, отгороженный досками. На складе, в этом уголке вместе с ним коротали ночи еще трое таких, как он, пожилых мужиков. Люди вроде одного возраста, а между ними никаких не то что дружеских, но и товарищеских отношений не было. Более того, чувствовалась отчужденность, граничащая чуть ли не с озлобленностью.
Иосифу иногда казалось, что у каждого из них тоже своя тайна, свое горе. Сам он ни к кому с расспросами не лез, да и они у него ничего не спрашивали.
Пошлявшись по городу, преодолев чувство, будто все, кто тебя видит, знают, кто ты и почему здесь (пусть знают, что я могу изменить?), Иосиф вернулся на станцию. Он зашел в буфет, чтобы выпить кружку кипятка, согреться.
К буфету было не подступиться. И в зале ожидания толпилось множество людей, гражданских и военных.
Согревшись — вообще-то ему в тулупе холодно не было, вот только лицо, хоть он его и прятал в воротник, жег морозец, Иосиф вышел на перрон. Здесь тоже было многолюдно. На ближних путях стояли и нетерпеливо пыхтели паром два воинских эшелона. Один из них направлялся на запад, второй — на восток.
Возле эшелона, что шел на восток, бегали взад-вперед военные. Кто-то нес в котелке кипяток, кто-то охрипшим голосом подавал какие-то команды, кто-то пиликал на гармошке — «Катюша» звучала неумело, как будто гармонист сидел на телеге, а она ехала по шпалам. А какой-то пожилой офицер матерился, размахивая пистолетом, орал, что отдаст кого-то под суд.
Иосиф понял: что-то случилось. Он протиснулся ближе к этому поезду (поезда стояли точно паровоз к паровозу, или «голова» к «голове»). В толпе в окружении гражданских и военных Иосиф увидел двоих в армейском обмундировании. Эти двое стояли, крепко обнявшись. Стояли молча, не обращая ни на кого внимания. Кто-то рядом с Иосифом, спрашивал, что случилось. Пожилая женщина, вся седая, в истертом ватнике, не отводя глаз от этих двоих, сказала:
— Оказывается, есть что-то на свете. Родные братья встретились. Один оттуда, другой — туда. Один искалеченный, домой возвращается, а другой, может, на смерть едет. Вот и пересеклись их пути, спаси их Господи.
— Как?
— Откуда мне знать? — искренне удивилась женщина. — Наверное, свыше им было назначено встретиться.
Иосиф не стал слушать дальше, протиснулся в толпе ближе к братьям. Может быть, он впервые за войну был свидетелем человеческого счастья. Вернее, его вспышки: появилась, словно искорка в кромешной тьме, вспыхнула язычком пламени, на мгновение дохнула теплом в душу, чтобы люди вспомнили, что есть оно.
В это мгновение Иосифу по-настоящему стало хорошо, даже радостно. Он вдруг поверил в добро, в то, что как бы тяжело ни было, а судьба все равно выведет тебя к людям, туда, где понимание и сочувствие.
Он не знал этих людей. Он никогда их не видел. Но он знал, что через минуту-другую они исчезнут из его жизни, чуть скользнув по ней. Он чувствовал, что еще долго, а может быть, до конца своих дней, в тяжелые минуты он будет вспоминать их.
А сейчас его душу охватила радость и вместе с тем тревога: один — с войны, другой — на войну. Что ждет одного, искалеченного на фронте (так сказала женщина, Иосиф еще не видел), дома, в этой мирной, почти до основания разрушенной жизни? А другого — там, на фронте? И суждено ли им еще встретиться?..
Иосиф вновь рванулся вперед, кого-то толкнул локтями, сумел протиснуться ближе к братьям: ему надо было хоть чуть-чуть прикоснуться к теплу человеческого счастья, коль своего уже не суждено ощутить.
Паровоз, направляющийся на восток, вдруг сердито запыхтел, выдыхая огромные клубы пара. Иосиф, торопливо взглянул на лица братьев и вздрогнул, будто молния сверкнула перед глазами: лицо возвращающегося с фронта было изрезано тяжелыми лиловыми рубцами, и вместо губ — изломанные синие шрамы.
Паровоз запыхтел чаще, рядовой решительно оторвался от брата, еле удержался на такой же, как у Николая деревяшке, посмотрел поверх толпы синими, будто васильки, глазами. Но его брат, щупленький молоденький лейтенантик, вновь приник к нему, затрясся на плече брата, проговорил:
— Братик, слышишь, домой едь, домой! Больше — никуда! Выбрось дурь из головы! Там тебя люди ждут.
— Боже праведный, — перекрестилась рядом с Иосифом какая-то старушка, — что война с людьми делает! И какой изверг ее придумал? За что на людей такая кара?.. Закрой, Господи, этого мальчика своей неизносимой ризой. — И начала шептать «Отче наш».
Иосиф подумал, что эта старая женщина, чья-то мать, несомненно, многое повидавшая на своем веку, все происходящее воспринимает как свое кровное. И пережив немало, она все равно не может свыкнуться с тем, что на земле столько горя и зла. Сейчас, понимая, что людям не совладать с ними, уповает на высшую волю. Так может быть, все это зло и свалилось на людей потому, что они натворили много того, чего нельзя было творить. Они нарушили извечные жизненные устои, ходили брат на брата, изничтожали храмы, отрекались от отцовской веры — и много иного ненужного совершали и совершают люди.
«Нет, нет, нет!.. — Иосиф отогнал прочь от себя такие мысли. — Грех так думать. В чем и перед кем может быть виноват этот молодой, изуродованный войной солдатик, как и тысячи таких же других, искалеченных, израненных, сложивших голову на войне?.. Он же не. мой Стас».
Да, бежал Стас от войны, от той войны, на которой должен был или лечь в землю, или вернуться живым, раненым или не раненым, искалеченным или невредимым. Это, если так можно сказать, сторона войны — защита Отечества — всегда у людей считалась святой и правой. А Стас избрал иную ее сторону. Ту, которую во веки веков презирают люди, или проще сказать, проклинают того, кто на той стороне войны. Объявился ночью, как ворюга, разбойник, злодей. Постучал осторожно в окошко. У Иосифа тогда сразу же мелькнула догадка — сын! Дрожащими руками он открыл дверь, впустил его в хату, усадил за стол, ничего не спрашивал, теряясь в догадках и отгоняя прочь страшную мысль: дезертир... А утром Стас сказал:
— Все, батька, отвоевался я!
— Бог с тобой! — воскликнул Иосиф. — Перекрестись! Как это случилось? Где вас окружили?.. Коли так, схоронишься пока дома, затем в лес уйдешь. Знать, где-то там окруженцы, такие же, как ты, собираются.
Стас покивал головой:
— Эх, батька, батька, ты не знаешь, что вокруг делается. Ты не видел, какая силища прет! Всем этим советам — крышка!.. А ты — в лес. Вот были бы живы дед с бабкой, они бы так, как ты, не говорили, они бы радовались, что этим голозадым советам конец пришел. Сколько они над бабкой с дедом поиздевались, пока ты с Ефимом на колхозные собрания бегал да призывал сельчан сообща хозяйничать. Они, дед с бабкой, меня растили, а не ты. Да, советы все у деда с бабкой забрали: и землю, и хлеб. Они их самих со свету сжили: сослали куда-то, и неизвестно, что с ними там случилось. А ты, хитрец, сразу в колхоз. Хватит, батька!.. Сейчас мы еще посмотрим, кто верх возьмет: в гарнизон пойду!
— Говорю: перекрестись! — Иосиф подхватился с места, наклонился через стол к сыну, чтобы схватить того за грудь. Стас отпрянул от него, а Иосиф продолжал: — Ты что себе в голову вбил? Наши люди сообща переломают немцу хребет. Сколько войн ни было, а все равно на России обжигались. Тогда что будет?.. Отец я тебе или нет?
— Отец, только потому, что на свет пустил? Пустить на свет — дело нехитрое. А растил же меня не ты. И вообще, что ты мне дал?.. Ни-че-го! Так что ты мне не судья: хотя мне жаль тебя, старого дурака. А немца уже ничто не остановит, под ним вся Европа лежит.
— Одумайся! — хрипел Иосиф. — Мало ли что было: ну, попал в окружение, потерял оружие. Испугался, потом оклемался, вспомнил, кто ты и что — воин. А оружия сейчас вокруг всякого много валяется, и немецкого, и нашего. Вот и подними, пока затаись, а там — в лес. Партизаны были во все войны. Я твоего позора не переживу!
— Переживешь! Все переживешь, что судьба пошлет. А не выдержишь, значит, свое откоптил.
Иосиф тогда понял: перед ним чужой человек, с которым его, кажется, никогда ничто не связывало. Уяснил, что Стас не отступится от того, что задумал: у него велика злость на весь мир, сын пышет лютой злобою.
— Мне, если уж так тебе хочется знать, дороги назад нет, да и не надо. Я для себя давно все решил, так что прикуси язык, старик.
— Гнилая у тебя душонка, — сказал Иосиф. — Ткнешь пальцем — рассыплется. Ну что ж, моя вина, моя. Сам виноват, что побоялся деда с бабкой ослушаться, когда они тебя забирали. Взошло в тебе их злое семя.
— Тебе что, между глаз врезать? — сказал Стас. — Заладил, надоело. Живи как знаешь.
Иосиф понял, что разговор окончен. Он тяжело поднялся из-за стола, направился к двери, там на минуту задержался, оглянулся, посмотрел на сына. Тот спокойно ел суп. «Чужой, совсем чужой», — подумал Иосиф и вышел из хаты.
...Все это вспомнилось Иосифу сейчас на перроне, вспомнилось, когда услышал, как старуха просила Бога, чтобы он отвел пулю и огонь от молоденького лейтенанта, едущего на фронт. Потом после «Отче наш» она читала молитву, в которой были слова о сохранении воина, идущего на битву за свою землю. И слышал он их, эти великие слова человеческой надежды о спасении (дело правое), выстраданные людьми на протяжении веков, и каждое из них больно отзывалось в сердце: моего сына эти слова обошли.
Старуха молилась:
...Маці Божая з сябе рызу здымала,
Раба Божага салдаціка ўкрывала,
Хуткія кулі і вострыя мячы замаўляла:
Каля яго лятайце,
У яго не трапляйце.
Зберажы яго, Божа,
Ад кулі хуткай,
Ад шаблі вострай,
Ад агню, ад патопу,
Ад снарада.
Зберажы і памілуй яго
На многія лета.
Накрый яго сваёй святой рызай,
Зберажы і памілуй на многія лета,
Дай яму зброю і святы хрэст.
В детстве, да и позже, сейчас, во время войны, Иосиф слышал много молитв на разные случаи жизни, а эту слышал впервые. С каких времен она пришла?.. Кто к этому времени ее «приставил»? Когда?.. Или только сейчас она людям явилась?.. Никто не скажет. Молитва потрясла его: «Дай яму зброю і святы хрэст.» Это было предельно понятно, до какой степени возвышается ратное дело и как оно возвеличивает того, кто идет на битву за свою землю.
«По вагонам!» — прокатилось волной в морозном воздухе.
Люди на перроне заметались, забегали. Паровоз дал долгий гудок. Лязгнули настывшим металлом буфера, прогнулись под вагонами рельсы.
— Лейтенант! Давай, скорей, скорей! — слышалось из постепенно набирающего ход эшелона. Казалось, кричали из всех вагонов, из всех открытых проемов в них.
И тогда Иосиф увидел, как рядовой уже со всей силой оттолкнул от себя лейтенанта. Испуганно, что есть силы, закричал:
— Беги, Вася, беги! Это же фронт!..
Лейтенант словно очнулся, пошатываясь, начал осторожно отходить от брата, потом сорвался с места, бросился к проплывающему мимо вагону, оглянулся:
— Ваня, домой! Слышишь?.. Домой!..
Он успел вскочить на подножку последнего вагона.
Иосиф, как и все, кто остался на перроне, не знал, какие судьбы у этих двух братьев. Он не знал, почему изуродованный солдат не собирается ехать домой. Может быть, у него там была невеста, и таким он не мог показаться ей на глаза. А может, там, где жил раньше, и вовсе уже не было никакого дома, а просто место, где жили люди, знавшие и помнившие его другим.
— Езжай, Вася. Бей гада!.. А я — домой!..
Вряд ли лейтенант уже мог слышать эти слова брата, поезд шел быстро, удалялся и вскоре исчез за поворотом.
Во всем том, что сейчас видел и слышал Иосиф, открылась трагедия судеб двух незнакомых ему молодых людей, один из которых, наверное, Стасов ровесник, а второй чуть моложе. Потрясенный увиденным, Иосиф словно сбросил с себя тот гнетущий груз, который носил все это время, простонал: «Домой, домой.»
Через два дня гуднянцы заметили над трубой хаты Иосифа Кучинского дымок.
12
Ефим Боровец на этой земле корня не имел. И вообще, он не знал, есть ли где люди из его рода или нет их. Был он, как здесь говорили, из чужбины, пришлый, но чужаком его не называли, как обычно бывает в таких случаях. Ефим появился в Гуде лет пятьдесят тому, да так и остался здесь, прижился, полюбил этот край, людей, обзавелся семьей.
До Гуды он, мальчишка, сирота, не знавший и не помнящий родителей, скитался по земле, водил от деревни к деревне старцев. Потом, как подрос, батрачил у богатых мужиков, учился всему, чему только могла научить жизнь.
Он все, что было с ним, хорошо помнил лет с шести-пяти. Именно в этом возрасте какая-то старуха отдала его в поводыри проходившим через деревню старцам. Но он не знал, что это была за старуха, какая деревня и что с ним произошло до того времени.
Он мог только представить: была это родная бабушка или далекая родственница, к которой он попал, потому что его родители рано умерли. Кое-как выходив его, она, горемычная, поняв, что ей дальше мальчонку не прокормить, отдала на спасенье, на «чужой кусок хлеба». А может, он рожден без отца, был подкидышем у чужих людей, или еще имелась какая-то причина тому, что Ефим не знал, кто его пустил на свет. Но как бы то ни было, он выжил среди чужих людей, немало повидал в жизни и с молодых лет усвоил, что одному человеку быть на этом свете нельзя.
Он знал свое имя — Ефимушка. Так его звали старцы, с которыми ходил по земле. Они, как он помнил, оберегали его, отдавали лучший кусок хлеба, накрывали в холод теплейшей тряпицей. Но однажды, когда после нескольких лет скитаний остановились в одной богадельне, старцы отдали его в работники какому-то богатому мужику, сказав, что пора ему выбиваться в люди, а их век близится к закату.
Он не помнил их лиц. Вернее, не помнил, чем различались лица тех трех стариков, которые и спасли его от голодной смерти, фактически вырастили. Позже, много лет спустя, когда вспоминал время своих скитаний, перед глазами словно наяву возникали трое согбенных жизненной тяжестью старцев с длинными белыми бородами.
Были эти старики зрячие. Это он помнит точно. Но не знает, что заставило их однажды сорваться со своих мест, где они жили, и пуститься в скитание по миру, такому непростому, часто жестокому, тому миру, в котором не всегда есть место жалости и сочувствию к обездоленному, миру, как ему тогда казалось, построенному на том, что сильный обязательно подминает под себя слабого.
Случалось, их травили собаками, били чем ни попадя, обзывая ворами и бродягами, показывали «от ворот поворот», в лучшем случае говаривали: «Ступайте с Богом», а то и отбирали последнюю корку хлеба.
Хотя чаще люди, сами бедняки, давали то, что могли дать: краюху хлеба, горсть крупы, несколько картофелин, лук.
Воспринимали их как обычное жизненное явление, без чего сама жизнь не может существовать, — в те времена на земле было немало скитальцев, и никого не интересовало, кто они, откуда: есть такое, и все тут. Это как дерево у дороги, валун в поле, тропка в лесу. Вот так она и течет — сама по себе, жизнь.
Но обычно после войн, неурожайных лет, каких-нибудь иных потрясений, разрушающих основы существования, прежде всего семьи, странников на земле становилось много. Тогда отношение к ним менялось из извечно христианского (подай ближнему) до инстинктивного — всех не накормишь, не согреешь — выжить бы самому.
Конечно, это отношение к горемычным не захватывает всех людей до единого, кого минет такая доля. Оно, неприятие обездоленных, накатывается постепенно, как вода в половодье, неся грязную пену, муть, при этом где- то за что-то цепляется, останавливается и через некоторое время медленно оседает на дно. Тогда все вокруг становится чистым, прозрачным, возрождается, чтобы засверкать первородным светом. Так и среди людей: после бед, вражды, отторжения сильными слабых и горемычных постепенно появляется сочувствие к ним, желание помочь, облегчить страдания.
Старцы, с которыми в детстве, наверное, лет до четырнадцати-пятнадцати ходил Ефим (кто его годы считал, если он и сам не знает года своего рождения), хоть и были на одно лицо, но каждый светился каким-то своим внутренним светом. Ефим это чувствовал: он, свет этот, такой разный, но все равно теплый, добрый. Не раз битые другими, изгоняемые из крестьянских подворьев, униженные до такой степени, что, казалось, как после всего этого можно чувствовать себя человеком, старцы каким-то непонятным, необъяснимым юному Ефиму образом оставались людьми, способными не оттолкнуть друг друга, не бросить на произвол судьбы его, мальчонку, и не держать на людей зла.
Иногда, размышляя над этим, Ефим понимал, что это великий человеческий дар, который дан далеко не каждому, хотя, впрочем, может, и не дар, а жизненное приобретение, своеобразное мужество.
Сам он, как считал, таким даром не обладал. Случалось, и нередко, обижал незаслуженно людей (а разве может быть заслуженной обида, да и кто кому дал такое право — обижать?). Был он зол на людей, которые жили не так, как он, и которые часто его обижали, как, между прочим, всю войну был зол на Иосифа и еще мало ли на кого, кто в его понимании поступал не так, как надо.
Конечно, Иосиф здесь стоял особняком: свой же, из одной деревни, весь как на ладони, тот, вместе с которым немало пота пролито на полях и лугах, немало соли съедено да из одной миски хлебано во время сева, сенокоса, жатвы.
Так что здесь ты, хотя и чужой ему, а многим связан — жизнь такова, что без связки с людьми — тебе в ней очень тяжело.
И сейчас, когда Ефим обнаружил, что Иосиф ушел из деревни, старый, беспомощный, да еще среди зимы, подумал, что если Кучинский и дотянет в одиночестве до весны, не упадет где-нибудь на дороге и если его не заметет метель, выживет, то, наверное, побредет по миру странником, просящим подаяние. Если такое случится, скорее всего, странствовать Иосиф будет не один — сейчас на горьких и пыльных дорогах родной земли много бездомных, искалеченных, отвергнутых жизнью. Вот только бы тот люд, которому посчастливилось выйти из этой страшной войны с наименьшими потерями, который при этом смог ничем не запятнать себя, не гнал бы прочь горемычных, страдальцев вроде Иосифа, подозревая их в несовершенных ими злодеяниях, считая виновными во всех людских бедах.
Сейчас еще трудно сразу, а порой и невозможно разобраться не только в людях, но и в самом себе, а уж быть судией всем и вся — грех.
Ефим к Богу обращался не часто. Разве что когда было очень тяжело, когда хотелось понять: почему, за что на него такая напасть, да нужно было самому себе уяснить, постыдный ли этот или тот его поступок. Хотя обращался он ко Всевышнему иногда и в молодые годы, так тогда по иным причинам.
В Гуду Ефим пришел не один, а с товарищем, таким же, как сам, бродягой, которого встретил однажды во время скитаний. Как-то сошлись, слово за слово — и тот одинок, шляется по людям как неприкаянный. Сговорились, решили, что вдвоем легче.
Как раз стояла зима. Хорошая, снежная, ядреная. В полях заботы крестьянину нет, рожь обмолочена, нанялись они к Федору Ругилевичу делать гонт. Тот ставил сруб, намеревался отделить от себя взрослого сына, рабочие руки хозяину были нужны.
Тогда еще прямой как столб, высокий, черный как смолье, Ефим нравился многим девчатам во всех местах, где ему только приходилось бывать.
Головы Ефим им не морочил, ни в какие серьезные отношения не вступал: кто он, без роду и племени, да без дома, хозяйства, без земли? Греха на душу не брал, помня высказывания одного старца, что чужие слезы, если ты в них виноват, тебе же и отольются, как и то, что рано или поздно твое добро, сделанное другому, возвратится. (Если так, почему тогда сам тот старец всю жизнь горемычничал?)
И здесь, в Гуде, Ефим девушкам приглянулся. Бывало, пойдет на вечерки, те глаз с него не сводят. Местные же кавалеры не раз собирались отметелить Ефима, но побаивались: его товарищ пустил молву, будто Ефим уже не один острог прошел, так что связываться с ним не надо.
Но тем не менее, несколько ночей подряд исчезал инструмент, который Ефим с товарищем оставляли под навесом. Как понимал Ефим, гуднянские парни хоть таким образом хотели показать пришлым, кто здесь свой, а кто нет.
Ефим и его товарищ несколько раз вынуждены были ездить в Дубосну на базар, чтобы купить там инструмент. Но однажды, когда вновь исчез топор, Ефим на вечерках сказал товарищу, чтобы все услышали:
— Игнатий, у нас с тобой опять инструмент увели. Но попомнишь мое слово: тот, кто это сделал, притянет его в зубах, да еще волком будет выть под окном у дяди Федора. Ты же знаешь, каким я словом страшным владею, сегодня же к утру на вора и напущу его. Вот тогда вся Гуда будет знать, кто это.
Почему он так сказал, и сам объяснить не мог. Наверное, на такое Ефима подтолкнуло то, что крестьяне в то время верили в Бога, а о всяких заговорах чего он только не наслушался от старцев.
Утром весь инструмент был на месте. И пошла тогда молва по деревне, что этот черный, Федоров работник, тайное слово знает. Молодые Иосифа зауважали, стали перед ним заискивать, а старики говорили, что от такого чародея надо держаться подальше.
А под весну зачастила к Федору его соседка, вдова, старая Авгинка. Она все о чем-то шепталась с Федором, вкрадчиво посматривая на Ефима. Однажды Авгинка нерешительно вошла в дом, постояла у порога, потом согнулась, робко подошла к нему, подала кошелку с яйцами, взмолилась:
— А дитятко ты мое!.. А мой ты батюшка!.. Не оттолкни старуху, не плюнь ей в глаза. Горе у меня неутешное, помоги! Сколько буду жить, столько за тебя буду Богу молится.
Старуха смотрела Ефиму в глаза, и он видел униженную, убитую горем, беспомощную женщину, которая, понял, ищет у него если не избавления от каких-то страданий, то сочувствия. И он, еще толком ничего не зная, начал ее утешать, говорить, что поможет, если ему это под силу.
— К доченьке моей хворь пристала, — прошепелявила беззубым ртом старуха. — Ей бы уже к выданью ладиться, а она вдруг начала увядать. Осенью пошла по грибы, возле Вылазов встретили ее какие-то мужики, к ней бросились, так она еле убежала, сутки в болоте хоронилась, домой пришла сама не своя. С тех пор всего боится, иной раз меня не признает. У кого я только помощи не просила, кто ей только воду не заговаривал, а сладу нет. Ой, горюшко, цвела девонька, а сейчас чахнет на глазах.
Впервые пожалел Ефим, что назвался знахарем. Поверили люди в его ложь, а это не к добру. Чем он мог помочь этой старухе, ее дочери, если сам пень пнем, безграмотный, и кроме силы, данной ему природой, ничего не имеет? Вот если бы тогда он случайно оказался там, в лесу, то, конечно же, положил бы тех выродков. Как сказать об этом старухе?.. Впрочем, какая она старуха, если у нее дочь на выданье? Пятьдесят, шестьдесят лет женщине, а выглядит на все семьдесят, а то и более. От нелегкой ли крестьянской жизни так состарилась, от горя ли к своему закату идет. Утешение ей нужно, сочувствие.
Ефим посмотрел на женщину и словно почувствовал, что у нее сейчас делается на душе: он — ее единственная и последняя надежда. И еще было у него такое чувство, будто какой-то слабый, самому непонятный луч тепла скользнул из его души, согрел старуху — по ее серому лицу словно пробежал отблеск света.
— Попробую, — сказал он тихо.
В свое время, скитаясь со старцами, Ефим слышал и от них, и от людей много чего таинственного и необъяснимого. Знал, видел, что от испуга, сглаза словом добрым люди людей лечат.
— Веди меня, мать, к дочке своей, — сказал Ефим.
— Веди, веди, — будто приказал ей Игнатий, слышавший их разговор. — Он хворь ее как рукой снимет. Уж я-то видел, инструмент вернули. Ефимово слово силу имеет, я тебе говорю!..
А через полгода встала на ноги Авгинкина Марфа. Вновь расцвела девушка, зарозовели ее щеки, возвратились к ней веселость и радость.
Нет, не лечил ее Ефим словом таинственным, особым. Не знал он такого слова. Его сразу, как только увидел девушку, пробрала какая-то непонятная дрожь, какой-то необъяснимый огонь вспыхнул в душе. Да так, что зашатался юноша и, чтобы не упасть, припечатал руку к дверному косяку, еле сдержался, чтобы не застонать, а про себя произнес: «Подыму ее, за собой поведу, никому не позволю над ней глумиться.»
Долго не отходил Ефим от девушки, говорил ей ласковые слова, какие только знал, и она через некоторое время как ото сна очнулась.
И никуда он ее не повел за собой — остался Ефим в подслеповатой Авгинкиной хате. Не примаком остался, а, как говорили люди, Марфиным хозяином и мужем. О его знахарстве постепенно забыли, так как Ефим больше не соглашался никого лечить. Но его зауважали: всегда помогал соседям по хозяйству, коли нужда такая была, никого зазря не обижал, был крут, но справедлив.
Работал Ефим, как и все крестьяне — и день, и ночь. Но в богатеи так и не вышел, а когда коллективизация началась, так тут он вместе с Иосифом — в числе первых.
Вспомнили люди о его знахарстве, а точнее, вспомнил Иосиф, когда началась война, когда отправляли на нее сыновей.
Ефимовы сыновья были похожи на отца — такие же высокие, темноволосые, сильные. Были они у него поздние: Марфа почему-то долго не могла понести. Думали, что им придется век доживать в одиночестве, а она почти в сорок первенцем забеременела, Ефиму тогда было пятьдесят.
Двоих родила ему Марфа, одного за другим. Началась война, годок-то их призывной. И пошли на фронт Никодим и Иван. И Стас с ними на войну шел.
Идя со всеми в район, Ефим остановился за деревней на мосту, стал на колени и, как будто загораживая сыновьям дорогу назад, остановил их, решительно перекрестил: «Пусть не тронет тебя, Никодим, и тебя, Иван, пуля. Пусть огонь и меч обойдут вас. Дети, благословляю вас на дело ратное. Так уж выпало на ваш век, что надо идти спасать землю, вместо того, чтобы бросить в ее зерна. И нет вам пути назад без победы».
Сыновья слушали отцовские наставления молча. Слушали его и мужчины, которые вместе с ними шли в военкомат. А было их много, вся деревня. Слышал это и Иосиф Кучинский. Он смотрел на Ефима с ужасом: неужто так можно о детях своих?
— С победой придем, отец, — сказал Никодим. — Иначе нам нельзя: наша земля здесь, все здесь наше. Знаем, не на погулянку идем.
И когда мужчины молча вновь зашагали по дороге, скрываясь в сухой горькой пыли, Иосифовы сыновья и Стас время от времени останавливались, поворачивали головы к деревне, будто понимая, что каждый должен ее запомнить такой, как есть, ибо потом, после войны она будет совсем иной. Иосиф тогда приподнял Ефима с колен, пересохшими губами произнес:
— Вставай, Ефимка.
Ефим встал. Но пошел не в деревню, а в райцентр, догоняя сыновей и мужчин.
13
Много раз за войну вспоминал Ефим тот день, когда проводил своих сыновей и гуднянских парней да мужчин на фронт, и свой разговор с Иосифом. Особенно часто вспоминал Иосифа, когда через некоторое время после оккупации в деревне объявился его Стас и спустя некоторое время надел на рукав полицейскую повязку.
И сразу же, а впрочем, с первого дня, как Стас стал полицаем, между Ефимом и Иосифом будто кто провел глубокую борозду и развел мужчин, некогда друживших, по ее разным сторонам. Сколько Иосиф ни пробовал поговорить с Ефимом, все никак не получалось. Ефим посматривал на него презрительно, и если, случалось, где-нибудь пересекались их дорожки, отворачивался. А Стасу вообще плевал вслед. А однажды, когда тот, будучи выпивши, попробовал схватить Ефима за воротник рубашки, ловко вывернулся и, глядя тому прямо в глаза, бросил:
— Тхорь, ты на меня лапы не распускай! Смотри, найдутся люди, вмиг укоротят. Понял?
Стас этого не ожидал, на мгновение растерялся, а потом снял винтовку с плеча, ткнул дулом в грудь Ефиму и, наливаясь кровью, по-бычьи выгнув толстую шею, бряцнул затвором.
— Ну?! — крикнул Ефим. — Отойди! Если еще не попробовал людской кровушки, так одумайся!.. Не поздно. Придет время, все тебе отзовется, сопляк!..
Ефим повернулся и, не озираясь, пошел к своей хате. А Стас все еще стоял посреди улицы, держа в руках винтовку. Его трясло.
На шум из хаты вышел Иосиф, увидел Стаса с винтовкой и удаляющегося по улице Ефима, подбежал к сыну, повис на руке:
— Ты что это надумал, а?
— Уйди прочь! — хрипел Стас. — Уйди, а то не посмотрю, что батька. Защитник нашелся. Да я.
Больше он не нашел, что сказать, резко забросил винтовку за плечо, повернулся и пошел в Борвицу, где стоял гарнизон, но через несколько шагов остановился, бросил:
— Ладно, сегодня я вас, дураков, помилую, ибо своего ума не вставишь. Поживите, просмотрите, что вокруг делается. Хорошенько посмотрите. Может, что-нибудь и поймете. Но еще раз случится такое — не ждите пощады!
Он взмахнул рукой, словно отрубил.
Вспоминал тот день Ефим и думал, что для таких, как Стас, нет ни Бога, ни человека, вообще нет ничего святого.
Помнил Ефим и то, что когда сожгли деревню, а он, вернувшись из леса, увидев пепелище вместо хат, черные печные трубы, беззвучно плакал, пытался отыскать свою Марфушку, и не нашел даже ее следа. Как и многих своих соседей и односельчан.
Вспоминал, потом обессиленно трясся, стонал, звал сыновей, будто вновь видел их перед собой, будто вновь говорил им: «.Благословляю вас на дело ратное. Надо идти спасать землю. И нет вам пути назад без победы.» И слышал в ответ: «С победой придем, отец. Наша земля здесь.»
А еще вспоминал это раньше, когда из окружения в деревню вернулся раненый Михей, в окошко не стучал, а вполголоса позвал:
— Дядя Ефим, а дядя Ефим! Выйди.
Когда Ефим вышел, Михей пояснил:
— Дядя Ефим, моя вина, что к фронту не пробился. Кори меня за это, но прочь не гони. Нет моей вины, что пуля подкосила. Только знай, своей винтовки я не бросил. Скажи, где мне сейчас искать людей с оружием, где?..
Ефим не стал разбираться в путаном объяснении односельчанина: в чем есть его вина, в чем нет. Пусть сам определит для себя, если уже не определил. Подумал, что неспроста именно к нему пришел Михей: дружил с его сыновьями — ладно, это хорошо. Мальчишкой, юношей слушался и его, Ефима — было. А может быть, пришел к нему потому, что и он, Михей, слышал его слова, сказанные сыновьям в напутствие... Как знать, да и не до расспросов сейчас. Сказал ему:
— Люди, Михеюшка, они везде есть. А тех, что тебе нужны, я знаю, где искать. А пока дома схоронись, подожди, окрепни.
Сжималось сердце у Ефима, огнем полыхало: может быть, сейчас вот так, как Михей, идут к родному дому его сыновья. Спросил:
— А моих не видел?
— Нет, дядя Ефим. Нас еще в районе разлучили. Их — в танкисты, меня — в пехоту. И вообще, разбросало наших кого куда, будто ветер развеял. Может, когда и соберемся, коль живы будем.
Через некоторое время Михеевы отец с матерью и Ефим провожали его в партизаны.
Хорошо помнил Ефим, как после освобождения вернулся с фронта Николай. Ковылял на деревянном протезе по пустой, сожженной деревне, плакал долго, стонал.
— Отвоевался, — сказал Ефим, обнимая его, когда тот немного успокоился.
— Там-то отвоевался, — ответил Николай. — А здесь что?
— А здесь сам видишь.
— Вижу. А твои-то парни как?
— Пока вестей не подают, — сказал Ефим. — Вот Михей, считай, с начала войны здесь.
— Это как? — удивился Николай.
— Окруженец он. Партизанил.
— Партизанил?
— Да раненый он пришел. И сейчас кашляет. Грудь прошибло. На нем вины нет. На других есть. С Михея какой спрос? — успокоил тогда его Ефим.
14
...Пока глаза привыкали к густой темноте, Ефим внимательно прислушивался к тому, что делается вокруг. Было слышно, как в сарае мекает коза, в лозняке за рекой время от времени глухо, как ветер, воет волк.
Ефим нащупал возле двери землянки железный прут, взял его в руку и, отвернув лицо от ветра — последнее время даже слабый ветер вышибает из глаз слезу, — заспешил к сараю. Он слышал, как в морозном воздухе разлетается слабое эхо его шагов.
Такие ночные походы к сараю, где лошади и коза, у Ефима — каждую ночь. Вроде никто его к такому делу и не приставил, а он все равно считает, что это его обязанность — смотреть, как там и что. Если месячно и безветренно, Ефим, придя сюда, убедившись, что все, как и должно быть — лошади и коза на месте, долго всматривается вокруг. Как привидения, зловеще поблескивая, бросая тяжелые тени, возвышаются над засыпанными снегом пепелищами ночные трубы. Огромной, таинственной кажется темная полоса дамбы. Молчаливые дубы, будто чугунные, стоят возле нее.
Такие ночи, когда все можно различить вокруг, Ефим не любил. Он, возвратясь в землянку, не мог спать такими ночами. Его угнетало одиночество и ощущение того, что он совершенно бессилен в этом огромном, так и непознанном им мире.
Сейчас, подходя к сараю, Ефим неторопливо достает из кармана ключ, открывает замок. Рядом с ним скрипит протезом Николай: сегодня почему-то и ему не спится. Мысли какие-то тревожат или просто тянет посмотреть, как хозяйство, Ефим не спрашивает.
С улицы в сарай, шелестя остатками соломы по углам, влетает ветер. В стойле фыркают лошади.
Ефим закрывает дверь, нащупывает в кармане коробок спичек, зажигает старый фонарь. Слабый свет высвечивает кругляк у стены, хомуты, упряжь, подвешенные на гвоздях, сдвигает в углы тьму, из изгороди вытягиваются длинные лошадиные морды, по стенам скользят тени.
Ефим по деревянной жердяной лестнице поднимается на сеновал, там он берет сено, прижимая к себе, осторожно ощупывает ногами лестницу, спускается вниз, бросает корм лошадям, рассуждает:
— Весной будет легче. С дамбы сойдет снег, там раньше, чем где, появляется трава, смотришь, заживем. А сейчас, вишь, мох со стен повыскубали.
Николай слушает Ефима, соглашается с ним. Поговорив, они возвращаются к землянкам. Там они молча расходятся — каждый направляется к своей.
15
На исходе зимы Ефим, Николай и Михей, управившись с сеном, начали таскать из леса бревна, которые заготовили ранее.
Сосна была хорошая, не переспелая. «Само то, что надо на сруб», — говорил Ефим, когда мужчины по бревнышку, комлем, втягивали на сани.
Одни бревна, по длине хаты, резали на семь шагов, другие, по ширине, на пять. Такого размера, как задумали мужчины, должна быть хата: большая Кате с одним ребенком пока и не нужна. Да и лошади, хотя и запряженные в парку, больше не потянут. Размышляли и так: потом уже, когда окрепнем, когда вернутся с войны мужики, когда хозяйство прочно на ноги станет да более-менее отстроится Гуда, к Катиной хате приладим трехстенок.
Стояли ясные безветренные дни с чистым голубым пологом неба, с солнцем, которое с каждым днем ходило по нему все выше и выше и к полудню становилось по-весеннему ярким.
Снег быстро посинел, затем покрылся серым цветом, будто посыпанный пеплом, стал ноздреватым, осел на дороге, и когда станешь на него на целине, под обувью уже выступает вода.
Сполз с деревьев иней. Они сбросили с себя черноту, убрались в коричневое, посветлели придорожные березки.
Днем уже хорошо пахло весной, свежим ветром, приносящим из леса запахи сосны и ели. А вот дубы все еще стояли черными, на их ветвях сухо трепетала не опавшая на зиму листва.
В деревне чувствовалась жизнь: лаяла, заливалась, почти не переставая, собака, мекала коза, ржали лошади, горлопанили чудом уцелевшие петухи, шумели Валик и Светка, женщины выходили к реке полоскать в прорубях белье.
Сползла постепенно и наледь с окон хаты Иосифа Кучинского. Иосиф, возвратившись из города, так и не осмелился выйти к людям. Он по-прежнему сторонился их. Если ему нужно было сходить к колодцу за водой или принести из-под навеса дрова, он сначала смотрел через окошко на улицу, нет ли там кого.
Иосиф жил прежней жизнью, понимая, что никто его не ждет, что никому он не нужен.
Утром видел Иосиф, как мужчины ехали за бревнами, разговорчивые, кажется, даже повеселевшие. Днями он слонялся по хате без дела, а ближе к вечеру вновь садился у окна, смотрел на дорогу. Сначала возле левого берега реки появлялась красная дуга, она то опускалась в низинку, то поднималась над ней, покачивалась равномерно, затем плыла над гребнем дамбы, а в том месте, где дамба огибала деревню, из-за насыпи показывались головы лошадей. И вот уже наступал тот час, когда появлялись сани с бревном. За санями, подталкивая их, шли мужчины. Когда они проходили мимо Иосифовой хаты, он видел, что лица у них утомленные, обветренные.
Часто именно здесь, напротив его хаты, к саням подбегали Валик и Светка, рядом с ними прыгала, заходилась в радостном лае собака.
Потом, когда лошади направлялись к Катиному подворью, из землянки выходила хозяйка. Ступала она, как замечал Иосиф, осторожно. Было хорошо заметно, что женщина беременна.
Катя выносила деревянное небольшое ведрышко и кружку. Мужчины по очереди долго пили.
Иосиф с интересом смотрел на Катю. Живот у нее острый (а может, ему так казалось, попробуй рассмотри отсюда, да еще если он скрыт ватником), как был некогда у его жены, когда ходила беременная Стасом. Молода, как и Катя, была тогда его Мария. Это он, Иосиф, долго после Теклиной измены холостяковал, девчат и женщин сторонился, пока с ней не сошелся. Как знать, не она ли, Мария, его, бобыля, тогда выбрала. Может, родители посоветовали, а может, сама: есть в селе мужик ничейный. Вот и сложилось так, что Стас у него поздний, да и у Ефима сыновья поздние, считай, ровестники. Но давно уже нет Марии, и Теклюшки нет: раскулачили ее семью, сослали. Может, там, где-то на чужбине, убереглась она, а может, и нет — кто знает.
Сейчас, глядя на Катю, он думал, что у нее обязательно будет мальчик: старухи всегда определяли, кто должен родиться, — если острый живот, то мальчонка, если круглый — девочка.
Конечно, мальчик будет похож на Петра. А как же?
Думал Иосиф и о том, что когда-нибудь, если ему еще отпущено пожить на этом свете лет этак десяток, однажды пересекутся их дороги: сынишки Петра да Кати и его. Думал и почему-то не боялся того момента, а наоборот, успокаивал себя в ожидании, представляя эту встречу, ибо она будет очень нужна Иосифу. Он должен знать на остаток своих дней, кем ляжет в землю: отщепенцем, отцом предателя или человеком, который ни в чем не виноват перед людьми.
Мужчины, Ефим и Михей, скатывали бревно с саней. Николай, прихрамывая, топтался чуть в отдалении, чтобы не мешать.
А еще позже, через несколько дней, Иосиф видел, как мелькают, поблескивают отточенной сталью в руках мужчин топоры, как из-под острых лезвий летят по сторонам щепки.
Иосиф представлял, как там, на площадке, сейчас пахнет смолой и с каким желанием работают мужчины.
Тогда что-то щемяще-сладкое подступало к сердцу, кружило голову, казалось, руки начинали чувствовать топорище, его отполированную поверхность, тепло дерева. Рукам нужно было дело. Но.
Время шло. Мелькали дни, постепенно рос сруб, венец ложился на венец. С каждым днем все выше и выше ходило по небу солнце, все дальше и дальше отодвигался серый горизонт.
16
В начале апреля весна пробудилась по-настоящему. Весь март снег еще держался — ночи были холодными, и зима отступала неохотно. Вечерами хорошо подмораживало, случалось, мороз крепчал и покрывал льдом все, что успевало растаять за день. В апреле же как-то сразу все вокруг переменилось.
Солнце стало ласковым. Побежали к реке ручьи. Вокруг все поплыло. Ветер хотя и озорничал, но уже не нес того холода, который ранее колол лицо, руки. Зашевелились, словно пробудились ото сна, веточки сирени, доверчиво потянулись к солнцу. А вскоре прилетели скворцы и плыли несколько дней подряд по небесной синеве в демковские болота журавли.
А еще через некоторое время над Гудой закружил аист.
До начала войны у деревни на старом дубе возле дамбы было его гнездо. Аисты каждое лето ходили по лугу возле реки, выводили птенцов, учили их летать, чтобы осенью увести от здешних морозов в далекие теплые края, а весной привести назад, на эту землю, где родились.
Перед войной женщины, рвавшие щавель возле дуба, принесли весть, что аисты сбросили одного птенца.
В мире было неспокойно, и старики говорили, что это (выброшенный из гнезда птенец) плохая примета, хотя люди и без того жили в тревоге: если война идет по земле, она непременно докатится и сюда. Говорили шепотом, поглядывая по сторонам: за такие разговоры можно сгинуть где-нибудь в Сибири.
Жили здесь аисты и в войну. Казалось, она должна была обойти их, этих святых птиц. Но нет, когда горела Гуда, птицы всполошились, покинули свое гнездо, долго высоко кружили в небе над деревней, потом улетели. И сейчас никто не помнил, да и не знал, не видел, к тому времени птенцы уже умели летать или нет, и что с ними стало. Ефим тогда видел в задымленном небе только двух птиц.
Сейчас аист прилетел один. Может быть, он был из той пары, которая тогда жила здесь: прилетел посмотреть, что и как, чтобы потом привести подругу, ждавшую (так всем хотелось) где-то его. А может, это была иная, чужая, нездешняя птица, которая искала людей, чтобы поселиться рядом с ними: ведь аисты всегда ладили гнездо рядом с человеком. И сейчас люди хотели, чтобы эта птица вернулась к ним. Особенно хотелось этого детям: Валику и Свете. Они бегали по улице, махали руками, кричали:
— Аист, аист, лети сюда!.. Обойдет тебя беда.
Кто научил их этим немудреным словам, люди не знали, но глядя на детей, слушая, как они зовут аиста, улыбались. Это были редкие улыбки, непринужденные, греющие душу, пробуждающие в людях человеческое, освещающие огрубевшие лица.
Но как дети ни звали аиста, он так и не сел в старое гнездо (может быть, чужое для него), не махая крыльями, уплыл по голубому небу куда-то в сторону Забродья.
...Лошади, когда Ефим снял с них упряжь, поняли, что после тяжелой работы им дают волю, стригли ушами и, помахивая хвостами, зашлепали копытами по раскисшей дороге. Ефим вел их на пастбище.
Сегодня мужчины не возводили сруб, они будто спохватились, что скоро нужно будет ставить перекрытие, с утра съездили в лес за жердями. Намучились вдоволь. Местами кони шли сами — дорога раскисла — местами же мужчины подталкивали колеса, но все же привезли два воза жердей. Прикинули, что этого хватит на кровлю и еще останется. А что останется — не пропадет, деревню надо отстраивать.
А сруб они возвели хороший, уже до половины окон. Катя попросила, чтобы хата была без глухой стены. Чтобы в ней весь день было светло: как встало солнце, так и заглянуло в окошко, и в полдень там, и чтобы последний луч, как оно к закату скатится, в избе засыпал. И вот сейчас сруб желтел гладкой сосной, радовал глаз.
Сегодня впервые Ефим вел лошадей на весеннюю зелень. Вел на дамбу. Когда были в лесу, заметил, что местами уже хорошо зеленеет разнотравье, особенно там, где выше, суше.
Лошади вышли из зимы не сытыми, но и не доходягами: сумели сохранить их мужики, экономя, сена хватило до сегодняшнего дня, и еще немного осталось.
И вот первый раз лошади на пастбище, на воле. А воля коню, пусть и со слабым кормом, нужна!..
Отсюда, из деревни, было хорошо видно, как за мостом возле дамбы острые льдины режут берег, крошатся, ударяясь в камни, как пенится темная вода, затопившая с той стороны луг и подбирающаяся к демковскому лесу.
Вода на том берегу поглотила дороги: и сейчас к райцентру ни пройти ни проехать. И так будет почти до самого лета, пока река, нагулявшись вволю по дорогам, лугам, перелескам, устанет, успокоится, войдет в берега. И если бы не дамба, сейчас река гуляла бы по деревне, захлестнув землянки, затопив подворье Иосифа, и может быть, забралась бы и в хату. А вот до колхозного сарая, в котором стоят кони, вряд ли добежала бы: мужчины собрали его на погорке.
«Скажи ты, — размышлял сам с собой Ефим, — реке уже пора очиститься от льдин, а они все неизвестно откуда плывут и плывут. Да, большая нынче вода, для многих деревень, стоящих на реке, весна будет тяжелая, так что, спасибо военным, у нас дамба есть, нам легче.»
Солнце спускалось к горизонту, к гребню леса, но не демковского, откуда встает, а гридецкого, лежащего выше, на западе. Там бор. Настоящий. Там уже иные хозяева, не гуднянцы и забродцы, а гридецкие и стрижевские, да земленикские. Эти три деревни находятся в лесной глуши, далеко от Гуды, но близко одна от одной. Там уже чужой, иной район. Тамошний люд сюда редко наведывается, разве что случайно. Но и эти лесные деревни фашисты не пощадили, сожгли.
Ефим посмотрел на солнце. Сейчас оно не слепило, как утром, было хотя и красное, но будто потянуто синеватой пленкой. Зеленовато-розовое чистое небо подсказывало ему, что ночью возьмется морозец. Ко всему, деревья возле дамбы почернели, словно не было днем их коричневого свечения. Их густо облепили грачи, они беспрестанно кричали, заглушая все окрест. Дубы бросали на землю длинные тени, местами пересыпанные холодными блестками росы. Повевало холодком.
Ефим повел лошадей к дамбе. Остановился. Осмотрел все вокруг, прищурил глаза. Ему представилось лето, луга в разноцветьи, те луга у реки, куда он ведет лошадей в ночное, небольшой костерок на берегу, соловьиное пение.
Сколько за свою жизнь, работая в молодые годы на богатых, а потом, как остановился в Гуде, уже будучи сам себе хозяином, затем в колхозе водил он лошадей в ночное!.. И всегда у него было такое ощущение, будто душой прикасался к неразгаданной тайне вольности и бесконечности мира!.. В небе светится Млечный Путь, мерцают мириады звезд, иногда какая- нибудь сорвется да покатится золотым шариком по темному полотну, оставляя на нем огненную дугу. И фыркают лошади, время от времени стучат подковами о камни в траве. И шумит река, ее темная лента дрожит посреди желтой лунной дорожкой. Чарующе, неповторимо. В такие минуты, когда вдруг забываешь все былое, хорошо на душе. И жизнь кажется прекрасной, бесконечной, и ощущение такое, что ты сам вечный, как вечна земля. Но это так только на время.
Ефим спутал лошадей, погладил их по шеям, посмотрел, где суше, там травка хорошо взялась, уже колышется, дышит.
Лошади поскакали поближе к кустам, к реке — там трава повыше, гуще: туда так туда.
Ефим не спеша скрутил самокрутку, с наслаждением выкурил ее, посмотрел на грачей: кричат, наверное, что-то рассказывают друг другу, кто знает.
Он еще постоял немного, повернулся и пошел к деревне. Под ногами хрустел тоненький, словно паутинка, ледок, дорога подмерзала, и мокрые ноги в растоптанных сапогах начинали мерзнуть.
Отсюда, с дамбы, удерживающей в своей подкове кипящую, в обломках льдин, воду, Гуда была хорошо видна. На фоне темно-синего неба в рыжих потоках, чернея, отражались столбы печных труб, за ними — серые низкие насыпи землянок. Хата же Иосифа Кучинского горбилась на отшибе, ее окна уже не блестели, лучи скользили мимо них. В стороне от нее желтели бревна Катиного сруба.
Над землянками чуть поколыхивались тонкие, снизу сизые, а кверху золотистые ленты дыма. А вот из трубы Иосифовой хаты дым не шел.
«Смотри ты, — подумал Ефим, — как рано ложится спать. Может, днем что варит, когда мы делом заняты. Пусть варит, нам-то варить нечего, разве что вот-вот щавелек пойдет.»
...Вдруг Ефима что-то сильно толкнуло в спину, сорвало с головы шапку, покатило ее по дороге. В то же мгновение обожгло шею, перехватило дыхание, будто переломав Ефима посредине, бросило на землю, сдирая кожу с рук, потянуло по чему-то шершавому, как рашпиль.
А еще через мгновение он услышал взрыв. Перевернувшись лицом вверх, Ефим увидел в черной синеве комья земли, осколки деревьев, разорванные кусты, — все это медленно расползалось в вышине и, застыв там на минуту, устремилось на землю.
Воздух звенел.
Ефиму казалось, что в этом пронизывающем все тело звоне он слышит ржание лошадей: оно то наплывает, то уплывает, и эхо его теряется где-то далеко-далеко. Через какое-то время (минута, две, три. мгновенье?) звуки исчезли, и тяжелая тишина, волны горячего спрессованного воздуха обожгли его лицо, руки, горло, словно Ефима пригвоздили к холодной земле. И Ефим, щуря глаза от страха, все же нашел силы, приподнял голову, посмотрел туда, откуда все это.
Дамба.
Дамба исчезла. Исчезли лошади, деревья, грачи, и только дым развевался над вспененной, высокой, в человеческий рост волной, катившейся на него. Волна была еще далеко, и Ефим успел подумать, что здесь, у деревни, она ослабнет, осядет, расползется по сторонам, не успеет смять его, смыть.
Он, неимоверными усилиями преодолевая слабость и боль, оттолкнулся окровавленными руками от земли, встал, повернулся и посмотрел в сторону деревни. А оттуда, спотыкаясь, бежали к нему Николай и Михей. Вернее, бежал Михей, а позади, изрядно отставая от него, скакал на деревянной ноге Николай. И Ефим решил, что волна не осядет, не расползется, а наоборот, с каждым мгновением будет расти и накроет, унесет мужчин. Он замахал им руками, бросился навстречу, чтобы остановить их, уберечь от беды.
Он кричал, чтобы они бежали назад, подняли Катю, детишек, уводили их на погорок, к сараю. Ефим кричал и не слышал своего голоса. И когда волна возле деревни догнала его и сильно толкнула под колени — до мужчин было еще метров сто — он, устояв, повернулся к реке и, убедившись, что дамбы действительно нет, простонал:
— Кони!..
17
Иосиф уже дремал, как услышал глухой гул, а через мгновение его тряхнуло, будто в кровати отвалились ножки, зазвенели стекла в окнах, с потолка посыпалась пыль.
Ничего не понимая, он соскочил с постели. Вокруг все дрожало, было такое ощущение, будто где-то за деревней, у реки стреляют из множества орудий и эхо выстрелов катится по земле.
На улице что-то звучно падало в грязь, трещали жерди забора, слышались невнятные крики, жутко и глухо выла собака.
Через несколько минут гул утих, но на улице по-прежнему что-то трещало, рядом с его хатой послышались людские голоса. Иосиф бросился к окну. В это мгновение треснула оконная рама, разлетелось вдребезги стекло, лицо обожгли холодные брызги воды.
Иосиф с трудом удержался на ногах, отпрянул назад, ожидая, что сейчас вода захлестнет хату. Но холодная волна откатилась. Он увидел в полумраке, как она уносит раму, похожую на крест, увидел людей, убегающих от нее по направлению к сараю, стоящему на погорке на том конце деревни.
«Паводок!» — мелькнула мысль. В это мгновение он не подумал, что есть дамба, которая должна защитить деревню от паводка, но тут же ужаснулся, вспомнив, что еще никогда река так сильно не разливалась. Значит, дамба.
И тогда Иосиф, будто это происходило вчера, увидел, как на дамбе, покрытой поздним разноцветьем, ползают немцы. Значит, отступая, они ее заминировали. Он видел их на дамбе, видел один из гуднянцев, ибо мужчины, Катя, ее соседка и детишки находились в лесу, и ничего тогда не понял.
И как это никто не догадался, что дамба, эта земляная насыпь, заминирована? Зачем? Это же не мост, да и деревни, если уж так, нет: разве что его хата да несколько землянок.
Иосиф почувствовал, что стоит в воде и что ноги обжигает холод. «Хлеб!» — мелькнуло в его голове. Иосиф инстинктивно бросился в сени. Увидел, что фанерные двери в кладовую сорваны с одной петли и, перекосившись, висят на другой. Он вошел в кладовую. Там тоже плескалась вода, доходила почти до колена. Иосиф глянул на тяжелую полку у стены, приделанную на высоте чуть выше колен. Мешок зерна лежал там, на месте. Он поднял его, сделал шаг к высоким, в пояс, жерновам, с огромным усилием поставил зерно на них. Затем, вытирая пот со лба, облегченно вздохнул: «Успел».
Иосиф знал (так всегда было ранее), что через день-другой паводок загонит его на чердак. Он станет там жить, перетянув туда постельное тряпье, нехитрые съестные запасы и, естественно, это зерно. Потом он будет днями сидеть на пологом покрытии сеней, наблюдать за тем, что делается вокруг, ждать, когда вода начнет убывать. А уходить она начнет постепенно. Сначала отступит от стены сарая, надолго оставив на ней свою темную отметину — ровную полосу, словно проведенную огромной кистью. Потом отступит от навеса, опустив на землю наверняка поднятую сейчас там лодку, надежно привязанную, затем уйдет со двора, унеся с собой мусор, доски, дрова, если, конечно, их не прибрать с осени повыше в поленницу. И наконец, вычистит подножья куста сирени от прошлогодней листвы и прочего хлама, войдет в луга, чтобы, побродив там, поколобродив, вернуться в речное русло. Тогда сейчас близкий горизонт отодвинется дальше, за лес, все вокруг вспыхнет мягкой зеленью, засияют слепящей пушистой желтизной приречные вербы. Небо тоже, как и земля, изменит свой цвет: голубизна его, сейчас вязкая, словно затвердеет, поднимется выше.
Все это произойдет не сразу, но ты все равно каждый день будешь замечать изменения, происходящие в природе, радоваться им. Ты увидишь, как постепенно возвращается к прежней жизни деревня. Будешь переговариваться с соседями, тоже сидящими на крышах сеней, и время от времени станешь, спускаясь вниз, садиться в лодку. Ты всегда весной привязываешь ее на длинной цепи к балке покрытия сеней (это сейчас она под навесом), вода поднимает твой корабль и, отвязав, начнешь плавать по деревне от дома к дому — мало ли кому нужно чем-то помочь, что-то подсказать: ты же здесь, если не считать Ефима, самый пожилой человек и довольно опытный в житейских делах.
Ты будешь помогать сельчанам, а они — тебе, и у вас найдется много общих самых разных забот, дел, и вы сблизитесь на все это время, как, впрочем, происходило всегда в такие времена, когда одна общая беда одинаково касалась всех.
Да, это было — из иных времен жизни деревни, не таких, как сейчас. И если нынче обо всем этом думаешь как о том, что так и будет, — то зря. Тогда, когда все так и случалось, в Гуде жило много разных семей. И людей тогда здесь много жило «от мала до велика». Груднички, школьники, женихи, невесты, родители, бабушки, дедушки.
В то время, кажется, люди терпимее и добрее относились друг к другу. Сейчас нет деревни как таковой. Нет многих и многих людей, а терпимость и доброта тех, кто остался в живых, унесло пламя — следа не отыскать, эха не услышать. И новый паводок уже не сблизит его с этими гуднянцами. Между ними и Иосифом — дамба. И не такая, как была эта, которую можно разрушить, изничтожить, вновь возвести, а нерукотворная, неподвластная никакой силе, а только теплу или холоду людских сердец.
Иосиф сейчас боялся (раньше такого страха он не ощущал), что паводок загонит его на чердак. А там ты перед людьми, собравшимися на сарае на том конце деревни, — как на ладони, как бельмо в глазу. Он знал, понимал, что именно там, в колхозном сарае, стоящем на погорке, его односельчане и будут пережидать ненастье.
Сейчас Иосиф отошел от своеобразного шока, вызванного неожиданностью. Как следует поразмыслив, определив, что вода прибывает уже не так стремительно — простор ей большой: от леса до леса, — он немного успокоился. Да и успел сделать самое главное: зерно спас.
Отдышавшись, Иосиф осмотрелся. Увидел лесенку у стены, приставленную к потолку, к лазу в потолке. Этот лаз перед войной он заколотил досками накрест.
Когда-то, до того как насыпали дамбу, лаз был нужен, а как появилась дамба — нет. И заколотил он его не только за ненадобностью, но еще и потому, что иногда думал: вот отлучусь из дома, кто-то через крышу заберется в хату. Впрочем, о том, что в твое жилье может забраться чужой, раньше не думалось, но незадолго до войны, когда военные проводили здесь маневры, вдруг пошли разные разговоры о каких-то нарушителях, шпионах, диверсантах.
Иосиф в темноте нашел топор на лавке, стал на лесенку, оторвал доски, отбросил лаз. Потом босыми ногами, не обращая внимания на холод, захлюпал в хату. Там в печурке нащупал коробок спичек — драгоценность неимоверную. Там же находился и полотняный мешочек с кремнем. Это добро всегда лежало у него там на случай, если спички отсыреют. Затем взял свечу под образами, зажег ее.
Желтый язычок слабого пламени всколыхнул вокруг тьму, потом, набравшись силы, отбросил ее по углам, толкал ее туда, задрожал на воде.
В первую минуту Иосиф почти с облегчением вздохнул, увидев, как по хате, словно живая, задвигалась его тень. Но вскоре опешил: тень будто влипла в рамку с фотографиями, что висела на стене, найдя себе место рядом с Марииным изображением, с пятном, где когда-то был Стас.
В то же мгновение Иосиф услышал, как затрещала свеча, язычок ее пламени затрепетал, будто на ветру, и казалось, еще мгновение — она погаснет.
Иосифа охватил ужас: он вспомнил, как еще в его далеком детстве старухи говорили, если заженная свеча трещит, а пламя в безветрие мечется по сторонам, значит, вокруг то, что не видно человеческому взгляду. И оно — нечистое.
Он понял, что это за «нечистое». Уяснил, откуда оно. Понял, кто носил его в себе. Ужаснулся: оно все время окружало его, Иосифа, шло рядом с ним много лет, угнетало, звало к себе. Он подсознательно пытался уйти от этой чертовщины, да тщетно. И вот сейчас.
Иосиф перекрестился, повернулся, намереваясь выйти из хаты, но в стену ударила новая волна. Стена задрожала, с нее сорвалась, упала в воду рамка с фотографиями. С минуту она держалась на поверхности, потом в мгновение исчезла в темной воде, глухо ударилась о пол.
«Ну вот, Мария, тебя уже совсем нет, — слабо прошептал он. — Эх, как нас жизнь скрутила. А любил же я другую. И ты любила другого. И жизни наши могли иначе сложиться, в радость: и твоя, и моя. Только, что ни говори, уже ничего не изменить, не исправить, разве что в мыслях...»
Текля. Долго он присматривался к ней. Ее образ сжигал его, следовал за ним неотступно всегда и везде, пленил.
Большие васильковые глаза, длинные, ниже пояса, косы, гибкий стан. И если, случалось, глаза их встречались — сердце у Иосифа замирало.
До последнего вздоха не забудет, как осмелился подойти к ней, как в Демках вместе с Ефимом косили Бонафацию Юхновцу. Тогда Текля вместе с женщинами подсобляла старому Юхновцу управляться по хозяйству.
— Ты чего это меня сторонишься? Кусаюсь, что ли? — спросила она тогда.
— А я и не сторонюсь, — сгорая от непонятного чувства, сказал он. — Работы много, некогда присматриваться.
Он помолчал, потом осмелел:
— Давай вечером погуляем.
— Давай, — согласилась она.
А вскоре люди начали говорить, что они «любятся». Хорошо говорили, предвидя осеннюю свадьбу: тогда в деревне женились, управившись с работами. Да, видимо, сглазили.
Как-то жито жали. Бабы слух пустили: в снопах в срамном виде невзначай заспели Теклюшку и Бонафациевого Авдея. Бросился Иосиф к Авдею, а тот осадил его: «Убью, не трожь. Сейчас она моя, на ней мой знак оставлен.»
Так и разошлись их с Теклей пути-дороги. Правда, однажды вновь переплелись, и, наверное, Иосиф имел возможность стать счастливым, соединиться с Теклей, но.
...Гладкие, сытые кони Авдея Юхновца под звон бубенцов несли свадьбу из Демков в Дубосну, в церковь, венчать молодых. Из-под копыт разлетались комья мокрого снега. Слышалось: «Гони! Гони!..» Иосиф и еще трое гуднянцев, его одногодков (их нет уже в живых, сгинули в войну) по обычаю как раз у реки перегородили свадьбе дорогу жердями — как говорили в деревне, «бросили зайца». (Парни хотели получить водку, Иосиф же согласился идти с ними по известной причине — Теклю напоследок увидеть.)
Дорога спускалась с погорка, вдоль небольшого ельника, и как раз у моста сани разгонялись. Вот здесь и вздыбились кони, заржали: возницы осадили их.
Из переднего возка вылетел Авдей, словно столб, протянулся по снегу, заорал как резаный:
— Бей голытьбу!.. Вишь, Авдеевой водки захотелось!..
Повыскакивали из саней Авдеевы дружбаки, били гуднянцев и Иосифа как только могли: ногами, руками, нагайками, потом окровавленных бросили на снегу.
А Иосифу тогда (почудилось или это было на самом деле) послышался ее голос:
— Что же они с тобой сделали, изверги?..
И еще Авдеев:
— Назад, сука!.. Обоих порешу!..
Наверное, почудилось. Еще бы: Текля вытирает его окровавленное лицо белым платочком да шепчет: «Слово молви, с тобой останусь. Нелюб он мне, силой тогда в снопы утащил.»
Не сказал тогда слова Иосиф, то ли избитый не мог его молвить, то ли обида жгла.
Ушла Текля. Авдей все же «смилостивился» над избитыми в горькое яблоко парнями — бросил им водки.
А еще говорили потом, что прежде чем парни перегородили дорогу, Иосиф поперек нее лег. Нет, не помнит он такого.
А если и случилось все так, как говорили, то сам виноват, что не сказал тогда Текле того единственного слова, которое должен был сказать, чтобы по-иному пошла его жизнь. Не сделал одного-единственного шага, который мог изменить его судьбу. Как, впрочем, и потом много уже раз в иных обстоятельствах не смог сказать, сделать того, что следовало сказать, сделать, чтобы жить по-иному — радостно и счастливо. Значит, судьба его такова, неподвластна она ему: не мог, не может он ее изменить.
Значит, всю жизнь окружали и окружают его не те силы, как иных людей, не тем путем он шел, каким надо было идти. Вот и сейчас свеча трещит, как бы подтверждая это. Так что уже ничего не изменишь, если до сих пор не смог изменить. Да и надо ли?
Остановившись на этой мысли, Иосиф понял, что жалеет себя. Он сожалеет, что его жизнь не получилась, что он многим обделен судьбой неизвестно почему и за что. Он вроде и пытался что-то изменить в ней, но не получалось: то ли нерешительно это делал, то ли боялся, что перемены ни к чему лучшему не приведут. А может, потому, что все время и везде — один, ожидая от кого- то понимания и сочувствия, и при этом все больше и больше жалел себя.
Так вот почему, стремясь к людям, он так и не пришел к ним!.. Жалость к себе мешала, обиду на них таил, дескать, не хотите понять, как мне тяжело одному со своим горем. Не разумел, что у других горе еще похлеще твоего, что иным горше, чем тебе. Вот и сбились они, «другие», сейчас маленькой горсточкой на чердаке сарая, ждут, а что дальше. А что дальше — одному Богу известно, ведь помощи им ждать неоткуда, да и кто поможет, если одни они на целом свете. Впрочем, одни-то одни, но вместе, а вот он один как перст, и быть ему одному до последнего часа своего. А час тот, наверное, не так уж и далек: прикинь по годам, жизнь-то, выходит, прожита. Но как, с кем?.. С людьми ли?..
Если подумать, он все время уходил от них, сторонился их. Жил, вроде стесняясь людей. Ведь они, счастливые и беззаботные, а он. И стыдно ему, что он не такой, что Теклюшку позволил увести, что Марию, молодую, пожилой взял неизвестно почему, что родители ее нелюдьми слыли, что Стас таким уродился, что никогда он, Иосиф, не поступил так, как надобно было именно ему, а не кому-то иному.
Стыдясь, уходил прочь от людей. А может, все это время он уходил от самого себя?..
Иосифу от этой мысли стало совсем плохо, но он уже не мог остановиться, она вытаскивала другие, требовала обоснования, заставляла до конца понять свое душевное состояние.
Да, он никогда не думал, что от себя нельзя убежать. Выходит, он должен страдать, и, наверное, как когда-то в старину говорили набожные люди, ссылаясь на Библию, страдания облегчают душу. Но он в Бога давно не верит и, наверное, никогда не верил. Ефим говорил как-то: «Среди людей живем, перед ними и ответ держать будем.» Правду говорил. Среди людей. только, опять же, среди них ли жизнь его протекла? Нет, вдали от них. Скользнула в стороне, случалось, иной раз выходила к людям, как к свету, а свет тот обжигал его, и вновь Иосиф уходил в сторону, в тень. А там, в стороне, в тени, в одиночестве, он почему-то ощущал себя легче и спокойнее. Во всяком случае, раньше ему так казалось.
И вот сейчас Иосиф должен прийти к ним, к людям.
На дворе уже совсем стемнело. Через проем окна в хату врывался колючий холодный ветер. В темном небе слабо мерцали звезды. Их отражение покачивалось на черной воде. От его хаты туда, где сарай, где люди, бежала, ломаясь, желтая лунная дорожка.
18
...Когда мужчины прибежали к Ефиму, а он к ним, вода уже доходила выше колен. Николай и Михей подхватили старика под руки, боясь, что он упадет. Ефим же, отдышавшись, обессиленно молвил:
— Лошадей погубил.
— Не ты, война, — сказал Николай. — Заминировали, сволочи, дамбу, а мы и не подумали об этом. Никто не подумал, что может произойти такое, не проверил. Мост проверили, на том и купились. Так что, дядя Ефим, не убивайся, не вини себя. Твоей вины в этом нет. Кто же мог подумать, что наша деревня даже одной избой немцу страшна?.. Успокойся да подумай о том, что могло случиться, если бы детишки с тобой лошадей погнали.
— Я — ничего. Я один.
Ефим не договорил, умолк.
— Пошли, — сказал Михей. — Нужно спешить. Вода прибывает, видимо, размывает дамбу, смотри, к утру вся сюда хлынет. Все затопит вокруг, сметет. А у нас — ни лодчонки. Разве что у него, — Михей кивнул в сторону Иосифовой хаты, — да и то, если не снесло ее: видел, стояла под навесом.
— К сараю идем, — сказал Николай, — там соберемся, решим, что делать дальше. Да и женщины с детишками как раз там находились, когда рвануло, управлялись с козой, стойла чистили.
— Ну слава Богу, — перекрестился Ефим.
Поддерживая друг друга, они, втроем, двинулись к сараю на погорке, возле которого стояли, прижавшись друг к другу, две женщины и двое детишек.
Мужчины шли, а вода все прибывала: она толкала их под колени, обжигала холодом.
Когда подошли к женщинам и детишкам, Ефима поразило, да и Николая с Михеем тоже, что никто не кричал, не голосил, не метался, не зная, что делать, — все, молча ожидая, смотрели на них.
— Вижу, все здесь, — сказал Николай.
— Все-то все, только дяди Иосифа нет, — вздохнула Катя.
— Иосифа? — словно переспросил у нее Ефим. — У него же есть где паводок переждать, о нем ты не очень печалься. У него — лодка под навесом. А наши на берегу. Снесло их, не иначе.
Ефим, сказав это, заметил, как Катя неожиданно вздрогнула, инстинктивно приложила руки к животу. Ефим дернулся к ней, чтобы поддержать ее, но Катя сказала:
— Не волнуйтесь, все идет как надо. Знать, уже недолго одной мне быть.
Старик все понял, как приказал:
— Ты вот что, Катерина, — если испугалась, руками живот не трожь: там же дитя. Помню, в старину люди знающие сказывали, что женщина в положении, коль видит беду аль страшно ей отчего, не должна руками хвататься за тело.
— Это почему?
— Чтобы знака на ребенке не было: от собаки — клок шерсти на тельце, от огня — опалины, и вообще чтобы потом в жизни ничего не боялся.
— Брехня все это, дядя Ефим, забабоны, — сказал Николай.
— А ты не лезь не в свое! — прикрикнул на него Ефим. — Пусть и брехня. Она что, тебе или ей мешает?
— Да нет, дядя Ефим, — слабо улыбнулась Катя, — не испугалась я, с радостью дотронулась, чувствую, светло уже.
— Ну и хорошо, — сказал Ефим. — В сарай давай, на чердак. Мы как предчувствовали, что паводок будет, знали, где сарай ставить. Не дойдет сюда вода, вот увидите.
Ефим вошел в сарай, взял фонарь, висевший на стене у входа, зажег его. Здесь было сухо.
— Вы вот что, мужики, — сказал он, обращаясь к Николаю, Михею и Валику, — оставайтесь здесь. А женщины — наверх. Там еще сено есть, разметайте, чтобы лежать можно было.
Он видел, как от боли дернулась Катя, как перекосилось, покраснело ее лицо.
19
Ближе к полуночи Иосиф решился покинуть хату. Все это время она будто удерживала его какой-то неведомой, неодолимой силой, словно понимала, что он собирается оставить ее навсегда. Странно, но когда уходил в город, такого ощущения у него не было, хотя покидал ее тоже с тяжелым сердцем.
Он сидел на кровати в глубоком раздумье, опустив ноги в сапогах в воду, которая уже доходила почти до колен, и не мог уяснить, что же его здесь так держит.
На столе, по-прежнему потрескивая, слабо мерцала свеча, но уже не первая и не вторая, а третья. Ее отблески чуть метались на темной, казалось, густой, как деготь, воде. И все это время Иосифу мерещилось, что рядом с ним в хате Мария и Стас. Он их не видит, но чувствует бестелесных. Они то совсем рядом с ним, то выходят на свет свечи, и тогда она трещит, а потом, коснувшись его, света, отдаляются в угол, в какой-то бессильной злобе мечутся там, превращаясь в бесформенные тени. Потом, пометавшись, будто сговорившись о чем-то, вновь подплывают к нему, стараясь то ли обвить его, то ли просто дотронуться, обжечь и отскочить. Тогда, кажется, свеча особенно потрескивает и язычок ее пламени безо всякой причины (ветра же нет) начинает неистово колебаться, шарахаться из стороны в сторону, того и гляди погаснет. Но почему-то не гаснет, а поколебавшись, поплясав по сторонам, выравнивается, какое-то время горит ровно, хотя по-прежнему трещит, будто на самом деле в хате какая-то чертовщина.
Страха Иосиф не чувствует, но все же холодок внутри есть. Неприятный, чуждый ему, противный.
Впрочем, этот холодок гложет его с вечера. А за это время он успел многое сделать: пригнал от навеса лодку, привязал ее к крыльцу. Лодка хорошая, как следует просмоленная, на ней плыть да плыть, если кому надо. Собрал рюкзак харчей: четыре банки тушенки, хороший брус сала (килограмма три), пшена с полведра, десяток картофелин, фунта два соли — с этим богатством нигде не пропадешь. Оно его мозолями, потом заработанное.
Положил рюкзак в лодку, на полку на носу, чтобы не промок. Туда же, в лодку, только на поперечное сиденье посередине, положил мешок зерна, ржи. Это особый скарб. Хочешь — мели на жерновах, потом хлеб пеки, хочешь — сей.
Дорого оно досталось Иосифу. Нет, дорого не потому, что отдал за него золотой червонец царской чеканки, а что боялся, как бы по дороге домой продавец, а он ему зерно на телеге вез, не прихлопнул где-нибудь среди леса да в снег не зарыл.
Продавец тот или меняла был немного знаком Иосифу — мужик из Забродья, некто Михаил Калистратов. Еще до войны он славился тем, что любого мог отметелить, коли что, кажется, за какую-то провинность даже успел посидеть год-два в тюрьме.
В войну вроде смирный был, хотя ходили слухи, что не ссорился ни с немцами, ни с партизанами: и тем, и другим делал колеса, сани. А тут встретил его Иосиф на базаре. Оба обрадовались: считай, земляки, на чужбине. Чуть ли не в объятия бросились друг другу. Михаил с расспросами, дескать, ты чего здесь, дядя Иосиф? А Иосиф рад стараться, мол, работаю на станции, вот на рынок захаживаю, иной раз что и выменяю. «А ты?» — «Я? Вот, пару мешков хлебушка привез, излишек. Сам сеял, сам убрал. Может, возьмешь?» — «А почему бы и нет, если сторгуемся?» А Михаил: «Что дать можешь?» — «Что, что, — почесал затылок Иосиф, — колец нет, цепочек тоже, кожух, что ли?» — «В кожухе сам ходи. Может, иное какое золотишко имеется? Твой же тесть богачом слыл. Неужто тебе ничего не перепало от него? Или от сынка твоего? Люди сказывали, на людском горе он руки хорошо нагрел!»
Обидело это Иосифа, оскорбило: тестем, Стасом упрекает. Нет, не поимел он от них ничего. И если бы давали, от тестя ничего не взял бы, а от сына — даже перекрестился бы. А вот свой золотой червонец у Иосифа с молодых годов имелся: долго на него он бумажные деньги зарабатывал, чтобы на них выменять здесь же, в городе. И сейчас, разозлившись, как мальчишка, выпалил: «Зачем же тестево или сыново? У меня свой блестящий червончик есть». — «Ну, тогда сговорились, — сказал Михаил. — Я тебе мешок подвезу. Куда?»
Иосиф, все еще находясь в непонятном состоянии, сказал тогда: «В Гуду. Денежка там у меня припрятана». — «В Гуду так в Гуду, вдвоем веселее, да и смелее ехать: вечер скоро, а дорога неблизкая, да и лес.»
В Гуду приехали уже ночью. Лошадь у Михаила была сытая, как не с войны, быстрая. Может, из тех колхозных, что разбежались, когда в начале войны Ефим в район гнал. Сейчас поди спроси у Михаила — так он тебе и скажет.
Михаил, пока ехали, несколько раз спрашивал, не при нем ли, Иосифе, червонец, а он всякий раз твердил, что дома. При этом думал: был бы при мне, точно пристукнул бы меня землячок, и рука не дрогнула б. Или пристрелил: обрез-то у него имеется. Это Иосиф увидел сразу, как за город выехали, когда дорога пошла лесом. Тогда Михаил пошарил рукой под сеном, достал ствол, положил рядом с собой, под правую руку, пояснил Иосифу: «Лес, дядя, темно, мало ли что. А ты — не боись ничего, коли со мной».
Дома при Михаиле, при слабом свете свечи Иосиф достал из-под печи, отодвинув кирпич, завернутую в тряпицу золотую монету, подал ему: «Смолоду берег, Миша, а ты говоришь, тесть богатый был, сын.»
Отдал и чуть удержался, чтобы не заплакать: когда-то рассчитывал, что на свадьбу с Теклюшкой использует, а оно вон как все обернулось.
Михаил взял монету, сказал, вроде сочувствуя: «Ну и дурак ты, дядя Иосиф. Жизнь прожил, сидя на одной монете. А мог бы.»
Иосиф не переспрашивал, что мог бы: зачем?.. Услышал, как почему-то затрещала свеча. Подумал, наверное, отсырели свечи, лежали не в печурке, а в ящике стола, решил, что их надо подсушить, сказал Михаилу, чтобы распрягал лошадь, ставил в сарай — ночь на дворе. Тот отказался: «За меня, дядя, не боись, через час дома буду. Ночь звездная, я — через реку напрямую, путь хорошо известен.»
«Хорошо, когда путь известен», — подумал Иосиф. Если вспомнить людей, среди которых он жил всю свою жизнь, так получается, что большинство из них, как он понимает, знает, как жить, как поступать в той или иной ситуации. Ишь ты, путь известен. Поэтому и жили многие, наперед зная, что и как делать, все предвидя. Но вот только одного не предвидели — войну. Да что и как в ней происходит. А он, белая ворона, никогда ничего наперед не предвидел. И вот сейчас, спустив на воду лодку, погрузив в нее харчи и мешок зерна, он не знает, что делать дальше. Да, думал раньше, что уйдет от людей в лес, в одиночестве доживет старость, впрочем, не представляя толком, как.
Вот сейчас он один в хате, им же самим поставленной. А хаты, конечно же, ставят для счастья. Только не принесла ему счастья его хата. И сейчас, на склоне лет, когда, как говорят, день — век, хата эта не приносит обычного человеческого покоя. Наоборот, выталкивает, выдавливает его из себя. Нет, не паводком. Паводка Иосиф не боится, а вот этими то ли призраками, то ли тенями Марии, Стаса, и вот уже кажется, тех немцев, которые вместе со Стасом пили здесь, как сожгли деревню. И уже которая свеча трещит у иконы. Так неужели в этой хате столько черной злой силы, что ничто не может изгнать ее отсюда?..
Иосиф резко поднялся, подошел к столу, взял в правую руку свечу, ступил шаг к иконе, снял ее с покута, дрожащими руками завернул в полотенце, засунул под рубашку, тихо молвил: «Господи, если ты есть — прости за все грешное в моей жизни. И если моя хата никому не нужна, то зачем она мне?..»
20
Ближе к полуночи, когда дети уже спали в сарае на полатях, сделанных Михеем из жердей, а Катя на чердаке тихо стонала, мужчины услышали с улицы разорванный ветром голос:
— Люди!.. Люди!..
Ефим поднялся с колоды, на которой сидел, приоткрыл дверь и, посматривая в темноту, крикнул:
— Кого это прибило к нам в такую пору?..
— Фонарь возьми, фонарь. Посвети, дядя Ефим, — сказал Николай, подавая ему фонарь.
Ефим взял фонарь, вышел из сарая, заметил, что вода сюда так и не дошла, обрадовался, прокричал в темноту:
— Кто там?
— Люди. — слабый голос и шлепки весел по воде слышались уже недалеко.
Сначала, когда Ефим услышал этот голос, он удивился, подумав: «Кого занесло сюда такою порой и откуда? Дамбы уже нет, нет и моста, и единственная дорога, соединяющая деревню с миром, отрезана водой. Значит, никто чужой не мог сюда прибиться. А может, это ему кажется? Может, он еще не пришел в себя после взрыва?»
— Люди, — голос уже хрипел.
Нет, не кажется. Ефим понял, кто ищет возле них или у них спасения — Иосиф, — и мстительная злоба начинала закипать в душе: у него еще хватает совести.
Впрочем, сейчас в душе боролись два чувства. Одно — отправить того, кто пришел, прочь. Так и сказать ему: «Уходи, дьявол, чтобы во веки веков люди не видели и не слышали тебя.» Другое — снизойти, впустить к себе. Ведь не от добра он плывет сюда. Видимо, многое передумал Иосиф, прежде чем решиться прийти к людям, переборол страх перед ними. А зачем идет, на что надеется? Идет за помилованием? Надеется на сочувствие?
Как быть сейчас Ефиму? Отозваться на зов, впустить в строение, дать пристанище? А как к этому отнесутся мужчины, женщины, детишки?..
Было раньше, как-то сельчане даже пытались сочувствовать Иосифу. Но никто никогда и в мыслях не держал такого — простить, оправдать.
Много зла видел Ефим за свою жизнь. И людей злых повидал немало. Знает, человек от зла слепнет. Он перестает быть человеком и жаждет только одного — зла. А со злом среди людей нельзя жить. Самому сейчас не ослепнуть бы от злобы.
— Сюда, греби на меня! — вдруг закричал Ефим и приподнял фонарь.
Торопливые шлепки весел послышались уже рядом.
— Это ты, Иосиф?
— Я, я, Ефимка.
— Откуда?
— Из дома. — голос слабел, то ли от усталости, то ли от обиды.
— Из дома, говоришь. Ну, ну.
Ефим почувствовал, как чувство жалости сменяется неприятием того, кто сейчас буквально в каких-то пяти шагах от него. И вот уже лодка воткнулась носом в землю, остановилась. Ефиму захотелось заорать так, чтобы весь мир услышал и чтобы от его крика тот, кто в лодке, окаменел навеки: «Прибыл!.. А где же ты раньше был, когда с нами всеми творилось такое, что.»
Но он не закричал, еле сдержался. Долго молчал. Нависла тяжелая, гнетущая тишина. И неизвестно, как долго она властвовала бы, если бы ее не нарушил голос Николая, появившегося у двери сарая:
— Затворяйте дверь, незачем мерзнуть.
— Люди, — вновь прохрипел голос из лодки. — Зерно у меня здесь, хлеб.. А хата еще теплая. Как вы здесь?.. Детишки же.
— Здесь они, здесь, а как же? — будто сам себе сказал Николай. — И Катя здесь. Рожает. У тебя в хате — вода, здесь — сухо. Паводок не дойдет к нам, не дойдет. Здесь его переживем.
— Дверь, дверь закройте! — крикнул Михей из сарая. — Сквозит!
Николай захлопнул дверь. С той стороны. Ефим стоял в раздумье, как
быть. Тем временем накатилась волна, толкнула лодку к сараю.
Вместо эпилога
Той ночью среди огромного разлива воды долго пылала Иосифова хата. Люди, собравшись вместе на сухом пятачке у сарая, давшего им пристанище, видели, как ветер рвал в клочья желтое пламя, словно старался сбить его со строения, погасить, но тщетно.
Они наблюдали за тем, как горит хата, в отблесках огня на воде искали глазами того, кто еще недавно прильнул к ним, но так и не находили. Возле них качалась на слабой волне лодка с рюкзаком на носу и большим мешком на поперечном сидении. Нигде не обнаружили они его и потом, когда все кануло в прошлое: сгорела хата, ушел паводок, наступила весна, расцвело лето, легла зима.
Никто не знал, что стало с Иосифом: куда он исчез, сам ли поджег хату или кто иной, и вообще как все это произошло.
Но однажды Петрова Катя, будучи в городе на базаре с маленьким Петькой (приехали покупать ему к школе одежонку — шел в первый класс, в Забродье работала школа, а Гуда все еще отстраивалась) увидела старика, похожего на Иосифа.
Он стоял у входа на базар, худой, сгорбленный, с седой бородой, и, опираясь левой рукой на палку, вытянув правую, молча просил подаяния.
Катя бросилась к старику, закричала: «Дядя Иосиф, это ты, ты?..», но старик хриплым чужим голосом остановил ее: «Обозналась, гражданочка. Не кричи так, мальчонку испугаешь.»
Катя отпрянула, повернулась к сынишке, стоявшему рядом, он действительно испугался, готовый вот-вот расплакаться, подхватила его на руки, обняла, начала целовать в загоревшие щеки, успокаивать: «Не бойся, это дедушка Иосиф из нашей деревни, мы его сейчас.» Она не договорила, что сейчас, повернулась к старику, но того уже на месте не было.
Кате вспомнилась ночь, когда она рожала Петьку, отблески пожара, и с каким усилием она сдерживала тогда себя, чтобы, изнемогая от боли, в горячке не схватиться руками за что-нибудь на своем теле, не оставить знак на ребенке. Смогла удержать себя тогда, нет на Петьке никакого плохого знака. Тогда, в муках рожая, она даже не заплакала.
Катя заплакала сейчас.
Перевод с белорусского автора.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
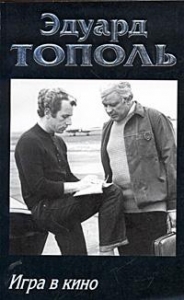

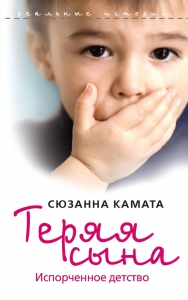

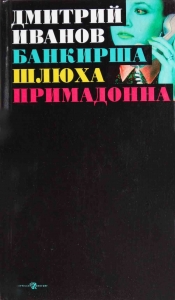






Комментарии к книге «1. ...И нет пути чужого», Владимир Петрович Саламаха
Всего 0 комментариев