Дидье Декуэн Среди садов и тихих заводей
© Алчеев И., перевод на русский язык, 2018
© ООО «Издательство «Эксмо», 2018
* * *
Воскуривал как-то человек фимиам. И заметил он, что благоухание Не прибывает и не убывает; Не возникает и не пропадает. И сей пустяковый случай привел его к Просветлению. Будда ШакьямуниПосле долгого затворничества и строгого воздержания от пищи по причине траура и после обтирания тела Кацуро священной материей, вбирающей в себя нечистоты, Амакуса Миюки и сама подверглась обряду очищения, ибо смерть мужа замарала ее. А поскольку невозможно было даже представить, чтобы молодая вдова вошла в ту же реку, где утонул Кацуро, жрец синто[1] довольствовался тем, что, поджав губы, возложил на нее сосновую ветку, омытую водами Кусагавы, достававшими до нижних ветвей прибрежных деревьев. После чего он заверил ее, что отныне она может начать новую жизнь, воздав благодарность богам, которые непременно наделят ее храбростью и силой.
Миюки прекрасно поняла смысл утешительных слов жреца: невзирая на ее бедственное положение, отягощенное смертью Кацуро, тот надеялся, что молодая женщина вложит ему в руки вполне ощутимый знак признательности, которую она была обязана выказать ками[2].
Впрочем, если Миюки и была благодарна богам за то, что они очистили ее, она не могла им простить того, что они позволили реке Кусагаве, которая, в сущности, была таким же божеством, ни больше ни меньше, забрать у нее мужа.
А посему она ограничилась лишь скромным подношением в виде головок белой редьки, горстки луковиц чеснока да нескольких пригоршней клейкого риса. Но благодаря тому, что подношение было умело завернуто в тряпицу, а иные головки редьки впечатляли своими размерами, оно выглядело внушительным. Жрец благосклонно принял его и вполне довольный отбыл восвояси.
После этого Миюки заставила себя прибраться в доме – вычистить его до блеска. Хотя наведение порядка не входило в ее привычки. Она позволяла себе оставлять вещи где попало и даже с удовольствием разбрасывала их повсюду. Благо пожитков у нее с Кацуро было не так уж много. Когда же они натыкались на те или иные предметы то тут, то там, особенно в местах самых неожиданных, у них возникало обманчивое впечатление достатка: «Неужто эта плошка для риса совсем новенькая? – спрашивал Кацуро. – Ты что, только недавно купила ее?» Миюки прикрывала рот рукой, пряча улыбку: «Да она все время стояла тут, на полке, шестая снизу, – ее подарила нам твоя матушка, или не помнишь?» Просто Миюки обронила ту плошку (и забыла сразу поднять), и она укатилась куда-то по циновке, остановилась где-то, опрокинулась – и вот на нее упал луч света, и она засверкала так, что Кацуро ее не признал и даже не догадался, откуда она взялась.
Миюки казалось, что люди зажиточные живут среди вечного беспорядка, подобно картинам природы, которые, смешиваясь в хаосе, обретают истинную красоту. Так, Кусагава особенно волновала воображение только после проливного дождя, когда питавшие ее бурные потоки переполняли реку землисто-коричневыми водами с вихрившимися в них кусками коры, ошметками мха, цветками настурций, увядшими листьями – черными, жухлыми; тогда Кусагава теряла блеск, покрывалась концентрическими кругами, завитками пены и становилась похожей на бушующий пролив Наруто во Внутреннем море[3]. Точно так же и богачи, думала Миюки, живут среди безмерного водоворота даров, принятых от друзей (число их, само собой, столь же безмерно), среди всех этих блестящих безделушек, которые они покупают без счета у бродячих торговцев и даже не задумываются, пригодится им все это или нет. Им всегда нужно больше пространства, чтобы сваливать там свои безделушки, складывать кухонную утварь, развешивать ткани, расставлять мази, – словом, чтобы хранить все эти богатства, названия которых Миюки иной раз даже не знала.
То была нескончаемая гонка, яростное состязание между людьми и вещами. Пик изобилия достигался тогда, когда дом, переполненный всяким хламом, распирало так, что он трещал, точно перезрелый плод. Сама Миюки никогда не видела подобного зрелища, а вот Кацуро сказывал ей, что во время своих хождений в Хэйан-кё[4] видал, как нищие копались на развалинах некогда величественных зданий, стены которых будто разнесло изнутри.
В доме, который Кацуро построил своими руками, – одна комнатенка была с земляным полом, другая с деревянным, а под соломенной крышей располагался чердак, куда вела лестница, причем все было скромных размеров, поскольку приходилось выбирать между возведением стен и рыбной ловлей, – помещались главным образом рыболовные снасти. И служили они практически для всего: сети, развешанные перед окнами для просушки, использовались в качестве занавесок, а сложенные в кучи – как тюфяки; деревянные поплавки, полые изнутри, на ночь подкладывали под голову; скребками, которыми Кацуро чистил верши, Миюки пользовалась, когда стряпала.
Единственным предметом роскоши у рыбака и его жены был горшок, где они хранили соль. Хотя он был лишь подделкой под китайскую утварь времен династии Тан[5], этой керамической посудине, покрытой коричневой глазурью и расписанной пионами и лотосами, Миюки приписывала чудодейственные свойства – она получила ее в наследство от матери, а та унаследовала ее от прабабки, уверявшей, будто эта посудина была у них в роду всегда. Таким образом, горшок пережил не одно поколение и за все время даже не поцарапался – воистину, чудо.
Уборка дома обычно занимала несколько часов – теперь же у Миюки ушло целых два дня на то, чтобы привести все в полный порядок. И виной тому был промысел, которым занимался хозяин дома: рыбная ловля и разведение дивных рыб – в основном карпов. Возвращаясь с реки, Кацуро даже не удосуживался сбросить перепачканную липкой тиной одежду и при каждом торопливом движении размазывал ее по всему дому. Он спешил поскорее высвободить бившихся карпов из вершей, сплетенных из ивовых прутьев, чтобы рыбины не ободрали себе чешую либо усики (ведь в таком случае, по разумению императорских заготовителей, они теряли всякую цену), и выпустить их в неглубокий пруд, выкопанный специально для них в земле перед домом и заполненный до краев водой, которую Миюки в отсутствие мужа сдабривала личинками насекомых, водорослями и семенами водных растений.
Вслед за тем Кацуро три дня кряду, сидя на корточках, наблюдал, как ведет себя его улов, особо примечая рыбин, которые, как он сразу же определял, были достойны того, чтобы украсить собой пруды в императорском городе, и при этом стараясь угадать в них признаки того, что они не только привлекательны, но и достаточно крепки, чтобы выдержать долгое путешествие до столицы.
Кацуро был не больно разговорчив. А когда раскрывал рот, то изъяснялся не внятно, а скорее обиняками, доставляя таким образом удовольствие собеседникам самим догадываться, к чему вела его недосказанная мысль.
В день смерти Кацуро, когда в пруд выпустили пять или шесть карпов, которых выловил муж, Миюки, подобно ему, сидела на корточках у края маленького водоема и как зачарованная следила за хороводом рыб, в тревоге круживших в огороженном пространстве, словно узники, замкнутые в стенах темницы.
Она могла запросто оценить красоту некоторых карпов или по крайней мере проворство и бойкость, с которыми те плавали, – единственное, что ей было невдомек, это то, каким образом Кацуро определял, насколько они живучи. Поэтому, чтобы не морочить голову односельчанам и, главное, не обманываться самой, она встала, отряхнула одежду от пыли и зашла в дом, стоявший на южной окраине деревушки, – узнать его можно было по ракушкам, вплетенным в соломенную кровлю и повернутым перламутровой стороной к небу, чтобы отражать солнечный свет и пугать воронье, таившееся в ветвях камфорных деревьев.
Селяне с облегчением узнали, что Миюки заставила себя отмыть пол в доме и очистить стены от тины.
Правда, они боялись, как бы молодая вдова не смастерила себе удавку из веревки и палки и не пустила ее в ход, чтобы присоединиться к Кацуро в ёми-но куни[6]. И не потому, что она была слишкой юной, чтобы умереть: в свои двадцать семь лет Миюки достигла среднего возраста для крестьянки и могла надеяться, что судьбой ей уготовано прожить много дольше, – а потому, что ей были ведомы кое-какие тайны Кацуро, и теперь только она могла поддерживать привилегированную связь, соединявшую их деревню с императорским двором в Хэйан-кё. Речь шла о поставке особенных карпов в качестве живого украшения дворцовых прудов, а взамен это скопище покосившихся, горбатых хижин под названием Симаэ почти полностью освобождалось от налогов, не считая маленьких подарков, которые Кацуро всякий раз приносил односельчанам от имени Нагусы Ватанабэ[7], управителя Службы садов и заводей.
Так вот, недавно Нагуса отрядил трех своих чиновников с заказом на новых карпов вместо тех, что не пережили зиму.
Как-то утром – это было через несколько дней после смерти Кацуро – посланцы Службы садов и заводей возникли из промозглого тумана, который после сильного дождя, поливавшего всю ночь, застилал опушку леса, точно занавес.
Раньше они приходили пешком, и это дорого обходилось обитателям Симаэ: утомленные долгим переходом покупщики карпов обыкновенно задерживались в деревушке недели на две и все это время жили на хлебах селян, выказывая пристрастие к саке, возраставшее по мере того, как у них восстанавливались силы. Но в этот раз они нагрянули верхом в сопровождении всадника с цветастым шелковым императорским знаменем и, сбросив просторные, удобные каригину[8], облачились в воинские доспехи, обшитые железными пластинами, которые защищали их грудь и спину и дребезжали, как старые, треснувшие колокольчики. При их внезапном появлении некоторые селянки перепугались, пустились наутек и, сбившись в кучу на гумне, принялись от страха плести рисовую соломку.
Нацумэ как деревенский старейшина вышел к трем всадникам и приветствовал их с почтительностью, достойной представителя императорской власти; но, сложив руки вместе и раскланиваясь так низко, как позволяла ему утратившая гибкость шея, он удивлялся, как это император, снискавший славу самого утонченного правителя своего времени, мог допустить, чтобы люди, которым было поручено разносить его волю по всем провинциям, имели столь неприглядный вид: лениво покачиваясь в покрытых черным лаком деревянных седлах, сонно кивая головами в шлемах с гибкими назатыльниками, закованные в латы, позеленевшие от мха, налипшего на них во время передвижения по лесам, императорские посланцы напоминали гигантских мокриц с непомерно раздутым брюхом, набитым какой-то восковидной тошнотворной гадостью.
Впрочем, быть может, Его императорское величество никогда и в глаза-то их не видел – верно, какой-нибудь помощник советника пятого младшего низшего ранга внес их в список (и никто так никогда и не узнает, почему выбор помощника пал именно на них, а не на кого другого) и представил его инспектору четвертого младшего высшего ранга, который одобрил его и затем передал список ревизору четвертого высшего нижнего ранга, и тот довел его до самого верха иерархической лестницы, после чего список так же неспешно попал наконец в руки к Нагусе Ватанабэ, который одним нетерпеливым росчерком кисти утвердил его, – и обо всем этом, равно как и о многих других примечательных событиях в шестидесяти восьми провинциях, император ни сном ни духом не ведал.
Императорские посланцы премного огорчились, узнав о смерти Кацуро. Они поморщились, гортанно простонали и недовольно содрогнулись, позвякивая пластинами своих лат. Чтобы как-то умилостивить их, Нацумэ пришлось представить им Миюки. Они молча смерили ее взглядом, вращая своими черными глазенками под деревянными масками, утыканными снизу жуткими фальшивыми зубами.
Покуда молодая женщина, встав на колени, раскланивалась так низко, что тыкалась лбом в пыльную землю, деревенский старейшина заверял посланцев, говоря: вдова рыбака всенепременно будет служить им верой и правдой, так же как Кацуро. После чего, дабы задобрить их вконец, Нацумэ пригласил их откушать гречневой лапши с водорослями и рыбой, приправленной овощами, замаринованными в отстое саке, а после препроводил их к водопаду, откуда начиналась дорога, по которой они отбыли восвояси – в Хэйан-кё.
Вслед за тем он вернулся переговорить с Миюки:
– Когда мы нашли твоего мужа, он был уже мертв, но карпы, которых он успел выловить, остались живехоньки (он воззрился на Миюки с таким благожелательством, как будто в том, что рыбы сохранились в добром здравии, была именно ее заслуга), и посланцы воздали мне за это тысячекратную благодарность.
– Посланцы, эти жирные сверчки? Только самые неразумные придворные чиновники могли отрядить таких в глухую провинцию, хотя было бы довольно и простого письма.
Выходит, она хотела сказать, что смогла бы прочесть такое письмо? Определенно, она бахвалилась. Но Нацумэ, сам не умевший читать, не сделал ей замечания, решив не рисковать, ступая на зыбкую почву, чтобы не претерпеть унижения.
Выдерживая паузу, дабы его молчание могло быть истолковано как обдумывание слов, сказанных Миюки, он какое-то время смотрел на карпов, лениво плескавшихся в пруду.
– Отправить трех конных стоит куда дороже, нежели послать простого гонца с письмом, – заметил он. – Знать, как я погляжу, в Службе садов и заводей придают особое значение этому заказу и его надлежащему исполнению. Стало быть, тебе самой придется отправиться в Хэйан-кё, да как можно скорее.
– Конечно, – с нежданным покорством молвила она. – Да хоть завтра, если угодно.
Нацумэ довольно крякнул. То, что после смерти Кацуро Миюки вдруг сделалась такой покладистой и, ничтоже сумняшеся, согласилась отправиться в Хэйан-кё, не тронуло его. Ведь он не имел ни малейшего представления о снедавшей ее скорби, отчего она превратилась в пустой сосуд, серый, точно зола.
Эту женщину, или вдову, как подобало теперь ее называть, Нацумэ, с позволения сказать, прежде даже не замечал. Она была слишком худощава – не на его вкус, и в любовницы ему не годилась, тем более что за последнее время щеки у нее от неизбывной печали ввалились еще глубже, особенно подчеркнув ее худобу, отчего она стала похожа на сорную травинку. Впрочем, он мог бы взять ее к себе в дом и отдать своему сыну, который пока так и не нашел себе невесту по сердцу: ему нравились девушки печальные с виду, потому как, говаривал он, хотя слезы и солоны на вкус, от большинства грустных женщин веет приятным благоуханием сладких-пресладких плодов. А если бы Хара (так звали сына) не захотел взять в жены вдову ловца карпов, Нацумэ, во всяком случае, мог бы попробовать откормить ее себе на утеху: такое занятие казалось ему тем более забавным, что в его воображении прелести Миюки – ее будущие прелести, которые он рисовал себе мысленно, думая о том, как будет ее откармливать, – невольно становились все более изысканными и доступными.
– Сколько же рыб ты собираешься доставить ко двору? По меньшей мере десятка два, так?
– Карпы неприхотливы, – сказала Миюки, – правда, им нужно много воды.
Верши, в которых Кацуро переносил рыбу, вмещали мало воды, так что чем меньше взять с собой рыбы, тем вольготнее ей будет.
Она не посмела прибавить, что понесет бамбуковую жердь с бадьями на собственных плечах и что плечи у нее не такие крепкие, как у мужа, а значит, торговаться нужно было только об одном – о количестве воды, которое ей предстояло взять с собой, в случае, если ноша покажется ей непосильной.
Если бы Кацуро не знал наверное, где можно добыть самых необыкновенных карпов, он нипочем не забрался бы в такую далищу – вниз по течению реки. Но добрая рыба водилась только в той части Кусагавы, сразу за порогом Судзендзи, – там вылавливать ее было проще простого, благо, одолев сильное течение с верховья реки, образующееся благодаря водопаду, она давала себе передышку, всплывая почти на поверхность.
Такому бывалому рыбаку, как Кацуро, довольно было опустить руки в воду, растопырив пальцы, и подождать, когда какой-нибудь карп ткнется мордой в его открытые ладони. И тогда Кацуро оставалось только сжать пальцы, слегка прихватив рыбу за жабры, чтобы она, напрягшись в страхе от столкновения с человеком, мало-помалу обмякла. Сперва она все еще била плавниками, хотя тело ее расслаблялось, а потом вдруг становилось совсем мягким и податливым в цепких руках человека. Тогда Кацуро быстро вытаскивал карпа из реки и бережно укладывал в одну из вершей из рисовой соломки, не пропускавшей воду благодаря глиняной обмазке.
Тропа, окаймленная травянистыми выступами, поросшими лютиками, которая вела к рыболовным угодьям Кацуро, на первый взгляд больше походила на живописную прогулочную дорожку, змеившуюся меж двойных рядов дикой вишни, хурмы, тростника и синей сосны. Но рыбак был вовсе не глуп и знал, что на самом деле дорога эта была смертельно опасна, поскольку ее быстро разрушали дожди: потоки воды вымывали в земле трещины, куда ноги проваливались, точно в капканы с захватами. Одно дело, когда Кацуро спускался к реке с пустыми вершами и мог сосредоточить все внимание на ходьбе, и совсем другое – обратный путь, когда приходилось постоянно глядеть вперед, стараясь ровно удерживать на плечах верши, теперь заполненные водой и рыбой: ведь от малейшей тряски карпы выходили из оцепенения и становились бешеными – некоторые даже выпрыгивали из ловушек, хотя рыбак прикрывал их сверху широкоячеистыми сетками, сплетенными из стеблей лотоса…
С Кацуро такое случилось дважды.
В первый раз он отделался вывихом. Превозмогая боль, он сломал жердь-коромысло пополам, смастерил из двух половин костыли и насилу дохромал до деревни. Но ему пришлось бросить верши – спрятать их в сырой высокой траве, которую ливень прибил к земле и словно покрыл зеленым лаком. Ковыляя в сторону Симаэ, он слышал, как у него за спиной шуршали лесные звери – они уж наверняка отыщут его рыбу и сожрут.
В другой раз все вышло куда хуже: он сломал себе лодыжку. Теперь он был не в силах встать на ноги хоть с костылями, хоть без. Ему пришлось собраться с духом и ползти на животе, волоча за собой ногу со сломанной лодыжкой, распухшей и горящей огнем, которая на каждом ухабе дергалась так, что он вскрикивал от боли. Помимо мучений с лодыжкой, он, пока полз, исцарапал и разодрал себе кожу на коленях, бедрах и животе. Тогда, дрожа от боли, точно в лихорадке, Кацуро решил переползти на другую сторону дороги: с той стороны ее край частенько подмывался во время разливов реки, и земля там была помягче. Сперва он вздохнул с облегчением, чувствуя, как холодная грязная жижа унимает боль в пылающем жаром теле, а затем пополз дальше по размытой, лишенной растительности земле, образующей глинистый выступ, который местами круто обрывался вниз. И хотя порой Кацуро сползал к самой реке, едва не окунаясь в нее головой, оползней он не боялся – куда хуже ему приходилось там, где земля с виду была ровная и плотная: в таких местах Кусагава размывала нижние слои почвы, образуя скрытые трещины, куда можно было запросто провалиться. И перед излучиной реки так и случилось.
Белая цапля бесстрашно смотрела на перепачканного липкой грязью человека, корчившегося от боли, извивавшегося змеей, запыхавшегося, – и вдруг увидела, как он исчез в брызгах ила и воды.
Одна его рука осталась торчать над водой, устремленная к небу цепкими пальцами и отчаянно бившаяся в воздухе в попытке ухватиться хоть за что-нибудь. В конце концов ему удалось вцепиться в то, что осталось от подмытого берега: пальцы схватились за кучу грязи, увязли в ней, но размокшая глина проскользнула между фалангами, и рука обвисла, затем на мгновение снова вскинулась к небу, а потом почти грациозно, без единого всплеска, опустилась в воду и будто растворилась в реке.
В этот миг белая цапля испустила дрожащий гортанный звук; но это не был возглас сострадания птицы к рыбаку, нет, – просто так совпало: смерть человека и глотательный рефлекс огромной голенастой твари, известной, впрочем, как предвестница беды.
* * *
Из тех событий, что произошли в Симаэ в двадцать четвертый день третьей луны, семьдесят три семейства в деревне запомнили главным образом то, что Миюки проявила тогда сдержанность и достоинство, которые, по общему мнению селян, ей были несвойственны.
В самом деле, жены рыбаков славились брюзгливым нравом. Когда они не пеняли на своих мужей или заготовителей, объектом их упреков делались ивовые прутья, которые, по их словам, с каждым годом становились все хуже, отчего течение Кусагавы портило рыболовные снасти раза в два-три чаще, чем прежде, хотя на самом деле виной тому была небрежность, с какой женщины плели верши.
Они извлекали из глубин своих глоток плаксивые стоны, попрекая мужей за скудные уловы, вечно мокрое платье, гнившее куда быстрее, чем одежонка у крестьян, за дырявые сети, пропускавшие самую завидную добычу. Или же они сетовали на слабое рвение императорских заготовителей, не спешивших заказывать новых карпов для водоемов в Хэйан-кё.
А последнее время они винили во всех своих напастях не заготовителей, а одного лишь Кацуро: ведь это он вылавливал несравненно живучую рыбу, благодаря чему в Службе садов и заводей даже собирались пожаловать ему сан Повелителя карпов; но такого сана отродясь не существовало (во всяком случае, писари, состоявшие при Службе, не обнаружили ни единого упоминания о нем ни в одной официальной бумаге), и Нагуса сильно опечалился, размышляя о том, сколько сложных процедур надо провести, чтобы учредить новую почетную должность. Впрочем, Кацуро ничего для себя не просил – он ходил из храма в храм, выбирал самый подходящий пруд и выпускал туда свой улов, несколько дней кряду наблюдая, как он там приживается (сидя неподвижно на корточках у края водоема, как в Симаэ, за исключением того, что рядом не было жены, которая обычно приносила ему рис и набрасывала на плечи соломенную накидку – ночами становилось холодновато), и потом давал советы, как кормить рыбу и отлавливать ее, чтобы не напугать, перед тем как перенести в другие водоемы: дело в том, что от страха карпы теряли свой медно-глянцевый окрас, отливавший полированной бронзой.
По дороге к дому Миюки с вестью о том, что Кацуро утонул, селяне ожидали увидеть душераздирающую сцену. Они думали, что бедняжка будет хвататься за них и осыпать ужасными проклятиями речных ками, забравших у нее мужа, а заодно Нацумэ и его подручных, поощрявших торговлю карпами и понуждавших Кацуро ловить все больше рыбы, чтобы та раз от раза была крупнее и красивее. Быть может, убитая горем Миюки станет поносить самого императора, требовавшего, чтобы в его прудах всегда находились трепещущие карпы, хотя у Его величества не было времени томно прогуливаться по берегам дворцовых заводей и, восхищаясь рыбой, водить по воде краешками рукавов расшитой золотом темно-пурпурной мантии.
Но не тут-то было: Миюки выслушала селян до конца, позволив им рассказать все о смерти мужа, хотя на поверку они мало что знали, и, пока они говорили, она стояла перед ними, склонив голову набок и как бы показывая, что не верит ни единому слову.
Когда же они закончили рассказ, она сдавленно вскрикнула и упала наземь.
Только падала Миюки как-то чудно: по мере того как плечи ее опускались все ниже к земле, она будто сворачивалась калачиком, при этом ее крик словно повис в воздухе, замерев на вершине нисходящей спирали, по которой опускалось ее тело. Через мгновение – таким коротким был ее крик – из груди Миюки вырвался едва уловимый выдох. А потом, когда она ударилась лбом о землю, послышался сухой приглушенный звук, похожий на стук упавшей с высоты деревянной миски, из которой высыпалось содержимое.
Мысли Миюки рассыпались, подобно тысячам зерен риса, слипшимся в плошке в плотный комок, теплый и ароматный. Собрать просыпавшиеся зерна, одно за другим, обратно в плошку – занятие премуторное. И когда такое случается, куда проще подмести пол или выплеснуть на него ушат воды. Примерно то же произошло и в мозгу упавшей в обморок женщины: от сильнейшего удара он разметал безвозвратно все рисовые зерна, из которых было сформировано сознание Миюки (память, эмоции, чувственное восприятие внешнего мира и тому подобное), сведя его деятельность только к жизненно важным функциям.
Лишенная всех чувств, Миюки безмятежно лежала на земляном полу. Мужчины приподняли ее и переложили на циновку. Она была легкая. Тут Нацумэ заметил на одежде Миюки, поверх лобка, расползавшееся влажное пятно. Наклонясь, он почувствовал запах мочи. Но не стал говорить остальным. Потому как понимал: это может обидеть Миюки. А еще Нацумэ вспомнил, что, когда пропитанная мочой ткань высыхает, от нее пахнет вроде как рыбой, – и он решил, что никто не удивится, почуяв, что от одежды ловца карпов попахивает рыбой. Словом, он смолчал.
Посреди ночи Миюки вышла из оцепенения, последовавшего за обмороком: она очнулась, услышав, как наемники (Нацумэ нанял с десяток воинов для защиты Симаэ от возможных набегов китайских пиратов) вхолостую пощелкивали тетивами луков, как это было заведено при императорском дворе, где ночью строго-настрого запрещалось повышать голос и, таким образом, громко объявлять время.
Так вот, час Кабана сменился часом Крысы[9]. Стояла полная луна – она изливала холодный свет и, подобно незримой кисти, вырисовывала тени, похожие на огромные блестящие чернильные пятна.
Миюки открыла глаза. И увидела тело Кацуро, которое рыбаки положили поперек открытого сундука, чтобы оно обсохло и чтобы ни капли посмертной воды, стекавшей с его одежды и волос, не упало на земляной пол. Впрочем, то была тщетная предосторожность – едва труп миновал порог дома, как нечистая печать смерти уже легла на все жилище, находившуюся там утварь (весьма скудную, как мы знаем), животных (главным образом уток, которых Кацуро когда-то давно выловил на берегах Кусагавы и которые со временем дали потомство) и, что прискорбнее всего, на селян – тех, кто принес его бренные останки домой и собрался там на траурное бдение, а также тех, кто приходил в дом в течение сорока девяти дней скорби.
Согласно обычаю, Миюки надлежало поставить перед гостями сосуд, доверху заполненный солью, дабы они могли посыпаться ею и таким образом очиститься; но она понятия не имела, какая посудина сгодилась бы лучше всего (чаша, миска, котелок? А почему не широкий лист лотоса, который напоминал бы о реке, забравшей жизнь у Кацуро?), к тому же соли у нее осталось совсем мало, а средств, чтобы купить ее в количестве, достаточном для проведения обряда, не было. Она почувствовала, что жизнь без мужа превратится для нее в череду нудных вопросов и отвечать на них придется ей самой. Однако она тут же упрекнула себя за вспышку себялюбия, рассудив, что участь Кацуры была ничуть не завиднее ее собственной, по крайней мере в первые часы после смерти, считавшиеся временем мглы, когда души умерших тщетно пытаются воссоединиться с жизнью, которую они покинули, но обретают лишь тревогу, граничащую с отчаянием. Дальнейшее зависело от истинности той или иной веры: если истина крылась в синтоизме, то Кацуро было суждено сойти в обитель мертвых, где, по представлениям живых, тоже были горы, долины, поля и леса, только куда более мрачные, и, заняв там место среди предков, терпеливо ждать, когда к нему присоединится Миюки, – что ж, не самый худший жребий; если же истина крылась в буддизме, то время блуждания между распадом его предыдущей жизни и новым воплощением должно быть очень коротким, и Кацуро не придется долго страдать от тягостного ощущения утраты своей формы, сущности и чувств.
Кто-то принес большую каменную чашу с чистой водой и бамбуковый черпак, чтобы Миюки смогла омыть и очистить тело мужа.
Спустя три дня останки ловца карпов надлежало сжечь на костре, сооруженном за пределами деревни. Кости извлекут из угольев, начиная с ног и заканчивая черепом, и в том же порядке сложат в погребальную урну, дабы не причинять усопшему беспокойство, оставив его в нелепом положении головой вниз. Вслед за тем на табличке будет начертано посмертное имя Кацуро, и Миюки поместит ее на полку ду́хов. Урна останется на сорок девять дней в доме, ей будут подносить цветы, снедь, благовония, огонь; в ее честь будут производить жертвенные возлияния, а потом ее предадут земле – и о ловце карпов останется одно лишь воспоминание.
Миюки осторожно поглаживала бренные останки Кацуро и, не в силах удержаться, тихонько спрашивала его, не слишком ли холодна вода, которой она омывает его кожу, и так ли она ласкает его своей мокрой рукой, как ему когда-то нравилось: ведь теперь она не чувствовала довольного урчания мужа, которое направляло ее пальцы, придавая им гибкости, мягкости и проворства.
Рыбак был весь облеплен грязью и походил на глиняный сосуд – здоровенный кувшин, а ее влажные ладони, касаясь его там и сям, словно сглаживали на нем все трещинки. Улучив минуту, когда ее никто не видел, Миюки в последний раз прильнула губами к его большому члену, ставшему вдруг таким холодным.
Землистый привкус поразил ее. Когда Кацуро был жив и когда его член расправлялся во рту Миюки, у него был привкус сырой рыбы, молодых и теплых побегов бамбука, а когда он наконец изливался соками, то по вкусу напоминал свежий миндаль. А сейчас тот же самый член под языком Миюки был безвкусным, точно ил в храмовых прудах Хэйан-кё, когда работники Службы садов и заводей осушали их, перед тем как очистить.
Когда-то Миюки любила этого мужчину. Но не потому, что он был несравненным любовником – в конце концов, что́ она в этом смыслила, если, кроме него, не познала никакого другого мужчины? Он будоражил ее, когда со свойственной ему привычкой внезапно возникал у нее за спиной и обнимал за плечи, царапая ногтями ей кожу, обдавая дыханием шею и при этом источая запах перезрелого плода и плохо выдубленной кожи; он упирался коленом ей в нижнюю часть спины, поднимал полу блузки, обнажая кожу, и терся о нее своим членом, как будто катал рукой яичные трубочки. Он наслаждался только с нею, но удовлетворялся раньше, чем она, и совсем иначе.
Когда Кацуро уходил на реку, Миюки возвращалась в постель и снова и снова переживала каждое мгновение хищнической охоты, которой перед тем подвергалась: тихое подкрадывание, наскок, объятие, раздирание на части, пожирание, насыщение, бегство в ночь; часто только лишь мысль о том, что на нее напал дикий зверь, приносила ей удовлетворение, заставляя крылья носа холодеть и трепетать, притом что дыхание у нее становилось свистящим, учащенным, меж грудей лоснились капли пота, а шея с готовностью ждала укуса; она отрывисто и сипло вскрикивала, кожа у нее на лице как будто натягивалась, она начинала задыхаться, а потом вдруг высвобождалась, чуть выгибая спину, издавая губами долгий свистящий звук, – так она получала удовлетворение, приходя в состояние, подобное неспешному скольжению Кусагавы по мягкому травянистому ложу.
А еще ей показалось, будто тело мужа стало больше. Быть может, оттого, что в конце концов смерть сделала его мягче, хотя такое размягчение не входило в девять стадий превращения мертвого тела, как учили монахи.
В ночь бдения возле останков Миюки переоделась птицей, вытянула вперед шею и, раскинув руки, принялась семенить кругами по комнате, отвешивая почтительные поклоны другим женщинам, а потом, перепрыгивая с ноги на ногу, пронзительно закричала, издавая трубно-гнусавые звуки, похожие на крики серого журавля: кру-кру-кру, – таким образом она силилась помочь душе Кацуро – ведь считалось, что душа его приняла обличье птицы – вознестись на такама-но хару, высокую райскую равнину.
Между тем Кацуро не верил ни в богов, ни в приметы. Ничто и никогда не могло удержать его – он ставил верши даже тогда, когда все другие рыбаки сидели по домам под предлогом того, что день не сулил ничего доброго или что в тот день надлежало блюсти некий религиозный запрет. Что до запретов, то для Кацуро имели значение только обширные паводки на Кусагаве, когда карпы липли к речному ложу.
Ему было несвойственно задавать вопросы. Ни себе, ни кому бы то ни было. Он чаще говорил да, реже – нет, но почти никогда не спрашивал, где и когда, почему и как. Впрочем, в детстве Кацуро, безусловно, проявлял пытливость, как и всякий ребенок; но с возрастом он постепенно убедился, что пытливость штука бесполезная, потому как она не позволяет докопаться до сути вещей и хоть что-то изменить. Мысли его сгладились, подобно камням, торчащим на речном мелководье, и стали неподвластны ни усталости, ни унынию, ни апатии – всем тем ощущениям, которые, в конце концов, отнимают силы у ловца карпов похлеще воды, что подтачивает рыхлые берега Кусагавы.
Кацуро никогда не обращался к гадальщикам, чтобы узнать, благоприятна ли та или иная ночь для ловли карпов: рыба либо есть, либо ее нет, вот и все. Цвет и форма луны, возможно, влияли на настроение женщин, но на обилие рыбы выше или ниже по течению от порога Судзендзи это не оказывало ни малейшего влияния.
Миюки тоже равнодушно отнеслась к предсказаниям, хотя монахи-чревоугодники, придя к ней, объявили, что ей предстояло отправиться в дорогу не в добрый час, но, по счастью, они могли ей помочь, зашив в холщовый мешочек пеньковые ленточки, на которых они же обязались тщательно выписать названия всех святилищ, которые молодой женщине должны были встретиться на ее долгом пути к храмовым заводям Хэйан-кё. По их заверению, то был могущественный талисман, и сила его непременно защитит ее в путешествии как туда, так и обратно. Причем это будет стоить Миюки всего ничего: каких-нибудь двух-трех склянок черного саке да угощения из моти[10] с соленым налимом, щедро приправленное вешенками[11], которые, согласно поверьям, продлевают жизнь.
Речь шла не о пиршестве – всего лишь о доброй трапезе из тех, что Миюки частенько устраивала и для Кацуро, однако же она отклонила их предложение, потому как не пожелала тратить деньги, которые от имени селян отсчитал ей Нацумэ на доставку карпов к священным заводям и на пригляд за ними в первое время, покуда они не приживутся на новом месте. После этой последней поставки селяне, конечно же, назначат другого ловца карпов вместо Кацуро, и новоиспеченный поставщик вряд ли станет нанимать Миюки, чтобы она носила рыбу в Хэйан-кё, – он будет делать это сам, хотя такой труд окупался лишь при одном условии: если улов был добрый и его удавалось благополучно доставить в храмы императорского города.
Так что по возвращении из Хэйан-кё Миюки предстояло пересмотреть свою прежнюю жизнь.
Она станет безземельной крестьянкой, самой обездоленной из земледельцев. Кто теперь будет ее содержать? Может, придется подрядиться к кому-нибудь толочь просо? Или пойти гнуть спину на рисовые поля господина Сигенобу, тем паче что таким образом ее, по крайней мере, избавят от земельного налога, и, наверное, она сможет иногда ловить диких уток, которым Сигенобу позволил гнездиться на своих угодьях, потому как они выщипывали сорную траву и поедали насекомых, портивших рис. Единственное, что придавало Миюки уверенности, – так это то, что с голоду она не умрет: выше порога Судзендзи река Кусагава издавна зарастала водяным шпинатом с острыми листьями, мягкими и приятными на вкус.
Если бы дело было только в ней, она отправилась бы в путь-дорогу не мешкая: рыба – груз громоздкий – о том, чтобы взять дополнительную поклажу, не могло быть и речи. Миюки собиралась прихватить с собой кое-какую грубую одежонку из волокон глицинии, немного нарэдзуси[12] да рисовых лепешек, которыми можно было подкрепляться во время долгих переходов. С наступлением вечера, а также в дождливые дни, когда от грозового воздуха вода в вершах становилась зеленой, она надеялась, что сможет остановиться на каком-нибудь постоялом дворе, каких по дороге в Хэйан-кё было предостаточно, особенно в провинциях Тотоми и Микава.
Она помнила, как у Кацуро загорались глаза, когда он рассказывал про них. Иной раз он даже смеялся. Были у него и самые любимые: трактир Шести Кристаллов, трактир Первого Сбора (его назвали в честь сбора плодов хурмы – во всяком случае, так уверял Кацуро, хотя он говорил это смущенным голосом, и Миюки каждый раз отводила глаза в сторону: разве не собирались там и всякие девицы, охочие до любви, даже продажной?), трактир Красной Стрекозы или трактир Двух Водяных Лун.
Перед тем как покинуть Симаэ, Миюки предстояло приготовить для карпов переносное обиталище, и понадежнее.
По пути в императорский город молодая женщина решила держаться поближе к воде и отклоняться в сторону только в случае крайней надобности. Идти этой дорогой придется дольше, зато Миюки была уверена, что так для карпов всегда можно будет добыть свежей воды, если верши случайно прохудятся. Не было никаких гарантий, хотя Миюки и постаралась их покрепче уплотнить, что они не начнут пропускать воду, пусть и самую малость. Для того чтобы придать им большую герметичность и в то же время сделать так, чтобы карпы, любившие темноту, вели себя смирно, Кацуро обычно плотно обмазывал верши глинистым илом, затем изнутри и снаружи обшивал тканью и в довершение всего накладывал сверху толстый слой глины, втирая ее в ткань мокрыми руками, чтобы на жарком солнце или сильном ветру образовавшаяся глиняная корка не пошла трещинами. Но вода все равно проливалась, когда карпы, утомившись от долгого пребывания в тесных и качких узилищах, начинали биться или же когда от слишком резкого наклона коромысла (для этого довольно было оступиться и поспешно сделать один неверный шаг, чтобы снова обрести равновесие) в вершах «поднималась волна», и вода выплескивалась наружу.
Приготовив бадьи, Миюки отобрала карпов, которых собиралась туда запустить. Первым делом она отобрала рыбин, у которых чешуя образовывала одинаковую, равномерную ячеистую структуру наподобие кольчуги, носы были не слишком вытянутые и не очень короткие или приплюснутые, а плавники имели ровный окрас как у головы, так и у хвоста. Закончив первичную сортировку, она выбрала двух черных карпов (одного – черно-металлического окраса с отливом, другого – бархатисто-матово-черного) и пару тускловато-желтых рыбин – такие, впрочем, часто оказывались живучими и достигали значительных размеров; за ними последовала пара темно-бронзовых экземпляров, отливавших глянцем жидкого коричневого меда, ну а в довершение она присмотрела двух карпов, почти лишенных чешуи, отчего казалось, будто они закованы в медную броню.
Чтобы обеспечить им побольше жизненного пространства, Миюки решила взять с собой не очень крупных карпов – двухлеток, длиной чуть меньше одного сяку[13] и весом около одного кина[14].
Она брала их руками, проявляя терпение и ловкость, как это проделывал Кацуро, и хватка ее больше походила на ласку.
Дождавшись ночи, она разделась и спустилась в пруд, поджимая пальцы ног наподобие крючков, чтобы не поскользнуться на ослизлом дне. Плавать Миюки не умела – и зашла в воду только по пояс, потому что боялась утонуть, если, не ровен час, оступится и упадет. Она осторожно двинулась вдоль стенок водоема, зыбя черную воду коленями, бедрами, лобком и рябя расстилавшиеся перед нею отблески луны. Вода была ледянющей. Рыбин в темноте было не разглядеть, но Миюки чувствовала, как они проплывали совсем рядом, слегка задевая плавниками ее ноги, – и ей казалось, что она продиралась сквозь стаю холодных бабочек.
Вспомнив, как это делал ее муж, Миюки принялась соскабливать ногтями кожу, сдирая с нее мельчайшие частички грязи, – они тут же растворялись в воде, и карпы воспринимали их как естественную среду. Именно таким образом рыба постепенно привыкала к Кацуро, притом настолько, что сама ложилась брюхом в его ладони, что неизменно приводило в восхищение чиновников Службы садов и заводей.
Чтобы дать карпам пообвыкнуть в тесных вершах, которые должны были стать их обиталищами на многие луны, Миюки терпеливо выжидала дня три, прежде чем тронуться в путь.
Свое путешествие в Хэйан-кё она сравнивала с летними днями, которые начинаются с туманной дымки, застилающей все вокруг, а потом растворяющейся в солнечном свете, – и так до тех пор, пока на горизонте в час Собаки[15] снова не вздыбятся грозовые тучи. После смерти Кацуро молодая женщина жила будто в тумане, заглушавшем звуки и размывавшем цвета. Однако Миюки предчувствовала, что помутнение развеется, как только она отправится в путь: тогда мир предстанет перед ней в истинном свете – со всеми своими радостями и печалями. А потом, когда она доставит рыбу к месту назначения и выпустит ее в храмовые пруды, жизнь опять подернется пеленой тумана и кругом снова воцарится мрак.
– Ну! – послышался чей-то голос.
Миюки подняла глаза. Нацумэ, подойдя ближе, смотрел на нее во все глаза.
– Принимаешь ванну? – полюбопытствовал он. – Неужели?
Она сказала, что приручает рыб. Во всяком случае, пробует. Поскольку рядом с карпами отныне будет только она, нужно, чтобы они привыкли к воде, пропитанной ее запахом.
– Не знаю, придут они или нет, – бросил Нацумэ, махнув рукой в сторону деревенской площади, где пока что не было ни души.
Он имел в виду обряд, согласно которому селяне должны были собираться вокруг Кацуро и сопровождать его до лесной опушки. Там рыбак и селяне обменивались благословениями; провожавшие высказывали пожелания, чтобы Кацуро благополучно добрался с карпами до Хэйан-кё, а потом целым и невредимым вернулся обратно в Симаэ и чтобы по дороге его не ограбили – не отобрали векселя, выданные ему в Службе садов и заводей в счет уплаты за рыбу, – векселя, три четверти которых он должен был передать на нужды деревни, а остальные обменять вместе с Миюки в императорских складах на мешки с рисом, тюки пеньки и шелка́.
Точно курица перед кучей зерна, Миюки несколько раз быстро тряхнула головой, делая вид, будто клюет, и сопровождая свои движения резким кудахтаньем: ко-ко-ко! – сказала, что не заслуживает, чтобы ее провожали с таким почетом, потому как даже не знает, сможет ли одолеть хотя бы половину пути.
Если не сможет, вся деревня будет опозорена, поскольку селяне не сумели обеспечить поставку рыбы в храмы Хэйан-кё, а стало быть, Служба садов и заводей перестанет направлять к ним посланцев с заказами на карпов. Таким образом, Симаэ теряла не только репутацию, но и львиную долю денежной помощи, на которую жили ее обитатели. Нет-нет, монастырские настоятели, будучи большими ценителями декоративных рыб, конечно же, и впредь будут разживаться ими у рыбаков Симаэ, хотя не очень придирчивые покупщики из суровой монашеской братии не шли ни в какое сравнение со взыскательно-утонченными заказчиками Службы садов и заводей.
Снабжать рыбой водоемы Хэйан-кё было столь высокой привилегией, что прибрежные жители озера Юмиике, рек Сумиды или Синано беспрестанно докучали управителю Нагусе прошениями поручить это дело им, вместо того чтобы регулярно обращаться с заказами к обитателями Симаэ. Миюки уже чудилось, будто она слышит, как довольно бурчат рыбаки из Когуриямы, Асакусы и Ниигаты, прознав о смерти Кацуро.
– Итак, – осведомился Нацумэ, – сколько берешь с собой карпов?
– У меня четыре верши, по две рыбины на вершу – выходит, восемь карпов.
– А разве я не наказывал тебе отсчитать по крайней мере два десятка?
Всякий раз, когда Нацумэ серчал, он начинал тявкать. Решив, что это залаяла лиса, из стоявшей рядом купы деревьев шумно вспорхнула стайка воробьев.
Миюки, почтительно склонившись перед Нацумэ, заметила, что каждому карпу надобно изрядное количество чистой воды. А от двух десятков карпов слишком много испражнений – рыба может потравиться. К тому же, прибавила она, восемь – счастливое число, оно символизирует довольство и удачу.
– А муж твой, однако, носил по двадцать штук, или нет? Потом, это число я назвал не наобум!
– Кацуро брал с собой верши куда больше, чем те, что понесу я. Муж был очень сильный и выносливый, – прибавила она с улыбкой, которую деревенский старейшина, впрочем, не заметил, потому как молодая женщина все еще стояла, склонив голову в поклоне, и он видел лишь ее затылок с разделенными на пробор черными блестящими волосами.
Возложив подношения – цветы и кое-какую снедь – в маленьком святилище у своего дома, где уже хранились скромные памятные вещицы ее предков и мужа, Миюки водрузила себе на левое плечо длинную жердь с парой плетеных вершей на обоих концах.
Встревоженные резким колебанием жерди, карпы заметались в своих переносных узилищах и принялись наворачивать круги, взмывая по спирали со дна к поверхности и снова опускаясь на дно. Довольно было одного их движения, чтобы вода, заходив ходуном, начинала раскачивать жердь. Подобные колебания будто порождали две направленные навстречу друг другу ноты: одна возникала на переднем конце жерди, а другая – на заднем; в тот миг, когда они встречались, – ровно в том месте, где жердь прилегала к плечу Миюки, они сливались в одно благозвучие.
Малейшее изменение такой волны вызывало тревогу: это означало, что бамбуковая жердь наклоняется вперед или же назад, – и Миюки спешно приходилось приводить ее в равновесие.
Она прошла через всю деревню в сопровождении семенившего рядом Нацумэ. Несмотря на струйки дыма, поднимавшиеся над соломенными кровлями, хижины были закрыты, а на площади и улочках не было ни души.
Оскверненная смертью мужа и нарушившая связанный с ней запрет (ей надлежало целый месяц сидеть взаперти у себя дома), Миюки могла замарать всякого, кто осмелился бы приблизиться к ней. И молодая вдова прекрасно понимала – селяне предпочитали избегать ее, дабы потом не очищаться от заразы: ведь скверна, помеченная смертью человека, была особенно заразна.
– Ежели предположить, что чиновники из Службы садов и заводей отсчитают тебе столько денег, сколько мною было оговорено с их посланцами, – начал Нацумэ, – и при условии, что карпы, когда ты доставишь их до места, останутся такими же блестящими, шустрыми и изящными, как сейчас…
– Нет-нет, – прервала его Миюки, – я же говорила тебе, навряд ли вся рыба попадет в Хэйан-кё в хорошем состоянии. Может, мне и вовсе не повезет выпустить хоть одну в священные заводи.
Да и разве сам Кацуро, несмотря на неусыпную заботу о карпах, не терял по нескольку рыбин во время каждого путешествия? Довольно было грозы, чтобы вода в вершах помутнела и засмердела. Тогда рыбы опускались низко-низко и мягкими, пухлыми губами принимались обкусывать днище своих узилищ, будто силясь проложить себе путь к бегству из зловонной воды. А потом они всплывали кверху боком – и дохли.
На окраине деревни Нацумэ, вконец запыхавшись, присел на пенек. И, махнув рукой, словно отгоняя мух, дал знак Миюки идти дальше, хотя, быть может, таким образом он благословлял ее в путь-дорогу.
За крайней хижиной, служившей общим амбаром и покрытой не соломой, а кипарисовой корой, находились делянки, числом тридцать шесть, разбитые на небольшие участки наподобие шахматной доски с мелкими клетками – каждый зеленого цвета, где погуще, где потускнее, в зависимости от того, что там выращивали: рис, просо или другие зерновые. Нацумэ дождался, когда Миюки дойдет до самой дальней – тридцать шестой шахматной клетки и скроется в тумане, клубившемся над дренажными канавами, после чего встал с пня и побрел в глубь деревни, выкрикивая сиплым голосом, что жребий-де брошен и вдова ловца карпов отбыла в Хэйан-кё, твердо держась на своих ножках и неся длинную бамбуковую жердь, которая, мерно покачиваясь, ярко переливалась в лучах восходящего солнца.
Мимо него, чуть ли не над самой землей, пронеслись водяные пастушки[16] – с таким пронзительным криком, что можно было подумать, будто это визжат поросята, которым перерезают горло.
* * *
Как все важные чиновники, управитель Нагуса Ватанабэ был наделен привилегией жить на Судзаку-одзи, проспекте Красного Феникса, самой знаменитой улице в Хэйан-кё.
Главный вход в его жилище располагался под углом к улицам Томи и Раккаку, притом что все владение целиком – дом с пристройками, огородом и, главное, садом и прудом, питавшимся водой из обводного канала, – выходило на Судзаку-одзи. Благодаря такому расположению Нагуса был огражден от суматохи главной улицы, разделявшей императорский город на две половины, а также от туч охровой пыли, клубившейся над нею беспрестанно.
Проспект Красного Феникса состоял из трех проходов: один предназначался для мужчин, другой – для женщин, а третий служил проездом для сновавших туда-сюда повозок. Поскольку дом Нагусы стоял со стороны прохода для женщин, ему порой приходилось ждать, перед тем как, перейдя его, выйти на проход для мужчин. Так было и в то утро, когда ему пришлось пропускать неспешную процессию женщин, которые шли, пританцовывая, чтобы воздать почести Эбису, косматому, жестокосердному и торжествующему богу рыбаков. Вслед за тем управитель Службы садов и заводей, исполнившись долготерпения, был принужден пропустить нескончаемую вереницу запряженных быками повозок в сопровождении верховых.
По счастью, Нагусе надо было недолго идти до Судзакумона – Южных ворот, что вели через величественные крепостные стены к Большому дворцу.
Помимо Внутреннего дворца, где размещались дайри – Императорские хоромы, Большой дворец, настоящий город в городе, объединял церемониальные постройки и учреждения, имевшие прямое отношение к персоне императора; к числу последних принадлежала и Служба садов и заводей, занимавшая пристройку в китайском стиле, – каменный фундамент с лестницей на каждой стороне, а на нем деревянное здание, обрамленное матово-красными деревянными колоннами и увенчанное вогнутой кровлей из покрытой глазурью черепицы.
На самом деле Служба садов и заводей официально перестала существовать с 896 года, когда ее вместе со Службой масла и Службой посуды объединили со Службой императорского стола; однако должность управителя сохранилась, и еще больше века по-прежнему назначался старший чиновник высшего шестого ранга, продолжавший управлять императорскими цветниками, огородами и водоемами.
С непомерным числом служащих, включая сорок поваров, вдвое больше приказчиков, порученцев и рассыльных и не считая особого божества – бога печей, Служба императорского стола приобрела важное значение и пользовалась значительным влиянием; однако ж, хотя ее начальнику поручали приготавливать подношения для святилищ, он не был волен общаться с богами столь же непринужденно, как Нагуса: поскольку пруды были частью священного владения храмов, управитель Службы садов и заводей был тесно и постоянно связан с буддийскими и синтоистскими монахами, служившими тому или иному божеству.
Сгибаясь от боли, пронзавшей ему спину всякий раз при чтении сутр[17] и даже во время принятия аировых[18] ванн, – пожалуй, только в присутствии императора старику удавалось распрямиться, не особо корчась, – Нагуса прошел через несколько чистеньких внутренних двориков, устланных белым песком и мелким галечником и усеянных серыми замшелыми камнями. Связанные меж собой крытыми проходами, все эти дворики были одинаковыми и образовывали своего рода разделенный перегородками запутанный лабиринт: глинобитные стены были сложены таким образом, что, когда солнце стояло в зените, дайри, из почтения к императору, не омрачались ни единой тенью – и обретали поистине сказочный вид, превращаясь во дворец, парящий в ослепительном небе.
Перед наступлением осени, когда следовало готовиться к суровой стуже днем, и особенно ночью, дворцовая челядь принималась повсюду устанавливать хибати[19], чтобы обогревать – хотя на самом деле лишь едва согревать – ледяной воздух, который в зимнюю пору сковывал постройки Большого дворца. Нагусе приходилось то и дело припадать к стенам, чтобы не только не столкнуться с прислужниками, разносившими жаровни, но и не угодить под тучи пепла и сажи, стелившиеся следом за ними.
Так, злобно отряхиваясь, Нагуса вошел в первую из трех комнат, принадлежавших почившей в бозе, но все еще действующей Службе садов и заводей.
Кусакабэ Ацухито, самый молодой и верный из шестерых помощников Нагусы, тотчас поднялся и низко поклонился, выказывая таким образом глубочайшее почтение и будто выполняя танцевальную фигуру.
Однажды на ночном пиру, который император учинил в павильоне Благорасположения и Счастья, Нагусу поразило изящество, с каким Кусакабэ воплотил в танце образ рыбака, обнаружившего сотканную из перьев мантию, забытую неким небесным существом на сосновой ветке на песчаном берегу Михо; он танцевал куда более грациозно, пламенно и вдохновенно, нежели его партнерша, исполнявшая роль принцессы, – и Нагуса, почитавший красоту во всех ее проявлениях, сразу же решил взять его к себе в помощники.
– Премного сожалею, что опоздал, – сказал Нагуса, – но передвигаться по Хэйан-кё и впрямь становится все тяжелее. Народ все больше заполоняет улицы, а знакомых лиц встречается все меньше – определенно, в городе полно людей, прибывших невесть откуда, хотя им совершенно нечего у нас делать, и я не премину обратить на это внимание Его величества.
Таким образом он не упустил случая напомнить лишний раз, что наделен особой привилегией быть вхожим к императору. Кусакабэ незамедлительно поклонился еще раз.
– Мы смиренно дожидались вас, Нагуса-сенсей[20]. Только вот весьма жаль, что вы не повидались со жрецом храма Роккаку!
– С тем, что живет в лачужке на берегу заводи?
– Истинно так, – подтвердил юный помощник. – Он пришел жаловаться по поводу карпов – Служба, дескать, обещала их ему поставить, а он даже кончика морды ни одного не увидел.
С этими словами Кусакабэ Ацухито нарочито выпятил губы, как у карпа, чем рассмешил своих сослуживцев и смутил управителя больше, чем тому бы хотелось.
– Когда наши посланцы прибыли из деревни Симаэ? – осведомился Нагуса. И, поскольку подчиненные лишь молча воззрились на него, пробурчал: – Ну-ка, откройте реестры! Поглядите! Отыщите! Святой человек из лачуги заслуживает ответа!
Жизнь управителю представлялась неким целым, состоявшим из отдельных частиц, плотно пригнанных друг к другу, как стежки на вышивке. Стоило одному стежку, пусть самому ничтожному, выбиться из канвы, как узор рассыпался, весь целиком. Подобный взгляд на вещи не давал Нагусе ни мгновения покоя: ему приходилось постоянно следить за движением нити, чтобы она выводила ровный, четкий рисунок.
Кусакабэ отпер боковой шкафчик комода из лакированного вяза, достал оттуда свиток и принялся раскатывать его, пока не нашел то, что искал.
– Вот, – молвил он. – Трое посланцев вернулись в Хэйан-кё в первую луну четвертого месяца. В отчете указано, что по прибытии в Симаэ они узнали о смерти нашего неизменного поставщика карпов – рыбака Кацуро; но старейшина деревни заверил их, что вдова Кацуро заменит его и доставит рыбу в разумный срок.
– Разумный? – переспросил управитель.
– Где-то в течение тридцати дней – так заявили в Симаэ.
– Вдова самолично дала согласие или от ее имени договаривался старейшина деревни?
Кусакабэ поднес свиток к свету и нахмурил брови, будто стараясь разобрать написанное, – впрочем, так оно и было: писец, слишком широко расправивший кончик кисти, не успевал дописать иероглиф, как кисть высыхала, и в конце каждого иероглифа вырисовывалась гребенка из черточек, оторванных от основной части фигурного знака, – они становились все более тонкими и блеклыми, а насыщенной чернотой наполнялся только каждый следующий знак, и то лишь вначале.
– В свитке об этом ничего не сказано, – заметил Кусакабэ, согнувшись в три погибели, словно он принимал на себя всю вину за подобную небрежность.
Управитель Службы садов и заводей взглянул на него с едва скрываемой укоризной, однако она была адресована вовсе не Кусакабэ, а другому чиновнику, на которого он вслед за тем устремил откровенно гневный взгляд, спросив:
– Известно ли хотя бы, сколько карпов намерена поставить нам вдова?
– Служба затребовала два десятка рыб. За исключением редких случаев, именно такое количество карпов тот рыбак выпускал в наши заводи в каждый свой приход.
– Его жена, ясное дело, нипочем не сравнится с ним. Она, должно быть, старуха и едва передвигает ноги.
Чтобы показать свое презрение к вдове рыбака и разогнать затхлый воздух в комнате, Нагуса достал из складки своей мантии большой веер, расправил его и принялся обмахиваться.
– Как только она выпустит своих жалких карпов в наши заводи, – продолжал он, – я объявлю ей, что мы не намерены продлевать соглашение с ее деревней.
– Следует ли мне подготовить соответствующую бумагу, сенсей?
Старик согласно кивнул головой. Поскольку речь шла о расторжении сделки с безусловно невежественными крестьянами, ни в коей мере не сознававшими значимости Службы садов и заводей, Нагуса не счел нужным обременять себя соблюдением приличий, тем более что эти людишки все равно в этом ничего не смыслили. А раз уж, уточнил он, не было надобности запечатлевать факт расторжения договора на васи[21], дорожавшей с каждым днем, поскольку мануфактура на реке Сикугаве с недавних пор начала производить из коры тутового дерева особые виды бумаги с шелковистой поверхностью, которой отныне только и пользовались знатные дамы при императорском дворе, чтобы вести свои хроники, – стало быть, довольно и деревянной дощечки, дабы известить жителей Симаэ, что Служба садов и заводей более не нуждается в их услугах.
– Стоит ли поблагодарить их за прошлую службу, сенсей?
Нагуса Ватанабэ промолчал. И лишь едва пожал плечами – у него и впрямь нестерпимо ломило спину от копчика до лопаток.
Телесный недуг ввергал его в отчаяние, невзирая на то что при определенном освещении его лицо все еще производило достойное впечатление, благодаря густым белоснежным волосам и неизменно живому взгляду, лучившемуся из-под лунообразных век, – в нем по-прежнему отражалась несгибаемая воля, не принимавшая и решительно отвергавшая усталь и старческую немощь.
* * *
Ни родня Кацуро, ни родственники Миюки, из которых у нее остались только сестра и дядья – остальные были вырезаны во время кровавых набегов повстанческих орд, – не имели достаточно средств, чтобы покрыть расходы на синтоистскую свадьбу. Для подобного торжества требовалось приготовить подношение по уходу за храмом, оплатить жрецу и мико[22] кимоно с ярко-красными штанами, купить покрытые красным лаком кубки, из которых супруги должны были испить золотого саке, а также ветку сасаки[23] с нежно-розовыми цветами, чтобы возложить ее на алтарь в довершение обряда.
А посему Кацуро с Миюки выбрали так называемое ночное проникновение – самый распространенный способ заключения брачного союза, и благо что дарового: жениху довольно было всего лишь несколько ночей подряд пробираться в спальню к невесте и вступать с нею в соитие, чтобы их союз был признан официально.
Убедившись, что у Миюки нет нареченного возлюбленного, Кацуро как-то подошел к девушке и рассказал ей о своей мечте сделать новую вершу для ловли карпов. До сих пор, по его словам, он довольствовался тем, что забрасывал в реку вязанки хвороста, куда и попадали охочие до укромных убежищ карпы. Они застревали там намертво, и, чтобы их вытащить, юноше приходилось расплетать вязанки ветка за веткой – но когда тонкие прутья расправлялись, раскрываясь веером, карпы ускользали.
Миюки не могла взять в толк, какое отношение она имела к проворству рыб-беглянок и неуклюжести рыбака, – и всего лишь из вежливости посмеивалась, прикрывая рот ладонью-лодочкой, как будто ей еще никогда не доводилось слышать ничего более смешного, чем эта байка про карпов, рвущихся на свободу.
Тогда Кацуро принялся объяснять, что ему в голову пришло смастерить из гибких тростинок воронку с крышкой, приспособленной так, чтобы рыба, попав внутрь, уже не смогла бы из нее выбраться.
– Такое должно сработать, – согласилась Миюки, склоняясь над рисунком, который молодой рыбак набросал на пыльной земле.
Из чувства застенчивости она была вынуждена умерить свое восхищение хитроумным устройством ловушки, хотя и оценила его по достоинству.
– Это уж точно сработает! – продолжал Кацуро. – Да только сплести такую вершу мудрено – для этого нужны тонкие и ловкие пальцы. Как у тебя. Вот я и подумал, может, ты согласишься изготовить мне три такие верши – скажем, две поменьше и одну побольше?
Впрочем, Кацуро был достаточно искусен и вполне мог сам сплести ловушки, но он нашел этот предлог для того, чтобы иметь возможность проникать ночью в дом Миюки и проверять, как у нее спорится работа.
Поскольку ужасающее управление государственными финансами в ту пору обернулось почти полным исчезновением денег, народу пришлось пробавляться меновой торговлей. Соломенные сандалии меняли на рис, саке – на кипы бумаги индиго, оленину – на непромокаемые зонтики. Вот и Кацуро, в обмен на верши, которые Миюки должна была сплести для него, предложил ей лакированный гребень, девять мер риса и три самые крупные рыбины из тех, что он надеялся выловить в Кусагаве. Миюки, не раздумывая, приняла его предложение: ведь сделка была для нее, безусловно, выгодной – по крайней мере, она так думала.
Юноше, готовившемуся к ночному проникновению, советовали наполовину обнажиться, перед тем как проникнуть в дом к девушке, которую он хотел взять в жены, и не для того, чтобы показать свою решимость, а чтобы его не приняли за вора: в самом деле, грабители имели обыкновение облачаться во множество одежд, дабы уберечься от палок, которыми их могли поколотить.
Помимо раздевания, влюбленному также рекомендовали прикрыть лицо тряпкой, чтобы скрыть смущение в том случае, если желанная девушка даст ему от ворот поворот, когда он проникнет к ней в дом.
Наконец, ему давали совет помочиться на нижнюю часть раздвижной двери, отделявшей комнату его возлюбленной от остального жилища, и таким образом смочить направляющий желобок, чтобы дверь не скрипела.
Впрочем, Кацуро был волен шуметь вовсю: после смерти родителей Миюки жила одна-одинешенька в покосившейся хижние, и все соседи знали, как она ждала ночного гостя, чтобы ее наконец официально признали невестой. Ей вовсе не хотелось скрытого проникновения – напротив, она грезила о пришествии барабанщиков-тайко, которые будут ловко вращать своими колотушками, обрушивая их на белую мембрану огромных барабанов, и таким образом возглашать на всю сонную деревню, что Кацуро вторгся к ней в дом и в ее жизнь.
Каждый вечер ей чудилось, будто она слышит тяжелый, мощный и величественный бой ритуальных барабанов, возвещающих о пришествии суженого, готового соединиться с нею. Но за бой огромных тайко она принимала всего лишь биение своего сердца.
Заключение брачного союза через ночное проникновение предполагало, что у невесты есть близкий родственник – чаще мать или брат; встречая жениха у входа, они объясняли ему расположение дома и передавали зажженный фонарь, чтобы он мог легко ориентироваться внутри. Но Кацуро, зная, что у Миюки больше нет ни брата, ни матери, пришел с собственным фонарем – железным, украшенным чеканкой в виде птиц. А ориентироваться в доме ему было проще простого, благо тот состоял из одной-единственной комнаты с земляным полом и спальной нишей в стене, за которой располагался сарайчик, где хозяйка держала кое-какую домашнюю птицу и пару свиней.
В той самой комнате он и обнаружил Миюки – она сидела на корточках в нише, задернутой шторами, сшитыми из кусков различных тканей: не имея средств, чтобы купить достаточное количество одинаковой материи, она была вынуждена довольствоваться отрезами разных цветов с разными же символическими рисунками.
Хотя было еще не очень тепло, в тот вечер она облачилась в легкую белую юкату[24], расписанную с помощью трафарета рисунками в виде веток глицинии.
– Это я, – упав ниц, промолвил Кацуро. – Я, Накамура Кацуро.
– Кацуро, – повторила она. – Ты же прямо с улицы, Кацуро, так скажи, там все еще идет дождь?
Она могла догадаться об этом, только прислушавшись. Но справляться о дожде было не самым лучшим началом разговора, когда вы едва знакомы друг с другом.
И то верно, все, что она знала про Кацуро, можно было выразить в нескольких словах: он был примерно вдвое старше ее, никогда не был женат и жил за счет рыбной ловли, причем весьма неплохо, особенно когда Служба садов и заводей при императорском городе заказывала ему карпов, а такое случалось раза два или три в год, поэтому он пользовался большим уважением у жителей Симаэ – ведь достаток деревни в немалой степени зависел от поставок декоративных рыб для храмов Хэйан-кё.
– Дождь перестал, – сказал Кацуро. – Но поднялся туман.
На теплую землю обрушился холодный ливень – иначе и быть не могло.
– Мне совестно, – прошептала Миюки, – что никто из моей родни тебя не встретил, не передал тебе фонарь и ты был вынужден сам искать дорогу.
Она сокрушалась так, словно Кацуро пришлось плутать в жилище с бесконечным лабиринтом коридоров, ведущих в бессчетное число комнат.
Кацуро сощурился, стараясь получше ее разглядеть, потому что, охваченная чувством стыда, она отодвинулась от лужицы желтоватого света, который отбрасывал фонарь. Он хотел было переставить фонарь поближе к ней, но она снова отодвинулась в тень, пряча свой лик в обрамлении черных блестящих волос, смазанных маслом и собранных на затылке в пучок, перевязанный красной ленточкой. Ее чуть раскосые глаза с черными точками зрачков переливались всеми цветами радуги под короткими редкими ресницами. Кожа ее дышала девичьей чистотой, нетронутой женственностью и свежестью, а чтобы придать ей белизны, Миюки натерлась соловьиным пометом.
Тут поднялся ветер – восходящая луна высвободилась из-под нагромождения туч. И осветила нишу. Рыбак задул фонарь, ставший теперь бесполезным, и лег рядом с Миюки.
Перебирая складки кимоно Кацуро, молодая женщина нащупала его обнаженную кожу и принялась ласкать ее кончиками пальцев, губами и языком, а также гладкими и холодными, как вороново крыло, волосами. Припав ртом к отверстиям широких рукавов хаори[25], которое рыбак надел поверх кимоно, она прихватила губами его пальцы и начала их покусывать и посасывать, обильно смачивая маслянистой слюной, так что скоро они стали скользкими и липкими, будто побывали в чаше с медом, и взяться за что-либо уже не могли.
А Миюки только рассмеялась, видя, что напрочь обезоружила его, словно накрепко связав по рукам.
Кацуро застонал, в то время как у него под кимоно, ниже живота, вздыбился бугорок, который Миюки, схватив в кулак, принялась сжимать, мять, массировать, давить и растирать. От таких ласк яички и член у Кацуро сжались в одну сплошную массу, ходившую ходуном под ее настойчивой рукой. Миюки казалось, что она теребит маленькую обезьянку, скрючившую лапки.
Мужчина перевернулся на живот, высвободив свой член из болезненного плена женских ласк. Тогда женщина расправила руки и принялась водить ими по телу Кацуро, оглаживая ему спину, в то время как ее губы поочередно целовали его подколенные ямки, бедра, ягодичную складку. Затем ее рот заскользил короткими рывками вверх от позвонка к позвонку и достиг нижней затылочной ямки, где выступил пот и где мало-помалу накапливалось возбуждение, которое разливалось по всему его телу.
Потом Миюки схватила возлюбленного за уши и, с силой повернув его лицо к себе, дунула в закрытые, будто съежившиеся веки, заставив открыть глаза, – он отчасти повиновался, раскрыв блестящие черные щелочки, и тогда она проникла языком ему в нос, наполнив ноздри крепким солоноватым ароматом, отчего рыбак дважды простонал, не смея пошевелить руками, придавленными коленями
Миюки.
Она ласкала его без устали. И вот уже ее груди коснулись лица Кацуро. Они были маленькие, круглые, мясистые, упругие – и пружинили, натыкаясь на встававшие у них на пути подбородок, нос, надбровные дуги рыбака и оставляя меж прядей его волос легкие бороздки, похожие на заячьи следы на ячменном поле.
Следом за тем ее лобок, спрятанный под жестковатыми волосами, коснулся мужской груди, и раскрытые половые губы скользнули по лицу мужчины, будто смазывая его теплым, жирным мускусным бальзамом.
Он застонал в третий раз, а Миюки, заметив, что у нее из пучка выбилась прядь, подхватила ее ртом и зажала зубами на манер жрицы любви, потом раздвинула шире бедра и взгромоздилась Кацуро прямо на нос. От соприкосновения с этим теплым кожистым колышком на половых губах молодой женщины выступили капли вагинальной смазки – они окропили щеки рыбака и просочились в бороду, отчего лицо у него словно расцветилось звездочками и засверкало так, будто он продирался сквозь пенный ступенчатый порог Судзендзи.
Чуть погодя они, смеясь, смыли с себя испарину – очистились, обливаясь водой из ведер, которые согревались в горячей золе очага, и оттерли друг дружку пемзой, оставлявшей красные следы на коже.
А незадолго до рассвета, согласно обычаю, Кацуро покинул дом Миюки.
Много ночей подряд рыбак проникал в дом к молодой женщине втайне от селян. Он осыпал ее ласками, а она одаривала ими его: Миюки умела щедро ласкаться ртом и языком, а Кацуро пускал в ход пальцы, наторевшие искусно плести рыболовные сети, притом что каждый был как будто наделен собственной, необычайной жизненной силой. После этого Кацуро исчезал никем не замеченный.
Так продолжалось до тех пор, пока по его осунувшемуся лицу, покрасневшим глазам, медлительным движениям и сонливости, подстерегавшей его где и когда угодно, другие рыбаки наконец не смекнули, что к чему, и не доложили обо всем Нацумэ.
Поклонясь деревенскому старейшине, Ягоро, повелитель осетров, водившихся в реках вот уже сто сорок миллионов лет, – рыбак Ягоро, облеченный в сан, равновеликий сану Кацуро, повелителю карпов, сказал так.
– И вот он стал подобен призраку, – посетовал он. – Цвет лица у него все больше походит на золу, глаза покраснели, точно сливы, а когда встречаешь его по утрам, дышит он так часто, как будто у него пересохло во рту, как будто силы того и гляди оставят его и существо его сделается пустым.
– Призраки – темные обитатели нашей души, – заметил Нацумэ. – Может, поэтому они прячутся в сирикодаме[26] и занимаются там своими делами – во мраке и смраде.
– А вот мне, – заговорил Акинару, лучший ловец угрей на Кусагаве, – так и не удалось найти у себя сирикодаму. У меня в том месте только вонючая дырка.
– Однако не думаю, что Кацуро обратился в призрака, – продолжал Нацумэ, не придав никакого значения словам Акинару о его разборках с собственным сирикодамой.
– Да ну! – бросил Ягоро. – Тогда, по-твоему, почему он так изменился и, главное, почему так быстро?
– Не прошло и одной луны, – вторил ему Акинару.
– Кто-то из вас ходил за ним по пятам, что ли? – полюбопытствовал Нацумэ.
– Это еще зачем? Он почти не выходил из дому с той поры, как на Кусагаве прибыла вода и река стала похожа на болото, а карпы не больно-то любят грязь, да и Кацуро тоже.
– А ночью?
– Ночью?..
– Ну что ж, – с лукавым прищуром проговрил Нацумэ, – тогда, может, Кацуро влюбился?
Акинару с Ягоро переглянулись. Они оба были в годах, конечно. И о любви уже давно не помышляли. Третью жену у Ягоро похитили напавшие на деревню пираты, а ловец угрей лишился своего члена после того, как его укусил сом. Мысль о том, что Кацуро бегает под луной за какой-нибудь распаленной девицей, никогда не приходила им в голову – и казалась несуразной даже теперь, когда ее высказал деревенский старейшина.
Итак, вместо синтоистского обряда с последующим празднеством, брачный союз Кацуро и Миюки был скреплен общиной Симаэ.
Миюки не принесла с собой никакого приданого, однако ж, согласно обычаям, она обязалась всячески обхаживать Кацуро – отныне именно ей приходилось обшивать его, стряпать ему, возделывать две их рисовые делянки и заботиться о его рыболовных снастях.
* * *
А вот и лес. Серые клочья утреннего тумана цеплялись за колючие кустарники ежевики и ветви приземистых деревьев, усеянные белыми восковыми цветками, отчего все вокруг походило на алтарное пространство святилища, уставленное церемониальными свечками. Слышалось, как где-то в сумраке крадутся лани, как они скрежещут зубами, обгладывая кору прямо со стволов ясеней.
Восходящее солнце дробилось на мириады теплых лучей, ласкавших затылок и плечи Миюки.
Пепельного цвета тропинка, по которой шла молодая женщина, образовала подобие выступа над извилистым швом – должно быть, руслом древнего потока, обезвоженным за время летних засух. Однако, как ни странно, хотя русло полностью пересохло, вдоль него порой над зарослями карликового бамбука порхали стрекозы – признак того, что, возможно, кое-где под камнями остались лужицы.
Узловатые корни, неровно бугрясь, переплетали сухое русло-тропинку от берега до берега. Боясь споткнуться, Миюки передвигалась мелкими шажками, не сводя глаз с торчавших под ногами корней, согнувшись в три погибели, как тот осужденный, которого однажды гнали через всю Симаэ с тяжеленной деревянной колодкой на шее, мешавшей ему распрямить спину и дотянуться руками до лица и облепленных мухами слезящихся глаз. Миюки с несколькими сердобольными женщинами тогда пихала рисовые катыши в его голодный рот, истекавший зловонной пеной.
Не считаясь больше женой Кацуро, Миюки, по крайней мере, по-прежнему оставалась женщиной из Симаэ. В этом качестве ей суждено жить дальше как среди людей, так и в одиночестве.
Миюки с большим тщанием исполнила все, что ей было положено, дабы облегчить Кацуро переход в иной мир, и теперь она смела надеяться, что, когда придет ее черед умирать, жители Симаэ точно так же оставят свои земные дела и проведут подобающий погребальный обряд, сопроводив ее к пределам Потустороннего мира, – впрочем, существование этого самого Потустороннего мира до поры мало заботило их, как и Миюки.
Но сейчас слабая незримая нить, что пока еще связывала Миюки с Симаэ, натягивалась все туже и истончалась с каждым шагом, отдалявшим молодую женщину от ее деревни. Она была еще только в начале пути, а ей уже казалось, что облик Симаэ мало-помалу стирается из ее памяти. Разнообразие красок, и это главное, постепенно затушевывалось широкими одноцветными пятнами, словно картинки из ее недавнего прошлого заволакивало рваной пеленой стелющегося тумана, иссеченной потоками зыбучего песка. Резкий, насыщенный влагой запах рисовых полей, свежее благоухание мокрой растительности и пропитанной сыростью земли, нежный, едва уловимый аромат вареного риса, клубившийся над хижинами, серый дымок над кучами навоза, сверкающий багрянец сливовых деревьев после осеннего дождя – все это она могла узнать и описать, но теперь все это превратилось для нее в бесплотные тени воспоминаний, смутные видения.
Быть может, виной тому, что у Миюки притупилась память, был Кацуро – вернее, то, что осталось после него на земле: дух, душа, неясный образ? Может, так он старался уберечь ее от тоски по былому, способной отнять у нее отвагу, которая была ей необходима, чтобы доставить карпов к храмовым заводям Хэйан-кё?
На людях или в семейном кругу Кацуро всегда говорил и действовал только ради них обоих. Так что главный смысл жизни Миюки свелся к тому, чтобы ждать мужчину, взявшего ее в жены. Как и большинство женщин в Симаэ, вставала она засветло – и до конца часа Лошади[27] занималась домашним хозяйством. Потом она переходила к пруду – кормила карпов, которых разводил Кацуро, ухаживала за ними и укрепляла стенки водоема, покоробившиеся от солнечного жара или зимней стужи.
В особо знойные дни она позволяла малышу Хакубе, сынишке горшечника, приходить и плескаться в этой купальне, а взамен мальчуган приносил с собой наимягчайшую, самую добротную глину и обмазывал ею стенки пруда для большей их водонепроницаемости. Хакуба был еще слабоват, чтобы тягаться силами с Кусагавой, но его ловкость в обращении с рыбами в пруду, его умение холить их и лелеять до того нравились Кацуро, что он уже подумывал сделать его своим преемником, – по крайней мере, если Служба садов и заводей и впредь будет числиться среди его покупщиков. В один прекрасный день руки у Хакубы станут достаточно большими, а пальцы вытянутся настолько, что он сможет обхватывать ими карпов целиком и легко перемещать их из одного обиталища в другое. В тот самый день Кацуро поднесет ему первую чашу саке – а потом они с женой, допивая на пару склянку, будут говорить о юном Хакубе как о родном сыне.
Когда вечерело, Миюки садилась на корточки у двери хижины и неотрывно глядела на улочку, по которой Кацуро возвращался с реки.
Как только она узнавала мужа по фигуре, по его пружинистой, как у зверя, походке, помогавшей ему идеально ровно удерживать верши, полные рыбы, Миюки, встав и отряхнувшись от пыли, успевавшей пристать к одежде за время долгого ожидания, сперва широко растягивала губы в радостной улыбке, а после снова сжимала их (негоже выставлять напоказ всей деревне свои зубы и оголенные десны) и довольствовалась тем, что встречала Кацуро, лишь едва приоткрыв свой ротик, маленький, но такой же аппетитный, как нежный, сочный плод.
Первые дни были особенно изнурительными. Помимо того что Миюки с большим трудом пробиралась по сырому лесу через плотную, густо переплетенную растительность, сквозь которую почти не проникал солнечный свет, на плечи ей нещадно давило коромысло. Боль в плечах была тем более невыносимой, что длинная бамбуковая жердь постоянно отклонялась то в одну, то в другую сторону совершенно непредсказуемо: молодой женщине казалось, что она наконец выровняла свою непосильную ношу, облегчив ее давление на плечи и загривок, как вдруг в следующий миг ей приходилось наклоняться вперед, чтобы взойти по тянущейся вверх тропинке, или же, напротив, переносить всю тяжесть груза и собственного тела на пятки, когда тропинка вела вниз. От постоянного раскачивания вершей и смещения центра тяжести жердь соскальзывала то вперед, то назад, притом что бамбуковые узлы царапали ей кожу до крови.
Так она шла до тех пор, покуда видимость не падала настолько, что деревья кругом, как ей казалось, превращались в темную стену без единой бреши.
Когда мрак окутывал подлесок и скрывал от нее возможные препятствия, Миюки до смерти боялась оступиться, упасть и растерять рыбу. Хотя карпы посверкивали в темноте и у нее была надежда их собрать, разглядев на фоне перегноя, но что толку складывать их обратно в верши, если оттуда вылилась бы вода?
В таком случае молодой женщине останется только одно – скорее оборвать их агонию.
Когда Кацуро был принужден по той или иной причине умертвить карпа из своего улова, если только тот не был слишком крупным, он просовывал палец ему в пасть и резким движением вгонял его еще глубже, проламывая рыбине затылочную кость. Но Миюки понимала, что она не настолько ловкая, как ее муж, да и пальцы у нее не такие длинные, как у Кацуро. Она уверяла себя, что будет глядеть в оба, стараясь ненароком не зацепиться сандалией за нору какого-нибудь тануки[28] или застрять меж двух невидимых в темноте корней.
Так она и шла, высоко поднимая колени и как бы перешагивая через препятствия, которые если и существовали, то разве что в ее воображении, а между тем проснулись карпы, привыкшие к ночному образу жизни.
Поскольку Кацуро не раз доводилось наблюдать за карпами как в естественной среде обитания, так и в неволе, он много чего узнал про повадки этих рыб и успел передать свои знания Миюки. Так, ей было известно, что карпы кормятся обычно в сумерках. Карп ленив и предпочитает добывать себе корм – животное или растение, – выкапывая его носом из донного ила; он не больно расторопен и не может угнаться за куколкой насекомого или маленькой водорослью, подхваченными течением и ускользнувшими от его чувствительных усиков, – словом, живет он по такому принципу: на одного упущенного мотыля сто других найдется.
Продираясь сквозь деревья, Миюки сдирала с них кору – мириады крохотных личинок древоядных насекомых осыпались с нее в верши и, утонув в заполнявшей их воде, шли ко дну. О лучшем лакомстве карпы не могли и мечтать, тем более что Миюки сдабривала их рацион, подбрасывая в воду растертый шпинат и листья кувшинок из запаса, который она взяла с собой, когда покидала Симаэ, – и это не считая свежемолотого чеснока, который, по наблюдениям Кацуро, делал рыб более живучими и стойкими.
Шевеля усиками, тычась мордами в ил, которым молодая женщина щедро сдобрила днища вершей, карпы пировали на славу. Миюки не видела их – зато чувствовала и слышала, как они бились и плескались в воде, взбаламучивая ее грудными и широко расправленными хвостовыми плавниками, отчего бамбуковая жердь-коромысло ходила ходуном.
Когда же сумерки начали сгущаться и стал накрапывать дождь, Миюки, ощущая радость рыб, с благодарностью вспомнила Кацуро.
Стояла кромешная тьма, когда вдова рыбака наконец выбралась из леса.
Перед ней было открытое пространство, усыпанное хвоей, шелухой коры, засохшим мхом и какими-то синевато-серыми отложениями, отчего земля походила на береговую линию во время отлива.
Не успела молодая женщина выйти из-под прикрытия деревьев, как на нее со всей силой обрушился ливень. Казалось, он нацелился только на нее, потому как, насколько ей было видно сквозь застилавшую глаза пелену дождя, в каком-нибудь шаге от нее потоп был не такой сильный; но стоило Миюки сделать шаг в сторону, как водяной поток отвесно обрушивался на нее с удвоенной силой, дробно стуча по голове холодными каплями.
Встревоженные барабанной дробью дождя и порывами ветра, зыбившими воду в их узилищах, карпы опустились поближе к тонким илистым днищам вершей. Прижимаясь друг к дружке боками, они вращали глазищами с желтоватыми радужными оболочками в черную крапинку, недовольные тем, что им пришлось прервать пиршество: ведь до новолуния оставались каких-нибудь три дня, а в это время карпы отличались особой прожорливостью.
Взобравшись по крутой тропинке, Миюки разглядела справа, за изгородью из кизилового кустарника, серый деревянный домишко под кровлей из толстых вязанок рисовой соломы, прореженных диким ирисом, очитком[29] и пучками овсяницы. В оконцах из полупрозрачной бумаги брезжили желтоватые отсветы масляных ламп.
Домишко назывался Приютом Заслуженного Воздаяния – уж не он ли был одним из излюбленных трактиров Кацуро?
Миюки думала остановиться в трактире, где муж оставил по себе добрую память, надеясь, что хозяин, числившийся, как это часто бывало, управляющим близстоящего монастыря (и правда, время от времени из тумана доносился звон колокола), милостиво поднесет молодой вдове плошку риса и предоставит ночлег в тепле и сухости.
Но даже если покупщики Кацуро и не окажут ей никаких привилегий, молодая женщина все равно предвкушала счастливую возможность провести несколько часов в трактире, где подкреплялся ее муж, где он спал и, быть может, даже смеялся во сне: иногда рыбаку снилось, будто он летает, – ему довольно было раскинуть руки, чтобы ощутить упругое сопротивление воздуха, – и тогда, опираясь на воздушный поток, он возносился над миром и, паря в полном восторге над кровлями домов, смеялся как ребенок.
Чтобы попасть в Приют Заслуженного Воздаяния, Миюки надо было спуститься в низину по осклизлой дорожке, которая огибала широкий пруд, заросший лотосом. До Приюта можно было добраться и напрямки – в одной из лодок, привязанных к большим камням у берега, но Миюки вряд ли сумела бы провести лодку меж лотосами, почти полностью покрывавшими водную гладь. Что, если она зацепится шестом за их разветвленные мясистые корни, переплетенные в тугие клубки? И что, если карпы, почуяв стойкий сладковатый запах пруда, начнут метаться и выпрыгнут из вершей? С наступлением сумерек синевато-зеленая при дневном свете гладь пруда помутнела и потемнела, сделавшись густо-черной, будто тушь для каллиграфического письма.
Подобно большинству трактиров, Приют Заслуженного Воздаяния был длинный и узкий – передняя его часть была отведена под торговые нужды, а жилые помещения располагались в задней.
Посреди коридора, тянувшегося из конца в конец, на стыке двух половин дома, находилась кухня. Там суетились две женщины – они стряпали для путников, которых ожидали в трактире нынче вечером. Стряпухи вышли на порог кухонной пристройки поглядеть, что за ноша была у Миюки. Завидев карпов, они принялись всплескивать руками и покрякивать, а та, что постарше, достала нож и начала водить им по воздуху, делая вид, будто затачивает его на водном камне.
– Нет-нет, – живо воспротивилась Миюки, – не смейте прикасаться к рыбам – они не для еды. Я несу их в Хэйан-кё для украшения храмовых прудов. И в пути порукой мне служит Нагуса-сенсей, управитель Службы садов и заводей.
Выговаривая имя Нагусы, Миюки поклонилась так низко, насколько это позволяла ей длинная, громоздкая бамбуковая жердь. Престарелая стряпуха и ее подручная сделали то же самое.
– Помнится, мне уже доводилось потчевать – кажется, грибами – одного мужчину, так вот он тоже таскал рыбу для храмов императорского города.
– Это был мой муж, – догадалась Миюки, – Кацуро.
Желание молодой вдовы исполнилось. Случай привел ее в тот самый трактир, где останавливался отдохнуть Кацуро. Быть может, его образ и сейчас витал где-то здесь.
На том месте, где стоял трактир, бил горячий источник. Испускавшая пар вода, заполняя небольшой естественный водоем, вытекала из него через изгородь из гладких серых вулканических камней и за нею сливалась с горным потоком, втекавшим в купель. Там, в горячей воде, уже сидели несколько монахов – их круглые, лишенные всякого выражения лица были обращены в сторону притрактирного сада.
Акиёси Садако, окамисан[30], здешняя управительница, недолго думая, предложила Миюки присоединиться к братии – тоже омыться в купели и снять дорожную усталось.
Несмотря на то что это могло принести ей облегчение, Миюки отказалась: глядя на престарелую стряпуху, вертевшую ножом и то и дело косившуюся на верши, она понимала – в дороге ей лучше не разлучаться с карпами ни под каким предлогом.
Рассказав, что в округе шалят пираты, хозяйка предложила Миюки примкнуть к монахам, собиравшимся покинуть трактир завтра чуть свет, – они держали путь на остров Эносима.
– Можете дойти под их защитой до устья Катасэгавы и потом свернуть на дорогу, что ведет в Хэйан-кё. А там смешаетесь с толпой паломников.
– Монахи, верно, будут ждать, что я им заплачу за сопровождение. Да только у меня с собой нет ничего, кроме самой малости соленого риса, чтобы только хватило сил донести рыбу до места назначения.
– О, я уверена, они согласятся, ежели с ними расплатиться… ну да, ведь они же, в конце концов, мужчины… ну, вы, конечно, смекаете, о чем я говорю…
Миюки, чуть приоткрыв рот, воззрилась на окамисан.
– Вы что, никогда не шелушили рис? – полюбопытствовала хозяйка трактира.
И, поскольку Миюки хранила молчание, прибавила, давясь от смеха:
– Так вы и в самом деле не знаете, кто такая шелушильщица риса?
– Неужто не знаю, – обиделась Миюки. – У нас в Симаэ тоже есть рисовые поля, и рис наш тучный, сочный… и хоть я больше помогаю – вернее, помогала – моему мужу, рыбаку, поддерживать в чистоте пруд, ухаживать за рыбой, мне часто приходилось и рис растирать. И я никогда не скрывала своих подмышек от других женщин, – прибавила она, показывая, что запросто могла высоко поднять толчейный пест, – так высоко, чтобы стали видны ее подмышки.
– А у нас, – пояснила хозяйка, – шелушильщицы не шелушат рис. Сказать по чести, они вообще не имеют к рису никакого отношения. А зовутся они так потому, что вся их работа состоит в том, чтобы растирать сложенными вместе руками эти самые мясистые трубочки, похожие некоторым образом на пестики…
Акиёси Садако на мгновение запнулась, стыдливо опустив веки.
Миюки тоже закрыла глаза, подумав, неужели пальцы какой-нибудь шелушильщицы и впрямь прикасались к набухшему горячему члену Кацуро и ласкали его и разминали? Ну конечно, подумала она. На обратном пути из императорского города Кацуро мог щедро расплатиться с одной из таких вот шелушильщиц, и даже не с одной, за целую череду ночей. Приют Заслуженного Воздаяния оправдывал свое название с лихвой.
– Ну так что, смекнули, наконец?
– О да, – вздохнула Миюки. – Но только…
– …только вы не такая, как эти шлюхи, понятное дело. Жаль, а то бы вас тут встретили с распростертыми объятиями. Лично я не взяла бы ни гроша за ночевку под этой крышей.
Акиёси Садако повела Миюки через лабиринт деревянных решеток и перегородок, ширм из промасленной бумаги, опущенных пологов и штор, за которыми слышался шум дождя, пролившегося на сад, а когда он на мгновение-другое стихал, его заглушало пение сверчков.
Миюки шла след в след за семенившей впереди окамисан, стараясь, чтобы из вершей не выплеснулось ни капли воды.
В какой-то миг, переступая через порог, она наткнулась на что-то мягкое. То было девичье платьице, кадзами, из шелка-сырца – оно лежало, будто свернувшись клубком, подобно усталому зверьку. Сандалии Миюки, зацепились за него и следом за тем, словно ступив на мостовой камень, соскользнули в глинистую яму. Молодую женщину потянуло вперед, она инстинктивно ухватилась за коромысло – оно дернулось, и бадьи закачались. В это мгновение один карп как раз всплывал на поверхность. Поднявшейся волной его выплеснуло из бадьи – он шлепнулся на пол и начал неистово биться: перепуганная рыба колотила по земле задней частью тела, силясь подпрыгнуть как можно выше, чтобы достать до верши и плюхнуться в нее.
Потом карп притих и перестал биться.
– Нет! – простонала Миюки. – Только не умирай, прошу тебя, заклинаю именем Эбису, бога рыбаков!
– Эбису прижимает к себе морского карася, – вспомнила хозяйка трактира, – бывает, и тунца, и даже треску или окуня, а чтобы толстяк Эбису питал слабость к карпам – не смею вас огорчить, только такого я отродясь не слыхивала.
Глаза у Миюки потускнели, увлажнились и заблестели, точно две крохотные черные отчаявшиеся рыбешки.
– Не плачьте, – продолжала окамисан, – еще не все потеряно. Ведь, помимо непомерной тучности, Эбису славится тем, что он туговат на оба уха, а стало быть, ежели хочешь, чтобы он откликнулся, надобно изрядно пошуметь.
И Акиёси Садако принялась громко топать сандалиями.
Неужто Эбису и впрямь очнулся от того, что пол заходил ходуном? Как бы то ни было, карп, почувствовав дрожь дубовых половиц, очнулся от безжизненного оцепенения, в которое погружался. И снова принялся выгибаться, извиваться и молотить хвостом и плавниками. Миюки не мешкая сложила ладони лодочкой, просунула их под брюхо рыбе, подняла ее и бережно опустила на влажное глинистое днище верши.
– А карпы закрывают глаза, когда засыпают? – полюбопытствовала Акиёси Садако.
Миюки прыснула со смеху. Тот же вопрос премного занимал и ее саму, когда она только-только вышла за Кацуро. Она могла спросить его об этом, и он, конечно, охотно рассказал бы ей все, что знал про карпов, да только ей не хотелось выглядеть в его глазах одной из тех дурочек, которые ничего не смыслят в жизни. Впрочем, карпы, безусловно, не относились к жизненно важным вещам или хотя бы к вещам обыденным, и тысячи и тысячи людей умирали, так и не увидев ни одной из этих рыб за всю жизнь и даже не попытавшись понять выведенные кистью черточки, обозначавшие их название; но рыбак Кацуро был не из этих тысяч и тысяч людей – ничто на свете не было ему ближе, чем карпы, притом настолько, что порой ему казалось, будто сердце, бившееся у него в груди, имело те же форму, объем и плоть, что и у этой рыбы.
Миюки вспоминала ночи в Симаэ, когда она, присев на корточки возле пруда, часы напролет наблюдала в отсветах луны за карпами, плававшими в толще воды.
– Сказать по правде, Садако-сан, у этих рыб нет век, как же они могут закрывать глаза?
Зато у нее самой были веки, и они все больше наливались тяжестью. Она поела горячего супа из таро[31], а тем временем окамисан стелила для нее соломенный тюфяк в женской спальне – крохотной каморке, стесненной раздвижными перегородками.
– Предлагаю вам лечь спать возле окна, – сказала Акиёси Садако. – Мы называем его окном духовного просветления.
Окамисан показала на ровное круглое окошко посреди стены, обращенное к саду и заделанное настолько пористой бумагой, что сквозь нее проникал запах омытой дождем растительности.
Впервые с самого рассвета Миюки наконец-то могла освободиться от тяжести трущей плечи бамбуковой жерди.
Глядя, как Акиёси Садако раскладывает и устраивает ей постель, молодая женщина подумала о том, что первый раз в жизни будет спать не у себя дома, а в чужом месте. Она была уверена, что вряд ли быстро уснет, даже невзирая на усталость. И надеялась, что сможет успокоиться, созерцая неспешное движение луны и звезды сквозь промасленную бумагу, закрывавшую окно.
Интересно, размышляла она, о чем думал Кацуро, когда укладывался здесь спать? Может, перебирал в голове события минувшего дня или же обращал взгляд в дни будущие? Находясь в конце обратного пути из Хэйан-кё, считал ли он время, отделявшее его от Миюки, с таким же нетерпением, с каким считала эти минуты она, отчего у нее, бывало, даже перехватывало дыхание? Или же он возвращался домой, не больно-то поспешая и с тоскливой улыбкой на губах вспоминая сладостные мгновения, проведенные с шелушильщицами риса?
Ну почему он не торопился возвращаться домой, почему отдавался на волю своим грезам? Неужто с трактирными забавницами он чувствовал себя счастливее, чем с Миюки? Ведь она ни в чем ему не отказывала: ни в обхождении, ни в позах, ни в ласках. Как только он возвращался из Хэйан-кё, обессиленный, продрогший в ветхом соломенном плащике, давно позабывшем о своем предназначении беречь хозяина от холода и сырости, она тотчас одаривала его нежностью своих головокружительных ласк, всякий раз предаваясь любовной страсти с какой-нибудь новой, неожиданной, изумительной выдумкой.
Не зная, чем бы еще одарить мужа, она смиренно принимала его объятия, которые будто ломали ее, раздирая на части, притом что исходившая от него похоть порой вызывала у нее одно лишь отвращение.
Той ночью, поскольку дождевые тучи окончательно затянули ночное небо, не позволив Миюки наблюдать луну, молодая женщина легла на бок и положила одну руку себе между ляжками. Пальцами другой она взялась за язык, вытянула его как можно дальше, а потом сжала ладонью и принялась его ласкать, как будто это был горячий и влажный член Кацуро.
* * *
Стараясь ровнее держать бамбуковую жердь на изнывающем от боли плече, Миюки прошла мимо мужчин, обессиленно сидевших прямо в коридоре трактира.
Они спали, не раздевшись, уткнувшись подбородком себе в грудь, раздвинув бедра и опираясь куцыми ручонками на костыли, чтобы их округлые, как у жуков, тела, не ровен час, не завалились на бок. У многих на головах были чашевидные шлемы, которые состояли из пластин, скрепленных заклепками. Некоторые шлемы были украшены металлическими крылышками – для отвода боковых ударов сабли, хотя, глядя на красноватые рубцы, бугрившиеся на лицах под шлемами, можно было судить, что это скорее украшение, нежели действенное средство защиты. На макушке шлема имелось круглое отверстие, из которого торчал длинный пучок волос, – знак буси[32].
Это и впрямь были воины – буси-деревенщины, буси обездоленных селений, тощих лесов и оскудевших рисовых полей, покинувшие свои бесплодные песчаные пустоши и нанявшиеся в услужение к более удачливым, зажиточным крестьянам.
Их глаз было не разглядеть под забралами, приподнятыми настолько, чтобы ни дождь, ни брызги крови не закрывали обзора.
Стелившийся над прудом туман вползал в дом через плохо притворенную дверь и мало-помалу заполнял коридор. Впрочем, он был не очень густой – и Миюки сразу разглядела, как Акиёси Садако переползала на коленях от одного воина к другому и слегка тормошила каждого, стараясь разбудить.
В ответ буси начинали ворчать и размахивать кулаками, бестолково молотя ими по воздуху. Попав ненароком им под руку, Садако падала, свернувшись клубком, точно морской еж. А когда вставала, весь подбородок у нее был розовый от крови вперемешку со слюной.
Утираясь изнанкой рукава, окамисан объяснила, что эти люди защищали владения, семейство и самого Ясукуни Масахидэ, местного богатого землевладельца, уже не раз подвергавшегося нападениям пиратов, заполонивших Внутреннее море. А поскольку этому человеку принадлежал и Приют Заслуженного Воздаяния, стало быть, он тоже находился под защитой его буси.
– Так вот, – продолжала Садако, – этой ночью, примерно в час Тигра[33] шайка пиратов переправилась на камышовых плотах через пруд, пытаясь подобраться к трактиру. Но не успели они напасть, как выскочившие из леса буси отбросили их.
Воздух рассекали стрелы и клинки катан[34].
Стычка живо обратилась в настоящую бойню, и захватчики потеряли девятерых – их головы теперь валялись в камышах на пруду. А недобитки, недолго думая, пустились наутек.
После этого, понятное дело, буси затеяли праздновать победу – и нарезались до полного бесчувствия; потом их стало выворачивать наизнанку, и весь дом наполнился зловонием их испражнений – его занесло снаружи сквозняком через соломенную крышу.
– А я ничегошеньки не слышала, – сказала Миюки.
– Видать, дорога вас вконец измотала. Вопреки расхожему мнению, усталость сковывает не только члены. Органы чувств тоже слабеют. Язык совсем не ворочается во рту и теряет вкусовые ощущения… Останавливался у нас как-то один лошадник, так он был до того обессилевший, что даже не чувствовал горечи.
Вот и переутомленные глаза: когда у них больше нет сил вращаться и глядеть по сторонам, они могут смотреть только прямо, как у воина в плохо пригнанном шлеме, который не видит, что творится сбоку.
То же и с обонянием. Когда от крайней слабости у нас замедляется дыхание, мы начинаем томно дышать – выдыхаем воздух быстрее, чем вдыхаем, и теряем способность наслаждаться летучими запахами, которые его насыщают. Знавала я одну женщину – госпожу Акадзомэ Ринси, так вот в ту пору она, сказать по правде, была почти при смерти, потому что до того изнемогла, что еле-еле дышала: крылья носа у нее совсем сомкнулись, как створки раковины у морской улитки на крепком ветру. Она погибла во время пожара в собственном доме, бедняжка, потому как не учуяла запаха дыма. Так, может, то же случилось и с вашими ушами – вы попросту оглохли от изнеможения?
Тем же мягким, нравоучительным тоном, каким она только что расписывала последствия усталости, окамисан напомнила Миюки о своем предложении добраться до реки Катасэгавы вместе с монахами-паломниками, державшими путь на Эносиму.
Но, невзирая на опасности, сопряженные с переходом, притом без всякой защиты, по территории, кишащей пиратами, которые после ночного разгрома, верно, озлобились еще пуще, молодая женщина снова отклонила ее предложение. Помимо того что полагаться на защиту монахов было бы с ее стороны довольно опрометчиво, паломники могли замедлить ее продвижение, потому как наверняка останавливались бы у каждой стоявшей на краю дороги хокоры[35], под каждым деревом, каждой скалой, у каждого источника и каждой лисьей норы, если та показалась бы им местом обитания какого-нибудь ками. В те времена в Японии царил культ восьмисот божеств – даже простая сандалия из рисовой соломы, брошенная на обочине, могла служить обиталищем какого-нибудь духа.
Акиёси Садако не настаивала. Она поблагодарила Миюки за то, что та остановилась в Приюте Заслуженного Воздаяния. Потом прижала руки к коленям, опустила глаза, согнулась перед нею в поклоне и несколько мгновений оставалась в таком положении.
Поскольку еще никто не относился к ней с таким почтением, Миюки смутилась, не зная, как надо поступать в подобных случаях. Между тем окамисан выпрямилась и тут же снова склонилась в поклоне – Миюки сделала то же самое.
Садако раскланивалась плавно, изящно, а Миюки – натужно и принужденно. Но у хозяйки трактира не саднили плечи от бамбуковой жерди с отяжелевшими под весом карпов вершами на обоих концах, обмазанными глиной и наполненными водой.
Порывшись в пачке денег, которыми снабдил ее Нацумэ – на дорожные расходы, Миюки извлекла из нее простой вексель.
– Такие принимают в любом хранилище риса.
Но Акиёси Садако, вновь рассыпаясь в поклонах (на сей раз она чуть не билась лбом о землю), отказалась взять плату: хотя пираты и потерпели неудачу во время ночного налета, они все равно являли собой серьезную угрозу для остановившихся в Приюте Заслуженного Воздаяния путников и могли во всякое время нарушить покой ее постояльцев, за которых несла ответственность сама окамисан и ее подручные – престарелая стряпуха и прислужник, приглядывавший за садом и прудом. Но стряпуху с прислужником убили пираты – стало быть, всю ответственность за беспокойство, причиненное постояльцам, теперь несла Акиёки Садако.
Покинув трактир, Миюки вышла на дорогу, пролегавшую по низине вдоль пруда с лотосами. Неподалеку располагалось озерцо, и она решила набрать свежей воды для карпов.
Не успела она снова взвалить на плечи верши с водой, кишевшей невидимой простым глазом живностью и растительностью, как вдруг прямо перед нею в промозгло-сером свете раннего утра возникло какое-то нескладное существо с длинными тонкими ногами, сильно выпяченной грудью, поверх которой то вздымалась, то опускалась, будто существо обмахивалось ею, пышная черно-белая мантия.
Физиономия чудного существа – если можно было так назвать эту сморщенную рожу – узкая, украшенная парой коричневых глаз и увенчанная чем-то вроде шероховатого красного шлема, покачивалась на длиннющей шее, похожей на вытянутую вверх худосочную руку, которая будто поддерживала его голову.
Только заметив смятение карпов, Миюки поняла, что это существо, взиравшее на нее в буквальном смысле сверху вниз, вовсе не было человеком.
Рыбы вмиг распознали большого белого журавля – и закружили в своих бадьях, молотя по воде хвостами и плавниками, вспенивая ее и затуманивая хищнику глаза.
Прежде Миюки видела журавлей только в небе, когда они пролетали высоко-высоко над Симаэ, издавая до того пронзительные крики, что их было слышно задолго до появления птиц. Считалось, что они приносят на крыльях счастье, благополучие и долголетие. Селяне высыпали из домов и, читая нараспев молитвы, провожали белоснежных птиц взглядом, пока те не растворялись в белизне облаков.
Первым побуждением молодой женщины было оградить карпов от голенастой птицы, явно вознамерившейся вонзить свой клюв цвета рога в плоть одной из рыбин. От возбуждения у птицы колыхались маховые перья, а из горла вырывался не то свист, не то жужжание, не то потрескивание.
Миюки вспомнила, как однажды Кацуро, с трясущимися руками, рассказал ей о встрече с парой журавлей, больше походившей на поединок: в тот раз он собирался выпустить в заводь рядом с небольшим синтоистским святилищем в провинции Харима, на берегу Внутреннего моря, трех карпов, которых у него не приняли в Службе садов и заводей, сочтя их недостойными стать украшением храмов Хэйан-кё. Сперва Кацуро было подумал, что большие птицы затеяли брачный танец. И он не больно-то испугался: ведь журавли держались поодаль. На самом же деле птицам не было надобности приближаться к сопернику – им довольно было вытянуть шеи и ударить его клювом или же расправить широченные крылья и одним махом сбить его с ног, не дав ему ни малейшей возможности нанести ответный удар.
Журавль, нависавший над Миюки, еще не встал в позу нападения. Умей Миюки читать по его крохотным глазкам, она бы поняла – белая птица не собиралась нападать на нее, а хотела обойти ее и подобраться к рыбам. Вот журавль и распелся, откинув голову назад и задрав клюв к небу, – верно, надеялся напугать молодую женщину своими устрашающими криками и заставить ее бросить карпов.
Видя, однако, что попытка запугивания не увенчалась успехом, птица широко расправила крылья и принялась метаться вокруг Миюки, то пускаясь вскачь, то срываясь на бег.
Этот своеобразный танец напомнил жене рыбака ребятишек из Симаэ, которые любили играть полнолунными вечерами в китайские тени, строя их на стенах деревенских хижин, снаружи: детворе и птице были свойственны не только природная грация, но и непоследовательность. Так, дети совершенно не задумывались, почему они строят силуэт быка вслед за силуэтом крысы, а журавль без всякой причины принимал то угрожающие, то завлекательно-обольстительные позы.
Миюки уже хотела отступить, как вдруг у нее за спиной возник другой журавль.
Этот бесшумно парил над камышами, вытянув прямую шею вперед, а ноги-ходули – назад. Потом, замедлив полет, он приготовился впиться в землю черными когтистыми пальцами на конце лап, а крылья согнул дугой так, что они стали похожи на наполненные ветром паруса.
Едва вторая птица с трубным криком опустилась на землю и сложила крылья, как первый журавль, потеряв всякий интерес к Миюки, переключился на соплеменницу: что он только не вытворял, приветствуя ее, – бил поклоны, прыгал то в одну сторону, то в другую, приплясывал на месте, топорщил перья и пощелкивал клювом. Новоявленная соплеменница отвечала ему взаимностью: она тоже сперва отвешивала поклоны, согнув лапы, приподняв крылья и грациозно приплясывая, потом остановилась, стала подхватывать клювом валежник и подбрасывать его в воздух.
Их пляска была столь неистова в своем каллиграфическом переплетении черно-белых фигур, что молодая женщина на мгновение усомнилась, сможет ли она защитить своих карпов. В бурном танце журавли едва ли не полностью завладели пространством, принадлежавшим Миюки, и уже готовились оттеснить ее совсем.
И тогда она решила тоже пуститься в пляс.
Она не пыталась подражать этим великолепным птицам – несмотря на свою молодость, она прекрасно понимала, что движения ее куда более неловки, неуклюжи и скованны, – ей всего лишь хотелось слиться с ними воедино и таким образом, как она надеялась, остаться рядом с карпами, чтобы лучше их защитить.
Медленно сняв бамбуковую жердь с плеч и опустив ее вдоль спины до уровня талии, Миюки вслед за тем поставила верши на землю. Потом она расправила руки, согнула шею и, выдавливая из себя сиплые трубные крики, тоже пустилась вскачь вокруг бадей, как бы показывая паре журавлей, что это ее территория и добыча.
Причудливое клохтанье и порывистые движения молодой женщины сбили птиц с толку. В конце концов они перестали обращать на нее внимание, распознав в ней одно из чудищ, с которыми у их сородичей складывались не самые добрые отношения, за исключением тех случаев, когда они, их сородичи, оказывались во дворце Хэйан-кё, где дамы из окружения императора обучали плененных журавлей человеческим танцам, в то время как нинто[36], напротив, заставляли юных танцовщиц подражать журавлям, воспроизводя их движения и напыщенные позы. Но после скоропалительного танца, исполненного Миюки, пришедшие в легкое недоумение журавли уже не понимали, к какому царству она принадлежит: может, она птица, только ощипанная, неуклюжая, гадкая, но все же птица?
Был лишь один способ это узнать: если чудище умеет летать, хоть оно и не журавль (даже в отдаленном приближении и не только потому, что у нее нет длинного острого клюва), значит, оно и впрямь принадлежит к царству пернатых.
И вдруг оба журавля пустились бежать, хлопая крыльями. Они разогнались так быстро, что им было довольно лишь разок взмахнуть крыльями, чтобы взмыть в воздух. Вытянув шею и лапы горизонтально, они расправили маховые перья и, подхваченные незримым легким воздушным потоком, воспарили над землей.
Миюки с завистью провожала их глазами, ибо ничего другого ей не оставалось: помимо сорока пяти килограммов человеческого веса, накрепко приковавшего ее к земле, на нее давил и другой груз – вода и карпы.
Махнув журавлям на прощанье рукой, она нагнулась, подняла бамбуковую жердь, приладила ее на плечи и двинулась дальше своей дорогой.
Последнее, что она видела, оставляя Приют Заслуженного Воздаяния, – два розоватых шара, плававших в пруду и глухо бившихся друг о друга, подобно мячам из оленьей кожи, которые игроки в кэмари[37] только с помощью ног стараются как можно дольше удержать в воздухе.
Но то были вовсе не заскорузлые кожаные мячи, а не что иное, как головы – стряпухи и прислужника, – медленно покачивавшиеся на воде среди лотосов.
Миюки подумала, а знает ли Акиёси Садако, что головы ее слуг плавают в пруду? Негоже было оставлять их мокнуть в воде, рассуждала про себя она, так ведь они непременно осквернят ее, а заодно лотосовые кущи, всю рыбу и всех водяных букашек – вместе с личинками ручейников и стрекоз, – включая гребляков, водомерок, плавунцов, гладышей и прочих ранатр. Миюки, понятно, не знала всех этих названий – для нее то была просто мелюзга, но Кацуро частенько приносил ее домой – невольно, конечно, – в складках своей одежды. Летними вечерами, когда было особенно жарко и сон все не приходил, рыбак с женой развлекались тем, что наблюдали, как эти крохотные твари плавают на поверхности воды в пруду. Когда на водной глади отражалась луна, они делали ставку на ту или иную букашку – спорили, какая доберется первой до отраженного в воде светила. Они называли это игрой в принцессу. Дело в том, что однажды ночью, когда Кацуро, будучи в Хэйан-кё, шел вдоль крепостной стены Императорского дворца, он услыхал голос придворной дамы – она распевала песнь о принцессе Кагуе[38], которая жила на Луне и которую отец отправил на Землю, дабы уберечь ее от войны, разразившейся на небесах. Кагую нашли в стволе бамбука, где она затаилась. Один старик крестьянин, сборщик бамбука, срезал стебель, внутри которого и пряталась принцесса в обличье младенца размером с мизинец, ожидая, когда ее кто-нибудь отыщет. Пережив многочисленные злоключения, притом что ей все же удалось облагодетельствовать старого крестьянина и его жену, Кагуя наконец смогла вернуться к себе на лунную родину – и букашки, рывками плывшие к отражавшейся в воде полной луне, символизировали ее возвращение.
Превозмогая подступившую к горлу тошноту и силясь совладать с дрожью, чтобы не раскачивать верши и лишний раз не тревожить мечущихся в воде карпов, еще не успевших оправиться от ужаса после нежданной встречи с парой журавлей, Миюки заставила себя выловить отрубленные головы из пруда.
Боясь глядеть в их открытые остекленевшие глаза, она попробовала развернуть головы затылком к себе. Но мертвые головы, плававшие в воде, точно мячики, при малейшем прикосновении начинали кружиться волчком. По жуткой иронии эти пустые глаза снова и снова разворачивались и глядели на Миюки. После многочисленных безуспешных попыток молодая женщина решила сама отвратить от них свой взгляд – и ощупью, словно слепая, схватив обе головы за волосы, в конце концов вытащила их из пруда.
От них уже исходил тошнотворный смрад разложения, оттого что они какое-то время бултыхались в мутной, кишащей бактериями воде. От этой воды у Миюки воняли пальцы – она склонилась над прудом, сорвала несколько лотосов, сжала стебли цветков и, выдавив сок, протерла им руки.
* * *
Только к концу этого нового дня она вышла на тропинку, что вела к одной из вершин горной цепи Кии, петляя то через кедровники, то через бамбуковые заросли.
Она не знала, как называлась эта вершина, – может, Сакка, а может, Одайгахара или Сандзё, но, в сущности, это было не так уж важно: она следовала привычке Кацуро, не желавшего забивать голову названиями разных мест и запоминавшего лишь те, что действительно могли пригодиться в дороге, а это были названия трактиров или каких-нибудь примечательных природных ландшафтов, которые помогли бы не сбиться с пути и не кружить на одном месте, если ненароком опустится туман.
Таким образом, Миюки все время глядела в оба и выбирала только те проходы, где более отчетливо ощущался серный запах горячих источников. Чтобы лучше ориентироваться, она мысленно связывала их с каким-нибудь звуком: рокотом потока или криками макак, любивших погреться в таких купелях с курящейся водой, – так что, попади она случайно в густой туман, ей было бы достаточно идти на визг обезьян либо на шум бурного потока, чтобы в конце концов выйти по запаху к тому или иному горячему источнику и таким образом узнать свое местоположение среди горных громад.
На пути как туда, так и обратно Кацуро больше всего боялся перехода через горы Кии. И не только потому, что восхождение отнимало много сил, а главным образом из-за бесчисленных паломников, заполонявших все горные тропы, ведущие к святилищам Кумано[39]. Рыбак ничего против богомольцев не имел, но они двигались сплошными толпами, занимая самую удобную часть дороги – ту, что была вымощена большими камнями, и оттесняли чужаков так, будто их устремление на встречу с богами давало им преимущество перед другими путниками, шедшими по этой узкой мостовой. Но разве Кацуро, надрывавшийся под своей ношей – карпами, предназначенными для храмов, где молились император и его двор, не заслуживал такого же привилегированного положения?
В гуще паломников Миюки ощущала себя в безопасности. После кровавых событий в Приюте Заслуженного Воздаяния она чувствовала себя защищенной в этой нескончаемой веренице мужчин и женщин, которые, приняв ее за свою, не удостоили ее ни единым взглядом, ни малейшим вниманием. Чтобы уберечь верши от толчков теснивших друг дружку ходоков, она не раз пыталась выбраться из толпы и, ловко уворачиваясь от людей, следовала дальше по обочине. Но края дороги были уж слишком неровными: плиты, наползавшие одна на другую наподобие чешуи, до того истерлись сотнями сандалий паломников, что сделались скользкими, как ледышки, поэтому все, кто на них отваживался ступить, рано или поздно возвращались назад, на середину дороги.
Миюки успокаивал даже сам запах толпы, напоминавший ей душок, что исходил от Кацуро, когда он, возвращаясь с реки, стряхивал пот, который струился у него по лицу и от которого темнели подмышки у его косодэ[40]. Для нее то был счастливый повод вспомнить мужа, к тому же слух ей ласкал исходивший из глубины толпы гул – размеренное чередование похожих друг на друга по звучанию слов и междометий, среди которых особо выделялись округлая, ударная буква о и клацающая, как клюв аиста, буква к.
Миюки совсем ничего не знала о мире за пределами своей деревни, и у нее рябило в глазах от всех этих разноцветно-узорчатых одежд, коричневых и зеленых; от пышных ярко-красных штанов, стянутых на лодыжках; от курток, подбитых тканью цвета саппанового дерева; от мантий, сиреневых, желтых, темно-фиолетовых; от мягких, как нежные листья, туник… от всех этих шелковистых тканей, трепещущих от малейшего дуновения ветерка, или же, напротив, жестких и лоснящихся, точно навощенных, похожих на пестрые украшения, которые вдруг выпали из разверзшейся над горой гигантской шкатулки и рассыпались по склону, поглотив его целиком.
Горные вершины вздымались из узорчатых клочьев тумана, возникшего оттого, что утренняя роса стелилась по земле, нагретой подземными горячими водами, которые клокотали под ногами.
В родной деревне Миюки не было ни единой пяди земли, на которую не ступала бы ее нога, притом не раз. В отличие от гор Кии и земель, по которым она прошла, с тех пор как отправилась в путь, Симаэ была так хорошо ей знакома, что там она чувствовала себя везде как дома: для нее не были чужими ни одна улочка, ни один соломенный навес, ни одна делянка, засаженная белой редькой или сельдереем, ни один ежевичный сад, ни одно рисовое поле – все это было для нее настолько родным, что, когда вечером Кацуро, бывало, спрашивал, чем она занималась днем, она со всем прямодушием отвечала, что не выходила из дому, хотя на самом деле беспрестанно сновала туда-сюда.
В Симаэ все было под боком, а не где-то там.
А в горах Миюки не за что было зацепиться глазом: здесь все казалось ей чужим, за исключением воспоминаний о Кацуро или, по крайней мере, ощущений, что его призрак где-то рядом, – ведь отныне Кацуро и в самом деле был для нее бесплотным, безжизненным призраком, и Миюки обращалась с его образом, являвшимся ей время от времени на паломнической тропе, в точности как с черными или же, напротив, ослепительно белыми мушками, возникавшими порой у нее в глазах и исчезавшими по ее воле, стоило ей только повести глазами в сторону.
Проходя мимо источника, Миюки сменила воду в вершах.
Когда Кацуро рассказывал о своих хождениях в Хэйан-кё, он непременно упоминал про то, с каким тщанием менял воду, ибо рыбы, измученные теснотой постоянно раскачивающихся узилищ, страдали от сковывавшего их оцепенения и перегрева воды, в которой им приходилось находиться подолгу.
Но стоило Миюки заменить затхлую воду свежей, как поведение карпов менялось самым чудным образом: они начинали плавать кругами, натыкаясь друг на дружку, точно хмельные или слепые.
Тогда Миюки вспомнила – для карпов годится только вода из рек или прудов, а вода из неведомых источников действовала на них совершенно непредсказуемо, потому как в ней содержались невидимые глазу вещества, которые могли оказаться для рыб ядовитыми.
Молодая женщина присела на пенек, опустила руки в бадьи с водой и кончиками пальцев принялась осторожно поглаживать рыб по спине и бокам в надежде успокоить их лаской.
Небо заволакивали наползавшие друг на друга грузные тучи.
А паломники все шли и шли, ускоряя шаг. Двое из них остановились неподалеку от Миюки помочиться. Оба были уже в преклонных годах, и стоявшая в горах стужа сковала их узловатые пальцы так, что они никак не могли расстегнуть короткие штаны из красного шелка и все поминали расположенное неподалеку святилище, где можно было бы укрыться в случае, если и впрямь нагрянет ненастье.
Один из стариков, с узким, вытянутым лицом и толстыми черноватыми губами, отчего он походил на лошадь, улыбнулся молодой женщине.
– Не желаете составить нам компанию? – предложил он. Мы собираемся заночевать в одном святилище. Там живут монахи-буддисты, хотя они почитают и ками. И вовсе не чураются женщин.
– К тому же, – заметил его товарищ, – первыми людьми, распрощавшимися с мирской жизнью и обратившимися в буддизм, были женщины, разве нет?
– Может, оно и так, – промолвила Миюки. – Только мне это неведомо.
– Мы замолвим за вас словечко, и вас пустят беспрепятственно.
– И потом, – продолжал свое старик-лошадь, поглядывая на верши, где по-прежнему в оголтелом хороводе метались карпы, – мы могли бы подсобить вам с ношей, тем паче что, хоть до святилища отсюда рукой подать, дорога дальше будет все тяжелее.
– Благодарю, – сказала Миюки, – только я обязалась нипочем не разлучаться с ними.
Помогая друг дружке, двое стариков наконец изловчились расстегнуть штаны. И тут же обдали дорожные плиты тугими желтыми струйками мочи, напоминавшими сливающиеся ручейки. Земля в мгновение ока поглотила следы мочеиспускания – от них осталась лишь слабо курящаяся дымка. Довольно урча, старик-лошадь и его спутник натянули штаны обратно.
Миюки надеялась, что даже если дождь и не наполнит заново верши, то, по крайней мере, он разбавит содержавшуюся в них воду и таким образом смягчит действие растворенных в ней вредных веществ, от которых карпы как будто ошалели. Но тучи, нагромождавшиеся все плотнее, выглядели мертвенно-бледными, обещая пролиться не просто ливнем, и молодая женщина вдруг испугалась: ей было страшно подвергать рыб еще одной опасности – дробным ударам огромных водяных капель.
Монахи еще раз вызвались сопроводить ее до буддийского святилища.
Мысль об укрытии казалась заманчивой, но Миюки хотелось оставить за собой право последовать дальше своей дорогой в случае, если по той или иной причине ей там придется не по душе. Она вспомнила недовольные гримасы Кацуро, его насупленные брови, когда он рассказывал о том, как ему доводилось останавливаться на ночевку в иных монастырях, особенно в тех, где монахи якобы под предлогом обучения тешились с совсем еще юными мальчиками. Впрочем, рыбака ничуть не смущали двусмысленные отношения между монахами и подростками – он всего лишь негодовал, что святые братья, питавшие нежные чувства к новообращенным юношам, не оказывали никакого внимания проходившим мимо путникам, лишая их заботы, хотя они так на нее надеялись: послушников пичкали пирожками с мелкотолченым клейким рисом и ледяной стружкой, сдобренной тростниковым сиропом с черным сахаром, в то время как странникам оставалось довольствоваться плохо очищенными, недоваренными овощами.
– Мне придется идти очень медленно из-за рыб, – объяснила паломникам Миюки. – Так что ступайте себе дальше, а я за вами.
Она пропустила старика-лошадь и его спутника вперед. Поначалу те время от времени оборачивались, поглядывая, не отстает ли она, и усердно подбадривали ее жестами, а потом уже шли своей дорогой, ничуть не беспокоясь о ней.
Вскоре Миюки осталась совсем одна. Длинные облака цеплялись обтрепанными краями за войлокообразное сплетение сосен. Когда же небо накрыло землю, точно громадная крышка, свет померк настолько, что молодой женщине, присевшей на пенек рядом с каменным светильником, показалось, что наступила ночь.
Из лесной чащи послышались звериные крики. Самыми крикливыми были обезьяны. Миюки думала – может, звери накликают дождь или же они подняли шум, чтобы, напротив, его напугать – точнее говоря, прогнать?
Грянула гроза. Короткая, но неистовая. Какое-то время слышался только шум холодных капель, нещадно хлеставших по ветвям деревьев. Дорога превратилась в бурный водный поток.
Когда над долинами взошла луна – она то скрывалась за тучами, проносившимися над зубьями горных вершин, то выплывала из-за облачных громад, – Миюки наконец разглядела святилище, про которое рассказывали паломники.
То был довольно скромных размеров храм, располагавшийся у источника; маленький, почерневший и будто съежившийся, он ютился на восточной окраине деревеньки, что лепилась к горному склону, поросшему кедровником, от которого исходил легкий камфорный запах, совсем не похожий на приятно-сладостное благоухание омытого дождем леса.
Из храма вышли трое – их приземистые фигурки замелькали меж кедров. Это были мальчики-монахи, в руках они несли факелы, собираясь с их помощью зажечь стоявшие вдоль кромки леса каменные светильники. Всякий раз, когда они склонялись над светильником, рукава их мантий распахивались, точно надкрылья у светлячков, на которых они издали походили со своими факелами, мерцавшими среди деревьев.
Миюки не видела светлячков с той самой весенней ночи, когда Кацуро взял ее с собой на Кусагаву. По мере приближения к реке вокруг рыбака и его жены вспыхивали ярко-зеленые огоньки. С каждым шагом светляков становилась все больше – в конце концов из них образовались сверкающие облака. А у реки они уже переливались тысячами огоньков на сырой траве, поблескивая и среди кустарников. Их холодное свечение пульсировало в ритме мерно бьющегося сердца. Миюки, насколько ей помнилось, еще ни разу в жизни не видела подобной красоты. Кацуро объяснил, что светляки олицетворяют скоротечность бытия: ибо они умирают через три-четыре недели после того, как достигают стадии зрелости – и это только самки, а жизненный срок самцов и того короче.
– Кацуро, – спросила тогда Миюки, – по-твоему, ты тоже умрешь раньше меня?
– Ну конечно, – безразличным тоном ответствовал рыбак. – Вот и отец у меня почил раньше матери. Таков закон природы, разве нет?
И тогда, размахивая руками, точно мельничными крыльями, она принялась хлестать его по лицу.
– У нас другой закон – не такой, как у светляков! – в сердцах кричала она, от души награждая его оплеухами, от которых было больше звона, чем боли и обиды.
А Кацуро знай себе смеялся. Потом он схватил жену за руки и утихомирил ее, поглаживая ей ладони мягкими кончиками больших пальцев, как делал всякий раз, когда успокаивал пойманную птицу, обезумевшую от страха.
– Законов нет ни у светляков, ни у людей… да и вообще, никаких законов не существует, Миюки… нет ни законов, ни богов – все решает случай, и он знает свое дело хорошо.
А еще рыбак сказал, что большинство людей считает светляков последним пристанищем души умерших, перед тем как душа канет в мир усопших, и это служит подтверждением того, что покойники упорно цепляются за любую живую тварь, хоть бы и за жука-мукоеда. Он же, Кацуро, не верит в этот вздор. Резким движением руки он схватил сверкающую букашку и сунул ее Миюки под нос: в ладони рыбака светляк тут же погас – превратился в черную окаменевшую козявку. До того твердую, что можно было подумать, будто она сдохла.
Юные монахи метались не вслепую, как поначалу показалось Миюки. Приглядевшись, она заметила, что, зажигая от факелов одни светильники, другие они обходят стороной. Подойдя ближе, молодая женщина поняла: они пропускают не светильники, а надгробные камни – сотни стел, которые многие поколения богомольцев воздвигли на этой горной тропе.
Случалось, что незатейливые, безыскусные, но расположенные в благих местах храмы привлекали и странствующих монахов – они обосновывались в таких постройках на какое-то время, расширяли их, облагораживали и даже возвеличивали, устанавливая на них сорины[41] или же украшая их расписными деревянными рельефами.
Таким был и храм, возле которого сейчас оказалась Миюки.
И посвящен он был будде Фудо-Мёо, по прозвищу Неподвижный, или Непоколебимый, которого ничто не может сокрушить, – гневноликому покровителю, обрамленному огненной аурой. Меж его пухлых губ, искаженных в извечной злобной гримасе, торчала пара кривых клыков: правый был обращен к небу, будто в стремлении возвыситься, а левый указывал вниз, словно в намерении заклеймить беды, порожденные обманчивыми представлениями.
Будда Фудо-Мёо видел всякую вещь такой, какой она была на самом деле, и потому никогда не колебался, не сомневался и не смущался: в отличие от Миюки, подобной хрупкой соломинке, будда Фудо обладал несокрушимой силой и сметал все со своего пути – ничто не могло его остановить. Его способности в мгновение ока собрать всю свою решимость в складках мясистого лба, изломах бровей, гусиных лапках по бокам выпученных глаз, морщинах у основания приплюснутого носа, не говоря уже о двух клыках, источающих слюну при малейшем недовольстве, – всего этого хватало с лихвой, чтобы устрашить любого врага.
Фудо-Мёо был известен как проводник душ усопших в вечную жизнь, возглавляющий посмертную церемонию их проводов, продолжающуюся семь дней. Сложив руки и поклонившись его статуе почти до земли, Миюки принесла будде извинения за то, что не соблюла обряда семи дней после смерти своего мужа; она в полном отчаянии и смятении готовилась к путешествию в Хэйан-кё, но, уж коль скоро Фудо-Мёо заботится о несметном множестве усопших, быть может, он согласится, несмотря ни на что, благословить и душу Кацуро, взяв ее под свою защиту?
В этот миг у Миюки над головой хрустнула ветка – ее сломала прятавшаяся в листве дерева обезьяна. Молодая женщина вскинула голову – и тут ей в ноздри неожиданно ударил странный запах.
Свежий, терпкий аромат, замешанный на запахе хвои, перечной мяты и ирисового корня, струился из продолговатого дупла, зиявшего в стволе вековой суги[42] в двух с половиной метрах над землей.
Прислонив бадьи к пню, Миюки как можно выше подтянулась на цыпочках, просунула руку в расщелину с выпуклыми, гладкими, ослизлыми краями, похожими на рубцы. И нащупала пальцами кучу прошлогодних листьев. Ну конечно, это они источали крепкий, дивный, едва ли не пьянящий аромат, и Миюки ничуть не сомневалась, что запах, который, исходя от дерева, накрывал ее точно легким покрывалом, был ответом Фудо-Мёо на ее мольбы позаботиться о душе Кацуро.
Умиротворенная, она поудобнее устроила на плечах бамбуковую жердь и двинулась к святилищу.
Оно состояло из двух зданий, соединенных длинной, в форме угла галереей, крытой корой кипариса.
Чуть поодаль располагался дом паломников с трапезной и общей спальней. Там Миюки встретила старика-лошадь и его спутника, жевавших дикую горную траву и какие-то растения. Она просеменила к их низенькому столику и поклонилась.
– Я так и думал, что вы вряд ли останетесь в одиночестве. Горы, дождь, ночь – такое не годится для молодой женщины. Кстати, меня зовут Акито.
– А меня Генкиси, – отрекомендовался его спутник. – Располагайтесь вот здесь, – прибавил он, отодвигаясь и освобождая место для Миюки.
И она присела на корточки между ними. Акито воззрился на нее в смущении.
– Скажите, одзёсан[43], я что-то не вижу ваших рыб…
– Ну, – сказала Миюки, – я подумала, что им будет лучше в темной спальне, нежели среди голодных сотрапезников. Это дивные карпы, довольно упитанные, и кое-кому они могут показаться аппетитными.
– Какая же вы недоверчивая! – улыбнулся Генкиси. – Вы печетесь о них так, будто они какое-нибудь сокровище. А на поверку – всего лишь рыбы. В здешних реках таких полным-полно. И чем же они отличаются от ваших?
– Ничем, разве что тем, что мой муж выловил их в Кусагаве. Кацуро был лучшим ловцом карпов в провинции Симоцукэ. Хотя я и не хочу сказать, что он был самым ловким, ведь для ловли спокойных рыб особой ловкости не нужно. Зато Кацуро одним лишь взглядом, точно клинком, пронзал глубину вод, потому как заранее знал, что таится там, под камнями; он переворачивал их силой мысли, выгоняя из логова карпа, который был ему нужен, и хватал именно его, а не какого-нибудь другого. Я видела, как Кацуро возвращался с реки, обессиленный, промокший до нитки, иной раз даже окровавленный, но он никогда не жаловался на неудачный улов – нет, такого не бывало. И карпы, те, что со мной, – его последний улов. Потом он покинул этот мир.
Миюки поведала им, как погиб Кацуро, – погиб без свидетелей, хотя она отчетливо представляла, как это случилось, судя по кое-каким следам, найденным ее односельчанами на берегу Кусагавы, – длинным царапинам, которые рыбак оставил на земле рядом с тем местом, где он утонул; вмятинам, где он полз; обвалившимся краям берега, за которые он цеплялся, стараясь выбраться из вязкой грязи… и нескольким перьям белой цапли, считавшимся, как это ни парадоксально, символами долголетия.
Миюки не помнила, чтобы ей когда-нибудь случалось проговаривать столько фраз подряд, особенно перед незнакомцами. Доведись ей рассказывать про себя, она, ясное дело, не смогла бы проронить ни слова; но ведь сейчас речь шла о Кацуро – и нужные слова, приходившие ей на ум самым естественным образом, скапливались у нее на устах и срывались с них, подобно малькам, похожим на крохотные иголочки.
Оба паломника переглянулись и стали гортанно покрякивать, будто силясь подавить кашель. Эта хрипота, вызванная обстоятельствами, говорила о том, что они вдруг перестали верить Миюки: рассказ у нее, конечно, вышел складный, только почему она лишь вскользь упомянула про обряды очищения, которые ей надлежало пройти, чтобы избавиться от скверны после прикасания к телу мужа, и так подробно расписала обстоятельства гибели рыбака? Что, если эта неразумная вдовушка, не удосужившаяся позаботиться о собственном ночлеге – да и какое прибежище от дождя, мрака и зверья она могла бы найти, не позови ее с собой старик-лошадь и его спутник? – и проявившая не менее непростительную беспечность после смерти мужа, возьмет и передаст им скверну, которой наверняка все еще помечена?
Однако такая осторожность не помешала им, покончив со скудной трапезой, препроводить Миюки в женскую спальню и удостовериться, что ни она, ни ее карпы ни в чем не нуждались. Напоследок старик-лошадь любезно предложил ей несколько пирожков витой формы, похожих на ракушки.
– Это вам, одзёсан, вдруг ночью проголодаетесь.
– Впрочем, можете съесть прямо сейчас, – подбодрил ее Генкиси. – Они такие вкусные, что пальчики оближешь, а у вас за весь вечер маковой росинки во рту не было.
Миюки поблагодарила обоих стариков за заботу. Поставила верши по одну и другую сторону циновки и прилегла сама. Когда паломники уже были в глубине коридора, молодой женщине послышалось, как они тихонько захихикали. Она вдруг подумала, что они насмехаются над нею; но, не найдя ни в своем облике, ни в поведении ничего такого, что было бы достойно осмеяния, она внушила себе, что никто не смеялся и ее попросту смутил доносившийся снаружи шум – громкий шелест дождя в листве деревьев.
Спавшие вокруг нее женщины громко дышали. Большей частью то были старухи – они шли воздать молитвы божествам, чтобы заручиться в загробной жизни их покровительством, которого им так недоставало в этом мире. Восхождение к святилищу отняло у них последние силы, а их скрюченные тела, покоившиеся темными кучами на светлом шелке циновок, походили на груды сорванных ветром и поваленных на землю узловатых веток. От них исходил пресновато-сладковатый запах сока растений, сломанных стеблей и сырой коры.
Миюки притронулась к пирожкам, которыми угостили ее паломники. Они были начинены густой кашицей из мелкой красной фасоли, сваренной в тростниковом сахаре. Кацуро иногда приносил такие из своих путешествий: он покупал их неизменно в одном месте – тесной мрачной лавчонке на мосту через какую-то реку. Но если от лакомств Кацуро у нее прибавлялись силы, то от угощения паломников ее неумолимо клонило ко сну. Поднеся к губам пирожок в форме ракушки, она почувствовала, что у нее слипаются глаза и до утра разомкнуть их не сможет никакая сила. Миюки по-детски улыбнулась и покорно отдалась во власть сна. Пирожок выпал у нее из рук, скатился по груди на живот и чуть выше бедер рассыпался в труху, став удачной находкой для мелкого грызуна, который, зарывшись в складках одежды Миюки, принялся угощаться на славу, пока молодая женщина спала мертвым сном, не слыша, как разгулявшаяся не на шутку буря безжалостно колотится в стены святилища, ревет и грохочет, рассекая небо слепящими потоками света.
* * *
Миюки проснулась от тишины, наступившей после бури. Хотя небо все еще было хмурым, ей показалось, что утро наступило давным-давно, несмотря на царивший кругом полумрак. К тому же птичий щебет уже заглушал отдаленный шум реки. Миюки тут же узнала горловое пение белолобых воробьиных жаворонков, переливчатые трели соловьев, затаившихся в листве слив, и длинные монологи короткокрылой камышовки, начинавшиеся с протяжного ку-у-у, которые напоминали ей пространные лающие речи посланцев Службы садов и заводей.
Легкая туманная дымка, опустившаяся на святилище, приглушала утренний свет, но тем не менее было достаточно светло – и Миюки, привстав, чтобы проверить, как там карпы, обнаружила, что шесть из них исчезли.
Подобно молнии, которая, ударив в дерево, расщепляет его пополам, жгучая судорога пронзила молодую женщину с головы до ног. Она закричала. И старухам, которые все еще лежали на футонах, томясь в собственных зловонных испарениях, ее крик показался страшнее громового раската.
И тогда Миюки заметалась по святилищу. Потеряв голову, несчастная женщина билась о стены, точно ночная бабочка в светильнике, куда она отважилась впорхнуть.
Случилось худшее из того, что могло произойти. С пропажей карпов, предназначенных для заводей Хэйан-кё, путешествие Миюки теряло всякий смысл, к тому же такое могло надолго посрамить честь жителей Симаэ.
Еще никогда Миюки не оказывалась в столь горестном положении. Конечно, она потеряла Кацуро, но в этом горе ее поддержала вся деревня, к тому же, будучи недвижным, незрячим и безмолвным, тело рыбака находилось рядом с ней – она по-прежнему разговаривала с ним, воображая, что он ей отвечает, и в своих фантазиях даже подражала его дивному, неизменно чуть смущенному голосу, который вдруг начинал волноваться и колыхался, точно волна в реке, поднятая дующим против течения ветром.
Миюки хотелось поделиться своей бедой хоть с кем-нибудь, кто участливо выслушал бы ее, даже если этот сочувствующий человек, не понимая, в чем, собственно, дело, сразу не нашелся бы, что сказать в ответ.
Она позвала на помощь Генкиси и Акито. Однако в смятении она забыла, что в час Тигра оба паломника собирались отправиться дальше в путь и теперь, верно, уже вышли на извилистую тропу, что вела к перевалу, возвышавшемуся над святилищем.
Акито уже предлагал ей идти вместе с ними до следующего святилища, хотя он не преминул уточнить, что они с Генкиси пойдут быстрым шагом, и высказал опасение, что столь хрупкое создание, как Миюки, навряд ли поспеет за ними, наипаче с увесистым коромыслом на плечах.
– Мы выходим затемно, потому как задерживаться было бы крайне опрометчиво, – сгущал краски Генкиси. – С восходом солнца затвердевшая на ночном холоде земля превратится в скользкую грязь, так что нам во что бы то ни стало надо одолеть перевал до того, как подъем станет опасным.
– Все так, и тут уж ничего не поделаешь, – заключил Акито, степенно покачав головой и глянув на молодую женщину так, будто она уже лежала, вся переломанная, на дне лощины.
В коридорах не было ни души; ни единый проблеск света не проникал сквозь обитые промасленной бумагой раздвижные двери; монастырь был погружен в тишину, нарушаемую лишь протяжно-низким гулом огромного цилиндрического колокола – это его цуки-дза[44] гудела под ударами деревянного языка, подвешенного снаружи на веревках. Несмотря на зычность, колокол издавал умиротворяющее дребезжание, разливаясь волнами по горам, а когда звук проваливался в долину, оно становилось более насыщенным и делалось пронзительным, когда он взмывал к горным вершинам.
Заслышав призывный зов колокола, гости святилища, за исключением старух в спальне, собрались в молельне. Если кто и был способен помочь Миюки в поисках пропавших карпов, так этот благодетель мог находиться только там. Если же ей никто не поможет, она обратится к одному из амулетов, которыми торговали в святилище, благо они наделяли их обладателя тремя силами: сюго – защитой, тибё – исцелением и, главное, гэндзэ рияку – то есть незамедлительным получением благ в этом мире, поскольку под незамедлительным получением благ Миюки понимала, конечно же, возвращение своих карпов.
Да-да, именно возвращения, поскольку они не могли никуда деться: если предположить, что рыбы чего-либо испугались и в панике выпрыгнули из вершей, то они упали бы на земляной пол, начали биться, извиваться и задыхаться – у них сначала посинели, а потом почернели бы жабры, и в конце концов они издохли бы на месте.
Миюки пустилась бегом по крытой галерее, соединявшей хозяйственные пристройки святилища с молельнями. Через открытые проемы между опорами, поддерживавшими кровлю галереи, лицо ей обдавало ветром, насыщенным благоуханием свежеполитой дождем земли и более острым ароматом спустившегося с гор тумана, накатывавшего тяжелыми серыми волнами на монастырские стены.
Пока Миюки бежала, она вспомнила, что перед тем, как пасть ниц перед алтарем, ей надлежало освободить разум от нечистых помыслов, порожденных вожделением (а разве отчаянное желание вернуть карпов не было одним из вожделенных помыслов, осуждаемых буддами?) либо гневом (она страшно злилась на неведомое существо, человека или зверя, потому как не исключено, что в краже была повинна стая обезьян, которые вполне могли умыкнуть у нее шесть из восьми дивных рыб чуть ли не из-под носа).
Она также понимала – не стоит ждать от будд никакой милости, никакого снисхождения и никакого чудесного вмешательства. По своей природе они оставались глухи к подобного рода мольбам, решительно глухи, да и ками были ничуть не лучше. Для этих высших сущностей человек был не более чем лоскутком от незнамо чего, кожурой, оторвавшейся от своего остова – существования, к которому она прилегала так плохо, что довольно было дуновения ветерка, чтобы ее сорвать. И теперь, когда Кацуро, который был ей самым близким человеком, до того близким, что порой их натуры переплетались настолько, что Миюки, забыв учтивые и скромные речи, подобающие женщинам, прибегала к чисто мужским оборотам, злившим ее мужа, – ты выражаешься так, будто у тебя во рту скачет тысяча вонючих жаб!.. – так вот, теперь, когда он перебрался в мир, куда ей не было доступа, Миюки оставалось рассчитывать только на самое себя. Отныне Кацуро оставался совершенно равнодушным даже к самым горячим ее мольбам, самым томным вздохам и самым чувственным позам.
Протиснувшись сквозь строй верующих, она подобралась к алтарю. Тускло освещенный четырьмя масляными лампами, у которых язычки пламени то поникали, то вздымали вверх в такт дыханию верующих, он слабо поблескивал в обрамлении красных, с позолотой тканей и в отсветах угольков, от которых зажигали благовонные палочки.
В тени возвышалась статуя Будды, словно в своем сострадании Пробужденный[45] боялся, как бы золотые листья, облеплявшие его тучную, брюхастую аватару[46], не ввели в искушение изможденных, продрогших и нередко истощенных паломников, которые что-то гудели себе под нос, сгрудившись у его стоп и вожделенно посматривая на скромные, впрочем, подношения: чистую воду, плошки с шаровидными пригоршнями вареного круглого риса и редкие кучки фасоли, – разложенные на алтаре.
Более привычная к синтоистским обрядам, нежели буддистским молитвам, Миюки поглядывала на стоявших рядом богомольцев и повторяла все за ними, чтобы не совершить какую оплошность: она воздевала над головой сложенные вместе руки, медленно опускала их до уровня шеи, потом сердца и, преклонив колени, падала ниц, касаясь лбом земли. Когда ее нос первый раз замер у самой земли, ей почудилось, будто в этом месте воняет навозом. Она ощупала ноздри и поглубже вдохнула этот едва уловимый запах, напомнивший ей длинный низенький хлев, где содержали нескольких быков, принадлежавших общине Симаэ. Это были приземистые, крепко сбитые животные с густой, очень мягкой шерстью и упругой кожей, обтягивающей довольно тонкий скелет, – слишком хрупкий для скотины, предназначенной перевозить тяжелые грузы, однако их кости, скрепленные с могучими мышцами, сочленялись с поразительной точностью, что возмещало их видимую хрупкость.
Ни у Кацуро, ни у его жены не было рисовой делянки – у них не было даже ни единой огородной грядки. Кацуро был всецело поглощен рыбной ловлей, чтобы трудиться еще и на земле, а Миюки была слишком занята починкой снастей и чисткой пруда для карпов. Однако, желая быть полезной общине, она взялась подсоблять девушкам, приставленным к быкам, – в частности, убирать за животными навоз, который разжижали в бадье их же мочой и которым потом удобряли делянки. А поскольку руки и ноги у Миюки были покрепче, чем у других девушек, ей чаще всего и приходилось таскать бадью по полям, то и дело склоняясь, зачерпывая мутную жижу ковшиком на длинной ручке, разбрызгивая ее по верхушкам растений и наблюдая, как она стекает по длинным стеблям к корням, притом что порой приходилось пускать в ход соломинку, чтобы направлять жижу туда, куда нужно, если, наткнувшись на узел или нарост, она стекала не в ту сторону.
Миюки никогда не испытывала отвращения к навозной жиже: если правильно приготовить раствор, сообразно с требованиями старейшин, и если потом дать ему отстояться всю ночь, чтобы выветрились самые летучие испарения, тогда запах, исходивший из бадьи, становился даже приятным, почти сладковатым; и когда Миюки приходилось набирать себе молоденьких помощниц, она всегда старалась сгладить дурно пахнущие стороны своей работы, заверяя новеньких, что множество цветов, которые скотина щиплет по весне, придают ее навозу аромат ладана.
Подобно подступающей к горлу тошноте, она вдруг почувствовала прилив тоски по всему тому, что некогда было ее привычной жизнью. И сейчас она корила себя за то, что прежде недооценивала свою жизнь.
Вот только была ли у нее цена?
Миюки жила жизнью беспросветно тяжелой и жалкой, как и сотни тысяч других японских женщин, за двумя лишь исключениями. В отличие от ее родителей, которые погибли, спасаясь от резни, учиненной наместником провинции, восставшим против власти императора, – это восстание совпало с сильнейшими землетрясениями и кровавыми набегами пиратов с Корё[47], – она избежала сухих ударов палкой и обжигающих бичеваний плетью, а если у нее на теле и были рубцы, то ими ее пометила сама природа – с помощью камня, о который она споткнулась, низко нависшей ветки, на которую она наткнулась второпях, зверька, который укусил ее от страха, ледышки, на которой она поскользнулась, колючего кустарника, за который она зацепилась, – однако во всех подобных случаях ей оставалось пенять только на себя, иной раз она даже улыбалась, думая, что это наказание какого-нибудь ками, осерчавшего на нее за то, что она ненароком нарушила его покой.
Другим исключением в ее безотрадном существовании была любовь – та, которую дарил ей Кацуро и которую дарила ему она.
Миюки вспоминала бродячих сказочников, что летними вечерами, передавив цикад, чей неумолчный стрекот заглушал их слова, усаживались посреди деревенской площади и потусторонними голосами вели свои жуткие рассказы про влюбленных, разлученных жестокой и несправедливой судьбой; и жители Симаэ неизменно смачивали слезами длинные рукава своих одежд. И только Миюки с Кацуро пихали друг дружку локтями да похихикивали, потому как уж они-то знали наверное, что никакая людская злоба их не разлучит, – разве только смерть, понятное дело, но, даже если такая мысль и приходила им в голову, она была какой-то безликой, а стало быть, безжизненной. Они закрывали лица руками, пытаясь скрыть свой смех, но сдержать его было выше их сил, и селяне думали, что они рыдают. А сказочникам оставалось только сожалеть, что они передавили всех цикад: хотя шума от них было не меньше, чем от этой неугомонной парочки, гомонили они, по крайней мере, не так пронзительно.
Миюки нравилось быть счастливой, хотя, что такое счастье (сиавасэ, как говаривала она), сказать по правде, ей было невдомек. Она не смогла бы его объяснить – она знала только, что это нечто совсем другое, нежели так хорошо знакомые ей слова, которых не счесть и которые неизменно были на языке у всех чувствительных натур: скорбь, страдание, обида, мука, тревога, стыд, горечь, отвращение, огорчение, смертельная усталость, изнеможение, слабость, бессилие, нужда, отчаяние, беда, тоска…
Но счастье прошло. Отныне она не увидит больше ни Кацуро, ни, возможно, Симаэ: разве ей хватит смелости вернуться в родную деревню после того, как она столь непростительным образом лишилась карпов? Что она скажет Нацумэ? Как оправдается перед односельчанами, которые ей поверили?
Не лучше ли продолжить свой путь в Хэйан-кё, предстать перед Службой садов и заводей и ждать, пока управитель Нагуса не решит, какого наказания она заслуживает? Может, ее заставят омывать и обряжать тела обезглавленных врагов перед тем, как представить их на обозрение императору, что было бы вполне соразмерным наказанием за ее вину? А если такое искупление кому-то покажется недостаточным, возможно, ей разрешат совершить дзигаи, и это было бы поистине достойным выходом из ее отчаянного положения. Обычно такое ритуальное самоубийство было уделом благородных женщин, жен или дочерей воина, но бывало, что и простые служанки, повинные в каком-нибудь серьезном проступке, выбирали дзигаи в надежде оправдаться в глазах своих хозяев. Вскрыв себе яремную вену или перерзав сонную артерию лезвием кайкэна[48], Миюки смогла бы доказать свою преданность Службе садов и заводей и, главное, землякам, жителям Симаэ.
Такая смерть считалась быстрой и не требовала, как в случае с сэппуку, помощи друга, который должен прервать невыносимые мучения самоубийцы, отрубив ему голову саблей. Что же касается женщины, единственной необходимой мерой предосторожности, после того как самоубийца садилась на корточки, было связать себе ноги, чтобы не брыкать ими неподобающим образом в предсмертных муках.
Но решись Миюки на такое – теперь, когда Кацуро покинул этот мир, ей было совсем не страшно, – перед нею возникла бы неразрешимая загвоздка: у нее не было кайкэна, равно как и денег, чтобы его купить.
Продолжая отбивать поклоны, она подняла глаза и огляделась кругом в надежде увидеть, что среди одежд, которые стягивали с себя паломники, пожелавшие жить монашеской жизнью, вдруг случайно сверкнет лезвие кайкэна.
Но среди подношений, складываемых к алтарю, были только плошки с водой, цветы, благовония, светильники, снедь и музыка, которую символизировала раковина, возложенная на кучку риса.
В это мгновение в горах громыхнул гром. Вслед за тем тут же загудел храмовый колокол, хотя к его языку никто даже не прикоснулся.
И тут она их увидела: отодвинутые к основанию алтаря, из-под бахромы красного с позолотой алтарного покрывала выглядывали головы шести ее пропавших карпов – те же набухшие щеки, а сзади только длинные гребни-позвоночники, отороченные белыми, без единого кусочка плоти зубьями-косточками, обтянутыми, точно мантией, чешуйчатой кожей, обесцвеченной смертью.
Миюки почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота, и прижала ладони к губам. Она уронила голову вперед – и тяжело ударилась лбом о пол.
Украли, убили, разодрали, сожрали…
То было дело рук человеческих: ибо, если бы такое сотворили звери, они сожрали бы и головы и даже перемололи зубами все перламутровые косточки.
Тогава Синобу был бонзой[49], причем сравнительно молодым, но дряблым лицом, безжалостно побитым оспой, которая поразила его в возрасте девяти лет, он больше походил на старика. Во время болезни, когда он много дней метался между жизнью и смертью, его оспины источали такое зловоние, что даже родная мать не могла находиться в комнате, где он лежал почти нагой, до того его тело было чувствительно к теплу. Он выжил чудесным образом благодаря заступничеству духа-хранителя, одного из семи богов счастья, которому впоследствии он посвятил свою жизнь, – в знак признательности. Постригшись в монахи, Тогава Синобу прошел через все ступени священнической иерархии, прежде чем стал дзасу[50] этого монастыря, который, хотя и был буддийским, почитался как неизбежная веха на пути паломников к трем синтоистским божествам Кумано.
Он принял Миюки в Доме Снов, небольшом восьмиугольном строении, названном в честь доблестного владыки, которому как-то во сне явилось небесное существо, дабы открыть смысл сутры, доселе необъяснимой.
Посреди комнаты в основании Дома располагались ширмы, отгораживавшие пространство, единственным убранством которого было несколько подушек. Сквозь промасленную бумагу можно было разглядеть недалекие глыбы гор, поросших лесом.
Тогава Синобу предложил Миюки сесть (в знак уважения она смиренно отказалась сесть на подушку) и рассказать, что случилось.
Пока она рассказывала, что, собственно, заставило ее отправиться в путь-дорогу, особо настаивая на том, что неудача не только обернется бесчестьем лично для нее, но и принесет большую беду жителям Симаэ (тут она опустила голову, чтобы скрыть слезы, готовые выступить у нее на глазах), настоятель храма вспомнил сутру Гондзикиньё, где сказано: и даже если глаза всех будд прошлого, настоящего и будущего вылезут из глазниц и падут на землю, ни одной женщине во всем свете не будет суждено стать буддой. Впрочем, некоторые, быть может, и смогли бы приблизиться к просветлению, но, чтобы преодолеть самую последнюю ступень, им пришлось бы перевоплотиться в мужчину.
Чуть склонив голову набок, дзасу разглядывал Миюки и думал, что было бы прискорбно, если бы она переродилась в мужском теле. Тогава Синобу был не из тех монахов, что любили тешиться с юными послушниками, он предпочитал им монашек, к тому же многие не раз видели, как он шел по каменистой дорожке к пристройке, где они проживали и занимались тем, что обстирывали и обшивали монахов, стряпали и, ко всему прочему, содержали монастырь в чистоте, – потому Преподобный как-то поведал своим ученикам, что в следующем перерождении он надеется стать женщиной или коровой: ибо, по его разумению, только эти два перевоплощения приносят больше всего пользы людям.
Будто застыв в созерцании Миюки, Тогава Синобу и вовсе перестал слушать ее исповедь. Он фыркнул, силясь поймать нить мысли – вспомнить причину, побудившую эту женщину прийти к нему за справедливостью. И почему она предстала перед ним в столь неподобающем виде? Разве ей не следовало бы расчесаться и собрать волосы в пучок? Или она запыхалась так оттого, что в волнении своем бежала и бежала к нему от самого подножия горы?
– Они и впрямь выглядели аппетитно, – говорила она, – но я ни за что не посмела бы съесть их все.
– Вы это про что? – фыркнув, бросил Преподобный.
– Про пирожки, конечно. Завитушки такие – меня угощали ими вчера вечером Генкиси-сан и Акито-сан.
Хотя в заключение Миюки прибавила, что, вероятно, они и украли у нее карпов, она по-прежнему отзывалась о них с почтением, коего со стороны такого ничтожного создания, как вдова рыбака, были достойны богомольцы, отправившиеся в паломничество к святилищам Кумано.
– Откуда у них взялись эти пирожки?
– С кухни при храме. Они так сказали.
– Они вас обманули! – возмутился Тогава. – У нас уже целых две луны нет красной фасоли, так что на нашей кухне не могли состряпать ничего подобного. Полагаю, ваши благодетели сами их испекли и начинили крепким сонным зельем, дабы, пользуясь случаем, усыплять паломников, потому как спящих легче обобрать.
Для очистки совести Тогава Синобу отрядил двух послушников проверить содержимое шкафчика, где хранились снадобья. Вскоре юноши вернулись с двумя пустыми шелковыми мешочками: из одного исчезли гроздья черного паслена, а из другого – волчий корень.
– Теперь я знаю почти наверное – ваши попутчики окормили вас отравой и похитили карпов, – объявил Преподобный. – Они их прикончили, потом зажарили на масляных светильниках, что всю ночь горят перед алтарем. И съели. Вот только смогли бы они насытиться ими больше, чем свежим воздухом с гор, если бы вдыхали его в этом своем воплощении и в тысячах других. А что до вас, молодая госпожа, успокойтесь. Горю вашему уже не поможешь. Сколько ни плачь, сколько ни орошай рукав слезами, карпов не оживить и не вернуть в их глиняные верши. Но скажите, готовы ли вы пройти свой путь до конца, несмотря на то что все пошло не так, как вам бы того хотелось?
– Если бы у меня был хоть какой-нибудь повод! Но теперь, когда руки у меня пусты, к чему мне идти в Хэйан-кё?
– К тому, что вы покинули свою деревню, одолели немалую часть пути и взошли на эту гору.
– Тогда это имело какой-то смысл, а сейчас никакого смысла нет.
– Всегда есть смысл и дальше поступать так, как должно, – заметил Тогава Синобу, – даже если кажется, что это больше ни к чему. И я желаю вам помочь, чтобы вы уразумели эту истину.
– А что я скажу управителю Службы садов и заводей? Как оправдаюсь перед Нагусой Ватанабэ?
– Никак. Не надо ни в чем оправдываться. Молчите, если вас будут попрекать, пусть и незаслуженно, и не жалуйтесь, если накажут, пусть и незаслуженно. Однако может статься, – с лукавой улыбкой прибавил он, – может статься, вы все же справитесь с порученным вам делом.
– Но как, как? Восемь карпов и так всего ничего. Кацуро, муж мой, в каждый заход приносил по два десятка. А я смогла взять с собой только восемь! Даже думала отправиться в путь во второй раз и в третий, будь на то воля управителя Нагусы…
– Послушайте моего совета: ступайте тропой, что пролегает по горному склону, держите на север. И скоро выйдете к реке. Называется она Ёдогава. Говорят, воды ее кишат рыбой. На ее берегах трудится великое множество рыбаков, и я бы премного удивился, если бы хоть один из них не согласился выловить для вас несколько прелестных карпов.
– Прелестных карпов? Но никакая, даже самая распрелестная рыба нипочем не сравнится с рыбой из нашей реки. Наша рыба самая длинная, самая увесистая, самая жирная и больше других походит на веретено. А чешуя у нее что веера – и не раскрытые, и не закрытые. Просто красота – не наглядеться! Не в укор мужу моему будь сказано, но воды Кусагавы, его реки, столь же богаты, сколь беден был он сам.
– Вы говорите о своем рыбаке так, будто…
– Да-да, – живо прервала его Миюки, забыв про почтительность, которую была обязана выказывать настоятелю монастыря, – вы это точно подметили: Кацуро умер, его унесло прочь, точно цветы сливы в бурный ветреный день. Но, даже если цветы развеет ветер и они упадут к твоим ногам, слива, на которой они выросли, снова зацветет будущей весной, – а вот когда и в каком мире возродится душа моего мужа?
Губы у Тогавы Синобу, уже не такие пухлые, совсем сузились – так он обычно улыбался, одаривая своей благожелательной улыбкой детей и стариков.
– У меня нет ответа, молодая госпожа. Я мог бы, конечно, высказать некие предположения, даже надежды, однако ничего определенного сказать не могу. Ибо даже самая непреложная уверенность ненадежна, непостоянна и неопределенна. То, что нынче утром, под дождем, кажется истинным, может стать обманом, как только тучи рассеются. По моему разумению, душа, вернее, то, что вы называете душой, не переметывается из тела в тело: она крепко соединена с существом, которое оживотворяла, – таким образом, смерть плоти неизбежно влечет за собой отмирание разума, связанного с нею.
– Вот и Кацуро думал точно так же, хоть и говорил не так складно, – прошептала она. И представила себе светлячка, высохшего, черного, вернее, то, что от него осталось после того, как угасло его свечение, а потом и жизнь на широкой ладони рыбака.
– Покуда ваш муж был жив, – между тем продолжал настоятель, – все его поступки были подобны зернышкам, лежавшим в основании его кармы. Так вот, карма продолжает жить и после того, как увядает наша жизнь, а семена, которые ее образуют и олицетворяют деяния, совершенные человеком и, стало быть, не связанные с нею непосредственно, продолжают расти и тогда, когда жизнь человека прерывается. Возьмите семена растения, подхваченные ветром: они возникают из этого растения, но не являются самим растением, поскольку, оторвавшись от него, упав на землю и зарывшись в почву, они дают жизнь другому растению, не такому, как то, с которого их сорвало ветром. Будь у них способность мыслить, они бы ничего не вспомнили и ничего не смогли бы предвидеть. Без памяти о прошлом, без умения предчувствовать будущее они трепыхались бы в настоящем, подобно соломинке в безбрежном море. Мир, где, как вам кажется, все взаимосвязано, на самом деле представляет собой смешение, путаницу всех этих карм. И если бы миллиарды миллиардов таких деяний не приводили к изменению мира, его бы просто не существовало.
Небо, вроде бы прояснившееся на рассвете, снова затягивалось тучами.
– Итак, – осведомился Тогава Синобу (высокий голос настоятеля становился все более пронзительным – и он старался его приглушить), – что же вы решили? Пойдете дальше, до императорской столицы? Или вернетесь в Симаэ?
* * *
Миюки понадобился не один час, чтобы спуститься с горы.
Конечно, теперь ей не нужно было ступать с оглядкой, как прежде: потеря двух оставшихся у нее рыбин мало что изменила бы в ее положении, случись ей предстать хоть перед Службой садов и заводей, хоть перед односельчанами. Но последних двух карпов тоже выловил Кацуро: ведь это он старался приучить их к пруду в Симаэ, ласкал их, купался вместе с ними, и в конце концов они до того осмелели, что стали подплывать к нему все ближе и терлись о его бедра, – они хранили на себе последний след присутствия Кацуро на земле, и этот след Миюки хотела сохранить вживе во что бы то ни стало.
Она спустилась в долину в час Петуха[51]. Подобно стадам, спешащим в крытые стойла с наступлением вечера, громады мрачных туч, набухших, пропитанных дождем и наполненных рвущейся наружу грозовой мощью, – сквозь их клочковатый покров изредка проглядывали длинные, змеящиеся вспышки света, – соскальзывали с горных вершин, все больше ускоряясь в своем безудержном скольжении.
Под обрывистым лесистым склоном, за крайним рядом криптомерий, протекала река. Как будто та самая, про которую говорил Тогава Синобу.
Молодая женщина решила подняться вверх по течению Ёдогавы, если это все-таки была она, держась на некотором удалении от нее, чтобы ее силуэт не отражался в водах реки. Потому как надо было считаться с каппой – про него она узнала от Кацуро, который развлекал ее своими историями во время их долгих вечерних посиделок, – маленького водяного духа, сплошь покрытого зеленоватой чешуей и похожего не то на обезьяну, не то на лягушку, сразу не поймешь. Зловещую славу каппа снискал себе тем, что мог выскакивать из рек и прудов и бродить по земле благодаря заполненной водой впадине на макушке. И никто не мог защититься от его жестоких проказ, наихудшая из которых заключалась в том, что, когда ему хотелось потешиться охотой на человека, он засовывал свои когтистые перепончатые лапы в задний проход жертве, добирался до печени, вырывал ее и пожирал; аппетиты каппы распространялись и на малых детишек – их он сперва топил, а после поедал. Но больше всего на свете это чудище любило огурцы – Кацуро никогда не ходил на реку, не прихватив с собой пару-тройку превосходных огурцов, дабы отвратить от себя прожорливых капп.
Тем не менее Миюки не верила в капп. А байками про огурцы Кацуро просто потешался над нею. Она смеялась над этим всегда – смеялась и теперь; поскольку уже смеркалось и никто ее не видел, ей не было никакой надобности прикрывать рот рукой, и она была рада тому, что может смеяться от души и ничто этому не помешает, даже накатывавшая волнами промозглая ночь.
И тут ее сандалии наткнулись на что-то дряблое, лежавшее посреди дороги. Миюки наклонилась. Это было мертвое тело юноши, прекрасного с виду, с идеально правильным овальным лицом, которое в быстро чередующихся вспышках молнии казалось особенно бледным. Маленький рот, узкая прорезь глаз, которые смерть так и не успела закрыть, подбородок, тронутый редким пушком. От мятой одежды исходил едва уловимый запах ила и речных водорослей. На первый взгляд на нем не было ни единой ссадины, что позволило бы определить причину его смерти. Всеми брошенный и забытый, обмякший, он безмятежно и совершенно естественно лежал на сырой земле, словно на мягкой подстилке, отчего казалось, что смерть и в самом деле была его обычным состоянием.
Наткнуться на мертвеца для Миюки означало осквернить себя, тем более что она нагнулась к нему и чуть было не прикоснулась. Однако она решила, что в своем положении уже ничем не рискует, если перевернет мертвое тело и осмотрит его со спины, – может, так удастся понять, что же погубило несчастного юношу.
Миюки поставила верши наземь и подперла их большими камнями. Потом снова наклонилась над телом, перевернула его сперва на бок, а после на живот. И тут заметила, что шнурки, поддерживавшие его широкие с напуском штаны, развязаны, а из-под них торчат огути[52], сползшие до лодыжек, – хотя, быть может, их кто-то спустил раньше. Второе предположение казалось самым вероятным, поскольку задний проход у юноши был разорван – будто исполосован ножом. Темная, свернувшаяся кровь, видневшаяся у него на ягодицах и бедрах, чернела пятнами и на его пунцовых огути.
Вне всякого сомнения, столь омерзительное зверство учинил не иначе как каппа: чтобы раздвинуть плоть и добраться до печени, он пустил в ход свой острый загнутый клюв, служивший ему пастью.
Миюки отпрянула в сторону – ее тут же вырвало. Потом она подняла лицо к небу, упиваясь потоками дождя и вымывая из себя горький привкус рвоты.
Опустившись на колени перед мертвым юношей, Миюки тихим голосом заговорила с ним, прерываясь лишь на время, пока не отгрохочет очередной раскат грома, разрывавший ночь; она сказала, что те же боги, которые требуют, чтобы она очистилась от скверны после того, как прикоснулась к нему, наказали бы ее куда строже, если бы она бросила его и пальцем о палец не ударила, дабы облегчить ему переход в иной мир. А боги уже показали ей, какими строгими могут быть, когда отняли у нее человека, который был ей дороже всего на свете, – дороже самих богов, и когда позволили Акито, человеку-лошади, и его приспешнику Генкиси украсть у нее шестерых карпов из восьми и съесть их.
Поэтому она решила сделать все возможное – и довершить то, на что была способна в сложившихся обстоятельствах; но юноше, хоть он и был мертв, следовало бы знать, что в одиночку ей нипочем не удастся провести обряды освобождения и воспарения его души, потому как она не знала надлежащих священных заклинаний, и потом, у нее не было положенных ритуальных принадлежностей, а главное – никакого законного права.
Первым делом Миюки оттащила тело подальше от реки, чтобы его не сожрали всякие речные твари – не только каппы.
Она просунула руку мертвецу под голову, а другую – под колени и попробовала его приподнять. Но он оказался слишком тяжел – ей пришлось отступиться.
И тут из-под складок одежды юноши выпал кайкэн – должно быть, он прятал его в рукаве. Железные ножны, в точности повторявшие форму клинка, были украшены резьбой в виде птиц, а на самом клинке были вырезаны легкие колосья, клонящиеся по ветру.
Находка ввергла Миюки в недоумение: неужто боги вняли ей, когда она пожалела, что у нее нет с собой кайкэна? Неужели они послали ей желанное оружие именно сейчас для того, чтобы она применила его по прямому назначению – совершила подобающее отчаявшейся женщине дзигаи, то есть свела счеты с жизнью, вскрыв себе яремную вену?
Однако, даже заполучив кайкэн, Миюки не могла ответить на два главных вопроса: где точно у нее на шее располагалась вена, которую ей надлежало перерезать, чтобы исполнить ритуал должным образом? К тому же, насколько ей было известно, подобный способ сведения счетов с жизнью считался привилегией благородных дам и жен героев-воителей; но она никогда не слыхала, что такое было позволительно вдове простого рыбака.
В это мгновение она увидела, как по водам Ёдогавы скользит узкая, низкосидящая барка.
Лодка будто плыла сама по себе, но так только казалось в вечернем свете, приглушенном тенью грозовых туч, скользивших над рекой. И то верно, трое в соломенных плащах поочередно опускали в воду длинные шесты и, отталкиваясь от речного дна, с силой толкали лодку против течения.
Миюки распласталась на берегу, затаившись за мертвым телом. Она боялась, как бы те трое, заметив ее, не повернули к ней. Ведь стоит им подойти к берегу, как они, несомненно, увидят мертвеца и тогда начнут допрашивать молодую женщину по всей строгости.
Ее непременно накажут за сокрытие правды – правды, которая была ей неведома, но судьи воспримут ее неведение как проявление строптивости и скрытности. Она уже чувствовала, как шею ей сжимает колодка, которую ей придется носить несколько лун кряду. Под тяжестью деревянного хомута ее ключицы сотрутся до костей, а плечи омертвеют. Размеры такого орудия пыток были рассчитаны таким образом, что приговоренный даже не мог поднести руку ко рту, – значит, Миюки пришлось бы вымаливать, чтобы ей скормили хотя бы жалкую пригоршню риса и дали хотя бы мало-мальский глоток воды. Однако, как бы ни хотелось Миюки жить, ничего и ни у кого не прося, как бы ни хотелось продраться в одиночку сквозь нескончаемую лесную чащу, – ей казалось, что Япония сплошь поросла лесом, тем более что, покинув Симаэ, она редко выбиралась из-под покрова деревьев, – она умерла бы от истощения так же верно, как если бы совершила над собой дзигаи.
Впрочем, смерть Миюки не пугала. Будь ей суждено расстаться с жизнью, она сожалела бы лишь о том, что не смогла вкусить всех прелестей нынешней осени. Это было ее любимое время года, еще стояли теплые дни, холодало только к вечеру, и то холод еще не был колючим – просто в воздухе веяло прохладой, и от нее можно было укрыться, не кутаясь в громоздкие одежды. А где было вернее всего спрятаться от холода, если не в уютных объятиях Кацуро, когда он с нарочитой нежностью прижимал ее к своему теплому телу. Она сжималась в клубок и тихонько мурлыкала, точно бездомная кошка, – а таких в Симаэ было хоть отбавляй, – почуявшая запах рыбы и стремившаяся проникнуть в дом рыбака.
Но Кацуро утонул, а следом за ним вот-вот утонут и прелести осени.
Барка подошла бортом к берегу. Самый старший из находившихся в лодке, должно быть кормчий, невысокого роста человек с причудливой формы подбородком, отороченным бахромой длинных желтоватых волосков, спрыгнул на берег. Какое-то время он стоял, покачиваясь на кривых ногах, будто привыкал к твердой земле после зыбких вод реки.
– Отомэ[53], – просто сказал он, глядя на мертвое тело, за которым тщилась спрятаться Миюки, неистово царапая размытую дождем землю, – а ну-ка, покажись! Знаю, ты там, отомэ, я заметил тебя еще до того, как ты успела спрятаться.
Миюки жалобно охнула.
– А еще я знаю, что ты непричастна к его смерти, – продолжал незнакомец. – На самом деле тебе нечего нас бояться.
Он подходил ближе, переваливаясь с одной кривой ноги на другую.
– Ну конечно, я непричастна, – подтвердила Миюки, все еще прячась из опаски, – да только кто мне поверит?
– Этот мертвец когда-то состоял в свите Кинтаро, слуги самурая Минамото-но Ёримицу, правой руки регента Фудзивары-но Митинаги, нашего досточтимого верховного министра.
Имена, которые человек на уродливых ногах произносил с глубочайшим почтением, – он разве что не склонял голову в поклоне, чеканя каждый слог! – ничего не говорили Миюки. И лодочника, похоже, премного удивило ее невежество.
– В каком мире ты живешь, отомэ? – вздохнул он. – Так знай же, последнее время роды Минамото и Тайра сталкиваются меж собой все чаще. И не за горами день, когда, презрев всякое перемирие, они вовлекут в свои распри и всю империю. Если только она еще держится. Вот уже нынче утром, на рассвете, должно быть, между часом Тигра и Зайца[54], разбойники-наймиты, состоящие на службе у Тайра, пролили кровь этого юноши, за которым ты спряталась, – вернее, думала спрятаться, – как за крепостной стеной. За что они убили его? За то лишь, что на спине он носил белый нобори[55], расшитый цветами гречавки и листьями бамбука – знаком Минамото. Однако нас, – прибавил он, указывая на двух других лодочников, сидевших в барке, – это смертоубийство касается не больше, чем тебя: мы всего лишь простые рыбаки. А этого несчастного юношу мы выслеживали потому, что нам был нужен его хозяин – Кинтаро. И только затем, чтобы узнать, правду про него говорят или нет, понятно?
– Какую такую правду? – полюбопытствовала Миюки.
– Ну, ходят слухи, в общем, идет молва, что Кинтаро, будучи еще мальчонкой, но на редкость сильным, якобы одолел гигантского карпа. Давно это было, и нынче эта чудо-рыба, ежели она вообще существовала, уж точно мертва. Однако ж нас, друзей моих и меня, больше интересует не тот карп, а река, где Кинтаро, как поговаривают, одолел его в поединке – оседлал и обуздал, засунув руки ему в жабры по самые локти. Так вот, может, в той реке водятся еще рыбы таких размеров. До тебя же, отомэ, нам нет никакого дела!
И Миюки показалась, внезапно возвысившись над мертвым телом, – глаза ее были широко раскрыты, губы выпячены.
– А вот и нет, как раз наоборот: я была женой Накамуры Кацуро.
– О! – проговорил лодочник, сдвинув брови, потому как он не имел ни малейшего представления о том, кто такой Накамура Кацуро, и, похоже, вовсе не горел желанием восполнить этот пробел.
– Он тоже был рыбаком, – продолжала меж тем Миюки. – Да еще каким! Величайшим из всех, пожалуй. Большинство карпов из тех, что ныне живут в храмовых заводях в Хэйан-кё, Кацуро собственноручно выловил в нашей реке Кусагаве.
Окано Мицутада, так звали кормчего рыбацкой барки, насупил брови. Конечно, он слыхал о необыкновенном рыбаке, что жил где-то на западе острова Хонсю, возле цепочки невысоких вулканов Абу, в области Санъин – «теневого склона горы», – у самого Японского моря. А вот имени его не знал. Впрочем, возможно, при нем и произносили это имя, только он его не запомнил. Сам он, Окано Мицутада, не ловил декоративных рыб – его рыба предназначалась для обеденного стола, и ему было все равно, хороша она с виду или нет: его покупщикам было куда важнее, какова она на вкус и вес.
– Раз уж ты держишь путь в Хэйан-кё, отчего бы тебе не отправиться туда вместе с нами? – предложил рыбак. – Даже если плыть против течения, путь по реке будет короче. И, что важно, безопаснее. Конечно, до императорского города уже рукой подать, да только даже если расстояние не велико, дорога все равно таит немало опасностей для беззащитной молодицы.
– Благодарю за предложение, – сказала Миюки, – но я не могу отправиться с вами, потому что осквернила себя, приблизившись к мертвому юноше. Я не просто приблизилась, но и прикасалась к нему, осматривала его, переворачивала и, только заметив рану у него между ягодицами, поняла, что на него напал каппа.
Окано заскрежетал зубами и принялся колотить себя руками по бедрам – так он смеялся и своей манерой чем-то походил на охваченного злобной радостью стервятника, почуявшего падаль.
– Ничегошеньки ты не поняла, отомэ: это подручные Тайра разворотили ему задницу, чтобы все подумали, будто это сотворил каппа, – так проще отворотить от себя месть воинов Минамото.
Он мерил берег большими шагами, оставляя следы на сыром от дождя песке.
– А что, если, вместо того чтобы взять меня с собой, – продолжала Миюки, – вы окажете мне одну большую услугу, Окано-сан?
Она указала на верши, подзывая рыбака. Тот подошел и склонился над ними. Потом он тихонько присвистнул и окликнул своих товарищей:
– Эй, вы, а ну-ка подите сюда – таких рыбин не каждый день увидишь!
– У меня было восемь штук – маловато, конечно, для нового пополнения храмовых заводей в Хэйан-кё, ведь тамошние карпы изрядно поувяли за долгую летнюю засуху, – а теперь вот осталось только две штуки, потому что по дороге меня обобрали. И уж коль вы рабаки, может, соблаговолите поймать мне несколько крапов взамен тех, что украли?
Окано и его товарищи переглянулись, как бы советуясь меж собой.
– Сказать по правде, – признался рыбак, – наша рыба не так хороша, как твоя. Она не такая упитанная, чешуя у нее неровная и блеклая, да и плавники порядком поистрепались от толчков во время нереста.
– Моим карпам, скажу без утайки, тоже пришлось несладко в дороге, эх!.. Ну пожалуйста, Окано-сан!..
Рыбак и двое его спутников присели в сторонке на корточки. Дождь барабанил по их соломенным плащам, напоминавшим черепашьи панцири. Какое-то время они спорили, иногда поглядывая украдкой в сторону Миюки.
Наконец Окано Мицутада подошел к молодой женщине. Товарищи его, сказал он, согласны наловить ей рыбы, но в награду они требуют по коку[56] риса за каждую рыбину.
– Гляди, отомэ, какие мы честные: поскольку нельзя угадать, будут ли карпы из нашего улова достаточно хороши для храмов Хэйан-кё, ты заплатишь только за тех, которые, по твоему разумению, годятся для священных заводей.
Выказывая свою просьбу, Миюки сочла, что было бы справедливо вознаградить Окано и его товарищей за их труды, вот только из провизии: нарэдзуси с рисовыми пирожками – у нее почти ничего не осталось.
– Мне нечего вам дать, – пробормотала она, – у меня нет столько риса.
Трое рыбаков понимающе переглянулись, не скрывая, однако, некоторого лукавства: они как будто ждали, что у нее ничего не окажется за душой, и рассчитывали на кое-что взамен.
Окано Мицутада пропустил очередной раскат грома, дождался, когда птицы, встревоженные новой вспышкой молнии, вернутся в свои потайные убежища на гнувшиеся под ветром сосны, вишни и ивы, после чего сказал так:
– Послушай отомэ, у тебя есть один верный способ раздобыть столько коку риса, сколько твоя душа пожелает, и не только риса, но и шелков, и благовоний, и соленой рыбы, и даже увесистых монисто из медяков, нанизанных друг на дружку, точно жемчуга в ожерельях.
– И что же это за способ?
Рыбак указал на противоположный берег – там, среди тростниковой поросли, взъерошенной бурей, возвышалось какое-то строение. Под хлесткими, протяжными порывами ветра тростинки тревожно гудели, вторя жалобному пению цикад хигураси.
Окано пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум разгулявшейся стихии:
– Садись в лодку, я перевезу тебя на другой берег, в трактир Двух Водяных Лун. Когда будем на месте, спросишь старушку обасан[57], престарелую зеленогубую Матушку, и предложишь ей свои услуги.
– В качестве шелушильщицы риса? – догадалась Миюки.
– У нас их называют юдзё. Хотя хрен редьки не слаще. У этой зеленогубой старухи лучше всего выходит заманивать мужскую публику. На таких делах, и это главное, она собаку съела. Перед тем как стать Матушкой, она слыла лучшей юдзё на всей Ёдогаве. Да нет, тебя-то она не съест! Зато, потрудясь несколько дней под ее началом, ты так озолотишься, что сможешь уговорить любого рыбака, меня или кого еще, выловить тебе хоть всех карпов из Ёдо и ее притоков.
Опершись на шест, рыбак показал ей на нелепого вида строение, выделявшееся в ряду жилищ более или менее правильной кубической формы, построенных на сваях. Об его предназначении можно было только догадываться: может, не иначе как для того, чтобы отворачивать потоки ветра, дождя и наводнения, он ощерился своими причудливыми углами, уберегая от непогоды покосившиеся стены с проплешинами, сквозь которые проглядывала почерневшая от сырости дранка, равно как и странными изломами и огрубелыми наростами, покрывавшими его фасад, точно опухоли?.. Или, может, это была обыкновенная развалюха, латаная-перелатаная, которую строители, не распилившие дотоле ни одной доски, сколотили абы как из подвернувшихся под руку материалов? Как бы то ни было, зачастую такие постройки рано ли поздно обрушивались на голову своих обитателей под тяжестью снега, либо их испепелял пожар.
– Ступай! Ступай, отомэ, не упускай удачу!
* * *
Трактир Двух Водяных Лун назывался так потому, что, когда над Ёдогавой порой зависала насыщенная влагой пелена тумана, возникало оптическое явление, выражавшееся в том, что в водах реки отражались как бы две луны.
Дом выходил на покосившийся понтонный мосток, нависший над рекой. К сваям, поддерживавшим его, были пришвартованы несколько тяжелых барок.
От трактира Двух Водяных Лун тянуло затхлостью и отсыревшей мукой, и причиной тому были грибы, облепившие его деревянные стены. К этому запаху примешивались исходившие изнутри дома и просачивавшиеся наружу сквозь трещины в стенах ароматы гвоздики, ромашки и рисовой пудры, что было довольно необычно для заурядного трактира.
Даже не прикладываясь ухом к дверной перемычке, Миюки, к своему удивлению, расслышала женские голоса, большей частью девичьи, в которые время от времени вклинивались пронзительные завывания, похожие на поскуливание перепуганной собаки.
Войдя в дом, Миюки увидела там раздетых женщин, которые с завистью поглядывали на девушку, сидевшую по плечи в бочке, окутанной клубами пара. Чтобы не намочить длинные черные волосы, купальщица расстелила их по краям бочки концами наружу, отчего ее совершенно круглое лицо напоминало сердцевину цветка с темными лепестками.
Поодаль, в самой темной части комнаты, женщина в летах, с одутловатым лицом, приплюснутым носом и широко растянутым ртом, очень похожая на жабу, на тощем теле которой болталась исподняя рубаха, заправленная в красные, перетянутые на лодыжках штаны, время от времени обливала водой одну из жриц любви, которая была подвешена на веревках к кровельной балке.
Высыхая, путы стягивались и врезались наказуемой в кожу. Это она скулила по-щенячьи, когда веревки впивались ей в плоть.
Несмотря на полумрак, окружавший мучительницу, Миюки заметила, что у той были зеленые губы. Из чего она заключила, что это и была та самая престарелая Матушка и что эту старуху ей и предстояло просить, чтобы та милостиво приобщила ее к своему ремеслу и оделила щедрыми мужчинами, которые озолотят ее так, что она сможет прикупить новых карпов.
Не переставая поливать жертву, которая раскачивалась над нею и скулила, обасан выслушала рассказ Миюки. Потом растянула свои зеленые губы и зашипела, как озлобленная кошка:
– Завтра же, еще до того как отобьет час Барана[58], ты заработаешь денег, чтобы не только заполнить свои верши, но и купить барку Окано вместе с шестами, сетями, рыбным прудом и даже двумя его никудышными помощниками в придачу. Только не подумай, что все это ты заслужишь своей красотой и уж подавно ласками. Потому как, сказать по правде, ты только сперва кажешься пригожей, а приглядишься к тебе получше, сразу видать – не такая уж ты на самом деле хорошенькая: вон, и лицо у тебя внизу много уже, чем сверху, и губы навыкат, как будто лезешь целоваться… Кстати, не лезь ни к кому ни с поцелуями, ни с чем другим: окажись я круглой дурой и пожелай я угодить этому пройдохе, коротышке Окано – ну сущий карликовый сом! – взяв тебя к себе, так и знай – без моего согласия ты и пальцем о палец не ударишь, чтобы ублажить мужчин, которые пристают к нашему причалу. Ежели они причаливают, чтобы потереться бортом своей барки о наши стены, знать, им охота заплатить и за самое малое твое благорасположение, даже за малейшее дыхание, которым ты соблаговолишь обласкать их лицо, и вот тогда-то им придется иметь дело со старой обасан, потому как все подлежит обсуждению, все имеет свои вес и цену, а цены здесь назначаю я и, уж поверь, могу обратить в золото даже крохотную капельку твоей слюны, которая, подобно птице, будет готова опуститься им на нос вместо насеста… Ну вот, кажись, у меня совсем вылетела мысль из головы, а ты не помнишь, с чего я начала?
– С моих губ – они пришлись вам не по нраву, обасан.
– Раздвинь-ка их – погляжу на твои зубы.
Миюки повиновалась. Старуха рассмеялась скрипучим смехом:
– Эвон как рот разеваешь! Будто раскатываешь штору, скукожившуюся за лето и растрескавшуюся снизу доверху. Разве тебе никогда не говорили, что губы надобно разок-другой облизать языком, чтобы придать блеск рабочему инструменту? А зубы, – прибавила она, прикрывая глаза ладонями, – ох уж мне эти зубы! Замужней женщине пристало их чернить.
– Я больше не замужем, я теперь вдова.
– А ты заметила, что у животных охагуро[59] не в ходу? Со своими белыми зубами ты походишь на животное.
Вспомнив деревенских бычков, Миюки сказала, что любит животных, что ей нравится водить с ними дружбу и что, если зубы у нее такого же цвета, как у них, она не видит в этом ничего зазорного.
– Заруби себе на носу, – проворчала Матушка, – добрая слава обо мне ходит по всей Ёдогаве, и я не позволю тебе портить зубы, да и ожидания верных гостей наших не дам обмануть.
Несмотря на ее угрозы, а скорее даже благодаря им, Миюки поняла, что выиграла словесный поединок со старухой. И, чтобы в этом убедиться, она решила развить свое преимущество.
В это время у наказанной жрицы любви стали кровоточить самые нежные места на теле, в которые глубоко врезались льняные веревки. На коже у несчастной проступила сыпь, и каждый крохотный волдырик наливался все более насыщенным розовым цветом.
– Отвяжите ее прямо сейчас. Прошу вас, обасан! – взмолилась Миюки.
И, поклонившись до земли, она протянула ей кайкэн убитого на берегах Ёдогавы юноши: куда проще было перерезать путы, чем пытаться распутать узлы, тем более что старая сводня, чтобы не поцарапаться, крася себе щеки, остригла ногти совсем коротко, и быстро развязать путы ей было несподручно.
Миюки упала старухе в ноги ради того, чтобы та как можно скорее облегчила страдания наказанной: вдова рыбака подумала, что Кацуро, нуждавшийся в отдыхе после долгих часов томительного ожидания, пока карпы, которых ему надлежало доставить в Службу садов и заводей, не привыкнут к новой обстановке, возможно, проводил какое-то время в приятном обществе этой девушки. При этом Миюки не испытывала ни капли ревности: ведь мгновения удовольствия, которые позволял себе ее муж, казались ей всего лишь короткими вспышками искр, подобными шлейфу от огненных стрел, что выпускают в воздух, дабы отпугнуть демонов во время обряда их изгнания в последнюю ночь года.
Но обасан, видимо, отчего-то не решалась воспользоваться клинком. Тогда Миюки, крепко сжав его, одним махом разрубила некое подобие клубка на конце льняных веревок, которые удерживали жрицу любви на весу.
Та едва успела выставить руки вперед, чтобы не расшибиться при падении. Девушка упала на ладони, повредив себе предплечья, которые, точно пружины, согнулись под ее весом, хоть и небольшим, поскольку ее плохо кормили, и распласталась на полу, словно раздавленная паучиха. Но через мгновение-другое она вдруг вскочила, бросилась к Миюки и прижалась к ней, бормоча что-то невнятное. Голос у нее был громкий, высокий и пронзительный, а волосы, мокрые от воды, которой обливала ее обасан, отдавали илом. Кацуро рассказывал, будто речные русалки щебечут, как ласточки, и от них разит тиной, которой они покрываются, когда вылезают из воды, – и Миюки решила назвать девушку Нингё[60].
Единственными юдзё, имевшими право ночевать в трактире, были те, которых Матушки обычно выбирали себе для согрева: они прижимались к ним или просовывали ноги им под рубахи и упирались в их теплые животы. Будучи недостаточно упитанной, чтобы присоединиться к касте «живых грелок», поскольку их выбирали из числа самых полных, Миюки побрела следом за Нингё и десятком других худышек к понтонному мосту, где были пришвартованы тяжелые черные барки, которые юные жрицы любви и Матушки нанимали для того, чтобы встречать мужчин на реке.
– Мы работаем начиная с часа Петуха, – объяснила Нингё. – Но ритуал подкрашивания лица и переодевания начинается и того раньше. Ежели Матушкам вздумается отплыть от берега, мы должны быть наготове. За опоздание сурово наказывают. Да ты сама видела, что со мной сделали за то, что я не успела к сроку заплести волосы в косу, – признаться, я здорово сглупила, когда расплела их, как какая-нибудь благородная дама!
– Они у тебя такие красивые, длинные, – восхитилась Миюки, у которой волосы были забраны в пучок, имевший более или менее приглядный вид благодаря тому, что она скрепляла его найденными в лесу палочками и веточками вместо гребней и шпилек.
Зато у Нингё волосы свободно ниспадали до пояса, образуя широкий черный каскад, до того блестящий, что ей довольно было лишь слегка повести головой, чтобы они заискрились, источая сладкий аромат масла, которое юная юдзё втирала в них вместе с бальзамом из экстракта камелии, благодаря чему они будто затягивались сверкающей пленкой.
Примостившись на краешке мостка и поболтав о жизни, в том числе и в трактире Двух Водяных Лун, девушки сошли в предназначенные им лодки. Каждая уединилась в своеобразной хижинке с тростниковыми стенками, помещавшейся посреди лодки и устланной циновками и подушками, – там-то завтра юдзё и предстояло ублажать своих гостей.
Прежде чем забраться в убежище, Миюки закрепила верши так, чтобы они не опрокинулись, даже если на Ёдогаве поднимется волна и барки, сорвавшись с места, столкнутся друг с другом. Чувствуя надвигавшуюся грозу и реку, которая была совсем близко, два уцелевших карпа метались кругами в своем узилище так же неистово, как в бурном потоке порога Судзендзи, пробиваясь к тихим заводям Кусагавы. Пронизывая воду в вершах и отражаясь от рыбьей чешуи, вспышки молнии отливали разными цветами – от гранатового и топазового до турмалинового.
Перегнувшись через планширь[61] своей барки, чтобы было лучше видно, Нингё не могла удержаться от веселого изумления.
– Назад! – вскричала Миюки, размахивая кайкэном перед носом у юной жрицы любви. – Этому клинку ты обязана своим досрочным избавлением от назначенной тебе кары, но на сей раз я не побоюсь обратить его против тебя, если вздумаешь прикоснуться к моим карпам.
Нингё нехотя отпрянула от бадей. Чтобы задобрить Миюки, которую она даже забыла поблагодарить за сочувствие, Нингё поделилась с ней своим рационом – ломтиками овощей с соленым рисом и сладкими каштанами, – который обасан раздала всем девушкам, кроме Миюки: должно быть, зеленогубой старухе хотелось сперва поглядеть, на что та была способна, прежде чем тратиться на нее.
– Ты имеешь право на вечернюю плошку риса и после того, как тебя наказали? – удивилась Миюки.
– Гости выбирают лодки, которые глубже сидят в воде, потому как это говорит о том, что находящиеся в них девушки достаточно упитанные. А ежели девушку недокармливать, она становится до того худой, что лодка может даже опрокинуться.
Миюки подивилась сметливости Матушек, умеющих предусмотреть все на свете.
– Как думаешь, а у меня достаточно упитанности, чтобы понравиться мужчинам с Ёдогавы?
Кареглазая Нингё пристально оглядела Миюки с головы до ног, подобно тому, как бабочка облетает цветочную поляну.
– Боюсь, не очень, – наконец проговорила она. – Ну да не беда, набьешь спереди под платье побольше ваты – всего-то делов. И в рукава не забудь напихать.
– Но где же взять вату?
– На конце своего кайкэна! – рассмеялась Нингё. – Тебе надо всего-то распороть парочку кимоно у кусобабы[62]. Ведь она сама тощая, как веточка в зимнюю пору, вот и набивает ватой все свои одежды в плечах да на бедрах.
– А зачем она зеленит губы?
Нингё язвительно рассмеялась, поглаживая затянувшиеся кровавой коркой раны на теле в тех местах, где его стягивали путы. Потом ее смех вдруг резко оборвался и стал похож на сиплое тявканье, будто у нее перехватило дыхание от веселья.
– Она их ни чуточку не зеленит! Они у нее всегда такие – зеленые и слюнявые, а подойдешь поближе, так сразу почувствуешь, как от нее воняет тухлой рыбой да звериным пометом. По-моему, она мертвая, наша карга. Хоть и живая.
– Как это? – недоуменно спросила Миюки.
Кацуро, после того как умер, не являлся ей ни разу. Как бы там ни напутствовали ее Нацумэ с женщинами Симаэ перед дорогой в Хэйан-кё, Миюки не верила, что клочья тумана человеческой формы, возникавшие у нее на пути, когда она взбиралась по крутым тропам в горах Кии, были бестелесными воплощениями Кацуро: он был не из тех, кто неотступно мучил бы ее, подобно укусу мошки в неудобном месте, которое зудит тем сильнее, чем безуспешнее пытаешься до него дотянуться.
– Да никак. Как есть, так и есть. Кровопийца она, вот что я думаю. Меня-то она развязала, а вот трех девушек, которых подвесила перед тем так же, как меня, – ты своими глазами видела, – уморила. За слова свои не ручаюсь, но похоже на то, даже очень.
Миюки еще спала, когда Матушка взошла на борт ее барки. Невнятно бормоча себе под нос, она принялась раскладывать мази и прочие принадлежности, которыми пользовались юдзё, чтобы наводить красоту: бальзамы для волос; смесь воска и масла для лица; густой белый грим на основе рисовой пудры и воды; бамбуковые щеточки для его нанесения; впитывающие лишайники для удаления его излишков; палочки из древесного угля павлонии[63] для наведения искусственных бровей и все необходимое для приготовления черного лака для зубов, в состав которого она подмешивала порошок чернильного сумаха[64].
Разложив все это, она растолкала Миюки, сунула ей под нос шелковые нити, извлеченные из вскрытых коконов, и обрывки пряжи, смотанные в коричневатые клубки, и наказала пойти смочить их в утренней росе, скопившейся на цветках леспедецы[65] и пунцовых листьях кизила, чтобы юдзё могли протереть ими лица, – таким способом они поддерживали естественную бледность кожи.
– Да не мешкай там. Я отвяжу лодки и ждать тебя не буду. Дела-то стали совсем плохи с тех пор, как разразилось соперничество за власть. Много воинов бежало из Хэйан-кё защищать свои отдаленные земли, ведь гражданская распря уже не за горами!
– По-вашему, война все-таки будет?
– Я же тебя об этом не спрашиваю, так что и ты избавь меня от ответа на такой вопрос.
Не успела Миюки вернуться, как Матушка уперлась шестом в речное дно – и тяжелая барка отошла от берега. Она даже не потрудилась разжать зеленые губы, чтобы призвать Миюки к осторожности, – просто стояла и молча глядела, как та разбежалась и едва не упала в воду, поскользнувшись на глинистом берегу, но в последний миг все же запрыгнула в лодку. Поскольку в руках она сжимала хлопковые очески, промоченные насквозь росой, ей нечем и не за что было уцепиться – и она с лету распласталась на дне лодки. А когда поднялась, вся в грязи, Матушка отхлестала ее по щекам тыльной стороной руки.
Ветер стих, небо прояснилось, вода, мягко журча, плескалась вдоль бортов барки, гонимой вниз по течению с флотилией других лодок, груженных снопами овса или собранными между сваями домов бытовыми отходами, которые старые лодочники сплавляли по реке в бухту Нанива и выбрасывали в море.
В барке их было трое, не считая Матушки, налегавшей на шест.
Миюки, как и остальным девушкам, выдали тростниковый сачок, который каждая юдзё должна была передать мужчине – если, конечно, ее кто-нибудь выберет, – чтобы он положил туда оскребки благовоний, медную нить, рис, соленую рыбу и куски шелка в знак благодарности за ее услуги; впрочем, все это неизменно попадало в руки к Матушке, и она оставляла девушке лишь малую толику из означенных даров, за вычетом многочисленных штрафов, которые той начислялись втихомолку – без ее ведома.
Миюки присоединилась к Нингё и другим жрицам любви. Облокотясь на планширь и постукивая в бубен, висевший у каждой на плече, подобно обезьянке, они затянули песенку, стараясь привлечь внимание мужчин:
Презрен в глазах моих Нравоучитель фат, Который пить саке не рад. Гляжу я на такого чудака И вижу в нем всего лишь индюка. К чему мне про бесценные дары твердить! И можно ль их С одним лишь кубком Доброго саке сравнить? Уж лучше про веселье говорить, Что будет мне всю ночь светить. Подарят ли они ту радость мне, Которой может оделить меня саке? Оно тревоги мои гонит прочь И в этом мире может завсегда помочь Мне счастье бытия грядущего найти, Увидеть, кем могу я стать: Букашкой буду ползать Или птицею порхать?[66]Между тем с наступлением дня лодок, гонимых течением, все прибывало, а голоса юдзё смешались с писком водяных птиц, слетавшихся к своим выводкам. Недовольные нескладным хором продажных девок и птиц, некоторые торговцы, обосновавшиеся на берегах реки, и купцы, торговавшие со своих лодок, пытались отогнать «любовные барки», колотя по воде лопастями весел.
По заверениям Нингё, вернее всего завлечь мужчин можно было с помощью душистого порошка, который специально для этого приготавливала зеленогубая Матушка. Порошок рассыпали щепотками на планшире и сдували – ветер подхватывал его и доносил до ноздрей мужчин, готовых платить за любовь.
Час Собаки уже подходил к концу, когда Миюки заметила слабое мерцание фонаря, подвешенного к концу шеста, которым кто-то размахивал с берега.
Ничтоже сумняшеся, Матушка направила барку в ту сторону.
На берегу стоял мужчина. В зыбком свете фонаря его и так невозможно было разглядеть, однако его лоб был низко опущен и, точно ребенок, пытавшийся увернуться от оплеухи, мужчина закрывал лицо длинным рукавом плаща. Хотя плащ был неброского цвета и носивший его мужчина не имел никаких знаков достоинства, по одному лишь приветствию, с которым он обратился к Матушке, было очевидно: человек с фонарем не иначе как состоял на службе при императорском дворе.
Пять девушек прильнули к борту лодки. Но из-за шуршания гальки, на которую накатывала вода, сдвигая ее с места, нельзя было расслышать, о чем Матушка говорила с незнакомцем.
– А тут и гадать нечего, старая притворщица небось обхаживает его: так, мол, и так, господин… в общем, бьюсь об заклад, она запрашивает с него самую большую цену, – сказала Нингё. – Держу пари – требует шелковую мантию.
– Думаешь, у нее получится?
– Да еще расшитую осенними цветами, – прибавила Нингё.
– Это ж почти месячное жалованье доброго мастерового!
– В таком случае, – проговорила одна из юдзё, показывая на свою соседку, – он определенно достанется Акацомэ.
Миюки слегка повернула голову и взглянула на девушку по имени Акацомэ. Белая-белая кожа, обтягивающая круглое, полнощекое лицо; глаза, глубоко спрятанные под веками, едва пропускающими взгляд; густые брови, длинные, с естественным изгибом; пухлые, правильной формы губы… «Раскрасавица!» – подумала Миюки.
Тут она увидела, что фонарь, описав на фоне ночного неба длинный изящный овал, остановился прямо напротив нее, и почувствовала, даже сквозь его стенки из промасленной бумаги, как тепло заключенной внутри него свечи ласкает ей лицо. Нет, Миюки ничего не почудилось: лоб и щеки у нее и впрямь сделались пунцовыми и горячими, будто изнутри их обдало огнем.
Нингё тоже не сводила глаз с кружившего в воздухе фонаря.
– Вот я и не угадала, – прошептала она, беря молодую женщину за руку и прижимая ее к своим губам. – Этот мужчина желает тебя, Амакуса Миюки. Так что она достанется тебе – шелковая мантия, расшитая осенними цветами…
Едва перешагнув через планширь, незнакомец с силой оттолкнулся от берега, направив барку на середину реки. Это означало, что теперь он хозяин лодки и всех, кто в ней находился.
Довольно урча, словно кот, устраивающийся на ночлег, мужчина расположился на подушках, которыми юдзё обложили днище барки. Присев на корточки, он пригубил чашу саке, которую ему поднесла Матушка. Он рассчитывал, что спиртное поможет ему беззастенчиво овладеть жрицей любви, которую он сам выбрал, хотя и не успел как следует ее разглядеть, потому как указал на нее в темноте, прельстившись ее станом, тонкой фигурой, профилем лица и тембром голоса, когда она прошептала ему приветственные слова, но он не знал наверное, действительно ли она отвечает его сокровенным желаниям.
То была рисковая игра, и он не только ее принимал, но и хотел в нее сыграть.
В одном случае из двух – если не в двух из трех – он был не в силах определить на глаз, годится ли ему именно эта юдзё или нет, и вполне мог заполучить какую-нибудь образину, чьи ласки, торопливые и неловкие, скорее раздражали бы его, нежели услаждали.
Но он сносил все безропотно, даже не требуя хоть чуточку больше теплоты. На продажной любви зиждился мир, каким он его себе представлял: нежные, хорошенькие жрицы любви символизировали Хэйан-кё, город удивительно изысканный и чистый, где все дышало утонченностью, невзирая на заполонявших его непристойных девиц, представлявших иные народы и далекие безымянные страны, с которыми Япония не торговала и не поддерживала посольские отношения. Ибо, хотя о том никто и никогда не говорил, незнакомец знал наверное: должны быть и другие земли, бесспорно, обширные, за пятью морями и шестью тысячами восемьюстами пятьюдесятью островами Японского архипелага. Поднимаясь на борт одной из любовных барок Ёдогавы, он не довольствовался одним лишь утолением своих плотских желаний: каждая юдзё олицетворяла для него какую-нибудь заморскую землю, и всякий раз он как будто отправлялся в плавание к берегам какого-нибудь диковинного царства в этом бескрайнем мире.
Он не был взыскателен в любви: ему было довольно лицезреть черты лица женщины, слышать ее голос и вдыхать аромат – он не ощущал потребности ни в любовных усладах, ни в том, чтобы любоваться ее наготой, поскольку обнаженное тело привлекало его только отчасти, ибо, по его разумению, эта оболочка была всего лишь малой частью творения куда более сложного, и он понимал, что обладать им по-настоящему невозможно.
– Откуда у тебя саке?
– Из одной скромной винокурни, господин, которая предпочитает оставаться таковой и впредь, – отвечала зеленогубая Матушка. – К вашему сведению, отменный напиток, коим я потчую вас нынче вечером, называется бидзинсю – благородным саке.
– Бидзинсю – правда? А я-то думал, старинный метод, заключающийся в том, чтобы разжевывать и сплевывать рис, давным-давно позабыт.
– Правда ваша, господин. Но я знаю дом, где чудесное превращение рисовых зерен в спиртное по-прежнему вершится посредством усердного разжевывания и слюны юных дев, которым от роду не больше семнадцати лет.
Когда незнакомец откинул голову назад, осушая последние капли саке, его лицо оказалось в свете луны, и Миюки смогла подробно разглядеть его черты.
Это был мужчина явно в годах, но годы отчасти пощадили его: он походил на святилище веков минувших, которое, судя по иссекавшим его трещинам-шрамам, ожогам, вычернившим его хитроумно сложенный остов, и обломкам драконов, некогда украшавших его кровлю, пережило не один пожар и не одно землетрясение и вышло из выпавших на его долю злоключений хоть и увечным, но более закаленным, окрепшим и привлекательным, чем до того, как оно было ввергнуто во все эти испытания.
Матушка подождала, пока незнакомец не скрылся следом за Миюки в ее хижинке, потом расположилась у входного отверстия и развернула широкий зонтик из бумаги, натянутой на бамбуковые рейки, таким образом, чтобы получилось некое подобие ширмы от случайных любопытствующих зевак, оказавшихся на берегу.
В хижинке было до того тесно, что незнакомцу оставалось только распластаться поверх молодой женщины, которая уже прилегла на подушки, разбросанные по днищу лодки.
Миюки содрогнулась, почувствовав, как ее придавил старик.
– Прошу прощения, – тихо проговорил он, – я не хотел причинить вам боль.
– Мне совсем не больно, господин, – отвечала она сквозь сложенные решеткой пальцы (Миюки прикрыла ими рот, чтобы не смущать его своим дыханием), а дрожу я оттого, что боюсь вам не угодить: до сих пор я любила только одного мужчину – моего мужа, и мы любили друг друга даже после того, как его не стало, нисколько не заботясь о том, как это происходит. От меня вы получите все, чего ни пожелаете, хоть я и не умудрена опытом и в таких делах, понятно, не знаю толк, а посему прошу вас, говорите прямо, что вам угодно, направляйте меня, гните и мните мое тело, как вам заблагорассудится.
Несмотря на то что незнакомец вдавил ее в подушки, Миюки смогла высвободить руки и, извиваясь, закатать полы его плаща, а потом стянуть с себя платье.
Только одна Матушка и была свидетельницей всего, что происходило за ширмой из бумажного зонтика. Она сидела тише воды ниже травы, стараясь все подмечать, поскольку, в случае если мужчина станет предъявлять претензии, ей нужно было точно знать, что́ девушка сделала не так – или чего не сделала, – вызвав его неудовольствие.
Следом за тем, не переставая, однако, подсматривать за утехами парочки, Матушка осторожно налегла на шест, плавно оттолкнув лодку от берега, что разительно отличалось от порывистости любовной страсти, кипевшей у нее под боком.
Между тем остальные девушки клевали носом, вынужденные жаться друг к дружке в тесном пространстве барки. То у одной из них, то у другой рука или нога, не найдя себе места в этой теснотище, безвольно свешивалась с борта лодки, оставляя на водной глади изящные следы, точно водное насекомое. Поскольку девушкам приходилось тереться друг о дружку щеками, подобно ягодам в грозди винограда Косю[67], белая краска осыпалась с их лиц, обнажая нежно-розовую кожу.
Умело удерживаемая на линии течения реки, барка если и раскачивалась, то лишь тогда, когда мимо нее проходила другая барка, тяжело груженная вязанками овса, которые лодочники сплавляли вверх по Ёдогаве.
Покуда незнакомец пытался высвободить свой член из переплетения складок, бугров и узлов ткани, в которых он запутался, Миюки думала: что она будет чувствовать, отдавая какому-то чужаку самую сокровенную часть себя?
Кацуро был первым и последним мужчиной, входившим в нее. Когда его не стало, она с каждым днем все более остро, безоглядно и неудержимо чувствовала потребность в его любви. Она часто просыпалась по ночам, думая, что кто-то бродит по дому, – то были явно мужские шаги, твердые и решительные, ступающие по полу с осторожностью, чтобы не потревожить ее сон. Это мог быть только Кацуро. Он, конечно, умер – она своими глазами видела дым погребального костра, вздымавшийся к небу, – но смерть представлялась ей чем-то пористым, вроде обрывистого берега, нависавшего над порогом Судзендзи: она походила на крепкую, нерушимую стену, сплошь иссекавшуюся трещинами в пору паводков на Кусагаве, и сквозь эти бреши вода била множеством ключей. Миюки боялась открывать глаза, но при этом, улыбаясь в полудреме, она вытягивала руку с открытой ладонью, чтобы Кацуро, когда он придет к ней и приляжет рядышком, мог прильнуть щекой к этой крохотной подушечке из сложенных вместе теплых мягких пальцев. Вот только, к сожалению, все заканчивалось тем, что она всякий раз засыпала прежде, чем успевала почувствовать, как щека мужа прильнула к ее ладони. А наутро, когда Миюки снова открывала глаза, первым делом ей хотелось обнюхать ладонь – и она определенно чувствовала, что от нее пахло рекой, обваленными в глине карпами, лесными фиалками и прибрежными ирисами.
Не в силах удовлетворить свои плотские страсти въяве, Миюки пыталась восполнить эту пустоту воспоминаниями. Отныне ей было достаточно, лежа с закрытыми глазами, вспомнить склоненное над нею лицо мужа – и она уже с поразительной явственностью ощущала, как Кацуро входит в нее и как ей хочется удержать его в своих объятиях. Вслед за тем, по мысленному желанию Миюки, воображаемый член Кацуро начинал разрастаться – и вот он уже покрывал целиком всю нижнюю часть тела молодой женщины.
Если кругом было все спокойно, если тишину не разрывал случайный крик козодоя, если дождь не стучал по соломенной крыше, в фантазиях своих она погружалась в пронзительное состояние наслаждения, потом еще раз и еще…
Однако ж этой ночью ею намеревался овладеть старик, выбравший ее среди других юдзё, – если только ему удастся выпутаться из своих одежд, – и Миюки боялась, что он не войдет в нее, а вломится.
Ей следовало совладать с собой, стиснуть зубы, убедить себя, что она не предает память о Кацуро, что незнакомец для нее никто, что величать его господином для нее ровным счетом ничего не значит, лишь бы увидеть на заре шаткую фигуру Окано Мицутады, рыбака с Ёдогавы, согбенного под тяжестью выловленных для нее карпов, – а ночной гость исчезнет, как грязно-белый мотылек, который бьется о бумажный фонарь, будто играя, и потом падает замертво на дно лодки.
Наконец старику удалось высвободиться из своих одежд. Его член, избавленный от пут, воспрял от притока крови и напрягся: будто вытянув шею с нацеленной вверх обнаженной головкой, острой и красной, он словно собирался взвыть на луну, точно волчок, и Миюки показалось, что он и впрямь чем-то походил на волка – маленького волка, какие водятся на Хонсю.
Она легла на бок, предоставляя незнакомцу выбор – повернуть ее либо на живот, либо на спину. Тело у нее было упругое, бедра – нетолстые, а грудь хоть и небольшая, но соблазнительная. Он повернул ее на живот и лег рядом, прижимаясь к ней своей твердой, бугристой грудью, словно выискивая на ее теле мягкие впадинки. За тростниковыми шторками мимо лодки проплывали берега, переплетенные корнями криптомерий и образующих целые заросли папоротников, торопливо шуршащих листьями, точно благородные дамы веерами в нетерпеливом ожидании, когда же наконец начнется праздничное представление.
Что до старика, он, похоже, не торопился. Теперь, когда ему удалось совладать со своим платьем и его член обрел достойную твердость, он действовал неспешно.
Когда старик начал ощупывать ее груди, Миюки подумала – заметит ли он, что они у нее необычной формы: правая походит на каплю, а левая – на шарик. Такая легкая диспропорция возбуждала Кацуро: что бы это ни было – природный изъян или приобретенный, только изначально левая грудь у нее по форме тоже напоминала каплю, а потом случилось так, что кончик у этой капли как будто обрезали, и осталась лишь ее набухшая часть.
Склонившись над Миюки (она чувствовала, как его теплое дыхание словно скользит по ее спине от шеи до копчика), незнакомец, судя по всему, не заметил ничего такого. В конце концов, разница между ее левой грудью и правой, наверное, и правда была не очень заметна, по крайней мере для случайного любовника, что бы там ни воображал себе Кацуро.
Тем не менее, хотя старик дышал все громче, что было знаком нараставшего возбуждения, он не только не овладел Миюки, но даже не попытался.
Ощупав ее груди, он замер, прижавшись к ней, и какое-то время так и лежал, не шелохнувшись, будто в глубокой задумчивости.
Вслед за тем он взгромоздился над нею, встав на четвереньки, и втянул живот, словно не желая, чтобы их тела соприкасались.
А потом и вовсе отстранился от нее – медленно и равнодушно, будто от пустого выдвижного ящика, в котором, как он думал, хранилось что-то ценное и который пришлось с сожалением задвинуть обратно.
– Я вам не по нраву, господин?
Он ответил не сразу, продолжая все так же медленно отстраняться от нее, как будто она стала ему невыносима.
Миюки вспомнила, как однажды зимней ночью жители Симаэ молча пятились, отходя подальше от охваченной пожаром горстки домов, от которых остались только пепел да кучи раскаленных, мерцающих углей. Она помнила эти следы на снегу – дорожку из отпечатков деревянных сандалиев, которая резко переходила в утоптанную площадку, как будто селяне вдруг разом остановились, не зная, что делать – идти вперед или повернуть назад, а рядом виднелись обратные следы – они тянулись уже задом наперед, поскольку, отступая от места трагедии, никто не смел повернуться спиной к дымившимся балкам, вспучившимся черными буграми перегородкам и обуглившимся телам с одинаково искаженными лицами и глазницами без глаз, которые выкипели; и Миюки заметила, что следы отступления были глубже тех, что вели к пепелищу, словно селяне уносили с собой тяжкое бремя увиденного.
– Хотите, я позову другую юдзё?
Старик покачал головой.
– Но вы же не получили того, что желали, господин.
– Что верно, то верно, – сказал он, – я недоволен. Весьма недоволен. А по большому счету – разочарован. Как будто приходишь в трактир, желая угоститься угрями, а тебе говорят – сегодня их не подают.
Пасть так низко – до уровня угрей, которых к тому же Миюки терпеть не могла, было, конечно, унизительно, но это не шло ни в какое сравнение со стыдом, который ей предстояло пережить, вздумай Матушка связать ее и подвесить к потолку в трактире Двух Водяных Лун в наказание за то, что она не понравилась завидному гостю.
А тот между тем прислонился к борту барки и разглядывал свой обмякший член.
Миюки подползла на коленях к старику, склонилась над ним и, пустив в ход язык, попыталась оживить его безжизненный член.
– Не надо, это бесполезно. Видишь ли, от тебя исходит…
Он вдруг осекся.
– Что, господин? – настойчиво спросила она, надеясь, что он растолкует, почему у нее ничего не вышло, и ей удастся все исправить, потому как у нее сделалось тошно на душе при одной лишь мысли о том, что ей придется несколько часов кряду провисеть под потолком трактира, а с другой стороны – хоть и в меньшей степени – что из-за нее старик не получил удовольствия, на которое, без сомнения, рассчитыывал.
– Так что же исходит от меня? Может, вы заметили у меня на теле нечто такое, отчего вас покоробило? Может – что-то отвратительное? Грязь, пятно какое, скверну, след позора, знак, рубец или еще что?
В конце концов, такое было возможно. У Миюки не было зеркала, и она никогда не видела ни своей спины, ни ягодиц, ни плеч. О своем облике она судила разве только по отражению в воде пруда для карпов да по словам Кацуро. А если не считать шуток по поводу разных грудей у жены, Кацуро был не больно словоохотлив, когда речь заходила об ее внешности. Однако ж о том, что его жена непривлекательна и не заслуживает похвалы, Кацуро, напротив, и помыслить не мог: на самом деле он считал ее красавицей и всегда думал, что ему просто не хватит ни ума, ни слов, чтобы описать достоинства такой женщины, как Миюки.
– Неужели ты думаешь, я бы выбрал тебя, будь в тебе что-то отвратительное? – сказал старик.
– Но как вам удалось все про меня узнать, господин? Как же вы сумели все разглядеть сквозь восемь шелков, в которые меня обернули, чтобы я стала похожа на весеннюю багряную сливу на заходе солнца, – сквозь все эти платья, в которые нынче вечером вздумала обрядить меня наша обасан? Да-да, на весеннюю багряную сливу на заходе солнца, – поджав губы, повторила она. – Скажите же на милость! И что это за цвет! Такого в природе не бывает ни весной, ни в какое другое время – ни днем, ни ночью. Никогда.
– Дело не только в том, чтобы что-то разглядеть! – с досадой воскликнул старик. – Ты же не вещь, чтоб тебя разглядывать. Тебе никогда не приходилось слышать про человека, он постарше меня будет, по имени Китидзиро Уэда?
– Где же я могла про него слышать?
– В твоем мире: он никого не любил так, как жриц вроде тебя. И в своей любви был просто ненасытен! Каждую ночь ему была нужна жрица любви, не похожая на предыдущих. Вот только была ли его неутолимая страсть к женщинам связана с созерцанием их красоты? Нет и еще раз нет: ведь Китидзиро Уэда, представь себе, родился незрячим – глазницы его застилали своего рода кожистые шоры.
– Но тогда, если ничто во мне вам не противно…
– Запах, – проговорил старик.
Миюки насупила фальшивые брови, которые Нингё навела ей на лбу чуть повыше настоящих, предварительно их сбрив.
– Запах?..
Она бы еще поняла, если бы старик сказал «аромат» или «благоухание», а «запах» принадлежал к бессчетному числу слов, смысл которых Миюки не понимала.
– Запах, – повторил старик, сморщив нос, – которым ты пахнешь.
Только теперь Миюки догадалась, что́ он хотел сказать. И ей вдруг стало так холодно, будто барка разом погрузилась в воды Ёдогавы и будто эти воды, черные, ледяные, поглотили и ее, а на поверхности остался торчать только ее рот, чтобы она успела вымолвить несколько отчаянных слов.
– Неужто я дурно пахну?
– Разве я так сказал? Нет, я просто заметил, что ты чем-то пахнешь. Не знаю чем, только запах, который исходит от твоей головы, я раньше не ощущал ни у одной юдзё. И мне он не особо приятен, только и всего.
– Может…
– Нет, – отрезал он, – тут уж ничего не поделаешь.
Голос его сделался далеким, а обхождение стало жестким, как иссохшаяся, заскорузлая шкурка дохлой ящерицы. Старик приподнял тростниковую штору и скользнул под нее. А когда оказался снаружи, Миюки расслышала, как он облегченно вздохнул. Она представила, как его выпяченные, миндалевидные ноздри жадно втягивают ночную прохладу.
Старик отвел Матушку в сторонку, пока другие юдзё помогали Миюки снова привести в себя в порядок.
– Вы недовольны, господин? – встревожилась Матушка, заметив суровую складку, прорезавшую лоб старика.
– Ты где взяла эту девушку?
– Собственно говоря, я ее нигде не брала. Она сама объявилась в трактире Двух Водяных Лун. И попросила ночлег, пообещав взамен отработать одну ночь на меня, какую бы работу я ей ни дала. Это было вечером, когда разразилась буря, которой, казалось, не будет конца, – тогда, если помните, еще поливало как из бадьи.
– Неужели только вчера?
– Ну да, и впрямь вчера. Что бы там ни было, не могла же я выставить ее за дверь.
– Ты ее о чем-нибудь расспрашивала? Осматривала?
– Нет. Я, видите ли, была занята – наказывала одну юдзё за недостойное поведение. И сия процедура требовала моего самого пристального внимания: ведь я уже лишалась девушек, назидая их подобным образом, и мне не хотелось терять еще одну по собственной рассеянности. Так что я всего лишь мельком взглянула на новенькую, тем более что она будто с неба свалилась. К тому же было темно, и, как мне показалось, она далеко не дурнушка – а по-вашему?
– Мне все едино, какова она с виду! Меня насторожил ее запах. От нее то ли веет, то ли смердит – точно не скажу – чем-то диким, затхлым лесом, измятой травой, сырой землей, звериным логовом.
– Логовом?..
– Да, логовом. Я сразу смекнул – она не иначе как кюби но кицунэ.
Как и многие люди, «много повидавшие на своем веку», зеленогубая Матушка слыхала про кюби но кицунэ, лисиц, способных принимать человеческий облик, – обычно молодых, соблазнительных женщин.
Но для подобного превращения лисе должно быть по крайней мере лет пятьдесят. В столетнем же возрасте у лисиц такое превращение происходило безусловно, вот только благодаря усердию людей судьба лис, на которых те охотились, складывалась так, что со временем настоящих лисиц-вековух, а значит, и обращенных из них девиц, осталось всего ничего. И все же разве можно было усомниться в том, что такого не бывает на свете, если сами императоры не только ручались за то, что эти девы-лисицы существуют, но и принимали их у себя при дворе?
– Стало быть, говоришь, было темно, когда эта девица явилась пред тобой?
– Кроме разве что редких мгновений, когда небо вспарывали вспышки молний, тьма стояла такая кромешная, что казалось, дневной свет уже никогда ее не рассеет, – подтвердила Матушка, щедро плеснув ему в чашу благородного саке; на сей раз она и сама изрядно хлебнула из склянки – ей совсем не улыбалось болтать про сверхъестественное в любом его проявлении, потому как подобные разговоры так или иначе заставляли ее задуматься о Потустороннем мире, где она должна будет держать ответ за все свои ничтожные земные делишки.
– Разве ты не знаешь, что молодая женщина, которая в одиночку скитается ночью, да еще не самой подходящей для прогулок, может быть кюби но кицунэ?
– Только не она, – не колеблясь, возразила Матушка. – Не Амакуса Миюки.
– Амакуса Миюки, – вторил ей старик. – Ее так зовут?
– Во всяком случае, так она назвалась. А что, это вам о чем-нибудь говорит?
Старик покачал головой: имя Амакуса Миюки ему ни о чем не говорило, и тем не менее ему показалось, что он его уже где-то слышал. Впрочем, в постоянно бурлящем городе, каковым был Хэйан-кё, мало кто прислушивался к именам, которые звучали повсюду, точно неумолчное щебетание птиц, рассекавших небо.
Старик достал из-за пазухи связку круглых медяков с отверстием посередине, нанизанных на тростниковую нить.
– Сколько? – спросил он. – Сколько монет? А может, ты предпочитаешь шелк или расшитое платье?
– Ни шелк, ни платье, господин, – сказала Матушка. – Позор на мою голову, ежели я попросила бы плату! Сквозь тростниковые створки я слышала краем уха, как вы попрекали эту юдзё. Моя промашка – надо было ее осмотреть с ног до головы и обнюхать, прежде чем предлагать вам.
– Ты мне ничего не предлагала, обасан. Я сам выбрал эту девушку. Хотя мог бы взять и другую, не так ли?
Она ответила протяжным свистящим вздохом, отчего на ее зеленых губах выступили капельки слюны.
– Само собой, господин. Только мне показалось, что вы потребуете себе Акацомэ.
– Акацомэ?
– Акацомэ, у которой щеки такие круглые и бледные, что сама луна…
– …позавидовала бы ей, – договорил за нее старик. – Ну да, знакомая песня: так всегда говорят про недужных либо не слишком зрелых девиц. Но я-то не слепой… так как, говоришь, ее зовут?
– Амакуса Миюки.
– На вот, – нетерпеливо проговорил он, протягивая ей на ладони кучку блестящих монет, – бери, что тебе причитается. Да не забудь отсчитать положенное Амакусе Миюки.
– Все, что ей положено, – прошептала Матушка, – так это смерть. Она же оскорбила вас – вас, чье доброе имя…
Он живо отпрянул, уклоняясь от света бумажных фонариков, раскачивавшихся на арочной перемычке хижины. Но она так же живо ухватила его за рукав.
– Нет-нет, ничего не опасайтесь, хоть вы и оказали мне честь своим посещением, я не собираюсь разглашать ваше имя; мне оно известно так же хорошо, как ваш ранг, титулы, знатное происхождение, и я заявляю прямо – юдзё совершила величайшую оплошность. А стало быть, она умрет. Все будет сделано быстро и чисто.
Она перегнулась через борт лодки, протянула правую руку в сторону берега и сорвала несколько длинных листков аира.
– Эти листья сперва связывают, а после из них сплетают крепкий шнур с удавкой на конце – остается только набросить ее на шею и затянуть. Вы согласны с приговором и способом расправы, господин?
Старик осушил чашу с бидзинсю, стараясь скорее выиграть время, нежели удовольствия ради, и при этом подумал: какое чудное саке – нестойкое и ветреное, как те девицы, что его приготавливали.
– Нет, – отвечал Нагуса Ватанабэ.
– Но, господин…
– Потребуй только, чтобы она вырвала у себя один ноготь и отдала его мне, как поступают все юдзё, действительно желающие доказать подлинность своих чувств по отношению к самым милостивым и великодушным из их покровителей.
К середине часа Зайца, высадив на берег последних четверых состоятельных гостей, пришедших следом за управителем Службы садов и заводей, Матушка сочла, что ночь выдалась довольно удачной.
Она направила барку к понтонам на сваях, где уже ошвартовалось несколько черных пузатых суденышек. Как только барка встала рядом с большой лодкой, нестерпимо вонявшей луком (ее намеренно пропитывали луковым запахом, отпугивая таким образом грабителей, ребятню и зверье, чтобы им неповадно было зариться на мед, который в ней перевозили от горы Мива к императорскому двору для придворных лекарей), Матушка построила всех юдзё, участвовавших в ночном рейде. И все они получили от нее обычное вознаграждение – по отрезу шелка с обтрепанными краями.
Миюки была единственная, кому Матушка вручила связку медяков.
– Ты не больно-то радуйся, хоть тебе и заплатили больше, чем остальным. Взамен благодетель твой требует, чтоб ты отдала ему свой ноготь. Самый дорогой, со среднего пальца. А вырывать ноготь – штука довольно болезненная.
– Ноготь? – удивилась Миюки, пряча руки за спиной.
– Дарить ноготь – это традиция. И большая привилегия.
– А еще, верно, ужасная мука, – возразила Миюки.
– Не без того. Отсюда и высокая цена твоего подарка. Хотя сама по себе такая штуковина, грязная, в засохшей крови, выглядит не очень приглядно. Потом, со временем, она будет плохо пахнуть.
Матушка подсчитала, что в медяках, которые старик передал для Миюки, заключается целое состояние. Она быстро прикинула в уме, что на эти медяки молодая женщина сможет купить с полсотни здоровенных карпов.
– Но к чему покупать рыбы больше, чем я могу унести, обасан?
Это было вполне уместное замечание, но Матушка пропустила его мимо ушей. Ее беспокоило другое: как только Миюки купит карпов, она наверняка не станет задерживаться в Двух Водяных Лунах, и ее чудной запах уж точно не будет отпугивать мужчин. Тот самый запах, который смутил разве что Нагусу, потому как Матушкин нос не уловил ничего странного. Что верно, то верно, управитель Службы садов и заводей с младых ногтей был наделен достаточно острым обонянием; с годами нос у него распух, запрыщавел – обезобразился, но, по заверениям его обладателя, обонятельный дар у него развился еще больше, не в пример другим носам в Хэйан-кё.
– Дождемся, когда рассветет, тогда и вырвем у тебя ноготь, – проговорила зеленогубая старуха. – А то одно неловкое движение – и пропало дело! Я никогда не берусь за него, покуда не приму все меры предосторожности, и наипервейшая из них – глядеть в оба, чтобы не попортить ноготь. Ты даже не представляешь, какой он хлипкий, женский ноготь, ежели его оторвать от плоти. Возвращайся пока в трактир да сосни малость.
Она поостереглась говорить про нестерпимую дергающую боль, которую предстояло испытать Миюки, когда у нее под ногтем накопится кровь, прежде чем сам ноготь будет вырван с корнем. Об этом заговорила Нингё, когда остальные юдзё двинулись по тропинке, что вела от пристани к домикам.
– Главное – надо сделать так, чтобы она не смогла даже дотронуться до тебя. Потому что, стараясь не испортить тебе ноготь, она будет рвать его очень-очень медленно. И ты будешь выть от боли без удержу. Но я знаю, как ее обмануть, эту старую кусобабу.
Нингё наклонилась, подобрала плоский синий камешек и швырнула его так ловко, что он запрыгал по водной глади.
– Теперь ты, – предложила она, протягивая Миюки другой камешек.
– У меня так не получится.
– Правда? – удивилась Нингё. – А мне казалось, ты жила у реки.
– Да, у Кусагавы. Только она у нас бурная, и камешки прыгать по ней не заставишь. Во всяком случае, Кацуро бы не очень обрадовался, если бы его женушка тратила время попусту, швыряя камни в воду, ведь мы, да будет тебе известно, привыкли трудиться не покладая рук.
Нингё одобрительно кивнула: тратить время на пустяки было и не в ее привычках, и если сейчас она себе это позволила, то вовсе не для того, чтобы показать, как ловко у нее получается бросать камешки в воду, а лишь затем, чтобы пропустить вперед других юдзё. Убедившись, что они бредут по обрамленной папоротниками тропинке, не оглядываясь назад, она схватила Миюки за руку.
– А теперь, когда мы одни, – сказала она, швырнув последний голыш в воду, – я растолкую, как мы обведем кусобабу вокруг пальца. Она с тобой расплатилась?
– Да, хотя я не дала моему гостю и малой доли из того, чего он ожидал.
– Он наверстает упущенное по-другому. Воображая, что тебе придется претерпеть, покуда Матушка будет рвать у тебя ноготь. Ведь он знает – это так больно, что аж сердце рвется на части. Конечно, он ничего не увидит, но ему достаточно мысленно представить, как все происходит, чтобы ощутить несказанное удовольствие. Таковы мужчины. Не все, но многие. У них такая изощренная забава называется «дождем на алых маках». Дождь – это слезы, а дрожащие, изрезанные пальцы напоминают кроваво-красные маки. Только в этот раз не будет ни дождя, ни красных цветов. Скажи-ка, раз уж тебе есть чем расплатиться с Окано Мицутадой и его подручными, – ведь ты можешь прямо сейчас забрать карпов, которых они для тебя поймали?
– Если только дело у них выгорело…
– За это будь спокойна, Окано Мицутаде нет равных на всей Ёдогаве. Так вот, возьмешь одну из этих рыбин и оторвешь у нее чешуйку. Рыбину выберешь побольше да потолще. А я сделаю из этой чешуйки ноготь на загляденье, как будто только что вырванный… один вопрос – с какого пальца?
– Обасан говорила про средний, – вспомнила Миюки, показывая свою руку. – Это какой?
Ей никогда не говорили, как называются пальцы на руке. Да и какой от этого был толк в Симаэ? Для нее куда важнее было определять с первого взгляда вредных букашек и сорную траву на рисовых делянках.
– Ведь придется и тебе закрасить палец, – пояснила Нингё. – Нам понадобится капелька крови, не твоей, конечно, – прихлопнем пару муси[68] и получим что-то вроде сине-зеленой кашки, я добавлю в нее капельку чернил, чтобы она потемнела, а после обмажем ею твой палец, и готово дело.
Для вящей достоверности юдзё натерла палец Миюки клочком шерсти, добытой в норе ласки. Выпачканный мускусом, – эти грызуны пропитывают им остатки своей добычи, которые разбрасывают по всей норе, – средний палец у Миюки стал вонять так, как будто у нее и впрямь вырвали ноготь.
Еще прежде чем рассвет коснулся темных вод Ёдогавы, Миюки преподнесла в дар кусобабе свой якобы вырванный ноготь. И, не скрывая своего лица, залитого страдальческими слезами, подделанными как нельзя лучше с помощью размазанного по щекам кунжутного масла, она ушла, пошатываясь и опираясь на Нингё, которая едва сдерживала смех.
По трактиру Двух Водяных Лун раскатывался негромкий храп молоденьких юдзё, когда Нингё, похихикивая втихомолку, открыла ящики комода, куда Матушка аккуратно складывала самые красивые свои наряды. Она собрала целую охапку одежды, в которую старухе уже вряд ли когда будет суждено наряжаться и про которую она, вероятно, и думать забыла: так вот, девушка прихватила три ночные сорочки – цвета красной сливы, черничного и сиреневого цветов и еще одну, нательную, из багрового шелка.
Нингё уже хотела было закрыть комод, как вдруг перехватила взгляд Миюки, остановившийся на длинном белом кимоно. Оно лежало в самой глубине одного из ящиков, скорее брошенное, чем сложенное, и так изящно скомканное, что его можно было принять за мертвое тело девушки, еще теплое и мягкое.
– Нет-нет, – прошептала Нингё, – его нельзя брать: это ее погребальный наряд. Она как-то показывала его нам – взяла за ворот и давай кружить вместе с ним да томно пританцовывать, будто это человек, старый возлюбленный, вдруг возникший из глубин ее памяти. Мы попробовали ее порасспросить, только она, похоже, никак не могла вспомнить, как его звали; ну да неважно, она назвала какое-то там имя, и этого, думаю, ей вполне было достаточно, чтобы со спокойной душой отправиться на погребальный костер.
Чтобы сподручнее было вынести наряды, которые для нее похитила Нингё, Миюки натянула их на себя один за другим.
– Так делают все благородные дамы при дворе, – одобрительно заметила юдзё. – Они могут напялить на себя зараз аж пятнадцать платьев. И тогда цвета и оттенки дополняют друг друга, смешиваются, а в довершение ко всему на виду остается только один цвет или оттенок – его-то дама и выставляет напоказ и…
Нингё вдруг осеклась.
– Да ты у нас красавица! – наконец воскликнула она.
Юдзё умирала от восхищения. А Миюки, под толщей шелков, умирала от испарины. И все же они, хоть и умирали, обнялись и расцеловались на прощание.
Покидая Симаэ, Миюки решила добросовестно вести счет всем своим ночевкам в пути. Она не сомневалась, что Кацуро с интересом выслушает рассказ о ее путешествии, хотя и наверняка посмеется над ее нерасторопностью: «Аж целых два дня на переход от Хонгу до Цугидзакуры?[69] Да ну, ушам своим не верю! Ты что, повстречалась с колдуньей и она обратила тебя в улитку? Я и сам ходил этой дорогой, а раз даже вышел не в самое подходящее время – в час Зайца, до рассвета, да еще под проливным дождем, и добрался до Цугидзакуры в час Лошади…»
Но тут она ясно осознала, что Кацуро умер и уже никогда не услышит ее голоса.
Миюки вдруг совсем потеряла чувство времени. Она перестала считать свои шаги, мелкие и широкие, уже не обращала внимания на вехи – знаки пройденного ею пути, запуталась в череде дней и ночей. Так, забыв про время и заботясь лишь о добром здравии карпов, о том, чтобы им было удобно и чтобы они не утратили своей прелести, – рыбины, выловленные для нее Окано Мицутадой, оказались не менее восхитительными, чем те, которых когда-то поймал Кацуро, разве что выглядели они побойчее, потому как еще не успели настрадаться в тесноте вершей и затхлой воде, – так мало-помалу Миюки добрела до Расёмона, величавых Южных ворот императорского города, не имея ни малейшего представления о днях и часах, проведенных в пути. Как бы то ни было, судя по грязи, вперемешку с запекшейся кровью, облеплявшей ее с ног до головы, путешествие, верно, было долгим.
* * *
Управитель Службы садов и заводей вышел из Императорского дворца через ворота Кенсунмон, предназначенные для министров и высших сановников.
Хотя приближаться к ним могли только сановники, это не мешало толпам одетых в лохмотья ремесленников, разносчиков, ярмарочных торговцев и кукольников пользоваться ими, нисколько не заботясь о своем общественном положении, которое запрещало им встречаться с власть имущими, наделенными привилегией проходить под остроконечной кровлей Кенсунмона. Впрочем, сей запрет нарушался сплошь и рядом, благо виновного ожидало наказание в виде двух-трех ударов палкой по плечам, да и то скорее для того, чтобы заставить его символически поклониться, а не затем, чтобы хорошенько взгреть.
Шумная давка, теснота и, главное, своеволие простолюдинов казались Нагусе Ватанабэ одним из отвратительнейших проявлений разложения, подтачивавшего империю: центральные органы управления мало-помалу пожертвовали важнейшей из своих прерогатив в пользу крупных землевладельцев во главе с родом Фудзивара, отпрыски коего, удачно выдавая замуж своих дочерей, внучек и племянниц за принцев крови, сумели прибрать к рукам все нити власти. Империя, из которой присосавшаяся к ней династия вытягивала жизненные соки, делая ее все слабее, теряла свои силы подобно крабу, сбросившему панцирь во время линьки и вдруг обнаружившему, что, избавившись от своей тесной скорлупы, он не позаботился о том, чтобы обзавестись сменным наружным скелетом, и, став слишком уязвимым, обрек себя на верную гибель.
Казалось чудом, что род Фудзивара веками поставлял своих наследниц, впрочем, не лишенных красоты, в качестве жен для сменявших друг друга на троне молодых императоров, – однако ж, как бы то ни было, благодаря столь выгодным союзам этот род стал править империей, не находясь у кормила власти.
Но вот источник, похоже, иссяк. После векового, неизменного, ничем не омраченного пышного цветения вишня вдруг стала голой: в роду Фудзивара больше не нашлось ни одной невесты для будущего императора.
После череды бурь, свирепствовавших последние дни, небо снова прояснилось и стало безмятежным. Нагуса двинулся по проспекту Красного Феникса к Шестому мосту.
Он надел на голову церемониальную эбоси[70], подкрасил и припудрил лицо и обильно надушился благовониями.
Сидевшие на корточках ребятишки играли с ивовыми листьями, стараясь прилепить их себе на лоб вместо бровей. Листья эти, опавшие совсем недавно, конечно же, сорвало порывами ветра, и они были самых разных цветов и оттенков, от бледно-зеленого до чуть бронзоватого, включая блекло-золотой, – и это золото, в зависимости от того, обращали его к солнцу или отворачивали от него, становилось то желтым, как зрелый плод, то красным, как слива. А чтобы фальшивые брови хорошо приклеивались, детишки смачивали тонкие продолговатые листики слюной, загустевшей от сладостей, которыми они только что полакомились: ведь день был праздничный и в воздухе пахло сахаром и горячим рисом.
Нагуса твердо решил, что когда-нибудь непременно выкрасит себе брови в нефритово-зеленый цвет.
Нефритово-зеленый цвет – в его-то возрасте? Конечно, он будет выглядеть несколько смешно, но лучше так, чем видеть, как ты медленно и бесповоротно увядаешь: ведь именно такая участь уготована всем старикам. На своем веку он повидал немало важных особ, завершивших карьеру, но не закончивших жизненный путь, – и все они погрязли в безразличии двора, точно в зыбучем песке. Еще вечером они маячили за бамбуковыми шторками, точно зыбкие фиолетовые тени, которые лунный свет отбрасывал на ширму, а завтра их уже и след простыл – остались только шторы, одиноко дребезжащие на утреннем ветру, да валяющаяся у стенки ширма со сложенными створками. Вот почему Нагуса поклялся использовать любые возможности, и даже создавать их нарочно, чтобы показывать и навязывать себя, напоминая всем о своем существовании на каждом шагу. Памятуя о недавних слухах, взбудораживших Императорский дворец, Нагуса счел, что, выкрасив себе брови в нефритово-зеленый цвет, он заставит всех говорить о себе по крайней мере в течение одной луны.
Он остановился посередине горбатого моста, где назначил встречу Кусакабэ Ацухито, своему помощнику, который, обладая грациозностью танцовщицы, премного смущал чиновников из Службы садов и заводей – по крайней мере, Нагусе хотелось верить, что он не единственный, кого тот вгонял в краску, – когда выпячивал губы, изображая пухлый рот карпа.
С тех самых пор, как Нагуса Ватанабэ взял себе в помощники этого юношу, он не переставал выискивать у него недостатки. Преимущественно физические. Но не из-за привередливости или зависти, а только потому, что больше всего на свете ему нравилось выявлять неприметные изъяны, портящие всякую красоту, будь то прелесть раннего утра или миловидность, свойственная юности. Несовершенство, а зачастую лишь он один и мог его разглядеть, словно покрывало природу или юность легкой, незаметной вуалью либо прозрачной дымкой, в точности как глазурь, покрывающая хрупкую, готовую разбиться на тысячи мелких осколков фаянсовую чашу, делая наполняющий ее напиток особенно ценным.
Если Кусакабэ Ацухито был не простым помощником, то Рокудзё, располагавшийся в верхней части Шестой дороги, был не простым мостом: берега узкого канала, которые он обжимал, считались официальным местом проведения смертных казней. Однако вот уже две сотни лет сабля палача, если можно так выразиться, не рассекала воздуха – разве что срубая соломенные чучела, и то в качестве тренировки. В буддизме, влияние которого все возрастало, предание человека смерти считалось величайшей скверной, и очиститься от нее было совсем непросто. К тому же иные императоры до того возвеличили ценность жизни, что даже запретили с апреля по сентябрь употреблять в пищу говядину, конину, птицу, мясо собак и обезьян. Вместе с тем по-прежнему можно было охотиться на кабана, и крестьяне никогда не отказывали себе в таком удовольствии: довольно было назвать дикую свинью по-другому – яманокудзирой, то есть горным китом, чтобы лишить ее императорского покровительства.
Отданный правосудием на волю чертополоха, репейника и шалфея мост, вернее – пространство под ним превратилось в трапезную и спальню для бродяг, облюбовавших себе это местечко, защищенное от ветра, дождя и снега.
Чтобы скрыть недовольство, вызванное опозданием Кусакабэ, впрочем, покуда еще незначительным, управитель Службы садов и заводей перегнулся через красный парапет моста, придерживая рукой эбоси, постоянно сползавшую с промасленных волос, и стал наблюдать за без толку метавшимися, суетившимися бедняками на берегу. Туча мотыльков-однодневок, куча ничтожных букашек, подумал Нагуса и решил, глядя на них, сочинить какую-нибудь танка[71], чтобы скоротать время в ожидании Кусакабэ; нужда других людей нисколько не заботила его, и с высоты моста Рокудзё он следил за происходящим с рассеянностью, с какой смотрел бы на уток, резвящихся в водах Камогавы.
Вдохновленный пением воды, струившейся по каменистому дну канала, управитель Нагуса сложил несколько неуклюжих рифм, воспевающих реку, хоть и крепко стиснутую берегами, но все же ощущавшую себя достаточно свободной, чтобы, журча, напевать: ёросику онегайсимасу, ёросику онегайсимасу, – я так счастлива встрече с вами, я так рада нашему знакомству…
Несколько дней назад Нагуса попросил своего помощника подыскать местечко, где Служба садов и заводей могла бы поселить вдову рыбака из Симаэ на тот срок, покуда не станет ясно, что рыба хорошо прижилась в храмовых водоемах. Поскольку, хотя большинство карпов быстро привыкали к новым условиям жизни в священных прудах, некоторые из них, после стремительных рек, где их выловили, чувствовали себя неважно в стоячей и мутной воде храмовых заводей Хэйан-кё. Рыбы начинали тереться о берега, на боках и брюхе у них появлялись покраснения или язвы, похожие на расплывчатые пятна свечного воска, потом у них отслаивалась чешуя – и в конце концов они погибали. С карпами, которых поставлял рыбак Кацуро, такого не случалось никогда, но кто знает, что может статься с теми, что принесет его вдова, если ей вообще удастся добраться до Хэйан-кё?
Наконец нынче утром Кусакабэ сообщил, что нашел приют, вполне пригодный для Амакусы Миюки:
– Это в западной части города, Нагуса-сенсей, – оттуда даже самые обездоленные бегут при первой возможности: уж больно докучают им разливы реки. В этом году ожидается еще одно большое наводнение, если начало зимы будет таким же дождливым, каким выдался конец осени. Но ведь вдове ловца карпов к воде и грязи не привыкать, не так ли, сенсей?
Нагуса воздержался от ответа. Последний раз, когда ему достало смелости предречь поведение женщины – то была сама Накатоми Сунгецу, дама, ведавшая облачением императрицы, – он жалким образом просчитался. Дело было в ночь Обезьяны, когда, согласно иным советам, лучше было не поддаваться сну: ибо в эту ночь черви заползают в тела спящих и крадут самые постыдные их тайны, хотя о том, что они потом делают с этими тайнами, никто и понятия не имел, – впрочем, противно было сознавать уже то, что кто-то или что-то ворует твои мысли, которые тебе хотелось бы держать при себе.
Нагуса тогда поспорил на повозку с парой белых быков, утверждая, что Накатоми Сунгецу настолько предана императрице, что сидит у ног своей повелительницы, не смыкая глаз, до самого рассвета, всегда готовая нещадно раздавить любого червя, всякую гусеницу, личинку, козявку и даже змею, ежели те вознамерятся близко подползти к Ее величеству. Но дама Накатоми обманула надежды Нагусы: она не только заснула, но даже позволила себе тихонько посапывать во сне. Дремота напала и на императрицу – она тоже уснула. А на рассвете к управителю Службы садов и заводей пожаловали два посланца от человека, с которыми тот поспорил, и потребовали у него богато убранную повозку с четырьмя ширмами, внутренними пологами и парой белых быков.
– Проводи-ка меня в то место, где ты думаешь поселить вдову рыбака. Это на западе, говоришь?
– Да, сенсей, неподалеку от ворот Дантенмон, на священной земле Сайдзи.
От огромного святилища, где до пожара девятьсот девяностого года, который большей частью уничтожил его, возвышался Сайдзи, или Западный храм, сохранилась лишь пятиярусная пагода. А все вокруг являло собой груду обугленных развалин, рассеянных по обширной территории, отданной на откуп сорнякам, лисам да ворью. Тамошняя земля превратилась в мертвую пустошь: ее опалил жесточайшей силы огонь, оставивший поверх нее черноватую корку, похожую на застывшую лаву. От бывших хозяйственных построек и монашеской обители, зиявших проломами в стенах, провалами в кровлях и поросших мхами, которые от нескончаемых наводнений только разрастались, веяло лесной сыростью и плохо потушенным костром.
Кусакабэ Ацухито заприметил там бывшую киёдзё, скромную служебную пристройку, где хранились сутры и книги по истории храма, – пожар ее почти не тронул. Внутри, конечно, не уцелело ни одного свитка, зато почерневшие от пламени стеллажи стояли на своих местах. И ласточки облюбовали их себе под гнезда.
Помимо всех прочих преимуществ, этот домишко располагался поблизости от Западного рынка. Вдова рыбака всегда сможет прокормиться тамошними отбросами. Да и редкие монахи, что все еще поддерживают жизнь святилища, непременно отсыпят ей пригоршню-другую риса, который паломники оставляют в качестве подношения Будде, если, конечно, она сумеет их умаслить.
– Так что, полагаю, постой этой женщины, включая еду и жилье, почти ничего не будет стоить Службе, – заметил Нагуса. – Благодарю, весьма признателен.
Довольство управителя объяснялось тем, что он мог воздать своему помощнику вполне заслуженную похвалу, не имеющую ничего общего с медоточивыми благодарностями, которые, по разумению Нагусы, отравляли речи всех, кто сновал за перегородками и ширмами Императорского дворца. Ибо произносимые с одной-единственной целью – польстить, повторяемые на каждом шагу с излишней выспренностью и сами по себе ничего не значащие хвалебные слова обесценивались, теряли присущее им свойство удивлять, вдохновлять и радовать душу: они превращались в жалкие отголоски, подобные шуму дождя, стучащего по крыше.
* * *
Пройдя за недавно побеленные стены и ярко-красные колонны Расёмона, Миюки вышла на проспект Красного Феникса.
Благодаря незначительной разнице в уровнях северной части Хэйан-кё, где находилась резиденция императора, и той, где были Южные ворота, через которые молодая женщина вошла, город можно было разглядеть как бы с высоты птичьего полета. Он походил на огромную шахматную доску из ровных клеток, обрамленных по краям глинобитными стенами цвета желтой охры, наложенной на белую и красную краски, точнее красные, переходившие из алого и розового в темно-темно-пурпуровый, третий по значимости цвет в Хэйан-кё.
Однако первое, что поразило Миюки, были не размеры императорского города, а строгость его застройки, заметно отличавшейся от беспорядочного расположения домов в Симаэ, рассеянных по деревне исключительно в угоду фантазии ее обитателей или в зависимости от чисто жизненных потребностей, вынуждавших селян либо искать соседства с другими, либо отселяться от них подальше.
Молодая женщина подумала, что могла бы прожить всю жизнь в Хэйан-кё и не встретиться дважды с одним и тем же человеком, проходя по одним и тем же улицам, пересекавшимся под прямым углом.
Перспектива, тут и там оттененная кровлями с изогнутыми краями, производила на нее впечатление беспредельного города, и этот город был самой прекрасной диковиной из всех, какими доводилось любоваться Миюки, не считая, конечно, тела Кацуро, когда ночами, обиходив своих карпов, он, голый и мокрый, выбирался из пруда и отряхивался, лучась счастьем и брызгаясь на луну мириадами капель, будто засеивая ими небо. А потом все такой же голый, с блестящим от воды и слизи членом, он заключал жену в объятия, прижимая к себе так, что она аж вскрикивала, и любил ее стоя – то и впрямь была самая прекрасная из диковин, о которой вспомнила Миюки… и вдруг, после голого Кацуро в миг любви, нá тебе – беспредельный Хэйан-кё, озаренный благодатным светом часа Обезьяны[72]. Стараясь не задеть коромыслом людей в толпе, молодая женщина шла посреди широкого проспекта, вдыхая слабый запах бычьего и конского навоза.
Памятуя рассказы Кацуро о его хождениях, Миюки знала, как добраться до Службы садов и заводей; она имела довольно ясное представление о том, где находится Императорский дворец и на что он похож; она помнила точное количество ступеней, какое ей надо было преодолеть, прежде чем предстать перед управителем Нагусой и наконец-то освободиться от вершей, от которых у нее нещадно ломило плечи.
Быть может, этот высокопоставленный чиновник, о котором Кацуро всегда отзывался с глубочайшим почтением (он опускал глаза и понижал голос всякий раз, когда вспоминал Нагусу Ватанабэ), соблаговолит препроводить ее до наступления ночи к священным прудам, чтобы она смогла омочить в них руку и, облизав ее, оценить вкус воды – мягкий, слегка чесночный, с привкусом сельдерея и грибов, которым насыщали его травы, в изобилии росшие на илистом дне тихих заводей, – по крайней мере, так рассказывал ей рыбак, неизменно пробовавший на вкус воду в местах, куда он собирался выпустить карпов, дабы удостовериться, что они там хорошо приживутся.
И тут проспект Красного Феникса, простиравшийся в неоглядную даль перед взором Миюки, словно затянулся зыбкой дымкой: силуэты двигавшихся по ней прохожих и бычьих повозок помутнели, сделались тусклыми, а потом и вовсе исчезли – будто скрылись за пеленой тумана, опустившегося нежданно-негаданно.
За этой пеленой слышались крики, торопливые шаги, треск и хруст.
То, что Миюки приняла за туман, таковым вовсе не был: то был дым, и при полном безветрии он стелился по земле разлапистыми клочьями, подобно ветвям кизила.
В доме танцовщика бугаку[73] Мутобэ Такеёси вспыхнул пожар. Несчастный хозяин выскочил на улицу в маске каруры[74], жуткого человека-птицы, и в одежде, охваченной языками пламени, похожими на огромные трепещущие красные перья.
Но даже в мучительных корчах он сохранял неподражаемую грациозность, сделавшую его одним из мастеров бугаку. Он извивался в судорогах с безотчетной чувственностью – можно было подумать, будто он все еще танцует, притом что треск и гул огня, охватившего постройки, сопровождали его представление, точно барабанный бой, дзиньканье шестиструнного кото[75] и завывания губного оргáна.
Дымящиеся рукава кимоно Мутобэ Такеёси напоминали большие, наполовину обугленные деревья – они неистово колыхались на ветру и готовы были рухнуть, отбрасывая снопы искр.
Никто не спешил ему на помощь – впрочем, помочь тут было нечем: движения его замедлялись, колени подгибались – он уже не мог стоять на ногах.
Он рухнул наземь, сжавшись в комок. Пламя, будто насытивишись, поутихло и окаймило его лоб багровым ореолом, пожирая напоследок его волосы. Между тем сам он уже превратился в совершенно черную головешку.
В своем исступленном танце Мутобэ сеял огонь вокруг себя – пламя перекинулось на ближайшие дома и тут же охватило их целиком. Таким образом, шестнадцать построек сгорели дотла, к тому же огонь унес немало человеческих жизней! Большинство жертв погибло, задохнувшись дымом и испарениями, – остальные сгорели заживо, оказавшись в самом сердце пожарища.
Когда гул пламени прекратился, в воздухе послышался оглушительный стрекот бессчетных цикад.
Зажав нос и рот рукой, Миюки прошла сквозь пелену дыма.
Когда Миюки добралась до прямоугольной стены, за которой располагались резиденция императора и здания центрального управления, в том числе и то, что сохранилось за Службой садов и заводей, ей пришлось долго ждать в толпе, теснившейся возле Тайкенмона, ворот Встречи Мудрецов, единственного прохода, охранявшегося стражниками и доступного для посетителей, прежде не имевших возможности проникнуть на переплетенную лабиринтом переходов территорию Большого дворца, – а жулики, ворье и, главное, призраки, заполонявшие, по слухам, обнесенный стенами Императорский дворец после захода солнца, предпочитали проникать туда через плохо охранявшиеся проходы.
Люди кругом только и говорили что о пожаре, который молодая женщина видела собственными глазами. В один из ближайших дней, а он, согласно иным прорицателям, непременно превратится в ночь, в пламени пожаров исчезнет весь город; и народ уже вовсю спорил о том, где именно император, по советам кудесников, возродит свою новую столицу.
Нагусу и его помощника Кусакабэ пожар, учиненный танцовщиком, остановил на пересечении Пятой линии с проспектом Коноэмикадо.
Управитель Службы садов и заводей надышался дыма и чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Но он не рухнул как подкошенный, а припал к крепкой груди Кусакабэ. Это принесло бы ему облегчение, если бы он вдруг не зашелся удушливым кашлем. С каждым новым приступом управитель сгибался в три погибели, и это мешало ему обрести опору в объятиях помощника.
– Вы же харкаете кровью, Нагуса-сенсей! – воскликнул Кусакабэ, с испугом воззрившись на алое пятно, расплывавшееся на рукаве его туники. Давайте отложим визит. Тем паче что вдова из Симаэ еще не успела прибыть в город. Насколько мне известно, она только отправилась в дорогу, и с тех пор никто из наших чиновников, обязанных следить за путниками, ничего про нее не сообщал.
– В самом деле? – спросил Нагуса, силясь подавить кашель и пряча рукав у себя за спиной. – А окамисан из Приюта Заслуженного Воздаяния спрашивали – ее зовут Акиёси Садако, если не ошибаюсь?
Кусакабэ Ацухито отлично знал, что управитель Нагуса отличался завидной памятью, и его всегда изумляло, когда Нагуса доказывал это в очередной раз. Это было не менее удивительно, чем наблюдать, как акробат с легкой небрежностью исполняет, казалось бы, совершенно неисполнимый эквилибристический номер.
– Я разослал гонцов по всем трактирам между Симаэ и Хэйан-кё, сенсей. И так дознался, что после набега пиратов Внутреннего моря и пожара, учиненного буси, которых отрядили на защиту Приюта Заслуженного Воздаяния, от него остались одни развалины.
– И что же у нас получается? – совсем тихо проговорил Нагуса.
– Что вы имеете в виду, сенсей?
– Ничего, – ответил управитель, – ничего особенного. И все же последнее время творится что-то невразумительное, ты не находишь? Ты молод, Ацухито, ты много моложе меня и не застал те времена, когда о том, что ты мне только что доложил, и помыслить было невозможно: чтобы буси, благородные воины, призванные защищать трактир, разорили его, как те разбойники, что напали на него первыми, – такое не поддается никакому разумению!
– А что касается других трактиров, – прервал его Кусакабэ, оставшийся как будто равнодушным к замешательству своего начальника, – никто, похожий по описанию на вдову рыбака, там покуда не объявлялся.
Подождав, пока Нагуса, присевший на каменную тумбу, уймет кашель, проглотив пригоршню маковых зерен, которые он всегда носил с собой, Кусакабэ стал искать глазами коляску, чтобы его начальник мог проделать оставшуюся часть пути с наибольшим удобством. Но все проезжавшие мимо коляски тут же брали приступом жители Хэйан-кё, боявшиеся, что огонь неминуемо разойдется вширь, хотя его уже успели потушить: город пережил на своем веку слишком много пожаров, которые, казалось бы, удавалось потушить, однако стоило подняться ветру, как пламя всякий раз вспыхивало с новой неукротимой силой.
В конце концов Нагуса с Кусакабэ нашли себе место во внушительных размеров паланкине с решетчатыми стенками из бамбука – его несли на плечах восемь босоногих мужчин. Внутри этой продолговатой формы коробки сидели две дамы – они спешно прикрыли лица рукавами кимоно и посетовали, что нарушат все правила приличия, если позволят сесть рядом с собой незнакомым мужчинам, чьи намерения к тому же им неведомы.
– Будьте спокойны, – заверил их Кусакабэ (после того как он с трудом втиснулся вместе с Нагусой в паланкин, ему вовсе не улыбалось с такими же усилиями выбираться обратно). – Проявите к нам снисходительность – потом вам непременно зачтется! Будда Чистой Земли принимает в расчет малейшие из наших деяний. Даже помыслы наши, кои мы полагаем самыми сокровенными, Амитабха[76] выявляет, пристально изучает, подробно разбирает и осмысляет.
Склонность иных женщин не считаться с последствиями своих деяний изумляла чиновника Службы садов и заводей. Легкой кистью чуть касаясь бумаги, он написал превеликое множество танка, где безжалостно клеймил девичью беспечность. Будучи сам человеком прозорливым, он понимал, что его поэмы в конечном счете предназначались для девиц, которых ему еще только предстояло обольстить, а посему ветреных героинь своих танка он выставлял в образе не женщин, а бабочек. Кому надо, тот поймет. В самом деле, большинство юных особ довольно скоро разгадывали метафору, в подтверждение чего они складывали свои губки трубочкой и принимались водить ими по лицу Кусакабэ, замирая над каждой впадинкой и делая вид, будто пьют нектар.
– Это я велела носильщикам остановиться, я подала вам знак подойти ближе, и я же предложила вам место рядом с нами, – подчеркнула старшая из дам. – Что бы там ни было, пожар, наводнение или землетрясение, все напасти действуют на меня одинаково – вызывают необоримое желание помочь ближнему. Помните последнее землетрясение? Я была тогда возле храма Роккаку, и там, посреди дороги, стоял паланкин в восхитительном убранстве, брошенный носильщиками, – они сидели под деревьями у дороги. Трое из них дремали, а пятеро остальных растирали себе ноги. Паланкин был пуст – я решила, что седок вышел из него и направился помолиться в храм. И тут затряслась земля. А через какой-то миг вода в пруду при храме забурлила, точно бурное море. Носильщики перепугались и пустились бежать – какое неразумное поведение, вы не находите? Когда у вас под ногами начинает трястись земля, стоит иметь в виду, что тряхнуть вас может везде, куда бы вы ни подались. Как бы там ни было, я не шелохнулась. Обхватила большое дерево – оно было довольно крепкое, и вырвать его с корнями не смогли бы никакие силы – и стала ждать, когда все уляжется. И нисколько об этом не пожалела! Через мгновение-другое я увидела совершенно очаровательное существо, совсем юного мальчугана, лет десяти-одиннадцати, не больше. На нем было изысканнейшее платье – из такой ткани и таких оттенков, каких я в жизни не видывала. Я смекнула, что подобные цвета могут украшать разве что Его величество, а стало быть, дивный мальчуган не иначе как наш новоиспеченный император. Но если платье, что было на нем, свидетельствовало о его высочайшем ранге, то сердце, бившееся у него в груди, являло собой жалкий комочек плоти, трепещущий от страха: юный принц бежал к паланкину и кричал так надрывно, как кричат малые дети или ржут лошади-подранки.
Нагуса обратил внимание на то, что престарелая дама чеканила слова так же, как носильщики отбивали ногами дробь по земле. Она делала это очень естественно, из чего он заключил, что дама, должно быть, давно пользуется этим средством передвижения, и постоянно, раз ритмичный стук шагов восьмерых носильщиков стал для нее не менее родным, чем биение собственного сердца.
– Это не мог быть Его величество, – вмешался Кусакабэ. – Император, конечно, юн, но он уже не мальчик.
Он воззрился на престарелую даму. Лицо у нее было тронуто морщинами, но не сильно, а сочетание оттенков пяти надетых на нее платьев: цвета увядших листьев, сливового, малахитового, красновато-коричневого с золотистым отливом и карминового – только подчеркивало бледность ее кожи, хотя впалые виски, скулы и щеки выдавали ее уже весьма преклонный возраст. Ее воспоминания о подземных толчках и явлении императора наверняка имели отношение к одному из прошлых правителей, подумал он.
Престарелая дама вознамерилась ответить, но Кусакабэ уже обратился к Нагусе:
– А вы что скажете, сенсей? Поскольку речь идет об особе императора, мне бы не хотелось ошибиться с ответом.
Но управитель его совсем не слушал. С возрастом он становился все более безразличным к людям, не имевшим к нему прямого касательства. Мысли, представлявшиеся ему в юности настолько важными, что за них не жалко было и жизнь отдать, теперь он воспринимал как нечто никчемное, не заслуживающее даже мало-мальского внимания.
Эка важность – благородная дама, пригласившая их в свой паланкин, который несло через охваченный паникой город, точно перышко, приняла перепуганного мальчонку за императора! Следовало быть Кусакабэ Ацухито, да еще пребывать в семнадцатилетнем возрасте, чтобы беспокоиться по такому ничтожному поводу. Ему же, Нагусе, суждено вскоре умереть: он чувствовал, что жизнь его вот-вот угаснет, как свеча, что мерцает-мерцает, а потом затухает, оттого что где-то в недрах дворца какой-то служка, которому взбрело в голову полюбоваться на полную луну, отдернул гардину и впустил резкий поток ледяного воздуха, а тот, струясь по коридорам, добрался до крохотного пламени и поглотил его.
Но разве это на самом деле кого-нибудь обеспокоит? Какими последствиями обернется для Японии кончина Нагусы Ватанабэ? Да никакими! В конечном счете она может послужить благим предлогом для того, чтобы раз и навсегда упразднить Службу садов и заводей.
Нагуса желал лишь одного: чтобы ничто не омрачило день его смерти. Ибо в отличие от спесивых военачальников, которые и помыслить не могут о том, что, покидая этот мир, они не заберут с собой своих верных оруженосцев, он с радостью думал, что жизнь будет продолжаться и после него. Выйдя прогуляться в последний раз (даже если его не понесут ноги, в том не будет ничего страшного, потому что он обратится к воспоминаниям и переживет мысленно одну из своих прежних прогулок), он уйдет из жизни так, как покидают сад, храм или библиотеку, не нарушая привычный, спокойный ход вещей, – так, что его ухода никто не заметит, ибо, уходя, он наделает не больше шума, чем букашка, упавшая с травинки. Он надеялся, что на Западном рынке, мимо которого сейчас проплывал паланкин, будет все так же звучать барабанная дробь – ее будут исступленно отбивать бамбуковыми палочками торговцы, напоминая покупщикам, что пламя пожара уже давно растворилась в воздухе, словно стайка воробьев.
Итак, он молился, чтобы день его ухода выдался солнечным и чтобы во влажной тени рощ резвились птицы, – впрочем, птицам, известное дело, некогда резвиться: ведь им постоянно приходится заботиться о том, как выжить; но Нагуса надеялся, что ему вполне достанет воображения, чтобы в мгновение смерти представить себе целую стаю синих мухоловок, гоняющихся друг за дружкой в бамбуковых зарослях с привычно протяжными, печальными криками, – и эти крики стали бы прекрасным аккомпанементом, сопровождающим агонию последнего управителя Службы садов и заводей…
Носильщики замедлили шаг.
– Сдается мне, вы уже на месте, – проговорила престарелая дама, указывая на пятиярусную пагоду, возвышавшуюся над развалинами Сайдзи.
Отодвинув боковую шторку, она слегка постучала веером по плечу одного из носильщиков. Тот присел на корточки, семеро других носильщиков сделали то же самое – паланкин опустился на землю.
Управитель с помощником вошли в кёдзо[77], потревожив огромных ворон, которые с диким карканьем упорхнули в сторону купы камфорных деревьев.
До того как этому небольшому строению пришлось пережить несколько пожаров, его украшали ширмы, на которых были изображены плавные холмы, усаженные деревьями с округлыми кронами, под ярким солнцем. Однако потом ширмы повредило огнем и, хуже того, водой, которой тушили пламя, так что их пришлось убрать подальше и спрятать в самом темном углу здания. Там, то ли под действием каких-то внутренних процессов, то ли благодаря непостижимому чуду, их краски самопроизвольно потускнели, потемнели, создав своего рода картину коричневатых сумерек, которые под натиском плесени в конце концов заволокли все полотна.
Остальная часть дома выглядела не лучше: прохудившаяся кровля, не защищавшая от дождя, тростниковые шторы, тронутые широкими пятнами плесени.
Посреди этих развалин стояла Миюки, недвижная, прямая как тростинка.
Ее прямая осанка и жердь, лежавшая у нее на плечах ровно-ровно, производили странное впечатление: казалось, будто молодая женщина распята на кресте. С другой стороны, она походила на зимнее дерево – худосочное дерево, тянущееся ветвями к бледному солнцу. Или на морскую птицу, которая сушит мокрые крылья после ночной охоты на рыбу.
Миюки первая склонилась в глубоком поклоне – и еще долго оставалась в таком положении.
Увидев Нагусу, она сразу признала в нем мужчину с Ёдогавы – того самого старика, который сказал ей, что от нее исходит необычный запах; то было просто замечание, а никакой не выговор – просто наблюдение, да и заплатил он ей куда больше, чем обычно платил другим юдзё; он даже заинтересовался ею, притом настолько, что попросил ее вырвать один ноготь и подарить ему на память.
Миюки стояла, согнувшись настолько низко, насколько позволяла ей ноша, и почти уткнувшись носом себе в живот, – и тут ей почудилось, что от нее, откуда-то снизу, и впрямь исходит чудной запах. Теплый, фруктовый, с легкой кислинкой, чем-то похожий на вяжущий аромат мякоти хурмы.
Пока она стояла вот так, не смея выпрямиться, к исходному запаху мало-помалу примешались другие, напоминающие уже благоухание хурмового дерева. Миюки с удовольствием взялась было угадывать эти ароматы, вспоминая, где и при каких обстоятельствах они могли пристать к ней, подобно головкам репейника, вот только уж больно скоро они смешивались.
Она попробовала вспомнить, чем пахло от Кацуро, когда он возвращался из Хэйан-кё. Это воспоминание все крутилось и крутилось в ее голове, но оно, как и все другие, связанные с мужем, с недавних пор стали для нее чем-то расплывчатым и неясным, и ей было трудно их уловить.
На самом деле от Кацуро, по возвращении, пахло сырым мхом, саке, исподним, насквозь пропитанным потом и мочой, сосновой живицей, соломой, соей и чем-то еще, что трудно было связать с каким-либо веществом, но что пахло сильно, грубо, низменно.
Через несколько дней этот невнятный дух исчезал, и Кацуро снова пах самим собой – то есть рекой, теплым рисом, цветами, лесом, рыболовными снастями и глиной.
– Ты кто? – спросил Кусакабэ.
– Амакуса Миюки, из деревни Симаэ. Моим мужем был Кацуро, рыбак Кацуро, самый искусный ловец карпов в провинции Исэ. Теперь я вместо него. Только сама я никогда не ловила карпов – просто выбрала самых подходящих из тех, что он поймал до того, как помер, обиходила их, запустила в верши, – она указала кивком поочередно на правую и левую бадьи, – а после долго добиралась через леса и горы под холодными дождями до императорского города, чтобы передать этих карпов управителю Службы садов и заводей. Зовут его Нагуса – Нагуса-сан.
– Нагуса-сенсей, – поправил Кусакабэ.
– Нагуса-сенсей, – с низким поклоном повторила Миюки. – Я уже была в Службе, которой он управляет, но его там не оказалось. И мне велели пока расположиться здесь. А Нагуса-сенсей, сказали, нас здесь найдет – меня вместе с карпами.
Нагуса, стоявший чуть поодаль, не узнал в ней жрицу любви с Ёдогавы, которую он брал себе для утешения в лодке. Сказать по правде, в ту ночь его смутил целый сонм ароматов, исходивших от нее, и он не успел разглядеть ее черты. Впрочем, эти юдзё все на одно лицо, а оно у них белое как мел; и взгляд у всех один и тот же – мягкий, точно черный шелк, и бездонный; и носы одни и те же – узкие, с заостренными ноздрями; а их одинаковые губы, и это важнее всего, – чересчур красные, сухие и теплые, тогда как Нагусе нравились розовые, влажные и прохладные.
«Я, конечно, могу подобрать вам мокрогубую юдзё, – сказала ему как-то хозяйка Приюта Двух Водяных Лун. – Служанок с такими губами у меня хоть пруд пруди, Нагуса-сенсей. Только прошу принять во внимание – губы у них мокрые потому, что они слюнявые. Боюсь, как бы вы не побрезговали».
Нагуса ничего не ответил – только вскинул руку и сделал вид, что следит глазами за порхающей вокруг ночной бабочкой, собираясь ее прихлопнуть. Нечуткость иных торговцев живым товаром всегда удручала его.
– Ты Амакуса Миюки, не так ли? А я… – тут же прибавил он, не дожидаясь ответа, который подразумевался сам собой (какая еще молоденькая женщина, да еще хорошо сложенная, стояла бы вот так, по струнке, в этом заброшенном месте с тяжелым грузом на плечах?), – а я Нагуса Ватанабэ, старший чиновник высшего ранга, управитель бывшей Службы садов и заводей, что ныне находится в подчинении у Службы императорского стола.
– Императорского стола? – пробормотала Миюки и отпрянула так резко, что на плечах у нее даже верши подскочили; выплеснувшаяся из них вода, впрочем, немного, пролилась мелким дождем на половицы. – О, но я прошла столь долгий путь вовсе не для того, чтобы доставить рыбу к императорскому столу! Карпы, которых поймал дорогой моему сердцу Кацуро, что стоило ему жизни, предназначены для храмовых заводей, для божеств, а не для стряпунов, чтобы они разделали их и подали к столу Его величества.
В отличие от придворных дам Миюки не рисовала у себя на лбу фальшивые брови, а ее собственные располагались на том месте, которое было им уготовано природой, к тому же состояли они из настоящих черных блестящих волосков; и в приливе недовольства она насупила их до того забавно, что Нагуса не мог сдержать улыбки – и прикрыл рот рукой.
– Хотя у меня нет никаких оснований оправдываться перед тобой, – заметил он, – но Столовую службу я упомянул только в связи со своей собственной. Дабы уточнить степень иерархии между ними. Тебе, разумеется, трудно взять все это в толк, а посему скажи, слово «иерархия» хоть что-нибудь значит для тебя?
– Ежели по правде, господин, то ничего, – призналась Миюки.
Насколько ей помнилось, она и так жила счастливо с Кацуро – и знать, что означает слово «иерархия», у нее не было никакой надобности.
Вслед за тем, сознавая, что ведет себя дерзко, она посмотрела высокопоставленному чиновнику прямо в глаза. Вне всякого сомнения, он тот самый старик, который сел тогда в барку зеленогубой кусобабы и попрекнул Миюки за то, что ее запах его смущает. Только сам он, похоже, этого не помнил. Или же, напротив, очень даже хорошо помнил – помнил, как премного огорчился, что не смог овладеть ею, но, будучи не последним человеком в империи, невзирая ни на что, проявил великодушие к ней, ничтожной крестьянке, жалкой рисовой соломинке, принесенной к его ногам на крыльях ветра.
Позволив Миюки рассмотреть себя с головы до ног, управитель Службы садов и заводей подался вперед, да так живо, что молодая женщина попятилась.
И тут, приблизившись к ней во второй раз, он уловил исходивший от нее запах. То был не какой-то одиночный, отдельный запах, а целый шлейф ароматов, развевающийся и свивающийся, подобно ленте. И он сразу вспомнил барку, скользившую сквозь ночную тьму по Ёдогаве, и женщину, отдавшую ему свое тело, которого он не захотел.
Он взглянул на рот Миюки, оглядел ее губы – и левая рука у него невольно задергалась под рукавом хё[78] цвета сливы.
– Стало быть, здесь и решили тебя поселить в Службе?
– Вам лучше знать, господин…
– Да, здесь, – живо подхватил Кусакабэ. – Это помещение не самое подходящее, согласен, поскольку кёдзо изрядно пострадало от сырости после разливов Камогавы. Вон и двери сгнили, а заменить их еще не успели. Так что, как видите, сенсей, зверье из соседнего леса чувствует себя здесь вольготно. Но на втором ярусе имеется еще одна комната – она будет побольше и почище. Да и зверью всякому туда не взобраться.
Нагуса не слушал. Его взгляд переходил ото рта Кусакабэ на губы Миюки. Старое желание и новое – оба неутоленные и ставшие несбыточной мечтой. Однако мечтать о недостижимом не самая неприятная вещь на свете: подобные измышления, к тому же управляемые, успешно заменяют бесконечную череду бессвязных мыслей.
– Там, наверху, – продолжал Кусакабэ, показывая на потолок, – стены остались нетронутыми: паводки, понятно, никогда не поднимались до такой высоты! На это способны только ласточки, и то лишь изредка. Они предпочитают лепить гнезда на стеллажах, где монахи хранили свитки. Но я велел очистить там пол и сорвать все гнезда. Если угодно взглянуть…
– Пусть сначала рыбу покажет, – прервал его сипловатым голосом Нагуса.
Миюки жестом пригласила его подойти ближе. Он сделал шаг, потом другой – и застыл на месте.
– Странно.
– Что же тут странного, господин?
– Просто ума не приложу, – проговорил Нагуса.
Что-то неуловимое обволакивало вдову рыбака и оттеняло контуры ее тела – все до мельчайших деталей, образуя вокруг нее как бы еще один плотский кокон, только незримый, неслышный, неосязаемый. Эта своеобразная аура, или нематериальная оболочка вокруг Миюки, некое тонкое тело, дополнявшее ее физическое тело, ощущалась лишь через развитое, острое обоняние, каким обладал управитель Службы садов и заводей.
И тут Нагуса вспомнил, где и когда ему уже случалось ощущать дух, исходивший от этой молодой женщины.
Он мотнул головой, будто пытаясь стряхнуть паутину, прицепившуюся к его волосам.
– Чувствуешь запах? – прошептал он, обращаясь к помощнику.
Кусакабэ огляделся кругом. На стенах виднелись следы сырости – пятна плесени, на полу, тут и там, валялись кучки перьев и мелких косточек. У подножия огромного восьмигранного вращающегося шкафа, где монахи хранили сутры, догнивала лисья туша. Все это, ясное дело, не могло благоухать.
Но разве Миюки благоухала?
– Запах чего, сенсей?
– Яйца. Вроде как… по-моему.
– Желтка или белка?
Кусакабэ спросил так, словно ответ Нагусы мог изменить облик мира. И Нагуса призадумался: он как будто тоже собирался придать исключительную значимость своим словам.
– Когда ты бьешь яйцом о край миски, скорлупа трескается и в конце концов раскалывается, ты отделяешь белок от желтка и не ощущаешь никакого запаха, потому как обычно они ничем не пахнут, и тем не менее запах есть – особенно от белка.
– И что же напоминает вам этот запах, сенсей?
Многим подобный вопрос мог бы показаться праздным, но Кусакабэ Ацухито никогда не упускал случая узнать что-нибудь новое. Ему, сыну простого торговца, несказанно повезло: он довольно рано научился писать и считать, и все благодаря двоюродному деду, который в один прекрасный день решил податься в монахи и удалился в горный монастырь, где его назначили ведать богатым собранием ученых книг. Кусакабэ провел большую часть детства в том уединенном в горах монастыре – и там, коротая время, когда в жестокие бураны обитель оказывалась отрезанной от остального мира, он поглощал один за другим эти бесценные фолианты, предназначенные главным образом для воспитания самураев.
– Этот запах, – отвечал Нагуса, – напоминает мне дух, исходящий от тщательно промытого риса, пересушенного и пережаренного… а еще так пахнет шелковый наряд, забытый под дождем нерадивой служанкой и порядком попортившийся… но в особенности так пахнут мерзость, увядшая красота и мертвые птицы – впрочем, все это почти одно и то же, не так ли?
– Полноте! Мертвая птица пахнет совсем по-другому, – заметил Кусакабэ, почитавший охоту и содержавший для этой цели вольеру с соколами, которые, однако, дохли у него один за другим из-за ненадлежащего ухода и скудного корма.
– Ты полагаешь, Ацухито? А по мне, так нет ничего более разочаровывающего, чем птица с холодными, негнущимися крыльями.
Миюки слушала, но ничего не понимала. Каким непостижимым образом, начав с простого разговора про ласточек да зверушек, поселившихся в кёдзо, эти двое великих мужей (об их величии она могла судить по пышным одеждам), договорились до того, что яичный белок пахнет мокрым шелком, дохлой птицей и самой смертью?
Чтобы их долгие беседы с Кацуро, эта нескончаемая болтовня в промежутках между поглаживаниями, прикосновениями и ласканиями, могли превратиться в бессвязный спор, каким ей казался разговор управителя с помощником, – ничего подобного она и представить не могла. Странная, у них, однако, манера разговаривать, подумала она. Тем более что, увлекшись рассуждениями про дохлых птиц, они, похоже, совсем забыли про нее. Уйди Миюки сейчас из комнаты – они бы и не заметили.
Она кашлянула, потерла одной гэта[79] о другую (не смея, впрочем, топнуть ногой о землю, как нетерпеливая лошадь), но все без толку: те двое так и стояли, повернувшись к ней спиной и оживленно споря.
Бамбуковая жердь под тяжестью вершей с такой силой давила сверху на спину и лопатки Миюки, что в конце концов на коже образовалась длинная синеватая борозда от одного плеча до другого. Малейшее покачивание жерди теперь причиняло молодой женщине нестерпимую боль, однако облегчить ее растираниями она не могла: для этого ей нужно было сначала избавиться от тяжелого груза и поставить верши на ровное место, чтобы они не шатались.
Впрочем, хотя кёдзо и был изрядно замусорен и потому мало чем отличался от пристанищ, где Миюки уже приходилось останавливаться, пол там, по крайней мере, был ровный. Сдерживая стон, готовый сорваться с ее губ, Миюки стала осторожно опускать тяжелую бамбуковую жердь по позвоночнику – и опускала до тех пор, пока не почувствовала облегчение, означавшее, что верши коснулись земли.
– …В счет иных податей, от которых Его величество избавил ее, – говорил в это мгновение Кусакабэ, – провинция Хида ежегодно поставляет нам сотню плотников, славящихся своим мастерством. («И вот опять, – подумала Миюки, – эти двое сменили тему разговора!») Их на год приписывают к Службе ремонтных работ, так что они живо смогли бы привести в порядок этот жалкий кёдзо. Жаль только, сейчас они очень заняты – заново отстраивают часть зданий Императорского дворца, которые сгорели дотла во время недавнего пожара… Впрочем, не думаю, что ты намерена надолго задержаться в Хэйан-кё, ведь так? – заключил он, повернувшись наконец к Миюки.
– Только на то время, которое будет необходимо, – отвечала она. – Я уйду из города лишь после того, как своими глазами увижу, что карпы Кацуро прижились в священных заводях. И потому мне бы хотелось посмотреть, что они собой представляют.
Управитель Нагуса натянуто и как будто с любопытством усмехнулся – казалось, рот у него был набит мелкими камушками и он старался проглотить их все разом с каким-то гортанным звуком, – в то время как Кусакабэ, с удивлением воззрившись на молодую женщину, заметил:
– А что они, по-твоему, должны собой представлять? Заводи как заводи.
– Но ведь они священные!
– Между священным и несвященным нет очевидной разницы, – вмешался Нагуса. – По крайней мере, людям она не видна. Что ж, давай-ка взглянем на твоих рыб, – прибавил он, склонившись над одной из вершей.
Старик, согнувшийся в три погибели, чтобы лучше видеть, казалось, отбивал нижайший поклон некой высокоблагородной особе. Хотя, конечно, то была всего лишь видимость, и Миюки подумала, что карпы вряд ли могли оценить по достоинству позу глубокого почтения, которую старику пришлось принять исключительно по причине близорукости. И тогда носком гэта она осторожно пнула стенку верши, чтобы малость расшевелить рыб – вывести их из оцепенения. Будто смекнув, чего от них хотят, карпы очнулись, зашевелили хвостовыми плавниками и выпятили губы, словно силясь высунуться из воды и глотнуть воздуха.
– А они недурны, – одобрительно заметил Нагуса.
– Они великолепны, – поправила его молодая женщина.
Губы у Нагусы рястянулись в улыбке.
– Ты нахваливаешь свой товар – что ж, в этом нет ничего предосудительного, – сказал Нагуса. – Но насчет великолепия – это ты, по-моему, слегка хватила. Судя по их виду, определенно можно сказать только одно: они неплохо пережили заточение во время долгого перехода. Получше тебя, – уточнил он, впившись в нее глазами-щелочками.
– Я же несла за них ответственность перед вами, господин. Да и какие лишения пришлось им претерпеть, кроме голода? Они же не видели со дна вершей, как грозовые тучи становились все чернее, набухали и наползали друг на дружку. Они и не догадывались, что дорога уходила у меня из-под ног. Что я не раз едва не падала в грязь, когда старалась удерживать ровно коромысло и одновременно хвататься за ветки. И что бы случилось, если бы верши опрокинулись и рыбы остались без воды?
– Они бы издохли, – равнодушно заметил Кусакабэ.
– А я? – пролепетала она.
Слезы застили ей взор. Подобно медленному потоку, предвещающему паводок, перед которым человек бессилен, слезы мало-помалу заполнили все естество Миюки – и вот уже ими изливались и ее кожа, и нутро, и каждая складочка на теле, и каждая черточка на ладонях.
По мере того как она дышала – все чаще, одну ноздрю у нее все больше затягивало тонкой пленкой, подобно тому как затягивает слизью входное отверстие у раковины улитки.
* * *
Миюки зашаталась. Нагуса едва успел протянуть руки, чтобы смягчить ее падение…
Чуть погодя начался странный невидимый дождь, какой обычно идет осенними вечерами: в воздухе ощущалась густая холодная сырость, хотя падавших с неба капель влаги не было видно, – даже не было слышно, как они стучат в двери и бумажные шторы, а между тем город, насытившись сполна этой влагой, будто сделался сальным и весь лоснился. Блестящие струи дождевой воды устремились в водосточные желоба.
Отрезанный от остального мира в своем доме на проспекте Красного Феникса, управитель Службы садов и заводей наблюдал, как вокруг суетились слуги, готовя ему ледяную ванну, которую он себе потребовал. Погружение в нее обещало стать для него суровым испытанием, тем более что он отказался от чаши теплого саке, которое он обыкновенно вкушал перед тем, как принять ванну. Но нынче вечером он спешил поскорее опуститься в эту жгучую, очищающую воду.
Потому как, прежде чем склониться над вершами и поглядеть на плескавшихся там карпов, ему пришлось подойти к Миюки, и так близко, что он почти прикоснулся к ней, даже почувствовал тепло ее кожи, а еще – исходивший от ее одежды сладковатый запах смерти с едко солоноватым привкусом пота и мочи, из чего он тут же заключил, что молодая женщина была не из тех, кто ревностно соблюдает запреты.
Нагуса мгновенно отпрянул от Миюки, но мгновенность означала для него стремительность, свойственную старости. Прежде чем он успел отойти от нее на приличное расстояние, ему пришлось сперва выпрямиться, но это движение оказалось болезненно-медленным, и этого вполне хватило, чтобы и он сам замарался – испачкался, заразился скверной, которой она пропиталась за время путешествия. Смыть с себя все эти нечистоты можно было, лишь подставив тело под ледяную воду, низвергавшуюся хлестким каскадом с поросшей кедровником горы Атаго (и то если ему достанет сил туда взобраться); впрочем, вечерняя холодная ванна была не менее зловещим испытанием его доброй воли и готовности повиноваться богам.
Будучи сановником высшего ранга, он не был обязан оставаться взаперти в своем доме и мог управлять вверенной ему службой и дальше. Но скверна, что коснулась его, запрещала ему участвовать в погребениях, хотя в его обязанности, среди прочего, входило поставлять ароматическое дерево для кремаций; ему также воспрещалось навещать недужных – теперь он не сможет проведать даже одного из своих племянников, Такаминэ, которого сразила странная лихорадка; но, самое главное, запрет, связанный с самоосквернением, не позволит ему исполнять обязанности судьи, и он боялся, что будет вынужден отказаться от председательства в судейской коллегии, призванной определить победителя в предстоящих состязаниях такимоно-авасэ[80], к которым спешно готовился весь Двор, – как он объяснит свое самоотречение императору, который оказал ему милость, назначив его на столь высокую должность?
Нагуса был до того удручен, что не смог сдержать вскрик, когда ледяная вода, промочив насквозь чистое полотно, которым он пытался защитить срамные части, окольцевало их таким холодом, что ему показалось, будто его всего обдало огнем.
– С вами все хорошо, сенсей? – осведомился кто-то из слуг.
– Лучше не придумаешь, – отозвался Нагуса с натужной, как бы успокаивающей улыбкой, никак не вязавшейся с его словами.
Впрочем, то была даже не улыбка, а гримаса, олицетворявшая его удрученность; однако в его возрасте, из-за атрофии части лицевых мышц, любая гримаса у него больше походила на улыбку.
Ему хотелось собраться с духом и забыть про вдову рыбака: ведь смог же он не думать о мурашках и ледяной воде, превратившей его тело в синюшный дрожащий студень. Но, хотя Амакуса Миюки и была ничтожеством, не думать о ней оказалось непросто, а посему, очистившись, управитель Службы садов и заводей должен будет сделать так, чтобы она держалась подальше от Императорского дворца, и особенно от тех залов, где развернутся состязания благовоний: ибо эта женщина несла на себе не только скверну, но и непристойные запахи (вот только как растолковать все это Кусакабэ, натуре утонченной, деликатной, изысканной, чтобы не ввергнуть его в смущение?), которые, витая среди пленительных ароматов агара[81], гвоздики, мускуса, белого сандала и олибана[82], могли испортить такимоно-авасэ.
Покуда Нагуса чихал, принимая очистительную ванну, обернувшуюся для него простудой, Миюки устраивалась на тоненькой циновке, которую она нашла на втором ярусе кёдзо.
Она поставила верши так, чтобы на них падал лунный свет. Кацуро сказывал, что карпы любят, когда светит луна, а у Миюки они уже давно не видели этого светила, отливающего медной синью. В самом деле, едва их коснулся луч лунного света, как рыбы, презрев тесноту своих узилищ, принялись плескаться с невиданным доселе наслаждением: они даже плавали, перевернувшись на спину и выпячивая губы, будто собирались слиться друг с дружкой в жадном поцелуе, – ну прямо как Кацуро с нею.
Хотя Миюки не чувствовала себя счастливой, она, по крайней мере, была довольна, что хорошо справилась с порученным ей делом. Может, она возгордилась собой? Нет, ничуть не бывало: чувство гордыни было неведомо вдове, мечтавшей лишь о том, чтобы поскорее вернуться к себе в деревню, в Симаэ, и к привычной каждой крестьянке работе – мешать бычью мочу с навозом. Но возможно, Миюки спрашивала себя, доволен ли Кацуро там, где он теперь пребывал, если, конечно, он где-то пребывал, – доволен ли ею, и она отвечала себе утвердительно: да уж, наверное, доволен.
В обширной заводи жизни Кацуро уготовил для Миюки крохотное заповедное царство.
Когда они только поженились, эта территория была не шире объятий рыбака, потом она увеличилась до размеров их хижины в Симаэ, следом за тем ее пределы простерлись до опушки светлячкового леса на берегах Кусагавы, и вот теперь, наконец, они подступили к крепостным стенам императорской столицы – и кто знает, каковы бы сейчас были размеры царства Миюки, будь Кацуро жив…
Миюки уснула с мыслями о Кацуро, и ей приснился сон: выпустив карпов в священные заводи, она кинулась вслед за ними. Не успел последний карп исчезнуть под водой, как среди кругов, расходившихся по водной глади в том месте, куда бросилась Миюки, уже виднелись лишь маленькие пальцы ее ног.
Заводь была неглубока, но в ней оказалось столько органической взвеси, что Миюки в мгновение ока скрылась из поля зрения многочисленных зевак, собравшихся у кромки водоема поглазеть, как она будет выпускать рыбу; она исчезла так быстро, что ее даже не успели подхватить.
Вода, в которую она погружалась, покачиваясь, точно опавший лист, была цвета чернил – тех, что изготавливают из сажи, добавляя в нее клей, сваренный из оленьих рогов, чтобы она превратилась в стекловидную, отливающую блеском жижу.
Опускаясь вот так, кружась листком, на дно заводи, Миюки размышляла – может, это и было лучшим способом утопиться? Может, стоило просто расслабиться и позволить воде утянуть ее тело разом на глубину, словно погрузив в жидкий сон, или же лучше было помочь себе скорее утопиться – разжать губы и челюсти, раскрыть рот пошире, оттянув язык назад, чтобы вода заполнила всю его полость, и потом пить ее, глотать, втягивать в себя без передыху, а после снова пить и пить, и так до тех пор, пока тебя не постигнет такой же конец, какой постиг Кацуро?
И вдруг у Миюки перед лицом что-то промелькнуло: в шлейфе пузырьков мимо нее проплыл Кацуро в кимоно, вздувшемся от воздуха, точно битком набитый мешок.
Кацуро глядел на Миюки – наблюдал, как она пытается утопиться, стараясь сделать это быстро и наверняка: ибо если не собираешься топиться, к чему тогда прыгать в воду?
Миюки коснулась дна заводи и опустилась на подстилку из мягкого, вязкого ила. Тут к ней подплыл Кацуро и взгромоздился на нее. Он распахнул свое кимоно, чтобы высвободить половой член. Но из-под кимоно показался пузырь воздуха, как будто прилипший к Кацуро, и потянул его вверх, помешав ему овладеть телом женщины.
Головка его члена превратилась в морду карпа с четырьмя короткими усиками – два из них, над верхней губой, короткие и мясистые, зашевелились и принялись ласкать молодой женщине клитор, а пара других, побольше, располагавшиеся в углах губ, приятно скользили по стенкам ее влагалища.
За ночь, во сне, Миюки пережила оргазм не раз. Тело ее выгибалось, точно горбатый мост, по которому она переходила через реку Камогаву. Да и сама она чувствовала себя как бы мостом, поскольку острое наслаждение, которое она ощущала при каждом мнимом прикосновении члена в облике морды карпа, перекатывалось по ней, будто приплясывая, от живота к голове.
Последний раз она испытала оргазм под утро, когда уже забрезжил рассвет. Циновка под ней была в вагинальной смазке. А ее сладострастный стон утонул в громогласных криках торговцев, заполонявших только-только открывшийся Западный рынок.
В час Змеи[83] за Миюки пришел Кусакабэ, чтобы проводить ее к священной заводи, расположенной в западной части города.
В самое последнее мгновение Нагуса дал знать, что не пойдет с ними: император призвал его во дворец, чтобы испросить у него совета по поводу сложного выбора, который ему предстояло сделать. Но он договорился при Дворе, чтобы в распоряжение его помощника и поставщицы карпов передали запряженную быком коляску на двух огромных колесах, покрытых черным лаком, в сопровождении восьмерых стражников. Верх коляски, как и камзолы у этих юных всадников, был расшит пурпурными глициниями, символизировавшими могущественный род Фудзивара, чтобы чернь расступалась у нее на пути.
– А карпы? – удивился Кусакабэ, заметив, что Миюки предстала перед ним без тяжелого коромысла на плечах. – Разве ты не возьмешь с собой карпов?
– Если их выпустить в воду, не дав им привыкнуть к новым условиям, они могут погибнуть. Для начала я бы устроила для них небольшой закуток где-нибудь в заводи, какое-нибудь уютное местечко, защищенное от других рыб, птиц и кошек, чтобы они привыкли к здешней воде.
– Привыкли к воде? – повторил Кусакабэ, нахмурившись. – То есть как это – привыкли к воде?
– Не знаю, господин. Так говорил Кацуро, это его слова. Во всяком случае, – продолжала она, – раньше выпускать карпов в заводь никак нельзя.
– Раньше чего?
– Раньше, чем на них полюбуется император.
– Императору нет надобности любоваться на твоих рыб.
– И все же это Его величество заказал карпов у нас, жителей Симаэ. Встречать его посланцев вышла вся деревня.
– И они сказали, что прибыли от императора?
– Ну конечно, – подтвердила Миюки. – Иначе Нацумэ нипочем не устроил бы в их честь целый пир. Они подъели у нас всю снедь, а нашим бедным селянам не перепало ни крошки.
– Посланцев к вам отрядил Нагуса-сенсей, – сказал Кусакабэ. – Без ведома императора: эка важность – договориться о поставке каких-то рыбешек!
– А если бы мы погибли в пути – я вместе с карпами?..
– Кто бы об этом узнал? Да хоть бы нам и сообщили, думаешь, мы стали бы докучать Его величеству докладом о смерти безвестной крестьянки? Пораскинь мозгами, онна[84]: сколько подданных императора умирают изо дня в день без его ведома?
– Пожалуй, всех мне и не сосчитать, – смиренно проговорила Миюки.
– Так я и думал, – усмехнулся Кусакабэ. – Ничего не поделаешь, император слишком увлечен устроительством такимоно-авасэ. К тому же впервые в нынешнем году он будет участвовать в них самолично. На сей раз и все видные вельможи или те, кто считает себя таковыми, вознамерились принять участие в этих состязаниях. Горожане, кажется, готовы выложить целое состояние за пригоршню душистых зерен и стружек агара или сандала.
– Неужто они такие глупые? – удивилась Миюки.
Едва она успела договорить, как получила резкий, отрывистый шлепок по губам – на одной даже выступила кровь.
– Кто позволил тебе судить о людях, коих ты недостойна?
– Просто я хотела сказать: ежели сам император намерен участвовать в состязаниях, кто посмеет предпочесть ему другого соперника?
– О, думаю, он будет участвовать в них не в качестве составителя благовоний, а как глава судейского собрания. Но слово его, несомненно, будет иметь решающее значение – разве император когда-либо в чем-то ошибался?
Выехав с дороги, петлявшей рядом с Западным рынком, коляска свернула на проспект Красного Феникса. Конные стражники орали во все горло, требуя, чтобы людской поток перед ними расступился. Черные колеса давили кучи навоза, пряных листьев, рыбьей требухи и ракушек, и от них, точно от потухших курильниц, тянуло резкими смешанными запахами.
– Но ведь ему только пятнадцать лет! – решительно проговорила Миюки, облизнув разбитую губу.
Кусакабэ обратил на молодую женщину взгляд, исполненный презрения.
– Что ты хочешь этим сказать? Или не разумеешь, что пятнадцатилетний император не чета какой-нибудь пятнадцатилетней твари вроде тебя?
Миюки промолчала. Сказать по правде, ей никогда не было пятнадцати лет – она прожила всего лишь два года: первый, самый долгий и никчемный, длился до ее замужества, а второй, ослепительно яркий, но чересчур короткий, закончился, когда селяне принесли в Симаэ холодное, перепачканное грязью тело мужа. Возможно, новый, стало быть третий, год начался для нее со смертью Кацуро, хотя, впрочем, этого вымышленного третьего года на самом деле вовсе и не было – он рассыпался и таял по мере смены лун, подобно ее смутным снам, которые растворялись, едва она отчаянно пыталась удержать их в памяти.
– Какова же будет награда победителю?
Кусакабэ устроился поудобнее в гнездышке из шелковых подушек, которое он устроил себе с правой стороны коляски. И на мгновение задумался.
– Первым делом он будет удостоен поздравлений из уст самого императора.
– А что потом? – допытывалась Миюки.
И вновь отяжеленная кольцами рука молодого чиновника наказала ее шлепком по губам.
– Нечестивица! По-твоему, похвала Его величества мало чего стоит?
– О нет! Вот только насчет похвалы смею предупредить заранее: довольство Нагусы-сенсея и ваше будет мне недостаточной платой за карпов. У моей деревни со Службой садов и заводей есть договор – вы же соблюдете его?
– Все зависит от Нагусы-сенсея, не от меня.
Помолчав немного, Миюки продолжала:
– А чтобы участвовать в состязаниях, нужно непременно быть знатной особой?
– Ну, разумеется, – сухо ответствовал Кусакабэ. – Да ты не печалься: будь ты хоть принцессой крови, тебе все равно не победить. Потому как Нагуса-сенсей ничуть не ошибся тогда, едва подойдя к тебе: от тебя тянет вонью, и ее не перебить никакими благовониями, даже самыми изысканными.
И он спешно отдернул шторки, чтобы впустить свежего воздуха и тем самым показать, что внутри коляски стоит нестерпимый смрад.
Но Миюки не придала значения ни его обидным словам, ни унизительным жестам. Понятное дело, она грязная с головы до ног, но ведь грязью замарана только ее наружная оболочка, а не истинное существо…
В Симаэ, когда поземные туманы стелились ниже высоких трав, заволакивая землю, она, бывало, спотыкалась о какой-нибудь камень и падала, опрокидывая на себя бадью с навозной жижей, которой собиралась сдабривать делянки. Однако ж она не обращала на это никакого внимания, даже когда, по несчастью, обрызгивала жижей себе лицо. Конечно, потом она воняла, да так сильно, что от нее шарахались даже птицы, тут же устремлявшиеся в поднебесье. А она только смеялась – над птицами и над собой. Ей оставалось лишь смиренно посетовать на себя за неловкость, приведшую к утрате столь ценного удобрения, и взбираться на холмы близ Симаэ – к природным впадинам с курящимися вулканическими водами. Там, среди вершин, она отстирывала в одном водоеме одежду, в другом отмывала тело, в третьем – лицо, а напоследок погружалась в четвертый, с самой горячей водой.
– А вам, Кусакабэ-сан, доводилось участвовать в таких состязаниях?
– Да. Только вот добыть победу не случилось. Я оказался в числе последних. Хоть и старался изо всех сил.
– У вас получился слишком резкий аромат?
– Подкачал не аромат, а вдохновение. Однажды во время прогулки к озеру Бива император почтил нас по случаю вдохновенным прочтением своих поэм. Одна была посвящена брачным танцам голубых стрекоз, стрекотавших над гладью озера. Вот я и решил воплотить этот образ в честь Его величества. За основу я взял агаровое дерево, от которого, по словам Будды, веет нирваной, добавил корней многоколосника[85], поскольку они пахнут мятой, чуть-чуть анисом и зеленой свежестью, напоминающей озеро, а еще добавил легкий погон сассауреи[86], который должен был олицетворять взлет, непостоянство и пыль.
– Пыль?
– Я всегда считал стрекоз пыльными насекомыми. Это, конечно, мое личное ощущение. Но разве найдется что-либо более личное по ощущениям, чем такимоно-авасэ?
* * *
Временами Южный павильон содрогался под натиском ветра и града.
Посреди церемониального зала на высоком деревянном стуле, покрытом красным лаком, восседал, скрючившись, Нидзё Тэнно, семьдесят восьмой император Японии. Не самое удобное положение для живого, подвижного юноши, но Его величество скрючился (в прямом смысле слова) потому, что хотел тем самым показать, что взгляд его устремлен очень далеко. Большой шестигранный балдахин, накрывавший государя вместе со стулом, – впрочем, совершенно излишний в зале, надежно защищенном от любого ненастья, – тоже имел символическое значение: он олицетворял милость императора, охватывающую весь белый свет. Стоит заметить, что балдахин был установлен не случайно: его навесили после того, как сорок монахов были вынуждены прервать чтение длинной-предлинной сутры, а читали они до самого конца часа Крысы, пока с потолка не хлынул дождь из серых бабочек. Большинство из них погибли, едва коснувшись пола, а те, что попадали на монахов, прожили чуть дольше: они забились под одежду святых братьев и заставили их пуститься в чудной перепляс. Придворные и представить себе не смели, что сталось бы с достоинством юного императора, если бы эти насекомые, забравшись к нему под нижний камзол, принудили его сменить позу и заерзать на месте.
Вдоль стен стояли в ряд четыре больших сундука на ножках, три сундучка поменьше и превеликое множество коробок из древесины павлонии, содержимое которых было неведомо даже императору. Впрочем, император не придавал тому никакого значения: он не был одержим любопытством, возможно, потому, что благодаря полученному образованию научился потреблять, переваривать и усваивать культуру, которая веками привносилась из Китая, – не случайно Хэйан-кё строился по точному подобию Чанъаня, китайской столицы династии Тан, крупнейшего города своего времени. Единственное различие между двумя столицами заключалось в том, что, дабы оправдать свое название – «столица мира и спокойствия», Хэйан-кё не был обнесен защитными стенами. Что касается образования, полученного молодым государем, то целью оного было скорее обучение царственного юноши искусству императорского правления, нежели развитие в нем потребности исследовать новые области знания. Придет день, и кто-нибудь непременно откроет коробки из древесины павлонии. И тогда император увидит, что там сокрыто. А может, не увидит: ибо, возможно, их содержимое к этому времени уже испарится сообразно с законом непостоянства, управляющим судьбами людей и вещей в этом мире.
В то время как отовсюду слышался цокот гэта сановников, которые спасались бегством от лавины града, заставшего их врасплох, император сказал Нагусе, что решил самолично участвовать в предстоящем такимоно-авасэ и это обязывает его выиграть состязание.
– За какое бы дело ни взялся император, его ждет только победа, – заверил государя Нагуса. – Быть может, Его величество уже и тему для состязаний выбрали?
По слухам, в нынешнем году темы поединков были навеяны текучестью ароматов, вызванной июньскими проливными дождями, обрушившимися на сады; с точки зрения изготовителя благовоний, они изничтожили, побили и обтрепали сочные цветы; искромсали, раздробили, разодрали в клочья мясистые листья и стебли; измельчили, искрошили, измяли, перемешали землю; обратили в пыль пустые раковины улиток, вымыли хитин из брошенных букашечьих панцирей и нарушили целостность гумуса, удерживающего свежесть цветочных благоуханий. Во всяком случае, именно так ощущал положение вещей управитель Службы садов и заводей.
– Дева меж двух туманов, – молвил император Нидзё.
Нагуса в недоумении воззрился на императора. При чем тут дева и кто она такая?
– Меж двух туманов – как это? – переспросил он, вскинув брови.
Он исполнил данный себе зарок – перерисовал их и выкрасил в нефритово-зеленый цвет; однако, к вящему его сожалению, этого, похоже, никто не замечал. Неужто он вступил в тот возраст, когда другие, будь то император или подчиненный, глядят на вас и ничего не видят, – и так будет продолжаться до тех пор, пока они и вовсе перестанут вас замечать?
– Представим себе сад, – продолжал между тем император, – сад, окутанный утренним туманом. Правую его часть с левой соединяет переброшенный через водную гладь мост, выгнутый полумесяцем. Только самая верхушка мостового настила выступает из дымки. И вот из тумана, застилающего правый сад, на мост выходит дева. Она ступает быстро-быстро. Взбежав на вершину горбатого моста, она на мгновение замирает. Потом бежит себе дальше, перебегает через мост и оказывается в левом саду. И вдруг, едва выйдя из тумана справа, исчезает в тумане слева. Если же я взойду следом за нею на вершину моста, что найду там?
– Увы, боюсь, Ваше величество там ничего не найдет. Если только в короткий промежуток времени, когда дева замерла на вершине моста, – наверно, полюбоваться на уток, как я полагаю, – она не обронила гребень, поясное украшение или, может, веер.
– Нет.
– Нет, Ваше величество? В таком случае я не вижу…
– Запах, – прервал его император, – на мосту останется запах девы.
– Но ветер…
– Если есть туман, значит, нет ветра. Итак, дева вышла из одной пелены тумана и вошла в другую, а на мосту остался едва уловимый шлейф ее благоухания. Что же это за благоухание? Вот вам подходящая интрига для такимоно-авасэ. Остается только придумать и создать состав, который воспроизведет этот образ без единого слова.
Нагуса уставился на юного императора, открыв рот от изумления: еще никогда ему не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь предлагал более прекрасную тему для состязаний благовоний, еще никто не бросал ему столь дерзкий вызов.
Он тут же принялся перебирать в памяти изумительные ароматы и смешивать их в уме: кансё, сассаурея, нардостахис джатаманси, рэи рёкё, дайё, буковый сок, пестики дикой лилии. Он размышлял о том, какое неповторимое сочетание могло принести победу Его величеству.
После полудня мелкий хлесткий град закончился – в воздухе закружили мягкие, трепещущие снежинки: первый снег выпал на несколько недель раньше положенного. Землю уже устилал семисантиметровый слой свежего сухого снега, когда Нагуса заперся у себя дома и стал обдумывать возложенное на него поручение.
Ни одно благовонное вещество (ни смолы, ни порошки, ни корье, ни травы…) из тех, что использовались для приготовления ароматических катышей и хранились в специальной лавке на Второй линии, не отвечали ожиданиям императора. Высшее искусство такимоно-авасэ, безусловно, основывалось на умении смешивать одни ингредиенты с другими. С тех пор как монах Гандзин, прибывший из Китая два столетия тому назад, принес в Японию искусство смешивания ароматов, которые он соединял с такими веществами, как мед, цветочный нектар, патока или порошок маккё, все это было опробовано в самых разных сочетаниях. Экспериментируя с пропорциями, можно было превратить палитру из сотни ароматов в букет из тысячи с лишним благоуханий, используя тот или иной состав, приведенный в книге, что была вверена на хранение управителю Службы садов и заводей, отвечавшему и за сохранность ароматических деревьев.
Так что Нагуса лучше, чем кто-либо другой, знал – покамест не было создано ни единого ароматического воплощения образа девы туманов на горбатом мосту, к тому же император не уточнил ни времени года, ни часа дня или ночи. Значит, надо было что-то придумать. А Нагуса Ватанабэ уже давно не был мастером на всякие выдумки. И при одной лишь мысли об этом он почувствовал, как у него на сердце кошки заскребли.
Между тем Кусакабэ препроводил Миюки к заводи храма, посвященного Будде Амитабхе – будде будд, владыке Чистой Земли, извечно блаженного мира, отчужденного от всякого зла и страдания и огромного в самом себе, как шестьдесят один миллиард вселенных.
Поднялся резкий ветер, последние осенние стрекозы заливались назойливым стрекотом, кучи букашек, прижавших крохотные крылышки к мохнатым тельцам, скребли землю, ища в ней прибежище. Пронзая насквозь багряные листья кленов, свет ложился алыми пятнами на выпавший за ночь снег, и, хотя солнце едва взошло, храм уже переливался всеми красками заката.
Среди переплетения азалий и камелий водоем открывался взору не сразу. Чтобы удостоиться чести созерцать его, надо было пройти по губчатым дорожкам, устланным клочьями застоявшегося серого тумана.
Наконец за последним пологом кустов Миюки разглядела зеркальную водную гладь. И тут же кинулась к ней. Даже не позаботившись о том, чтобы засучить рукава, она просунула руки меж лотосов, сложила ладони лодочкой и зачерпнула воды. Она омыла себе лицо, сделала глоток, покатав воду во рту на манер ценителей саке, которые таким образом дают тончайшим ароматам напитка раскрыться во всей красе.
У здешней воды был довольно мягкий и как бы стертый, неявный вкус недозрелого плода с легким привкусом ила, что, конечно же, объяснялось наличием в ней множества разлагающихся органических веществ, распознать которые было под силу лишь тому, кто разводил карпов.
– Хороша, – заключила Миюки. – Хоть и холодновата, но это из-за снега – от него она… как бы это сказать?.. сделалась малость пресной… малость…
– …адзикэнаи – безвкусной? – подсказал Кусакабэ.
Молодая женщина никогда не использовала слово «безвкусный». По крайней мере, в подобных случаях. Поскольку это слово, хоть и точное, было неуместно, в особенности применительно к карпам, для которых вода не была ни пресной, ни безвкусной, ни бесцветной.
Рядом с берегом из воды торчали расположенные полувенцом неотесанные деревянные столбики. Они насквозь пропитались водой и раскисли, кора на них сгнила и свисала длинными струпьями. Миюки смекнула, что это и были те самые вешки, про которые рассказывал Кацуро: вбив в них с одного конца острые гвозди, чтобы отваживать птиц, – иначе они примащивались бы на них как на насестах, с которых удобнее высматривать рыбу и ловчее нырять за нею, – их затем втыкали другим концом в илистое дно и натягивали между ними сеть. Таким образом, получался огороженный водоем, где карпы осваивались в полной безопасности.
Миюки сложила руки вместе, опустилась на колени и поздоровалась с заводью, а потом обратилась к Кусакабэ:
– Как по-вашему, может, монахи тоже захотят поглядеть, как я буду выпускать карпов?
– Почем я знаю!
– Но ведь управитель Нагуса почтит нас своим присутствием, не так ли?
Под словом «нас» она подразумевала всех жителей Симаэ, пославших ее сюда. Как их посланница, Миюки и помыслить себе не могла, что управитель Службы садов и заводей не придет к заводи, когда она будет выпускать карпов в их стихию.
– Полагаю, да. Но он человек важный – высокопоставленный, как говорится. А высокопоставленные люди заняты делами с утра до ночи. Иной раз у них даже бывают бессонные ночи.
– А Его величество император?..
Кусакабэ воззрился на нее с недоумением: неужели эта женщина и правда думала, будто государь станет утруждать себя ради того, чтобы посмотреть, как плещутся жалкие рыбешки, примечательные лишь тем, что им повезло пережить опасное путешествие?
– Церемонии, которые Тэнно Хэйка[87] почитает своим присутствием, назначаются и подготавливаются заблаговременно. Как же мы могли подготовить Его величество к церемонии выпускания карпов, если нам не было точно известно, когда ты придешь, да и придешь ли вообще? И потом, не станешь же ты утверждать, что выпустить в воду трех-четырех карпов…
– Их восемь, – поправила Миюки.
– Три, четыре… восемь – какая разница? Есть вещи поважнее твоих карпов, верно? Жаль, я не могу доставить тебя во Дворец, тогда бы ты своими глазами увидела, на что похожи дни и ночи Его величества: ни мгновения покоя, ни единого просвета, ни сна, ни отдыха!..
Неужели дни и ночи, прожитые Миюки бок о бок с Кацуро, так уж отличались от дней и ночей императора, даже если их хижина в Симаэ, понятно, не шла ни в какое сравнение с Сисиндэном – огромным величественным зданием, где проходили официальные церемонии, возглавляемые потомком Аматэрасу?[88] В конце концов, рыбак с женой тоже потеряли покой, особенно когда Кацуро, снискавший себе уважение со стороны Службы садов и заводей, понял, что, возможно, ему будут заказывать карпов и другие буддийские монастыри, и вознамерился выкопать целый пруд, чтобы держать там до полусотни карпов и таким образом исполнять срочные заказы, не заботясь ни о паводках на реке, ни о клеве. Миюки одобрила план Кацуро, а чтобы не отвлекать его от рыбной ловли, она взяла на себя тяжкий труд копать землю, которую потом насыпала в корзины, относила на располагавшиеся террасами рисовые делянки и вываливала там, укрепляя их по краям. После того как яма для пруда была наконец готова, ее надлежало наполнить водой – и вот Миюки снова превратилась в носильщицу и принялась таскать воду от самого порога Судзендзи.
Между ходками на реку она занималась тем, что рассеивала удобрения на полях и починяла снасти Кацуро, которые он использовал со всей отдачей и без всякой оглядки, особенно после того, как увидел, что Миюки может не только заштопать порванные сачки и сети, но и вырезать новые рыболовные крючки из кизилового дерева…
– …Есть больше сотни обрядов, которые нужно соблюдать ежегодно, – продолжал меж тем Кусакабэ, – и столько же церемоний, которые надобно проводить; император то устраивает Хмельной пир с крепким саке, большой священной трапезой и танцовщицами, за чьей подготовкой он сам надзирает; возглавляет он и Вкушение первых плодов в ознаменование нового урожая риса, а священнодействовать ему порой случается до часа Тигра; помимо того, он выступает главным судией на поэтических ристалищах и состязаниях благовоний или же заслушивает пространные доклады о смертных казнях, назначаемых в течение года, – доклады эти, сказать по правде, совершенно никчемны, потому как вот уже сто с лишним лет смертная казнь не применяется, – да-да, но традиция есть традиция, не так ли?
Миюки ничего не ответила: «традиция» – вот еще одно незнакомое слово, которое она никогда не употребляла. Ее собственный язык был соткан в основном из умалчиваний. У себя в Симаэ она могла за весь день не проронить ни слова. Вечером, когда Кацуро возвращался с Кусагавы, у нее пересыхал рот, цепенели губы, немел язык. Зато пробуждалась страсть, когда она бежала навстречу рыбаку.
– Уважение традиции требует постоянной сосредоточенности, – продолжал Кусакабэ. – А ночью бывает нелегко сохранять бодрость тела и духа. К счастью, в такие трудные мгновения саке пробуждает сознание и умиротворяет – я говорю про коричневое саке, его варят исключительно для императора. Мне тоже несколько раз выпадала честь вкушать его. С тех пор как Службу садов и заводей объединили со Службой императорского стола, я принадлежу к числу чиновников, уполномоченных проверять температуру и вкусовые качества блюд, подаваемых Его величеству. Так вот, саке, предназначенное для Тэнно Хэйка, – это нечто необыкновенное, уж ты мне поверь! Не хотелось бы и тебе пригубить его? Хотя женщинам твоего положения строго-настрого запрещено прикасаться к снеди и напиткам императора, я, конечно, мог бы это устроить.
Миюки безразлично пожала плечами. Кусакабэ не сдержался и заворчал. Он был разочарован – думал разжечь в ней искорку любопытства и заставить ее трепетать, как он это хорошо умел делать, благодаря чему даже в мире строжайших правил императорского двора ему удавалось блистать, пусть и не очень ярко, среди своих сослуживцев.
Судите сами: назначенный принимать поставщиков Службы садов и заводей, по большей части крестьян, приезжавших с товарами из своих областей – белоцветными вишнями со склонов горы Ёсино, сливами из святилища Юсима Тэндзин, плакучими хризантемами из Исэ, – Кусакабэ неизменно начинал беседу с ними с того, что поздравлял их с прибытием в самый чудесный город на земле. «Не важно, – говорил он, – удастся вам сбыть свой товар или нет: увидев своими глазами Хэйан-кё, вы уйдете восвояси, став много богаче, чем были, когда только прибыли сюда». И крестьяне, не видевшие в жизни ничего, кроме своих хибар, жалких рисовых делянок и скудных земельных наделов, внимали ему, раскрыв рты. Он искусно очаровывал собеседников и мог говорить о красотах города до тех пор, пока небо не расцвечивалось фиолетовыми полосами, пока сумерки не расплескивались по земле, точно тушь из опрокинутой чернильницы, и пока сто двадцать два привратных стражника не начинали разгонять всех, у кого не было никаких оснований оставаться на ночь в пределах крепостных стен дворца.
Столь же неистощимый на похвалы всему тому, что попадало к императору в рот, проходило через его горло и попадало к нему в желудок, а потом выходило в виде испражнений, Кусакабэ приготовился славословить императорское саке.
Неужто этой вонючке совсем неинтересно?..
(А ведь он уже готов был согласился с Нагусой-сенсеем: да, эта молодуха и впрямь пахла чем-то неопределенным и не очень приятным.)
Хоть и раздосадованный, но не обескураженный, он снова заговорил про саке Тэнно Хэйка: в редких случаях, когда Его величество пускал по кругу сотрапезников свой кубок, он, Кусакабэ, также удостаивался неслыханной привилегии пригубить из него. Это саке варили из риса, выращенного в провинции Этиго[89] и снискавшего славу самого лучшего во всей Японии: оно отличалось невероятно мягким, сладковато-фруктовым вкусом – Кусакабэ прищурился и стал подбирать слова, чтобы живописать этот чарующий букет, воскресив его в памяти, да так увлекся, что почти опьянел в своем воображении.
А Миюки не щурилась – перехватив хмурый взгляд, с каким она выслушивала его славословия, молодой чиновник понял, что дальше стараться бесполезно. Вздохнув, он только и сказал:
– Стало быть, Амакуса Миюки, тебе совсем неинтересно узнавать новое?
Теперь уже ей самой не хватало слов для ответа – верно, от усталости.
Между тем Миюки хотелось сказать одну простую вещь: знание стоит куда меньше, нежели тот, кто его дает, – об этом она и размышляла, в то время как снег уже валил вовсю.
Всеми своими знаниями она была обязана Кацуро. Он ввел ее в шумный и яркий мир реки, научил, как ловить карпов, не причиняя им вреда, как успокаивать их и приручать, готовя к долгим путешествиям, – в точности как собаку, лошадь или сокола в клобучке.
Рыбак не ограничивался советами: делай, мол, так или эдак, – он брал жену за руку и помогал ей войти в воду сперва по икры, по колени, потом по пояс и наконец по грудь, а следом за тем укладывал ее на спину, поддерживая одной рукой под ягодицами, а другой под затылком, и говорил: теперь вытягивайся и ничего не бойся, почувствуй твердь реки под собой, почувствуй, как она не отпускает тебя, как поддерживает.
При всплеске небольшой волны, поднятой проплывающей мимо рыбой, или веткой, упавшей в воду выше по течению, длинные черные волосы Миюки, расстилавшиеся по водной глади, колыхались – словно дышали.
Кацуро знал – по слухам, ходившим среди рыбаков, – что чем дальше, тем шире становилась Кусагава, что она раздвигалась, точно ноги любящей, доверчивой Миюки, и что в конце пути – в самой нижней части своего течения, далеко-далеко от Симаэ и порога Судзендзи, она впадала в Великий океан.
Ему хотелось своими глазами поглядеть, как у простой речки получается сливаться с океаном, слывущим бескрайним. Неужели через ночное проникновение, как это было у него с Миюки, когда они женихались? Может, это похоже на то, как его член, оказавшись меж бедер жены и окрепнув, входит в трепещущее теплое соленое лоно Миюки подобно тому, как река, впитав силу своих притоков, вливается в открытое море?
Кацуро с Миюки обещали себе, что до того как умрут, они проводят Кусагаву до самого ее устья – там, примостившись рядом друг с другом на камне, согретом солнечным теплом, они обнимутся и будут глядеть, как их река растворяется в океане. Чтобы их обещание сбылось наверняка, Миюки сорвала листок кадзи[90] и дала его Кацуро, а он, во время очередного своего путешествия в Хэйан-кё, передал его одному ученому мужу, который начертал на нем их желание. Чтобы оно действительно сбылось, его нужно было старательно выписать на листке кадзи аккурат в ночь, когда звезды-влюбленные – Пастух и Ткачиха как бы сойдутся вместе, что, конечно, и было сделано. Вот только, похоже, не все было сделано так, как надо, потому что Кацуро погиб, так и не успев примоститься на теплом камне рядом со своей Миюки.
При воспоминании об этом молодая женщина почувствовала, как по ее щекам потекли слезы.
– Едем обратно, – сказал ей Кусакабэ. – А то снег так сверкает, что прямо жжет глаза. Вернемся завтра, тогда и выпустим твоих карпов.
Зазвонил храмовый бронзовый колокол, и от его густого звона потрескалась тонкая ледяная корка, которой уже начала затягиваться гладь священной заводи.
Снег валил весь день. Снежинки скапливались на навесах, а потом от тепла, исходившего от стен и кровель домов, где зажигали жаровни, снежный слой снизу размякал и начинал таять; подтаявший снег огромными блинами, похожими на громадные навозные лепешки, соскальзывал с кровельного покрытия и со шмякающим звуком падал на утоптанную земляную улицу.
По возвращении в кёдзо Миюки пришлось сидеть возле вершей и приглядывать за карпами – они совсем перестали двигаться и словно оцепенели. Лишь по редкому вздрагиванию плавников можно было судить, что они пока еще живы.
Кормить их она не стала – пусть проголодаются, иначе, оказавшись на воле, да еще в холодной заводи, они сразу устремятся на дно и зароются в ил, вместо того чтобы пуститься осваивать новое прибежище в поисках поживы.
Миюки и сама была голодна – сказывались усталость после долгого перехода и вместе с тем облегчение: ведь она в конце концов достигла своей цели.
Покуда она осматривала заводь, Кусакабэ отправился в храм попросить у монахов какой-никакой снеди. Узнав, что подаяния ждет женщина, доставившая карпов для их священной заводи, монахи проявили небывалую щедрость. Примостившись на корточках возле своих рыб, Миюки принялась так бойко поглощать пожалованный ими рис вместе с китайской капустой и маринованным редисом, что ее тут же вывернуло наизнанку. Но ей было все равно: она до того изголодалась, что продолжала насыщаться будто в лихорадке, пустив в ход все десять пальцев и стараясь запихивать еду в рот чуть ли не обеими пригоршнями сразу. Когда миска опустела, она вылизала ее изнутри, испачкав нос жалкими остатками пищи. И вытерла губы рукавом кимоно, оставив на нем влажное пятно.
Зародившийся на севере и прорвавшийся меж гор Хиэй и Атогаяма шквалистый ветер когараси – «оголяющий деревья» – со всей силой обрушился на город, поднимая метель и срывая с деревьев последние листья. Пара кречетов, занявшая гнездо, некогда свитое галками на кровле пагоды Сайдзи, с заунывными криками улетела прочь. И настала тьма.
* * *
В то время как Миюки лежала, свернувшись калачиком, на циновке и дрожала от холода, двое слуг Нагусы Ватанабэ спешили домой к Кусакабэ – его незамедлительно, не дожидаясь утра, требовал к себе управитель Службы садов и заводей.
Но зачем было посылать двух гонцов со столь незначительным поручением? Затем, что, если один поскользнется на снегу, упадет и вывихнет ногу или сломает лодыжку, другой побежит дальше – и выполнит поручение, возложенное на обоих. Подобной предусмотрительностью, граничившей с навязчивым предчувствием, – Нагуса всегда был склонен видеть худшее в любом деле и всегда же старался найти выход из любого затруднения – только и можно было объяснить успехи в долгой блистательной карьере, которую он сделал в мире, где единственной уверенностью было непостоянство.
Кусакабэ, едва успев выпроводить жрицу любви, которую он нанял для того, чтобы она согревала его своими ласками в эту студеную ночь, тут же стал собираться на выход.
По дороге его совершенно некстати задержал караван, нежданно прибывший в город с грузом пеньковой ткани. Поскольку ворота Расёмон запирались на ночь, носильщики, видя, что им придется разбить бивак за пределами крепостных стен, не на шутку возмутились тем, что им отказали в гостеприимстве в городе, куда они доставили товары, которые должны были обеспечить работой здешних красильщиков и закройщиков. Услышав, как они кричат, грозя сжечь весь свой груз, чтобы согреться, Кусакабэ послал за начальником привратной стражи и, только дождавшись, когда тот открыл Расёмон, двинулся дальше своей дорогой.
Морозной ночью звуки слышались особенно отчетливо, и Кусакабэ не преминул уловить гул колокола в Императорском дворце, возвещавшего, что уже наступила половина часа Крысы, – наконец он добрался до пересечения улиц Томи и Раккаку, где его уже поджидал слуга Нагусы с факелом в руке.
Кусакабэ подумал: наверное, юная жрица любви, из чьих объятий его вырвали (как же ее звали?.. ах да, Бимё, то есть Милашка), снова слоняется по скованным стужей улицам. На самом деле она не оправдывала своего имени: короткие толстые ноги, сморщенные, как цветная капуста, ягодицы… К тому же в отличие от большинства жриц любви она не знала ни одной песни из тех, что призваны распалять страсть мужчин; но Кусакабэ Ацухито тянуло к женщинам ущербным, непривлекательным, малость обиженным природой – они приносили ему отдохновение, по крайней мере ночью, от изнурительных поисков совершенства, к чему его обязывало положение высокопоставленного придворного из ныне живущих в Хэйан-кё.
Если Нагуса не задержит его надолго, он еще успеет разыскать Бимё, которая на самом деле никакая не милашка, и снова позвать ее к себе.
Но прежде ему придется принести себя в жертву обряду встречи и, присев на корточкаи перед подносом на подставке, вкусить саке под подобающие случаю закуски.
Управитель Службы садов и заводей разглядывал Кусакабэ молча и оценивающе, будто видел его впервые, и прикидывал в уме, способен ли помощник выполнить деликатное поручение, которое он собирался на него возложить.
Налив себе и гостю саке с медлительностью бабочки, мало-помалу вылупляющейся из кокона и неспешно расправляющей оцепенелые крылья, он наконец решился поведать о своем визите к императору и о его решении лично участвовать в такимоно-авасэ, для чего Его величество придумал прелюбопытную легенду – интригу столь сложную для воплощения в ароматах, что он, Нидзё Тэнно, вполне мог остаться одним-единственным участником предстоящих состязаний.
– Было бы высочайшим проявлением дерзости не принять вызов Его величества, – заметил Кусакабэ. – Так какую же тему предложил император?
Нагуса вкратце изложил занимательную историю про мост полумесяцем, две туманные дымки и деву.
– Но ведь на прошлых состязаниях не было никакой надобности придумывать всякие занимательные истории! – удивился Кусакабэ. – Требовалось составить какой-нибудь чарующий аромат, и только.
– А императору угодно отметить свое царствование несравненным новшеством, обратив благовоние в сказителя.
Сидя за подносом друг против друга, они какое-то время молчали, как бы взвешивая важность сказанного. Благовония издревле снискали себе заслуженное признание: считалось, что они ободряют и вместе с тем умиротворяют, усиливают умственные способности, излечивают некоторые недуги, включая хандру и бессонницу, не говоря уже о том, что они возбуждают чувственность. Однако еще никому не приходило голову, что благовоние способно самовыражаться, точно какой-нибудь стихотворец.
Наконец Нагуса встал и, низко поклонившись, точно перед ним был сам император, сказал:
– Если Нидзё Тэнно удовлетворит столь недостойная и презренная кандидатура, как моя, что ж, тогда я вызовусь быть его соперником.
Кусакабэ воззрился на него, не веря своим ушам.
– С позволения сказать, Нагуса-сенсей, мне известны все благовония, что хранятся в лавке на Второй линии. И могу вас заверить, что ни одно из них, хоть по отдельности, хоть смешанное с другими ароматами, не способно передать образ девы, бегущей по мосту.
– По мосту и в тумане, – уточнил Нагуса. – Дело в том, что подобный обонятельный образ еще никто и никогда не составлял. Я уже не в том возрасте, чтобы наслаждаться туманами: когда поднимается туман, я ложусь спать, да и за девицами я не ухлестывал давненько.
Тут он рассмеялся старческим смехом, и было непонятно, что выражает эта усмешка – то ли издевку, то ли отчаяние, хотя, возможно, у него просто задрожал подбородок.
– Стало быть, у вас ни единого шанса победить? – полюбопытствовал его помощник.
– Ну разумеется, ни единого.
– Но на вас будет смотреть весь двор…
– Скорее он будет принюхиваться к нам, – улыбнулся Нагуса, коснувшись своего носа кончиком пальца.
– Да.
– Да, – вторил ему эхом Нагуса.
– Да, – повторил Кусакабэ.
На третьем «да» они оба смолкли. А потом принялись вздыхать, притом что вздохи Нагусы походили не то на покашливания или сиплое кряхтение – кха-эх-ах-ох, – не то на шелест шелка, трущегося по шелку… хотя в основном оба хранили молчание, и нарушить его никто из них не смел.
Наконец по прошествии длительного времени Кусакабэ прочистил горло и произнес:
– На самом деле двор будет к вам прислушиваться, поскольку, как говорят, благовоние лучше воспринимается на слух, нежели на нюх. И в этом смысле мне в голову кое-что пришло: разве не сказано в одной сутре, что учение Будды передается через запахи и что оно не нуждается в словах, чтобы толковать его?
– В сутре Вималакирти, одного из ближайших учеников Будды Амитабхи, – с глубочайшим почтением согласился Нагуса.
– Стало быть, и вас, сенсей, вдохновило его учение?
Управитель Службы садов и заводей едва заметно улыбнулся.
– Не столько его учение, сколько бумага, на которой эта сутра была записана в переводе с санскрита и которая ныне хранится в храме Тодайдзи, – в тамошней заводи вдовушке из Симаэ завтра поутру предстоит выпустить своих карпов. Это бумага необыкновенной белизны и чистоты. Однажды мне предоставили право восхищаться ею, даже позволили прикоснуться к ней – я до сих пор ощущаю кончиками пальцев ее гладкую поверхность. В своей сутре Вималакирти повествует о возрождении в чистой земле, ласково овеянной всеми ароматами, как он ее называет, где дворцы, дома, улицы, сами сады и даже пища созданы не из глины, не из дерева и не из камня, а из самых пленительных благоуханий.
– Неужто, по-вашему, такое возможно, сенсей?
– Я же не говорю, Ацухито, что верю в это, – тут я бы поостерегся! Но если предположить, что существует другой мир, помимо нашего, то я бы с радостью предпочел, чтобы он был ласково овеян ароматами, а не смрадом разложения.
У Нагусы снова дрогнул подбородок. Впрочем, на сей раз это было не признаком старости, а следствием того, что в комнату проникла зимняя стужа. В двух жаровнях из трех уже белела зола – горела только одна.
– В начале зимы Нагуса Ватанабэ и Кусакабэ Ацухито бросают вызов Нидзё Тэнно! – внезапно возгласил он. – Состязания, полагаю, будут проходить в Павильоне Чистоты и Свежести. Еще никому и никогда не случалось присутствовать на столь необыкновенных поединках. Интересно, император уже знает ответ на вопрос, который он сам же и поставил? Да уж, Ацухито, сложилось весьма щекотливое положение: я похож на человека, коему вверили сборник поэм, написанных на незнакомом ему языке, и повелели перевести их на другой язык, в котором он смыслит не больше.
Кусакабэ опорожнил четвертую чашу саке. И, сверкая глазами, поднялся:
– Предлагаю сходить туда. Прямо сейчас.
– Это еще куда, Ацухито? На дворе ночь, идет снег и…
– В лавку на Второй линии. Закажем себе самые изысканные благовония, пока они не достались никому другому.
Кусакабэ знал, что говорил: как только объявляли об открытии состязания благовоний, вероятные участники, то есть почти вся знать и чиновники третьего высшего ранга, отправляли своих слуг опустошать лавку на Второй линии, наказывая им прихватить побольше самых ароматных смол, кореньев и зерен, притом за любую цену. Мелочиться не было времени: главное состояло не в том, чтобы заключить выгодную сделку, а в том, чтобы заполучить как можно больше ароматических веществ и потом спрятать их в секретных кабинетах с наглухо задернутыми шторами, дабы ни одна живая душа не учуяла тончайшую палитру благоуханий, которым впоследствии предстояло смешиваться в строжайшей тайне.
Хотя на посещение любого заведения в ночное время требовалось официальное разрешение даже для столь высокопоставленного чиновника, каковым был управитель Службы садов и заводей, Нагусе не составило большого труда уговорить сторожей лавки открыть ему дверь. Им было довольно убедиться лишь в том, что у ночных посетителей не имелось при себе ничего такого, чем можно было испортить или спалить драгоценное содержимое лавки.
Заходить в лавку запрещалось с любым светильником – факелом и даже простой свечой. Между тем неосвещенная лавка походила на глубокую черную пещеру, и разобрать надписи на шкафчиках с указаниями, какое ароматическое вещество в каком из них хранилось, было почти невозможно. Ориентироваться внутри, конечно, помогли бы лунные отсветы на снегу – надо было только распахнуть глухие деревянные ставни, но сторожа запретили это строго-настрого.
– Ладно, – смирился Кусакабэ, – используем обоняние вместо зрения.
Нагусе понравились такие слова. И они на пару шагнули в кромешную тьму, вытянув головы вперед, точно кошки, ступающие на незнакомую территорию.
Сторожа растолковали им кратко, в каком порядке хранились вещества: сначала они распределялись по группам – смолы и камеди, коренья и корневища, зерна и плоды, затем шли разновидности – сладкие, кислые, теплые, соленые и горькие, которые, в свою очередь, подразделялись на оттенки – лесные, звериные, чувственные, пряные, бальзамические, землистые, смолистые, пьянящие, пикантные, камфорные, травянистые и т. д.
– Главное, ничего не трогайте, – прибавили напоследок сторожа, – только нюхайте и запоминайте самое интересное. Потом вернетесь и возьмете все, что сейчас заприметили, но только после того, как во Дворце возвестят об открытии состязаний и объявят их тему.
Нагуса метнул в стражников гневный взгляд, и те тут же согнулись в нижайшем поклоне, бормоча что-то неразборчивой скороговоркой в свое оправдание, как будто старались разом выпалить все извинения, которые им были известны.
– Да как вы смеете подозревать, что Его превосходительство управитель Службы садов и заводей способен даже помыслить о том, чтобы украсть хотя бы самую ничтожную звездочку аниса! – вознегодовал Кусакабэ, после чего тихонько прошептал Нагусе на ухо: – А что, сенсей, может, и впрямь воспользуемся темнотой да прихватим все, что нужно, без всяких отлагательств?
– Что верно, то верно, зачем откладывать, – шепнул ему в ответ Нагуса. – А начнем мы, пожалуй, с мускуса кабарги. Это основа основ. Без него я вряд ли что смогу придумать.
Обоняние привело их к выдвижному ящику, где были разложены похожие на кошельки мешочки из тончайшей кожи, покрытые легким ворсом, – они были набиты темно-коричневыми зернышками, мягкими на ощупь и пахучими. Нагуса с Кусакабэ взяли каждый по кошельку и засунули их поглубже себе в широкие рукава.
Вслед за тем Нагуса остановил свой выбор на смолоносице. Он рассчитывал на ее крепкий, едкий запах, который должен был символизировать туман. Хотя, наверное, для этого лучше сгодился бы душистый костус, и он зачерпнул его изрядное количество, – а что до пресловутого моста, через который, точно призрачное видение, перепорхнула дева из грез императора, разве он не мог быть переброшен через клумбу с фиалками и гвоздиками, тем более что их благоухание напоминает аромат костуса?
Между тем Кусакабэ запасался смолой стиракса, благо рукава у него были что бездонные мешки.
Хотя Нагуса и Кусакабэ порядком устали, распрощались они лишь после того, как расфасовали свою поживу: замочив ее в уксусе, они растолкли мелко-мелко крышки раковин морских улиток кайкё для закрепления ароматов. Потом они растерли полученные основы в ступках и разложили их по шелковым мешочкам, которые поместили в кошели, а кошели заперли в ящике из дерева алоэ.
Всех этих манипуляций хватило, чтобы усилить эти самые разнообразные запахи, после чего комната заполнилась незримой, но довольно пахучей дымкой, притом что отходы благовоний даже не пришлось ссыпать на угли в раскаленных жаровнях.
Вслед за тем Нагуса расстелил на полу пару циновок. Не говоря ни слова, он улегся на одну, а по другой похлопал ладонью, будто подзывая кошку. Однако ж на вторую циновку, понятно, с благодарным смирением в глазах прилег Кусакабэ, поскольку окрепший северный ветер развевал снежные хлопья так, словно ощипывал без удержу белую птицу, а стужа сковала ширмы и ставни с такой силой, что они скрипели, как жалкие букашки; наконец, как будто нарочно для того, чтобы удержать Кусакабэ от мысли вернуться к себе домой в то время, как снаружи бушевал ледяной ветер и царила тьма, с ближайшей улицы донесся протяжный вопль ограбленного.
* * *
Миюки проснулась ранехонько. Хотя только занимавшаяся заря не успела до конца рассеять ночную мглу, мешавшую ясно видеть, что происходит внутри вершей, первым ее поползновением было проверить, живы ли еще карпы. Она обвела их пристальным взглядом, каким рассматривала Кацуро, когда просыпалась первой: она вглядывалась в него, чтобы удостовериться, что ночь он пережил благополучно и дышит ровно; потом она поглаживала его и тихонько пощипывала, проверяя, насколько теплая и мягкая у него кожа.
Миюки было пять лет от роду, когда ее родителей поразила вандзугаса[91]. Как только у них проявились первые признаки недуга, селяне притащили на главную площадь обезьянку и заставили ее скакать, потому как верили, что своими прыжками зверек может втоптать заразу в землю. А еще они позвали старца с флейтой, трели которой считались невыносимыми для слуха хёсёгами, демонов оспы. Третьим чередом селяне заперли Миюки в хижине родителей, дабы она ненароком не разнесла заразу по соседям.
Так девочка и просидела несколько дней кряду возле изголовья отца с матерью, бившихся в безмолвной агонии: гнойники обложили у них рот и горло, и они не могли вымолвить ни слова. А когда они окоченели, Миюки, которая беспрестанно трогала их, оглаживала и растирала, поняла, что их больше нет.
Заслышав, как она плачет навзрыд, народ выпустил ее из заточения. А чтобы зараза не разнеслась по деревне, пока их останки будут переносить к погребальному костру, деревенский старейшина – им в ту пору был не Нацумэ, а Норимаса, отец его отца, – кровлю их хижины забросали горящими факелами, и она вмиг заполыхала.
Каждое утро Миюки боялась, вдруг и Кацуро окоченел так же, как ее родители, а со временем ее страх разросся до того, что она уже стала бояться за всех живых существ, с которыми распрощалась накануне вечером и должна была снова увидеться утром…
Ночью ей слышались шорохи и поцокивания, как будто что-то царапало пол маленькими коготками. Хотя комната помещалась на втором ярусе и что бы там ни говорил Кусакабэ, в дом наверняка забрались какие-то зверушки, скорее всего птицы. Перед тем как закрыть глаза, Миюки, по счастью, пришло в голову помочиться вокруг того местечка, где она расстелила циновку и оставила карпов. Получился своего рода магический круг, и птицы, похоже, так и не решились через него переступить: следы их лапок виднелись всюду за пределами, которые она обозначила своей мочой, передвигаясь на корточках и испуская ее прерывистыми струйками.
Убедившись, что с карпами все в порядке, она подошла к одному из окон. Во сне Миюки металась и срывала с себя одежду, так что теперь она была почти раздета. И потому опустила сломанную штору, чтобы снаружи ни один случайный зевака не увидел ее полуголой, – вместе с тем сквозь прорехи ей был виден весь город, простиравшийся вверх по пологому склону до самых стен Императорского дворца.
Снег, сыпавший всю ночь напролет, превратил кровли в сплошную череду белых волн. Местами от этой неоглядной снежной массы отрывались большие пласты – они соскальзывали по глазурованной черепице и, набрав скорость, переваливались через загнутые кверху концы кровель, как будто готовясь взмыть к небу. Однако, зависнув на мгновение-другое в воздухе, они с глухим шумом обрушивались вниз.
Едва слышное вторжение Кусакабэ не застало Миюки врасплох. На Ацухито была парадная форма гражданского чиновника – голову его венчала эбоси из черной лакированной бумаги, светло-фиолетовый плащ покрывал ему плечи поверх длиннополой розово-коричневой туники, волочившейся по земле, а ноги скрывались широкими штанами, крепко стянутыми на лодыжках шнурками, отчего штанины казались надутыми.
Миюки трижды поклонилась.
– Я готова, господин.
– Точно?
Он оглядел ее с нескрываемым удивлением.
– Пойдешь в чем есть? Вернее, в том, что на тебе?.. – поправился он. – Так ведь на тебе одна засохшая грязь и мерзкая жижа…
– Ничего другого у меня нет, – прервала его она.
– Ты что, пустилась в дорогу, не взяв сменного платья?
Поскольку Кацуро не раз рассказывал, что жители Хэйан-кё не имеют ни малейшего представления о том, как живется людям в Симаэ, и что, в сущности, им нет до этого никакого дела, Миюки простила Кусакабэ высказывание по поводу ее одежды, состоявшей только из того, что было на ней: она хотела взять с собой на смену отрепье, в котором работала днем, но в последний миг, отправляясь в дорогу, решила не обременять себя лишним грузом.
– Ладно, – продолжал молодой человек, – все равно никто не станет обращать на тебя внимание. Если бы светило солнце, другое дело, а так из-за снега вряд ли кто еще придет к заводи. А что до Нагусы-сенсея, так твое облачение его нисколько не смутит. Управитель стар, глаз у него уже не такой острый, видит он плохо, цвета путает. Впрочем, – прибавил он, скрывая ладонью улыбку, – думаю, он к тебе даже не подойдет. Да-да, если слово «удовольствие» хоть что-то значит для старика, он испытает его тем больше, чем дальше будет держаться от тебя, – ну, догадываешься почему?
И тут он стал смешно раздувать ноздри, словно пытаясь рассмешить дитя. Только Миюки было не до смеха.
– Так догадываешься? – повторил он вопрос.
– Нет.
– Ладно, пошли, – сказал он, махнув рукой.
Повозке с быками, вязнущей с каждым оборотом колеса, Кусакабэ предпочел паланкин, который благодаря его носильщикам буквально парил, точно бабочка, над изрытой выбоинами дорогой.
Ночью изрядно подморозило. Подернутая льдом гладь заводи казалась черной; верхушки вешек, между которыми по указанию Миюки натянули сеть, ограничивающую новое пристанище для карпов, присыпало снегом.
Но Кусакабэ успокоил ее: он заранее все предусмотрел и хорошо запомнил расположение вешек, к тому же лед уже достаточно окреп и мог выдержать хрупкую Миюки, так что она могла без всякой опаски добраться до границы первых вешек.
У заводи, вдоль береговой кромки, стояли в ряд монахи – как будто на страже. Самые старые из них, с восковой кожей, словно натянутой на исхудалые лица, дрожали под своими монашескими тогами, которые нисколько не защищали от холода. Но держались они стойко. Те, что помоложе, а среди них, казалось, были совсем еще дети, переминались с ноги на ногу. Было видно, как они водили во рту опухшими, неповоротливыми языками, слизывая с десен прилипшие частички риса, а потом пережевывали эту кашицу, точно жвачные животные, наслаждаясь ее пресным вкусом.
– Плачешь? – спросил Кусакабэ, заметив, как на глазах у Миюки вдруг выступили слезы. – Что же ты плачешь? У тебя нет ни малейшего повода печалиться, ведь путешествие твое закончилось, да и с делом ты справилась благополучно.
– Это от холода, – пробормотала она.
Но это была не совсем правда. Она пребывала в растерянности, оттого что близился срок, когда ей предстояло расстаться со своими черными карпами, из которых только два были выловлены в водах Кусагавы. Впрочем, для Миюки они были воспоминанием не столько о родной реке, сколько о рыбаке, который их из нее вырвал. За нервозным подрагиванием рыбьих тел, с которых, казалось, того и гляди слезет чешуя, за возбужденными ударами рыбьих хвостов – возможно, карпы каким-то образом почуяли, что заводь совсем близко, что их вот-вот туда выпустят и что они наконец снова окажутся на воле, – молодая вдова угадывала восторг Кацуро – радость и безудержное веселье, которое охватывало его всякий раз, когда ему везло и он вылавливал необыкновенную рыбину. Тогда Кацуро становился восхитительнейшим любовником, будто блеск улова отражался и на его члене – он становился толще и тверже, а ласки его – нежнее и неуемнее: скользкими пальцами он легко нащупывал самые чувствительные места на теле Миюки и гладил их с такой любовью, как будто оглаживал только что выловленного из воды карпа; а потом он прижимал ее к себе крепко-крепко, чтобы ее гибкое тело не выскользнуло из его объятий, и при том не причинял ей ни малейшего неудобства, так что в этих объятиях она чувствовала себя защищенной, а не плененной…
По дороге у Миюки возникло чувство, будто Кацуро бредет где-то рядом: в конце концов, то были его карпы, и это они давили с обоих концов жерди ей на загривок и плечи, оставляя на них синяки, – немудрено, что он решил проводить их и мысленно приглядеть за ними, равно как и за Миюки.
А когда карпы, извиваясь, устремятся в глубь заводи, вместе с ними исчезнет и призрак Кацуро. Своим по-ребячьи звонким смехом рыбак даст понять Миюки, что ему уже никогда не суждено состариться, а потом он вернется в мир мертвых, в вечность, оставив Миюки выть от одиночества.
Паланкин остановился.
Управитель Службы садов и заводей тоже прибыл в означенное место, чтобы посмотреть, как будут выпускать карпов.
Впрочем, Нагусу привлекала не столько сама церемония, сколько желание получить удовольствие – полюбоваться, как Кусакабэ, выделяясь в парадном облачении на белом снегу, будет сновать между монахами и распоряжаться сообразно с процедурными правилами, поскольку, хотя император и не должен был почтить церемонию своим высочайшим присутствием, ее следовало провести надлежащим образом, как если бы торжество возглавлял Его величество.
Еще до прибытия паланкина бонзы проделали широкую полынью во льду, покрывавшем заводь. После чего самые молодые монахи, вооружившись палками, принялись колотить ими по воде, чтобы ее снова не сковало льдом.
Миюки направилась к ледяной кромке, ступая в такт сутры о Чистой Земле, которую медленно затянули бонзы: так оно было вернее, потому что уж очень она боялась споткнуться о какое-нибудь препятствие, присыпанное снегом, упасть и опрокинуть верши.
– …В том царстве Высшего Блаженства, в Чистой Земле Будды, есть семь чудесных, драгоценных озер, и наполняют их воды восьми свойств. Что же за свойства у этих вод? Они прозрачны, светлы, холодны, точно лед, сладостны и прекрасны, легки, чисты и безмятежны…
Добравшись до дальнего берега заводи, Миюки увидела свое отражение в темной воде, которую монахи расчистили палками ото льда, – и премного удивилась, не разглядев рядом с собой силуэта Кацуро. Она улыбнулась, представив себе его, всклокоченного, перепачканного и вонючего: ведь он и сам говорил, что по дороге сюда цеплял больше грязи, скверны и ушибов, нежели на обратном пути из Хэйан-кё.
– Нет! – вдруг вскричала она.
К ней подковылял престарелый бонза – он увидел, что жердь накренилась, и ловко снял с нее верши с черными карпами.
– Нет! – повторила она. – Позвольте мне еще чуть-чуть побыть с ними.
Но монах, не вняв ее просьбе, вместе со своей добычей заковылял обратно, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, – по его сморщенному лицу можно было судить, какую боль доставляли ему малейшие телодвижения.
Тут Миюки услышала всплески – как будто в воду бросали что-то тяжелое.
– Кацуро! – снова крикнула она.
Молодая женщина вся дрожала. Тогда к ней направился Нагуса Ватанабэ. Сжав пальцы, он схватил ее за руку, точно цепкими когтями. Вот только она не поняла зачем – то ли чтобы успокоить, то ли чтобы принудить к чему-то. Между тем, не ослабляя хватки, он оттащил ее от берега. Миюки резко повернула голову, стараясь заглянуть себе через плечо, чтобы в последний раз увидеть, как карпы Кацуро плывут навстречу свободе.
На берегу заводи монахи продолжали монотонно читать:
– …и дно тех драгоценных озер усеяно золотым песком. Со всех четырех сторон в озера спускаются лестницы. Эти богато украшенные лестницы несравненно прекрасны в блеске своем. Вокруг них всюду растут деревья с чудесными драгоценностями, а между ними пролегают дороги, источающие приятное благоухание.
Нагуса стоял так близко к Миюки, что чувствовал тепло ее тела и биение сердца.
Он спросил, отчего она так встревожена: ведь все прошло как нельзя лучше, невзирая на северный ветер, на котором монахи могли окоченеть и застудить себе голосовые связки; хотя во весь голос мантры, конечно, читаются медленнее в сравнении с тем, когда их нашептывают сквозь зубы, да еще дробно прищелкивающие от холода.
Вместо ответа Миюки опустила глаза, сложила руки вместе, чувствуя, что на морозном воздухе, как ни странно, ее пальцы словно обдало кипятком, и поклонилась.
– Когда возвращаешься в Симаэ?
И тут, прежде чем Миюки успела вымолвить хоть слово, с ее губ сорвалась капелька слюны. В то же мгновение из-за тучи выглянуло солнце, и в его лучах эта капелька, застывшая на миг между губами Миюки и лицом Нагусы, сверкнула, точно крохотное солнышко.
Нагуса питал тайную страсть к женской слюне, этой жидкости опалового цвета, такой сладкой, неведомой и абсолютно ничего не значившей для большинства людей.
Неустанными просьбами он в конце концов уговорил свою супругу Сахоко нанести капельку слюны на поверхность китайского зеркала из полированной бронзы периода Сражающихся царств[92], которое он ей когда-то подарил. Сахоко дождалась ночи лунного затмения, чтобы оказать ему сию милость, – и он с восхищением наблюдал, как в отливавших радужным блеском пузыриках слюны рождалась звезда, которую он назвал «даром Сахоко». Потом эта игристая капелька испарилась, оставив на зеркале сухое блеклое пятнышко.
Нагуса пожалел, что не подцепил частичку этой слегка вязковатой жидкости на кончик – подушечку указательного пальца и не увлажнил ею свои губы.
Управитель Службы садов и заводей очень остро чувствовал запах слюны, высыхающей на коже. От нее пахло медом, уксусом и бледно-розовыми пестиками некоторых цветов. Но запах этот был настолько летучим и тонким, что мгновенно растворялся в дымных завитках благовоний, курившихся денно и нощно, летом и зимой в комнатах и коридорах Императорского дворца, или же заглушался вонью, стоявшей во многих частях города, особенно вблизи рынков.
В этой склонности Нагусы не было ничего эротического. Столь странное, сколь и приятное обонятельное ощущение, с которым он охотно смирился, хотя другим оно могло показаться отталкивающим, не вызывало у него никакого сексуального влечения, однако, когда след стирался и его летучий аромат оставался лишь воспоминанием, он понимал, что был по-настоящему счастлив, пусть и на краткое мгновение.
Выказав однажды свое великодушие мужу – «великодушие» было словом Нагусы, тогда как его жена предпочитала называть это «снисхождением», – Сахоко наотрез отказалась впредь потакать его «прихоти» – еще одно ее словечко. И тогда он обратил свое внимание на юных придворных дам. Однако получить от них даже самую ничтожную капельку вожделенной жидкости, приводившей его в несказанный восторг, было совсем непросто. Нагуса тщетно придумывал различные предлоги, чтобы заполучить от них немного слюны, самой что ни на есть обычной жидкости, которую те же горничные императрицы то и дело сглатывали, сами того не замечая (он даже подсчитал, что они проделывали это около полутора тысяч раз на дню), но чаще всего вызывал в свой адрес лишь недоумение, а порой – решительный отказ.
И все же иногда ему удавалось получить желаемое: такое случалось от силы раза два или три в год, обычно на церемонии Успокоения душ или же во время праздника Вкушения первых плодов, поскольку эти торжества сопровождались выступлениями танцовщиц. Те из них, к кому Нагуса осмеливался обратиться со своей просьбой, выслушивали его, чуть склонив голову набок, хотя в их реакции не было ни презрения, ни отвращения, – они просто не могли взять в толк, что он собирался делать с тем, что они, возможно, согласились бы ему дать, если бы решили уступить его просьбе; вслед за тем они подносили руку ко рту, пряча за ней ухмылку, а потом их рука безвольно опускалась, глаза исполнялись сочувствия, и они шептали:
– Я… согласна, сенсей. Ведь в этом нет ничего дурного. Скажите только, как, по-вашему, это лучше сделать.
Нагуса давно обнаружил, что на запястье – в теплой глубине шелковых рукавов – даже самый слабый запах становился более насыщенным.
Тогда он закатывал рукав и обнажал левое запястье – оно было связано с ян[93], а стало быть, олицетворяло тепло, свет, силу и мужское начало, – направляя его навстречу приоткрывающимся женским устам.
Едва услышав легкое побулькивание в склонившемся к нему рту, выделявшему вожделенную каплю слюны, едва ощутив ее тепло на своей коже, он отдергивал запястье, пряча его обратно в рукав. Потом низко-низко кланялся дарительнице, хотя она была ниже его рангом, и спешно ретировался, унося с собой свое сокровище.
Найдя тихий коридор, Нагуса забивался в угол, снова высвобождал левое запястье из рукава кимоно и тут же припадал ноздрями к влажному пятнышку, которое уже испарялось.
Невзирая на долгую практику, Нагуса не мог предвосхитить свойства дара, коим оделяли его танцовщицы. И все же он успел заметить, что между танцами девушки вкушали очень спелую хурму, утратившую вяжущие свойства, ослизлую, полупрозрачную и сладкую-пресладкую, вследствие чего их слюна сохла медленнее. Притом что аромат плода заглушал собственно запах дара. Так вот, в этом праздничном вихре благоуханий управитель Службы садов и заводей выискивал чистый запах дуновения – тот, что сопровождает слово и дыхание и превращает незнакомку – ведь чаще всего он не знал, да и вряд ли когда бы узнал имя дарительницы – в нечто незабываемое.
Иные воспоминания переносили его в давние времена, когда он был совсем еще юн, но они так глубоко укоренились в нем, что он мог и сейчас описать по памяти первых своих дарительниц со всеми бороздками и трещинками, которые образовывались у них на губах в зимнюю стужу.
Сверкающая капелька слюны Миюки потускнела. Нагуса Ватанабэ спешно коснулся указательным пальцем ее верхней губы, подцепил заветную капельку и поднес к своим ноздрям. Зажмурился и глубоко вдохнул незнакомый смутный запах, вызвавший у него смешанное чувство: ему хотелось и отринуть его, и раствориться в нем.
– Я уполномочен расплатиться с тобой – ты знала это?
– Нет, сенсей, не знала.
– Таким образом, у нас будет возможность свидеться еще раз – напоследок. Придешь ночью – я буду не так занят. И тогда, может, откроешь мне свою тайну?
– Какую еще тайну, Нагуса-сенсей? Я простая женщина, у меня нет никаких тайн.
Управитель Службы садов и заводей огляделся кругом, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает.
Кусакабэ держался поодаль, его долговязая фигура мерно покачивалась над заводью – то склонялась, то выпрямлялась, то опять склонялась, подобно тростинке на ветру: она будто следовала за движениями карпов. А бонзы все читали и читали – распевно и невозмутимо.
– Ну конечно, есть, – прошептал Нагуса, – ею так и веет от тебя.
Он заметил, что его верхняя губа все еще вздернута к носу, а значит, она обнажила его верхние зубы, покрытые черным лаком, который уже, наверное, потрескался, потому как он не успел его подновить.
Снег валил и на следующее утро. Местами намело сугробы высотой под бычий загривок. По городу было ни пройти ни проехать. Но это не помешало управителю Службы садов и заводей призвать к себе помощника, чтобы на пару с ним подобрать смесь благовоний и составить аромат, соответствующий образу девы, которая выходит из утопающего в тумане сада, переходит через горбатый мост и попадает в другой сад, точно так же утопающий в тумане.
Поскольку тема состязаний была оглашена накануне вечером, все почитатели такимоно-авасэ, титулованные мастера подобных ристалищ, равно как и новички, были одержимы лишь одним: собрать, опробовать и скомбинировать душистые вещества так, чтобы с их помощью наиболее ярко воспроизвести историю, придуманную императором Нидзё, сознавая при этом, что самая большая трудность, практически неодолимая, вернее, граничащая с иллюзорностью, заключается в том, чтобы создать аромат, передающий образ движущейся фигуры, длинных волос, лика, чуть напряженного от ходьбы, и учащенного дыхания девы, оказавшейся меж двух туманов.
Поэтому участники состязаний, разом побросав свои дела, кинулись шарить по полкам в лавке на Второй линии. Самые предприимчивые уже набрали нужные ингредиенты и приступили к первым опытам. Им оставалось только добавить в полученные смеси меда, сливовой мякоти и чуточку воды для усиления аромата. Вслед за тем еще до наступления ночи слуги, несмотря на пургу, бросились к перегораживающей Ёдогаву дамбе из черной глины, неся под мышками павлониевые коробки со смесями, приготовленными их хозяевами: считалось, что вблизи реки благовония лучше сохраняются, к тому же речные берега были сплошь изрыты звериными норами, что избавляло от необходимости рыть мерзлую землю.
А Нагуса с Кусакабэ меж тем не очень-то преуспели. Что верно, то верно, их задержала вдовушка со своими противными рыбами. Сколько времени ушло впустую на каких-то карпов!
– Хватит нянчиться с этой бабой, сенсей. Расплатимся с ней честь по чести – хотя плата кажется мне чересчур высокой за восемь жалких рыбешек, которых для нас мог выловить любой рыбак на Ёдогаве, – и пусть убирается восвояси. Впрочем, если вам угодно покарать ее за то, что она припозднилась со своими карпами, которые, сказать по правде, не представляют собой ничего особенного, за исключением, может, двух-трех с черной чешуей, единственно достойных тех, что прежде поставлял рыбак из Симаэ, – так вот, для этого будет довольно отправить ее домой, не заплатив ей и медяка, пусть это послужит ей уроком: прежде всего она переживет величайшее унижение, будет всю дорогу дрожать при мысли о наказании, которое определят ей односельчане за то, что она явилась с пустыми руками, а они ее не пощадят: с позволения сказать, это мужичье не больно-то жалеет друг дружку – их жестокосердие не знает меры. Помните, как-то раз одна придворная дама из Службы нарядов, шившая что-то для императрицы, уколола себе палец, из которого пошла кровь, так что от запястья к локтю протянулась красная змейка, – так вот, это напоминает жуткую историю про…
Но Нагуса уже не слушал его: он вспомнил лицо Амакусы Миюки, ее приоткрытый рот, обнаживший зубы в их простонародной вульгарной белизне, и капельку сверкающей слюны, сорвавшуюся с ее верхней губы.
И его качнуло – но не как старика, которого подвели ноги, а как юношу, который вкусил крепчайшего, восхитительного, пьянящего зелья.
– Ацухито! – воскликнул он вдруг. – Вверяю твоим заботам туманы с мостом-полумесяцем посередине и с тем, через что он переступает. Или что преступает. У тебя же есть все, что нужно, не так ли? Используй без оглядки все ароматизаторы, что мы набрали в лавке на Второй линии, скатай из них шарики побольше, сложи их в шелковый мешочек и завяжи его шнуром, украшенным сливовой веткой… а если тебе покажется, что в благовоние, которое будет воскурено перед императором, надо добавить золота, натолки, напили, накроши его столько, сколько тебе заблагорассудится, – возьмешь все в моей сокровищнице.
– Но ведь золото не горит, сенсей…
– Знаю, Ацухито, знаю, я хоть и стар, но из ума еще не выжил. Да, золото не горит, зато оно плавится на сильном огне, льется, струится, растекается кружевами и устьями, расползается лесами – а значит, кто сказал, что оно не пахнет? Да и что известно нам о запахах? Мы говорим – это пахнет хорошо, а это смердит, только и всего. По сути же, о благоухании и смраде нам известно не больше, чем о добре и зле. Мы живем, мечась от незнания к незнанию. Жабы, вот кто мы на самом деле, Ацухито. А теперь слушай: после того как скатаешь ароматические шарики, олицетворяющие мост-полумесяц и оба тумана, – сделай так, и это главное, чтобы оба тумана различались по запаху, потому как в голосе Его величества, когда он их описывал, угадывались разные модуляции, – ты пойдешь и найдешь ту рыбачку, и скажешь ей, что я жду ее. Ночью стужа будет крепчать, снег превратится в лед, и ты, Ацухито, возьмешь рыбачку ту за руку, чтобы она не поскользнулась, и приведешь ее ко мне в любое время – у меня будут гореть четыре светильника.
* * *
В комнате с задернутыми шторами, похожей на маленький лабиринт благодаря ширмам, расставленным вдоль и поперек, на циновке за пологом в черно-синий ромбик дремал Нагуса. Снегопад прекратился – небо прояснилось. В бледном предутреннем свете на защитную оконную перегородку легла тень дерева. На низеньком столике стыло саке. Юная служанка, которая принесла его и подала, тоже спала, только на голом полу.
Кусакабэ смутился: ему было неприятно нарушать уединение своего господина. С годами Нагуса, некогда не в меру застенчивый, становился все менее стыдливым. Но не из-за склонности к публичному обнажению, а скорее из-за небрежности по отношению к себе. Он мало-помалу отчуждался от мира живых людей, хотя по-прежнему жил в этом мире и брал от жизни некоторые удовольствия, о чем свидетельствовало присутствие рядом с ним спящей служанки. В этом смысле он следовал примеру так называемых отставных императоров, которые, не успев взойти на престол, отрекались от него в пользу своих сыновей, а сами уединялись в монастыре, откуда, находясь под защитой от всяких бунтарей, заговорщиков и честолюбцев, могли безнаказанно влиять на ход событий и таким образом оставить заметный след в истории.
Кусакабэ растолкал сонную служанку:
– Давай-ка вставай! Да поживей разожги жаровни, а то в доме холод собачий. Если Нагуса-сенсей захворает, ты будешь в ответе.
Перепуганная служанка мигом вскочила на ноги. Не переставая раскланиваться, она торопливо запахнула полы своего кимоно и, пятясь, ретировалась.
– Что за шум? Неужто наша рыбачка уже здесь? – вопросил Нагуса, приподнимаясь на локте.
Кусакабэ ткнул Миюки в плечо, и она подошла к циновке. Увидев, что она стоит рядом с ним, управитель Службы садов и заводей как будто потерял к ней всякий интерес и, стараясь изо всех сил, стал подниматься, что уже давалось ему с трудом и болью.
– Ну так что, Ацухито, – полюбопытствовал он, – ты уже начал готовить аромат туманов?
– Вот, сенсей, – подтвердил помощник, доставая два шелковых мешочка. – Он пока еще сыроват, но к открытию состязаний непременно высохнет. И будет источать два аромата, один за другим. Первый, теплый, фруктовый и сладковатый – на сухой основе, состоящей практически из пыли, – будет олицетворять легкую дымку, из которой выйдет дева, хотя дымка эта будет напоминать не туман, а скорее испарения земли, согретой солнцем и поросшей крупными цветами, – они представляются мне красными…
– Стало быть, из Китая, ты хочешь сказать? – состроив гримасу, прервал его Нагуса; с недавних пор он, как и большинство жителей Хэйан-кё, разуверился в том, что все китайское по качеству было выше того, что производилось в императорской столице.
– Берите дальше, сенсей.
– Ну-ну, что же может быть дальше Китая?
– Не знаю, как называются те далекие земли, – может, им вообще нет счета, – но за морем определенно что-то есть.
– И то верно, так многие говорят, да только никто из них там никогда не бывал. Значит, полагаешь, наша воображаемая дева оттуда?
Кусакабэ дал понять жестом, что не знает ответа, – сие ведомо только императору: ибо именно он, Нидзё Тэнно, сотворил образ юной девы, возникшей меж двух туманов.
Нагуса освободил руку, на которую опирался, потому как она начала затекать.
– Ты же говорил о двух ароматах?
– Второй будет влажный и свежий, будто насыщенный дождем, а от первого пусть веет солнечным теплом. Во второй я добавил растертые в порошок смо́лы, в основном гальбан, самые пахучие листья плюща и мелкую лесную поросль, омытую дождем.
– А что с мостом?
Кусакабэ выпятил грудь колесом: он всю ночь напролет колдовал над ароматной аллегорией моста, возникшего в воображении императора.
– Мост деревянный, без единого гвоздя, только канаты, что придает ему упругости, – он наверняка то прогибается, то выгибается, как трамплин, когда бежишь по нему со всех ног. Я воспроизвел его с помощью запахов смолистой сосны, жженого дерева, пеньки, а еще конского навоза, потому как, полагаю, по нему прошла не одна могучая конница под знаменами, развевающимися на ветру.
Нагуса одобрил образы помощника – император признает их как свои собственные.
Сам же он, как и было условлено, сосредоточился на деве. Она должна быть юной, бодрой и даже порывистой – своего рода красавицей нищенкой в убогом рубище, замарашкой, прелестной настолько, чтобы пленить Нидзё, – императоры они или простолюдины, пятнадцатилетние мальчишки редко воротят нос от смазливых мордашек, – но непременно перепачканной самой мерзостной грязью.
Никакое благовоние, думал он сначала, никогда не сможет передать подобный пахучий образ, такой непостоянный и такой живой. Хотя серовато-голубые дымные струи, восходящие спиралью из курильниц, окутывают жизнь, облагораживают ее, делая пригодной для вдыхания в прямом и переносном смысле, они, однако же, не олицетворяют саму жизнь.
И тогда он вспомнил насыщенный сладковатый аромат, с преобладающим оттенком запаха белой глины и меда, который он успел уловить, когда у Миюки на губе выступила капелька слюны.
– Онна, – проговорил он, обращаясь к молодой женщине, – в договоре, заключенном между вашей деревней и Службой садов и заводей, оговаривается вознаграждение, причитающееся вашей общине в возмещение расходов на твое путешествие туда и обратно, равно как на отлов и поставку двух десятков карпов, предназначенных для украшения священных заводей императорского города…
– …вознаграждение, – тут же поспешил уточнить Кусакабэ, – исчисляемое сотней рулонов шелковой тафты. Но с учетом того, что ты принесла всего лишь восемь рыбин, причем шесть из них, по нашему мнению, не соответствуют нашим запросам по качеству, к которому приучили нас твои же односельчане…
– Не односельчане, – прервала его Миюки, – а мой муж. Это он, Кацуро, и только он один, ловил карпов, отбирал среди них самых лучших и поставлял их в ваши храмы.
– Как бы там ни было, договор ты отчасти исполнила. А посему мой господин, Его превосходительство Нагуса Ватанабэ, счел, что будет вполне справедливо, если Служба садов и заводей выдаст тебе вознаграждение соответственно с тем, что ты нам поставила. Сиречь переводной вексель в счет двух десятков рулонов шелковой тафты, а не сотни, как было оговорено. Двадцать рулонов – не самая плохая плата за оказанные услуги.
Кусакабэ смолк. Но глаз с Миюки не сводил, готовый одернуть ее, вздумай она повести себя неподобающе.
Нагуса тоже наблюдал за Миюки, но по другой причине: он знал – вдова не станет возмущаться, а просто ударится в слезы; она еще совсем девчонка, хотя и дожила до того возраста, когда ее смерть никого не потрясет, потому что она устала, обессилела и к тому же оказалась так далеко от близких и родной земли.
Конечно, за свою долгую жизнь Нагуса, вероятно, в последний раз увидит, как будет плакать женщина, – неужели из-за него? Однако он смотрел на Амакусу Миюки с таким упорством вовсе не потому, что хотел насытиться ее смятением: на самом деле в комнате было так холодно, что он боялся, как бы ее слезы, если она и впрямь расплачется, не замерзли у нее на щеках.
Если верить Мутобэ Такэёси, младшему управителю Службы обрядов, это поистине незабываемое зрелище. Он вспомнил, что видел такое лишь однажды: как-то раз некая женщина по имени Мурока шла вдоль одного из каналов Ёдогавы, прижимая к груди закутанную в тряпицу обезьянку, как будто это было ее родное дитя; дело было зимним вечером, камни, обрамлявшие канал, подернулись льдом, до того чистым и прозрачным, что его не было видно, – сквозь него проглядывали только камни, которые он покрывал, поэтому на ледяную корку никто не обращал внимание; на ней-то и поскользнулась Мурока – она выпустила из рук обезьянку, та упала в реку, и река унесла ее, пощадив только тряпицу, превратившуюся из защитного покрова в саван; после тщетных попыток выловить зверушку из реки Мурока впала в безутешное отчаяние, и тогда, по заверениям младшего управителя Службы обрядов, он увидел, что слезы у той несчастной обращались в хрусталики по мере того, как стекали по ее щекам.
Впрочем, Нагуса не верил, что такое возможно: ведь когда слезы выступают на глазах, они все еще теплые и потому вряд ли успевают замерзнуть до того, как скатятся по щекам.
Очень скоро он убедился – Миюки не станет плакать, а стало быть, ему не суждено своими глазами наблюдать зрелище, так восхитившее младшего управителя Службы обрядов.
Тогда Нагуса подошел к молодой женщине (воспользовавшись возможностью, он вобрал в себя все запахи, исходившие от ее хрупкого тельца, – от этих пахучих испарений будет зависеть успех задуманного им дела) и ласково сказал:
– Если согласишься помочь мне в одном деле, весьма важном для меня, я не стану изымать у тебя восемьдесят рулонов шелка, что повергает тебя в такую печаль. Больше того, ты получишь не только сотню рулонов, как было оговорено, в случае если Служба садов и заводей будет всецело довольна тобой, – я дам тебе сверх того еще сотню.
– Что?! – поперхнулся Кусакабэ. – Вы намерены отдать ей две сотни рулонов?
– Что же я должна для этого сделать? – спросила Миюки.
– Быть.
– Быть?
– Да, быть там, куда доступ тебе заказан, но я препровожу тебя туда и… о, ты будешь в восторге, уж поверь!
Она не могла взять в толк, что́ Нагуса подразумевал под словом «быть», и ее охватило недоверие – подозрительность женщины, крестьянки, нищенки. Разве быть – не самая естественная вещь на свете, присущая всем живым существам и даже, в некотором смысле, безжизненным веществам? Тогда почему это должно стоить двух сотен рулонов шелковой тафты?
– Итак, – продолжал Нагуса, ты будешь, будешь вполне, будешь непременно – словом, просто будешь, понятно?
– Нет, не очень, Ваше превосходительство.
Старик что-то протяжно проворчал, качая головой. Миюки поймала себя на мысли, что он уж больно походит на черного медведя, вылезшего из берлоги после зимней спячки, – такие нет-нет да и встречаются в горах близ Симаэ.
– По крайней мере, постарайся не топать своими гэта – это неприлично. Я бы посоветовал тебе идти босиком, но снег валит валом, и, боюсь, земля совсем промерзла. Лучше обуй соломенные сандалии. Так ты будешь ступать тихонько, почти вкрадчиво, к тому же под длинными полами твоего дзюни-хитоэ их будет совсем не видно.
– Моего… простите, Ваше превосходительство, моего чего?
– Дзюни-хитоэ. Парадного костюма, в который облачаются дамы, допущенные ко Двору: дюжина шелковых туник, одна поверх другой, – их подбирают по цвету и сочетанию сообразно с общественным положением и вкусом благородных дам. Все это Кусакабэ-сан растолкует тебе по дороге в то место, где я буду тебя ждать. Это будет не завтра, а послезавтра. А тем временем ты хорошенько поразмысли о грядущем великом дне. И не обращай внимание на дрожь в теле, пылающие огнем щеки и горящие глаза, главное – будь собой.
– А отчего у меня должны гореть глаза, Ваше превосходительство?
– От дымных струй, которые будут обволакивать тебя, и ты будешь наполнять, насыщать и охмелять ими легкие. Но имей в виду, Амакуса Миюки, – только легкие! Не дай благовониям завладеть своим телом. Да-да, и не гляди на меня удивленными глазами. Ибо таким образом, да будет тебе известно, поступают придворные дамы, желая оставить после себя приятное благоухание: они возжигают курильницы, покрывают их бамбуковыми корзинами и укладывают сверху свои одежды, дабы те пропитались изысканными ароматами. И это еще не все: эти самые дамы спят, разложив свои длинные волосы на клетях из белого фарфора, внутри которых потрескивают горящие благовония. Не стоит забывать и про самых ловких и дерзких плутовок – они втирают благовония себе в бедра, лобок и половые органы, впитывают их в себя через открытую вульву, стоя над курильницей с широко расставленными ногами. Но ты, нет, о нет, не поддавайся искушению сладостными дымными струями, не пытайся избавиться от запаха собственного тела, не прячь и ничем не скрывай его, даже если испугаешься – и, возможно, не без причины, хотя, впрочем, наверняка не без причины, – что кому-то он будет резать нюх…
Миюки пребывала в замешательстве: почему управителю Службы садов и заводей так не хотелось, чтобы от нее хорошо пахло? Это казалость тем более странным, что сам Нагуса не раз воротил от нее нос, выговаривая ей, что от нее дурно пахнет. И крыть тут было нечем. Ведь она хваталась руками за отрубленные головы животных, месила ногами зловонную жижу из крови и гноя, вываливалась в тине… она знала, что воняет, что ее кожа насквозь пропитана смрадом и что почти все складки и впадинки у нее на теле забиты грязью. Она вздохнула и, потупив взор, спросила прямо:
– От меня воняет, Ваше превосходительство, так ведь?
– Да, – согласился он. – И тут уж ничего не попишешь, бедняжка ты моя.
Он впервые обратил на нее взгляд, полный нежности.
– Но запах, пленительный или отвратительный, что исходит от живого существа, ни в коей мере не отражает его истинную суть, – продолжал Нагуса, – он лишь свидетельствует о том, каким это существо нам кажется.
– И в данном случае оно кажется неприятным, – вставил Кусакабэ.
– Ты это к чему? Приглядись к этой женщине.
Кусакабэ сощурился, словно присматриваясь к букашке, ползавшей по листу лотоса то снаружи, то изнутри.
– Пригляделся, сенсей. Только скажите, что, по-вашему, я должен был разглядеть?
– Разве не видишь, она же красавица?
Кусакабэ стал переминаться с ноги на ногу: ступив на правую, он хотел было поймать своего господина на слове, а когда оперся на левую, решил, что сенсей смеется над ним.
– Красавица? Это Амакуса Миюки красавица? – дважды переспросил он.
Услышав столь неловкий вопрос, да еще повторенный два раза, молодая женщина, о которой, собственно, и шла речь, прыснула со смеху, даже забыв прикрыть ладонью рот, – и поразила управителя с помощником отвратительным видом своих белых до неприличия зубов.
– Вне всякого сомнения, – подтвердил старик. – А если Амакуса Миюки красива сама по себе, стало быть, столь же красивы, вернее пленительны, и ее запахи – точно у кожуры плода, этой тонкой кожицы, которую мы сдираем, потому как она кажется нам грязной, оттого что плод упал с дерева, его исхлестало дождями и обдало лунным светом, оттого что его перевозили в сыром трюме барки, а в затхлой тесноте корзин он весь пошел пятнами, оттого что его лапали, обнюхивали, подбрасывали на руке, сдавливали пальцами фруктоеды на рынках Востока и Запада. А знаешь ли ты, Ацухито, чем пахнет Амакуса Миюки? Подумай хорошенько! Тебе не составит труда понять, что истинный запах и хороший суть одно и то же. Ну как? Понял наконец, почему управитель Службы садов и заводей готов выдать ей – знаю, тебе это кажется несуразным, но я покамест еще управитель, верно? – хоть две сотни рулонов шелковой тафты, хоть три сотни, да хоть целую прорву, будь она у меня, старика, под рукой? Ответ, Ацухито, заключается в том, что Амакуса Миюки пахнет жизнью, и жизнь изливается из всех отверстий ее тела, а их у нее девять, если верить святому монаху Нагарджуне[94], прожившему, как известно, шестьсот лет и сосчитавшему все отверстия на теле женщины, притом что за шесть сотен лет он успел не только их сосчитать, но и проверить свои расчеты… так вот, она источает эту жизнь – изливает по капельке через все поры кожи. А стало быть, Ацухито, – и можешь думать, что хочешь, – Амакуса Миюки, прибывшая издалека, из никому не ведомой (по крайней мере, мне) деревни Симаэ, и есть та самая дева меж двух туманов, пригрезившаяся Его величеству.
И тут Кусакабэ взглянул на молодую женщину совсем другими глазами.
* * *
Несмотря на почтенные размеры – тридцать метров в длину и двадцать пять в ширину, Церемониальный зал, Сисинден, открывавшийся только для особо торжественных случаев, как, например, венчание на престол или погребальные обряды, так или иначе не смог бы вместить всех жителей императорского города.
А посему, даже рискуя вызвать недовольство толпы, император решил, что такимоно-авасэ будет проводиться в более скромных размеров парадном зале Павильона Чистоты и Свежести, примыкавшем к опочивальне Его величества и включавшем молельню, где он молился.
В выборе именно этого зала было два преимущества: император, еще не избавившийся от юношеской робости, чувствовал бы себя там как у себя в покоях, а небольшой объем помещения позволял ограничить распространение благоуханий, сосредоточив их в одном месте, тогда как в просторном Сисиндене они бы очень быстро развеялись.
Таким образом, первое такимоно-авасэ в царствование императора Нидзё должно было собрать ограниченное число зрителей, однако интерес к состязаниям благовоний, породившим не меньше страстей, чем турниры лучников или поэтов, оказался столь высок, что самые горячие их поклонники среди ста тридцати тысяч жителей Хэйан-кё собирались отрядить на поединки своих представителей, которым надлежало окурить их кимоно благовонными дымами, после чего встать у главных ворот Дворца и сообщать нанимателям о том, как разворачиваются состязания, а также размахивать рукавами кимоно перед носом у любителей держать пари, дабы они могли судить об уровне поединков и делать ставки на ту или иную благовонную смесь.
Состязания начались в середине часа Барана. А закончить поединки предполагалось, когда дневной свет померкнет настолько, что придется зажигать светильники, – их испарения могли смешаться с ароматами, исходившими от курильниц.
Соискатели – была среди них и принцесса Ёсико, которую, по слухам, должны были возвести в ранг и титул императрицы, – расселись на низеньких табуретах полукругом возле бронзовой курильницы в человеческий рост, украшенной рельефными сценами из легенды о Ватанабэ-но Цуне[95], поразившем демона у ворот Расёмон.
На помосте из кипарисовика, ориентированном на юг, возвышался трон – простое кресло, покрытое черным лаком, над которым нависал закрепленный в трех местах балдахин, тоже покрытый черным лаком и обрамленный алым фризом, инкрустированным зеркалами и драгоценными камнями.
На низких столиках, рядом с соперниками, стояли все еще запечатанные сундучки с благовониями (тот, что принадлежал императору, был покрыт золотым лаком и украшен тончайшим перламутровым узором, да и стоил он не одну тысячу рулонов шелка).
Врывавшиеся в оконные проемы снежные комья разбивались о ширмы, раздвижные двери и защитные перегородки, расписанные двумя художниками из Службы живописи и внутреннего убранства. Когда-то в этой службе состояло с десяток художников, но со временем их содержание значительно урезали в пользу Военного ведомства.
Следуя указаниям Нагусы, Кусакабэ поместил Миюки возле одного из окон. Но, несмотря на порывы холодного ветра, молодая женщина задыхалась в своем дзюни-хитоэ, весившем двадцать с лишним килограммов, который для нее лично подобрал управитель Службы садов и заводей с учетом цветовой гаммы под названием «Вспышка Красного Клена»: первый комплект, из белого шелка, служил нижним бельем, а поверх него было надето еще одиннадцать платьев, от наиболее темного до самого светлого, которые отражали почти все оттенки существующего в природе красного цвета – от багрянца осенних кленов до нежно-розового окраса цветов сливы, включая буроватый румянец некоторых листьев и фиолетовый отлив цветов леспедецы, излюбленного лакомства оленей.
Сначала Миюки как зачарованная стояла перед этой красочной, ласкающей взор кипой платьев, перед этими шелками, несказанно мягкими на ощупь; она едва смела к ним прикоснуться, боясь, что у нее слишком грубая кожа для этих тканей.
– Онна, – сказал Кусакабэ, – вообще-то, чтобы облачиться в дзюни-хитоэ, благородной даме нужны две помощницы. Но здесь есть только мы с тобой, а посему помогать тебе буду я.
И он подал ей первое кимоно – белую тунику.
– Ну же, давай скидывай свое старое рубище и наденем вот это.
Она прижала руки к груди и замешкалась.
– Но для чего, Кусакабэ-сан, для чего? Кто я такая и чем заслужила носить такой наряд?
– Кто ты такая, онна, совершенно неважно. И еще позволь заметить: чем меньше про тебя будет известно, тем лучше ты справишься с делом, которое поручил тебе Нагуса-сенсей…
Миюки хотела еще раз спросить, что же это за дело, но туника, которую она на себя надевала, прикрыла ей рот. Она пробормотала что-то невнятное: белый шелк заглушил ее бормотание.
Помощник Нагусы уже подавал ей следующее кимоно.
– …а в награду сможешь взять себе все, что будет на тебе нынче вечером, и унести с собой в Симаэ.
Зеркала в кёдзо не было – Миюки пришлось положиться на блеск во взоре Кусакабэ, чтобы получить хоть какое-то представление о том, в кого она превратилась в своем дзюни-хитоэ.
Прическа в виде ниспадающей от затылка до пят длинной циновки, уравновешенная шиньоном на надлобье, побеленное лицо, узкий разрез рта с почерненными (наконец-то!) зубами, губы, умасленные сафлором… а завершал превращение веер из кипарисовых пластин, украшенный видом бамбуковых зарослей и скал на берегу стремительного потока.
– Онна, – с поклоном сказал Кусакабэ, – ты окажешь честь, великую честь Нагусе-сенсею.
Миюки промолчала. Она думала о том, оценил бы Кацуро то, что с нею сделали. Сомнительно. Впрочем, чудно́е превращение, которое ей навязали, не вечно – такое больше никогда не повторится: скоро она покинет Хэйан-кё и забирать с собой в Симаэ дюжину туник своего дзюни-хитоэ не будет – с нее довольно хлопот и с рулонами шелка, обещанными Нагусой, не считая условленной награды в виде переводных векселей и медных пластин.
Наряд оказался до того тяжелым, что Кусакабэ пришлось поддерживать Миюки, пока они шли к коляске, которая дожидалась их возле пагоды Сайдзи, увязнув по ступицы в снегу.
Миюки не знала, куда собирался везти ее помощник Нагусы, равно как не ведала она и о том, что за дело намеревался поручить ей управитель Службы садов и заводей, когда они прибудут на место, но она решила выказать ему примерное покорство.
Ибо, будь Кацуро жив, он набрал бы на берегу Кусагавы достаточно гончарной глины, вылепил из нее роскошный цветок пиона и выставил его на лунный свет (он лучше поглощает влагу), чтобы лепестки высохли и затвердели, а потом уложил бы цветок в коробку на подстилку из папоротников и, придя в очередной раз с карпами в императорский город, преподнес бы его Нагусе в благодарность за заботу, которую Служба садов и заводей проявила к его жене.
Но Кацуро покинул этот мир и отправился в Чистую Землю Будды Амитабхи, он уже никогда не вернется и не будет лепить пионы из красной глины, так что Миюки предстояло самой придумать, как отблагодарить Нагусу-сенсея и его молодого помощника, – вот она и решила выказать им безупречное послушание.
Проходы, что вели через четырнадцать ворот к Императорскому дворцу, большей частью выгибались горбами, создавая непреодолимые препятствия для повозок. Но коляска Кусакабэ без затруднений проехала через ворота Небесной Воли, открытые только для упряжек важных и высокопоставленных особ.
Тем не менее сразу за воротами коляску остановили и распрягли: тягловому скоту доступ на внутренние дворцовые дорожки был заказан, потому как император мог случайно увидеть экскременты животных, что грозило обернуться для него несколькими запретными днями, – а накануне такимоно-авасэ Нидзё Тэнно надлежало заниматься другими, куда более насущными делами, нежели отсиживаться взаперти в своих покоях.
Как только быков увели, за оглобли схватились слуги – они впряглись в коляску и, поднатужившись, повлекли ее к Павильону Чистоты и Свежести.
Монастырская скромность внутреннего убранства здания разительно отличалась от развернутого внушительным строем парадного караула с нобори – полощущимися на ветру длинными узкими вертикальными стягами на флагштоках.
При виде этого исполненного величия воинства, под суровыми взглядами стражей, взиравших на нее сквозь прорези наличников своих шлемов, ослепленная блеском сосулек, едва успевавших облепить гирляндами их латы и тут же таявших, будто в доказательство того, что под этими грозного вида доспехами скрываются горячие тела, Миюки наконец поняла, почему Кусакабэ заставил ее облачиться в столь пышный наряд: он собирался препроводить ее в некое место, которое почтит своим присутствием император.
Она испугалась – глаза ее увлажнились слезами.
– Не плачь, онна, у меня нет платка – утирать тебе лицо нечем; смахивать слезы с твоих щек пальцами я тоже не могу – размажу краску, а посему ты должна предстать перед Его величеством во всем своем совершенстве.
Но Миюки была далека от совершенства – о нет, и она хорошо это знала, даже несмотря на похвалы, которыми осыпал ее Кацуро. Она не обманывалась: он женился на ней вовсе не потому, что оценил ее добродетели, а потому, что всегда мечтал о гибких и гладких вершах, где можно было бы держать карпов, не боясь, что они поранятся; он заприметил ее руки: у Миюки были очень ловкие пальцы – лучших, чтобы сплетать и связывать ивовые прутья, было не сыскать. Потом оказалось, что ее пальцы, такие тонкие, умелые и манящие, будто созданы для любовных ласк; больше всего на свете Кацуро нравилось, застав ее врасплох, подсматривать, как она ласкала себя, – он набрасывался на нее, точно медведь на мед, и принимался облизывать, обсасывать и покусывать ее пальцы, сочившиеся удовольствием и такие тонкие, что их можно было запросто сжать в один розовый пучочек, а потом делал вид, что собирается проглотить их разом – по самое запястье.
А еще она не считала себя совершенством потому, что вокруг нее витал дух, которого она сама не ощущала или же перестала ощущать, но именно он оттолкнул от нее управителя Службы садов и заводей, когда тот, приняв ее за юдзё, дарил ей свои объятия в лодке удовольствий на Ёдогаве; вот и совсем недавно он фыркал точно так же, хотя в этот раз и подобрал слова, чтобы описать этот дух, сравнив его с запахом не то пережаренного риса, не то забытого под дождем шелкового наряда, не то дохлой птицы.
И все же, хотя Миюки и не была воплощением совершенства (кроме того, что мы настойчиво это подчеркиваем, нужно прибавить еще одно: в Хэйан-кё она пришла с разбитыми в кровь ногами; от коромысла у нее скрючились руки и на плечах образовались рубцы, а на полопавшейся от мороза коже местами выступала кровь; да и губы у нее потрескались), Нагуса-сенсей и Кусакабэ-сан решили унизить ее, принудив предстать перед тем, кто, в отличие от нее, почитался всем народом и впрямь как истинное совершенство.
Кусакабэ слегка подтолкнул ее вперед, как только раздвинулись двери Павильона Чистоты и Свежести.
Небесный Зал, куда допускались только избранные, особы благородных кровей либо личные гости императора, был полон дам – согнувшись под тяжестью таких же многослойных, пышных и душных нарядов, как у Миюки, они сидели на корточках прямо на полу и походили на рой громадных пестрых бабочек.
Чуть поодаль от трона, на возвышении восседали музыканты – они играли что-то тягуче-медленное под ритм огромного, расписанного драконами барабана, в который ритмично, сменяя друг друга, били колотушками два барабанщика.
Слезы у Миюки уже текли ручьем. Она душила их, кусая рукав своего дзюни-хитоэ и запихивая его себе в рот вместо кляпа.
Влекомая силой инерции дюжины платьев, она шла вперед, пробираясь меж осевших на пол бабочек, как вдруг Кусакабэ схватил ее за шлейф верхнего платья и оттащил к перегородке, располагавшейся между жаровней и открытым окном, в которое время от времени влетали хлопья снега.
– Онна, – тихонько шепнул он, – побудь здесь и постарайся остаться незамеченной. Придет время, и я велю тебе смешаться с остальными.
Дабы засвидетельствовать прилюдно свое внимание к принцессе Ёсико, император просил ее первой воплотить в благовонии свою аллегорическую вариацию на тему девы на деревянном мосту – величайшая из милостей, поскольку благоуханный образ девы должен был возникнуть в чистом воздухе, не насыщенном другими ароматами.
В сундучке, приготовленном Ёсико, содержались маленькие баночки из тонкого, почти прозрачного фарфора. Они были наполнены алоэ, гвоздикой, валерианой, олибановым маслом с Аравийского полуострова, корицей и многоколосником – его легкий ментоловый аромат должен был подчеркивать девичье изящество принцессы.
К сожалению для принцессы, хотя ее смесь и благоухала, – впрочем, созданный ею аромат не отличался большой самобытностью, – трое судей-посредников объявили, что надо все же обладать богатым воображением, чтобы угадать в этом благовонии образы девы, туманов и моста-полумесяца.
Но поскольку Ёсико пользовалась особым благорасположением императора, она все же снискала успех, которого явно не заслуживала.
Вслед за тем настал черед императора представить свою композицию на суд собравшихся. Хотя Нидзё Тэнно сам придумал тему состязаний, он признался, что ему лишь отчасти удалось передать все оттенки этой истории.
Его величество был не вполне удовлетворен ароматами, олицетворявшими два тумана (один из них он создал с помощью дыма цветов сливы, напоминавшего, как было принято считать, туманы Потустороннего мира), но он очень рассчитывал на некий лесной аромат, который должен был ассоциироваться с мостом-полумесяцем и который ему удалось искусно «охладить» с помощью легких оттенков запаха водорослей, олицетворявших одновременно лунную прохладу и водную гладь под мостом.
Но вообразить себе силуэт бегущей по мосту юной девы, чьи гэта дробно постукивают по мостовому настилу, точно по огромному барабану, ему не удалось. А посему он отказался воспроизводить этот аромат в чистом виде – удовольствовался тем, что сокрыл его в благовонии, которое вызывало не только сонливость, но и своеобразное оцепенение, порождающее грезы: в состоянии полусна подобные видения усиливались благодаря чтению подходящей к случаю поэмы, что в конечном счете и должно было вызвать в воображении образ девы на мосту, – словом, окутанный завитками дыма, император принялся читать надтреснутым юношеским голосом:
Над Катасингавой По высокому мосту В платье цвета Алой зари И горной синевы Одна-одинешенька Прелестная юница бредет. Ей с суженым Или одной придется почивать? Хотелось бы мне у нее узнать[96].Как бы то ни было, на Миюки чары подействовали сразу. Едва вдохнув курящиеся дымы, замысловатые, необыкновенные как в прямом, так и в переносном смысле, и вместе с тем сладостные (иные завитки были до того густы, что ей казалось – она может попробовать их на зуб и покатать во рту), она тут же ощутила их бальзамический аромат, похожий на благоухания, витающие под сводами храмов; ее обдавало волнами жара всякий раз, когда она останавливала взгляд на юном императоре, в чьем облике, особенно в выражении лица, отражалось трогательное состояние, в котором смешивалось и мужское начало, и мальчишеское, – это смешение чем-то походило на парение цветов вишни, опавших с дерева и как будто круживших в солнечном свете, в то время как на самом деле они были готовы упасть на землю, где им предстояло пожелтеть, увянуть и быть затоптанными.
Но чем больше Миюки восхищалась почти совершенной красотой императора, тем болезненнее она переживала смерть Кацуро, хотя привлекательностью он совсем не отличался и в некотором смысле был даже безобразен. Поскольку он с неизменным постоянством трудился на реке, ему приходилось широко расставлять ноги, дабы устоять против течения, отчего они были у него кривые, как у всадника. От частого пребывания под палящим солнцем летом и в ледяной воде зимой кожа у него задубела, лицо иссеклось морщинами, поясницу и одно плечо ломило, – ходить Кацуро стал прихрамывая, чуть согнувшись вперед, колени поднимал уже не так высоко. Но глаза у него все так же блестели и тревожно шарили по сторонам, как у птицы, в отличие от какого-нибудь воителя или самурая, у которых взгляд был до странности неподвижен, притом настолько, что порой, рассказывал сам Кацуро, завидев, как кто-то из них едет верхом и дремлет в седле, нельзя было даже сразу разобрать, живой он или мертвый.
– Отчего у тебя такие встревоженные глаза? – допытывалась у него Миюки.
– Они тревожатся за тебя, известно. Всё боятся не узреть тебя по возвращении с реки. Или же узреть покалеченной, хворой, даже не знаю. Ведь за день с человеком, которого любишь, всякое может случиться.
Кацуро больше не глядел на нее живыми, рыщущими, как у птицы, глазами – теперь глаза у Кацуро были пусты.
После Его величества настал черед Воеводы Усмирителя Варваров, Сейтаи сёгуна, представить свою версию истории, придуманной императором.
Его туманы были оценены весьма скромно. В них, определенно, ощущалась некая острота, вызывавшая кашель у некоторых дам, но при этом они были довольно насыщенные; а его аллегория моста оказалась чересчур сладковато-приторной, совсем не подходящей для грубоватого образа деревянного моста из бревен, связанных пеньковыми веревками и скрепленных неотесанными штифтами. Что же касается девы туманов, ее образ должен был олицетворять мимолетность: ибо, если бы она перебегала через мост так, как это силился представить сёгун, – он вдруг зачем-то начал подергивать ноздрями и вращать глазами, чтобы изобразить, как устремляется следом за нею, – после нее не осталось бы ни малейшего ароматного шлейфа.
Как только дымные струи сёгуна развеяли с помощью вееров, некий Киннобу, токимори-но хакасэ[97], присел на корточки перед курильницей, намереваясь представить на суд собравшихся свое толкование императорской истории.
Однако, несмотря на то что составленные им благовония оказались одними из самых убедительных, их материальные свойства повергли всех по меньшей мере в недоумение: вместо того чтобы виться спиралями, сплетаясь в узоры, колечки и петельки, благовонный дым у него отчего-то струился вверх в неприглядном виде узкой сероватой змеи, раскачивающейся на хвосте, – чтобы вкусить сполна заключенные в нем ароматы, надо было дотянуться аж до самой змеиной морды.
После Киннобу выступили Таданобу, главный надзиратель за Северными провинциями, и начальник Закрытой канцелярии. Тот и другой предприняли достойные попытки, только и всего.
На самом деле главная трудность, с которой сталкивались все соискатели, заключалась в том, как воплотить благоуханный образ девы. Ближе других к этому подошел император, объединивший воскурение благовоний с чтением поэмы, однако же, прибегая к такому способу выражения, он нарушил правила такимоно-авасэ. Впрочем, поскольку речь шла об императоре, на это нарушение можно было бы закрыть глаза, хотя выражение на лицах судей, скорее строгое и неумолимое, не предвещало ничего подобного.
Но решение предстояло вынести позже. А пока судьи склонились перед управителем Службы садов и заводей, объявляя таким образом, что настал его черед представить свое толкование истории, коль скоро он готов.
Нагуса с крайней осторожностью вышел на исходную позицию, словно любое движение давалось ему с болью, – впрочем, на самом деле так оно и было. Собрав в кучу шелковые мешочки с разными ароматическими шариками, из которых ему предстояло составить различные комбинации, он развязал на них шнуры, помеченные тем или иным пахучим растением, соответствующим запаху содержимого каждого мешочка.
Затем с помошью палочек он положил в курильницу несколько угольков без запаха, которые, догорая в отдельной жаровне, уже становились пепельно-серыми.
Покуда Нагуса неспешно, выверяя каждый свой жест, готовился к выступлению, Кусакабэ подошел к Миюки, стоявшей возле жаровни.
– Онна, – шепнул ей он, – время пришло. Прошу тебя, внимательно следи за Нагусой-сенсеем. Не спуская с него глаз. И когда он сам взглянет на тебя, подойди к нему. Он ждет от тебя вот что: ты пойдешь ему навстречу – пойдешь не торопясь, медленно обходя всех этих приникших к полу дам, которые с невиданной жадностью будут вдыхать аромат благовоний, воскуриваемых Его превосходительством. Стесненные своими нарядами, скованные в дижениях от долгого пребывания в одном положении, они не поднимутся с места все разом, чтобы дать тебе проход, так что будь к этому готова. Только ты не тушуйся и не останавливайся – постарайся прошмыгнуть между ними и ни о чем не тревожься. В дзюни-хитоэ поди разбери, кто там да что там, но уж ты мне поверь: они либо стоят на коленях, либо сидят на корточках, а иные, похоже, полеживают и, наверно, уже спят, ведь жизнь при дворе совсем не сахар, хотя многие думают по-другому… но ты об этих клушах не беспокойся – перешагивай через них, перепархивай, и пусть дюжина твоих платьев, вздымаясь кверху, лишь едва прикасаются к ним, ласкают их, поглаживают и облизывают, точно шелковые кисти. Одна лишь оговорка: ты будешь помечать этих дам не красками, а ароматом – благоуханием девы меж двух туманов.
Закончив давать указания, Кусакабэ вдруг с тревогой воззрился на Миюки:
– Готова ли ты, онна, исполнить все, что я сказал?
– Ну да.
Она тоже глядела на него неотрывно. Не понимая его настойчивости. Чего же он боялся? Ведь пройтись по залу дело не хитрое, даже минуя всех этих дам, таких неповоротливых в своих чересчур громоздких нарядах.
Будучи никем и к тому же никого здесь не зная, Миюки проскользнет мимо собравшихся так, что ее не заметят, и ряды всех этих томных дам снова сомкнутся за нею, как воды за кормой рассекшей их лодки.
И Миюки отпрянула от перегородки, о которую опиралась.
Не успела она сделать и двух-трех шагов, как Кусакабэ заметил, что с правой стороны подолы ее шелкового дзюни-хитоэ, обращенные к жаровне, казались невесомыми и воздушными, тогда как с левой, откуда их обдувало холодным ветром через открытое окно, все двенадцать слоев ткани выглядели грузными и жесткими.
Стало быть, подумал он, исходящие от нее тонкие ароматы будут ощущаться более отчетливо с той стороны ее тела, где воздух, нагревшийся от жаровни и ставший более легким и летучим, будет свободнее гулять между шелковыми слоями пышного облачения.
Трон, на котором восседал император, располагался слева от Миюки, то есть там, откуда веяло холодом, – Кусакабэ решительно подтолкнул ее сзади, направляя в нужную сторону. Повинуясь его требовательному жесту, она двинулась вперед легкой скользящей поступью по направлению к синеватым дымным струям, поднимавшимся над курильницей с раскаленными угольками, на которые Нагуса бережно выкладывал крупинки благовоний, предварительно растерев их и смешав руками.
Стараясь не стучать своими гэта, Миюки продвигалась так осторожно, что благородные дамы замечали ее, лишь когда она уже возвышалась над ними в прямом смысле слова: чтобы их обойти, не отклоняясь в сторону, ей приходилось буквально накрывать каждую своими одеждами, проводя по ней всеми двенадцатью слоями шелка и как бы старательно огибая в замедленном скольжении каждый контур ее фигуры, каждую округлость и впадинку на ее теле и лице.
Ощутив небрежно-ласковое, благоуханное прикосновение туник ее дзюни-хитоэ, дамы-бабочки пускались в неистощимые обсуждения причудливых ароматов, которые только что вдыхали. Им и в голову не приходило, что те исходили от Миюки: глубоко проникнувшись историей, пригрезившейся Нидзё Тэнно, привыкшие ни в коем случае не подвергать сомнению фантазии императора, они подумали, будто благодаря благовониям, воскуренным управителем Службы садов и заводей, вдохнули ароматный след призрачной девы, перебегающей из тумана в туман.
Что же касается материальной действительности, показавшейся им унизительной при виде лица, случайно промелькнувшего меж платьев Миюки, то, по их разумению, ее чуждый образ, если его можно было назвать таковым, просто возник сам собой среди чрезмерного числа гостей, оказавшихся в весьма ограниченном пространстве Небесного Зала Павильона Чистоты и Свежести.
Словом, они попридержали колкости в адрес Миюки, потому как вполне могло статься, что эта незнакомка, только-только объявившаяся в Хэйан-кё и еще никому не успевшая попасться на глаза ни в Чайном Саду, ни в Зале Женских Танцев, ни в Службе нарядов или в Обители Печного Божества, была одной из тех скромных покладистых милашек, которых корейские и китайские посланники дарили императору Японии, когда тому наскучивали всякие бойцовые рыбки, бакланы-рыболовы или дрозды-пересмешники; а посему ни одной живой душе не пристало принижать достоинства дара, предназначенного для Нидзё Тэнно.
– Сколько же неожиданных ароматов тянется шлейфом за девой, про которую нам поведал Его величество! – проговорила одна из первых бабочек, коих едва коснулась Миюки. – Впрочем, призрак ее был столь мимолетен, что я едва-едва уловила, хотя я могу и ошибаться, благоухание леса, лесной тропинки и мхов, омытых проливным дождем.
– А еще сырого навоза – от него случается резь в глазах, – подхватила другая бабочка, почти вся в оранжевом.
– Но ведь резь в глазах случается скорее от сухого навоза, не так ли? – возразила престарелая бабочка, чей наряд состоял из многослойного шелка всех оттенков синего.
– Определенно, от призрачной девы веет скорее морским угрем, нежели бараном. И это наводит меня на мысль, что туман, из которого она возникла, перед тем как перепорхнуть через мост-полумесяц, не китайский, а корейский. К тому же я давно заметила – все китайское больше пахнем овчиной, потому как овец и баранов у них там хоть отбавляй: и шага нельзя ступить – непременно наткнешься на барана.
– А по мне, – прошептала бабочка, сияющая изумрудно-бирюзовым отливом, – так от нее исходит какой-то омерзительно-тошнотворный душок, да-да, мне показалось, что от нее несет рвотой, – до того я не переношу эту вонь; к тому же так воняет донная тина, та, что гниет на дне реки. И тут я подумала: что, если Его величеству на самом деле пригрезилась не дева, а каппа?
– Его величеству ни за что не привиделась бы эдакая отвратительная речная тварь!
– Иные создания, бывает, ускользают от своего создателя, – проговорила дама-бабочка с лимонно-желтым отливом. – Теперь, принюхавшись к ней, я, признаться, не могу сказать наверное, что дева была воплощением изящества и чистоты, которыми наделил ее император в своих грезах. Потому что, как мне показалось… в общем, почудилось… от нее слегка веяло мочой, разве нет?
– Во всяком случае, первые воскурения ярче всего выражают правду жизни.
– И смерти, как от той заразы, что некоторые приносят на себе, когда возвращаются из Торибэно.
Напоминание о погребальном месте на склоне холма, где покойников бросали на растерзание псам, положило конец болтовне – теперь слышалось только дробное постукивание гэта Миюки по деревянному полу да легкое потрескивание благовоний в курильнице.
Не прислушиваясь к замечаниям в свой адрес и полагая, что они относятся к призраку из императорских грез, Миюки прокладывала себе дорогу сквозь зал, переступая через коленопреклоненных дам, шепча налево и направо сицуреи симасу, сицуреи симасу – извинение, которому научил ее Кусакабэ на случай, если она ненароком позволит себе выказать неучтивость в отношении кого бы то ни было.
Между тем Нагуса не сводил с нее глаз, продолжая крошить благовония.
Завидев, как она приближается к помосту, где возвышался трон, он подал ей знак никуда не уходить, а проскользнуть мимо императора настолько близко, насколько позволяли правила благопристойности.
Но в то самое мгновение, когда она уже было ступила под балдахин, куда тянулись струйки дыма, направляемые утивой, жестким опахалом, которым усиленно размахивал управитель Службы садов и заводей, камергер выставил вперед ногу – она попала под дзюни-хитоэ Миюки, зацепила ее за лодыжку, и молодая женщина неизящно упала прямо к ногам императора.
Сбитая с толку, смущенная, Миюки хотела тут же встать, но, запутавшись в громоздких, пышных платьях, она так и осталась лежать и только нелепо болтала ногами, точно черепаха, перевернутая на спину мальчишками-сорванцами.
Видя, что самостоятельно ей никак не подняться, Нагуса быстро высыпал на угольки крупинки последней измельченной благовонной смеси.
– А за мостом, – возгласил он, – стелется другой туман, и к нему устремляется дева…
Только что созданный им новый дымный аромат оказался настолько свежим, что, вдыхая его, можно было легко представить, как идешь под моросящим дождем либо проходишь мимо водопада.
– Да-да, – воскликнул тогда один из трех судей, ерзая на скамье, – это то, что надо, не в бровь, а прямо в глаз! Человеческий запах, человеческий запах!
– Вслед за незримой, неуловимой девой веет ветер, свежий, благоуханный, а пахнет он зрелой хурмой и медовой грушей и еще чем-то непостижимым – мне уже никогда не забыть этот ветер! – подхватил второй судья, исступленно закачав головой и пытаясь вызвать одобрение у двух своих собратьев. – Победа за вами, управитель Нагуса, о да, несомненно, за вами!
– Победителем настоящего такимоно-авасэ, первого в эпоху Хогэн, мы объявляем Нагусу Ватанабэ, – возвестил третий судья.
Управитель Службы садов и заводей был потрясен до глубины души – от глаз присутствующих не ускользнуло, что рукава его мантии, которыми он прикрыл лицо, чтобы не показать своего волнения, были мокрые от слез.
Он поклонился так низко, что почти коснулся лбом туфель императора.
– Я отрекаюсь от победы, решительно! Да соблаговолят судьи, поддавшиеся первому впечатлению, пересмотреть окончательное решение и присудить победу единственно достойному ее – Нидзё Тэнно.
– Нет, – возразил император, – это ваша победа, управитель Нагуса. Ибо я, знайте, между лаврами победы и чувством, которое пережил благодаря вам, узрев въяве, пусть на мгновение, образ девы из моих грез, выбираю чувство.
Он подал знак камергеру, тому самому, из-за которого упала Миюки, помахать веером и направить последние отголоски аромата в сторону трона. В ответ Нагуса несколько раз украдкой, но достаточно сильно взмахнул своей утивой, чтобы сбить робкое дуновение, вызванное хрупким складным веером камергера, и окутать Миюки божественно благоуханным туманом.
Смекнув, что теперь Нагусе было угодно сокрыть ее от глаз императора и таким образом избавить от его вопросов, молодая женщина, так и лежавшая на полу, свернулась калачиком – сжалась в комок и затаилась в безмолвной неподвижности.
– Как же вам это удалось, управитель Нагуса? – промолвил император. – Ваши туманы такие пленительные! Особенно второй – последняя дымка, в которой только что растворилась дева, ибо я по собственному опыту знаю – подобный аромат измороси и влажного тумана невозможно создать с помощью одних лишь сухих раскаленных углей: ведь это противоречит всякому здравому смыслу. Ничуть не меньше удался вам и образ моста-полумесяца – или не было слышно, как он отзывался стуком гэта девы, хотя она – всего лишь видение? Или не вдыхали мы тинный запах стоячей воды и увядших растений, восходящий из-под свода мостового настила? Но самое поразительное, управитель Нагуса, – это бегущая юница. Я бы даже выразился так: пробежавшая мимо нас. Ибо, сказать по чести, в какой-то миг мне показалось, что она пропорхнула так близко от меня, что я мог проследить за нею глазами и, если угодно, прикоснуться к ней. Так скажите, какие благовония вы смешали и воскурили, как смогли совершить эдакое чудо? Мне с трудом верится, что вы нашли их в том беспорядке, что творится в лавке на Второй линии. Или вы заполучили их в Закрытой канцелярии, где хранятся редкие благовония, которые приберегают для буддийских праздников?
– Если честно, одно из благовоний, самое причудливое из всех, что я использовал, не сыскать ни на Второй линии, ни в Закрытой канцелярии.
– Неужели вам привезли его из-за моря? – вопросил император, сдвинув брови. – Но вы же знаете, мы больше никуда не направляем посольства и не принимаем у себя посланников других земель: Японии не нужны сношения с иноземцами.
– Мое благовоние из империи, которой правит Его величество. Из одной весьма отдаленной провинции этой самой империи, а вернее, несколько позабытой. Сам я там никогда не бывал, но снаряжал туда посланцев. Только там и можно найти составляющую аромата, который Его величество счел наиболее соответствующим образу юницы из его грез. В том же краю, кстати говоря, вылавливают и карпов, что живут в наших священных заводях.
– Должно быть, это дивный край, – задумчиво промолвил император.
– Это деревня Симаэ, на реке Кусагава. А вот и ее посланница, – проговорил управитель Службы садов и заводей, указывая на Миюки, которая возникла из благовонного облака, пряча лицо в складках дзюни-хитоэ, все еще окутанного дымкой.
– Я только что заприметил ее среди других женщин. Она как будто искала себе место – и все никак не могла найти. Так это она оделила вас тем замечательным благовонием?
– Да, это Амакуса Миюки достала его для меня. По крайней мере, главную его часть. Признаться, когда я вдохнул его в первый раз, то не знал, что с ним делать, – да-да, тогда у меня не было на сей счет ни малейшего представления. Уж больно он загадочный. В нем улавливается аромат спелой хурмы и медовой груши. А еще, в некотором смысле, нечто очень приторное. Хурма, груша – все так, и не только. Честно сказать, мне так и не удалось распознать этот запах до конца.
– По-моему, она все еще прячет крупинки этого вещества в складках своего дзюни-хитоэ, – заметила принцесса Ёсико, смешно зажимая себе нос. И правда, она так дергала себя за нос, словно собиралась его оторвать.
Как только император удалился в свои покои, Небесный Зал мгновенно опустел. Слуги принялись гасить факелы и курильницы, а также заметать горячий пепел и собирать непрогоревшие угольки, чтобы ненароком не случился пожар.
Нагуса, Кусакабэ и Миюки последними покинули Павильон Чистоты и Свежести. Снегопад прекратился – дома и улицы покрылись толстым белым ковром. Дворец с украшенными лепниной стенами, обычно походивший на огромный торт, теперь будто оброс новым густым слоем крема. Где-то в лабиринте стен корчилась в муках и кричала роженица – к ней в опочивальню спешили какие-то кумушки, прижимая к себе ивовые корзины со смоченными в горячей воде тряпками, дымившимися в ночи. Это были повитухи в пестрых кимоно, однако на фоне искрящегося снега их череда больше напоминала вереницу суетливых черных муравьев.
Перед крытым входом дайдзё, чиновники седьмого высшего нижнего ранга, прогуливали трех белых лошадей в дивной сбруе, притом что в хвост и гриву каждой были вплетены бумажные трубочки с начертанными на них стихами.
Дайдзё из Конной службы объяснили Нагусе, что этих животных пригнали с сухих и влажных пастбищ на берегах Синано, где разводили лошадей специально для императора. Его величество повелел подарить этих трех управителю Службы садов и заводей в ознаменование победы, которой тот добился нынче вечером в такимоно-авасэ.
Вслед за тем дайдзё передали поводья Нагусе, и он зажал их разом в правой руке так, чтобы один конец каждого повода, одинаковой длины, торчал из его кулака.
– Одна из этих синано причитается тебе, Ацухито. Ты заслужил ее с лихвой. Так что выбирай, – сказал он, протягивая помощнику руку, сжатую в кулак с поводьями.
Кусакабэ потянул за один конец – и расправил длинный повод, соединявшийся другим концом с уздой на морде одной из белых лошадей, которая тут же вскинулась на дыбы, прижав уши и хлеща по воздуху хвостом.
– Хорошо, Ацухито, – одобрил Нагуса, – очень хорошо, из трех кобыл ты выбрал самую красивую. Во всяком случае, самую ретивую.
Видя, с какой нежностью и вместе с тем решимостью Кусакабэ пытается погладить лошадь по шее, чтобы ее успокоить, Нагуса подумал, что, отходя вскоре ко сну, попробует вообразить себя такой же трепетной лошадью, которую Кусакабэ оглаживал своей теплой рукой.
– Теперь твоя очередь, онна, – прибавил с улыбкой старик.
Впервые за долгое время – лет сорок, а может, пятьдесят – управитель Службы садов и заводей позволил себе улыбнуться. До сегодняшнего вечера, благоуханного и снежного, Нагуса-но Ватанабэ неизменно ограничивался тем, что слегка – едва-едва! – приподнимал уголки губ.
– Давай же, онна, попытай счастья, тяни за конец, который тебе больше по душе, – велел Нагуса. – На том конце повода лошадь, и ты вернешься на ней восвояси вместе с богатствами, которыми я намерен оделить тебя, как обещал.
– Нет, – сказала Миюки, – не нужна мне лошадь. Я не умею ездить верхом.
Нагуса посмотрел на нее удрученно, сожалея, что улыбнулся. К чему было ждать столько лет, чтобы наконец решиться выдавить из себя улыбку, если это гримаса: ибо улыбка есть не что иное, как разновидность гримасы, на которую тебе отвечают уныло-мрачным отказом.
Миюки пожала плечами:
– Этих животных мы видели только со всадниками, сидевшими на них верхом, – посланцами, которых вы направляли к нам с наказом наловить вам самых дивных карпов в нашей реке и доставить их вам.
Нагуса двинулся было к ней – она тут же отпрянула, выставив руку вперед.
– Не подходите, сенсей, – проговорила Миюки. – Ведь вам до того противен мой запах, что вы шарахались от меня как от чумы, или забыли? Не знаю, может, я и впрямь дурно пахну на фоне всех этих благоуханий, которыми тут у вас веет отовсюду: от людей, занавесов и даже отхожих мест. Поэтому лучше не подходите. Да и Кацуро премного огорчился бы, узнай он, что я вас чем-то огорчила. Он сказал бы, что ваше огорчение более унизительно для меня, нежели для вас. И он не потерпел бы моего унижения. Ни за что на свете. Он всегда гордился мной, даже когда на то не было особых причин. У нас с ним все было завязано на вершах, которые я плела для него, хотя в этом не было моей заслуги: их, эти верши, мог плести кто угодно – просто ему было легче попросить меня, нежели другую женщину.
И она пошла прочь. Несмотря на то что у нее были высокие гэта, снег сжимал ей лодыжки ледяными тисками, причиняя нестерпимую боль. Для обратной дороги – до Симаэ – она непременно переобуется в соломенные сандалии варадзи – в них будет удобнее снова перебираться через хребет Кии, где с учетом ранней зимы ее ждут жуткая стужа и обледенелые склоны, по которым можно запросто соскользнуть в бездонную пропасть. Так, может, не стоило отказываться от лошади – подарка Нагусы? Конечно, она не отважилась бы ехать верхом, но, ведя лошадь под уздцы, можно было бы укрываться то за одним ее боком, то за другим, точно за живым щитом, от вьюги, в зависимости от того, с какой стороны будет дуть ветер. К тому же лошадь теплая – и, прижимаясь к ней, можно было бы худо-бедно согреваться. И потом, что не менее важно, с лошадью можно было бы поговорить о Кацуро в полный голос и сказать, что ей чудится сзади дробная поступь мужа по стылой земле.
«Послушай, лошадь», – скажет ей она… Впрочем, нет, не так, не послушай, лошадь, потому что она даст ей имя – Юкимити, самое для нее подходящее[98].
* * *
На другой день, на стыке часа Зайца и часа Дракона[99], едва рассвело, Кусакабэ пришел проведать Миюки в ее пристанище.
Миюки уже собралась в обратный путь: сняв с себя двенадцатислойный шелковый дзюни-хитоэ – что ей было с ним делать в Симаэ? – она развесила все двенадцать платьев на ширмах, плесневевших в дальнем углу кёдзо, потом скатала циновку и примостилась на ней, как на ступеньке крылечка.
За спиной у Кусакабэ был внушительный тюк – корзина, завернутая в красное полотнище с императорским гербом.
– Вот, – выпалил он, – я принес то, что тебе причитается. А вернее, то, что мой господин решил дать тебе, ни у кого не испросив совета. Здесь золото и шелка, онна, притом много больше, чем ты смела надеяться. Только давай ты все это посмотришь потом, когда отойдешь подальше от Хэйан-кё. Потому как здесь тебе, похоже, грозит смертельная опасность. По крайней мере, этого опасается сенсей. Не знаю, прав он или нет, – с возрастом, видишь ли, с ним случаются приступы тревоги, а ведь он уже и впрямь старик, хотя зачастую тревожится понапрасну. Вот он и велел мне препроводить тебя до ворот Расёмон. Впрочем, что верно, то верно, – прибавил он, взваливая свою поклажу на плечи Миюки, – богатство, которое тебе перепало, способно кого угодно ввергнуть в искушение. Еще недавно одно лишь предположение, что какие-то там злодеи посмеют пробраться в город, вызывало у нас улыбку. И не потому, что ночью ворота наши, как мы считаем, неприступны, а просто потому, что нам было трудно даже представить, что среди странников, которых по ту сторону крепостных стен собирается целое скопище, могут затесаться злоумышленники.
– По ту сторону крепостных стен? Каких еще стен?
– То есть как это «каких стен»?
Он воззрился на нее с изумлением.
– Дело в том, – проговорила Миюки, – что я не видела никаких стен вокруг города.
Кусакабэ резко отвернулся, будто, устав, решил прервать разговор.
Миюки хотела было попросить у него прощения, но тут он снова повернулся к ней: она выглядела такой несчастной замарашкой, хоть и со здоровенным красным тюком за спиной, что вряд ли на нее покусился бы какой-нибудь разбойник.
– Ладно, твоя правда, онна: нет никаких стен. Только вот уже триста лет, с тех пор как император Камму сделал Хэйан-кё новой столицей империи, ее обитатели держат крепостные стены у себя в голове и все это время живут как бы под защитой крепкого бастиона. Но, даже если сенсей и углядел нависшую над тобой угрозу, – хотя, по мне, так тебе ничто не угрожает, – воображаемая крепостная стена тебя не защитит.
Накануне, в час Крысы, перед Нагусой предстал Минамото Тосиката, помощник сверхштатного надзирателя при Левом министре.
Он прибыл с нижеследующим сэндзи[100]: Старший сверхштатный советник Фудзивара Акимицу уведомляет, что он получил приказ императора, во исполнение коего Нагусе Ватанабэ предписывается добыть вещество или некоторое количество веществ, пригодных для создания нового благовония, выражающего посредством ароматов незримый бег девы по мосту-полумесяцу меж двух туманов, что привиделось Его величеству в грезах. Надобно признать, что Нагуса Ватанабэ вполне удовлетворяет настоящему предписанию, а чтобы сие благоухание навек стало исключительным символом Нидзё Тэнно, Нагусе Ватанабэ надлежит уничтожить все имеющиеся у него остатки означенного благовония, равно как и все, что может быть положено в основу оного. Да будет сей приказ получен и исполнен.
Управитель Службы садов и заводей собственноручно подал чашу саке помощнику сверхштатного надзирателя и в знак признательности преподнес ему восемь листов наимягчайшей кожи, которые он купил, собираясь изготовить из них узду для своего любимого коня Хацухару. Но, больше не чувствуя в себе ни сил, ни уверенности ездить верхом («Старость, – говаривал он, – поглощает меня, точно плесень»), Нагуса недавно решил отречься от всего, что связывало его с Хацухару. А самого коня управитель думал подарить Кусакабэ: Нагуса так сроднился с Хацухару, что даже порой отождествлял себя с ним и воображал, как Кусакабэ, оседлав его и ударив сильными ногами в бока, хохочет, словно мальчишка, и, дергая его за уши, точно за поводья, пускает его вскачь. И он, Нагуса-конь, мчит галопом вдоль края болотистых лугов и ржет от радости, взбираясь на вершины зеленых, почти черных холмов или продираясь сквозь сверкающие завесы водопадов.
После ухода Минамото Тосикаты Нагуса перечитал императорский приказ, которым ему предписывалось уничтожить благовоние, одержавшее победу в такимоно-авасэ.
Конечно, ослепленный гордыней, свойственной юности, Нидзё Тэнно поначалу желал, чтобы этот турнир благовоний, первый за время его правления, вошел в легенду и чтобы последующие поколения императоров и регентов, сёгунов, советников и всяких управителей пытались воссоздать благоухание, которое, олицетворяя деву, бегущую по мосту меж двух туманов, потрясло и привело в восторг весь Двор; вот император и решил было оставить кое-какие знаки, которые помогли бы его преемникам воссоздать чудо. Однако вскоре Его величество одумался: надо же, какую оплошность он едва не совершил! Надо было, напротив, принять все меры, чтобы состав благовония не раскрыла ни одна живая душа и чтобы в дальнейшем все потуги подражателей оказались тщетными. Тогда слава Нидзё Тэнно будет соразмерна с их неудачей.
Если даже предположить, что страсть к такимоно-авасэ угаснет настолько, что эти состязания будут бесповоротно вычеркнуты из перечня придворных обрядов и традиций, народ навсегда запомнит эту снежную ночь в Хэйан-кё – ночь, когда один высший сановник в угоду своему императору создал на редкость сложный, летучий и живой аромат юной девы, который источали все ее члены, все впадинки на теле, все двенадцать платьев ее дзюни-хитоэ.
Нагуса охотно допускал, что даже самые прекрасные вещи на свете имеют конец. Будь иначе, разве волновался бы он до глубины души, созерцая хрупкие цветы сливы и вишни, или, что важнее, разве мог бы он упиваться прелестью последних мгновений собственного существования?
– От благовония, коим вы воспользовались нынче ночью, осталась одна-единственная крупица, – заверил его Кусакабэ. – Оно пахло так дивно, что его воскурили всё без остатка.
Трудность, с которой теперь столкнулся Нагуса, заключалась в том, что императорским приказом ему предписывалось уничтожить не только само благовоние, но и все, что позволило бы его воссоздать. Но никто и представить не мог, что для того, чтобы составить аромат, безупречно соответствующий образу из грез императора, Нагусе Ватанабэ пришло в голову соединить естественный запах Амакусы Миюки с нежнейшими оттенками аромата благовония.
За время своего пребывания на высокой должности управителя Службы садов и заводей Нагуса получил в подарок целую кучу садовых орудий. Большинство из них было с лезвиями, зажимами, острыми наконечниками и зубьями, но он с легким сердцем раздавал все это неискушенным садовникам, хотя по многолетнему опыту знал, что, не умея с ними обращаться, те могли запросто выколоть себе глаза, покалечиться или изувечить кого-либо другого. Перечень случаев, связанных с отрубанием пальцев, отсечением ушей и выкалыванием глаз, уже занимал два свитка из шелковичной бумаги.
Но одно дело – позволять неумехам отрубать себе пальцы и совсем другое – обречь на смерть молодую беззащитную женщину под предлогом того, что император отдал соответствующий приказ, не оценив все возможные последствия.
Исполнение полученного приказа, который он держал в руках, Нагуса собирался перепоручить Кусакабэ: у него просто не было сил нанести верный удар, чтобы сразить жертву наповал.
Смертоубийство сделает любимого помощника старика не просто его сообщником – оно низведет Кусакабэ до уровня жестокосердного вершителя отвратительного злодеяния, зачинщиком которого был бы он, Нагуса, а эта роль не менее гнусная и презренная, чем у душегуба. В таком случае их обоих ожидала бы не толстая циновка подле полупрозрачного окна, о которое мягко трется плакучая ива, – ее легкое прикосновение неизменно доставляло ему удовольствие, потому как напоминало ласку, – но дзигоку – буддийский ад. После Комнаты Ветра и Грома, узилища, где караются губители, они попадут в Комнату-Давильню, где вершителей преднамеренных убийств помещают меж двух огромных камней и давят, обращая их в кровавое месиво, ну и в довершение всего им будет уготовано познать многотысячелетнее «блаженство» в Комнате Сердца, где крючковатые пальцы беспрестанно вырывают сердца у людей, лишенных сострадания, – понятно, что после того, как повинные сердца вырываются карающей рукой, они сразу же возрождаются, но лишь для того, чтобы вновь подвергнуться растерзанию.
Под предлогом того, что на дворе стояла сильная стужа, Нагуса допил склянку саке, начатую вместе с помощником сверхштатного надзирателя, которую он сунул в еще не остывшую золу жаровни, дав ей немного нагреться.
Он глянул сверху вниз на проспект Красного Феникса. На свежевыпавшем снегу виднелись две параллельные дорожки следов – они тянулись в сторону Расёмона. У самых ворот одна дорожка поворачивала в обратном направлении. Должно быть, это следы Кусакабэ, решил Нагуса. А другая, оставленная, вероятно, ногами Миюки, одолев вверх пять ступеней лестницы, терялась под двойной блестящей черепичной кровлей.
С тех пор как политическая смута, сопровождавшаяся все нарастающими волнениями, отравляла счастливую жизнь знатным обитателям Хэйан-кё, сводчатая кровля Расёмона служила ночным пристанищем всяким отщепенцам, которых не желали впускать в город, – крестьянам, бежавшим от набегов ронинов[101], самим же ронинам, неизбывным толпам нищих, юродивым и детям-малолеткам, брошенным родителями, которые были не в силах их прокормить. Этот люд с жадностью пожирал все, что изрыгал город. Очистки, обрезки и прочие отбросы – все это уже было когда-то испечено, изжарено или сварено, но, чтобы эти отходы снова стали пригодными в пищу, их надо было подвергнуть очередному испытанию огнем – не случайно от множества костров, разведенных прямо на земле, тянулись густые смрадные дымы, клубившиеся под потолками и балками свода, давным-давно почерневшего от копоти.
Эти дымы, вкупе с рано сгустившимися сумерками, мешали Нагусе разглядеть ярко-красные колонны ворот Расёмон. В досаде он спешно отрядил одного из слуг к своему помощнику, наказав передать ему, что желает с ним говорить. Поскольку Кусакабэ препроводил вдову рыбака до городских ворот, он должен был знать наверное, успела она пройти через них или нет. Если да, то об ее устранении ему можно было не беспокоиться – за него это сделают зимние ночи и гибельные опасности на пути домой.
А пока суд да дело, Нагуса разделся и вверил себя заботам трех слуг, чтобы те выщипали ему волосы, омыли его и растерли благовонными маслами, – пусть волнующий запах вдовушки из Симаэ больше не смущает Кусакабэ.
* * *
Лес становился все реже – Миюки догадалась, что до Симаэ уже рукой подать.
Даже лишенные листвы, деревья все так же образовывали мрачные своды и непроглядные, бесконечные туннели. Осенние туманы, осевшие влагой на стволах и скелетных ветвях деревьев, окрасили их в черный цвет, а бежевые лишайники стали коричневыми, отчего мир вокруг походил на сумрачную чащобу. Дневной свет стал каким-то разреженным – его будто поглощала мерцающая черная слизь, сочившаяся с деревьев. Лес выглядел не просто сумрачным – казалось, что все в нем переплелось, запуталось, сделав его непроходимым.
И все же часа через два свет восторжествовал над тьмой.
Несмотря на то что продвигаться вперед, ступая по зыбкой почве, было тяжело, тем более что она представляла собой беспорядочную смесь из перепутавшихся корней вперемешку с галечником, опавшими листьями и глиняной жижей, Миюки казалось, что она вот-вот выйдет из лесной чащи. И не потому, что мало-помалу прояснилось, словно солнце наконец пробилось сквозь громаду туч, – просто деревья поредели, да и растительный покров в целом был уже не такой густой. Непролазные чащобы и кустарниковые заросли почти расступились.
У Миюки должен был камень с души свалиться при мысли о том, что скоро перед нею предстанет деревня, которую до того, как отправиться в Хэйан-кё, она никогда не покидала. Однако ж вместо этого сердце у нее, напротив, сжималось от безотчетной тревоги, а горло сдавливало так, будто она тонула в озере скорби. Смерть Кацуро – вот что служило неизбывным источником, питавшим это озеро; но скорбь, которая порой поднималась в нем до критического уровня, пока не выходила из берегов, – и вот теперь время пришло.
Миюки все вокруг казалось чужим, не таким, как раньше, когда она покидала родные края: она не помнила, что перебиралась через сплошные овраги, усеянные острыми камнями, раздиравшими ее сандалии, как не видела она и такие скрюченные деревья, в основном сосны, словно их пыталась выкорчевать некая неумолимая сила; она не могла понять, откуда у них взялись такие когтистые, злые ветки, преграждавшие тропу, которую крестьяне из Симаэ старались расчищать, чтобы она всегда была проходимой, – теперь же ей приходилось то огибать эту тропу, то, цепляясь за корни деревьев, пробираться дальше по ее краям, представлявшим собой сплошную жижу из снега, льда и грязи.
Быть может, ее подвела память или, может, в этом безмолвном и таком грозном с виду лесу случилась какая-нибудь напасть, которая, нет, не обезобразила его, а просто изменила до неузнаваемости?
Миюки присела на пенек, но не для того, чтобы собраться с силами, а скорее для того, чтобы унять душевную тревогу, перед тем как совершить последнее усилие – и наконец добраться до рисовых делянок, раскинувшихся на склонах холмов вокруг родной деревни.
Вскинув голову, она заметила, что свет падает с неба отвесно, хотя обычно солнечные лучи, преломляясь в неопадающей листве деревьев, раскалывались, образуя причудливые сетчато-витиеватые узоры. Подобное свечение, так не похожее на привычное, объяснялось новым расположением деревьев – каждое из них словно силой, о чем свидетельствовали их скрюченные, изогнутые, наклоненные стволы, отвоевывало себе дополнительное жизненное пространство.
Как ни удивительно, самые хрупкие деревца пострадали меньше всего: их ветви переплелись, будто руки в «танце пяти движений» – госэти-но маи, во время которого танцовщицы пятикратно вскидывают рукава над головой и размахивают ими в воздухе, а после опускают их, удерживая перед лицом; так вот, эти деревца стояли прямо, в отличие от старых деревьев, которые большей частью повалились, вздыбив свои раскидистые корни и обнажив раны, сочившиеся густой жижей из сока и гнили.
Но самым странным казалось то, что не было слышно птиц. Обычно чем ближе к опушке, тем громче они щебетали: сразу за кромкой леса начинались земельные угодья, где птицам всегда было чем поживиться. Теперь же они молчали – словно разом покинули лес.
Все, кроме одного-единственного аспидно-черного с синими вкраплениями дрозда.
Он впился в дерево, стоявшее рядом с Миюки, точно гвоздь, вбитый не до конца. Птица, верно, врезалась в ствол с лету так, что ее клюв вонзился глубоко в дерево, подобно наконечнику стрелы. Хотя удар оказался для нее гибельным, она, видно, в предсмертных судорогах пыталась высвободиться и била крыльями, потому что они так и застыли, расправленные, со взъерошенными перьями.
Миюки не могла взять в толк: что же так сильно напугало дрозда, что он потерялся в полете и наткнулся на огромное препятствие – вековое камфорное дерево, которое он никак не мог не заметить и в обычное время сумел бы миновать, даже если бы за ним гналась какая-нибудь хищная птица.
Она встала с пня и подошла к птице. Едва наклонившись к ней, она почувствовала смрад разлагающейся плоти, несмотря на легкий камфорный запах, исходивший от дерева. Дрозд издох несколько дней назад, а его оперение стало своего рода саваном, который скрывал рои мух и муравьев, копошившихся в его окровавленной плоти среди скопища белесых яиц и личинок.
Миюки отпрянула. Она всегда боялась разных букашек, особенно тех, что назойливо жужжали у нее перед лицом: как их ни отгоняй, они с неизменным упорством слетались обратно и облепляли складки у нее на губах и уголки глаз.
Но в этот раз мухи, облепившие живой гроздью трупик птицы, разлетелись в разные стороны еще до того, как Миюки успела взмахнуть рукой: застрявший в стволе камфорного дерева дрозд вдруг содрогнулся, вздыбив рулевые перья на хвосте. Однако он не ожил – то была лишь странная, протяженная во времени вибрация неизвестного происхождения, передавшаяся птице от сотрясшегося дерева и распугавшая насекомых.
Ветер засвистел пронзительнее – голые ветви деревьев застучали друг о дружку, словно сплетясь в пляске смерти, а из земных недр послышался глухой неровный скрежет, как будто под землей скребли гигантским напильником.
Мхи, устилавшие почву, казалось, задышали: они вздыбливались и опускались, и снова вздыбливались, точно пышное, мягкое одеяло на груди спящего, подчинявшееся ритму его дыхания. В тех же местах, где не было мха, там, где была голая земля, почва полопалась – пошла ветвящимися трещинами, грозными, как зигзаги молнии.
Весь лес медленно закачался.
Миюки вцепилась в камфорное дерево, лишь бы удержаться за что-нибудь незыблемое, но дерево раскачивалось так, словно его трясли, чтобы сорвать плоды.
Тогда она отпустила его – и с криком пустилась бежать.
Выбравшись из леса, молодая женщина увидела заиленную землю там, где прежде располагались рисовые делянки. Перемычки обрушились, будто снесенные некой неудержимой силой: их земляные края, обрамлявшие делянки в виде ограды, обвалились, засыпав рисовые саженцы и выпустив воду на нижние наделы, где, впрочем, была та же картина, как и на ярусах, располагавшихся еще ниже, хотя сам рисовый холм осел и теперь походил на поле, ощерившееся едва приметными буграми.
Миюки не было надобности справляться у какого-нибудь уличного мудреца, которых в Хэйан-кё было хоть отбавляй, – у всех этих гадателей по радуге, предсказателей затмений, знатоков гробниц с привидениями и прорицателей землетрясений, чтобы понять: ее деревню постигла великая напасть, поглотившая жилища и амбары, вздыбившая поля и стершая с лица земли не только все следы прежней жизни, но и память о ней.
Там, где когда-то простирались тучные пастбища, хлебные и рисовые поля, теперь зияли проплешины бурой каменистой земли, пахнувшей горелым кремнем.
Поток грязи и всевозможных обломков, наверное, завалил и пруд для карпов: наверное – потому, что все приметы исчезли, и Миюки не могла определить с точностью, где именно стоял ее дом и уж тем более где находился пруд.
Остался один-единственный след, служивший, впрочем, не самым надежным ориентиром: то была бесформенная куча – просевшая кровля, некогда покрывавшая строение, которая обвалилась и рассыпалась. Но благодаря своему остову из еще не успевшего иссохнуть дерева кровля обрела некоторую упругость и, отсоединившись от стен, которые венчала, она попросту осела на землю. И теперь походила на раздавленного громадного жука.
На кровле, точно охотник на спине поверженной добычи, сидел на корточках голый мальчонка. Хотя его лицо было в крови вперемешку с грязью, Миюки признала в нем Хакубу, сынишку горшечника.
Она подошла к мальчику и осторожно склонилась над ним, точно над перепуганным зверьком: Хакуба, подумала она, и впрямь походил на зверька с его топорщившимися черными волосами на голове.
– Как ты, Хакуба?
Над Симаэ висела такая плотная тишина – ее лишь изредка нарушали отголоски подземного гула, – что Миюки не было нужды повышать голос.
– А где все остальные, знаешь?
Нет, Хакуба не знал. Или же предпочел ничего не рассказывать. А может, от пережитого потрясения он потерял дар речи.
– А твои родители?
Мальчонка показал на вспученную кривую линию на земле, похожую на длинный рубец. В этом месте земля, похоже, вскрылась и поглотила отца и мать Хакубы, а потом трещина сомкнулась.
– Под этой крышей, наверное, был твой дом. Но ты же не будешь сидеть здесь вечно, дожидаясь, когда дом снова вырастет?
Ребенок покачал головой. Большим умом он не отличался, но и глупышом не был – и вряд ли думал, что дома могут вырастать из-под земли. Это взрослые верили в подобные чудеса и сочиняли про них сказки; они с важным видом записывали их на бумаге самых изысканных сортов чернилами редчайших цветов, которые покамест даже не имели названия, – от желтого, напоминающего окрас молодых полураспустившихся головок некоторых разновидностей хризантем, до более насыщенного желтого, получающегося в процессе брожения коровьей мочи, смешанной с листьями мангостана[102], включая тон, близкий к оттенку метелки розовой сирени под золотисто-розоватым небом.
– Скажи-ка, Хакуба…
– Не называй меня больше Хакубой. Теперь я Гарэки[103].
– Гарэки, – тихо повторила она. – Пускай будет Гарэки.
– Это все из-за трясущейся земли, из-за того, что все разрушилось.
Не иначе как случилось землетрясение, решила Миюки и тут же подумала про поддельный горшок для соли времен династии Тан – тот самый, что пережил не одно поколение ее предков, даже не получив ни единой царапинки; он служил ей единственным воспоминанием о матери и единственной же ощутимой вещью, сохранившейся у нее как память о счастливых годах, прожитых вместе с Кацуро. Миюки часто думала – и это утешало ее, – что, ежели с этим горшком что случится, она вполне может положиться на отца Хакубы – он непременно его починит. Но горшечник не пережил подземного толчка, да и горшок, верно, превратился в глиняную пыль или же разбился на покрытые старинной глазурью черепки, которые теперь валяются где-нибудь на песке у самого моря и посверкивают, точно осколки слюды, – про море она слыхала от Кацуро, а он видел его своими глазами.
Она не знала наверное, но ей думалось, что именно туда, в воды Внутреннего моря, впадает Кусагава.
Кацуро не раз говорил, что займется охотой на бакланов, когда у него перестанут покупать карпов. И тогда он с радостью перебрался бы на пологие берега Внутреннего моря, потому как бакланы предпочитают защищенные воды, и к тому же неглубокие. В этом Кацуро усматривал два преимущества: сам он мог бы обойтись простенькой лодчонкой, а Миюки могла бы жить спокойно, зная, что он никогда не заплывет далеко от берега. Что же касается дрессировки и приручения бакланов (он думал держать восемь или десять птиц на длинных веревках из кедрового волокна), он уже заранее потирал руки от удовольствия: птицы у него непременно будут самые красивые в бухте и самые что ни на есть ручные – и со временем, по примеру китайских рыбаков, он сможет выпускать их без привязи.
– Ты ведь не собираешься здесь оставаться, Хакуба?
– Гарэки, – удрученно поправил ее мальчуган.
– Ах да, Гарэки, – покорно повторила она. – Ну ладно, Гарэки, дитя мое, здесь больше нечего делать; здесь больше ничего не осталось, ни одной живой души, так что давай лучше пойдем отсюда. Пойми, то, что случилось, вот-вот повторится снова – или не видишь, как трясется земля?
Самой Миюки еще никогда не приходилось видеть землетрясение, но среди жителей Симаэ – старожилов – кое-кто помнил, как чуть ли не под ними растрескивалась земля и как они что есть духу бежали прочь впереди трещин, которые с грохотом разверзались у них за спиной, изрыгая клубы зловонных паров.
– Это где-то там, в глубине, – согласился мальчуган, – далеко отсюда.
Но Миюки стояла на своем:
– Оно снова поднимается, прямо к нам, и того и гляди нагонит нас. И что нам с тобой тогда делать? Кругом ни души, так что надо скорее уносить ноги.
– Куда же мы денемся?
– Давай побежим прямиком к морю – туда, где заканчивается река.
Мальчуган взглянул на нее в полном недоумении: он не знал, что такое море. Миюки хотела было его описать – только вот с чего начать? Соленый вкус, ходящие ходуном волны, меняющийся цвет, оглушительный гул, глубина, неоглядная ширь – может, с этого?
Между тем уже смеркалось – в расчистившемся от туч небе заискрились первые звезды, и Миюки решила начать, взяв в качестве примера небосвод, – так мальчонке будет легче представить бесконечность моря. С волнами было проще: по земле пробегала протяжная дрожь – казалось, что равнина Симаэ покоится на волнующейся водной глади.
Мальчонка слушал ее, затаив дыхание. У него сохранились самые добрые воспоминания об этой женщине, такой худенькой, нежной и вместе с тем живой: он не мог забыть, как она укутывала его в кусок материи, когда он, совершенно голый, выбирался из пруда с карпами и весь дрожал, поблескивая капельками воды на поросшем легким пушком теле. Так что теперь, когда она решительным шагом двинулась в путь, он без всяких колебаний последовал за ней.
Кусагаву было не узнать. Землетрясение, видно, подняло донную волну, и река вышла из берегов, унося с собой ил, песок, водные растения и рыбу.
Карпов, выброшенных на сушу вместе с водой, которая бурлила и пенилась за пределами берегов, унесло в глубь равнины, а чуть погодя, когда река, отступив, вернулась в свои берега, они так и бились на земле, пока не задохнулись.
Среди загадок, с которыми столкнулась Миюки, была одна, которая касалась участи жителей Симаэ. Судя по тому, что сталось с деревней, можно было предположить, что большинство из них погибли во время землетрясения, а остальные, те, кто пережил первые подземные толчки, разбежались куда глаза глядят. Ударная волна прокатилась под землей с запада на восток, а на севере росли густые, непроходимые леса, так что люди, вероятнее всего, подались на юг – то есть в ту сторону, куда направлялась Миюки с мальчиком.
Вот только Миюки все никак не могла взять в толк, почему не видно никаких следов оставшихся в живых людей. И что они сделали с теми, кто погиб? Миюки не видела нигде ни погребальных костров, ни даже наспех выкопанных могил. Кругом, насколько хватало глаз, простиралась однообразная равнина, кое-где покрытая пятнами снега, бугрившимися, точно белесые облака на фоне серого неба.
Она посмотрела на мальчонку. Из глаз у него текли слезы, густые, желтовато-коричневые, – наверное, гной, подумала она, – которые, высыхая, оставляли на щеках причудливые разводы. Зрачки были сильно расширены – возможно, потому, что стало темнее. А покрасневшие белки свидетельствовали о том, что он совсем выбился из сил: ничего не смысля в глазных болезнях, Миюки, по здравом размышлении, тем не менее заключила, что мальчуган просидел на обвалившейся крыше не один час, не один день и не одну ночь, оглядывая равнину в надежде заметить родителей или кого еще, кто мог бы прийти ему на выручку. Миюки также заметила, что, помимо кровоподтеков и сгустков запекшейся крови, худосочное тело Гарэки было сплошь покрыто грязью; вглядываясь в ребенка, она видела в нем, точно в зеркале, себя: такая же грязная, щеки в пыльных разводах вперемешку с дождевой водой, мраморная кожа в фиолетовых пятнах, губы растрескались, длинные черные волосы слиплись и перепутались, кимоно превратилось в сырое рубище.
Если бы им удалось уйти подальше от эпицентра землетрясения и, главное, избежать смертельной опасности повторных подземных толчков, они смогли бы благополучно добраться до рыбацких деревень, вытянувшихся цепочкой вдоль берегов Внутреннего моря, и начать новую жизнь, а вместе или порознь – там будет видно. Но в чем Миюки была совершенно уверена, так это в том, что им, уцелевшим после землетрясения, не избежать расспросов любопытных прибрежных жителей, тем более что подземные толчки наверняка докатились и до острова Сикоку.
Еще недавно, когда Миюки, смешавшись с толпой, входила в ворота Расёмон, ее мало заботило, как она выглядит, – тогда главной ее заботой были карпы Кацуро, а себя, пусть и с черной грязью под ногтями, она считала всего лишь их прислужницей, – но сейчас ей хотелось произвести благоприятное впечатление на жителей Кобе, Убе, Окаямы, Фукуоки, Ясимы и малого устья Хивасы, если ей с мальчонкой когда-нибудь суждено туда добраться.
– Гарэки, – сказала она, зажимая нос, – от тебя, мальчик мой, вроде как дурно попахивает.
Мальчонка схватился руками за грудь, потом принялся обмахиваться ими и хвататься за нос (ноздри у него были миндалевидной формы и бархатистые, как свежие плоды миндаля).
– Это не от меня, – отозвался он наконец, вдосталь намахавшись. – А от воздуха. Это запах смерти, Миюки-сан. После того, что случилось, ну оно и понятно – а разве ты еще не почуяла этот запах? Вот пройдет дождь, и он пропадет – смоется под землю.
– Раз дождь сможет прогнать эту заразу, то уж река тем более.
– Ах, ох, я не полезу в реку! Уж больно она холодная, эта река, и мыться там уж больно холодно: перед самым землетрясением в ней плавали ледышки. Я сам видал – голубые такие.
– Лезть в Кусагаву тебе не придется – ты сядешь на берегу, а я сложу руки лодочкой, зачерпну воды, оболью тебя и осторожно разотру речным песком, а потом еще раз и еще…
– Знаешь, – заметил он, – а ты сама тоже пахнешь не больно хорошо.
Молодая женщина улыбнулась.
– Сперва отмоем тебя, – сказала она, – а после меня.
Они шли вдоль реки, высматривая подходящее местечко. Настала ночь. В черных водах реки мерцало отражение полной луны. Повторных подземных толчков больше не последовало. Малыш Гарэки шагал молча, боясь потревожить птиц, и без того перепуганных землетрясением. Если бы не сладковатый трупный смрад, накатывавший время от времени, Миюки могла бы подумать, что она вместе с мужем прогуливается зимним вечером по берегу реки (Кацуро, как и Гарэки, только совсем по другой причине, предпочитал идти молча; погрузившись в свои мысли, не проронив ни слова, он мог забрести невесть куда…).
Тут вдруг послышались брызги, будто в воду плюхнулась испуганная лягушка.
На самом деле это Гарэки бросился в воду. Он плавал от берега к берегу, подняв две небольшие волны, расходившиеся от его подбородка, как от гребня грудной кости утки.
Миюки не знала, что мальчуган умеет плавать. В Симаэ это считалось редкостью. Даже Кацуро – князь, царь, император реки – не умел. И даже гордился этим, говоря: негоже простираться ниц перед Кусагавой, негоже расстилаться перед нею и уж тем более ползать, как какая-нибудь лягушка, – перед нею надобно стоять, твердо держась на ногах.
– Мне совсем не холодно, – знай себе твердил мальчуган, – вода теплая-теплая… давай же, Миюки-сан, иди ко мне!
Вследствие сильнейшего трения глубинных горных пород поблизости от очага землетрясения, должно быть, высвободилось немало тепла – дно реки нагрелось, а следом согрелась и речная вода.
Гарэки размахивал руками в отблесках луны и широко раскрывал рот, делая вид, что жадно кусает синеватое отражение ночного светила, точно призрачный пирог.
Миюки тоже вошла в воду. Она собиралась погрузиться по пупок, чуть-чуть поплескаться, тоненько вскрикивая, потом быстро выскочить и, прыгая, отряхнуться.
Но река в этом месте оказалась глубже, чем она ожидала, зачарованная легкостью, с какой рассекал воду Гарэки. Судорожно барахтая ногами в поисках дна, Миюки вдруг почувствовала, что Кусагава вцепилась в нее и встряхнула, силясь сбить с ног. Но молодая женщина устояла, переложив всю силу и тяжесть своего тела на нижнюю часть спины и бедра.
И тут она его увидела…
В черной, сверкающей, переливающейся всеми оттенками ночи глубине мрачных вод Кусагавы показался гигантский карп: вероятно, очередным подземным толчком его оторвало от речного дна, куда он, невзирая ни на что, буквально врос, наполовину зарывшись в нору, которую выкопал себе в иле.
Карп всплывал на поверхность, вытянув пасть, отороченную четырьмя дряблыми осязательными усиками. В длину он был больше полутора метров и весил все сто кило; у него была массивная, почти конусообразная голова с парой выпуклых глазищ, способных глядеть в разные стороны.
Он как будто взбирался на глиняный выступ ползком, изгибаясь, точно старик, который боится встать, потому что крестец не выдержит его веса, и который обречен только ползать.
Миюки вспомнила, как Нацумэ уверял, будто призрак отделяется от человека, когда тот переживает сильную встряску, равно как и лучший из плодов, когда ураганным ветром его срывает с дерева. Эти побитые сущности, еще живые призраки, как говорят, остаются на том месте, где с ними случилось потрясение; там же они созревают, гниют и разлагаются, смешиваясь с землей.
Так, может, в этом самом месте на Кусагаве, где ее берега раздаются вширь и ощериваются камнями, ускоряющими ее бег к морю, и утонул Кацуро? Что, если гигантский черный карп – это призрак, который наконец от него отделился и обрел новое воплощение?
Ясно было одно: гигантский черный карп никуда не делся, когда Миюки (она всего лишь повиновалась необоримому желанию, оказавшемуся сильнее ее) опустила руку в воду, чтобы прикоснуться к четырем[104] его ноздрям, расположенным между парой глаз.
Это было ласковое прикосновение – карпу, похоже, это даже понравилось.
Молодая женщина первой устала от этого занятия – она прекратила ласкать рыбу и отвела от нее руку. А рыба все пялилась на нее одним глазом, как бы упрашивая, чтобы та не останавливалась и ласкала ее дальше, в то время как другим глазом, более цепким, она жадно следила за тонувшей в воде букашкой.
Миюки еще никогда не видела такую здоровенную рыбину, которую она к тому же нисколечко не боялась, хотя черный карп, если бы раскрыл пасть, мог запросто проглотить ее руку по самое плечо.
Она знала, что в некоторых реках водятся гигантские карпы из Китая. Кацуро сказывал, что там они плывут вверх по большой реке Хуанхэ, которая, сужаясь в одном месте, порождает громадные волны, и они устремляются с высоты водопада Хукоу с громоподобным ревом, так пугая птиц, что те делают в небе большой крюк, стараясь облетать это место стороной.
А черные карпы, подхваченные шальной круговертью рыжеватых вод Хуанхэ, срываются с уступа водопада и исчезают за пенной завесой, после чего иные из них каким-то чудесным образом оказываются в некоторых японских озерах и реках.
По крайней мере, Кацуро слышал о таком собственными ушами, а потом пересказывал жене, оговариваясь, впрочем, что самолично ни разу в жизни не видал этих чудо-рыбин и поэтому сомневался, что они существуют.
Миюки сбросила с плеч обитую красным шелком корзину, плотно прилегавшую к ее спине. И высыпала ее содержимое к ногам мальчонки. На земле тускло мерцало золото, а рядом валялись векселя – мягкие серые бумажки, шелестевшие, точно крылышки ночных бабочек.
– Гарэки, дальше ты пойдешь один. А я остаюсь.
Она показала на карпа, по-прежнему жавшегося к глиняному выступу: его толстые губы были разодраны – будто искромсаны, ртом он пускал слабые струйки воды, целясь в паутину, висевшую прямо перед ним меж двух стволов бамбука. Миюки объяснила, что собирается выпустить его обратно в реку – так поступил бы и Кацуро. Но с учетом того, что рыбина огромна и так просто ее не ухватишь, дело обещает быть долгим и тяжелым, а пока она будет стараться изо всех сил спасти карпа – может случиться очередное землетрясение, которое в мгновение ока снова раскроит равнину Симаэ и разорвет берега Кусагавы, после чего река устремится в образовавшиеся расщелины, унося с собой все, что не сцеплено намертво с землей. А Миюки даже не за что будет зацепиться. Как, впрочем, и Гарэки. И кто его знает, чем все обернется, а посему она настойчиво уговаривала мальчонку убраться прочь, да поскорее.
– Это все тебе, Гарэки, – сказала она, показывая на содержимое корзины. – Мне больше ничего не нужно.
Еще недавно Миюки рассказала ему про море, и вот теперь ей пришлось объяснять, что такое золото и как им можно воспользоваться. А что до векселей, она и сама в них ничего не смыслила – и удовольствовалась тем, что мыском ноги спихнула их в реку.
Мальчуган сгреб сокровища, засунул все обратно в корзину и накрыл ее красным шелком; с корзиной за спиной он почувствовал себя увереннее. Миюки молча поцеловала свою правую ладонь и провела ею по жестким, взъерошенным волосам мальчонки, так что он даже не успел опомниться.
– Ступай, – велела она, – уходи, Гарэки.
Он сделал два-три шага, обернулся и одарил ее кротким взглядом.
– Ладно, – громко проговорил он, – я возьму себе прежнее имя – Хакуба.
Миюки ждала, пока он не скрылся с глаз. Боги сотворили небытие, дабы убедить людей, чтобы они его заполнили. Не чье-то присутствие правит миром и наполняет его – пустота, отсутствие, небытие, смерть. Всё есть ничто. Недоразумение возникает оттого, что люди изначально полагают, будто жить – значит чем-то обладать, хотя на самом деле на свете ничего нет – вселенная бесплотна, неуловима и неосязаема, точно смутный след девы меж двух туманов в грезах императора.
Мир неустойчив.
Заморосил мелкий дождь – радостно заквакали лягушки. Миюки глянула на черного карпа. И подумала: вот было бы здорово поймать его, вырыть для него пруд, где он мог бы плескаться, в то время как она сама сидела бы на берегу, опустив ноги в прохладную воду, с радостью любовалась своим питомцем и рассказывала ему про свою жизнь, пока в один прекрасный день в Симаэ (деревню к тому времени, конечно, отстроят) не объявятся посланцы Службы садов и заводей и не затребуют поставить ко двору новую партию карпов.
Дождь пошел сильнее – небо померкло. Послышался раскат грома – пока еще вдалеке, но гроза приближалась. Однако Миюки не обратила на это внимания: она думала про путешествие в Хэйан-кё со своим красавцем карпом. Для него надо будет сплести большую-пребольшую вершу, в человеческий рост, – как для человека, да и немаленького. Нести придется на двух жердях из крепкого бамбука, непременно черных и блестящих, чтобы были одного цвета с чешуей рыбы: одна жердь на левом, вторая на правом плече двух крепких носильщиков, которые будут семенить друг за дружкой. Миюки улыбнулась, представив себе лицо управителя Службы садов и заводей, когда он увидит эдакую рыбину, – и тут вдруг она услыхала свист, похожий на пронзительный треск рвущегося шелка: по земле пошла трещина – она устремилась прямо к ней, точно обезумевший от радости щенок, который бежал, оставляя позади себя глубокий провал.
Миюки легла на карпа, защищая его своим телом.
Рыба пахла тиной, слизью, гнилыми листьями, измельченными водорослями, плесневелым деревом, сырой землей – точно такой же запах, смутный, некрепкий, но вязкий, исходил от Кацуро, когда он возвращался с реки; и у Миюки под грудью спокойно билось сердце карпа, как иной раз утром у Кацуро, после того как он одаривал ее своей любовью, – тогда он распахивал дверь хижины, и она видела в дверном проеме фигуру мужа, увешанного вершами, бамбуковыми жердями, пробковыми поплавками и спутанными мотками лески, которые ему предстояло распутывать на берегу Кусагавы, потому что накануне вечером, вместо того чтобы привести в порядок снасти, они с Миюки неспешно и долго предавались любви.
Шофур, Ла-Рош23 апреля 2004 г. – 15 июля 2016 г.Примечания
1
Синто (синтоизм) – традиционная религия в Японии, восходящая к культу природы и предков. – Примеч. пер.
(обратно)2
Ками – синтоистские божества, олицетворяющие стихии и объекты природы (горы, деревья, ветер, море и т. д.); они также являются духами усопших. – Здесь и далее, если не указано иного, примеч. авт.
(обратно)3
Имеется в виду Внутреннее Японское море (Сэто-Найкай), расположенное между островами Хонсю, Сикоку и Кюсю. – Примеч. пер.
(обратно)4
Хэйан-кё (букв.: столица мира и спокойствия) – столица Японии в 794–1869 гг. – Примеч. пер.
(обратно)5
Тан – императорская династия в Китае (618–907). – Примеч. пер.
(обратно)6
Куни – в синтоистской мифологии – страна мертвых.
(обратно)7
В отличие от западной традиции японские фамилии ставятся перед личным именем.
(обратно)8
Каригину – нечто среднее между плащом и мантией; такую одежду японские сановники надевали для охоты.
(обратно)9
То есть наступила полночь.
(обратно)10
Моти – блюдо из клейкого риса.
(обратно)11
Вешенки – съедобные грибы. – Примеч. пер.
(обратно)12
Нарэдзуси – потрошеная рыба, обложенная ферментированным рисом, который предотвращал ее порчу. Перед едой рыбу очищали от рисовой оболочки.
(обратно)13
Сяку – мера длины, равная 30,3 см или приблизительно одному британскому футу.
(обратно)14
Кин – мера веса, равная 673 г.
(обратно)15
Время от семи до девяти часов вечера.
(обратно)16
Водяной пастушок – небольшая водная птица семейства пастушковых. – Примеч. пер.
(обратно)17
Сутра – лаконичное высказывание в древнеиндийской и буддийской литературе; позднее – своды таких изречений. – Примеч. пер.
(обратно)18
Аир – многолетнее травянистое растение семейства аирных, корневище которого – аирный корень – содержит эфирное масло, используемое, в частности, в фармакологии. – Примеч. пер.
(обратно)19
Хибати – жаровня в виде фарфорового или деревянного сосуда, украшенного росписью и/или инкрустацией, с железной емкостью внутри, куда засыпали раскаленные угли.
(обратно)20
В Японии принято добавлять вежливое обращение сенсей к имени учителя, врача, писателя или вышестоящего человека в обществе или группе. Для обращения к менее важному лицу используется именной суффикс -сан.
(обратно)21
Васи – название особого вида японской (ва) бумаги (си).
(обратно)22
Мико – помощницы священнослужителя и хранительницы синтоистских храмов.
(обратно)23
Горянка сасаки – вечнозеленое декоративное растение японского происхождения.
(обратно)24
Юката – традиционная японская одежда, одна из разновидностей кимоно.
(обратно)25
Хаори – разновидность жакета.
(обратно)26
В японском фольклоре сирикодама – шарик из плоти, скрытый у человека под кожей возле заднего прохода; его страстно желают обрести каппы, маленькие злые водяные духи, обитающие в реках и озерах. Чтобы завладеть сирикодамой человека, каппа сначала топит свою жертву, а потом разрывает утопленнику прямую кишку.
(обратно)27
Время с одиннадцати утра до часа дня.
(обратно)28
Тануки – млекопитающее, внешне похожее на енота-полоскуна, собаку и медвежонка. Этот забавный зверек, способный превращаться в кого угодно и большой любитель саке, стал героем многих японских сказок.
(обратно)29
Очиток – многолетнее травянистое растение, известное также как заячья трава или заячья капуста. – Примеч. пер.
(обратно)30
Окамисан – распорядительница, управляющая, хозяйка.
(обратно)31
Таро – растение, имеющее съедобные клубни.
(обратно)32
Буси – воин; буси были предтечами самураев.
(обратно)33
Время между тремя и пятью часами утра.
(обратно)34
Катана – длинная японская сабля.
(обратно)35
Хокора – маленькое святилище, посвященное одному из ками.
(обратно)36
Нинто – распорядитель танцев, исполняемых в присутствии императора во время обрядов, связанных с культом предков.
(обратно)37
Кэмари – игра, разновидность футбола, популярная в Японии в Хэйанский период (794–1185). – Примеч. пер.
(обратно)38
Принцесса Кагуя – героиня японской народной сказки «Повесть о старике Такэтори» («Такэтори Моногатари», X в.).
(обратно)39
Речь идет о синтоистских храмах, расположенных в окрестностях города Кумано, куда в Средние века устремлялись толпы паломников. – Примеч. пер.
(обратно)40
Изначально косодэ было нижним бельем, которое позднее стали носить как верхнюю сорочку, наподобие современной тенниски.
(обратно)41
Сорин – разделенный на несколько символических секций каменный, деревянный или бронзовый шпиль, венчающий японскую пагоду.
(обратно)42
Суга – японское название криптомерии японской, вечнозеленого дерева семейства кипарисовых.
(обратно)43
Одзёсан – молодая госпожа.
(обратно)44
Цуки-дза – усиленная часть колокола, на которую приходятся удары деревянного языка.
(обратно)45
На санскрите «будда» означает «пробужденный, просветленный».
(обратно)46
Аватара – здесь: воплощение, образ.
(обратно)47
Корё – здесь: корейский полуостров.
(обратно)48
Кайкэн – кинжал длиной пятнадцать сантиметров, который жены самураев носили в рукавах кимоно.
(обратно)49
Бонза – буддийский жрец.
(обратно)50
Букв.: дзасу – престолоначальник, чин настоятеля буддийского монастыря.
(обратно)51
Время между пятью и девятью часами вечера.
(обратно)52
Огути – исподние короткие штаны, обычно красного цвета.
(обратно)53
Отомэ – девушка.
(обратно)54
Время между пятью и семью часами утра.
(обратно)55
Нобори – японский герб в виде длинного и узкого вертикального флага.
(обратно)56
Коку – японская мера объема, приблизительно равная количеству риса, съедаемого человеком за год.
(обратно)57
Обасан – тетушка. Прозвище содержательниц домов терпимости.
(обратно)58
Время между часом и тремя часами дня.
(обратно)59
Слово охагуро означает процесс покрытия зубов черным лаком.
(обратно)60
Нингё – русалка.
(обратно)61
Планширь (планшир) – горизонтальный деревянный брус поверх борта лодки. – Примеч. пер.
(обратно)62
Кусобаба – старая мегера.
(обратно)63
Павлония (также павловния), или Адамово дерево, – быстрорастущее дерево из семейства павловниевых. – Примеч. пер.
(обратно)64
Сумах – род кустарников и небольших деревьев семейства сумаховых. – Примеч. пер.
(обратно)65
Леспедеца – род растений семейства бобовых. – Примеч. пер.
(обратно)66
Из собрания стихотворений Отомо-но Якамоти (718–785), входившего в список «Тридцати шести бессмертных поэтов», составленный в Средние века.
(обратно)67
Косю – распространенный в Японии сорт винограда, имеющий ягоды розоватого цвета; известен с VIII в.
(обратно)68
Муси – старое название насекомых.
(обратно)69
Хонгу и Цугидзакура – синтоистские святилища. – Примеч. пер.
(обратно)70
Эбоси – головной убор из покрытой черным лаком газовой ткани в форме высокого колпака.
(обратно)71
Танка – предтечи хайку, так называемые танка считались в Японии эпохи Хэйан одной из самых возвышенных форм стихосложения, которой могли заниматься только придворные; любой человек рангом ниже, уличенный в написании танка, мог быть приговорен к смертной казни.
(обратно)72
Время между тремя часами дня и пятью вечера.
(обратно)73
Бугаку – традиционный японский танец, медленный, исполненный величия и изящества, детально регламентированный, считавшийся развлечением главным образом придворных.
(обратно)74
Карура – мифологическое существо с человеческим торсом и птичьей головой.
(обратно)75
Кото – традиционный японский музыкальный инструмент – длинная цитра с туго натянутыми струнами.
(обратно)76
Амитабха – один из будд. – Примеч. пер.
(обратно)77
Кёдзо – хранилище сутр в буддийском храме.
(обратно)78
Хё – длиннополый плащ с очень широкими рукавами и застегивающимся воротом, подпоясываемый ремнем.
(обратно)79
Гэта – японские деревянные сандалии в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног. – Примеч. пер.
(обратно)80
Такимоно-авасэ – конкурс благовоний.
(обратно)81
Агар, или агар-агар, – вещество, получаемое из красных и бурых морских водорослей, применяемое, в частности, в кондитерском производстве. – Примеч. пер.
(обратно)82
Олибан (олибанум), или ладан, – ароматическая древесная смола. – Примеч. пер.
(обратно)83
Время между девятью и одиннадцатью часами утра.
(обратно)84
Онна – женщина.
(обратно)85
Многоколосник морщинистый, или лофант тибетский, – лекарственное растение. – Примеч. ред.
(обратно)86
Сассаурея, или костус красивый, – тропическое травянистое растение. – Примеч. ред.
(обратно)87
Его величество император.
(обратно)88
Аматэрасу – богиня солнца. По легенде, Аматэрасу отправила на Землю своего внука, принца Ниниги-но-Микото, выращивать рис и править миром людей; правнук Ниниги – Иварэбико основал в 660 г. до н. э. Японскую империю.
(обратно)89
В наши дни – префектура Ниигата.
(обратно)90
Кадзи – растение семейства тутовых.
(обратно)91
Вандзугаса – букв.: «лопающиеся горошины», гнойнички, высыпающие на теле больных ветряной оспой.
(обратно)92
Период китайской истории с 476-го по 221 г. до н. э. – Примеч. пер.
(обратно)93
В китайской философии ян – одна из двух космических сил (наряду с инь), синтез которых рождает все сущее. – Примеч. пер.
(обратно)94
Нагарджуна (букв.: серебряный змей) – древнеиндийский философ, реформатор буддизма, живший во II–III вв.
(обратно)95
Ватанабэ-но Цуна (953–1025) – знаменитый японский самурай.
(обратно)96
Из «Манъёсю», или «Собрания мириад листьев» (VIII в.), – старейшей антологии японской поэзии.
(обратно)97
Токимори-но хакасэ – мастер водяных часов.
(обратно)98
Юкимити означает «заснеженная дорога».
(обратно)99
Время между семью и девятью часами утра.
(обратно)100
Сэндзи – срочный приказ императора, передаваемый по всем административным инстанциям.
(обратно)101
Ронин – самурай, потерявший своего господина и вынужденный влачить жалкое существование.
(обратно)102
Мангостан – тропическое дерево со съедобными кисловато-сладкими сочными плодами. – Примеч. пер.
(обратно)103
Хакуба – белая лошадь; гарэки – развалины, обломки, мусор.
(обратно)104
Ноздри карпа состоят из двух отверстий; посредине каждой ноздри находится кожистая перегородка. – Примеч. ред.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






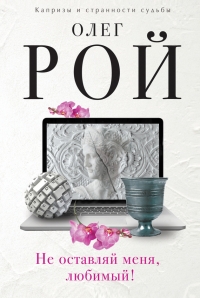

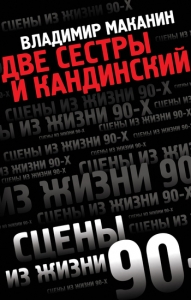



Комментарии к книге «Среди садов и тихих заводей», Дидье Декуэн
Всего 0 комментариев